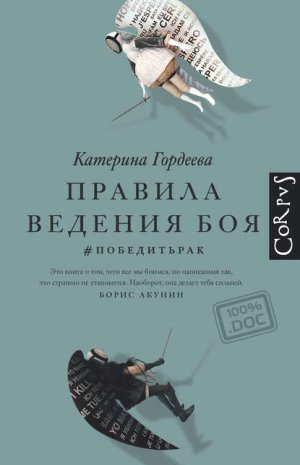
Серия «100 %.doc»
© К. Гордеева, 2020
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Издательство CORPUS ®
Людмила Улицкая
Предисловие
Для кого написана эта книга – очень существенный вопрос. Для тех, кого уже накрыла тень диагноза? Для их родственников и близких? Для тех людей, которые пугаются этого ужасного слова из трех букв и даже заболевают болезнью страха – канцерофобией?
У меня была родственница, которая многие годы жила в непроходящем страхе возможного рака, постоянно проходила разные проверки, приобрела на этой почве сильнейшую гипертонию и умерла от инсульта.
Эта книга написана для всех, включая и совершенно здоровых, не озабоченных возможными болезнями людей. Для тех, кто вообще не собирается умирать. Никогда…
Современная западная культура как будто «отменила смерть», долгие годы стараясь обходить молчанием эту отвратительную перспективу, и предпочитала фигуру умолчания. Лицо смерти было, конечно, страшным, настолько страшным, что огромное большинство людей предпочитали избегать упоминаний об этой неизбежной неприятности. Даже упоминание о болезни и смерти в разговоре было нежелательным и почти неприличным.
Но многие табу в XXI веке разрушаются. Во всяком случае, современный человек после всех исключительно тяжелых испытаний прошлого века пытается разобраться с проблемой страха. В данном конкретном случае – страха перед онкологическими заболеваниями. Этому способствует также и то замечательное обстоятельство, что за последние двадцать лет был совершен колоссальный рывок в науке в целом и в медицине в частности. Медицина учится лечить рак. Многие его виды, прежде считавшиеся неизлечимыми, сегодня поддаются лечению. Этот процесс идет каждую минуту нашего с вами времени, и пока я пишу эти буквы на бумаге, в сотнях лабораторий десятки ученых ставят эксперименты и ищут новые подходы к лечению огромной группы заболеваний, которые принято называть обобщающим словом «рак».
Это одна сторона вопроса. Вторая, не менее важная, касается самого человека. Чтобы противостоять любому заболеванию, в особенности раку, человек должен осознанно отнестись к случившемуся несчастью. Люди, которые не впадают в панику, оказываются хорошими помощниками лечащих врачей. Люди, сохраняющие присутствие духа, успешнее проходят лечение. Я не хочу сказать, что мужественные выживают, а растерянные погибают. К сожалению, умирают и те, и другие (а те, кто сегодня здоров и дееспособен, тоже не избегнут смерти, о чем не будем забывать).
Книга Катерины Гордеевой – практически единственное в нашей стране написанное на русском языке пособие, которое помогает больным психологически справляться с болезнью, а их близким дает силы и понимание происходящего. Ведь речь идет не только о той стадии болезни, когда мы еще полны надежд, но порой о последней и необратимой стадии, когда человек осознает, что болезнь его побеждает. Если считать, что человек всегда побежденный, то весь мир состоит из проигравших. Это не так.
Данное предисловие должна была писать не я, а наша дорогая подруга, Екатерина Гениева. Но она не успела. В июле 2015 года ее не стало. И мы, ее близкие, оказались свидетелями ее борьбы с болезнью, свидетелями последнего года ее жизни, когда она старалась сделать все, что было в ее силах, она спешила и наперекор болезни до последних дней жила с полной отдачей. Удивительное ощущение – она умерла непобежденной, потому что сила духа не покидала ее до последнего дня жизни.
Рак не победил ее. У каждого из нас есть свой собственный запас сил и мужество – большое или слабенькое. Не каждый получает современное лечение в хороших условиях, не у каждого такая замечательная, как у нашей Кати Гениевой, воля. Бывают иные обстоятельства, более тяжелые. Но в любых обстоятельствах – болеть тяжело, умирать тяжело. Мы обязаны помогать друг другу.
Мы, люди, – самые умные из всех животных на свете. Мы единственные животные, которые осознанно изучают мир и самих себя. Мы приблизились к пониманию самого феномена жизни, но очень многого еще не знаем.
Мы не знаем, каким образом переживают смерть другие животные, но у каждого из нас есть опыт смерти наших ближних. Смерть – величайшая драма в жизни. Страх смерти вложен в природу человека.
Каждый ребенок в какой-то момент жизни впервые видит мертвую птичку или раздавленную машиной собаку и испытывает острейшее переживание. В детстве смириться с событием смерти родного человека невозможно. Но проходит время – умирает кто-то из родственников, бабушка, дедушка, соседка, и постепенно приходит осознание конечности жизни.
Есть счастливые избранники, которые подходят к концу жизни подготовленными, умирают в преклонных годах, в кругу семьи, в любви, без изнуряющей боли. И тогда мы говорим – вот христианская кончина: мирная, безболезненная, непостыдная. Уходит любимый человек, и остается благодарная память детей и внуков. Остается любовь. Так уходил мой прадед – ему было за девяносто, мне не было и семи. Я присутствовала при кончине, и на всю жизнь сохранилась эта картина: маленький седой дедушка в большой кровати лежит, вокруг него собралась вся семья. Это было торжественное прощание… Он нашел меня глазами и сказал: «Какая большая девочка. Всё будет хорошо…»
Но иногда происходит совсем не так. Приходит смерть не к старцу, примиренному и «насыщенному годами», а к человеку молодому, совсем не готовому к уходу, к ребенку, который только начинает жить. И уход сопровождается тяжкими физическими страданиями…
Смириться с этим очень тяжело. У человека верующего возникает иногда мучительный вопрос, на который ответа нет: за что? Человеку неверующему порой бывает еще больнее – у него нет веры в посмертное продолжение существования в какой-то иной, нематериальной форме, и сама жизнь кажется лишенной смысла…
Статистика побед положительная – всё лучше лечат врачи, всё длиннее ремиссии, всё большее количество людей выздоравливает. Онкологический диагноз перестал быть смертельным приговором.
Да, прекрасная статистика! Но никакие достижения науки и техники, никакое искусство врачей не служат утешением, когда любимый человек умирает. И это уже следующая проблема: как жить после смерти?
Никакая статистика не может утешить того, кто потерял мать или ребенка. Этому тоже надо учиться – преодолевать тоску об ушедшем, искать в себе силы, чтобы радоваться природе и погоде, музыке и чему угодно…
И про это вы тоже найдете в книге «Победить рак». Потому что в этом названии еще многое зашифровано: как победить страх, эгоизм, трусость. Мы все в этом нуждаемся. И нуждаемся в этой книге, которая для одних будет поддержкой, для других – инструкцией, третьим даст пищу для размышлений. Желаю всем здоровья, мужества и терпения. И себе тоже…
Катерина Гордеева
Предисловие
В самом напряженном моменте одной японской сказки отец и две дочери внезапно оказываются в заброшенном, полном пугающих призраков доме. «Чтобы не бояться, надо назвать страх по имени и заговорить с ним», – подсказывает отец трясущимся от ужаса детям.
Но как говорить с тем, кто невидим? Кто еще не знаком, но уже пугает до обморока? Сперва немые от страха девочки просто приоткрывают глаза: две щелочки. Потом прислушиваются. Осмелев, разглядывают напугавший их дом. А потом – вначале шепотом, но всё громче и, наконец, в полный голос (то есть почти бесстрашно) говорят со своим страхом. И даже… смеются над ним, с ним, ему в лицо. Так предмет страха делается частью жизни. Не родной и не приятной, но привычной. И оттого даже как будто понятной. Я очень люблю эту притчу. Она хорошо описывает то, как работает и страх, и то, что работает против страха.
В 2012 году, задумав фильм «Победить рак», мы начали с того, что назвали страх по имени: рак. Судя по тому, сколько людей посмотрели фильм в эфире, а сколько потом прочли книгу, дарили ее друзьям и знакомым, пересылали и размещали в Интернете отрывки, преодоление страха было важной историей не только для меня – для огромного числа людей.
Прошло несколько лет.
За это время зрители фильма, а затем и читатели книги «Победить рак» совершили, на мой взгляд, одну из главных революций в общественном сознании нашей страны: из стигмы, тщательно скрываемой (потому что страшной!) тайны, из запретной темы рак превратился в предмет обсуждения. Стал важной частью нестыдных разговоров и даже – повседневной жизни.
Можно ли принять в свою жизнь то, чего смертельно боишься?
Оказалось, можно. Научиться жить бок о бок с болезнью – следующий шаг.
Это значит, что у каждого столкнувшегося с раком должно быть право на адекватную помощь. И, если болезнь оказалась сильнее, – на достойную, без боли и унижений, но полную любви и тепла близких жизнь. До самого конца.
А еще это значит, что вопросы, прежде касавшиеся только специалистов, теперь стали вопросами общественной значимости: может ли человек вообще раз и навсегда победить рак? Есть ли стопроцентные, не дающие сбоя способы уберечься? Существуют ли надежные рецепты борьбы?
Несколько лет назад, впервые взявшись за эту тему, я не знала ни одного ответа, да и вопросы, волновавшие людей, были, честно говоря, совсем другого свойства и уровня подготовленности. Является ли рак наказанием? Можно ли заразиться онкологической болезнью в общественном месте? И так далее.
Проект «Победить рак» начинался с ответов на эти вопросы. И истории, случившейся с главной героиней: внезапная болезнь, ремиссия, рецидив, отсутствие шансов, но вдруг появившаяся благодаря настойчивости близких и непрерывному развитию науки надежда. Из фильма вышла книжка, она тоже называлась «Победить рак».
По просьбе главной героини в книге ее имя, фамилия и некоторые детали биографии изменены – это сделано для того, чтобы максимально защитить частную жизнь. Но самое главное – история болезни и борьбы Евгении Паниной (неплохое имя мы придумали, правда?) остались неизменны. Это рассказано честно, достоверно и максимально открыто. Это было необходимо для того, чтобы пережитой опыт стал полезным.
Самое важное для победы над раком – победа над страхом. Потому что, когда знаешь, не так страшно. А значит, вы имеете право знать.
Я благодарю за помощь в создании «Правил ведения боя» врачей по обе стороны океана: нобелевского лауреата Харальда цур Хаузена, профессора Арнольда Левина, академика Михаила Давыдова, профессора Елену Трещалину, кандидата медицинских наук Капитолину Мелкову, профессора Леонарда Хейфлика, профессора Алексея Масчана и профессора Михаила Масчана, профессора Ольгу Желудкову, профессора Рашиду Орлову, профессора Дмитрия Пушкаря, профессора Катю Гурову, профессора Александра Карачунского, профессора Наталью Мякову, профессора Игоря Комана, онкоэпидемиолога Антона Барчука и Татьяну Ершову – первого внимательного читателя этой книги.
И отдельно – одного из самых успешных в мире ученых в области разработки противораковых препаратов Андрея Гудкова. Андрей Владимирович самоотверженно согласился стать научным консультантом книги, которую вы сейчас держите в руках. Это гарантия того, что всё в ней рассказанное имеет строго научное обоснование.
Часть, касающуюся практической онкологии консультировал выдающийся российский врач, онколог и гематолог, кандидат наук, сооснователь «Клиники амбулаторной гематологии и онкологии» и один из ведущих химиотерапевтов России Михаил Ласков. А это гарантия того, что мы не упустили ничего важного из того, что в последнее время появилось в науке и медицине. Пока шла работа над книгой, я переживала, что ворую Мишино время у пациентов. Но теперь уверена: это время было потрачено не зря, а «Правила ведения боя» могут принести пользу тем, кому не посчастливилось встретиться с Ласковым лично. Еще одним консультантом книги стала директор благотворительного фонда «Подари жизнь» с 2011 по 2018 год Екатерина Чистякова, благодаря которой проверена и скорректирована информация о том, каким образом человек, получивший в нашей стране сложный онкологический диагноз, не будучи в состоянии справиться с болезнью в одиночку, может получить помощь.
Я заранее прошу прощения и понимания у биологов-исследователей, онкологов, академиков и профессоров, докторов наук и просто врачей за то, что многое из того, что для них представляет работу всей жизни, здесь будет упрощено.
Я решилась на это только ради того, чтобы в понятных широкой аудитории простых терминах изложить нынешнее понимание рака, некоторых способов его профилактики, лечения и средств защиты. В некоторых случаях это не позволило мне отобразить во всей сложности биологические феномены или детали научных споров по поводу существующих клинических исследований и их результатов.
Я журналист. И в этой книге попыталась как можно более точно изложить всё, что услышала и записала, рассказать истории тех, с кем повстречалась.
И последнее. Я очень хочу, чтобы книга стала данью памяти тем, кто до этого дня не дожил. Я бы хотела посвятить ее Екатерине Юрьевне Гениевой, многолетнему директору Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, большой просветительнице и подвижнице. Гениева собиралась (и даже начала) писать основательное предисловие к книге. «Я хочу описать свой опыт битвы с книгой в руках», – начала она. Но закончить не успела. Остались только строчки из ее письма ко мне:
«Дорогая Катюша, я болею вместе с вашей книгой, она восполняет пробелы моего, прежде довольно скудного, знания о болезни и придает уверенности в происходящем. Когда у тебя рак, кажется, что все происходящее с тобой – это только твоя боль и твое отчаяние. А ни с кем прежде ничего такого не случалось. И самое страшное: ты не знаешь, чего ждать дальше. Из книги я узнавала о том, как это было у других. И немного заглядывала вперед. Когда знаешь, что будет, уже не так страшно».
Письмо Екатерины Юрьевны было решающим: я поняла, книге требуется новое издание, чтобы рассказать о том, что случилось с главной героиней и что случилось с главным злодеем. Раком. Как далеко и куда мы продвинулись в попытке понять, как его победить.
Да-да, пока что мы его до конца не победили. Но уверена, находимся на верном пути: мы победили страх и отчаяние людей, больше не обязанных оставаться с несчастьем один на один, в информационном вакууме и эмоциональном параличе. Победить рак – значит победить страх. Эта книга – ваше право на эту победу.
Посвящается Галине Чаликовой с неизменной любовью
и Екатерине Гениевой, мужество которой навсегда будет примером многим
Впервые рак был описан в древнеегипетском папирусе почти четыре тысячи лет назад. Неизвестный автор сообщает о нескольких формах рака молочной железы и констатирует, что от этой болезни нет излечения. Позже появляется и сам термин «рак». Его введет Гиппократ, называя «карциномой» опухоль на коже пациента, внешне очень напоминающую созвездие Рака. На сегодняшний день ученые различают не меньше двух сотен разных типов рака. И в точности не могут объяснить причину возникновения большинства из них.
Из студенческого реферата
Глава 0
Пока не началась эта книга
Как и большинство людей, родившихся и выросших в Советском Союзе, слова «рак» я не слышала, хотя, разумеется, он был рядом.
В 1982 году меня, пятилетнюю, привели на пятый этаж Ростовской областной онкологической больницы. Длинные, безжизненно освещенные коридоры. Холл, где с отсутствующими лицами сидят люди в больничных пижамах. В самом конце – длинная и узкая палата с предбанником, заставленным металлическими тележками, на полках которых лежит что-то бесформенное, но явно медицинское, прикрытое бесцветной больничной ветошью. Моим родителям каким-то образом удалось договориться о том, чтобы войти в реанимацию. Но самого слова «реанимация» я не слышала. По правде сказать, даже услышав, смысла бы не поняла.
Мне сказали: «Поговори с дедушкой». И втолкнули внутрь. Дедушка лежал на высокой кровати. От него куда-то вверх, к бутылкам на железных стойках, тянулись трубки капельниц. Дедушка плохо говорил. Мне показалось, это потому, что у него под языком перекатывалась мятная конфетка. Я рассердилась. Из-за конфетки: мог бы и поделиться или не жевать, когда разговариваешь с ребенком. Потом испугалась полумрака и выбежала прочь. Тем более еще по пути к дедушке я заметила, что по телевизору в холле показывают мультфильм. «Это лучше, чем дедушка, который не может вынуть конфетку изо рта, чтобы поболтать со мной», – решила я.
Больше я дедушку никогда не видела. А песню из того мультфильма, «Облака – белокрылые лошадки», не могу слышать до сих пор. Через два дня дедушка умер. Бабушка рассказала мне об этом спустя три месяца. Случайно. Просто не смогла справиться с эмоциями, отвечая на очередное: «Когда дедушка вернется из санатория? Мы же собирались в зоопарк». И заплакала.
Плакала бабушка так горько, так безысходно, что вместе с ней заплакала и я. В нашем общем реве выяснилось, и что та встреча с дедушкой была последней, и что, когда дедушку хоронили, меня отправили ночевать к соседям, и что смерть – это что-то страшное, необратимое, чужое. Слова «рак» не было. Хотя дедушка умер именно от рака.
Бабушка пережила дедушку на шестнадцать лет. Никогда не болевшая, сильная, строгая и бесконечно добрая. Ближе к новогодним праздникам бабушка оступилась, упала. Стала болеть поясница. Врачебный осмотр показал рак почки. Диагноз сообщили маме. А бабушке сказали что-то совершенно беззащитное: трещина. Трещина почки. Я уже жила в Москве. И по телефону родители объяснили обтекаемо: бабушка тяжело болеет, понадобится операция.
Почему я не уточнила, чем именно болеет?
После операции бабушке стало хуже. Я рвалась домой, хотела ее увидеть. Но мне не позволили. Объяснили: если бабушка тебя увидит, она поймет, что ты приехала прощаться. Не приезжай. И я не приехала. Эта боль, наверное, никогда не оставит меня. Долгое время я связывала ее с непроизнесенным тогда никем из нас словом «рак». Таким отчаянным, бесповоротным, означающим никем не объясняемые мучения и одинокую, не принимаемую смерть.
Еще через шесть лет, в 2004 году, я впервые переступила порог Российской детской клинической больницы.
Вначале как корреспондент телеканала НТВ я снимала репортаж о детях, которым требуются дорогие лекарства, переливания крови, аппараты и технологии для лечения рака. Потом – как волонтер. Я проводила в больнице всё свое свободное время. Влюбилась в девочку Асю и мальчика Сережку, дружила с Димой, собирала «Лего» с Мишей, играла с Соней в прятки. Я хохотала с ней вместе над Ванькой, который ответственно прятался под кроватью, когда все в отделении уже и забыли, что мы играем в прятки, я заплетала косы Маше, которую назавтра должны были обрить перед химией. Потом я шла в родительскую курилку с мамами этих детей. И мы говорили о страхе, о болезни, о появившихся планах на будущее или, наоборот, об оборвавшейся надежде.
Многие из вопросов, услышанных в родительской курилке, я – на правах журналиста, ставшего другом, – имела возможность перезадать врачам. Некоторые – совершенно суеверные, идиотские, например: «Правда ли, что после смерти человека у него растут только ногти и онкологические клетки?» Некоторые – сложнейшие, философские: «Почему болеют дети? Правда ли, что рак – это наказание? Действительно ли бывает наследственный рак?»
Мне повезло. Врачи, работавшие в тех отделениях Российской детской клинической больницы (РДКБ), куда я приходила волонтером, оказались людьми совершенно новой для постсоветской медицины формации: они умели разговаривать с не-врачами. И не жалели времени и слов на объяснения.
Эти две мои жизни – профессиональная на НТВ и человеческая, проходившая в больнице, рядом с детьми и родителями, – почти не пересекались. Разве что иногда удавалось «протащить» в эфир новостей сюжет о помощи, которая нужна кому-то из детей, или сделать фильм из цикла «Профессия репортер», так или иначе затрагивающий темы медицины или благотворительности.
К 2006 году множество отдельно взятых попыток спасти отдельно взятых детей, наладить донорство крови в отдельно взятых больницах, купить лекарства и привезти их в отдельно взятые отделения было решено объединить. В ноябре был зарегистрирован благотворительный фонд «Подари жизнь», учредителями которого стали актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун: их силами в новой России только-только начинала создаваться история благотворительности. Директором «Подари жизнь» стала Галина Чаликова, Галечка – «маленький трактор благотворительности», как, посмеиваясь, называли ее все мы. Чаликова впервые пришла в больницу задолго до любого из нас: в 1988 году. Принесла вещи детям, которых привезли в РДКБ после землетрясения в Спитаке. И обнаружила, как много других детей неделями и месяцами лежат в клинике, без средств к существованию, заботы и помощи, организовать которую докторам больницы не под силу. Чаликова вместе с врачами была инициатором создания фонда «Подари жизнь». Первый офис фонда – спальня ее квартиры. Там вырабатывались правила оказания системной помощи. Оттуда однажды Галя позвонила мне и сделала, пожалуй, самое важное предложение в моей жизни: стать попечителем фонда «Подари жизнь».
Эта работа сильно изменила и меня, и мои представления о том, что и как нужно и можно сделать, чтобы победить рак.
Рак – болезнь, враг, явление, составляющая человеческой жизни – вошел в мою жизнь. Стал ее неотъемлемой частью. Мой телефон наполнился номерами родителей тяжело болеющих детей, почта – письмами в разнообразные здравоохранительные учреждения, куда я, будучи журналистом, которого показывали по телевизору, могла обратиться. Мне посчастливилось дружить с врачами, которым я продолжала задавать вопросы, волновавшие не только меня.
В какой-то момент вдруг стало понятно, что и я сама уже могу отвечать на вопросы.
Летом 2010 года мой друг телевизионный продюсер Саша Уржанов приехал советоваться о том, как собрать деньги на лечение своей однокурсницы Лены в Сиэтле. Лене немногим больше двадцати, и у нее лейкоз, рак крови, редкая форма.
Саша с товарищами уже скинулись, кто сколько смог, всем курсом, бросили клич в соцсетях, написали в фонды. Но нужных двухсот тысяч долларов на пересадку костного мозга никак не набиралось. «Почему так дорого?» – спрашивает меня Саша. «Потому, – отвечаю, – что пересадка костного мозга – это вообще, как правило, дорого: типирование, поиск донора, доставка донорского материала. Но мама Лены хочет, чтобы пересадку делали именно в Сиэтле. Мама Лены прочла в Интернете много научных и популярных статей, связанных с болезнью дочери, она знает, там, в Сиэтле, – впечатляющие результаты по лечению и реабилитации. Однако собирать деньги на пересадку костного мозга Лене в Сиэтле не будет ни один благотворительный фонд: это может быть так же качественно сделано в России. Если говорить о детях, то возможность пересадить костный мозг ребенку на сегодняшний день есть в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В том, что касается взрослых, география шире.
Логика благотворительного фонда проста: нельзя, чтобы Лене собрали деньги на Сиэтл, а кому-то в итоге не хватило на Москву или Питер (Екатеринбург или Киров). А вот если бы в Питере и Москве такая операция была бы невозможна, но всё равно крайне требовалась Лене, то стали бы собирать деньги на заграницу».
Саша качает головой. Ему кажется, если речь идет о жизни и смерти, то разговора о деньгах и быть не может, это неприлично. Но такой разговор неизбежно случается. Бесплатность медицины, а особенно ее онкологической составляющей, в нашей стране очень условна. Разумеется, никто не отменял 41-ю статью Конституции о безвозмездности и доступности медицинской помощи. Но, например, по словам академика Михаила Давыдова, «квота на лечение онкологического больного, то есть сумма, которую государство выделяет клинике, 140 тысяч рублей (квота на оказание высокотехнологической медицинской помощи выше, например, такая помощь по стандартной группе онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта составляет около 235 тысяч рублей. – К. Г.). Мы расходуем эти деньги в течение пяти-шести дней: один протокол (составленный доктором план лечения болезни) может стоить до 300–400 тысяч. А в среднем лечение онкологического больного стоит в федеральной российской клинике около полутора миллионов рублей».
Это – ежедневная головоломка, с которой сталкиваются онкологические пациенты, их близкие и их врачи в нашей стране: когда, как и за чей счет получать лечение, чем рисковать, а на какой риск не решиться.
Этот выбор пациенты часто делают вслепую. А знаний о том, как устроена медицина и благотворительность в России, у людей не так много. Например, мало кто знает, что в ситуации с той же неродственной трансплантацией костного мозга только часть манипуляции – сама пересадка – входит в квоту высокотехнологической медицинской помощи. Остальное: типирование, поиск, транспортировка – в сумме около 23 тысяч евро оплачивают благотворительные фонды. Но 23 тысячи евро – это не 200 тысяч долларов. По крайней мере, можно себе представить, где и как такую сумму собирать.
Я говорю по телефону с Лениной мамой. Пытаюсь объяснить, что, возможно, пока будут собирать деньги на Сиэтл, уйдет время. Но говорить определенно я боюсь: ведь, может, и не уйдет, с этим раком никто ничего никогда не знает наверняка. Ленина мама убеждена в своем решении делать Лене пересадку именно в Сиэтле. Она – мама. Она имеет право искать для своего ребенка самого лучшего лечения и более-менее понятных (для себя и дочки) перспектив. Спорить бесполезно.
И все те, кто находится рядом с Леной, стараются успеть собрать деньги.
«А что такое пересадка костного мозга?» – вдруг спрашивает Саша. И я отвечаю как умею. А потом еще как умею рассказываю про суть и чудовищную живучесть раковой клетки: она не стареет, быстрее других размножается, она коварна и умнеет на глазах. И еще рассказываю, что никто в мире не знает, отчего обыкновенная клетка вдруг становится раковой: должно совпасть невероятное количество причин, чтобы так вышло. Но они совпадают – и человек заболевает раком. Мне кажется, Саша – первый человек, не связанный с фондом или больницей, с кем я говорю о раке так долго и так подробно. До этого разговора я была уверена: эти истории важны и интересны только нам, вовлеченным. Ну и еще родителям тех детей, кого коснулось. И взрослым, кого коснулось. Здоровым – неинтересно, неважно. Всем кажется – пронесет.
Вдруг Саша спрашивает: «А почему ты до сих пор никогда мне об этом не рассказывала? Ведь это нечестно, каждый имеет право знать то, о чем ты говоришь».
Мы еще не знаем, что через полтора года у меня получится сделать фильм «Победить рак», посмотрев который Сашина мама впервые в своей жизни отважится на онкологическую диспансеризацию – и у нее обнаружат рак в крайне ранней стадии. Но ей придется пройти все положенные бесплатной российской медициной круги ада, чтобы этот рак победить. В этом проекте очень многое оказалось связанным и вытекающим одно из другого. Но именно после разговора с Сашей я впервые задумываюсь о возможности систематизировать то, что знаю сама, расспросить врачей, которым доверяю, и попросить о помощи и разъяснениях врачей, которых пока не знаю, но о которых говорит весь мир.
С этого момента я начинаю выяснять и спрашивать, читать и узнавать. И оказывается, что все истории о раке похожи на детектив, но наоборот: убийца известен, а единственный способ найти его и остановить только предстоит отыскать.
Но как сделать рассказ об этом убийце не страшным? Как убедить людей, боящихся даже сложить эти три буквы вместе, назвать рак по имени?
Я начала с того, что знакомым и незнакомым людям, никак не связанным с болезнью, задавала вопросы: чего именно они боятся, о чем хотят узнать, чему не доверяют, а о чем, наоборот, думают. Эти обыкновенные, обывательские вопросы я ежедневно записывала в блокнот, а потом – раз в неделю или в две – читала вслух Галине Чаликовой, директору нашего фонда. В 2010 году Галя, спасшая сотни людей, сама столкнулась с онкологическим заболеванием, будто подтверждая: ничто – ни добрые дела, ни чистое сердце, ни светлая жизнь – не дает индульгенции от рака. Но что дает силы справляться с ним? И как узнать, описать и изучить эти механизмы?
Галя, чья болезнь, вопреки знакомствам и плотному врачебному окружению, была замечена крайне поздно и развивалась очень стремительно, успела дать мне один совет: «Вопросы, которые задают тебе люди, – это огромная часть истории. На каждый из них надо ответить так, чтобы всё было понятно. Но еще обязательно надо найти кого-то, кто прошел путь болезни от начала до конца. И смог выстоять. Самое важное – чтобы этот человек захотел рассказать свою историю людям. И тем самым помочь».
С первым проблем не было: рак – он как Вторая мировая война; нет на свете семьи, которой бы он не коснулся. Раз в месяц, раз в неделю, а то и чаще кто-то рассказывал мне про кого-то более или менее близкого, кто встретился с болезнью.
Со вторым в нашей стране огромные проблемы: страхи и предрассудки, суеверия и кривотолки – вот что в России окружает человека, больного раком. А еще бесконечные очереди в бесконечно равнодушных медицинских учреждениях, загоняющие человека с диагнозом «рак» в психологический тупик. Об этом у нас не принято говорить. Об этом у нас даже молчать страшно.
От этого иногда кажется, что обратного пути нет, оттуда не возвращаются: сослуживцы, узнав, что у коллеги рак, стараются пореже упоминать его в повседневных разговорах; друзья, оповещенные о диагнозе, шлют суетливую эсэмэску «держись», снабженную бодрым эмодзи и восклицательными знаками; родственники прячут глаза и как могут стараются «угодить» больному, всякий раз словно выполняя его последнюю волю.
Людям кажется, что само слово «рак», произнесенное вслух, уже заразно.
А те, кто прошел через болезнь, вырвался, сумел победить, в итоге терпят фиаско, пытаясь вернуться в нормальную жизнь. Ту, что была до рака. Они убеждены: как прежде уже никогда не будет, не получится. И этот страх гораздо страшнее самого рака. Он придает силы болезни и отнимает их у нас самих.
Для того чтобы рассказать, как победить рак, мне крайне важно было встретить одного, главного для всей этой истории человека, сумевшего победить страх и отважившегося бы поговорить об этом со мной. Такого, кто смог бы мне доверять. Я искала год. И не находила.
Но в марте 2011-го моя коллега, телевизионный продюсер, вдруг спрашивает: «Ты не хотела бы встретиться с моей мамой?» И, помолчав, добавляет: «Ее зовут Евгения. Месяц назад она закончила лечение: рак».
Глава 1
Весна 2011 года. В кафе заходит красивая, коротко стриженная женщина: «Здравствуйте, Катя, я Женя». И мы молчим, наверное, минут десять, делая вид, что изучаем меню. Ни одна из нас не знает, как начинают такого рода разговоры.
Выходит само собой. «Представляете, – вдруг говорит Женя, – пригласили на конференцию в Прагу. А я так боюсь лететь, как будто в первый раз. Даже врачу позвонила, спросила: а можно ли после рака летать на самолетах?»
Врач, умница, ответила: «Можно, даже нужно. Мы не для того вас лечили, чтобы вы похоронили себя дома, за плинтусом, в страхах и тоске».
Через день Женя улетела. Обыкновенная командировка. Научная конференция, какие бывают у врачей. Женя ведь врач по профессии, психиатр.
Четыре дня. Ровно столько было у меня для того, чтобы понять, есть ли у проекта #победитьрак будущее, а у нее – решить: действительно ли она готова поделиться своей историей с другими людьми.
Потом она расскажет: в том, самом первом после болезни, самолете сосед у окна читал газету с кричащим заголовком, нарочно набранным крупным шрифтом: «Рак – чума XXI века». Вроде ничего оригинального. Но ее передернуло: «Неужели нельзя найти другие – нормальные, человеческие – слова, чтобы говорить о раке без запугиваний и передергиваний? Неужели нельзя наконец просто начать разговаривать?»
Евгения просит у соседа газету, читает заметку-ужастик от первого до последнего слова. И принимает решение.
Через неделю, встретившись со мной снова, Женя передаст стопку исписанных листов: это дневник, который она вела на протяжении всей болезни. «Прочтите, Катя, – скажет она, – чтобы у нас была отправная точка для разговора».
Дневник Евгении действительно стал точкой отсчета всей этой истории. У меня появился союзник – человек, прошедший через болезнь и не боящийся рассказать о собственном опыте борьбы тем, кому, возможно, всё это еще только предстоит.
Меня зовут Евгения Панина. Мне 53 года. Я врач-психиатр, руковожу большой городской клиникой, веду практику. Так, по крайней мере, было до болезни.
У меня множественная миелома. Сейчас я лежу на 20-м этаже огромной больницы и всё время прокручиваю свою жизнь назад, пытаясь как можно точнее определить: когда и что именно пошло не так. Что же со мной случилось? Почему? Порой мне кажется: всё это сон, морок. Надо просто протереть глаза, встряхнуться, и окажется, что всё – неправда, сон! Со мной такого просто не может случиться. Надо проснуться. И я просыпаюсь посреди ночи, тру глаза. Голова тяжелая от всё того же ужаса, отчаяния и злости: почему я? Почему это – со мной? В чем я виновата?
Я снова и снова ищу эту зацепку, крючок, точку отсчета… Мне кажется, если я пойму, почему это случилось именно со мной, то смогу исправиться сама или исправить обстоятельства своей жизни. И всё снова будет хорошо…
Два месяца назад я решила начать вести дневник. Иногда пишу сама. Когда нет сил, диктую, а дочь записывает. Так мы убиваем время. Мне кажется, если это и не выход, то возможность найти ответ, докопаться до самого начала. Я почему-то верю, что это поможет.
Ответы на эти вопросы подразумевают надежду на выход и перспективу спасения. Впрочем, Евгения начинает вести дневник с совсем другим настроем, будучи, как и многие из нас, твердо убежденной в том, что такая трудная и смертельно опасная болезнь не может появиться просто так. Женя полагает, что у всего происходящего должна быть причина, желательно – внешняя. Из тех, что можно назвать, осмыслить и, разумеется, исправить.
Мы часто думаем, что рак приходит неспроста, но за что-то, из-за какой-то провинности, даже греха. Вот 25 наиболее часто повторяющихся вопросов, которые я записала в самом начале работы над этой книгой, пытаясь понять, что именно волнует людей, думающих о раке.
Рак – это наказание?
За что?
Почему страдают дети?
Если у тебя рак, это точно значит, что умрешь?
Рак – это наследственное?
Я заболею тем же, от чего умерли мои родители и бабушки с дедушками?
Может ли стресс быть причиной рака? Значит, если не нервничать, то не заболеешь?
Правда ли, что рак – это болезнь, запрограммированная на уровне ДНК?
Болезнь заложена в нашу жизненную программу и профилактики не существует?
Рак заразен, он передается от человека к человеку?
Можно ли уберечь себя от рака или всё бессмысленно?
Существует ли профилактика рака: что нужно делать, чтобы не заболеть?
Есть ли универсальное лекарство от рака или его скрывают фармацевтические боссы, чтобы заработать на наших страданиях побольше денег?
Лечение от рака: химиотерапия, операции, трансплантации всегда мучительны и заставляют страдать. Может, лучше вообще не лечиться, раз уж всем нам суждено умереть?
Почему некоторые курят-пьют и доживают до ста лет, а другие сидят на «здоровых» диетах и всё равно сгорают от рака?
Есть ли на свете люди, которые вообще не восприимчивы к раку? Это иммунитет, как его укрепить?
Какой рак самый страшный, чего надо бояться в первую очередь?
Существуют ли «профессиональные» раки? Где нельзя работать?
Обязательно ли пациенту сообщать его диагноз: может, это его в конечном итоге и убьет? Когда лучше промолчать?
Может ли рак развиться от мыслей о раке, от разговоров о нем, от внутреннего напряжения по этому поводу?
Существует ли какое-то специальное антираковое питание, диета?
В прессе пишут о множестве историй, когда люди меняли образ жизни и рак у них проходил сам собой. Может, медики просто морочат нам голову, и никакого рака нет?
Можно ли верить тем, кто говорит, что рак – это порча, которую можно снять только методами нетрадиционной медицины?
Когда надо начинать бояться рака, в каком возрасте и что делать, чтобы подготовиться?
Современная наука уже знает способы превентивной диагностики? В каком возрасте ее следует проводить? И что можно сделать, чтобы избежать «предначертанного» рака?
Пятидесятитрехлетней Евгении Паниной казалось, что причину ее болезни следует искать внутри себя, в каком-то изломе прежней жизни. Собственно, для этого она и принимается вести дневник. Первые же строки охватывают совсем недавние события. И ей кажется, что в них уже есть ответы.
Я пытаюсь вспомнить, чем была моя жизнь до болезни: работа, работа, встречи, пациенты. Жизнь в белом халате. Помню свое главное ощущение: устала, сил нет; не хватает времени ни на семью, ни на себя; живу работой, жизнью пациентов. Месяца три назад, помню, консультировала девушку с онкологическим заболеванием. Семья металась в растерянности. Я попыталась поддержать. Даже поехала вместе с пациенткой и ее мамой в специальный магазин, чтобы помочь купить парик… По пути разговаривали.
Что я ей говорила? Обычные профессиональные слова: «Всё будет хорошо, держитесь». Не могу сказать, что ей стало сильно легче. Сейчас понимаю: какая же я была дура. Всё это совершенно не работает. Надо как-то иначе. Но как?
Надо вернуться, надо вспомнить, что было в моей жизни перед тем, как я заболела. Надо же, ничего конкретного вспомнить не могу. Помню только: полгода дикой слабости, в выходные одно желание – не вылезать из постели и чтобы никто меня не трогал. Умом я понимала: такая слабость – это не очень здорово и наверняка неспроста. Но сама себя успокаивала: это не больше, чем просто возрастные изменения и большая нагрузка… В апреле решила привести себя в форму: каждое утро обливания холодной водой, потом – массаж, йога. Результата никакого. После майских праздников решила пройти диспансеризацию. Первые анализы показывают: что-то не так, нужно более тщательно провериться. Думала, в июне отпуск – придется лечь в больницу. По-быстрому обследуюсь, а потом рвану куда-нибудь. Например, на море.
На море Женя не поедет ни в этом году, ни в следующем. Июньское обследование даст плохой результат: недопустимо высокий белок в моче, подозрение на болезнь почек и необходимость срочной госпитализации. Однако насколько всё серьезно на самом деле, Евгения пока не понимает. Или не хочет понимать.
Нет, я не могу болеть. Я хочу сказать об этом кому-то, объяснить, как много у меня планов, как не укладывается в эти планы болезнь. Но я боюсь, что как только произнесу всё это вслух, болезнь станет реальностью. До тех пор ее можно отодвинуть, не заметить, отогнать. Но сама всё время возвращаюсь к одним и тем же мыслям. В них пока только страх и никакой конкретики…
…Анализы, обследования, врачи работают спустя рукава. Это страшно бесит. Я-то своих сотрудников гоняю, заставляю бегать, торопиться, успевать… Но там, у себя, я главный врач, начальник. А здесь кто? Простой бесправный пациент. Мне не говорят ничего конкретного: обследование тянется и тянется. И, кажется, будет длиться бесконечно.
Так Евгения Панина, врач с тридцатилетним стажем, впервые всерьез оказывается по другую сторону белых халатов. Увиденное и перенесенное на этой стороне потрясает ее не меньше, чем нависшая угроза болезни: помимо элементарного и понятного страха смерти есть еще страх бесправия, беспомощности, страх быть неуслышанным, неосмотренным, непринятым, забытым в бесконечной очереди страдающих людей.
Я рассказываю историю Евгении Паниной профессору Рашиде Орловой, заведующей химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера. И Рашида Вахидовна удрученно качает головой: «Я считаю едва ли не самой большой проблемой отечественной медицины то, что мы, врачи, иногда забываем, что это больной имеет право, а мы – обязаны: информировать, лечить, помогать, успокаивать, давать право на выбор. Чаще же мы исходим из того, что мы-то умные, образованные, у нас есть пациенты, их много, и мы имеем право, а они обязаны принимать с благодарностью саму возможность быть вылеченными согласно нашей концепции лечения. Принимать беспрекословно и молча. Как минимум это унизительно. И это ставит человека в положение просителя милости врачебной».
Самый известный в России врач-онколог, ставший онкологическим пациентом, заместитель руководителя Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге, учредитель благотворительной организации Сancer Fund Андрей Павленко рассказывает: 13 минут, отмерянных нормативом Минздрава на первичный прием пациента с диагнозом «рак», прежде казались ему просто минздравовским нормативом. Не слишком реалистичным, но – ничего выдающегося. Год назад Павленко сам получил диагноз «рак желудка в крайней степени». И на своей шкуре испытал, что значат эти самые 13 минут с точки зрения пациента: «Тринадцать минут – это такая фигура речи. Это время, за которое нельзя успеть ничего из того, что требуется, например, при первой встрече врача и онкобольного. За 13 минут можно успеть поздороваться, не поднимая глаз, быстро, если там не очень большая история, оформить карточку и сделать запись, и дать какое-то направление. Никаких доверительных разговоров, никакого обсуждения состояния, никакого общения за это время, конечно же, невозможно провести. Но ведь встреча доктора и пациента, то, какое впечатление сложится у больного, насколько он поверит в себя, в свои силы для борьбы – зависят от этой встречи. В каком-то смысле исход лечения зависит от отношений врача и пациента. Но наша система так устроена, что никаких отношений не подразумевает».
Профессор Ольга Желудкова, доктор медицинских наук, заведующая отделением в «Российском научном центре рентгенрадиологии» (РНЦРР), с которой мы дружим много лет, слушает историю Евгении Паниной, читает Женин дневник и наконец эмоционально откладывает распечатанные мною страницы в сторону. Желудкова говорит: «Россия – один из лидеров по поздней диагностике рака. Знаете, почему?»
Я молчу, хотя и знаю ответ. Желудкова кивает, она знает, что я знаю, но продолжает говорить: «Больные не хотят идти к врачу. А врачи, если положить руку на сердце, не хотят видеть больного, ведь чем меньше больных, тем лучше врачу. Так это устроено. Но это нонсенс! Как это так, врач, который сидит на приеме, не хочет видеть больного! Как это так – не хватает времени, чтобы вести прием?! Это в равной степени оскорбляет и медицинское сообщество, я имею в виду врачей, которые неравнодушны к своему делу и к своей репутации, и пациентов. И с этим надо бороться. Во-первых, в медицине, а особенно в такой непростой медицинской системе, которая сложилась у нас в стране, должны быть только те, кто хочет быть врачом, а не просто хорошо заработать. Во-вторых, врачей должно быть столько, сколько нужно, исходя из потребностей пациентов, а не из соображений чиновников. Потому что сейчас мы имеем дело с тем, что врач каждый раз, принимая пациента, сдает норматив. За отпущенное время у него нет возможности не только провести полную диспансеризацию, но просто как следует осмотреть пациента. Выходит, что чемпионами в этой системе нормативов становятся врачи, осматривающие пациента с закрытыми глазами, а потом идущие преспокойно варить дома борщ: выживет больной, умрет, что вообще с ним будет – их не касается. Они свой норматив выполнили, зарплату получили. Система провоцирует появление таких врачей. А такие врачи, в свою очередь, провоцируют недоверие к системе. Ведь из-за них люди, которые могли быть вылечены, имели возможность бороться и победить, оказываются просто за бортом самой возможности получить шанс на достойное лечение».
Заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й московской больницы, кандидат наук Даниил Строяковский соглашается: отсутствие доверия между пациентом и врачом провоцирует нежелание людей, что называется, «лишний раз» переступать порог поликлиники, а оказавшись перед необходимостью лечиться, бояться произнести лишнее слово, побеспокоить доктора. Спрашиваю: «Кто больше в этом виноват: пациенты или врачи?» Отвечает: «Скорее всего, это какая-то наша генетическая память, унаследованная из советского времени, времени, когда лишних вопросов в принципе не рекомендовалось задавать. Другой вопрос в том, кто должен эту ситуацию менять. На мой взгляд, врачи. Потому что самый важный закон, который должен соблюдать врач, – оставаться нормальным человеком и понимать, что ты в любой момент можешь оказаться совершенно по другую сторону баррикад. Однажды ты можешь оказаться на месте своего пациента. Лично об этом всё время думаю, стараюсь не зарваться. Чтобы не было цинизма, чувства самоуспокоенности, всезнайства. Потому что иногда, особенно когда у врача что-то получается, возникает ощущение, что ты почти Бог. Вот это надо страшно от себя гнать и понимать, что этого нет в помине, что только вздернул нос, ты тут же по носу получишь. Причем медицина никогда не прощает подобных вещей. Она всегда жестоко за это наказывает».
Вопрос этики отношений между врачом и пациентом, кажется, один из самых сложных и трудно разрешимых в России. Сооснователь Клиники амбулаторной гематологии и онкологии, кандидат наук Михаил Ласков уверен, что вопрос этот скорее не медицинской категории, он касается этики человеческих отношений в России. «Когда я беру на работу доктора, едва ли не большую часть времени я тестирую не по общемедицинским, профессиональным темам, – говорит Ласков, – а именно по этическим вопросам. И часто бывает так, что приходит человек, вроде бы молодой, который и видеть-то не мог, как строились отношения врач – пациент в СССР, но откуда-то вдруг берется и хамство, и высокомерие. Я не могу найти причины этого! Я не думаю, что какие-то злодеи в наших медицинских институтах специально готовят врачей к такому обращению с пациентами. Это какая-то дурная традиция, которая в нас живет, изжить ее крайне сложно. В конечном итоге, я думаю, такая вседозволенность связана с тем, что в России от отзыва пациента по поводу того, как с ним обращался врач, ничего не зависит. В США и других странах, где медицина конкурентная, к врачу, который повел себя с пациентом неделикатно, никто больше не придет. Соответственно, он лишится заработка».
«Врачебная среда в России построена таким образом, что у врачей замыливается картинка и снижается профессиональная мотивация. Ведь очень многое построено на личности – на сочувствии, на персоне врача, на отзывах о нем на форумах, «сарафанном радио», – говорит доктор медицинских наук Игорь Коман. – Этот фактор становится ведущим: врач завален работой, он тащит на себе и пациентов, и бумаги, связанные с ними, и просто бумаги, которые от него требует больничная система. Развивается профессиональная усталость, это ведет к деформации личности врача и, в конечном итоге, к снижению эффективности работы всей системы оказания медицинской помощи. Развитые внутрипрофессиональные структуры, как правило, пытаются сами себя мотивировать. На Западе, например, существует очень четкая система роста врача, этим в клиниках занимаются специальные большие подразделения: ставка сделана не на личность врача, а на его профессионализм. И важной его частью считается умение контактировать с больным: отвечать на вопросы – самые неожиданные, примитивные или, наоборот, сложные». По словам Комана, при всех недостатках существующей американской системы врач в США будет отстранен от работы, если не сможет или не захочет отвечать на вопросы пациента. Пациент будет передан другому специалисту.
22 июня 2010 года Евгения Панина получает результаты биопсии почки. В комментариях – подозрение на онкологию. Но опять ничего конкретного. Женя пытается выяснить у кого-то из врачей, бегающих по коридору отделения, что всё это значит. Но ответа нет: врачам некогда. Пациентов – тьма-тьмущая. Но кто-то из докторов все же бросает на бегу: «Похоже на миеломную болезнь, но диагноз надо подтверждать как минимум рентгеном, мы дадим направление». И убегает дальше, к другим пациентам. Один день, три, неделя. Женя ждет, но сил ждать больше нет: с одной стороны, чувствует-то она себя так же, не хуже, а с другой – полная неизвестность. Через знакомых Панина записывается на рентген в Институт гематологии. И, не дождавшись ничего конкретного от своих врачей, сбегает из больницы. Рентген должен всё объяснить.
8 июля 2010 года, в день рождения моей младшей дочери Алены, я узнаю результат своего рентгена. На снимке отчетливо видны поражения костей. Я больна. На моих костях дыры. Возвращаюсь в больницу, говорю им, что я знаю свой диагноз. Что нужно что-то делать. Приходит молодой врач-гематолог. Показываю снимки, прошу о консультации. Консультация длится 5 минут. Врач спрашивает, сколько мне лет. Ответ: 52. Он молчит и вдруг произносит: «А, ну, может, еще и успеете на трансплантацию». У меня земля уходит из-под ног.
В эту минуту меня как будто накрыло огромной черной посудиной.
И в голове звенело только РАК, РАК, РАК. Я умру. А я ведь так и не пожила как следует. Я ведь столько всего не успела. Но в его глазах я видела, что он разговаривает с человеком, который уже свое прожил, для которого жизнь закончилась…
В большинстве развитых стран существуют специально разработанные протоколы и рекомендации профсообществ по тому, как врачу следует сообщать диагноз пациенту. Самый распространенный гайдлайн называется SPIKES. Там на первую беседу доктора с онкологическим пациентом отводят не меньше часа: врач должен подробно проинформировать о диагнозе, рассказать о возможной дополнительной диагностике, продемонстрировать открытую статистику по конкретному заболеванию, предложить пути лечения и обсудить их с больным, рассказать о том, как, возможно, изменится его жизнь и что сделать, чтобы привычный образ жизни изменился минимально; также доктор, который сообщает диагноз, должен предложить своему пациенту помощь онкопсихолога на всем протяжении болезни. Ничего этого в России нет. Согласно статистике ВОЗ, 13 % российских онкологических пациентов так до конца и не знают о своем диагнозе: врач побеседовал с родственниками, те решили не расстраивать.
В нашей стране нет никаких специальных рекомендаций по тому, кто, как и когда должен рассказать больному о его болезни. Этому не учат ни в университете, ни в больницах, об этом не говорят на конференциях, на эту тему в стране не проводились большие исследования.
Единственный документ, который каким-то образом регламентирует отношения пациента и врача в области получения диагноза, – это Закон № 323, согласно которому «врач не может начать лечение, не проинформировав пациента о целях, методах, рисках и последствиях». Этот принцип называется «Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство», о нем говорится в статье 20. В статье 22 написано, что каждый имеет право получить в «доступной для него форме» информацию о состоянии своего здоровья, результатах медицинского обследования, наличии заболевания и так далее. Так вот, эту информацию, по закону, должен предоставить пациенту врач. Но вместе с этим в законе сказано, что информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена пациенту против его воли. И это очень важный момент: выходит, можно ничего и не сообщать. А, как говорится в законе, «в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу (супруге), одному из близких родственников, если пациент не запретил сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана такая информация». Что такое «доступная» и «деликатная» формы, при этом неизвестно. И где проходит грань между страхом разговора с врачом и страхом самой болезни?
Вместе с врачами и учеными из разных стран доктор Игорь Коман пытается реализовать на практике идеи персонифицированной медицины. «Найти хорошего врача – это абстрактная задача, которая состоит из многих, годами копившихся проблем: одна из них – возможно, самая главная, с ней люди сталкиваются во всем мире – отсутствие преемственности между врачами разных специальностей. Врач, к которому пациент приходит на первичный прием, начинает с ним общаться так, как будто этот человек буквально вчера родился. Онколог ничего не знает о заключении нефролога, офтальмолог – о рекомендациях эндокринолога и так далее. Перед врачом только сухая медицинская выписка, совершенно не отражающая всей истории болезни и, если хотите, истории жизни пациента, – говорит Коман. – В СССР существовала практически идеальная и, совершенно точно, лучшая в мире система диспансерного наблюдения, попав в которую пациент со всей своей историей всё время находился внутри структуры, знающей о нем с разных сторон. Сейчас каждый раз приходится начинать всё сначала. Никакой возможности в такой системе наладить нормальные взаимоотношения между врачом и пациентом – а это важнейшая составляющая успешного лечения – нет».
В системе персонифицированной медицины, за которую ратует Коман, «дело пациента» ведет кейс-менеджер, не онколог, а скорее специалист общей практики, помогающий больному сориентироваться в исследованиях и их результатах, в заключениях врачей.
По словам Комана, главная задача кейс-менеджера – быть проводником пациента в мире лечения, его доверенным лицом, тем, от кого исходит информация и совместно с которым предпринимаются новые шаги. Это – идеальная и довольно дорогая конструкция, но о ней стоит помнить, представляя себе, какой могла бы быть медицина. К сожалению, не только в России, но и в большинстве стран мира персонифицированная медицина пока не развита, но очевидно, что за ней будущее.
Был ли доктор, на бегу пробормотавший Жене что-то невнятное, именно тем самым специалистом, который должен был сообщить диагноз? А если не он, то кто тогда не только имел право, но и был обязан поговорить с ней?
Впрочем, эти, разумеется, важные вопросы Евгения Панина пока ни себе, ни окружающим не задает. В ее голове тяжело пульсирует только один невероятно важный вопрос: за что? В чем она провинилась, чтобы получить этот диагноз: «рак».
Глава 2
Декабрь 2011 года. Израиль: зима здесь намного теплее московской осени.
Мы идем вверх по тропинке, что ведет от деревни Эйн Карем к самой большой в Израиле государственной клинике «Хадасса» (Мемориальный онкологический центр имени Слоуна – Кеттеринга). И эта тропа, и эта клиника на горе, поблескивающая, как в кино, вертолетной площадкой, – всё кажется декорацией к истории, которую рассказывает крошечная, коротко стриженная седая женщина, идущая рядом со мной. А сама история кажется и вовсе невероятной. И поначалу я даже успею подумать про себя: это всё писательские выдумки. Но Людмила Улицкая, а именно с ней мы шагаем по тропинке, говорит медленно, с паузами, придающими и вес, и значительность рассказываемой истории. «Деревня Эйн Карем, – говорит Улицкая, – до 1948 года была арабской, а потом, в один день, после того как арабы ушли в Иорданию в день объявления независимости Израиля, стала еврейской, как две тысячи лет тому назад. Здесь родился Иоанн Креститель. Здесь встретились две самые знаменитые еврейки, мать Иисуса Мариам и мать Иоханаана Елишева. Мария и Елизавета. Здесь есть источник, у которого они встретились».
Мы стоим у источника и держим руки под ледяной водой. Пить нельзя. Можно только держать руки и верить, что Мария и Елизавета делали точно так же. И я, наконец, набравшись решимости, спрашиваю Улицкую о том, как, зачем и почему она здесь очутилась. Формальный ответ я, конечно, знаю: тяжелый онкологический диагноз и необходимость лечения. Но вопрос-то, и мы обе это понимаем, совсем о другом. Я спрашиваю Улицкую: как она тогда, в 2010-м, едва узнав свой диагноз, ответила себе на наиважнейший и наипервейший вопрос всех, столкнувшихся с этой болезнью: «Почему я?»
Улицкая не делает паузы, не отводит глаза и даже не набирает воздуха, чтобы ответить: она готова к вопросу. Она себе на него уже ответила: возможно, два года назад, когда заболела, возможно, даже раньше, еще до болезни. По удивительному стечению обстоятельств, которыми полна жизнь, этот ответ Людмила Улицкая искала давно. О результатах поиска написала целую книгу – «Человек попал в больницу». Эта история случилась задолго до того, как Улицкая сама заболела раком: формально книга была приурочена к двадцатилетию работы волонтеров «Группы милосердия» в Российской детской клинической больнице (РДКБ) и посвящена памяти отца Георгия Чистякова, священника, мыслителя и вдохновителя этой самой «Группы милосердия». В нравственном полумраке 1990-х волонтеры группы пришли в больницу и остались рядом с теми, кто лежал в самых тяжелых – онкологических – отделениях РДКБ: с детьми, считавшимися обречёнными, с их родителями, которым предстояло пережить болезнь и даже возможную смерть детей, с врачами, чья готовность бороться против рака разбивалась об отсутствие денег на лекарства, отсутствие самих лекарств, донорской крови, одноразовых шприцев, перчаток, капельниц и даже веры в то, что это всё откуда-то может появиться. Но главный вопрос в книге Улицкой звучит просто и страшно: за что?! Именно так, с вопросительным и восклицательным, не приемлющими никакого уклончивого ответа, знаками в конце.
Я прочла эту книгу Улицкой трижды. Задолго до того, как появилась идея проекта #победитьрак. Я читала ее вначале последовательно, потом – в шахматном порядке, а потом еще раз – от конца к началу. Я искала этот ответ, потому что сама прекрасно помнила, как ушел из жизни первый больничный мальчик, которого я встретила и полюбила. Его звали Сережа. И он был подопечным фонда «Подари жизнь».
У него был благоприятный прогноз, для исполнения которого всё возможное было сделано. Но что-то пошло не так. Внезапная инфекция всего за несколько часов сожрала Сережу. Он умер – быстро, неожиданно, страшно. И еще – очень несправедливо: ведь было все сделано для его спасения, все так его любили… И я, не родитель и не врач, не смогла принять и не приняла эту смерть: я кричала Богу и окружающим это самое «за что?!» – и никто не мог мне ответить. С этого момента, возможно, началась история проекта #победитьрак: я старалась узнать о болезни и о том, что ее окружает, как можно больше. Я хотела обнаружить хотя бы какую-то логику болезни – понятный порыв любого нормального человека. Нам, людям, очень важно иметь возможность опереться на какие-то рациональные знания.
Тогда, в 2005-м, сразу после гибели Сережи, схватилась за книгу Улицкой «Человек попал в больницу» как за непременный источник ответа на этот вопрос «за что?!» Мне казалось, если не сама Улицкая, то герои ее книги должны знать этот ответ. Хотя бы кто-то. Пускай хоть один намек, подсказка.
В интервью, из которых состоит книга, Людмила Улицкая подчеркивает: она не автор книги, она ее составитель. А сама книга будто соткана из миллиона вопросов, вытекающих из этого, главного, зудящего: «за что?!» На вопрос, многократно повторенный в книге, пытаются ответить врачи и родители, священники и волонтеры, случайные и навсегда связавшие свою жизнь с больницей и всем, что в ней происходит, люди. Улицкая спрашивает, а они отвечают: тянут и тянут тоненькую ниточку из этого клубка «за что?!» Но ответа нет.
Я решаюсь и спрашиваю Улицкую напрямую: «Теперь-то вы знаете, за что?» – «Я знаю, что большая часть людей, которые заболевают сами или у которых, не дай бог, заболевает ребенок, неизбежно задают этот вопрос. Себе. Про себя или вслух. Или кому-то. Он неизбежно возникает: «За что?!» И ответа на него я так и не знаю, – говорит Улицкая. – Знаю другое – вопрос этот абсолютно ложный. Я долго к этому шла, пытаясь понять, какой на самом деле правильный вопрос должен возникнуть на месте этого неверного, ложного. И поиски привели меня к пониманию того, что правильный вопрос на самом деле другой: «Для чего? Во имя чего? Что ты извлекаешь из этого, как ты проходишь через это испытание?» Это, безусловно, гораздо более правильная постановка вопроса, это уровень некоторого глобального осознания жизни на примере той ситуации, в которую ты попал.
Ни для кого не секрет, что мы все смертны. И я со временем стала понимать, что смерть – важнейший факт жизни человека, может быть, даже основной факт жизни. Мы идем к этому сначала неосознанно, потом более осознанно, потом приближаемся как к факту.
Как верующий человек и как человек, безусловно, прошедший этот путь, я говорю: болезнь дана как испытание, как подготовка, как тренировка перед главным в жизни экзаменом. И пройти это испытание нужно очень осознанно. Поэтому не «за что?!», а «для чего?», «зачем?»
Сказав это, она на некоторое время замолкает. Задумывается, как бы решая, продолжить или нет. Согласие Людмилы Улицкой на интервью для проекта #победитьрак – мы так договаривались – подразумевает полную откровенность, без лукавства и увиливаний. Рассказ должен быть честным. Для этого именно сейчас Людмила Улицкая должна будет признаться в том, что отчетливое понимание воспитательной, возвышающей составляющей болезни к ней пришло не сразу, не быстро. И что ее, как и всех живых и смертных людей, поначалу волновали совпадения, намеки и предзнаменования, которыми полна любая история столкновения человека с тяжелой болезнью.
Декабрь 2009 года. Москва. К мужу Улицкой, известному художнику и скульптору Андрею Красулину, пришел галерейщик и куратор с предложением: «Есть проект выставки, которая будет называться «Половина». – «Чего половина?» – спросил Красулин. «Ну, вообще, идея половины чего бы то ни было». Красулин пожал плечами. Улицкой при разговоре не было. Вернувшийся домой муж пересказал ей идею.
«Я подумала – интересно, а как можно пластически обозначить половину? Я очень люблю решать чужие задачи. Вытянула ящик комода, вынула очень красивый, правда, старый лифчик, взяла ножницы и разрезала его пополам, – рассказывает Улицкая. – Половину отнесла в мастерскую: «Не правда ли, Андрей, это именно половина?»
Красулин натянул на подрамник холст и тонкими булавками укрепил на нем половину лифчика. Улицкая даже теперь радуется, вспоминая: «Форма, надо сказать, вышла идеальная, даром что лифчик старый». Тут она останавливается, осекается: нужно как-то перейти к теме рака. Улицкая решает перейти быстро, безо всяких остановок: «Я не знала тогда, что происходит. Вероятно, рак уже был, но до обнаружения моей болезни, до моего знания – еще несколько месяцев. Всё идет своим чередом: выставка в галерее «Ковчег», на ней я не была, потому что поехала в итальянскую деревню Беука заканчивать книгу, которую тогда так и не закончила, потому что рак, точнее, его у меня наличие, уже стало фактом, уже, так сказать, было обнародовано…»
Выходит, арт-объект «Половина» стал будто предисловием к совершенно незапланированной книге ее жизни: рак груди, жизненно необходимая операция, так мистически похожая на эту самую «Половину», – одну грудь хирурги у Улицкой отняли.
Впрочем, никаких других совпадений и предзнаменований Улицкая искать не стала. Достаточно. Она ведь столько раз описала предчувствие, страх и почти непреодолимую трудность примирения с болезнью в своих книгах, столько раз передумала и пережила это за других, что вроде и так всё понятно, всё ясно. И даже более-менее предсказуем сценарий, по которому теперь будут развиваться события. «Так бывает во сне, когда тебе заранее что-то сообщают, а потом, когда это происходит в реальности, ты узнаёшь минуту: ага, вроде да, всё правильно, так и должно было быть. И вот когда всё произошло, у меня было полное ощущение того, что я об этом знала наперед, – говорит Улицкая. – Есть такая идея, что наши души умнее, чем мы сами, и знают о нас больше. Вот у меня было ощущение, что душа моя об этом знала. И я встретила это в каком-то смысле с готовностью. С готовностью еще и потому, что у меня многие годы ушли на осознание того, что жизнь – это поток, он тебя несет, и не надо ему сопротивляться. А напротив, надо так располагать себя, чтобы поток тебя нес, и тело твое, и сознание твое, и ты сам не препятствовал этому. Ведь там, наверху, им виднее, куда нас вести.
Это ощущение правильности потока я очень хорошо чувствовала и не сопротивлялась нисколько. Я готова была принять всё, что мне полагается.
Единственное, что меня очень беспокоило и тревожило, – это чтобы я себя хорошо вела. Категорически не хотелось раскваситься, потерять руль. Я ведь вообще привыкла рулить. И жить так, как я считаю правильным, а тут я немножко боялась, что меня снесет. Ничего этого, слава богу, не произошло, по крайней мере, на том отрезке, который уже позади. Но мысль о том, что болезнь – это жизнь, а не смерть, в какой-то момент стала крайне острой». Оглядываясь назад, Улицкая с изумлением вспоминает: болезнь дала ей довольно сильное ощущение жизни; месяцы лечения, проведенные ею в Эйн Кареме, были наполнены работой, впечатлениями, общением – словом, жизнью. За время болезни она дописала ту самую книжку – «Зеленый шатер», которую бросила в итальянской Беуке, узнав о диагнозе.
«И знаешь, что еще? Я никогда так много не гуляла и не проводила времени в попытке жить без мыслей, а жила, стараясь впитывать красоту мира. И надо сказать, что красота меня окружала замечательная, ослепительная и очень убедительная», – об этом Людмила Улицкая рассказывает, отмеряя ровными шагами ту самую тропу, по которой два года назад каждое утро несколько недель подряд поднималась от деревни Эйн Карем в больницу «Хадасса». На химиотерапию. Но говорит она это не с интонацией заложницы, против воли вернувшейся в место трагически долгого несчастья. Нет. В это трудно поверить, но туда, где была пройдена точка невозврата, рак, она возвращается так, как возвращаются к местам юности или первой любви.
Мы стучим в дверь дома, где Улицкая снимала комнату с крошечной террасой на верхнем этаже. Открывает хозяйка: восторженная светловолосая художница, из бывших хиппи. Она удивлена, но немедленно бросается целовать свою позапрошлогоднюю постоялицу. Они всхлипывают друг другу нечто неразборчивое, а потом долго стоят обнявшись.
«Можно ли посмотреть мой угол?» – спрашивает Улицкая.
«О… Там, конечно, сейчас другой квартирант, мальчик, француз, но вам, конечно… конечно, проходите».
Улицкая поднимается. Всё немного переменилось за время ее отсутствия, но память легко восстанавливает недостающие детали: она выходит на террасу, поворачивается в сторону «Хадассы», стоящей на горе, глубоко вздыхает и закрывает глаза…
На этой террасе она встречала рассвет, глядя на клинику. Вот тропа, по которой она туда взбиралась на сеансы химиотерапии. Вот эти цветы она поливала: «Надо же, как подросли». Вот с этой точки, вот так повернув голову, можно разглядеть ее любимый монастырь Сестер Сиона. Вдруг вспомнив, что до заката остались считанные минуты, она как будто проснется и, на ходу бросив: «Надо бежать», – распрощается с хозяйкой и поспешит вверх по каменистой улочке. Я едва поспеваю за ней, то и дело поскальзываясь на древних камнях.
Она, конечно, первой окажется у монастыря Сестер Сиона, тут же позвонит в колокольчик и прошепчет в слуховое окно массивной монастырской двери: «Я знаю, что уже поздно. Но не могли бы вы пустить нас сюда ненадолго, осмотреть монастырский садик. Дело в том, что это очень важное для меня место, я здесь лечилась. От рака».
Замок щелкает. Дверь сама собою отворяется. Кругом – никого. Идиллической красоты монастырский сад изумительно пуст. Мы входим. Точнее, она вбегает, на ходу поясняя: «Крещеный еврей Альфонс Ратисбон из Франции основал этот монастырь сто пятьдесят лет тому назад. Этот крохотный домик принадлежал ему, сейчас здесь служебное помещение. За поворотом будет монастырский сад. За ним ухаживают только монахини, они работают день и ночь…»
За год ее отсутствия садик почему-то вырубили, то есть его больше нет. Но она этого как будто не замечает. За первым садиком – еще один, заветный, – у монастырской стены, обрывающийся на полугрядке и нависающий над горой. В нем – несобранные гранаты, апельсины и лимоны. Улицкая поднимает их с земли, рассовывает по своим, по моим карманам: «Надо увезти в Москву, положить на рабочий стол, и он будет лежать, сохнуть, а ты – вспоминать». Потом она вцепляется в прутья ограды монастырского садика, не дающей ему упасть и свалиться с горы. Через прутья вид на православный Горнинский монастырь. Он на соседней горе. «Совершенно невозможно сосчитать, сколько часов в тот год, год болезни, я провела у этой ограды, глядя на монастырь, на больницу, которая находится чуть правее, дальше, в горах. Я стояла, смотрела сквозь прутья и всё думала. Хотя нет, думать я не особенно могла. Я ждала. Мне казалось, что ответ придет сам собой. Что его просто не может не быть, – рассказывает она. – Понимаешь, в таком состоянии невероятного психологического напряжения, в котором находится человек, заболевший раком, в первые дни, долго находиться невозможно. Должно прийти какое-то понимание и вслед за ним – облегчение». Отходит от ограды. Оборачивается. Идет по тропинке, расставив руки, словно к старому знакомому, к огромному, необъятному стволу не известного мне и не определяемого на первый взгляд происхождения, от чьих корней земля вокруг необычайно бугриста. «Это называется рожковое дерево. С ним хочется стоять, обнявшись. У меня было ощущение, что место, откуда оно вырастает, – это то самое место, где небо открыто. Знаешь, лестница Иакова? Вот такое же совершенно открытое небо. Здесь, в этом монастыре, вообще много чудес». Механически повторяю: «Лестница Иакова». И смотрю вверх, в небо. Пока она бежит дальше, в сторону монастырского кладбища, успеваю подумать: «Сколько же людей, столкнувшихся с болезнью, вцепившись во что-то, что кажется им прочным, основательным, как, например, этот многовековой ствол, запрокидывают голову и ждут ответов сверху. От самого ли неба или от Того, кто, возможно, там есть. Кто из заболевших действительно услышит ответ? Почему этот ответ так важно услышать именно в болезни? И каким он должен быть, чтобы утешить? И от чего зависит, услышишь ответ именно ты или нет».
Улицкая сидит у задней стены монастырской церкви, на ступеньках, с которых открывается вид на всё кладбище, а над ним закатная дымка, которую прорезает белый зуб клиники «Хадасса». Где-то звенят колокола. «Люся?» – окликаю я Улицкую. Она молчит. Не отвечает. Коротким взмахом руки велит помолчать и мне.
За несколько минут город за горой, сама гора, монастырский сад с огромным стволом рожкового дерева, опавшими фруктами, невидимыми монашками и кладбищенскими камнями, напоминающими о тех, кто был здесь до всех нас, погружаются во мрак. В памяти само собой всплывает письмо, самое первое письмо, которое отправила мне Улицкая, когда мы только начали с ней обсуждать саму возможность встречи, знакомства и откровенного разговора о пережитой болезни.
…Если исходить из того, что за каждым человеком есть свыше какой-то присмотр и добрые ангелы ходят за нами толпами, можно предположить, что страдания разного рода дают возможности для роста… Но и это не особо приятно – чувствовать себя в вольере подопытным животным…
Все рассуждения этого условно высшего порядка отходят далеко за горизонт перед лицом поступков и действий, которые совершают люди, чтобы лечить, избавлять от страданий и давать надежду на жизнь больным людям, особенно детям. Чулпан (Хаматова, актриса, учредитель фонда помощи детям с тяжелыми онкологическими и онкогематологическими заболеваниями «Подари жизнь»), Валера (Панюшкин, журналист, попечитель фонда «Подари жизнь»), многие мои знакомые, врачи и не врачи…
Я биолог, даже генетик по образованию, и болезни человека не заложены в программу, а есть следствие сбоя в программе, ошибки, несовершенства общего плана, иногда – плата за гениальную эволюцию, которая все еще происходит и пошла по совершенно прежде невозможному пути: люди начали вмешиваться в ее ход и исправлять некоторые ошибки природы. Это и подтверждает величие общего замысла о человеке и его расширяющихся возможностях. И лучшая метафора здесь – ночная борьба Иакова при потоке Иавок. Бог вызвал человека на состязание, и Он даже хочет видеть человека борцом… Ну, и как можно обо всем этом говорить? Еще написать кое-как можно… Привет, Люся У.
Мы еще раз проходим насквозь монастырский сад, заходим в капеллу, простую и жизнерадостную, с сине-красными витражами. Улицкая задерживается, чтобы побыть там одной. Выходит счастливая: в церковной лавке купила веселую, словно бы написанную ребенком, красно-синюю икону, на которой улыбаются друг другу Мария и Елизавета. Теперь эта иконка висит над моим письменным столом. Иногда я смотрю на нее. И вне зависимости от мыслей, с которыми смотрю, – улыбаюсь.
Примерно в этот момент мы обе поймем, что она действительно будет рассказывать и о болезни, и об опыте, из нее вынесенном. До этих пор никакой уверенности в этом у меня лично не было.
В иерусалимской квартире своей близкой подруги Лики Нуткевич Улицкая покажет свой дневник, написанный в месяцы принятия болезни и ее осмысления. И даст разрешение использовать его в проекте #победитьрак.
Я пришла в пустую капеллу, потом вышла в сад, плоды здесь не освящали. Деревья плодовые стояли прекрасные и вовсе в этом не нуждались. Лимоны почти все зеленые. Грушевое дерево, всё засыпанное грушевыми лампами, много гранатовых деревьев, они были все красивые, почти все уже набрали свой багрово-лиловый цвет. Но были и зеленые, которые не переставали быть зелеными. Но еще и не стали багровыми. Золотом отливали на солнце. Крещеный еврей, Альфонс Ратисбон из Франции, основал этот монастырь 150 лет тому назад. Деревня Эйн Карем – в долине. Наверху стоит огромный госпиталь «Хадасса». Я там лечусь.
У меня еще есть время подумать о происшедшем со мной. Теперь делают химиотерапию. Потом еще будет облучение. Врачи дают хороший прогноз. Посчитали, что у меня много шансов выскочить из этой истории живой. Но я-то знаю, что никому из этой истории живым не выбраться. В голову пришла замечательно простая и ясная мысль: болезнь – дело жизни, а не смерти. И дело только в том, какой походкой мы выйдем из того последнего дома, в котором окажемся.
…Израиль склоняет к размышлениям. Сюжет этой страны – неразрешимость. Минное поле людей и идей. Минное поле истории. Десятки истребленных народов, сотни ушедших языков и племен. Колыбель любви, место добровольной смерти. Я здесь живу четвертый месяц. Это земля Откровения. Я это знаю.
…Почти все мои родственники старшего поколения умерли именно от рака: мать, отец, бабушка, прабабушка, прадед… От разных видов рака, в разном возрасте: мама в 53 года, прадед в 93. Таким образом, я не была в неведении относительно моей перспективы. Как цивилизованный человек я посещала с известной периодичностью докторов, производила соответствующие проверки. В нашем богохранимом отечестве до 60 лет делают женщинам УЗИ, а после 60-ти – маммографию. Я довольно аккуратно посещала эти проверки».
На этом месте, начав читать дневник сразу же, как он попал мне в руки, то есть прямо в квартире Лики, не выдерживаю и спрашиваю Улицкую: «То есть вы знали, вы понимали, что рак рано или поздно будет, случится в вашей жизни? И всё равно он пришел неожиданно?» Она какое-то время смотрит на меня изумленно: «Конечно, в некоторой степени я была готова к тому, что это может со мной произойти. Но, надо сказать, когда это произошло, то произошло на самом деле довольно безобразно. Дело в том, что, зная, что я происхожу из раковой семьи, я честно время от времени проверялась. Но, ленясь, ходила на проверки неподалеку, в самое ближайшее место, чтобы не тратить день на поездку в Институт радиологии. И я туда ходила года три или четыре, с положенными интервалами. И надо сказать, что врачи там всё важное пропустили. Потому что когда они сказали «Ой!», то, как выяснилось в Израиле, раку было уже три года, стадия моя была третья, то есть уже был метастаз. И, конечно, можно говорить, что в том, что я себя запустила, вина на самом деле не моя, потому что я все-таки ходила. А вина нашей не всегда адекватной медицины. Но, конечно, это и моя вина. Ведь это мне было лень. И это я думала, что меня пронесет, что не сейчас, не завтра, не время.
И даже в тот момент, когда диагноз был поставлен, я прежде всего подумала, что, ой, нет, если можно, пусть всё будет немного позже, мне сейчас надо закончить книгу. То есть понимаете, да? Поэтому, когда я узнала, что больна, и мне сказали: «Срочно», то это был март. Но в мае я должна была ехать на книжную ярмарку в Иерусалим. И я решила совместить, на минуточку, выставку и лечение от рака. Представляете? То есть еще два месяца проваландалась совершенно напрасно. Надо сказать, что у меня тогда еще не перестроились мозги. А болезнь – она задает новую систему координат, новые масштабы в жизни. Важное и неважное оказываются не на том месте, где ты их расставлял раньше. В этот момент я еще не поняла, что надо прежде начать лечиться, а только потом – заканчивать книгу. Эта перестройка произошла постепенно».
В июле 2010-го, когда Людмила Улицкая в Израиле между сеансами химиотерапии будет заканчивать трудную книгу «Зеленый шатер», Евгении Паниной врачи, пока еще под вопросом, поставят диагноз «рак». Эти женщины не знакомы между собой. И Людмила Улицкая, конечно, не знает, как будет нужна ее книга Жене. Как спустя несколько месяцев дочь Паниной Софья будет читать «Зеленый шатер» маме вслух, бессонными ночами, отвлекая от боли и дурных мыслей.
Если уж совсем честно, Людмила Улицкая еще даже не знает, что она эту книгу допишет (а уж скажи ей о том, что после «Зеленого шатра» будет еще одна – «Лестница Якова», – она рассмеется). Но летом 2010-го в израильской деревне Эйн Карем она торопится дописать. А в Москве, в онкологическом институте имени Герцена, Евгения Панина получает ответ на свой вопрос: «миеломная болезнь». Она еще не знает, что это такое, но врачи уже прячут глаза. Это не лечится.
Миеломная болезнь – разновидность рака, зарождающаяся в недрах костного мозга. В норме его клетки крайне интенсивно делятся, обеспечивая наш организм всеми видами клеток крови, а при раке они размножаются в сотни раз быстрее, распространяясь по костям, разрушая их и другие органы. Если с чем-то и можно сравнить миеломную болезнь, то только с бушующим лесным пожаром, пожирающим костный мозг, систему кроветворения и кровоснабжения организма. Свое название заболевание и опухолевая клетка (от древнегреческого – костный мозг, – окончание в названиях опухолей, – опухоль) получили в связи с преимущественной локализацией процесса «на территории» костного мозга. На сегодняшний день в мире не существует протокола полного излечения от этого вида рака.
Подозрения на миеломную болезнь тут же поставили семью Паниной перед выбором: где лечиться? как лечиться? где вообще у нас от этого лечат? И этот вопрос в России – не риторический. И подразумевает не выбор комфортных условий, симпатичного врача или передовых научных и клинических разработок. Если говорить прямо, вопрос выбора клиники в нашей стране – это вопрос возможностей и связей. А проще говоря – блата и денег. Ведь номинально бесплатное лечение от рака подразумевает безразличную консультацию в поликлинике и длинную очередь в ожидании госпитализации по квоте. Подняв все связи и перевернув всю Москву, старшая дочь Евгении, Софья, договаривается о частной консультации в Российском онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина (РОНЦ имени Н. Н. Блохина) на Каширском шоссе, в просторечии – Каширке.
Каширка меня всегда пугала. Одно время мы жили всего в паре остановок. Я ездила мимо Онкоцентра на троллейбусе каждый день. Не специально, но как-то само собой получалось – отворачивалась. Не хотелось смотреть. Это страшное серое здание с малюсенькими окнами символизировало страх и горе. Хотелось побыстрее проехать мимо. И выходит, что если бы я сейчас ехала на троллейбусе, то я бы от себя отвернулась… Но сделать уже ничего нельзя, сбежать нельзя, отменить болезнь невозможно. 12 июля в 8 утра мы со старшей дочерью пересекли порог Онкоцентра. Так я оказалась по другую сторону. Вся в слезах, трясущаяся от страха. Меня поразило вот что: навстречу выходит охранник в годах, улыбается и говорит: «Добро пожаловать». Меня передернуло.
Так у Жени кончилась жизнь до рака. И началась другая, прежде неизвестная и пугающая. В саму возможность которой она в эту секунду даже не верит. Ведь для нее жизнь как будто бы уже кончилась.
Глава 3
На Каширку мы приехали без вещей. Вроде на консультацию. Хотелось, чтобы доктор так и сказала: это ошибка, никакого рака у вас нет. Врач посмотрела анализы и сказала: «Сомнений нет, это миеломная болезнь. Срочная госпитализация». Я растерялась, еще что-то хотела сказать, спросить, но все поплыло, как в тумане. Бумаги на госпитализацию, казенное белье, врачи, врачи, врачи… Как будто вот прямо сейчас всё, что со мной было, перечеркнуто и отправлено в небытие, стало неважным. Как будто теперь моя жизнь пойдет по-другому, единственному возможному пути, и другого пути для меня нет, как будто все другие варианты уже исчерпаны…
…Я поднимаюсь на 20-й этаж, захожу в палату. Приходят врачи. Им уже всё ясно, они что-то говорят, я еще сомневаюсь: может, не торопиться, может, нам не сюда, может, за границу… Мне говорят: «Женя, надо лечиться, до заграницы вы можете уже не доехать».
Об этой не у всех имеющейся возможности доехать до заграничной клиники для консультации и получения второго мнения, наконец, лечения и реабилитации писала мне в самом начале нашего проекта Людмила Улицкая, объясняя чувство неловкости, которое испытывает совестливый человек, оказавшись перед лицом болезни в (пусть и очень умозрительном) привилегированном положении – по сравнению с друзьями, соседями или просто соотечественниками.
Дорогая Катя! Проблема (одна из) заключается в том, что я проходила лечение в Израиле, лечение стоило довольно больших денег, и они у меня были. Большая часть людей лечатся дома, и разница очень большая в уровне медицины, в качестве среднего медперсонала, в отношении к больным. Большая часть моих подруг лечатся на родине, и я не могу не испытывать неловкость, что не могу всех их отправить за границу. Это меня сильно смущает – не вызовут ли раздражения мои рассуждения «благополучного» человека?
У Жени выбора лечиться «здесь» или «там» нет: на выбор попросту нет времени. А время в том, что касается рака, – штука чрезвычайно важная. Эта болезнь не умеет ждать. И потому в столкновении с российской здравоохранительной системой медленного реагирования он так часто одерживает победу.
Заместитель директора клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге, хирург-онколог Андрей Павленко уверен, что большинство практикующих врачей только в теории представляют себе всю мощь и неповоротливость бюрократической машины, перемалывающей пациентов в госучреждениях: очередь на компьютерную томографию, очередь на УЗИ, очередь на прием, очередь за направлением. «Это всё – время. Для третьей и четвертой стадий месяц-два, может, никакой роли не сыграют. Но для больных с ранними формами рака, с теми, которые еще не успели дать метастазы, месяц-два – критический срок: болезнь может перейти на следующий уровень. Отсутствие плана и изматывающее ожидание – самое худшее, что может случиться в жизни онкобольного. Это то, что, по сути, сбивает человека с ног и отнимает силы, которые нужны для борьбы с болезнью», – говорит Павленко.
Волонтеры одного из российских благотворительных фондов подсчитали: если заболеть раком и постараться соблюсти все формальности, что нужны для лечения, то помощь пациент получит в среднем через три-четыре недели после первого обращения. Эти три-четыре недели могут в ряде случаев стать роковыми в развитии болезни. Но так уж устроена система. Спорить с ней по меньшей мере затруднительно. Хотя многим и хотелось бы. «Нет дешевых болезней. Все вопросы специализированной помощи – это дорогостоящее удовольствие, если решать их на современном уровне, – говорит академик Давыдов, бывший главврач РОНЦ имени Н. Н. Блохина, рассуждая о возможности на деле применять действующую в России систему лечения онкологических заболеваний по квотам. – Почему в большинстве случаев объем требующегося лечения в пять-шесть раз превышает квоту? Кто вообще придумал эту мешающую своевременному и качественному лечению схему финансирования? Я лично считаю, что это просто безобразие: в стране, где конституционно гарантируется бесплатная медицинская помощь гражданину, получение этой помощи не должно быть проблемой самого гражданина. И не должен пациент углубляться в механизмы финансирования медицинской помощи. Это проблемы государства. А с квотой что получается? Человек должен сам бегать, искать по чиновникам эту квоту, выбивать ее, ждать очереди… Я считаю, что, как и во всех цивилизованных странах, гражданин России должен иметь возможность получить медицинскую помощь (в том числе и высокотехнологичную) на основании наличия паспорта гражданина Российской Федерации. И больше ничего. И лечиться спокойно. А мы будем стараться вылечить. И врач, и пациент должны думать только об этом. Это главное. А всё упирается в какую-то бюрократию, нервотрепку и несвоевременно, не так, не в том объеме полученное лечение. А следствие этого – сами знаете что».
Говоря о государственной системе финансирования лечения сложных болезней – квотах, академик Давыдов, обычно спокойный и уравновешенный, выходит из себя. Для того чтобы лечить онкологическую болезнь, например, в центре, которым руководил академик Давыдов, пациенту нужна квота – это наше с вами право на бесплатное лечение сложных заболеваний. За нас платит государство.
Попытаюсь объяснить, как, согласно замыслу авторов системы квот, эта схема должна была работать: в начале года каждому российскому региону в Минздраве выделяют определенное количество квот на разные болезни. Откуда берется эта цифра? Иногда сам регион (например, на основании прошлогодних отчетов) предполагает: у нас в следующем году таким-то раком заболеют… допустим, 40 человек. Если регион ленивый, цифру-прогноз спускают сверху.
И вот эти выделенные квоты в течение года делят на всех заболевших.
По закону, чтобы получить квоту, вначале надо получить направление о направлении за квотой. Его дает в поликлинике врач, который поставил диагноз. Подписать направление должен главврач. Еще нужна выписка из истории болезни с пометкой о том, что высокотехнологичная помощь и вправду нужна. Потом – комиссия в местном департаменте здравоохранения. По ее решению больному выписывается талон на квоту. Если в данный момент мест в клинике нет, вас внесут в лист ожидания. Но чаще, особенно ближе к концу года, бывает так, что место есть, и даже дата операции назначена, а квоты уже кончились. Тогда пациент либо принимает решение лечиться за свои деньги, либо ждет квоты. До следующего месяца, квартала или года. С годами система выдачи квот, и это следует признать, заметно улучшилась. Теперь в прогрессивных регионах минздравы берут на себя львиную долю бюрократической возни, и квота почти в автоматическом режиме достается пациенту.
К тому же многие виды помощи можно получить по ОМС: это касается химиотерапии, хирургического лечения. Некоторые виды хирургии, трансплантации костного мозга финансируются вне ОМС – напрямую клиникам выделяют суммы, согласованные с Минздравом. То есть деньги выделяются не регионам на пациентов, а клиникам (иногда через посредничество регионального минздрава), которые расходуют их по своему усмотрению на нужды пациентов. Но к концу года и эта история приходит к печальному финалу: выделенные деньги в клиниках кончаются. Еще чаще в клиниках попросту не хватает мест, чтобы принять всех нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Например, трансплантаций костного мозга детям делается вдвое меньше необходимого именно из-за отсутствия мест, а не денег.
Руководитель отделения трансплантации костного мозга РОНЦ им. Н. Н. Блохина, куда спустя полгода попадет Евгения Панина, Капитолина Мелкова с горечью замечает: «Порой выходит так, что квота и место в отделении появляются тогда, когда уже не нужны пациенту. Это не редкость, но пережить такое почти невозможно ни врачу, который уверен, что мог бы вылечить, по крайней мере, хотел попытаться, ни пациенту, которого бюрократическая проволочка или неправильно работающая система выдачи квот лишили шанса на жизнь. Сейчас, например, у меня четыре человека стоят в очереди на аллогенную трансплантацию – нет квот. Больше всего на свете мы боимся, что случится рецидив лейкоза и они этой квоты не дождутся. Понимаете? Рак не умеет ждать или стоять в очереди. С ним нельзя договориться. И очень тяжело сознавать, что ты как врач сделал всё и хотел сделать еще вот это и вот это, но времени не хватило, очередь подвела».
Кроме того, процесс переговоров региональных медиков с федеральными по-прежнему занимает долгое время, а переезд пациента из дома к месту лечения ни в какую квоту не входит. Значит, сперва надо искать деньги или возможность попасть на консультацию, дождаться места. По словам директора программ Санкт-Петербургского благотворительного фонда AdVita Елены Грачевой, главный дефект системы здравоохранения в России состоит в том, что до тех пор, пока человек не заболел, он верит, что у нас бесплатная медицина. Это иллюзия, которая сильно усложняет жизнь и больным, и чиновникам, и врачам. «Как только мы признаемся себе в том, что своевременно, качественно и в полном объеме получить онкологическую помощь в России невозможно, нам всем станет значительно легче. Это как с алкоголизмом: первый шаг к лечению – признание», – грустно улыбается Грачева.
В общем, чтобы начать лечиться от рака, надо очень постараться выжить в бесконечной очереди за право быть вылеченным. Евгении Паниной в каком-то смысле повезло. Ее, оглушенную диагнозом, поддержали взрослые и успешные дети: десятки звонков, сотни рекомендаций и, конечно, связи… Удивительная и очень русская формула успеха, позволяющая даже от рака лечиться по блату.
Всё понеслось, как в ускоренном кино: анализы, обследования, врачи, медсестры. Врачи говорят, что мне может грозить гемодиализ. Это то, чего я боюсь больше всего. Это страшнее даже слова «онкология». Диализ для меня – это инвалидность и асоциальность. Это значит, ты будешь обузой, лишишься работы и привычного образа жизни. В общем, кошмар.
Гемодиализ – метод искусственного, аппаратного очищения крови, заменяющий работу больных почек, не справляющихся со своей задачей. Во время процедуры гемодиализа пациент «прикован» к аппарату и не может двигаться. Сама процедура может длиться несколько часов. Иногда ее назначают на несколько дней, а иногда пациента регулярно подключают к аппарату несколько раз в неделю в течение нескольких месяцев или даже лет.
Чувство неизвестности всегда пугает. Я поняла, что буду выполнять все рекомендации врачей, я должна им полностью доверять. Но это дается тяжело, и ощущения просто ужасные: я до этого никогда не лежала в больницах, я – врач. Это я, как правило, назначаю лечение.
Страх неизвестности, пожалуй, самое главное (помимо страха смерти и страха самой болезни) чувство, охватывающее человека, впервые услышавшего слово «рак», относящееся к самому себе. Или к кому-то из близких. Помочь с ним справиться может только наличие твердого плана, составленного самим пациентом или, если повезет, пациентом совместно с лечащим врачом. Путь к составлению этого плана – набор простых действий, которые необходимо выполнить для уточнения диагноза и для понимания того, кто, как и в какие сроки будет помогать вам справиться с болезнью.
Для реализации первой части этого плана необходим подробный и долгий разговор с врачом. Для того чтобы он прошел с максимальной пользой, пациенту и/или его родственнику надо подготовиться.
Составьте подробный план разговора.
Уточните диагноз, запишите (или попросите написать врача), как он звучит в медицинских терминах.
Спросите врача об имеющейся у него информации о статистике, связанной именно с вашим диагнозом: что сейчас делают в мире, какие есть варианты у вас, что было с пациентами, которые получали подобное лечение.
Подробно расспросите врача о том, что и как он собирается рекомендовать вам в качестве лечения. Уточните этапы и сроки каждого из них. Обязательно спросите, сколько будет длиться каждый этап вашего лечения, какие могут возникнуть осложнения, к чему следует приготовиться.
Узнайте, каким образом (способом) врач будет оценивать результаты каждого этапа лечения и каких результатов он рассчитывает добиться.
Уточните, каким образом будет возможно контактировать с врачом и его командой в случае возникновения вопросов, с кем можно будет говорить, кому задавать вопросы, если по какой-то причине вашего врача не окажется на месте.
Спросите, могут ли случиться во время лечения осложнения, требующие экстренной помощи в круглосуточном режиме. Составьте с врачом алгоритм ваших действий на этот случай.
Вместе с лечащим врачом составьте подробный план вашей болезни, создайте «горизонт планирования», например: через полгода мы сможем оценить эффективность лечения, через год мы сможем начать разговор о наступлении ремиссии (выздоровлении).
Сохраните этот план, сверяйтесь с ним по ходу вашего лечения.
Этот план пригодится еще и для того, чтобы уточнить и сам диагноз, и выбранный вашим доктором способ лечения. Так надо сделать не потому, что вы не доверяете врачу или клинике, где вам сказали, что у вас рак, и даже сообщили, какой именно. Это нормальная практика. Называется «второе мнение». Ваше желание получить его не должно обидеть или поставить в неловкое положение вашего лечащего врача. Помните, даже опытные доктора советуются друг с другом. И чем квалифицированнее онколог, тем внимательнее он будет относиться к мнению авторитетных коллег. Вот как об этом говорит завотделением химиотерапии 62-й больницы Даниил Строяковский: «Нормальному современному онкологу всё время нужно сомневаться, пытаться услышать или узнать другое мнение, потому что свое мнение ты и так знаешь. Особенно следует интересоваться мнением тех коллег, которые могут с тобой поспорить. Разумеется, ситуация не всегда позволяет названивать или писать письма самым авторитетным людям в той или иной области – звонить таким людям я могу только в случае крайней необходимости. В этом смысле второе мнение – это, как правило, инициатива, исходящая от пациента. Мой же долг состоит в том, чтобы набрать у себя в клинике, у себя в отделении такую свою команду врачей, которые тоже опытные, не первый год работают, много видят и знают, а некоторые вещи знают лучше тебя. Для врача, повторю, это нормально – прийти к коллегам, посоветоваться и спросить: «А вы что думаете? А у тебя какое мнение?» В этом нет ничего сложного. Да я скажу вообще: а как иначе? Это жизнь человека. Если ты чего-то не знаешь или в чем-то сомневаешься, надо посоветоваться. Ты будешь всё равно принимать решение, но надо услышать другое мнение».
По словам онколога Андрея Павленко, ни один из заданных пациентом вопросов не должен и не может вызывать у грамотного доктора удивления или негодования. «Врач должен понимать, что пациент беспокоится о своем здоровье, а тактика лечения может сильно повлиять на прогнозы, – говорит Павленко. – Главное, что пациент должен получить от врача во время основной, профильной консультации, это ответ на вопрос: какую схему лечения и на основании каких гайдлайнов (алгоритмов, протоколов) мы будем применять? Доктор должен уметь ответить на этот вопрос и объяснить свой выбор, используя алгоритмы Российского общества клинической онкологии. Этого будет достаточно, чтобы понять, что врач в курсе современных онкологических тенденций, что он понимает, что и как с пациентом происходит, и, основываясь на современных научных достижениях, может предсказать, что будет происходить дальше. Но пациенту всегда надо помнить о том, что, если вдруг доверительных отношений с доктором или клиникой не возникнет, он не обязан доверять свою жизнь именно этому специалисту. У пациента есть право получить второе мнение и есть право самому выбрать врача».
Второе мнение, если вы пациент или родственник того, кто болеет, может и должно быть получено у доктора схожей квалификации и профиля с вашим лечащим врачом. В той же или другой клинике. Иногда пациенты предпочитают получить «второе мнение» за границей. Для этого все основные медицинские документы должны быть переведены как минимум на английский язык. Речь не о всех документах и анализах, накопленных за время болезни (или жизни) человека, – такое трудно, а порой и невозможно читать. Речь об основных этапах лечения. Всегда удобно, если у вас на руках есть короткое резюме (сделанное специалистом описание) болезни. Это не всегда эпикриз (медицинская выписка по итогам лечения), потому что за время болезни эпикризов из разных лечебных учреждений может накопиться много. Медицинское резюме может составить врач, может сам пациент или его родственники: в нем надо поэтапно описать, что, когда и где происходило, что было сделано. К каждому из описываемых этапов надо приложить документ (снимок, его описание, анализ, эпикриз).
Второе мнение может быть получено на очной (лучше) или заочной (только по документам, анализам и выпискам – то есть хуже) консультации. Второе мнение подразумевает план лечения, который может совпадать, а может не совпадать с тем, которое вам предложил ваш лечащий врач.
Хорошо, если диагноз и способ борьбы с болезнью, рекомендованные лечащим доктором, совпали с теми, которые предложил доктор «второго мнения». Если нет – принятие решения о том, как лечиться дальше, исключительно ваша ответственность. Никто не может за вас решить, как и у кого вы будете лечиться. Единственный возможный совет в этом случае – тот, который дает онколог Михаил Ласков: «Приняв однажды решение лечиться именно у этого конкретного доктора, надо довериться ему и начать с ним полностью сотрудничать. Сотрудничать не означает «слепо доверять». Доктор должен уметь объяснить каждое свое решение и должна быть возможность его обсудить. Не стоит менять врача и выбранный им способ лечения в процессе без крайне весомых оснований. Это только навредит пациенту и дестабилизирует ситуацию».
По словам адъюнкт-профессора Института онкологии имени Розвелла Парка (Баффало, США) Игоря Комана, «установление рабочего контакта – приоритетная задача и врача, и пациента, потому что в онкологии стандартных ситуаций не бывает. Совместное прохождение болезни, совместное рассуждение о лечении являются необходимыми. В этой конструкции, как правило, врач – ведущий, а пациент – ведомый, иногда они меняются ролями, что критически важно. Но самое важное заключается в том, что в конечном итоге ответственность за окончательное решение всегда лежит на пациенте. Задача врача – предоставлять максимальный объем информации и всегда иметь ссылки на источники своей информации. Пациент должен понимать, на чем основана рекомендация врача, но окончательное решение он принимает сам».
Спрашиваю: «Как пациент, не имеющий медицинского образования, может решать?»
Коман, ничуть не смутившись, поясняет: «Необходимость брать ответственность на себя – это проблема сакрального характера в России. Но в случае столкновения с онкологическим диагнозом она должна быть решена по мировому стандарту: решение за пациентом, только так».
Еще один важный вопрос, который необходимо решить до начала лечения: оно будет платным или бесплатным, в России или за границей. Часто одним из важных аргументов «за» лечение в России (помимо традиционного и действительно немаловажного: «дома и стены помогают») становится уверенность большинства граждан страны в том, что наше положенное по Конституции право на бесплатное лечение на практике реализуется в полном объеме. Это не совсем так.
«Людям, больным раком, практически всегда приходится доплачивать за лечение из своего кармана. Даже если не брать в расчет взятки, о которых мне мало что известно, то легальные деньги могут потребоваться буквально везде, – рассказывает директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова. – Есть затраты, которые государство вообще никогда не оплачивает: поиск и активация донора костного мозга для трансплантации, не зарегистрированные в России лекарства, терапия радиоактивным йодом для детей с нейробластомами. Есть статьи расходов, которые государство оплачивает, но с переменным успехом. Например, необходимые пациенту лекарства по бесплатным рецептам могут отсутствовать в аптеках, так как госзакупки в начале года еще не состоялись или в конце года закупленные за госсчет препараты уже закончились, и надо ждать нового года и нового бюджета. Бывает, что очередь на бесплатные анализы и обследования слишком длинная, и надо оплачивать очередное МРТ за свой счет. В конце года может закончиться финансирование, выделенное клиникам на оплату высокотехнологичных видов помощи. Есть траты, которых действительно избежать нельзя. Но есть и те, что можно предусмотреть или существенно снизить: несмотря на то, что государственное финансирование по факту не покрывает полной стоимости лечения от рака, очень важно оформить инвалидность и получить все полагающиеся от государства льготы.
Я очень не рекомендую отказываться от льготного лекарственного обеспечения в пользу денежной выплаты. Лекарства от рака стоят очень дорого. И даже если вы не получите от государства полного стопроцентного лекарственного обеспечения, стоимость полученных вами лекарств всё равно будет в разы выше, чем сумма, которую можно получить, отказавшись от натуральной льготы. На что именно потребуются деньги, спрогнозировать трудно. Но часть собственного лечения, даже если речь идет о том, что это лечение будет происходить в России, скорее всего, придется оплатить самостоятельно или с помощью благотворительных фондов.
Важно помнить: фонды не дают пациентам денег. Они самостоятельно закупают пациентам лекарства или оплачивают счета за лечение. Чтобы получить помощь, нужно отправить в фонд просьбу, сопроводив ее копией медицинского документа, который подтверждает, что запрашиваемое лекарство, обследование, операция назначены врачом. Также желательно объяснить, почему вы не можете получить необходимую помощь от государства (приложить копии запросов в региональное министерство здравоохранения, копии отказов от государственных органов, если они есть)».
Каким именно образом ответить на вопрос о том, где и за какие деньги лечиться в каждом конкретном случае, придется решить именно вам. Важно реально оценивать возможности семьи и суммы, которые могут потребоваться. И помнить, что порой ход болезни оказывается таким стремительным, что никакой сбор средств за ним не поспевает. Тогда важно как можно скорее начать лечение. И уже по ходу терапии думать о том, какие будут предприняты дальнейшие шаги.
Год назад мне позвонил незнакомый молодой человек из Волгограда, Виктор. Программист, 28 лет, трое детей-дошкольников, рак прямой кишки. В областной волгоградской больнице Виктору предложили стандартный для России протокол лечения. В совершенстве владея английским, Виктор прочел об экспериментальных методах, которые используют немецкие и израильские онкологи в лечении рака, с которым ему пришлось столкнуться. Виктор просил помочь ему со сбором средств.
Речь шла о нескольких десятках тысяч евро – сумма серьезная. Я обратилась за помощью к руководителю одного из немногих российских благотворительных фондов, помогающих взрослым. Ответ процитирую полностью: «На сбор такой суммы для взрослого уйдут недели, а может быть, месяцы. Протокол лечения, который предложен пациенту, – стандартный, довольно успешно (с доказанной эффективностью) применяемый в России. Да, возможно, экспериментальное лечение окажется более эффективным, а клиника в Берлине – комфортабельнее волгоградской. Но мы потеряем время. Рак не умеет «подождать, пока будут деньги». «Кроме того, – писала мне коллега, – онкологический больной в семье – это всегда расходы, немалые расходы, как минимум просто на жизнь: ведь надо всё равно кормить и одевать детей, покупать лекарства, которые не входят в квоту, словом – жить, в то время как один человек болеет, а другой не может полноценно работать, потому что за ним ухаживает». Я передала ответ Виктору. Вместе с женой они приняли решение лечиться в Волгограде. Это были девять очень трудных месяцев в их жизни. Денег, собранных друзьями в самом начале болезни Виктора, едва хватило на то, чтобы семья кое-как протянула эти девять месяцев его лечения, подразумевающих отсутствие заработка. В Новый год лечащий врач сообщил Виктору важнейшую новость: болезнь побеждена. Во многом успех этого лечения был связан с тем, что Виктор начал его вовремя, не тратя силы и время на сбор денег для лечения за границей.
Так или иначе, если вы приняли решение лечиться за границей или лечиться платно в России, то вам потребуются немалые средства, которых, возможно, нет или нет в полном объеме у вашей семьи. В этом случае необходимо продумать источники получения средств на лечение. Одним из способов может быть обращение в благотворительный фонд. Но следует помнить: экстренный сбор благотворительный фонд (взрослый или детский) на заграничное лечение может открыть только в одном случае: подобное лечение не может быть проведено пациенту дома. Решение «взять» или «не взять» пациента на сбор (то есть собирать или не собирать деньги) принимает экспертный совет фонда на основании устава и программ фонда. В экспертные советы российских благотворительных фондов обязательно входят врачи. Как правило, для принятия решения в российском благотворительном фонде требуются заключения от трех профильных специалистов, которые исходят из целесообразности и реальности соотношения цена/качество предполагаемого лечения и его прогнозируемого результата.
Грустное, но важное уточнение: пациенту-ребенку найти фонд, который мог бы оплатить лечение, будет легче, чем пациенту-взрослому. В России всего несколько фондов, которые занимаются помощью взрослым пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями. Если фонд не сможет помочь материально, там всегда посоветуют, «куда бежать». Вот простейший алгоритм поиска благотворительного фонда, который мог бы помочь вам в оплате лечения.
Найдите группу (сообщество) родственников (пациентов), борющихся с таким же диагнозом, как у вас, спросите, какие специалисты считаются лучшими в этой области, постарайтесь попасть к ним на прием.
Не стесняйтесь рассылать выписку вашего пациента (выпиской (эпикризом) называется заключение врача, поставившего диагноз. Как правило, к нему прилагаются снимки, анализы, результаты обследований и т. д.) во все клиники, которые найдете. Собирайте ответы, сравнивайте их.
Запросите во всех клиниках, куда вы посылали выписку, примерный план лечения с калькуляцией. Сравните стоимость. Внимательно прочтите, за что с вас предполагается брать деньги, является ли сумма, выставленная в счете, окончательной или приблизительной.
Убедитесь, что счет вам выставила сама клиника, в которую вы обращаетесь, а не коммерческий посредник.
Мобилизуйте все имеющиеся у вас материальные ресурсы для решения вашей проблемы: поговорите с друзьями, коллегами по работе, родственниками, которые могут прийти на помощь в этой сложной ситуации. Не стесняйтесь просить. Речь идет не просто о здоровье, но часто – о жизни и смерти, так что тут не до стеснения.
Найдите и заполните автоматическую форму на сайте всех тех благотворительных фондов, под критерии которых подходите вы (или ваш близкий-пациент).
Попросите у каждого из фондов, с которыми вы связываетесь, помощи в организации лечения. Дело в том, что, как правило, самим пациентам приходится запрашивать лечение в иностранной клинике, с ними работает коммерческий отдел или располагающаяся при клинике фирма-посредник. У российских благотворительных фондов уже существуют годами отработанные связи почти со всеми клиниками в мире.
Если от благотворительного фонда, куда вы обратились, в течение 10 дней нет ответа, не поленитесь позвонить или написать повторное письмо. Возможно, ваше обращение каким-то образом потерялось.
Не стесняйтесь предоставлять фондам ваши личные данные (фотографии). Рассказывая вашу историю, благотворительный фонд быстрее сможет собрать деньги.
Если сбор средств на ваше лечение ведет фонд, не собирайте деньги самостоятельно: это создаст путаницу и введет жертвователей в замешательство.
Сохраняйте все документы о тратах во время лечения, оплаченного благотворительным фондом: они могут понадобиться для отчетности.
И последнее. Если так получилось, что ни один благотворительный фонд не принял решения оплатить ваше лечение, но вы всё равно уверены в его необходимости, а денег, собранных по родственникам, друзьям и знакомым, не хватает, создайте сбор сами: обратитесь за помощью к известным людям, блогерам; предоставьте жертвователям полную информацию о диагнозе и о предстоящем лечении, ведите полную и максимально прозрачную отчетность и информируйте жертвователей о ходе лечения.
Вокруг много людей: бегут, спешат, разговаривают. Я, кажется, ни на секунду не остаюсь одна. Но одиночество какое-то оглушительное. Не знаю, что будет завтра, через месяц, думать боюсь о том, что будет… Очевидно только одно: теперь не я лечу, а меня лечат. Лечение началось, всё уже завертелось, заработало. А я всё еще никак не могу согласиться с этой простой формулировкой: Женя, у тебя рак.
Глава 4
Еще одно письмо, сыгравшее важную роль в проекте #победитьрак, я получила от Андрея Гудкова – профессора, доктора биологических наук, автора сотен научных трудов в области экспериментальной онкологии, молекулярной генетики и вирусологии, научного директора Института онкологии имени Розвелла Парка (Баффало, США), основателя и научного директора биотехнологических компаний Cleveland BioLabs, Incuron, Tartis, PanacelaLabs, одного из самых успешных российских биологов, работающих за границей.
Все эти титулы я перечисляю так подробно для того, чтобы было предельно ясно: больших высот Андрей Гудков добился в удивительной, но малопонятной обыкновенным пациентам области – системной биологии. Даже в среде специалистов и медиков «системщики» – небожители. Они не имеют дела ни с пациентами, ни с их бедами, ни даже с конкретными препаратами. На проблему рака такие ученые смотрят как бы сверху, комплексно, с точки зрения науки. Главная идея системной биологии состоит в том, чтобы наука о жизни совершила переход от редукционистского подхода (разборка будильника на винтики и шестеренки) к биоинженерному: когда из винтиков и шестеренок, вроде бы необходимых только будильнику, можно было бы сделать что-то полезное.
С точки зрения пациентов, биоинженеры занимаются чем-то глобальным, но как будто неощутимым: решают задачи, результаты которых, может, повлияют на нашу жизнь и здоровье в будущем, а может, и нет. Биоинженерию в целом это не очень заботит: наука, так принято считать, озабочена созданием системного подхода, не более. До какого-то момента чисто практические вопросы сцепки высокой науки и реальной жизни не волновали и Андрея Гудкова. Незадолго до нашей встречи всё переменилось. Именно об этой перемене мне и написал профессор Гудков.
Я никогда не собирался никого лечить. В юности мне даже казалось, что лечить – значит бороться с отбором, а значит и с эволюцией, давая шанс неудачным биологическим проектам. Я был абсолютно уверен, что если и стану заниматься патологией, болезнями, то разве что как моделями для понимания нормы. А потом два абсолютно разных фактора всё изменили. Первый – потеря близких, погибших от неизлечимых болезней. Мысль о том, что они отбракованы отбором как неудачные биологические проекты, оказалась кощунственной. Возникла известная всем нормальным людям ярость бессилия перед болезнью.
Второй фактор из области профессиональной: легко говорить и думать, что не интересуешься лечением, пока понятия не имеешь, как это сделать. Но когда твоя работа вдруг приводит тебя к решению, когда соединившиеся в голове точки превратили кашу в ясную, осмысленную картину и эта картина показала, что можно сделать, чтобы вылечить, – вот тогда создание лекарства превращается из измены фундаментальной науке в главный эксперимент твоей жизни: проверку верности твоей картины мира. И вот тут наступает ни с чем не сравнимое ощущение: ты поставил опыт и вылечил мышь. Твоя психология меняется навсегда. Ты оказываешься в пространстве прежде невиданных возможностей с уверенностью: ты можешь делать лекарства.
Мотивы, изложенные профессором Гудковым в письме, стали решающими в его согласии на интервью и участие в проекте #победитьрак: серьезные ученые, как правило, неприветливы с журналистами, опасаются быть неверно понятыми, перевранными, чрезмерно (до масскульта и потери смысла) популяризированными. Собственно, такие опасения были и у Гудкова. Что ответишь журналистке, начинающей интервью с вопроса: «Что такое рак?» Но ответственность большого ученого подразумевает еще и обязанность просвещать. И Андрей Гудков постарался терпеливо и доступно отвечать на все мои вопросы. Мне удалось убедить его в том, что они из категории тех, что волнуют каждого из нас, потенциальных или настоящих пациентов. Первым из них действительно стал вопрос: что такое рак?
«Рак – это социальная болезнь многоклеточного организма, разделенного на ткани. И это не метафора, это прямая аналогия, – говорит профессор Гудков. – Рак является аналогом возникновения преступности в обществе. Раковые клетки – это те, для которых главный, заложенный природой приоритет служения организму (хозяину) стал по важности вторым, или третьим, или даже нулевым, а главным приоритетом стало создание большого количества потомков. Ведь самый главный, отличительный принцип раковых клеток – делиться независимо ни от чего. И начав делать это, опухолевые клетки формируют сообщество-паразита на многоклеточном организме, паразита крайне примитивного, потому что они продолжают делиться, не думая о том, что это разрушит социум, который их породил.
Ведь что такое, по сути, наш организм? Это общество клеток, основанное на неких единых для всех моральных законах, которые все соблюдают. Общество, как правило, состоит из особей с разными профессиональными наклонностями, которые при этом все были когда-то детьми и друг от друга мало отличались. Но потом развили свои профессиональные качества и стали друг с другом взаимодействовать, занимая разные ниши, которые друг друга дополняют и позволяют обществу функционировать. Для того чтобы жить в обществе, нужно от чего-то отказаться, а с чем-то согласиться, например, что кто-то может быть богаче тебя, или кому-то разрешено иметь много детей, а тебе – нет. Или что тебе нужно ходить на работу в то время, в которое тебе хочется спать, и так далее. То есть ты всё время себя должен насиловать. Поэтому с детства нас учат, что труд – это хорошо, и со временем мы пытаемся это насилие перевести в удовольствие. С клетками происходит ровно то же самое. Рожденные совершенно одинаковыми, они разбиваются на разные ткани и решают, что каждая ткань будет помогать организму выживать».
Самой важной жертвой, на которую идет каждая добропорядочная клетка во благо организма, – это запрет на деление. Потому что потенциально каждая клетка, как любая форма жизни, внутренне хотела бы делиться, произвести себе подобных и таким образом усилить свое присутствие в мире. Вот этот внутренний запрет на деление и отличает клетку многоклеточного организма от клеток одноклеточных организмов, которые размножаются столько, сколько могут позволить им окружающие условия. Это принципиальное условие, принятое эволюцией при переходе от организмов одноклеточных к многоклеточным. И уступки, на которые идут клетки, – цена такой эволюции. Для того чтобы суть происходящего стала понятнее, профессор Гудков проводит аналогию между многоклеточными организмами и развитыми человеческими обществами: «В нашем сообществе есть много механизмов негативной регуляции: «не укради», «не прелюбодействуй», не делай такого, чем ты расстроишь соседа. Мы не воруем, не убиваем друг друга, то есть моральный закон переходит в закон гражданский, не дающий нам делать много такого, чего нам иногда хочется. Но и в нормальном обществе появляются люди, которые в силу социальной или генетической предрасположенности становятся преступниками и ведут себя асоциально, то же самое может происходить в многоклеточном организме с некоторыми клетками в силу генетических или эпигенетических (изменение в комбинации работающих генов) изменений, которые делают ее глухой к запретам. Такая клетка начинает реализовывать свое тайное желание делиться. И начинает делиться. Ее потомки, унаследовавшие это свойство, создают такую микропопуляцию – воровскую малину, из которой уже начинается отбор от плохого к худшему. И этот набор называется опухолевой прогрессией. В конечном итоге это и приводит к тому, что люди называют рак».
Важно понимать, что эти глобальные изменения в «морали» (степени вредоносности клетки для организма) происходят не в одну секунду. Точно так же, как любой человек, которому предстоит стать преступником, вряд ли таковым рождается. Все происходит постепенно: не перевел бабушку через дорогу, украл деньги у соседа по парте, обидел девочку, угнал автомобиль, а дальше покатился по наклонной. Однако в мире многоклеточного организма критерии «плохой – хороший» еще больше спутаны, чем в гражданском обществе, поясняет Андрей Гудков: «Мы начинены миллионами клеток, которые уже на пути в сторону рака, но они еще не стали опухолью, они нас не могут убить. Ведь люди тоже бывают хорошие и плохие, а плохой человек – не обязательно преступник, мало того, иногда даже бывает, что его плохие качества не очевидны, скрыты от глаз или же просто не могут быть пресечены существующей системой общественных ограничений. Так же есть клетки уже плохие, мы их называем предраковыми, но они должны приобрести еще много изменений, прежде чем станут злокачественными».
Сколько изменений должно произойти в клетке, прежде чем она станет раковой? Что ее к этому подтолкнет? Можно ли ее остановить в начале или середине пути, до того, как всё станет необратимым? И надо ли знать все эти сложные и наукоемкие детали обыкновенному пациенту?
Взгляд на эту проблему широк, у ученых и врачей нет единого мнения. Каждый из тех, кому я задавала этот вопрос, имеет свою, отличающуюся от коллег, точку зрения, которая в одинаковой степени и приближает, и отдаляет нас от понимания того, как, когда и почему происходит роковой сбой, который потом становится болезнью, раком.
АЛЕКСАНДР КАРАЧУНСКИЙ, ПРОФЕССОР: Самое главное то, что отдельного такого заболевания, которое мы называем словом «рак», нет. Есть группа совершенно разнообразных и часто резко отличающихся друг от друга болезней с абсолютно разным биологическим поведением. Само слово «рак» в том значении, в котором его употребляет большинство пациентов, большинство обывателей, – это очень общее понятие, которое отражает большую группу самых различных заболеваний. У этих заболеваний общее только одно: неудержимо размножаются злокачественные клетки, которые собой замещают нормальные органы и не дают им нормально работать. И которые могут не только расти и за счет своего роста и объема нарушать работу органов человека, но которые могут метастазировать, то есть поражать другие органы в самых отдаленных местах. Поэтому, когда мы говорим о том, что у человека рак, всегда очень важно понять, о чем идет речь, о какой конкретной клинической ситуации, о конкретной группе риска и о конкретной стадии процесса. Потому что в современном мире, в современном научном подходе рак – это очень общая вещь. И, безусловно, до конца причины и предпосылки возникновения этой внутренней катастрофы в организме непонятны. Но в некоторых случаях, при некоторых формах рака, значение имеет, в том числе, и вирус.
АЛЕКСЕЙ МАСЧАН, ПРОФЕССОР: Если говорить в научном, научно-популярном смысле, то рак – это размножение клеток, утративших, по крайней мере, часть своих нормальных физиологических функций: их размножение не контролируется теми механизмами, которые в норме в человеческом организме должны контролировать размножение. Кроме того, рак – это комплекс признаков, которые этим клеткам свойственны: отсутствие чувствительности к влиянию своего окружения (они не слушаются своих соседей), способность отрываться от основной опухоли и, то, что мы называем метастазировать, то есть расти в тех местах, в которых этим клеткам расти не положено и где в норме они расти не могут. Например, легочные клетки не должны размножаться в головном мозге, в лимфатических узлах и так далее. То есть эти клетки несут некоторые фундаментальные признаки, которые отличают их от клеток нормальных. Приводит это к тому, что эти клетки либо сдавливают жизненно важные органы, либо вызывают такое нарушение обмена веществ у человека, которое несовместимо с жизнью, либо поражают, метастазируют в жизненно важные органы. Клетки, которые лишены своих нормальных биологических функций и называются раковыми, в конце концов губят тот организм, в котором они зародились.
ЛЕВ ДЕМИДОВ, АКАДЕМИК: Рак – это системное заболевание организма, которое, с моей точки зрения, является следствием старения самого организма и старения иммунной системы, то есть биологического старения человека. Существует определенная статистика, она была предложена американскими эпидемиологами, которая четко показывает связь возраста и заболевания раком. Например, люди молодого возраста (до 40 лет) достаточно редко болеют: примерно, по данным той статистики, один на 60 человек. С взрослением (от 40 до 65 лет) плотность заболевших увеличивается, их становится 15 из 60 человек, то есть каждый четвертый. После 60 – каждый третий и так далее. Другой вопрос заключается в том, что не каждый доживает в наше время до своего рака. Есть еще огромное количество причин, от которых люди умирают.
МИХАИЛ МАСЧАН, ПРОФЕССОР: Рак – это болезнь, но это еще, на мой взгляд, некоторый естественный механизм окончания жизни, который, опять же на мой взгляд, заложен в саму суть функционирования живых клеток. В то, как мы устроены, заложен, к сожалению, этот механизм. Я представляю себе это так, что рак – это болезнь, которой часто заканчивается жизнь современного человека, который перестал умирать от инфекций и меньше стал умирать от войн и от голода. Он стал доживать до естественных процессов, приводящих к смерти, это задуманный и созданный природой механизм окончания жизни.
Но ведь раком болеют не только пожилые люди. Болеют и младенцы, и подростки, и молодые люди. Получается, что, запуская механизм смерти, эту бомбу замедленного действия, сама природа ошибается? Что подталкивает ее к этой ошибке? В какой момент начинается рак? Можно ли этот момент зафиксировать и тем самым остановить болезнь, не дать ей шанс? И какие знания о болезни могут приблизить пациента и его родственников к пониманию того, что происходит, и, возможно, к выздоровлению?
КАПИТОЛИНА МЕЛКОВА, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК: Есть несколько теорий развития рака. Но всех, конечно, прежде всего интересует вопрос, почему он развивается конкретно у того или иного человека. У родственника или у самого пациента. На этот вопрос очень редко когда можно ответить однозначно.
Я, конечно, понимаю, что в этой книге, как бы мне ни хотелось, всех аспектов и тонкостей онкологических вопросов мне, непрофессионалу, не охватить. Но я глубоко убеждена, что некоторые базовые знания будут полезны читателям. Так или иначе мне придется использовать профессиональные термины, а тем, кто читает, с этим смириться. Но ведь в обычной жизни самим пациентам и их родственникам так часто приходится слышать от врачей какие-то непонятные слова. Из-за нехватки времени доктор не всегда поясняет то, о чем говорит. А пациент от смущения, страха или из-за обыкновенной неуверенности и подавленности не переспрашивает.
Вместе с онкологом Михаилом Ласковым мы составили небольшую памятку: базовые сведения об онкологических заболеваниях и их разновидностях. Эти простейшие знания, надеемся, помогут ориентироваться и в своем заболевании, и в болезни близких, а также пригодятся для разговора с врачом, понимания и уточнения диагноза.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯНазвание «рак» произошло от введенного Гиппократом термина «карцинома», потому что ее рост в окружающие ткани внешне напоминают конечности краба. Римский врач Авл Корнелий Цельс в I в. до н. э. ввел первые рекомендации по оперативному лечению злокачественных заболеваний и перевел термин «карцинома» на латынь, отсюда появилось название «cancer».
Под термином «рак» в быту подразумевают любую злокачественную опухоль, а в профессиональной среде – только опухоли, которые происходят из эпителиальных клеток (кожа, слизистые, покрытие бронхов и другие ткани, которые отделяют тело от внешней среды).
«Онкос» – опухоль. Опухоль может быть как доброкачественная, так и злокачественная, хотя эти понятия в последние годы изрядно перемешались.
Доброкачественная опухоль. Клетки такой опухоли имеют способность к делению и росту сверх необходимого, но редко меняют структуру и функции окружающих тканей и, обычно, не дают метастазы. Эти опухоли, как правило, не критически опасны для жизни. Для жизни опасны именно злокачественные опухоли.
Многие злокачественные опухоли объединяют похожие свойства:
– быстрый неконтролируемый рост;
– низкая по сравнению со здоровыми клетками организма степень зрелости: как правило, чем ниже степень зрелости клеток, тем злокачественнее опухоль (быстрый рост, раннее метастазирование);
– прорастание («инвазия», «инфильтрация») в окружающие органы и ткани;
– склонность к метастазированию в другие ткани и органы;
– выработка токсинов, подавляющих противоопухолевый и общий иммунитет, способствующих развитию интоксикации, истощению, депрессии;
– способность быть невидимыми для иммунитета;
– наличие в опухолевых клетках механизмов, позволяющих им выживать в неблагоприятных условиях.
По типам опухоли делятся на солидные (ударение на букву «О») и гематологические.
Солидная опухоль, или твердая опухоль – то, что можно «взять в руки», увидеть глазом.
Карцинома – вид злокачественной опухоли, развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов.
Гемобластозы, онкогематология, миелопролиферативные заболевания, лимфопролиферативные заболевания, лейкемия – все эти термины описывают различные злокачественные опухоли кроветворной системы.
Лейкоз – злокачественное заболевание кроветворной системы, а точнее костного мозга, которое характеризуется размножением незрелых клеток – бластов и которое часто неправильно называют «раком крови».
Лимфома – заболевание лимфатической ткани (например, лимфоузлов или селезенки), характеризующееся бесконтрольным делением «опухолевых» лимфоцитов и их накоплением в лимфоузлах и органах.
Саркома – группа злокачественных опухолей, развивающихся из соединительной (то есть не выполняющей какие-то функции, а соединяющей важные органы и помогающей связям между ними) ткани, костной (остеосаркома), хрящевой (хондросаркома), мышечной (миосаркома), жировой (липосаркома), стенок сосудов.
Разумеется, есть более тонкая классификация опухолей, связанная с местом локации, агрессивностью, чувствительностью к лечению, а значит – прогнозом.
Но приводить здесь все возможные варианты – значит писать учебник по онкологии. Знание базовых понятий помогает вникнуть в суть диагноза в достаточной степени, чтобы вместе с врачом сражаться с болезнью.
Итак, для того чтобы понимать, на каком вы (или близкий вам человек, или тот, кому вы решили помогать) свете, надо, помимо диагноза, знать еще и стадию, на которой был обнаружен рак.
Стадия указывает на распространенность опухоли; определяется размером, местоположением, наличием метастазов.
Иногда в России говорят «степень» вместо «стадии». Это не совсем правильно. Степень – это то, что в международной терминологии называется grade: по-русски – степень злокачественности.
Традиционно стадии рака принято обозначать от 0 до 4, хотя для некоторых заболеваний (например, опухолей мозга) есть совершенно отдельные системы стадирования.
Как таковой нулевой стадии не существует, ее называют «рак на месте», «carcinoma in situ» – что означает неинвазивную, то есть очень маленькую опухоль, которая еще никуда не проросла. Такую ситуацию можно сравнить с весенним первым сорняком, который можно вырвать двумя пальцами и забыть. При раннем обнаружении и своевременном начале лечения болезнь практически всегда излечима.
Первая стадия рака характеризуется более крупным опухолевым узлом, но отсутствием значительного прорастания в пораженный орган, поражения лимфатических узлов и отсутствием метастазов. Если продолжать «зеленое» сравнение, то на первой стадии наш сорняк можно прополоть тяпкой и тоже, скорее всего, про него забыть. Прогноз при первой стадии рака благоприятный, пациент может рассчитывать на излечение, главное – как можно быстрее начать адекватное лечение.
На второй стадии рака опухоль уже проявляет свою активность: ее размер больше, она глубже прорастает в окружающие ткани. Чтобы удалить этот сорняк, надо потрудиться, убедиться, что удалены все корни. Как правило, прогноз при этой стадии зависит от многих факторов: расположение опухоли, гистологические (то, что показали лабораторные исследования под микроскопом) особенности опухоли.
На третьей стадии происходит активное развитие онкологического процесса. Опухоль достигает уже больших размеров, прорастая в ближайшие ткани и органы: достоверно определяются метастазы в близлежащие лимфоузлы. Однако третья стадия не предусматривает отдаленные метастазы в различные органы. Именно это отличает ее от четвертой стадии и позволяет надеяться на излечение. На это также влияет расположение, степень злокачественности опухоли и общее состояние пациента. Все эти факторы могут либо усугубить течение болезни, либо, наоборот, помочь продлить жизнь или выздороветь.
Четвертая стадия считается самой серьезной. Опухоль может достигать внушительных размеров, хотя не всегда. Главное – она теперь метастазирует не только в лимфатические узлы, но в соседние и отдаленные органы и ткани (отдаленные метастазы). На четвертой стадии рака болезнь принимает хронический характер течения, и в большинстве случаев возможны только контроль и временная приостановка болезни, но не полное излечение.
Стадии – это важный, но не единственный фактор прогноза злокачественной опухоли. И бывает, что в некоторых случаях пациенты с четвертой стадией (например, рака предстательной железы) живут гораздо дольше, чем больные с первой стадией (например, рака поджелудочной). Поэтому нельзя ориентироваться только на стадию, обсуждайте прогноз заболевания с доктором в целом, не зацикливаясь исключительно на стадии.
Стадий не бывает у некоторых злокачественных заболеваниях крови, например при остром лейкозе, который не растет в виде узлов. Он возникает в костном мозге, в крови и сразу появляется во всей кроветворной системе. Англичане очень удачно называют подобные опухоли жидкими. В противовес к солидным (твердым), о которых мы говорили выше. Лейкозы отличают в зависимости от того, какие именно клетки крови превратились в раковые. Бывает несколько видов лейкозов: лимфолейкоз (дефект лимфоцитов), миелолейкоз (нарушение нормального созревания гранулоцитарных лейкоцитов). Также лейкозы делят на острые и хронические. Острые лейкозы вызывает неконтролируемый рост молодых (незрелых) клеток крови. При хроническом лейкозе резко увеличивается количество более зрелых клеток. Острые лейкозы протекают гораздо тяжелее, чем хронические, и требуют немедленного лечения.
В ходе лечения онкологического заболевания доктора, как правило, стараются достичь регрессии (редукции) опухоли. Речь идет об уменьшении солидной опухоли в размерах. Полная регрессия (полный ответ) означает, что опухоли совсем не видно, частичная – что есть остаток.
В лечении лейкозов и лимфом главная цель – ремиссия. Так называют состояние, когда признаков злокачественного образования не обнаруживается.
Рефрактерным называют рак, который не отвечает ни на какую терапию. Рецидивом называется возвращение болезни.
Ремиссия может длиться всю жизнь. Когда ремиссия длится пять лет и более при некоторых заболеваниях (например, при остром лейкозе), мы можем говорить о полном выздоровлении от болезни. Дело в том, что в онкологии существует такое понятие, как «пятилетняя выживаемость» – как правило, в этом случае имеется в виду конкретное количество пациентов, в течение пяти лет не вернувшихся к болезни. «Часто, – рассказывает онколог Михаил Ласков, – пациенты принимают за пятилетнюю выживаемость количество лет, которые им предстоит прожить после получения диагноза. Но это не так. Если говорить профессионально, то в основном рецидивы онкозаболеваний развиваются в течение первых двух лет. А потом их количество резко снижается, после пяти лет практически приближаясь к нулевой отметке. Эти понятия больше для статистики, чтобы врачи могли соразмерить эффективность лечения, но нередко термин применяют в разговоре с пациентами».
В зависимости от того, какой диагноз поставлен, будет выбран и способ лечения.
Как правило, выбирать врачу приходится из понятного набора:
хирургическое вмешательство, то есть операция: полное или частичное удаление опухоли;
химиотерапия;
лучевая терапия (облучение пораженных опухолевыми клетками участков);
гормональная терапия;
таргетная терапия (один из новых методов прицельной, точечной борьбы с опухолью, о котором мы подробно еще поговорим в этой книге);
иммунотерапия (сверхсовременный метод лечения, связанный с «тренировкой» собственных клеток, обучением их бороться с болезнью; об этом виде терапии мы тоже будем много говорить ниже).
Часто для достижения нужного результата доктора используют несколько методов одновременно. Например, сперва пациенту проводят курс химиотерапии или лучевой терапии, чтобы уменьшить опухоль до размеров, с которыми будет легче справиться хирургу. Или наоборот, после проведения хирургической операции «химичат» и «облучают», чтобы лишить злокачественные клетки шансов на возвращение.
Стратегия лечения не может быть описана общо, в каждом конкретном случае у каждого конкретного человека свой рак. И бороться с ним придется индивидуально.
Я постаралась коротко и внятно изложить лишь опорные понятия, которые, надеюсь, помогут освоиться в теме. Ведь самая главная и самая болезненная проблема, с которой сталкивается человек, получивший диагноз «рак», – это чувство беспомощности, возникающее от непонимания того, что происходит.
Увы, никакого универсального метода, способного объяснить, почему именно этот конкретный человек встречает на своем пути именно этот рак, как ни старалась, я не нашла. Хотя первое время мне казалось, что я то ли недопонимаю своих собеседников, то ли врачи и ученые недоговаривают. В обыкновенную логику обыкновенного человека никак не укладывается это стечение обстоятельств: вчера человек был здоров, строил планы, расстраивался по пустякам и им же радовался. А сегодня – рак. И всё летит к черту. Что-то же должно произойти в организме, чтобы клетка перестала подчиняться общему закону, «слетела с катушек», стала злокачественной и потащила за собой все остальные?
Онколог Михаил Ласков полагает, что «люди часто придумывают понятные, простые причины для того, чтобы объяснить это себе самим, такое уж свойство психики: упал, много говорил по телефону, много на себя брал. По своей практике могу сказать, что есть достаточно устойчивый набор причин, которыми мои пациенты объясняют для себя появление опухоли, но в реальности приходится признать, что в 90 % случаев мы не знаем, откуда это берется. Не то чтобы этот вопрос не интересует ученых, но просто пока, кроме маленького количества наследственных мутаций, которые в 10 % случаев всех опухолей являются причиной болезни, ничего не понятно».
«Рак – это всегда каскад событий, последнее из которых приводит к раковой клетке, способной к формированию опухоли. Начинается это всё с предраковой трансформации, когда клетка теряет некоторые из своих функций, например функцию так называемой дифференцировки, – рассуждает профессор Алексей Масчан. – То есть через несколько стадий перехода из нормальной клетка превращается в ненормальную. Например, клетки крови. Есть стволовая клетка, есть зрелый лимфоцит, между этими клетками существует множество стадий развития. И если на какой-то из стадий происходит выключение программы дальнейшего развития, клетка становится недодифференцированной, но пока еще не злокачественной. Затем должен быть нанесен второй удар, и эта клетка должна получить возможность неконтролируемо размножаться. И только в такой ситуации мы получаем полновесное злокачественное новообразование. Более того, даже возникшая уже и диагностируемая раковая опухоль продолжает эволюционировать. В ней накапливаются вторичные, третичные, четвертичные события, которые делают ее всё более и более злокачественной. А на клиническом уровне мы это очень четко можем проследить, когда видим больных с рецидивами злокачественных опухолей. Каждый раз рецидив гораздо более устойчив, скажем, к химиотерапии, чем первичная опухоль. Это значит, что опухоль сама по себе продолжает мутировать, что она «умна» и развивается».
Вроде бы всё более-менее понятно. Но я опять и опять возвращаю разговор к отправной точке: можно ли поймать момент, когда всё ломается? Обывателю, журналисту – любителю красивых параллелей, мне кажется, что по аналогии с зачатием человека, с формированием эмбриона, должен существовать в природе такой же наглядный и пригодный для объяснения процесс появления раковой клетки.
Масчан пожимает плечами. Универсального ответа действительно не существует. Мы можем только предполагать, что происходит в организме. Но того, что повлекло за собой этот каскад событий, так и не знаем. «К первичной поломке приводит чаще всего несовершенство работы генетического аппарата. Дело в том, что либо в ходе репликации ДНК при подготовке к делению, либо в результате различных повреждающих воздействий (например, радиация или канцероген) клетки могут приобрести мутацию, то есть ошибку в своем геноме. Если такая мутация случится в гене, участвующем в контроле размножения клеток, то клетка уже не способна себя полностью контролировать и становится предопухолевой. Но в норме клетка, которая приобретает генетически опасное событие, должна умереть либо сама по себе в результате самоубийства (см. «Апоптоз»), либо быть убитой иммунной системой. Таким образом, получается, что каждую секунду каждый из нас «немножко заболевает» раком, но благодаря внутренней системе многоступенчатого контроля организма этот рак как будто бы самоизлечивается. И только когда мутация, придающая клетке способность активно размножаться, когда не положено, совпадает с возможностью уклониться от гибели, вот такое событие и становится пусковым механизмом болезни, которую мы называем раком. Так что одного события, «включающего» рак, просто не существует», – поясняет Алексей Масчан.
По мнению другого онколога, брата профессора Алексея Масчана, тоже профессора, Михаила Масчана: «нет такого одного события, нет такой одной поломки, которая бы приводила к онкологическому заболеванию. Должно произойти еще много дополнительных событий. Грубо говоря, если представить себе эту, уже подвергшуюся потенциальной опасности (то есть где-то произошел какой-то сбой) клетку в образе несущегося по трассе автомобиля, то для того чтобы этот автомобиль неминуемо потерпел крушение, то есть не просто попал в аварию, когда отвалилось одно колесо, а вот со стопроцентной вероятностью разбился вдребезги, нужно, чтобы у него на этой скорости сломалось много чего: колесо, мотор, руль, фары и так далее. Так и с клеткой: чтобы она из обыкновенной превратилась в раковую, должно произойти довольно большое количество не связанных и не вытекающих одна из другой поломок. Есть исследования, согласно которым от трех до десяти независимых событий, независимых поломок должно произойти, прежде чем клетка станет раковой, размножится и превратится в опухоль, такую, которую мы называем раком. Поэтому одного стартового события не существует. Эти первые поломки могут происходить многократно в течение жизни человека. Они и происходят не так уж и редко. И, как правило, не приводят к раку».
А что тогда приводит? Может быть, какие-то внешние причины? Может, совпадение внутренних процессов в организме с какими-то внешними обстоятельствами? И существует ли так многократно проскальзывающая в прессе и в обывательских разговорах связь: «Стресс – депрессия – рак»? Академик Давыдов, отвечая на этот вопрос, поначалу недовольно вздыхает: это из области иррационального, официальная медицина этим не занимается, таких исследований в России нет. Но потом в разговоре припомнит: «Мне часто приходилось слышать от своих пациентов, что они сами связывали свое заболевание с гибелью ребенка, с гибелью родных и близких, и степень переживания была таковой, что, как они считали, возникала опухоль. Мы можем обратиться к опытам нашего великого соотечественника, нобелевского лауреата академика Павлова, я имею в виду его опыты с собаками с целью получить стрессорную язву путем электрошока, когда напоенная солевым раствором собака хотела пить, видела воду, но боялась пить, потому что ее бил электрод по носу. Эту часть эксперимента знают и помнят все. Но не все знают, что в результате опытов у половины собак возникли острые язвы, а у половины – опухоли. Вот вам и некий ответ. Поскольку механизм реализации опухоли, как мы сегодня знаем, вызван геномными нарушениями, то вполне логично связать длительный стресс и поломку генома, перестройку функций генома и, как следствие, возникновение злокачественных опухолей. Только пока достойных внимания научных работ по этому вопросу не написано. А даже если бы были написаны, то какова их практическая польза? Не нервничать?»
Онколог Михаил Ласков рассуждает: «За первые 50 лет прошлого века мир пережил две катастрофические войны, аналогов которым не было и, надеюсь, никогда не будет в истории. Между этими войнами и во время них – геноциды, серийный террор, революции, репрессии, массовое переселение народов. Стресс? Не то слово. Но пока нет данных, что то поколение значительно больше других болело раком. Значит, наверное, причина в чем-то ином. С другой стороны, нельзя сказать, что психологическое состояние никак не влияет на исход уже заболевших. Доказано, оптимизм помогает вылечиться, и понятно как. Люди с позитивным отношением лучше выполняют назначения, активнее, подвижнее, лучше следят за собой и своими симптомами и за счет этого у них лучше шансы».
Споры о том, существует ли прямая связь между психологическим состоянием человека и вероятностью того, что он заболеет раком, ведутся приблизительно столько же, сколько доктора занимаются активным поиском способов его лечения.
Еще в 1759 году один английский хирург писал о том, что, по его наблюдениям, рак сопровождает «жизненные катастрофы, приносящие большое горе и неприятности».
В 1846 году другой англичанин, крупный онколог своего времени Уолтер Хайл Уолш, комментируя отчет британского министерства здравоохранения, в котором говорилось: «… умственное страдание, внезапные перемены судьбы и обычная мрачность характера представляют собой самую серьезную причину болезни», от себя дописал: «Мне приходилось встречать случаи, в которых связь между глубоким переживанием и болезнью казалась настолько явной, что я решил: ее оспаривание будет выглядеть как борьба со здравым смыслом».
Поставить точку в научном споре о влиянии стресса на развитие опухоли попытались в начале 1980-х ученые из лаборатории доктора наук, психолога Мартина Селигмана. Суть эксперимента состояла в том, что подопытным крысам ввели раковые клетки в количестве, способном убить каждую вторую крысу. Затем животных разделили на три группы. Первую (контрольную) группу крыс после введения раковых клеток оставили в покое и больше не трогали. Вторую группу крыс подвергали слабым бессистемным ударам тока, которые они не могли контролировать. Животных третьей группы подвергали таким же ударам тока, но обучили возможности избежать последующих ударов (для этого надо было сразу нажать на специальную педаль). Результаты эксперимента лаборатории Селигмана, опубликованные в статье «Tumor Rejection in Rats After Inescapable or Escapable Shock» (Sciеnce 216, 1982), произвели на ученый мир большое впечатление: крысы, получавшие электрошок, но не имевшие возможности его избежать, были подавлены, потеряли аппетит, перестали спариваться, вяло реагировали на вторжение в их клетку. 77 % крыс из этой группы к концу эксперимента погибли. Что касается первой группы (крысы, которых оставили в покое), то, как и предполагалось при вводе раковых клеток, в конце эксперимента погибла половина животных (54 %). Однако поразили ученых крысы из третьей группы, те, которых научили управлять электрошоком: 63 % крыс из этой группы избавились от рака. О чем это говорит? По мнению исследователей, не стресс сам по себе – электрошок – является причиной развития опухоли. Постоянное ощущение беспомощности, подавленность – вот питательная среда для болезни.
Сколько себя помню – в детстве, в школе, в юности, я все время боялась огорчить, подвести и разочаровать свою маму. Моя мама – человек с невероятно сильным характером и непоколебимой уверенностью в том, как именно правильно себя вести, что правильно, а что неправильно делать. Мама, конечно, была авторитарным человеком, мне пора с этим согласиться. Всю мою жизнь надо мной довлело мамино предостережение: «Женя! Смотри! Что люди скажут!» Я выросла в страхе этого «чего-то», что могут сказать или подумать люди.
Мама была преподавателем в университете. И это тоже, конечно, многое добавляло к ее гиперболизированной требовательности ко всему, что могло быть когда-нибудь и кем-нибудь обсуждено в отношении нашей семьи.
Я помню, как оступился отец: уехал в Москву, оставив нас с мамой. Теперь только понимаю: он, рано обзавевшийся семьей, в общем-то, талантливый и амбициозный молодой человек, хотел попробовать реализовать себя в большом городе, хотел построить карьеру, добиться успеха. Ему казалось, что без семьи начать будет легче. Этого побега за мечтой мама ему никогда не простила. Я не знаю, чего ей это стоило. Она очень любила папу. Но впечатление, которое вся эта история производила на людей, на коллег, на соседей, и вот это «что люди скажут!» – оказалось важнее. Когда он ушел, ее спина стала только еще прямее, хотя нам было очень тяжело. Когда он вернулся и она его не приняла, я видела, она думает о том, что люди скажут: «Молодец, не сломалась, не поддалась на уговоры ветреного человека». Как же ей было важно думать, что она победила!.. Как это было важнее всего остального…
…Я помню, как быстро и решительно я вышла замуж. Это было возможностью убежать из-под тотального маминого контроля, начать свою жизнь. Но жизнь эта не сложилась. Мой муж оказался неплохим, но совершенно не приспособленным к семейной жизни человеком. Ни рождение дочери, ни какие-то попытки склеить всё, начать с самого начала не помогали. Я понимала, что развод неизбежен. Мне нелегко было самой себе признаться в том, что моя семейная жизнь потерпела крах. Но я набралась мужества и признала этот факт. Труднее было сказать об этом маме. Господи, как же мне нужна была тогда ее поддержка! Мне почему-то казалось, что мама поймет, пожалеет, погладит по голове, поможет пережить эту катастрофу. Я сказала маме о том, что, возможно, я разведусь. И в ответ вместо хотя бы минимальных слов поддержки услышала: «Ты с ума сошла! Женя! Что люди подумают?!»
Мы уже не жили с мужем, вынужденно переехала к маме. Но и в этот трудный момент мама не разговаривала со мной, она проходила мимо так, будто бы меня не было, не существовало. Мой муж время от времени приходил и требовал продолжения семейной истории. И мама всегда была на его стороне. Ей казалось, что необходимо сохранить мою, пусть и несчастливую внутри, но вполне благополучную внешне, семью всеми доступными средствами. Она поддержала моего мужа даже тогда, когда он выкрал из ящика «До востребования» мою переписку, совершенно, впрочем, не романтического характера, с давним школьным приятелем и использовал эту переписку для шантажа. Она поддержала его даже тогда, когда я на несколько дней, на Новый год, вырвалась к друзьям в соседний город, а мой муж в это время попытался через суд лишить меня родительских прав. Моя мама была на его стороне. Ей казалось, это удержит меня от развода.
Помню, как мой муж попытался в очередной раз напугать меня, манипулируя ребенком. Как он позвал нашу дочь Соню со двора, сказал ей: «Собирайся, дочка, мы с тобой уезжаем». Соня испугалась, стала плакать, а он настаивал: «Быстро собирайся, а то поезд уйдет». У меня до сих пор стоит перед глазами кухня, на которой всё происходит, и плачущая Соня, запихивающая свои вещички и игрушки в хозяйственную авоську… И я хорошо помню дикое ощущение беспомощности загнанного в угол человека, которое меня тогда охватило.
Теперь я думаю, возможно, что-то и можно было поправить в нашем браке. И, возможно, мы действительно смогли бы начать сначала. Но мамино давление, ее бесконечное пристыживание, ее полное неверие в то, что я смогу выкарабкаться, в то, что я сильная, что я порядочная, а не такая, как она говорила… Это мамино давление в конце концов довело всё до того, что я хотела развестись любой ценой. Просто чтобы доказать ей, что я могу быть выше всех этих «что люди скажут!»
Слава богу, я встретила Сергея, своего нынешнего мужа. Если бы не он, наверное, я никогда бы не смогла разорвать этот порочный круг бесконечных унижений, подозрений и оскорблений со стороны бывшего мужа и мамы. Очень хорошо помню, как однажды я услышала, как мама говорила пришедшей в гости подруге о моем возможном разводе: «Если она это сделает, видит Бог, прокляну». Эта фраза, произнесенная к тому же с такой ненавистью, звенела у меня в ушах, когда я выходила замуж за Сережу. Эта же фраза звенела у меня в ушах, когда родилась моя младшая дочь Алена… Потом выяснилось, что она больна и потребуется операция, и еще одна операция. И потом еще я часто вспоминала эту мамину фразу, когда нашей Аленке срочно потребовалась операция на сердце и ее, двухлетнюю девочку, на несколько месяцев оторвали от меня, поместив в больницу. Это были тяжелые времена: я не понимала, выживет Алена или нет, по правилам больницы я не могла находиться с ней рядом, я умирала от страха каждую минуту своей жизни. И я помнила эту мамину фразу: «Если она это сделает – прокляну».
Почему-то все эти эпизоды – внушенный мамой страх «что люди подумают», уход папы, мой собственный развод, мамино «прокляну», моя плачущая старшая дочь и мое сердце, которое не может всего этого вынести, моя младшая дочь, больница и страх, страх, страх, и ежедневное чувство вины, с которым я живу, кажется, с рождения, – вот это я вспоминаю сейчас, думая о том, с чего всё началось. Что могло загнать меня настолько в угол, чтобы появился рак. Почему-то с самого первого дня мне кажется, что это какая-то одна цепь событий. И она должна была к чему-то привести. К какой-то развязке.
Ответ на вопрос, почему именно ее рак выбрал своей мишенью, почему именно в нее вцепился и что же такое произошло в прежней жизни, что позволило раку с полным правом считать ее своей добычей, занимает все мысли Евгении. Поверить в простую житейскую фразу «так сложились обстоятельства» она и не может, и, в общем-то, не хочет.
В постсоветском обществе, склонном к суевериям и предрассудкам, десятилетиями заменявшими людям религию, любое событие трактуется скорее с мистической точки зрения. По такой логике болезнь приходит именно в наказание за какой-то проступок или какое-то происшествие. По словам протоиерея и настоятеля московского прихода Святой Троицы в Хохлах отца Алексея Уминского, который много лет служит в Первом Московском хосписе, травмированы такой постановкой вопроса и верующие люди, и неверующие. И даже священнослужители.
«Говорить, что Бог посылает болезни за грехи, по меньшей мере некорректно, хотя подобные сентенции встречаются даже в писаниях ранних святых отцов, потому что весь Ветхий Завет трактует отношение человека, человечества и Бога в рамках парадигмы: если человек отступает от Бога, если человек грешит, то в ответ на это Бог посылает ему несчастья, – рассуждает отец Алексей Уминский. – Но Новый Завет как новый закон отношений человека и Бога разрушает эту стену.
Я много раз слышал от родителей болеющих детей, как кто-то назидательно говорил им, что их дети болеют за их грехи. Знаете, это было бы слишком легким объяснением.
Искать собственную вину и думать: «Я согрешил, как бы мне этот грех исправить, и тогда случится чудо и все исцелятся» неправильно. Мы, безусловно, люди грешные, но это не значит, что за каждый конкретный грех Бог обязательно, как мухобойкой, бьет кого-нибудь по лбу страданиями. Не Бог посылает человеку страдания: страдания обязательно встречаются в жизни каждого человека в той или иной степени. Мы живем в таком мире, где последствия грехопадения, этой духовной катастрофы, присутствуют везде. Кто-то страдает от страшных неисцелимых болезней, кто-то от ужасных жизненных условий, кто-то от несправедливости и лицемерия, коварства и иных проявлений человеческой злобы и лжи. Это любая болезнь, не только физическая, любое умирание, не только человека или животного, но и умирание человеческих отношений – любви, привязанности, дружбы.
Я понимаю, почему люди ищут мистического объяснения болезни и страданиям: люди хотят чудес, вернее, волшебства, как в сказках, но в жизни так не бывает. Чудо происходит тогда, когда человек оказывается в страдании сильнее, чем само страдание и смерть. Для многих это связано с принятием Бога. Для других – с принятием ситуации во всей ее полноте. Но простых, по щелчку, ответов на вопросы нет. Хотя понятно, человеку было бы, наверное, легче принять болезнь, зная, почему…»
Глава 5
Декабрь 2011 года. Москва. Музей в Фонде Михаила Горбачева на Ленинградском проспекте. Все сотрудники и сопровождающие куда-то, как нарочно, делись. И я оказываюсь в совершенно пустом музее наедине с первым Президентом страны, в которой я родилась и выросла. Мы ходим от экспоната к экспонату уже минут десять. И молчим.
Наконец Горбачев останавливается. И, повернувшись, резко, будто продолжает какой-то разговор, взмахивает рукой: «Конечно, я об этом думаю! Я всё время к этому возвращаюсь. Тогда, знаешь, времени особо подумать не было, надо было действовать. Говорят, время лечит… Не лечит ни черта! Двенадцать лет прошло, как умерла Раиса. Умерла, не дожив четырех дней до сорок шестой годовщины нашей совместной жизни. Двенадцать лет прошло. А мне до сих пор пусто без нее. Вся семья чувствует ее отсутствие. Иногда не спишь с утра, ворочаешься, холодно, одиноко… Минуты длятся как часы. Так – пока не рассветет. И я прокручиваю в голове каждую секунду, каждый день ее болезни. И всё то, что было до болезни… Если бы я мог понять, откуда вся эта дрянь нам на голову свалилась. Если бы только мог!»
Мы останавливаемся возле фотографии улыбающихся Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича. Он смотрит на нее так, будто персонально эта фотография во всем и виновата. Говорит: «Это мы только что вернулись из Австралии, уставшие, счастливые. Даем интервью на «Эхо Москвы». Раиса была такая радостная в этот день… В общем, это последняя наша фотография. Через три недели она заболела».
Горбачев молчит, опустив голову. Я тоже стараюсь смотреть вниз. Вижу: у него сжимаются кулаки. Вдруг взрывается: «Черт возьми, как только я начинаю об этом думать, у меня такое желание – расстреливать из автомата Калашникова этот рак! Но как ты будешь расстреливать, если носителем рака являются люди. Самые дорогие люди». И через паузу: «Когда соглашался на это интервью, не думал, что будет так тяжело. Думал, отпустило».
О том, чтобы взять интервью у Горбачева, я, конечно, мечтала. Но не совпадало: вначале я была маленькая, а потом Михаил Сергеевич фактически исчез из публичной жизни России. Редко давал интервью только хорошо и лично знакомым журналистам. Но не попробовать я не могла. За меня интервью у Горбачева просил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, за что ему огромное спасибо.
Пресс-служба Горбачева рекомендовала мне написать два письма. Одно официальное, другое – личное. Я написала его, наверное, даже быстрее, чем вы сейчас прочтете. Потому что слова, обращенные к Горбачеву, жили во мне давно. Увеличивалось только количество поводов: веселых и грустных, сложных и абсолютно понятных, по которым мне так хотелось бы услышать его мнение.
Дорогой и глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!
Прежде всего, позвольте выразить Вам свою личную глубокую признательность за то, что Вы есть на этом свете, что Вы, именно Вы подарили мне и всему моему поколению надежду на то, что наша страна может быть не хуже, а даже – лучше, свободнее и величественнее, чем многие другие. Спасибо Вам за то, что, будучи первым Президентом СССР, нашли в себе мужество пойти против системы. Спасибо Вам за честь и достоинство, которые помогли Вам расстаться с властью, приняв непростые решения. И спасибо Вам огромное за тот урок любви и верности, который Вы с Раисой Максимовной сумели преподать всей стране, каждому ее гражданину, мне лично.
Не зная Вас близко, но читая многочисленные интервью и разговаривая с людьми, хорошо знающими Вас, я только лишь могу представить, насколько родным человеком была Вам Ваша жена, Раиса Максимовна. Тем большее уважение и благодарность вызвало Ваше согласие подумать над возможностью согласиться на участие в проекте, который мы задумали. Спасибо Вам за Ваше мужество.
#победитьрак – это проект, о котором я мечтала несколько лет. Являясь попечителем фонда «Подари жизнь», я часто встречалась и встречаюсь с людьми, в чью жизнь ворвалась болезнь, я видела и вижу, как часто людей ломает сам диагноз, как важно иметь перед глазами пример мужественного и уважаемого человека, как важно объяснить, что если болезнь неизлечима, то последние месяцы и дни могут быть пронизаны таким теплом и такой любовью, что, даже несмотря на страшный исход, потом будут вспоминаться как теплейшее время в жизни. Это – парадокс рака.
По всей видимости, этот парадокс хорошо знала Раиса Максимовна. О, сколько невероятных историй о глубине ее понимания, о щедрости ее души мне рассказывали в РДКБ, больнице, куда она однажды пришла, где она повстречала страдающих людей (мам и детей). И где она поняла, что этим людям, конечно, необходимы ее тепло и поддержка, но еще и деятельная помощь. Благотворительность. Так в СССР вернулось слово, потерянное за десятилетия советской власти. И стало понятно, что без благотворительности – невозможно, никак не обойтись. Благотворительности высочайшего государственного уровня и невероятного личного участия.
Судьба распорядилась так, что жизнь Раисы Максимовны унесла та самая, очень распространенная у детей форма рака, борьбе с которой она помогала. Но ее и Ваше мужество в противостоянии этой болезни, мне кажется, могли бы послужить хорошим уроком и помощью тем, кто сейчас находится в стадии борьбы…
Я не могу говорить наверняка, но мне кажется, люди ждут прямого разговора о раке. Он нужен людям.
Я прошу прощения за столь личный тон этого письма, но иначе бы у меня не получилось. Слишком глубоко мое к Вам уважение, слишком чувствительна тема, слишком важен и непрост разговор, о котором я Вас прошу.
Я пойму, если Вы откажетесь говорить. Но в любом случае – спасибо, что у меня была возможность всё это написать. И спасибо Вам за всё.
Катерина Гордеева.
Горбачев перезвонил через два дня. Спросил: «Сколько вам лет?» Ответила: «Тридцать четыре». Он помолчал, словно что-то сопоставляя, сравнивая. И, тут же переходя на «ты»: «Ну, хорошо, Катя. Я согласен. Дам команду найти для твоего интервью время».
Оказалось, в свои восемьдесят Горбачев бесконечно куда-то едет, летит, встречается, выступает, спорит, пишет, опять едет и летит. Я нервничала: время идет, а интервью откладывается, звонила помощникам Горбачева чуть ли не ежедневно. Но несколько раз назначенная встреча то переносилась, то внезапно отменялась и опять назначалась. Перестав что-либо понимать, я отчаялась. Но тут перезвонили из приемной: приезжайте завтра, у Горбачева окно.
Теперь мы стоим в пустом музее Фонда. И мне совершенно понятно: такой бешеный график, такая гонка встреч, интервью и выступлений ему просто необходимы. Ему остро требуется постоянно быть в движении, быть чем-то занятым. Потому что остановка, передышка, пауза автоматически означают дурацкие мысли и одиночество.
Это почти невозможно объяснить, в это трудно поверить постороннему человеку: Горбачеву действительно до сих пор очень тяжело, почти невозможно жить без нее. Без своей жены и друга Раисы.
Конечно, он очень старается. Но стоит остановиться на секунду – и опять подло свербит где-то внутри: это ведь он был и президентом, и генсеком. А первая леди СССР – она всегда была просто рядом с ним. И ей всегда за него доставалось.
«Это, конечно, было связано с моей работой и с тем, как она на всё, что касалось меня, что касалось страны, эмоционально реагировала. Как не вынесла того, какие сюрпризы преподнесла перестройка для нашей семьи: ведь каждый день газеты писали про нас столько напраслины! Она, видишь ли, всех раздражала, всех злила… И она это читала, молчала, терпела, – говорит Горбачев, глядя куда-то мимо меня. Даже не в сторону, не в точку, а в какую-то воображаемую «другую жизнь», в которой всё еще хорошо, всё обратимо, всё еще можно повернуть в хорошую сторону. – По вечерам, когда я приходил с работы, мы гуляли. Каждый вечер, хоть в полночь, хоть в два часа ночи, но мы с Раисой шли гулять. Нам надо было говорить с ней, такая вот за годы жизни выработалась потребность. И мы каждый вечер обо всем, что принес день, разговаривали. Даже в самые тяжелые времена всё равно проходили свои километры. Это было наше личное время. Сейчас мне не хватает этих прогулок, этих бесед… Сейчас жалею: она во время этих разговоров больше, конечно, слушала, я говорил. Это уж надо было ей дойти до какой-то высокой точки накала, чтобы она взяла слово, прервала. А так – всё держала в себе… И когда я думаю об этом… Знаешь, говорят, рак связан с постоянно испытываемым стрессом. И я это понимаю: конечно, у нее был стресс! Это стресс. И особенно после Фороса началось. Уже в Форосе с ней случился этот микроинсульт, такой тяжелый спазм, рука отнялась, речь отнялась. Потом частично всё восстановилось. Но как прежде уже никогда не было. И потом вот – рак».
Внезапно вспоминаю знаменитое видео августа 1991 года: Горбачевы всей семьей спускаются по трапу самолета. И он как-то особенно бережно и даже тревожно придерживает ее, почти несет над ступеньками трапа. Об этом нигде и никогда не было сказано ни слова: Раиса Максимовна еще в Форосе была парализована. Именно поэтому по прилете он поехал с ней домой, а не тут же из аэропорта – в Кремль, разбираться с тем, что случилось, и с теми, кто всё это затеял. Для нас, людей, выращенных в советской убежденности об «общественных интересах, которые важнее личных», такой выбор кажется малопонятным и даже вызывающим. Но что может быть важнее человеческой жизни? Жизни того, кого ты любишь.
Мы, кажется, уже в третий раз обходим с Горбачевым музей Горбачевых, который одновременно и музей страны, и музей их личной жизни.
Хорошо заметно, что говорить об одних событиях он готов бесконечно, и у этих стендов мы подолгу стоим; мимо других проходим, не оборачиваясь. Заметно и другое: его решение говорить о Раисе Максимовне, о болезни, унесшей ее жизнь, было настолько глубоким, трудным и продуманным, что задело какие-то внутренние струны, запустило задремавшую было машину памяти. И спустя час молчания, нахмуренных бровей и полувыкриков-полувздохов он теперь говорит о ней подробно, без пауз, не давая задать вопрос, перебирая воспоминание за воспоминанием. Говорит так искренне, в таких подробностях, что я порой оглядываюсь по сторонам: это он точно мне рассказывает?
С каждым проговоренным эпизодом Горбачев как будто пытается еще достовернее мне объяснить, кого именно у него отняла болезнь: «Я нигде никогда не видел, даже в книгах никогда не читал, чтобы такое люди испытывали друг к другу чувство, какое было у нас с Раисой. Кто нас соединил, трудно сказать… Я иногда просыпаюсь посреди ночи и думаю, какое же мне было послано счастье в лице Раисы. Как много всего было! А ведь этого могло бы и не быть, вот по чистой случайности. Мы ведь могли разминуться, представляешь? Когда мы познакомились, она ведь уже собиралась замуж выходить за другого. И я ее не отбивал, никакого разговора об этом и быть не могло: мы ведь не были с ней до этого даже знакомы! Так сложились обстоятельства: ее не приняла мать жениха. Чем-то уж Раиса той семье не угодила. Она переживала это очень тяжело, потому что это было оскорбительно. И, конечно, ее очень ранило то, что ее избранник от нее отвернулся, отступился, приняв сторону родителей, – это тоже очень тяжело она переживала. И я понимаю это.
И вот я появился на ее горизонте. Но как появился! Открылись курсы бальных танцев. Я всё собирался пойти, но как-то не выходило, времени не хватало. Ну не до того было! И тут ребята, мои друзья, однажды сказали мне: «Михаил, там такая девчонка появилась!» А Михаил-то ведь тоже очень ничего был. Это я про себя говорю!»
Мы стоим у фотографии, на которой он «очень даже ничего». С этой прославившей его на весь мир невероятной, особенно для советского человека, улыбкой. Высокий красивый парень с юга России.
А вот ее фотография. На ней Раиса, словно бы выросшая и воспитанная в одной из комнат Букингемского дворца. И одергиваешь себя: ну как она вот так, взяла и влюбилась в ставропольского механизатора с простоватыми манерами, чудовищным южным говором и забавной привычкой отчаянно жестикулировать во время разговора. Как умудрилась заглянуть в него и разглядеть? Или не заглядывала? А просто влюбилась? С принцессами такое бывает. Горбачев отвечает за обоих: «Вот мы встретились, и я почти сразу почувствовал: что-то сработало, кто-то что-то включил. И я пошел, пошел за ней, уже совсем теряя голову, где-то внутри было совершенно точное понимание – это она…»
Молчит, улыбается. Ему нравится вспоминать эти первые несколько дней их любви. Он даже «выключается» на несколько минут из разговора, путешествуя по волнам своей памяти. Потом видит меня перед собой, возвращается: «Да, вот… Когда мы с Раисой встретились, я сразу сориентировался – это самое главное, что может случиться со мной в жизни. Но я до последнего момента не подавал виду, а она уж совсем безразлична была ко мне! Потом только мы всё это вспоминали, хохотали».
Он опять замолчал и помрачнел. Вспомнил, как в один из последних дней своей жизни Раиса Горбачева попросила врачей не вводить ей обезболивающих, а нянечек – повременить с уборкой. Ей нужно было время и ясность мысли, чтобы вдоволь наговориться с любимым: «До этого все эти несколько месяцев в Мюнстере время распределялось так: Иришка (дочь Горбачевых) утром идет, когда нужно с медиками поговорить, обсудить ход лечения, что-то помочь там, что-то сделать, по-женски, а я приходил в час-два, и до того, как Раиса ложилась спать, с ней был. И вдруг ранним утром звонит Ирина, говорит: «Мама просит, чтобы ты сейчас приехал, немедленно». Я выбегаю, схватил такси (а до этого я пешком в больницу всегда ходил), приезжаю – в чем дело? А она берет меня за руку и говорит: «Я хочу, чтоб ты больше здесь был. Я хочу с тобой разговаривать».
Он растерялся, потому что непонятно: вот о чем говорить, откуда начать этот разговор, с чего, с какой точки? Хотя совершенно ясно, что самое важное – не говорить сейчас о болезни, не обманывать ни себя, ни ее. И еще очень важно постараться не обсуждать этот ее странный план вернуться домой: «Она очень любила зиму, Катя. Вот такая странная привязанность. Никогда не мог понять. Она любила морозы, метели – невероятно… И вот она мне всё время, едва ли не с первого дня в Мюнстере, говорила, давай вернемся домой, я хочу увидеть зиму. Я хочу быть дома, в своей постели, лучше там… И когда она меня вызвала так экстренно к себе в палату, то вначале опять начала об этом говорить: «Давай вернемся домой». Я думаю, ох нет, Раиса, так разговор не пойдет, я тебе не дам раскисать, не для того всё это. Но что говорить? Как ее вывести из этого состояния? Сидеть просто и молчать? Я не такой по натуре человек. Да и не хотелось мне как-то при ней показывать свою растерянность, страх. И вдруг спонтанно пришла мысль: дай-ка я тебя рассмешу».
И он придумал: вначале подробнейшим образом рассказал всю историю их знакомства, как если бы это наблюдал кто-то третий, с готовностью подмечающий все несуразности поведения влюбленных. Как кто за кем ходил, какая она была важная, но красивая, какой он был влюбленный и неотесанный, как путано пытался в самый первый раз рассказать ей о своих чувствах, как признание провалилось. И каких трудов ему стоило повторить потом всё еще раз, с самого начала. И как он тщательно выбирал галстук и пиджак. И как потом пришлось надеть другие и галстук, и пиджак. И как почти случайно они поженились. И к чему это всё в итоге привело…
Так несколько часов подряд в стерильной палате Университетской клиники Мюнстера Михаил Горбачев пересказывал Раисе Горбачевой всю их долгую совместную жизнь как веселый анекдот. Она смеялась. И тогда он продолжал, опять выдумывал, импровизировал, вспоминал… И боялся остановиться даже на минуту. Ему казалось, едва он остановится, она перестанет улыбаться и всё пойдет насмарку. Медсестры и нянечки, что до сих пор работают в Мюнстер-клинике, рассказывали мне: бывший президент Горбачев говорил несколько часов. А его жена хохотала. Спустя двенадцать лет, вспоминая об этом своем самом долгом в жизни выступлении, он вздохнет и скажет: «Это был наш последний счастливый разговор с Раисой. Потом всё резко стало хуже. А через несколько дней, не дожив два дня до операции, ради которой приехала, Раиса умерла».
Мы завершаем пятый или шестой (я сбилась) круг по горбачевскому музею. И, как нарочно, оказываемся напротив той знаменитой фотографии из Чернобыля: Президент СССР М. С. Горбачев с супругой Р. М. Горбачевой в белых халатах и шапочках на месте трагедии.
Я поднимаю голову, чтобы спросить. Но оказывается, ничего произносить вслух не надо. Все вопросы про причины и предпосылки ее болезни он уже сто раз себе задавал. И знает наперед все ответы: «Да нет, нет, не Чернобыль. Чернобыль – первое, о чем я подумал. Но, конечно, нет. Мы же были вместе в Чернобыле. Но мы ведь не углублялись туда, к реактору, а просто были на территории, рядом, в поле зрения. Да и не в этом вообще дело. Я потом много спрашивал, конечно, у разных специалистов. Потому что никому ничего ни тогда, ни сейчас не было понятно про радиацию. А тогда вообще было совершенно ничего не понятно. Так вот, я спрашивал у многих. И все сходятся в одном: никакой Чернобыль не мог спровоцировать болезнь Раисы. Хотя, кстати, хочу сказать: она не должна была туда ехать. Она сама попросила: «Поеду с тобой». Ей важно было поддержать меня, поддержать людей там. Но это никак не связано с тем, что случилось через тринадцать лет. Я в этом уверен».
Об этом часто говорят и пишут: радиация, а тем более высокодозное облучение, якобы является серьезнейшим фактором риска в онкологии. Но статистика упряма: пожарные, милиционеры, атомщики и мирные люди, что погибли в первые дни чернобыльской трагедии, погибли именно от высоких доз радиации, а никакой эпидемии рака ни на Украине, ни в сопредельной Белоруссии, по многим данным, куда более попавшей в зону облучения, не было. Тем не менее вопрос о том, связан ли рак с радиацией, в числе наиболее часто задаваемых. И он, конечно, попал в десятку самых популярных заблуждений о раке, что мы составляли, готовя проект #победитьрак.
Согласно отчетам ВОЗ 2006 года, у тех из выживших, кто был непосредственно задействован в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, действительно чаще, чем у других, впоследствии выявлялись тяжелые, в том числе и онкологические, заболевания, но нигде в этих отчетах не сказано, что возрастает именно число заболевших лейкемией.
Для того чтобы в этом вопросе была ясность, я просила онкологов, помогавших мне в работе над книгой, объяснить, почему, по их мнению, в сознании людей радиация и онкологические заболевания так переплетаются? И имеет ли всё это действительно какое-то научное основание?
«Опыт анализа чернобыльских событий показывает: длительные сроки облучения людей, находящихся в обстановке повышенной радиационной опасности, в незначительной степени связаны с увеличением количества злокачественных опухолей», – говорит академик Михаил Давыдов. А профессор Александр Карачунский добавляет: «Если мы возьмем чернобыльскую катастрофу, то там было очень много случаев лучевой болезни со смертельным исходом».
Лучевая болезнь – болезнь, возникающая в результате воздействия радиоактивной энергии в дозе более 100 рад на организм. (Рад – единица поглощенной дозы радиации. При облучении тела в дозе менее 100 рад принято говорить не о лучевой болезни, а о лучевой травме.) При радиоактивном распаде происходит испускание альфа-, бета-, гамма-лучей, нейтронов, протонов и других осколков атомных ядер. Высокие дозы этих лучей вызывают повреждения ДНК живых клеток и последующую массовую гибель облученных клеток, что выражается в тяжелых ожогах кожи и слизистых оболочек, облучении внутренних органов и тканей. Наиболее чувствительны к радиации быстро делящиеся клетки костного мозга, иммунной системы, кишечника, кожи, волосяных фолликул. Важную роль в клеточной гибели играет механизм клеточного самоубийства – апоптоз. Клетки других органов, например печени, почек, сердца, менее чувствительны к радиации. Поэтому у людей, подвергшихся высокодозному облучению, фиксируют нарушения в кровеносной системе, повреждение слизистых рта и кишечника, кожи.
В долгосрочной перспективе высокие дозы облучения повышают риск возникновения онкологических заболеваний, поскольку организм, подвергшийся воздействию радиационных лучей, ослаблен, хуже справляется с ежесекундными задачами предотвращения ошибок клеточного деления, что в конечном итоге ведет к бесконтрольному делению – раку.
Александр Исаакович Карачунский вспоминает: «После того как острый период катастрофы, скажем так, прошел, ученые, а прежде всего это были ученые из России и Германии, специально изучали эту ситуацию. Я был в одной из рабочих групп. И могу вам с уверенностью сказать: мы не увидели увеличения частоты злокачественных заболеваний, например лейкемией, по сравнению с обычной популяцией, то есть число заболевших в зоне чернобыльской катастрофы ничем не отличалось от числа заболевших в любом другом регионе. За одним-единственным исключением: это рак щитовидной железы. Видимо, все-таки в больших дозах накопление радиоактивного йода сыграло свою роль в увеличении частоты рака щитовидной железы».
Однако у академика Давыдова, также принимавшего участие в обследованиях людей, находившихся в зоне чернобыльской катастрофы, иная точка зрения: «Единственное, что было увеличено у пациентов, – это число раков щитовидной железы у взрослых и детей. Но это не является неким фактором, связанным с облучением. Скорее всего, это результат активного поиска самих раков. Ведь, посудите сами, что произошло в зоне чернобыльской аварии в конце 1980-х – начале 1990-х годов: в эту зону было брошено очень много ультразвуковых аппаратов (о которых раньше в этих краях и не мечтали), специалистов высочайшего уровня (которых там раньше, конечно же, не было). И эти специалисты, вооружась сверхсовременной (по тем временам) аппаратурой, стали проводить массовые популяционные исследования пациентов. В переводе с научного языка на обычный, они стали всё население проверять на рак щитовидной железы. Конечно, они его нашли. И нашли в гораздо больших количествах и на гораздо более ранних стадиях, чем, как правило, это обнаруживалось раньше».
Таким образом, можно говорить о том, что из-за чернобыльской трагедии на территории Украины и Белоруссии в конце 1980-х – начале 1990-х годов силами российских и европейских онкологов был проведен первый в СССР массовый онкологический скрининг. Ставший, впрочем, на долгое время и последним.
Скрининг – от английского слова screen, просеивать. Так называют специальные массовые медицинские проверки, которые просты и безопасны и позволяют выделить группу риска по многим видам раковых заболеваний.
В Европе и Соединенных Штатах Америки существуют медицинские стандарты, позволяющие людям не только контролировать свое здоровье, чтобы избежать запущенных форм онкологических и других заболеваний, но и узнавать о предрасположенности к болезни заблаговременно. Подобные меры предпринимались и в СССР, когда многие предприятия проводили ежегодную диспансеризацию, включавшую, в частности, и некоторые методы диагностики наиболее частых форм рака (например, маммографию для поиска рака молочной железы или флюорографию – для диагностики туберкулеза, а заодно и рака легкого). Такой рациональный подход к болезни основан на том, что, по статистике, начиная с 40–45 лет заболеть раком рискует каждый четвертый из нас, причем с годами эта вероятность только увеличивается.
В России пока нет ни одной национальной программы скрининга. Связано это со многими факторами, важнейший из которых, по мнению онколога Андрея Павленко, отсутствие единой внятной терминологической системы в российском Минздраве. «В понятии онколога ранняя форма – это интраэпителиальный рак, то есть рак, который на 100 % можно излечить минимальным эндоскопическим внутрипросветным (то есть неинвазивным, «без разреза») вмешательством, если говорить, например, о раке желудочно-кишечного тракта. В понятии нашего Минздрава ранний рак – это первая, вторая стадии заболевания. Если мы берем вторую стадию заболевания для рака пищевода, там пятилетняя выживаемость не превышает 55 %. При раке желудка – 60 % для второй стадии. Но это не ранняя форма рака: мы 40 % пациентов теряем в течение следующих пяти лет, они умирают при прогрессировании заболевания. Стало быть, выходит, что тот «скрининг», который имеет в виду Минздрав, действительно бесполезен», – заключает Павленко. Но дело в том, что скрининг и диспансеризация – разные понятия. Отличается от них и профилактика рака – устранение факторов, которые могут приводить к развитию онкологического заболевания: борьба с курением, устранение канцерогенов, устранение загрязнений окружающей среды и так далее. Это более глобальная проблема. Часто наши чиновники от медицины путаются в показаниях, не понимая, в чем разница между этими тремя терминами: «диспансеризация», «скрининг» и «профилактика». Но государственной программы скрининга ни по одному из онкологических заболеваний в России до 2019 года не было принято.
Мне этих вопросов никто не задавал. Я сама задаю их себе: что и когда в моей жизни стало причиной, предтечей этого рака? Курение? Я не курю… Радиация? Говорят, именно она причина большинства случаев миеломной болезни: но полжизни я провела, как теперь модно говорить, в экологически чистой зоне. Питание? Следила за этим, старалась вести здоровый образ жизни. Даже йогой занималась… Где я оступилась? Чего не предусмотрела?
В психологии есть такое понятие – victim blaming, обвинение жертвы. В обычной жизни мы часто сталкиваемся с этим: «изнасиловали – сама виновата», «инвалиды рождаются только у алкоголиков и наркоманов», «твои беды – это наказание за грехи». К счастью, подобная постановка вопроса уже становится в нашем обществе неприемлемой. Внешне. А внутренне и все вокруг, и прежде всего сам пациент скрупулезно стараются отыскать причину, связывающую именно его именно с этой болезнью. Когда никаких внешних объяснений нет. Принято считать, что главная причина рака – это психосоматика. Иными словами, горе, запускающее программу самоуничтожения организма. Иногда про пациента, до болезни сгоравшего на работе, сокрушенно произносят: «Ничего удивительного, он всего себя отдавал людям, вот и сгорел». То есть опять же выходит – сам виноват. Надо было меньше страдать, помогать, работать, жить, в конце концов, – тогда бы и болезнь не пришла. Все эти посылы абсолютно ложные. И единственная их цель – подвести под то, что в действительности случается практически необъяснимо и непредсказуемо, хотя бы какую-то логическую базу. Поиск ошибок, нарушений, главной точки невозврата, как правило, сводит с ума всех пациентов и их родственников в начале болезни, отнимая такие драгоценные, такие нужные на принятие диагноза и разработку стратегии борьбы с болезнью силы.
Мучается и Женя. Она спрашивает врачей, но те только пожимают плечами: ну какая теперь разница, отчего все случилось. Случилось же. Значит, надо лечить. И решать проблему, связанную с тем, что почки у Паниной на грани отказа. Если они откажут – не останется времени вылечить рак, а значит, надо в первую очередь бороться за почки. Но для этого нужно подключить пациентку к аппарату гемодиализа. А сможет ли она потом с него «слезть»? И «потерпит» ли рак, пока будут «приводить в порядок» почки? Вот такие жизненно важные вопросы решают врачи. И им, конечно, не до разговоров «о вечном». Такие разговоры в мировой онкологической практике, помимо онкологов, ведут специалисты совершенно другого профиля – онкопсихологи. К этому вопросу мы еще обязательно вернемся. Чуть позже. Пока Женя, чувствуя полное непонимание того, что происходит вокруг нее, пытается понять, почему же это произошло. И никаких внятных ответов нет. Потому что поиск ответов – это и есть попытка заглушить страх непознанного, равнозначный страху небытия. И это еще больше загоняет ее в тупик.
Я чувствую себя маленькой девочкой, в этой белой футболке я такая маленькая, а всё вокруг такое большое. Я – щепка, которую бросили в море, и непонятно, куда она выплывет и выплывет ли вообще… Для меня это страшнее всего: я потеряла надо всем контроль. И мне кажется, что виною всему – болезнь. Она, неизвестно откуда взявшаяся, захватила меня и теперь мною управляет. Поговорить с врачами о будущем не получается. Они не могут мне сказать то, что я хочу услышать. Они даже не могут сказать, почему болезнь пришла именно ко мне.
Евгения Панина еще не знает этого: ей предстоит большой путь принятия и осознания болезни. Лучшее, что могут сделать в этот момент находящиеся рядом (близкие или просто знакомые) люди по отношению к человеку, получившему диагноз, сбившему его с ног, – это не искать объяснений того, почему всё произошло, не расшатывать почву, на которой и так еле-еле стоит заболевший. А обнять. Промолчать. И помочь принять. Это очень трудно. И на самом деле поперек наших привычек и самой человеческой природы. Но это действительно то, что нужно человеку, который впервые услышал слово «рак» про себя.
Глава 6
По статистике, которой ведает Международное агентство по изучению рака (МАИР, находится в Лионе), в 50 % случаев болезнь – следствие нездорового образа жизни: курение, алкоголь, фастфуд, а также грязный воздух, которым мы дышим, грязная вода, которую мы пьем, ну и дурная наследственность.
Но почему и от чего возникают опухоли у других 50 % онкологических больных, статистика умалчивает. Понятно, рак – следствие накопления мутаций. То есть процесс стохастический. Но как они накапливаются? Что этому способствует, а что уберегает? И есть ли какие-то конкретные советы и рекомендации, которые каждый из нас с легкостью мог бы применять? Ведь обидно и неверно было бы думать, что история с общедоступными знаниями о раке – это заговор. Или никто и вправду ничего не знает? Не хочет знать?
Показателен случай: в 2002 году в канадском городе Виктория проводилась очередная конференция, объединяющая женщин, страдающих раком груди, с онкологами, борющимися с этим раком. На конференции среди выступавших была всемирно известный эпидемиолог, доктор Энни Саско. В довольно убедительном докладе она последовательно изложила результаты своей более чем двадцатипятилетней работы. Глядя в лицо женщинам, ищущим объяснения своей болезни, она сделала заключение: «Имеющиеся данные предполагают высокую степень взаимосвязи между ростом заболеваемости раком и изменениями в окружающей среде за последние пять-десять лет, однако мы всё еще не обладаем неоспоримыми научными доводами, чтобы подтвердить эту причинную связь». Одна из женщин, присутствовавших на этой конференции, выхватила у выступавшего доктора микрофон и воскликнула: «Если мы будем ждать, пока эпидемиологи станут «уверены», прежде чем начать действовать, мы все умрем!» И хотя совершенно непонятно, что именно пациентка имела в виду под «конкретными действиями», ясно, что слишком общие, не объясняющие их случая заключения раздражают пациентов. Не могут не раздражать. Кажется, что ты умираешь, а вокруг все только и говорят о том, что сегодня в городе какое-то необычно низкое атмосферное давление.
Я делюсь этим примером с красивой женщиной, кутающейся на открытой сентябрьской веранде в теплый синий кардиган. Она молчит и кивает. Потом пьет чай, выкуривает сигарету. Это Лайма Вайкуле. Она говорит о себе так, как прежде никогда не говорила: «Я была очень прямолинейная, для меня был только спорт, правильный образ жизни, моя работа. И ничего другого, такого, что противоречило бы моим принципам, я не принимала. Я помню, как я осуждала своих друзей, которые гуляли, сидели за столом, ели селедку, картошку и сметану – всё это вперемешку, а я смотрела на них и свысока думала: «Господи, какое безумное соединение!» Они могли выпить водки, а я внутри немедленно заводилась: «Какой ужас!» Они курили сигареты, а я только и мечтала поскорее отсюда вылететь и поехать домой. И по пути еще осуждать: вот они какие, не любят себя, не берегут, на всё им наплевать. Они сидят здесь, выпивают, курят, едят всякую дрянь, а я сейчас заброшу стираться пропахшие их табаком вещи, а завтра ровно в девять утра побегу по дорожке и буду такая – ах! – здоровенькая, чистенькая и проживу до ста лет».
Она улыбается. Ёжится, будто от холода. Отворачивается и смотрит в окно. Оставшиеся на зимовку утки выходят из реки, так важно и громко покрякивая, что слышно через стекло, которое отделяет тепло ресторана от холода вечерней Москвы-реки. Лайма говорит: «Пойдем на уток посмотрим?»
Ей нравится осень. Нравится, как осенью светит солнце. Нравятся утки, река. И мне кажется, даже если бы сейчас с неба посыпались лягушки, ударил жуткий мороз, полил ледяной дождь или заработал отбойный молоток – ей бы всё понравилось. Она всё это готова обсуждать сколько угодно, уцепившись за любую возможность подольше не переходить к тому, ради чего мы встретились. Такая детская попытка оттянуть сложный разговор. «Давай перелезем?» – вдруг предлагает она и лихо перемахивает через ворота с замком, очень по-советски перегораживающие проход на красивый пирс, врезающийся в реку метров на двести. Я лезу за ней через забор, с ужасом думая, что будет, если она (а я, значит, за ней) свалится в реку. Но Лайма Вайкуле, кажется, не боится и черта лысого: уже бежит по мосту, расставив руки. И получается – как будто летит. Я ее догоняю, и оказывается, она смеется: «Что, думала, я такая фифа, такая вся холодная, да? Ни-че-го по-доб-но-го!»
И мы весело скачем по пирсу. А потом она вдруг остановится и, едва переведя дух от всей этой беготни, скажет: «Знаешь, что я думаю, почему я пропустила свою болезнь? Потому что в каком-то смысле я сама себя чувствовала своим врачом. Немного странное объяснение, но попробуй понять. Дело в том, что я еще в детском саду знала, кем я хочу быть. И все вокруг знали. Я всем говорила, что я буду хирургом, врачом, а пение – это было баловство, я никогда не хотела, никогда не собиралась петь. Но такое вот, в который раз, подтверждение этим замечательным словам: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Это про меня».
Она смеется неестественным, резким смехом, который бывает у людей, которым на самом деле не смешно. И я вроде бы узнаю ее, а на самом деле – совсем не узнаю. Для меня, как и для миллионов тех, кто родился и вырос в СССР, Лайма Вайкуле – самая несоветская певица на советском музыкальном Олимпе. То, как она одевалась, как двигалась по сцене, как давала интервью, – всё казалось нездешним, непохожим на нашу советскую жизнь. На секунду забыв о теме интервью, вдруг спрашиваю ее: «А ведь правда, вы были первой, кто вышел на советскую эстраду в мини-юбке?» Она удивляется. Даже не перемене темы. А самому вопросу: «Надо же, это кому-то важно. Но если вам интересно, то да, это был тогда своего рода скандал. Во-первых, я отказывалась участвовать в этом «Новогоднем огоньке», потому что у меня была репетиция. И я не понимала, ну что за важность этот «Огонек», почему предполагается, что я должна отложить ради него все свои дела. В общем, мой номер в этом «Огоньке» был «Мухоморы». И была такая юбка, что попа была видна. И все ахнули, потому что тогда было совсем иначе принято: артисты выходили, стояли смирно. Рука вправо, рука влево, головой слегка покачать из стороны в сторону. Но я не смотрела в то время телевизор, я не знала, как полагается. Я вышла, как я обычно выходила на своих рижских концертах, я отработала, как я обычно работала… А все начальники наверху, все эти цензоры, они, конечно, были в шоке. Но ничего не вырезали. Мой номер остался в программе».
Ее карьера, непохожая на большинство тех, что были возможны и случались в СССР, шла по возрастающей как будто вне зависимости от ее воли: концерты, залы, большие залы и, наконец, стадионы. К концу 1980-х Лайма Вайкуле достигла абсолютной вершины славы в Советском Союзе – сорокатысячные стадионы по всей стране. Это предел мечтаний.
Именно в этот момент ей выпал шанс попробовать свои силы в Америке: заезжий продюсер из Голливуда вначале в шутку, а потом серьезно предложил Лайме Вайкуле записать дуэт с американским кантри-певцом. В это, наверное, никто сейчас не поверит, но она о предложении моментально забыла. А когда американец снова появился в ее поле зрения с рабочей визой, контрактом и билетами на самолет, с трудом поняла, о чем вообще идет речь. «Это не входило в мои планы – ехать в Америку. Мне не нужна была эта карьера. Она как-то меня не интересовала. У меня в тот момент было по три концерта в день по Союзу, вы можете себе это представить?» – говорит Лайма Вайкуле. Но говорит как-то неуверенно, глядя на меня, будто пытаясь навскидку определить, хватает мне жизненного опыта, чтобы понять, о чем она говорит? И продолжает: «Но в какой-то момент поездка в США стала для меня делом чести. Я подумала: ведь я пообещала спеть, дала слово (этот американский продюсер увидел меня на одном из фестивалей и под горячую руку взял слово приехать и выступить в Америке, а я, не подумав, согласилась). И я стала себя корить, что это неправильно, что вечно наша страна что-то обещает, а потом не выполняет. Это, конечно, были очень советские размышления, но я поехала, чтобы не опозорить СССР. Смешно».
В тот момент никто, конечно, не мог предположить, что случайное знакомство с американским продюсером, поездка и последовавший за ней контракт в будущем спасет Лайме Вайкуле жизнь. Общеизвестно следующее: она отменяет часть концертов в Советском Союзе и едет на запись в Америку.
«Почему я на бегу пообещала поехать в Америку? Почему поехала? Почему, почему, почему… Знаете, многие вещи давались бы нам значительно проще, если бы мы не почемучкали», – говорит Вайкуле. Вздыхает. Закуривает. Смотрит на марево городских огней. «Мы столько времени тратим на попытку объяснить вещи, у которых нет объяснения. Вот просто нет. Казалось бы, удовлетворись этим. Но человек как устроен? Он обязательно помолчит и спросит: «А почему нет?» – говорит она. Кивает и отворачивается. Как будто бы вот так вот можно и закончить беседу, практически ее не начав. Становится холодно. Мы возвращаемся в ресторан. Нам обязательно надо договорить. Она мне обещала. Но пока – не готова. Просит рассказать что-то еще о Жене, о ее дневниках, о ее истории болезни. Я прекрасно понимаю: ей нужно время. И что-то, что придаст решимости рассказать свою историю. И я показываю Лайме Вайкуле страницы Жениного дневника и рассказываю о том, как при каждой встрече я спрашиваю Евгению Панину: в какой момент болезни ей было страшнее всего? И та говорит о том, как по-разному были тяжелыми все периоды болезни. Но страшнее всего ей было до того, как началось лечение, та самая борьба против рака. Выходит, с самого момента постановки диагноза до того момента, когда случился кризис и она решила, что эту борьбу ей никогда не выиграть, она как будто бы неслась по бесконечному спуску вниз, до дна, до предела отчаяния, где кажется, больше не выдержишь, сил нет. Но, оказывается, отчаяние, страх и одиночество могут быть еще глубже. Это удивляет, обескураживает и еще больше пугает.
Именно в этот момент онкологическому больному так нужно, чтобы рядом был кто-то или что-то, на кого или на что можно опереться. Речь не о стандартных похлопываниях по плечу, апельсинах в авоське или бодрых, но коротких телефонных разговорах: «Послушай, я никогда не ошибаюсь, поверь, у тебя всё будет хорошо». Человек болеющий, человек страдающий гораздо более чувствителен к фальши и напускной бодрости. И, по признанию тех, кто перенес рак, слово «держись» – вообще один из главных раздражителей в период болезни. Слова, которые оказываются действительно услышанными, прикосновения, которые оказываются действительно целебными, – они другие. Какие?
Каждому столкнувшемуся с диагнозом «рак» сперва кажется, что он первый и почти единственный, кто оказался в такой плачевной ситуации. Однако, согласно статистике, каждые тридцать секунд в мире один человек заболевает раком. Каждый год в мире регистрируют четырнадцать миллионов новых случаев онкологических заболеваний, больше восьми миллионов человек каждый год умирают от рака.
В России сегодня больше трех миллионов онкологических больных. Ежегодно такой диагноз ставят полумиллиону россиян. Но вот деталь: каждый третий онкологический пациент в России умрет, не прожив и года с момента постановки диагноза. А в Европе, например в Швеции, почти две трети пациентов с диагнозом «рак» живут дольше пяти лет. Вот и выходит, что в этой войне за жизнь против смерти все-таки есть и выжившие, и даже победители.
Но летом 2010-го пятидесятидвухлетней, очень успешной и до сих пор чрезвычайно уверенной в себе женщине, Евгении Паниной казалось, что победить нельзя, невозможно.
Легла я в понедельник, а во вторник врачи принимают решение: мне срочно показан гемодиализ. Ставят большой бедренный катетер. Очень больно. Но я человек терпеливый, я понимаю, что моя задача не мешать врачам делать свою работу. Я терплю. И всё время боюсь, что не выдержу, что сейчас начну кричать и вырываться, что опозорюсь…
Но главная беда не в этом. Боль – ее еще можно было потерпеть, а вот внутреннее унижение – оно гораздо страшнее. Ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит. Врачи, да, они умные, хорошие, они работают. Медсестры работают. Но никто ничего не говорит. И перед глазами пелена страха. Если честно, даже боли и неприятных ощущений не помню толком, помню ужас: я прикована к аппарату… И никто не может сказать, это на день, на два, на месяц или на всю жизнь. Жить прикованной к аппарату – это для меня самое страшное. О раке не думаю».
Логика врачей понятна: если откажут почки, рак всё равно не вылечить. А с почками еще можно побороться. Но решение подключить к аппарату с пациенткой Паниной не обсуждали, в детали не посвящали. Просто во вторник утром за ней приехала каталка. На этой каталке ее везут на процедуру гемодиализа, перекладывают на кушетку, подключают к аппарату. Несколько часов процедуры. Опять каталка. Обратный путь по бесконечным коридорам Онкоцентра. Палата. Белый потолок перед глазами. Всё.
Из обрывков разговоров она понимает: если слезет с гемодиализа, если почки восстановятся, потом, возможно, будет химия. А что потом?
Я постоянно спрашиваю Женю: а что бы вы хотели в те дни услышать? Что бы могло помочь? Какие слова? Отвечает расплывчато: «Я хотела бы услышать хотя бы что-нибудь конкретное, какую-то информацию, какой-то прогноз, дающий надежду или просто обрисовывающий перспективу на будущее».
Но однажды Женя звонит мне поздно вечером и, торопясь, говорит: «Я, наконец, вспомнила, о чем я тогда мечтала, что мне казалось самым важным! Уже после болезни мне рассказали, что в США в одной из онкологических клиник висят фотографии врачей, которые сами пережили рак. Они как бы убеждают пациентов: мы не можем ничего гарантировать, но мы смогли помочь себе, постараемся помочь и вам… Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что именно таких слов поддержки мне не хватало. Не хватало конкретных примеров победы. Я боялась задавать лишние вопросы, так как не хотела слышать полные пессимизма ответы. А врачи не считали нужным делиться со мной тем, что знают, потому что я всего лишь пациент».
В марте 2018 года петербургский хирург-онколог Андрей Павленко узнал о том, что болен раком желудка в поздней стадии. Имея привычку из каждой пациентской истории извлекать урок на будущее, Павленко в содружестве с изданием «Такие дела» создает собственный блог, в котором изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц с профессиональной дотошностью рассказывает о том, что с ним происходит – не только в медицинском плане. В своем блоге Павленко дает врачебную оценку своему пациентскому опыту. Первое, о чем он пишет, – о трудности, с которой столкнулись коллеги-врачи, когда они должны были сообщить Павленко его диагноз.
«Найти слова было трудно, – вспоминает Павленко. – Да трудным было практически всё: смотреть мне в глаза, произносить эти слова. Хотя в принципе о том, что со мной происходит, никому непосредственно мне не пришлось сообщать: я видел результаты своей гастроскопии, я видел анализы. Я же – врач. И я сделал вывод. Коллеги были избавлены от необходимости произносить вот это самое: «У тебя – рак». Но это не избавляло меня от того, чтобы рассказать, что случилось, своей семье. Наверное, это было самым сложным. С женой я говорил сразу и как врач, и как муж».
Вопрос о том, сообщать ли пациенту его диагноз, говорить ли всю правду, информировать ли о ходе лечения и говорить ли вообще обо всем происходящем с пациентом, в России более чем актуален.
«Я бы не стал называть это «наследием советской медицины», – говорит онколог Михаил Ласков. – Это скорее институциональная особенность нашей медицины, наших пациентов. Например, я часто сталкиваюсь с тем, что родственники пытаются не разрешить мне назвать пациенту диагноз, то есть дословно произнести его. В трети случаев примерно. Они передают через ассистентов или заходят в кабинет первыми, до приема, и просят промолчать. Им кажется, что больной «перестанет бороться» или откажется от лечения».
«Я очень надеюсь и хотел бы, чтобы этот вопрос был уже решен раз и навсегда, чтобы мы к нему вообще не возвращались, потому что не говорить больному, что у него рак, – это самое настоящее преступление. Я глубоко в этом убежден. Как это так, вы можете, вы смеете не сказать пациенту, что у него злокачественное образование? Это же нарушает его самое главное право – право распоряжаться своей жизнью! Человек должен знать, в каком положении он находится, знать, что его ждет, знать, что он может и должен сделать для того, чтобы помочь врачам осуществлять лечение, для того, чтобы помочь, в конце концов, самому себе. Молчание отбирает у него эту возможность и лишает права контролировать собственную жизнь», – говорит много лет проработавший в системе здравоохранения Франции профессор, доктор медицинских наук, уролог-онколог Дмитрий Пушкарь. Я пытаюсь поспорить с Пушкарем, ссылаясь на то, что подавляющее большинство докторов, работающих сегодня в российской системе здравоохранения, выросли в СССР, во времена, когда было принято не сообщать пациенту диагноз, а тактика лечения обсуждалась в лучшем случае с семьей больного. Пушкарь буквально взрывается: «Но, позвольте, у нас нет советской медицины более! Да, мы все учились в СССР. У этой системы были свои плюсы и минусы. И этическая составляющая, безусловно, не была в числе плюсов. Но границы давным-давно открыты. И у врачей, уж поверьте, есть возможность и учиться за рубежом, и читать специальную литературу, выходящую в разных странах. Да и вообще способность совершенствоваться и переучиваться – это главное для современного врача во всем мире. Поэтому, естественно, международный этический кодекс должен быть взят на вооружение. Право пациента на доскональное знание диагноза, право на информацию – это даже не обсуждается, оно должно быть!»
Профессор Дмитрий Пушкарь – один из самых успешных урологов-онкологов в нашей стране. На втором этаже обыкновенной московской клиники он умудрился создать совершенно не похожее на остальной мир российской онкологии пространство. Его кабинет обустроен по-европейски: ничего устрашающе медицинского, просто комната в светлой квартире, его помощница – вежливая и образованная женщина, терпеливо отвечающая как по телефону, так и лично на любые вопросы пациентов и их родственников. Сам Пушкарь, любитель ярких галстуков, образной речи, свободно говорящий на нескольких языках, тоже не слишком вписывается в стереотип замотанного, уставшего от своей работы доктора. Я знаю о том, что Пушкарю несколько раз предлагали работать и даже возглавлять клиники за границей. Я спрашиваю, почему он отказался, почему ушел с должности заведующего урологическим отделением клиники в Ницце, зачем вернулся в Москву. Любитель витиеватых выражений, на сей раз профессор отвечает предельно просто: «А здесь пациенты чем хуже? Они почему не заслуживают нормального лечения и человеческого обращения? Вот вы говорите, что им даже не нужно знать диагноз, а это дискриминация. Можете считать, что я вернулся затем, чтобы с этой дискриминацией бороться».
С позицией Дмитрия Пушкаря, по крайней мере, по части права пациента на знание диагноза и на ответственность за принятие решений о ходе лечения, не согласен академик Михаил Давыдов. Раньше он был главным врачом Российского научного онкологического центра имени Н. Н. Блохина, того самого, куда в начале своей болезни попала Евгения Панина, где началось ее лечение от рака. «Российская онкология – самая гуманная в мире. Я не случайно сказал эту фразу. Скорее всего, придя к американскому или европейскому врачу-онкологу, вы сразу услышите диагноз: у вас рак, – говорит Давыдов. – И никто не будет играть с вами в бирюльки. Потому что если врач не скажет этого, то гражданин подаст на доктора в суд: о том, что его как пациента дезинформировали и он не сумел правильно принять решение. Врач будет осужден. Врач этого боится, потому и выкладывает всё и сразу. А российская школа онкологии щадит пациента. И я считаю, что это правильно, это гуманно, нельзя пациента сразу во всё погружать. Я считаю, что наше общество до этого еще не дозрело. Пациенты сами не готовы еще к тому, чтобы им говорили правду, мы просто цивилизационно для этого недостаточно развиты. Я считаю, что пациентам нужно говорить «полуправду». Во-первых, эта полуправда не убьет пациента, а приведет его в состояние некой тревоги и заботы о своем организме. А во-вторых, она открывает все возможности для врача, чтобы он цивилизованно и профессионально решал эту проблему, не вдаваясь в сложные переговоры с пациентом, не тратя на это драгоценное время и не впадая в зависимость от его эмоционального состояния. Чтобы врач, грубо говоря, имел возможность делать свою работу».
Тем не менее именно РОНЦ им. Блохина еще под руководством Давыдова стал первым в России государственным медицинским учреждением, принявшим на работу психолога, в чьей компетенции помогать врачам и пациентам на стадии сообщения и принятия диагноза, а также во время лечения. Правда, на весь большой центр такой психолог в штате всего один: доктор Галина Ткаченко. По ее мнению, ситуация в российской онкологии сейчас такая, что докторам и пациентам в одиночку не справиться: одни чересчур загружены, другие – слишком напуганы. «Но если пациенты еще могут надеяться на поддержку общественных объединений, то психологическая помощь врачам просто отсутствует, – говорит Галина Ткаченко. – Между тем им точно так же требуются конкретные рекомендации для правильного общения с пациентом. Диагноз должен быть сообщен так, чтобы не дать ложную надежду пациенту, с одной стороны, и чтобы он смог поверить в успех – с другой».
О том, как, в какой форме и с кем из семьи в самом начале поговорить о диагнозе пациента, профессор Городского клинического онкологического диспансера в Санкт-Петербурге Рашида Орлова читает лекции студентам-медикам. Формулировки «не говорить» в этих лекциях, конечно, нет. Однако американский, европейский и наш, родной, российский опыт, считает профессор Орлова, существенно отличаются друг от друга.
«Это право больного – знать, и обязанность врача – говорить. И это даже не обсуждается. Но мы, конечно, не в США, и эмоциональный настрой нашего населения, мягко говоря, отличается от того, как к себе относятся люди в Европе или Америке. Мы находимся в других социальных, экономических условиях. Что бы там ни говорили, но люди, как правило, сами понимают, что у них какое-то сложное заболевание: все вокруг суетятся, напрягаются. И вот тут наступает такой особый для нашей страны момент: человек понимает, что у него будет не только проблема с тем, что надо будет побеждать болезнь, а с тем, как, какими средствами побеждать. Иными словами, тяжелая болезнь подразумевает еще и серьезные экономические проблемы. А теперь представьте себе этого человека: как правило, он не молод. То есть он вырос в некотором понимании того, что у нас бесплатная медицина, всё бесплатно. Человек так прожил свою жизнь. А тут вдруг ему сообщают, что, мягко говоря, не всё доступно. Что вот есть разные лекарства и разная у всех этих лекарств эффективность (как и разная стоимость), а это ведь тоже правда о диагнозе! Ведь доктор не может просто так развернуться и сказать: вы знаете, у вас рак, мы будем вас лечить. Сообщение о диагнозе, разговор с пациентом подразумевает подробнейший рассказ о перспективе лечения.
И вот тут я как врач и как заведующая отделением оказываюсь в сложном положении: по идее, я должна сказать, например, что по ожидаемой продолжительности жизни медиана выживаемости (время, в течение которого умирают 50 % больных с аналогичным диагнозом), по данным литературы, в вашей ситуации – два месяца… То есть 50 % больных живут два месяца, кто-то умирает раньше, кто-то позже; но есть несколько принятых методов лечения, давайте выберем, исходя из вашей, в том числе и материальной, ситуации: вот лекарство подороже, у него и результаты получше, вот есть лекарство, которое вам доступно, но у него результаты по сравнению с тем, дорогим, не такие выдающиеся. Разве можно так сказать? Нет, нельзя. (На самом деле в современной западной онкологии считается, что финансовый аспект лечения обсуждать можно и нужно, в 2015-м ASCO (американская ассоциация клинических онкологов) выпустила специальное руководство для врачей, в котором сказано, что пациент должен быть информирован о том, какое лечение сколько будет стоить, и имеет право принимать решение о выборе стратегии исходя из своих материальных возможностей. – К. Г.) И я такого не говорю, я все-таки говорю: у вас есть распространенный процесс, он требует лечения, прогностически он не очень хорош, но есть и положительные стороны, мы уже начали лечение, мы уже разработали для вас вот такой план лечения…»
Я перебиваю Рашиду Вахидовну. И, поставив себя на место конкретного пациента, спрашиваю: «Как без ухода в отвлеченные подробности вы ответите на конкретный вопрос пациента: «Доктор, сколько мне осталось жить?»
Профессор Орлова, кажется, удивилась прямолинейности вопроса. Но, похоже, в ее практике уже случались пациенты, которые спрашивали ее о том же: «Я отвечаю, дословно: я не Господь Бог. Я фаталистка, я считаю, что всё предопределено. Это – с человеческой точки зрения. С точки зрения науки и клиники, я всегда стараюсь с пациентом поговорить, сажаю его перед собой и говорю: смотрите, вот при этой ситуации расклад может быть вот такой, а может быть вот такой. Ответить на этот вопрос я смогу, когда мы проведем с вами лечение, я посмотрю, как отреагирует организм. Если ответ будет, то вы окажетесь вот в таком положении. Если ответа не будет, то мы попробуем подобрать другое лечение. Может быть, и такое, что ничего не поможет, но, не попытавшись, мы никогда этого не узнаем. И я всегда говорю пациентам: вся информация, которая у меня есть, она есть и у вас. Но предсказания – не мой конек. Мы сделаем всё возможное, а жизнь будет диктовать свои условия. Как, собственно, всегда и бывает. Ведь я даже не знаю, что со мной произойдет через час, через два часа, когда я выйду с работы и поеду домой. А может, не выйду? Может, что-то изменится, и поеду я не домой. Или еще что-то произойдет. А вы спрашиваете меня, сколько вы будете жить…»
«Прежде чем взять на работу в свою клинику нового доктора, я провожу с ним довольно долгую беседу, которая для меня важнее и значительнее дипломов, квалификаций и всего остального резюме, – говорит онколог Михаил Ласков. – Я предлагаю смоделировать ситуацию объявления пациенту диагноза. В том числе диагноза с неблагоприятным прогнозом. Убежден, что от того, как врач поведет этот разговор, какие отношения возникнут у него с пациентом, во многом зависит ход лечения, возможность сотрудничества, возможность долгого совместного пути». Ласков рассказывает: всё чаще к нему приходят молодые доктора, убежденные, что диагноз пациенту должен произносить не врач, но «кто-то специально обученный, например, психолог».
«Поставьте себя на место пациента. Довольно долгое время он ходил на прием к доктору. Велись обследования, консультации, проводились анализы. И вдруг перед ним возникает какой-то отдельный новый специальный человек, который уполномочен поговорить с ним о его будущем, – размышляет онколог Ласков. – Это совершенно неприемлемое и пагубное перекладывание ответственности. Никто не знает вашего пациента лучше вас. И никто не уполномочен провести этот разговор так, чтобы, учитывая индивидуальные особенности, помочь принять диагноз и настроить на жизнь с ним и борьбу с болезнью».
В современной онкопсихологии принято считать, что способ разговора с пациентом врач выбирает, в том числе исходя из психологических особенностей человека. Вот беглая классификация, которой может пользоваться онколог, выбирая тот или иной способ сообщения диагноза. В зарубежной и зарождающейся отечественной онкопсихологии есть специальные термины, относящиеся к пациентам разных типов, однако я намеренно их не указываю, во-первых, потому, что у специалистов, относящихся к разным школам, термины – разные, а во-вторых, потому, что сами термины ничего читателям не скажут, только запутают.
1. Самые удобные для врача пациенты – это люди, которые изначально настроены на сотрудничество с доктором, выполняют назначения, в целом контактны.
2. Пациенты, у которых постоянно меняется настроение: сегодня они полны оптимизма, завтра – сомневаются в квалификации врача. Чтобы найти с ними контакт, надо постоянно их чем-то занимать, чтобы не оставалось времени на рефлексию.
3. Пациенты постоянно нуждаются в более чем подробных разговорах о болезни, имеют собственное представление о ее течении, болезненно относятся к любым попыткам переубеждения, однако выполняют все назначения, если им хорошо и четко объяснена их рациональная составляющая.
4. Есть пациенты, склонные постоянно преувеличивать свои страдания и верить в исключительность именно своей болезни. В этом случае лечащий доктор старается не вступать в конфронтацию, а сыграть на этих качествах, убеждая, что только такой «исключительный» пациент сумеет преодолеть страдания, выполнить назначения и, в конечном итоге, преодолеть болезнь.
5. Самая сложная группа – это тревожно-мнительные пациенты, которые не верят в успех лечения. Их надо отвлекать от пессимистических мыслей и стараться ориентировать на позитивные.
К сожалению, онкопсихологии как дисциплине до сих пор не учат в российских медицинских вузах. Не учат и на факультетах психологии МГУ или где-то еще. Частично эти знания наши врачи приобретают во время зарубежных практик, частично – из популярной литературы, но чаще учатся на собственных (а значит, пациентских) ошибках. Так или иначе самый, пожалуй, важный, поворотный момент в болезни оказывается никаким образом не регламентированным, не прописанным, а значит, лишенным нужной предсказуемости. Иногда это напрочь выбивает и без того деморализованного столкновением с болезнью пациента из колеи.
Рассказываю об этом бывшей онкологической пациентке Лайме Вайкуле. Молчит. Качает ногой. Потом тихо-тихо говорит: «Не знаю, что было бы со мной в таком случае. Диагноз мне поставили в Америке. И, конечно, меня это убило. Потому что, представляете, как это на меня обрушилось: я, советский совершенно человек, выросла в системе, где с пациентами вообще не разговаривают, где человек мог умереть и не знать, что у него рак. А в Америке говорят всё как есть, прямо тебе в глаза. И на самом деле это очень страшно, когда ты слышишь этот приговор. Вот иногда говорят – темнеет в глазах. У меня потемнело. Мне сказали: соотношение того, что вы не вылечитесь от этого рака, – 80 на 20. Всё очень, я помню, доктор повторил это слово, очень плохо. И когда я начала что-то там: а может, мне вот это сделать еще или это, я стала ему говорить, что у меня концерт сольный планируется… В голове были такие идиотские мысли (поверить в это сейчас совершенно невозможно): доктор говорит мне, что в восьми случаях из десяти я, скорее всего, умру, а я думаю: «Как же, у меня сольник, ни одного концерта отменить нельзя». Доктор сказал мне (это тоже очень по-американски): «Я вас проинформировал, решение принимать вам». И вышел, чтобы не мешать мне принять это решение. И вот этот момент я не могу даже описать словами: всё останавливается, жизнь останавливается. Это сравнимо разве только с ударом тока, который я тоже однажды в жизни получала, вот эта нарисованная врачами абсолютно ясная картина всего того, что с тобой будет. Всей этой ледяной математики, этих шансов выжить или умереть. Я приняла решение. Я сказала: да, операция. И ожидание этой операции было, пожалуй, самым страшным и тяжелым временем в моей жизни. О, как я тогда мечтала, чтобы мой рак был не рак, а какой-нибудь инсульт, инфаркт или даже кирпич на голову. Это ведь – моментальная смерть. Вжик – и всё. А рак – это история, в которой какое-то время надо жить с приговором. Так жить очень тяжело. Ты прокручиваешь, прокручиваешь в голове всё: пять дней назад, двадцать дней назад, три года назад. Ты мучаешь себя вопросом: кто в этом виноват и когда это началось?»
Еще один вопрос, который мучает человека, узнавшего, что у него рак, – как рассказать о том, что происходит, родным, близким, знакомым и незнакомым. «Я думала, что это лично моя история, – говорит Вайкуле. – Первым порывом было замолчать раз и навсегда, не посвящать никого чужого в свою боль». По мнению онколога Павленко, о том, что жизнь теперь переменится и никогда не будет прежней, кому-то рассказать все же придется. Зачем? «Затем, что для эффективного лечения важно, чтобы был хотя бы один человек, находясь рядом с которым можно пройти через то, что предстоит. Этим человеком должен быть кто-то, кому можно сказать: «Мне очень страшно. Побудь со мной». Это нужно, чтобы не оставаться в одиночестве. Не только потому, что это облегчает процесс принятия, а еще потому, что наши личные страдания, пережитые в одиночку, отдаляют нас от близких, и потом этот разрыв очень сложно сократить», – говорит Павленко.
С ЧЕГО НАЧАТЬ РАЗГОВОР?
Сперва надо собрать и обобщить все имеющиеся у вас данные, постараться приготовить и держать под рукой все имеющиеся сведения. Для этого надо задать врачу все волнующие вопросы и обработать все полученные ответы. Чем больше информации, тем ниже уровень тревоги. Чем ниже уровень тревоги, тем менее алармистским будет ваш разговор с тем, кто окажется рядом с вами во время болезни и станет вашим «плечом».
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Примерно установив, какие шансы на выживаемость предполагает медицина в вашем конкретном случае, надо сформулировать проблемы, которые предстоит решать в первую очередь. Возможно, среди них окажутся такие, о которых вы прежде не задумывались. Помните, многих людей, чей рак был диагностирован не в терминальной стадии, впереди ждали еще годы и годы жизни.
КАК ВООБЩЕ ЖИТЬ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ?
Еще раз: велика вероятность, что ни о каком смертельном диагнозе в вашем случае речи не идет. С другой стороны – все мы смертны. А для многих из тех, кто победил рак, время после сообщения диагноза стало периодом, когда они стали иначе воспринимать жизнь. Задумались: правильно ли было то, что они делали? Хотели ли бы они работать там, где работали? По сути, их жизнь в тот момент не отличалась от жизни окружающих, просто они вдруг поняли, что смертны, и многое начали менять.
ЧТО МЕНЯТЬ, КАК МЕНЯТЬ, ЕСЛИ ВСЕ МЫСЛИ О СМЕРТИ? А ЕСЛИ РАЗДЕЛИТЬ ИХ С БЛИЗКИМИ, МЫ ВСЕ ВООБЩЕ СОЙДЕМ С УМА.
Разговор должен быть конструктивным. Например, рядом с тем, кто вам дорог и кому дороги вы, вы можете произнести вслух вопросы, которые прежде касались личной, интимной зоны и никогда вслух не обсуждались: «Чего я хочу от этой жизни?» или «Зачем я вообще здесь?» Когда речь идет о каком-то ограниченном отрезке времени, исчезают отговорки, которые останавливали раньше. Например, «Мне уже поздно что-то менять» или «У меня точно ничего не получится». Появляется возможность заставить работать на себя сложную и неприятную ситуацию и получить от этого максимум выгоды. Появляется и другая возможность – получить от жизни то удовольствие, ту радость, в которой прежде вы себе отказывали.
КАКОЙ БУДЕТ РЕАКЦИЯ БЛИЗКИХ? МОЖНО ЛИ ЭТО СПРОГНОЗИРОВАТЬ?
Спрогнозировать трудно. Но постарайтесь вспомнить, как ваши близкие в принципе реагируют на плохие новости. Представьте себе их реакцию. Важно понимать, почему вы боитесь сказать об этом близким. Попробуйте обдумать вашу речь заранее, напишите план. Разделите всё по сегментам: кому вы хотите сказать об этом сейчас, а кому потом.
Разумеется, универсальных ответов не бывает. Чтобы помощь была индивидуальной, можно попробовать обсудить предстоящий разговор, например, с онкопсихологами организации «Ясное утро». Этот телефон бесплатный, он действует по всей России: 8–800–100–01–91. Никаких готовых инструкций в случае обращения не будет, но специалисты внимательно выслушают и постараются ответить на вопросы.
Вместе с онкологом Андреем Павленко и пациенткой Евгенией Паниной мы составили памятку для близких и родственников пациентов, которым поставлен диагноз «рак». Памятка касается всех этапов болезни: от постановки диагноза до возвращения в нормальную, дораковую, жизнь. Первая часть относится к моменту постановки, принятия диагноза и начала лечения.
Как только вы услышали от близкого вам человека, что предварительный диагноз поставлен, но он неутешителен – рак, помните, в этот момент в депрессию впадает не только сам пациент, но и его близкие. Вольно или невольно родственники осознают, что болезнь переменит их жизнь в том числе. Ответственность, нагрузка и бремя лечения лягут именно на ваши плечи. Стоит ли говорить, что сам больной в этот момент находится практически в пограничном состоянии: депрессия, уныние, раздражительность, конфликтность по отношению ко всем, кто рядом. Раздражительными и конфликтными на самом деле становятся все члены семьи. Часто близкие реагируют неадекватно, восклицая: «Боже, как это ИМЕННО ТЫ мог заболеть?! Этого быть не может». Следом приходит осознание необходимости перемены всех жизненных планов, жизненных ориентиров. И это не добавляет сил. Такое положение вещей – одна из самых больших коллективных ошибок. Люди отдаляются друг от друга, делая друг друга еще более слабыми, одинокими и беззащитными перед лицом болезни.
Очень важно, чтобы родственники в этой ситуации сохраняли трезвую и холодную голову и помогали пережить сложный момент своим разумным участием, помогали оценить произошедшее с точки зрения рационального восприятия.
Как могут помочь родственники? Во-первых, уговорить пациента получить «второе мнение» относительно поставленного диагноза. Никогда нельзя исключать возможности врачебной ошибки. Ибо ошибаются все, даже самые лучшие врачи. Во-вторых, помочь решить вопросы с полным предметным обследованием. Такая помощь может быть совершенно разной: просто подвезти на машине, составить компанию или отыскать специалиста, договориться о консультации. В-третьих, пациенту надо дать понять, что вы не просто пассивный наблюдатель в этой истории, вы готовы стать ее активным участником, подставить плечо, подать руку помощи.
С пациентом надо разговаривать, но не навязчиво, не вымученно. Не нужно постоянно муссировать вопрос обследования и ожидания его результатов. Надо просто всё время обговаривать план действий: установят окончательный диагноз, да, возможно, он действительно будет плохим, но мы будем знать, что с этим делать, мы прямо сейчас будем пытаться понять, что с этим можно сделать. И немедленно надо начать разрабатывать возможные варианты лечения, привлекая самого пациента, если, конечно, он не против.
В ожидании окончательного диагноза надо подготовиться ко всем вероятным вариантам развития событий: выяснить, где проводят лечение от того варианта рака, который вам «светит», где лучшие результаты, какие существуют клиники, что можно сделать бесплатно, а на что потребуются дополнительные средства, сколько это стоит, где вы можете найти деньги, если у вас их нет, и так далее.
Самое главное – вы должны быть рядом с человеком, над которым нависла угроза болезни. Постарайтесь как можно чаще отвлекать его от дурных мыслей: кино, театры, выставки, встречи с друзьями, просто веселые и душевные домашние посиделки. Но любое отвлечение должно быть естественным. Чрезмерное внимание раздражает. Если вы раньше чего-то не делали, то ни в коем случае не надо этого делать сейчас.
Безусловно, роль друзей и коллег важна. Но нельзя ее переоценивать. Надо быть готовым к тому, что многие из них не захотят общаться с онкологическим пациентом. Или, наоборот, станут общаться, насилуя себя, звоня ежедневно с дежурным вопросом «как дела?» и добавляя в конце: «Ты держись, всё будет хорошо». Надо понимать, что они говорят это в основном себе. Дело в том, что очень многие, узнав о том, что у кого-то рядом рак, начинают задумываться и искать у себя симптомы схожего тяжелого заболевания. И их это тоже очень угнетает. Определите вместе с вашим близким пациентом тот круг возможного общения, который не раздражает, не выводит из состояния равновесия. К остальным людям, в том числе и к тем, кто проявляет, как вам кажется, бестактность, отнеситесь философски: люди разные. К тому же вы и ваш родной человек, безусловно, имеете право выбирать, с кем общаться, а с кем нет.
Надо заранее приготовиться к тому, что забота об онкологическом больном – это тяжелая работа. Ее вам, судя по всему, придется еще совмещать с профессиональной деятельностью и бытовыми обязанностями. Надо постараться не роптать. Если есть возможность, хорошо бы пригласить для помощи в быту кого-то из родственников или помощников по хозяйству. Это высвободит время для общения с больным и позволит не так сильно уставать.
Близкие и друзья должны выражать не сочувствие, а сопереживание. Они должны проявлять толерантность. Ни в коем случае не должно быть тональности типа «ты рядом, ты болеешь, а я тебя терплю». Приемлема только одна тональность – участие: «ты болеешь, а я рядом с тобой и стараюсь понять всю тяжесть твоего состояния, но готов быть тебе поддержкой». Жаление не работает. Бесконечные повторяющиеся вопросы «как дела?», «как ты себя чувствуешь?», «уже лучше?» вызывают у пациентов почти физическую тошноту, неприятие. Пациент имеет право говорить о своей болезни только тогда, когда ему самому этого хочется. Этот разговор должен проходить максимально естественно. Приучитесь слушать и реагировать на услышанное, тем самым поощряя пациента к откровенным разговорам. Это профилактика «замыкания». Надо помочь больному самому начать рассказ о том, что он чувствует, самому выбрать тональность и удобный режим этого разговора. Просто примите к сведению, что рак – это все же не ОРЗ, и каждый опыт каждого онкологического пациента уникален. По крайней мере, он именно так его для себя расценивает.
Примерно в момент принятия диагноза у пациента начинается ретроспективный анализ жизни, поступков. Растет обида на окружающих и чувство безысходности, уныния. Это самый тяжелый этап, без потерь из которого могут выйти очень и очень немногие. Вот теперь можно делать для близкого человека то, чего вы раньше не делали. В этот момент очень важно, с одной стороны, не идти на поводу у пациента, не давать ему раскиснуть и погрузиться на дно уныния. С другой – не вступать в какие-то пререкания, не конфликтовать, не скандалить. Нужно просто терпеливо слушать, искать и стараться найти те слова, которые вы никогда друг другу не говорили и, возможно, если бы не этот случай, не сказали бы. Переосмысление всей жизненной ситуации происходит не только у пациента, но и у его близких. Не стесняйтесь своих чувств, говорите, действуйте. Слова и поступки в этот момент должны быть предельно откровенными, не скованными обстоятельствами вашей жизни «до» и вашей возможной жизни «после». Ничего не надо откладывать на потом. Можно вместе плакать, даже рыдать. Это слезы облегчения.
Одна из важных составляющих борьбы против рака – позитивное мышление. В этом смысле главное – помнить, что подбадривание и обещание всего хорошего без конкретики не работает. Старайтесь в нужный момент подкидывать больному книги, фильмы, конкретные истории борьбы и победы, подобранные в Интернете. Это не должно быть короткое предложение типа «всё будет хорошо, я знаю». Это должно быть предложение (и не одно), которое наполнено не только смыслом, но и действием.
Этот момент в болезни опасен еще и тем, что часто пациенты, воспринимая свой рак как данность или как наказание, неожиданно решают отказаться от лечения. Либо начинают искать альтернативные способы исцеления. Очень важно родственникам занять определенную позицию по этому вопросу и не тратить время понапрасну, а помочь пациенту получить квалифицированную помощь. Постараться сделать всё как можно быстрее. В конце концов, начать вместе искать «альтернативные» пути, уговорившись не отказываться в то же время от традиционных способов лечения. Сделать так, чтобы пациент как можно скорее убедился (обязательно с помощью конкретных примеров) в том, что «мгновенные» и «безотказные» методы, как правило, не работают. Постараться дать понять пациенту, что лечение от рака будет не быстрым, но оно подействует. Главное – помогать лечению и бороться.
Диагноз подтвержден, и принято решение начать лечение. Очень важно в самом начале убедиться в том, что врач, к которому попал в руки ваш близкий, действительно именно тот человек, которому вы и ваш родственник доверяете. Содружество и личное доверие – одна из важнейших составляющих успешного лечения. Решение о том, какому доктору доверять, принимает сам пациент. Обязанность близких – это решение поддержать. И раз и навсегда, при любом исходе вашей борьбы, запретить себе фразу «Я же говорил». Пациент и его близкие должны быть едины в принятом «на берегу» решении, что именно этому доктору они доверяют жизнь пациента, с ним пойдут до конца. Надо понимать, что в процессе лечения докторов, как правило, не меняют. И от этого выбора, и от взаимоотношений, которые сложатся в самом начале с лечащим врачом, зависит очень и очень многое.
Проконтролируйте, чтобы первая (имеется в виду касающаяся планов лечения) встреча и беседа с доктором, который будет лечить, строилась на паритетных началах. Паритет в пользу профессионализма врача, но и без ущемления права пациента. Больной имеет право знать все тонкости своего диагноза. Пациент и/или его близкие должны в самом начале задать врачу важные вопросы: сколько лечение продлится, какие предстоят этапы, какие результаты мы ожидаем, что будет, если в намеченные сроки мы не добьемся ожидаемого результата? Можно ли будет повторить лечение? Что мы (семья пациента, сам больной) можем сделать, чтобы помочь лечению?
Необходимо также уточнить конкретный план лечения. После этого совместно составить календарь болезни и победы над ней: этап за этапом. Затем необходимо обсудить в семейном кругу все плюсы и минусы, все возможные (предсказуемые и описанные доктором) варианты развития событий. Очень полезно разметить календарь, повесить его на видном месте, чтобы ориентироваться. Хорошо бы наметить некоторый план на «после лечения», чтобы было к чему стремиться. Пациент при желании может завести личный дневник, который поможет справляться ему с негативными эмоциями, с переживаниями, которые он по той или иной причине не может обсудить с близкими или специалистами.
Протокол лечения выбран. Лечение началось. Пришло время помочь пациенту перевести вопросы «за что?» в вопросы «почему так вышло?» и «чем я могу помочь своему организму?»: я много работаю, мало отдыхаю, веду неправильный образ жизни, часто раздражаюсь и нервничаю. Нужно принять тот факт, что только маленькие изменения могут привести к большим переменам. Также пришло время переоценить ценности: так ли важны успех, статус, власть, деньги? Когда ты сталкиваешься с болезнью, всё это отходит на второй план. На первом месте – здоровье и близкие. Важно зафиксировать эту перемену в мировоззрении. Процесс этот достаточно интимный. Родственникам совершенно необязательно помогать больному в этом, влезать в его внутренний разговор. Надо по возможности дать пациенту самому разобраться в себе, распутать клубок внутренних противоречий, ведь только наедине с собой человек, как правило, может быть честен и откровенен. Но родственники должны стараться всегда оказываться рядом для возможного разговора.
Чего категорически нельзя делать тем, кто оказался рядом с онкологическим пациентом? Категорически нельзя грозить пальчиком, пытаться перевоспитывать или образумить насильно. Все предложения о возможном улучшении текущей или будущей жизни нужно делать крайне мягко, в сослагательном наклонении: «Смотри, какую книгу я тебе принес, не хочешь ли прочесть, здесь много интересного и полезного, касающегося, как мне кажется, твоей болезни». Выбрав момент, можно предложить пациенту новую концепцию жизни, «подложить» под руку полезную литературу, вовремя ввернуть: «Как думаешь, может быть, мы так-то и так-то сделаем, чтобы ты поменьше курил? По крайней мере пока?» Крайне важно хвалить и поощрять больного на разных этапах борьбы с болезнью: «Какой ты молодец, что так справляешься с этим! Я потрясен твоей силой воли!» Очень важно замечать положительные перемены в поведении пациента, даже если они незначительны.
И последнее на этом этапе. Мечта – один важнейших стимулов в лечении. Мечтать нужно. Даже когда еще не знаешь, действительно ли та стратегия, которая была выбрана врачами и одобрена тобой в борьбе с раком, правильная, не знаешь, принесет ли она результаты и какими они будут. Единственное, что дает опору, особенно в эти моменты, – мечта. Но мечта должна быть реальной, той, к осуществлению которой можно двигаться маленькими шажками. Надо разделить планы и мечты. Например, план на сегодня: я должен дойти сам от поста старшей медсестры до палаты. Завтра – напишу письмо. Послезавтра – прочту книгу. Важно также наполнять свою жизнь бытовыми планами: когда выпишусь, пойду в театр, куплю сапоги, выращу перец на даче. Важна конкретность этих планов: я представляю, какая будет в этот день на мне одежда, какая будет погода, какие запахи я буду чувствовать. Этими маленькими шагами можно пододвигать себя к осуществлению большой мечты, но тоже реальной: я хотел бы провести Новый год дома, я хотел бы на Пасху побывать в церкви, я хотел бы в следующем году встретить свой день рождения на море, с семьей.
Маленькие шаги крайне важны, но без большой мечты и веры в ее осуществимость очень трудно удержаться на плаву. В конце концов, нет на свете ни одного человека, который бы успел подготовиться к раку: исполнить главную мечту своей жизни и реализовать все большие и маленькие планы. Рак, так случается почти со всеми, приходит в жизнь совершенно не вовремя. И всегда – внезапно.
В тот момент, когда болезнь пришла к Лайме Вайкуле, самой певице казалось, что жизнь как раз только начинается: неожиданный большой и длительный контракт в США, студия звукозаписи в Лос-Анджелесе, концерты и предложения ведущих ролей в громких американских мюзиклах. Мечта только стала сбываться. Она вспоминает об этом почти без сожалений: карьеры не жалко, просто обидно расставаться с иллюзиями: «Всё для меня было – только пой, только улыбайся, только записывай свой голос на нашу пленку, принцесса! Меня распевал певец, который распевал Майкла Джексона. С меня сдували пылинки, катали на кабриолетах, собирались сделать из меня звезду, одним словом. А я? Сказать, что я собиралась делать карьеру, будет нечестным. Знаете, всю жизнь всё то, что касалось карьеры, я ломала. Вот Бог давал, а всё уходило, как песок через пальцы. И вот болезнь… Болезнь сама всё решила. Она отменила, скажем так, всё лишнее и ненужное. А вредное – исправила. До болезни мне казалось, что земля вертится вокруг меня, я самая главная: я, я, только я. Я была страшной эгоисткой и людей, которые жили не так, как я, не то что не принимала – я их осуждала. Болезнь это поправила. Я поняла, что люди разные, другие. И какие они – не так уж важно, важно, по крайней мере, стараться их принимать. Поняла, что главное в жизни – это родные и близкие. И какие они – тоже не так уж важно, главное, живы-здоровы. Ну а вся эта карьера – всё глупости совершенные. Хотя…»
Тут Лайма задумается. У этого «хотя» высокая цена. Ведь если бы не случайный продюсер, не немного несвоевременные гастроли, не забрезживший на горизонте американский контракт, этого нашего с ней разговора могло бы и не быть. Это я и произношу вслух. Она опять молчит, болтает ногой и кивает: «Да, это такая цепь невообразимых случайностей. Я от других людей, которые тоже заболели, такое не раз слышала. И со мной так было: я не собиралась ехать ни в какую Америку. Но когда всё стало складываться, я помню, как продюсер мне очень серьезно, как американцы любят, сказал: «Главное, что тебе надо везти с собой в Соединенные Штаты, – это здоровье». О, как это на меня тогда подействовало! Я как сумасшедшая проверялась! Я всё время думала: главное, чтобы я была здоровенькая. Хорошо помню день, когда мне на родине, в Союзе, отдали карту обследования. Похлопали по плечу и сказали: «Ну просто огурчик!» Через месяц в Америке выяснится, что у меня последняя стадия. И врачи скажут: надо было десять лет не проверяться, чтобы так запустить».
Лайма Вайкуле не любит говорить о том, какой именно рак обнаружился у нее в Америке, подорвав все планы. Я не вижу веских причин, которые бы извиняли нарушение ее права на конфиденциальность. Поверьте, что рак, с которым встретилась Лайма, один из самых распространенных, давно и неплохо диагностируемых. И именно поэтому вопрос: это врачи проглядели, или болезнь оказалась такой стремительной, не отпускал ее всё это время. «С тех пор во мне поселилось недоверие к нашей медицине. Потому что они – пропустили. Еще потому, что я оказалась не готова. А еще послевкусием от всей этой истории осталась обида: все мои друзья, близкие, все те, кому не повезло по случайному контракту оказаться в Америке, – они ведь должны со всем этим сталкиваться там, где меня «упустили». Как это пережить? Как с этим смириться?» – говорит Лайма. Вроде бы успокаивается, но потом продолжает на еще более высокой эмоциональной ноте, как будто какая-то пружина внутри нее распрямилась и теперь не дает ей остановиться: «Но иногда я думаю, что я неправа. Что этот месяц, быть может, и стал роковым в моей истории болезни».
Глава 7
Ученые едины во мнении: в каждом живом человеке есть рак, который спит до поры до времени. Как любой живой организм, наше тело постоянно производит дефектные клетки. Так рождаются опухоли. Но наше тело оснащено также многочисленными механизмами, которые позволяют ему выявлять и сдерживать их. Ведь только один из четырех человек заболеет раком, но трое-то не заболеют! Защитные механизмы их организма оказали раку сопротивление.
Что это за защитные механизмы, сколько их? Как именно они сопротивляются раку? Пытаясь сделать логику рака понятной обывателю, профессор, доктор биологических наук Андрей Гудков опять возвращается к образу катящегося по наклонной преступника, который вряд ли родился аморальным негодяем, но безнаказанность вначале маленьких, а потом и больших злодеяний развратили его, сделав законченным убийцей: «Хорошо известно, что клетка из нормальной не может превратиться в раковую одноступенчато, потому что блоков, которые нужно снять для того, чтобы стать клеткой, способной уничтожить организм, очень много. Например, есть блок «не делись, когда вокруг достаточно клеток, тебе подобных, и ткань полностью функциональна». Это очень понятный запрет. Снять его можно, включив какой-нибудь онкоген, который будет постоянно давать клетке сильный стимул делиться. И клетка станет «сексуальным бандитом». Она получит такой колоссальный стимул делиться, что она и ее бесчисленное потомство будут делиться, несмотря на то, что и места нету толком, и еды не хватает, и не положено делиться в этот момент. Но стала ли такая клетка раковой? Конечно, нет! Потому что даже если она совсем себя не будет сдерживать и станет делиться столько, сколько может, у нее не будет достаточно еды. То есть клетка должна научиться еще привлекать сосуды.
Выходит, надо нарушить еще один запрет: нормальная клетка не занимается привлечением сосудов, значит, те клетки, которые не научились это делать, не дадут опухоль. Они немножко вырастут, станут голодны, остановятся. Выходит, клетке нужно приобрести еще одно свойство: либо привлекать сосуды, либо не обращать внимания на голод. Потому что у нормальной клетки есть четкий молекулярный механизм, определяющий концентрацию глюкозы (а глюкоза – как деньги для клетки, и если глюкозы мало, то этот механизм сообщает в ядро информацию, что делиться нельзя, нужно, наоборот, умерить метаболизм и начать перерабатывать накопленные жиры). Если этот механизм выключить, то и человек, и опухоль становятся безответственными. Они продолжают делиться. Как в недоразвитых странах: несмотря на то, что нет денег и нет еды, семьи рожают десятки детей.
Предположим, клетка научится делиться, научится добывать себе пищу или деньги, на которые эту пищу можно купить. Образует ли она рак, который даст метастазы? Нет, потому что у каждой клетки соматической, не половой, ограниченное количество делений, которые она может проделать. А затем остановится навсегда, потому что у нее кончатся теломеры».
Позволю себе ненадолго прервать триллер профессора Гудкова о клетке, с ловкостью Доктора Зло разрушающей все поставленные на ее пути преграды, для того, чтобы хотя бы в нескольких словах, без претензии на академичность, объяснить роль и значение открытия теломер в понимании механизмов зарождения рака в нашем организме. Но прежде определимся с тем, что вообще такое теломеры.
Представьте, что на кончике каждой хромосомы расположены маленькие песочные часы, отмеряющие время жизни до смерти, – это и есть теломеры. Естественный механизм старения и гибели клетки. В 2009 году за разгадку тайны этого механизма американский ученый-цитогенетик Элизабет Блекберн вместе с Кэрол Грейдер и Джеком Шостаком получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Вот что она сказала в своей нобелевской лекции в Стокгольме: «Мы обнаружили, что с ходом клеточных делений теломеры постепенно укорачиваются, клетка и весь организм стареют. Мы также нашли, что хронический стресс укорачивает теломеры, и это может объяснить, почему некоторые люди стареют ускоренно».
Среди блестящей публики, аристократов крови и духа, ученых, которые внимали словам госпожи Блекберн, вполне мог оказаться и русский биолог-теоретик Алексей Оловников. В 1971 году, когда Блекберн еще и не приступала к своим исследованиям, он в деталях предсказал не только роль теломер в процессе старения, но и сам факт их существования. Но только на бумаге, а не в пробирке, чем и объясняется тот факт, что Блекберн всемирно известна, а о судьбе и научной деятельности Алексея Оловникова знает только узкий круг специалистов.
Объясняя ход своей мысли, биолог Оловников сказал: «Я долго размышлял насчет того, каким образом клетки могли бы определять, сколько они сделали делений. Я понимал, что клетки умеют считать, но было важно узнать, как именно они это делают».
Озарение пришло к Оловникову осенью 1971 года, когда, задумчиво пиная опавшие листья, Алексей шел по привычному маршруту – от университета к метро. Из головы не выходило: «часы смерти» должны быть очень простыми, и их устройство напрямую вытекает из структуры ДНК – знаменитой двойной спирали. Если ее распрямить, будут рельсы – две очень длинные нити, которые при делении копируются. Это озарение совпало с моментом входа Оловникова внутрь станции «Университет» Московского метрополитена имени Ленина. Спустя годы Оловников вспоминал: «Я спустился в метро. И в этот момент с грохотом идет, а затем останавливается поезд. И я как раз подхожу туда, к тому месту, где он останавливается. И тут, Боже мой, так вот всё-всё уложилось сразу воедино. Если рельс, по которому идет поезд, – это ДНК, а ДНК – полимераза, то есть фермент, который делает копию, – это сам поезд, то тогда получается полная аналогия!»
Оловников еще раз внимательно взглянул на уходящий поезд. Этот октябрьский день окажется самым важным в его жизни. Его статью в 1972-м согласились опубликовать «Доклады Академии наук», которые попадали на Запад с черепашьей скоростью и в дурном переводе. Но идея была заброшена в головы сотен ученых: десятки лабораторий стали искать часы смерти внутри молекулы ДНК, забыв о том, кто эту идею подал. Спустя четверть века подтвердились все предсказания ученого Оловникова. В том числе и о роли теломер в старении и регулировании жизненного цикла нормальной клетки. Пройдет двадцать семь лет, и Нобелевскую премию за открытие теломер получит группа американки Элизабет Блекберн, много цитировавшая Оловникова в своих работах.
Смысл открытия в том, что при каждом клеточном делении обе дочерние клетки получают одинаковую генетическую информацию, поэтому перед делением каждая молекула ДНК удваивается. Оловников представил, что ДНК – это рельсы, а поезд, который по ним движется, и есть фермент, который делает ее точную копию для вновь образующихся клеток. Получается, тот кусок, который находится под поездом, не удвоится, соответственно и новый путь будет короче ровно на длину состава. Каждая следующая копия будет еще короче, пока вся теломера – фрагмент ДНК, к которому может прикрепиться фермент, – не израсходуется.
Представьте себе три клетки. С виду абсолютно одинаковые. Но первая, молодая, поделилась всего пару раз, вторая, как бы среднего возраста, уже сделала 30 копий, а третья – 49. Внешне вы не найдете никаких различий. А вот концы хромосом отличаются. Чем больше делений совершила клетка, тем короче концы хромосом. У самой старой хвосты – их назовут теломерами – почти не будут видны. Больше она делиться не будет. Будильник смерти зазвонил.
Только два вида клеток не подчиняются общему закону. Половые – ведь мы, рождаясь, не наследуем возраста наших родителей. И раковые. Потому что и те, и другие делятся бесконечно и, в сущности, бессмертны.
Предсказание Алексея Оловникова, предвосхитившее удостоенное Нобелевской премии открытие Блекберн – Грейдер – Шостака, – это прорыв науки в решении проблемы бесконечно делящейся раковой клетки и трагически конечных возможностей для деления клетки обыкновенной. Если научиться управлять теломерами, можно научиться управлять продолжительностью жизни клетки.
Судя по всему, раковые клетки обладают каким-то особым ферментом, который бесконечно достраивает концы ДНК до исходной длины и обнуляет возраст клеток. Способность делиться бесконечно половым клеткам (не собственно сперматозоидам и яйцеклеткам, а их предшественникам – так называемым клеткам «зародышевой линии») дает работающий в них, но не в других клетках нормального организма, фермент теломераза, который постоянно достраивает концы ДНК до исходной длины и тем самым обнуляет возраст клеток. Собственно, за открытие теломеразы и расшифровку механизма ее действия и получило Нобелевскую премию трио ученых. Доказанный факт, что теломераза производится только клетками репродуктивной системы, объяснил постулат Августа Вейсмана, который 100 лет назад говорил о бессмертной зародышевой плазме и смертной соме. В советское время – речь о десятилетиях доминирования «теории» академика Лысенко – взгляды Вейсмана считались реакционными и буржуазными, а его теория – идеалистической и религиозной. «Вейсманист» для биолога периода Лысенко стал эквивалентом клейма «враг народа» со всеми вытекающими последствиями и сильно затормозил советскую научную мысль, касающуюся канцерогенеза.
Теперь вернемся к наглядному примеру профессора Андрея Гудкова: долгому и тернистому пути, который проходит нормальная клетка, чтобы стать клеткой-преступником, то есть раковой, той самой, которая для удлинения своего жизненного цикла умеет обманом удлинять теломеры.
«Бедной опухолевой клетке, для того чтобы стать убийцей, нужно так много всего придумать и от такого большого багажа избавиться, что на это нужно много времени. Но нет никакого правила: сначала сделай это, потом это, – говорит Гудков. – Все события происходят случайно, потому что для каждого нужна мутация либо некая эпигенетическая перестройка. В любом случае требуется достаточно кардинальное событие, а поскольку эти события стохастические (система репарации генома работает очень эффективно), наши ДНК-полимеразы делают ошибку очень редко – один раз на миллион нуклеотидов за цикл репликации, – да и ту почти всегда находят и исправляют системы репарации. Но поскольку у нас сотни миллиардов клеток, такие события, пусть и чрезвычайно редко, все-таки реализуются. И почти всегда пресекаются отбором: неправильная клетка почти мгновенно погибает».
А если не погибает, что дальше? Клетка научилась делиться, но еще ничего плохого не приобрела – это будет доброкачественная микроопухоль, как родинка. (Родинки, кстати, это такие клетки, в которых включились онкогены, они начали расти, потом у них кончились теломеры, и они остановились навсегда, став как бы старыми.) Но вот в организме есть клетка, которая научилась бесконтрольно делиться, а еще где-то в ткани есть другая клетка, которая включила теломеразу и научилась, как и клетка зародышевой линии, удлинять теломеры, – станет она от этого раковой? Скорее всего, нет. Во всяком случае не сразу: она лишь станет потенциально бессмертной – так обычно ученые называют клетки, способные к бесконечному делению, – но если у нее нет второго изменения, создающего постоянный стимул делиться, она будет хорошим, нормальным жителем. И тем не менее клетка, нарушившая хотя бы один из законов, по которым строится нормальная жизнь в организме, по теории вероятности поднимется на ступеньку выше в своих шансах стать, в конце концов, раковой. Это значит, что с каждым новым приобретением ей надо набрать всё меньше и меньше дополнительных очков для того, чтобы окончательно и бесповоротно стать раком, стать преступником, врагом своему организму. Если вернуться к аналогии того, как обыкновенный человек становится преступником, то совершенно очевидно, что ключевое событие в жизни преступника – это потеря совести. Так же и с клетками. Совестливая клетка считает себя обязанной покончить жизнь самоубийством, если что-то в ее жизни пошло не так и она или ее потомки могут принести организму вред. Такое альтруистическое самоубийство наших клеток называется апоптозом.
Апоптоз – от греческого апоптозус, опадание листьев. Запрограммированная природой неизбежная клеточная смерть в определенных физиологически оправданных обстоятельствах. Отслужив положенное, или оказавшись не на своем месте, или претерпев повреждающее воздействие, клетка кончает жизнь самоубийством, чтобы цивилизованно уступить место здоровым. Каждую секунду множество клеток в нашем организме совершают апоптоз.
Бессовестные, то есть раковые, клетки живут вечно. Ученый Гудков, пытаясь описать понятными неспециалисту терминами эту метаморфозу, говорит так эмоционально, словно бы речь действительно идет о коварном и зловредном преступнике. И, слушая его, я начинаю действительно верить в то, что раковая клетка – это циничный и расчетливый преступник, а не просто какой-то там случайный и необъяснимый сбой в организме. «У раковых клеток действительно нет ни стыда, ни совести. Их не останавливает то, что они предают все «моральные ценности» клеточного социума – организма, который их создал, вырастил, которому они должны служить; всё, что могло бы их остановить, они потеряли в результате мутаций. Одного они не понимают: они убьют организм и вместе с ним погибнут сами – заблуждение каждого начинающего паразита. А рак – начинающий паразит по определению: ведь он каждый раз возникает заново, а значит, не может учиться на опыте предшественников», – рассказывает Гудков.
Еще одно базовое понятие, связанное с отличием «бессовестной» раковой клетки от «совестливой и сознательной». Это «предел Хейфлика».
Предел, или лимит Хейфлика (Hayflick limit) – граница количества делений соматических клеток, после которой наступает необратимый финал; назван в честь Леонарда Хейфлика. В 1965 году Хейфлик наблюдал, как клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, навсегда прекращают делиться приблизительно после 50 делений и приобретают новые черты, характерные для старой клетки.
В романтические 60-е прошлого века, пытаясь разгадать секрет вечного сияния жизни, профессор Хейфлик вдруг оказался на темной стороне бессмертия. Единственные клетки в организме млекопитающих, помимо клеток зародышевой линии, способных делиться бесконечно, – это клетки, потерявшие совесть. Раковые. Удивительным образом, говоря о собственном открытии – пределе деления человеческой клетки, а значит, и о конечности жизни (в норме), и о раковых клетках, которые этому закону всеобщей конечности не подчиняются, – профессор Хейфлик оперирует теми же образами, что и профессор Гудков: аморальные, бессовестные, нарочно уничтожающие организм клетки. Как будто у них и вправду есть ум, честь и совесть. Как будто они и вправду сознательно планируют кого-то убить.
Профессор Хейфлик рассуждает: «У всех нормальных клеток человеческого организма есть «счетный механизм», благодаря которому клетки учитывают каждое свое деление, и когда количество делений доходит примерно до пятидесяти, клетка перестает делиться. Секрет бессмертия в том, чтобы сбить клетку со счета (открытие Леонарда Хейфлика относится к 60-м годам прошлого века, в 2009-м группа ученых под руководством Элизабет Блекберн получила Нобелевскую премию за то, каким именно образом клетка «считает» свои деления – теломеры. – К. Г.). Но в том, что касается раковой клетки, эти счетные механизмы не работают. Она умеет обманывать отпущенное ей число делений. И получается, что у раковой клетки нет предела, нет никаких ограничений, она физиологически аморальна. Скажу сейчас неаппетитную вещь: если поместить тело умершего в благоприятную физиологическую среду, то единственное, что продолжит расти, – опухоль. Это называется «генетическим абсурдом». Организм умирает, а опухоль расцветает. Раковые клетки «за спиной организма» вступают в сговор с геном – производителем теломеразы, которая всё время «подкручивает счетчик». Удлиняет теломеры».
Мы встречаемся с профессором Хейфликом в 2001-м, ему – восемьдесят пять. Помимо всё еще бурной научной деятельности, он видный общественник – вице-президент Американского геронтологического сообщества. В его окружении подшучивают: профессору удалось заглянуть в глаза вечности. Открытое им «бессмертие» раковой клетки не оставляет его в покое до сих пор. Он убежден, что и ему, и Оловникову, и Блекберн удалось уже крайне близко подобраться к разгадке. Только сама разгадка как будто бы сбежала прямо на глазах, ускользнула сквозь пальцы. «Смотрите, какими трудными путями мы подбираемся к постижению тайны раковой клетки, со скольких разных сторон, какое количество лет, десятилетий, – рассказывает Хейфлик. – Всё началось с того, что яркий русский ученый Алексей Оловников предположил, что механизм, согласно которому клетке посылается сигнал о том, что нужно прекратить деление, существует. Оловников предвосхитил очень важное открытие. Я до сих пор восхищаюсь его блестящей аналогией: пути в метро выглядели, как хромосомы или ДНК, а поезд – энзим, белковая машина, которая обеспечивает удвоение клеточной ДНК перед делением. Оловников просто представил, что железнодорожные пути удваиваются перед поездом, но не под вагонами. Если представить, что каждый новый пробег идет по вновь построенным рельсам и это происходит много-много раз, железнодорожные пути с каждым новым пробегом поезда становятся короче, еще короче. Он это предложил просто как «эксперимент на словах», не проводя никакой лабораторной работы. Однако оказалось, он был прав, потому что через несколько лет было открыто, что теломера укорачивается при каждом делении клетки».
И вот тогда перед учеными встал важный вопрос: как раковые клетки избегают этого процесса?
Спустя несколько десятков лет профессор Хейфлик отвечает вполне уверенно: «Они избегают его потому, что запускают ген, производящий теломеразу, – как клетки половой системы. Эта теломераза вынуждает клетку добавлять недостающие участки теломер, иначе теломера будет утрачена. Теломеры перестают укорачиваться. Это открытие теломеразы объяснило на молекулярном уровне мое открытие конечности деления каждой нормальной клетки, наличия у нее счетного механизма. И объяснило феноменально. Итак: раковая клетка продолжает делиться, потому что она не допускает укорачивания теломер. Если хотите, это ее, раковой клетки, прививка против совести – теломераза предохраняет теломеры от сокращения. Как она это делает? Что она «ест или пьет»? На молекулярном уровне никто не знает ответа на этот вопрос. Но мы очень близки к разгадке. Сейчас эта область исследований очень активна. Люди пытаются ограничить экспрессию теломеразы, чтобы заставить клетку умирать естественной смертью. И я очень надеюсь дожить до этого исторического момента».
Надо ли знать всё это онкологическому больному? Нужны ли эти сведения каждому здоровому человеку? Необходимы ли они для того, чтобы противостоять болезни или даже предупредить ее? Я думаю, да. Мне кажется, история поиска средств против рака ужасно похожа на захватывающий детектив. Только наоборот: убийца уже известен, а единственный способ его найти и остановить только предстоит отыскать. Именно поэтому всем участникам битвы против рака нужны все доступные сведения о противнике: список злодеяний и улик, информация о слабых местах, просчетах, возможных ошибках, а значит – возможных шансах на победу. Нашу победу над раком.
Я всё время спрашиваю дочь, как я выгляжу, – она улыбается, кивает, говорит: хорошо, мама, просто замечательно. А потом выходит в коридор и возвращается с заплаканными глазами. Сегодня попросила ее сфотографировать меня на телефон. Стало страшно.
В августе 2010-го Жене покажется: хуже и страшнее, чем теперь, уже быть не может. Она уверена, это конец. Евгения начинает плакать: во время гемодиализа, после – в палате, отвернувшись к стене. Врачи выражают беспокойство. Настаивают на том, чтобы вызвать психиатра. Сама психиатр по образованию Панина понимает: нужен другой специалист. Просит приехать приятеля, практикующего психолога, тоже, впрочем, ничего не знающего про онкопсихологию. Полуторачасовой разговор вроде бы дает результат. Евгения Панина фиксирует его в дневнике своей болезни. Она ведет этот дневник мучительно, тяжело.
До сих пор всегда считала себя здоровой женщиной, почти никогда не болела. Моя болезнь стала страшным откровением не только для меня. Ужас, который я вижу в глазах родных, меня пугает. Видно, что им страшно. И за меня, и за то, как будет без меня. Муж, кажется, потерялся от самой мысли о том, что я вообще могу заболеть, никак не может в это поверить. До сих пор. Я, кажется, так и не могу ничего этого принять: жуткий диагноз, туманные прогнозы лечения и наложившееся на всё это непонимание в семье. Я постоянно чувствую себя виноватой. Виноватой, что заболела.
Панину мучает во многом общее для всех заболевших чувство вины: за то, что подвела родных и близких, нарушила привычное течение жизни, заболела. Из этой «виноватости» вырастает другое: пациент стесняется диагноза как чего-то действительно неприличного, неудобного, ставящего всех вокруг (особенно близких!) в неловкое положение. Человеку, совсем недавно столкнувшемуся с болезнью, неудобно просить, получать помощь, быть неспособным самостоятельно что-то сделать. И он умолкает. Замыкается в себе. Постоянно прокручиваемые мысли о собственном неудобстве для окружающих загоняют больного в угол: я им мешаю, без меня было бы намного легче.
Много разговаривая с пациентами и их близкими, я думала о том, почему мы оказываемся не готовыми к болезни: своей, близких. Почему всякий, даже хорошо образованный, много знающий, словом, просвещенный человек первым делом старается сделать вид, что ничего такого в его жизни не происходит. Почему известием о получении неприятного диагноза не принято делиться, даже с самыми близкими. Почему родители рассказывают о своих недомоганиях детям в последний момент, жены стараются скрыть болезнь от мужей и наоборот. И всё это происходит под лозунгом: «Я не хочу обременять своими проблемами».
Мне кажется, дело во многом в том, какой нам представляется нормальная, то есть беспроблемная жизнь. Ладная картинка здорового советского общества, к которой нас приучали с детства, совсем не подразумевала болезней, слабости и немощи. В некоторых псевдохристианских обществах, например, таких как наше, веру в Бога или в человека (или даже человечность!) заменил культ Успеха. Успешен тот, у кого есть возможность дорваться, урвать и, желательно, вырваться. Успеху сопутствуют деньги, узнаваемость и имманентная возможность не подчиняться общим законам. Вплоть до Уголовного кодекса. Успех не Бог – он не «всё видит», опираясь на сентенцию «победителей не судят». В этом смысле главное, чего боится успех, – неуспеха. А неуспех – это неумение подстроиться (и устроиться), щепетильность, слабость, болезнь или появление на свет отличного от среднестатистического здорового ребенка. Неуспеха боятся куда больше кары Господней (впрочем, в этой логике неуспех и есть кара Господня). В этой логике неуспех заразен. В России успешных и знаменитых, сумевших отыскать слова, чтобы рассказать соотечественникам о своей болезни или болезни своих детей, – единицы. Как правило, это люди, так или иначе сумевшие выйти за рамки того круга, где успех меряется одинаковостью, исполинским здоровьем, связями, блатом и деньгами.
Постхристианское (псевдохристианское) и постсоветское общество современной России лихорадит: или истово биться в молитве у алтаря, или плясать на нем. Среднего как будто не дано. Понятие нормы очевидно сместилось: герои нашего времени – вовсе не честные учителя или врачи, не многодетные родители, прожившие бок о бок полвека, вырастившие детей и внуков, не те, кто сумел поднять и выпустить в жизнь детей с ДЦП или аутистическим спектром расстройств, не строители и не садоводы, а некие сверхчеловеки, плюющие на повседневные личные интересы (доступное здравоохранение, нормальное образование, семейные ценности, здоровая и вкусная еда) во имя сверхцели: продемонстрировать «им там», как Россия поднялась с колен, стала сверхдержавой и поставила всех на место. Подразумевается, что люди за это готовы страдать: отказываться от европейских лекарств и медтехники, научных достижений, наконец, еды. При таком мощном внешнем целеполагании просто нет времени на слабаков, неспособных идти в ногу со строем: десятилетиями «не таких», покалеченных войной, работой, болезнями, высылали за пределы больших городов доживать в специально отведенных местах. Слабые портили картину успехов сильных. Постепенно стать слабым начинало означать быть списанным со счетов. Именно этого мы боимся, когда боимся болезни на виду: нас не возьмут делать дело, вычеркнут из списка. Ведь принято считать, что большую историю делают не люди, но народ, не человек, но масса, не гражданин, но граждане, шагающие в ногу: кто-то упал, не беда, двигаемся дальше, впереди великая цель. В России, стране, как будто десятилетиями живущей по законам мобилизационного времени, сострадательная лирика – просто сопли. А эмпатия (сочувствие) – атавизм, мешающее быть успешным свойство душевной организации. Нацеленное на серьезные цели большинство его презирает. У людей, родившихся и выросших в Советском Союзе, здоровье их детей и внуков приравнено к успеху в жизни как главному смыслу и цели. Болезнь – признак неуспеха. Первый тревожный звонок будущего одиночества и невостребованности. Таким не делятся. Страшно. И потому истории болезни в нашем обществе – дело частное, скромное, скрытое. Мы не умеем болеть. И точно так же не умеем сочувствовать тем, кто болеет. В болезни нам видится не продолжение жизни, но ее драматическое изменение. Из этого вытекают далеко идущие, но изначально совершенно неправильные выводы: больной человек – неполноценный член общества, работник, друг, партнер, с ним не имеет смысла строить далеко идущие планы. Поэтому чувства и мысли Жени совершенно понятны: ей никто не рассказал о том, что болезнь – это не конец, а один из этапов жизни. И еще – о том, что, разумеется, с индивидуальными различиями, болезнь развивается схожим образом у каждого заболевшего. И физиологически. И психологически.
Иногда ничего не могу с собой поделать: я злюсь. Ни на кого и ни на что конкретно – на всё; всё раздражает. Поздно вечером они уходят, а я лежу одна, уткнувшись носом в стену. Я ищу причину своей болезни.
В конце концов заставляю себя поверить в то, что это – посланное мне испытание. И если я его выдержу, если сумею пройти, дальше всё будет хорошо. Но теперь мне кажется, что не выдержу, не сумею. <…>
Ночью не сомкнуть глаз. Я анализирую свою жизнь: дети выросли, у всех своя жизнь, свои проблемы, я полностью растворилась в работе, муж тоже… И мы превратились в подобие семьи. Наша жизнь – имитация жизни. Наши слова – просто слова. Ничего настоящего, стоящего, того, за что следовало бы держаться. Что держало бы…
Болезнь всё ставит на место. Вот они борются за меня, вот несутся ко мне с сюрпризами, рассказами, подарками. Вот они стараются улыбаться. Я вижу, чего им стоят эти улыбки. Господи, да я оказалась здесь только благодаря своей семье, это они добились моей госпитализации в такое место на таких условиях, это они подарили мне этот шанс выкарабкаться. Они сделали это ради меня. Как я могу сердиться на судьбу?! Болезнь, как это ни кощунственно звучит, пошла во благо моей семье… Хотя еще непонятно, чем всё это может кончиться…
Наступает утро. И мне опять кажется, что все говорят не то и всё делают не так. Мне кажется, мир против меня. К ощущению выпадения из жизни примешиваются злость и раздражение. А на их место приходит чувство обреченности, безысходность.
Начинаю думать о завещании. Страшнее всего, как мне кажется, даже не то, что я умру, а то, что еще надолго останусь прикованной к кровати обузой для родных <…>
Голова идет кругом. В Москве пожары, дикий смог и +30. А у меня здесь постоянные уколы, капельницы, измерение температуры, бесконечные анализы, страх, к которому примешивается стыд, а вдруг кто-то узнает, увидит, как я здесь выгляжу. Какой я на самом деле слабак. Не хочется ни с кем говорить, общаться. В голову лезут черные мысли: я лежу на 20-м этаже огромной больницы. От моей кровати до края балкона всего несколько шагов…»
Глава 8
Я вспоминаю эту страницу из дневника Евгении Паниной как будто бы по хэштегу: #надвадцатомэтаже. Интервью телеведущего Дмитрия Шепелева, гражданского мужа певицы и актрисы Жанны Фриске, начинается именно с этих слов: «Я стою на 20-м этаже». Только речь о человеке, который рядом, который не болеет внешне, но которого болезнь затрагивает едва ли в меньшей степени; психологически рак распространяется как круги по воде – рядом с больным страдает от четырех до четырнадцати человек: родственники, знакомые, коллеги по работе, соседи, друзья. Шепелев – человек, который прошел через болезнь своей жены от начала до конца. Но начинает он с кульминационной точки – надежды: «Я стою у огромного окна на 20-м этаже Манхэттенской гостиницы. В стекло с разбегу врезаются огромные снежинки. Внизу рождественскими огнями горит Нью-Йорк. Мы только что вошли в номер. И, кажется, всё по-прежнему, как в прошлой счастливой жизни: мы вдвоем, мы в гостинице, сейчас начнется путешествие, которое станет еще одной страницей истории нашей любви. Я стою у окна и смотрю на город. За моей спиной огромная гостиничная кровать, заправленная свежими простынями. В ней только что утонула Жанна, прошептав: «Господи, как хорошо! Как раньше…» Спиной чувствую, как она улыбается. Поворачиваюсь и спрашиваю ее: «Жанна, а ты сама, правда, веришь?» С тихой улыбкой она отвечает: «Если ты веришь, то верю и я».
В интервью Шепелев описывает события января 2014 года. Но говорим мы об этом в январе 2015-го: записываем интервью там же, на 20-м этаже гостиницы в Манхэттене, в Нью-Йорке. Вместе с Димой и Жанной мы решили снять фильм об их борьбе против рака и победе над ним. Мы пытаемся восстановить ход событий, не упустив ни одной детали, чтобы их история смогла стать подспорьем тем, кто будет болеть потом. Это решение Шепелева и Фриске, а я им только помогаю. Зимой 2015 года они так верят в полную и окончательную победу над болезнью Жанны, что решают, не откладывая, сделать из пройденного пути пособие, четкое руководство для растерянных перед лицом рака людей: как принять болезнь, как уточнить диагноз, куда бежать за советом, где искать помощи. Съемки начинаем в Америке: здесь летом 2013 года Жанне поставили диагноз, здесь Дима впервые в разговоре со своей мамой перевел английское слово tumor на русский. Получилось – опухоль, то есть рак. Это слово зловеще повисло в воздухе.
С разрешения Дмитрия Шепелева я публикую расшифровку наших с ним интервью, записанных в период с 2014 по 2016 год. Эти интервью никогда не были в эфире.
ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: Никто из моих и Жанниных родственников никогда тяжело не болел. Само слово «рак» было чужим, грубым, незнакомым, окончательным. И как будто из какой-то другой, не нашей жизни. Я помню, как подсознательно старался не впустить это слово себе в голову, не дать ему слететь с моего языка. И как, в конце концов, я сказал маме: «У Жанны – рак». А мама, помолчав, через тысячи километров ответила: «Я люблю тебя. Передай Жанне, что мы ее любим». Я повесил трубку и побрел через бетонный плац, окружавший больницу, где Жанне поставили диагноз и в первый раз буквально «вытащили с того света», в приемный покой, к лифтам. Потом по коридору – в палату. Пока я шел, в голове пульсировало совсем даже не слово «РАК», а другой слово – «ЛЮБОВЬ». Я вошел в палату, сел рядом с Жанной, взял ее за руку и сказал, глядя в глаза: «Я так люблю тебя».
Следующие полгода он будет повторять ей это чаще, чем прежде. А сам ночами, между съемками, тайком вызванивать одного «самого лучшего специалиста» за другим. Но так, чтобы решительно никто вокруг, никто из посторонних не понял, что Жанна больна. Чем именно она больна.
ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ: Почему я хранил молчание? По привычке. Меня никто этому не учил, никто не просил, не рекомендовал. Это какая-то память предков, подсказывающая, что болезнь – это несчастье, которым не делятся. К тому же мне казалось, что все происходящее с нами скоро кончится и должно пройти незаметно. И что, рассказав о болезни кому-то постороннему, я предам Жанну, предам нашу тайну, что-то разрушу. В итоге так вышло, что о том, что Жанна больна, к 2013 году знали только наши родители и три самые близкие подруги жены, с которыми я поделился «новостями» в какой-то сумбурной надежде: а вдруг в их толстых записных книжках есть телефон того самого врача. Или кого-то, кто может знать того самого врача. Я тогда даже никак не связывал публичность болезни с тем, что нам могут понадобиться деньги, какая-то помощь: дружеская, финансовая, медицинская. Я был уверен: мы справляемся и дальше будем справляться своими силами. А жаловаться не хотелось…
Мы делаем паузу. Рассматриваем Нью-Йорк с высоты двадцатого этажа модной гостиницы. Обсуждаем планы съемок: завтра у нас интервью в Лос-Анджелесе с доктором Блейком, светилом современной нейрохирургии, потом перелет в Майами, где всё, связанное с болезнью, почти мгновенно и страшно началось, потом Берлин и Москва. Я фантазирую: у фильма был бы классный финал, если бы Жанна спела новую песню. «Сейчас спрошу. Это должно быть ее решение», – говорит Шепелев. И отправляет смс.
Спрашиваю: «Как ты вообще пережил эти полгода молчания? Полгода, в течение которых у тебя вообще не было никого, с кем бы ты мог обсудить болезнь Жанны?» Молчит. Он, правда, очень старается говорить о болезни так, чтобы это было просто, понятно и полезно кому-то еще. Но у него не всегда получается справиться с эмоциями: «Ты знаешь, сейчас я, наверное, поступил бы по-другому. Отчасти наш разговор и фильм, который мы задумали, наше с Жанной решение рассказать всем о том, какой путь мы прошли, – это попытка исправить те полгода молчания». Шепелев смотрит на меня. Потом в окно. А потом вдруг, набрав воздуха в легкие, поворачивается к камере. И, прямо глядя в нее, говорит: «Я хочу обратиться ко всем тем, кто сейчас, прямо сейчас, в этот момент или, может, через неделю, месяц или год столкнутся с раком: не молчите. Оставаться один на один с болезнью нельзя. Всегда есть кто-то, кто прошел этот путь до вас, всегда может оказаться рядом кто-то, кто поможет вам пройти ваш путь с минимальными потерями. В одиночку справляться трудно и совершенно неправильно. Рак – это дорого. Дорого финансово, дорого – эмоционально. И вы сейчас, в самом начале, просто не можете себе представить масштаб того, во что эта борьба может вылиться. Поэтому просто постарайтесь не совершить наших ошибок и поверьте мне: так бывает, что человек не в состоянии справиться в одиночку. И это нормально». Жестом просит остановить камеру. Говорит: «Я сейчас тебе покажу». Достает телефон. И несколько часов подряд мы листаем и перечитываем эсэмэски и письма людей, написавших Диме и Жанне в ту самую ночь, когда они оказались в гостиничном номере на 20-м этаже Манхэттена. Эта ночь стала переломным моментом не только в болезни Жанны, но и в психологических обстоятельствах этой болезни: прежде рак Жанны Фриске был тяжкой тайной, которую приходилось оберегать, и это сжирало довольно много сил, отныне – за свою любимицу болела вся страна, обстоятельства болезни переменились.
В январе 2014-го им предстояло принять самое сложное и серьезное решение в совместной жизни, болезни и любви: как лечить Жанну, как сказать о том, что она заболела, друзьям и знакомым, миллионам ее поклонников, журналистам. Как перестать скрываться, перестать быть только двоими, хранящими тайну и сражающимися с болезнью, но остаться при этом наедине друг с другом? Накануне отъезда Фриске и Шепелева в США на лечение журналист, нанятый одним из российских «желтых» изданий, сфотографировал Жанну Фриске в аэропорту Шереметьево. В инвалидной коляске, без волос, с отекшим от химиотерапии лицом. Фотографию прислали на телефон Шепелеву прямо в момент взлета самолета, направлявшегося в Нью-Йорк, с недвусмысленной припиской: «Мы не торгуемся». Когда самолет приземлился, слух о болезни Жанны уже облетел прессу, телефон Шепелева разрывался от просьб прокомментировать и требований дать интервью. Одним из звонящих был генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. «Он сказал мне, что необходимость болеть на виду – это плата за популярность. И еще сказал, что канал будет собирать деньги на лечение Жанны. Хотим мы этого или нет. Сказал, что у меня есть возможность рассказать обо всем так, как я считаю нужным, используя эфир самой популярной в стране программы «Пусть говорят», – говорит Шепелев. – Я рассказал об этом Жанне. Она кивнула: «Значит, так и надо сделать».
Через пару часов, заплаканный и обессилевший, он покажет ей видеообращение, записанное на ноутбук. Она опять кивнет. Московским вечером, когда в Нью-Йорке будет раннее утро, это обращение увидит вся Россия. Вот текст: «Нашей семье выпало непростое испытание. Жанна больна раком. Сейчас мы обращаемся с одной просьбой: пожалуйста, поддержите нас добрым словом и поддержите нас молитвой».
Весь следующий день, на который у Жанны назначена встреча с лечащим врачом, анализы, обсуждение протокола лечения, и потом следующий – когда надо принимать решение, какую стратегию лечения выбрать, и через неделю, и через месяц на почту, в телефон, в Facebook, куда угодно будут сыпаться слова поддержки и предложения помощи, многие из которых Шепелев хранит до сих пор.
«Здравствуйте, до тех пор, пока я не узнала о болезни Жанны, мне казалось, что такое случается нечасто. И уж точно не с теми, кто на виду, у кого всё хорошо. Ваш рассказ о Жанне и ваша решимость бороться за ее жизнь придают мне сил. Это очень странно писать, но ощущение того, что этот рак – беда, которая уже случалась с людьми, случается прямо сейчас и еще когда-то тоже случится, как бы мы не хотели, дает надежду на то, что все вместе мы его как-то одолеем, этот рак. Спасибо, что вы нашли в себе силы рассказать», – написано в одном из писем. Так похожем на все остальные. И так на них непохожем.
«А слабость – это у всех так бывает?» – спрашивает меня, едва сойдя на перрон, Екатерина Юрьевна Гениева, филолог-англист, специалист по Джойсу, многолетний директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы. Из сумочки у Екатерины Юрьевны выглядывает первое издание книги «Победить рак». Она ловит мой взгляд; «Прочла за ночь, Катя. Спасибо. Знаете, что самое поразительное? Оказывается, кто-то уже болел. И кто-то через всё это прошел. Почему-то я вначале совершенно не отдавала себе отчет в том, что я не первая, с кем это случилось. Но вопросов всё равно много, пойдемте, вы мне расскажете».
Никакая болезнь, разумеется, не могла отнять у Екатерины Юрьевны царственную привычку командовать. Мы усаживаемся в ближайшем к вокзалу кафе. Она спрашивает подробно: про слабость и невозможность выполнять привычное количество дел в день, про сухость во рту, про неясность перспектив, про страх завтрашнего дня, про стремительную потерю веса, про возможную потерю волос, про изменившиеся вкусовые ощущения. Про то, наконец, как обычно устроена линия жизни онкологического больного. Ее, как и каждого нормального человека, столкнувшегося с прежде неизведанным, волнует всё, до малейших деталей. И наконец она произносит то, что, кажется, хотела сказать с самого начала: «Я пытаюсь понять, в какой момент я что-то упустила. Я же с утра до вечера, Катя, ходила по врачам, я внимательно следила за своим здоровьем. Мне для работы необходимо было быть здоровой, у меня много дел, еще больше – планов». А потом, совсем тихо: «Только теперь времени мало».
В марте 2014-го ей, только получившей диагноз и еще не успевшей даже понять, что всё это значит, давали не больше пары месяцев жизни. Примерно в это время мы и познакомились: я предложила Екатерине Юрьевне прочесть лекцию для проекта «Открытая лекция» в витиеватом письме, без особых надежд отправленном по электронной почте. Через несколько минут в ответном письме она в трех четких строчках изъявила согласие и предложила свои свободные даты. Уже через неделю рассказывала переполненному залу «Гоголь-центра» об отце Александре Мене и академике Андрее Сахарове, об отце Георгии Чистякове и писательнице Людмиле Улицкой, о Пастернаке и Лермонтове, о великой библиотеке Марии Федоровны и крошечной деревенской – в среднерусском захолустье, – куда единственная сотрудница просила Гениеву привезти сказки Чуковского, потому что прежняя книжка истрепалась.
Сессия вопросов и ответов длится втрое больше положенного – почти четыре часа. В зале вместе со всеми сидят муж Гениевой Юрий и дочь Дарья. Они волнуются. Но знают: ни остановить ее, ни прервать, ни намекнуть на то, что она больна и силы на пределе, невозможно. Это ее воля – жить и действовать в том темпе, в котором она привыкла.
«Катюнечка, у меня есть одна идея», – так начинались ее звонки. Из Лондона, из Берлина, из Ульяновска и Новосибирска. Иногда из Израиля, куда она исчезала на химиотерапии и операции. «Катюнечка, никак не могу понять перспективы, – писала она мне оттуда, – что и за чем будет следовать, какой конкретно план лечения. И еще очень тревожно, что все вокруг меня ограничивают: это нельзя, то не рекомендуется. Очень не хотелось бы останавливаться, жить неэффективно». Через месяц мы снова встретились в Санкт-Петербурге, где она опять согласилась прочесть «Открытую лекцию». Но питерские библиотеки отказали Гениевой в своих помещениях: Библиотека иностранной литературы, ею возглавляемая, только что приняла Конгресс интеллигенции с антивоенной повесткой; дружить с Гениевой «системным» людям стало опасно. Но она, как обычно, сделала вид, что этого не заметила: не подписала писем в поддержку военной кампании, не отвечала вчерашним коллегам и товарищам, позволявшим себе сплетничать и злословить за ее спиной.
Лекцию Екатерина Юрьевна читала в Музее Ахматовой в Фонтанном доме. Выступление было безупречным. Вечером мы ужинали и обсуждали планы придуманной ею библиотечной реформы, надежду на повсеместное просвещение, распространение книг, поддержку малых библиотек и «Открытые лекции» по всей России. Она мечтала участвовать во всем. «Помните, Катя, – вдруг спросила она, – тогда на Московском вокзале в ответ на мою некоторую растерянность вы сказали: «Придумайте себе план дел, которые необходимо сделать. И подчините болезнь этому плану». Я очень буквально восприняла этот ваш совет!» Разумеется, я не могла себе представить, сколь масштабным окажется план Гениевой. Сколько всего Екатерина Юрьевна успеет за те полтора года, в которые превратятся отпущенные ей два месяца жизни.
За две недели до ухода она снова приехала в Санкт-Петербург. Участвовать в «Диалогах» Открытой библиотеки. Защищать подвергшийся гонениям в России благотворительный фонд «Династия» (он занимался финансированием образовательных и просветительских проектов), закрывающийся Американский культурный центр в Библиотеке иностранной литературы и, наконец, право на образование и просвещение граждан России. Гениева не изменила себе: она и в этом своем выступлении была точна и бесстрашна. В ответ на мое пессимистическое замечание о том, что «большей половине граждан страны всё, о чем вы говорите, не важно и не нужно», страстно отвечала: «Катюнечка, вы не правы, просвещение – оно как воздух, этим нельзя пренебречь. Просто это очень долгий и кропотливый труд».
В тот приезд я попросила ее поговорить со мной под запись. Что-то вроде интервью. Мне показалось важным, чтобы как можно больше людей узнали о том, почему из своей болезни она не стала делать тайны, зачем решила болеть на рабочем месте и как отважилась ничего не скрывать. Но вначале я ее переспросила: «Мы действительно может говорить о болезни открыто?» – «Мы можем об этом говорить настолько подробно, насколько это интересно вам и вашим читателям. Я не из чего не стала делать секрета: ни из диагноза, ни из стадии. Я не изменила свой образ жизни, я работаю так, как я работала».
КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Я понимаю, что никто никогда в жизни не ждет встречи с раком. Но, заболев, чему вы больше всего удивились?
ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Знаете, наверное, тому, каким образом поставлен диагноз. Для меня ведь, как и для любого человека, болезнь эта оказалась совершенно неожиданной. И то, как она пришла ко мне, – потрясающая история. Ведь диагноз мне поставила портниха. Хотя, понятное дело, я девушка не деревенская и ко всяким врачам типа итальянских, американских, отечественных периодически ходила, и они мне все говорили «У вас всё в порядке». И вот я приезжаю в город Курск, и вдруг моя замечательная портниха, к которой я хожу уже десять лет, так задумчиво на меня посмотрела и говорит: «Екатерина, что у вас с животиком?» Я говорю: «Не знаю, наверное, я поправилась или похудела». Она говорит: «Нет, я знаю форму вашего тела. Пойдите к врачу». Это потрясающая история. Она заметила несимметричность моего живота и сразу всё поняла. Она увидела то, что никто не видел. Увы, было поздновато. Хотя докторам израильским я очень благодарна за ясность картины, за правду о моем состоянии и как раз за профессионализм. Они не рассказывают о себе мифы и не погружают тебя в мифы. Когда я первый раз была у своего онколога, я говорю: «Вы скажите, а вот какая (я ей даже не успела договорить) стадия?» Она говорит: «Четвертая, последняя». Понимаете?
КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Почему вам это так важно? Многие, наоборот, боятся услышать…
ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Мне это помогло собрать свои внутренние силы. И не потерять в течение этих четырнадцати месяцев работоспособность. И переносить и химию, и операции, понимая, сколько это продлится и что со мной происходит.
Никто не виноват, что метастазы мои снова рванули, и они сейчас, в общем, побеждают. Но доктора опять что-то придумали. Нашли и предложили использовать какое-то новое лекарство, совершенно убийственное. Прошлая химиотерапия по сравнению с этим – просто баловство какое-то.
КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Они обсуждают с вами тактику лечения?
ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Разумеется. Я же пациент, живой человек. У меня есть свое мнение, я участвую в лечении. Но самое главное, что я могу сказать про них совершенно отчетливо, у них есть отношение к болезни не как к терпению. Тебе надо всё максимально облегчить. Никаких страданий. Борьба с болезнью – да. Боль, страдание – нет. И именно поэтому, пока у меня есть возможность выбирать, где мне лечиться, здесь или там (хотя у нас замечательные специалисты), я выберу, конечно, Израиль.
КАТЕРИНА ГОРДЕЕВА: Но всё равно же будут обвинять в отсутствии патриотизма?
ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА: Это связано не с патриотизмом, а с качеством жизни во время лечения. Это важно. При этом, поймите, не то чтобы я сторонилась российских врачей, нет. Мне очень понравились наши районные онкологи. Конечно, это во многом совершенно советский подход: когда меня повели на какую-то комиссию по поводу больничного листа, там две такие дамы (одна крепко советская, другая уже послеперестроечная) говорят: «Вы хотите сказать, что вы работаете с этим диагнозом?» Я говорю: «Да». – «Это исключено». Я говорю: «Ну, исключено, но я перед вами». И разговор был довольно резкий. В Израиле мое желание работать услышали. Там вообще принято людей болеющих слушать. В этом, собственно, состоит разница в отношении к пациенту там и здесь. Ну и плюс качество, конечно, самой медицины: как видите, они сохранили мне полную работоспособность. В этой связи еще одна важная вещь, как раз касающаяся вопроса о моих планах, с которого я начала рассказывать о болезни: с этим моим раком довольно много метафизики. Болезнь меня куда-то сама ведет и уводит. Поэтому ответить на этот вопрос, что будет дальше, я не могу. Я понимаю, что я делаю, что я наметила. То есть я для себя принимаю какие-то внутренние решения. Я прекрасно понимаю, что больна, что не вечна. И еще, например, у меня кончается контракт в апреле. То есть меньше года. Какой в связи с этим мой план? Я бы, конечно, хотела какое-то количество времени еще в библиотеке поработать. Но я уже начинаю очень серьезно думать, кто может прийти вместо меня. И как сделать так, чтобы структуру сохранить. Удастся ли мне это? Успею ли я? Не знаю, не знаю…
Пока мы говорим, к ней выстраивается очередь из тех, кому тоже назначено: человек восемь или десять. До меня – две встречи, после – еще четыре. «Вы всего лишь семь встреч назначили на один день?» – пытаюсь пошутить я. «Да, стала уставать», – серьезно отвечает Гениева. Но вечером в течение полутора часов «Диалогов» она как ни в чем не бывало держит королевскую осанку, говорит емко, точно и страстно, со знанием дела и болью о нем. Вечером ужинаем в огромной компании. Она в тоненьком платье безупречного фасона. Черт его знает, почему весь вечер всё только и спрашиваю ее: «Екатерина Юрьевна, вам не холодно?» – «Что вы! Мне – изумительно», – отвечает невозмутимо. Когда я провожала ее к машине, поняла, ей было скорее жарко: так действует «химия», так действует болезнь. «Как бы я хотела, чтобы этот опыт можно было рассказать наперед всем тем, кто будет болеть потом, – тихо сказала она, – чтобы человек был готов к тому, что с ним будет происходить. Я помню, Катюня, как вы мне рассказывали про свою знакомую, которая описывала ощущения сухости во рту после химиотерапии. Помните, вы рассказывали, что язык, как рыба, которую выкинули на сушу?» – «Помню» – «Когда со мной случилось то же самое, мне было проще с этим смириться, это пережить, потому что я знала, так бывает со всеми, ничего необычного… Всё, целую, целую, ни в коем случае не провожайте, я сама прекрасно дойду. Детям привет. Завтра позвоню, у меня есть пара идей, которые мы должны вместе реализовать, это очень важно», – сказала она на прощание. Больше мы не виделись.
Утром в день ее отъезда из-за спортивного марафона Петербург был перекрыт. Гениева приняла решение идти пешком до вокзала. Из поезда домой, потом в аэропорт, в самолет, в Израиль и там – в больницу, куда она уже переезжала в инвалидном кресле. В оставленной ею Москве, в библиотеке, которой она руководила без малого четверть века, тем временем началась очередная проверка. «Я далеко и не могу никого защитить», – сказала она мне по телефону из больничной палаты. Это были последние слова Екатерины Гениевой, которые я слышала. Через неделю вышло наше с ней интервью, а еще через неделю ее не стало.
Как и положено великим, Екатерина Юрьевна Гениева ушла с достоинством: в кругу семьи, с невыключающимся телефоном, в делах.
Я лежу на 20-м этаже огромной больницы. От моей кровати до края балкона всего несколько шагов. Под ним Каширское шоссе, постоянный поток машин, динамика городской жизни, огни… Всё это там, внизу, а здесь… Особенно тяжело по вечерам. Главная мысль, которая стучит у виска: зачем продолжать, всё это не имеет смысла, всё кончено, ничего не исправить. Душным августовским вечером еле-еле доползаю до перил. Мне кажется, если я сейчас навалюсь на борт балкона и смогу перетащить через него свое тело, то смогу закончить всё и сразу. Я доползаю до перил, но на большее не хватает сил. С трудом возвращаюсь, вскарабкиваюсь обратно на постель. И вою.
Потом Женя узнает: в том августе, по вечерам, когда старшая дочь Соня выходила из маминой палаты, она еще долго не могла уехать из больницы, даже отойти от нее больше чем на сто метров. Ей казалось, что мама может что-нибудь с собой сделать. Поэтому Соня стояла внизу, в скверике перед входом в Онкоцентр, и смотрела на горящие окна Каширки, пытаясь разглядеть самое важное в тот момент в своей жизни окно, мамино. Пыталась на расстоянии почувствовать, как там мама? Что она делает? О чем думает? Чего боится? В какой-то момент внезапного резкого страха за маму Соня даже спросила у врачей, нет ли здесь палат без балкона. Оставаться на ночь родственникам пациентов нельзя. И это время – ночь – для семьи самое тревожное.
Состояние Паниной не улучшается. Любые попытки разговоров приводят к еще большей отчужденности и даже враждебности. Близким кажется, она нарочно их не слышит. Ей – они никогда не смогут ее понять. И пока что они не находят никаких правильных слов, чтобы объясниться.
Я понимаю, что это грех, это некрасиво, как я буду лежать внизу, детям будет стыдно… Но однажды ночью я просыпаюсь и понимаю: ни страха, ни стыда больше нет… Сейчас я могу это сделать. Я сажусь на кровати. Я мысленно проделываю путь до балкона и дальше – вниз. Вижу себя там, внизу. И мне не страшно. Диким усилием воли заставляю себя не встать, остаться на кровати. Заставляю себя думать о детях, заставляю себя думать о том, что мне их жалко. Что это нечестно – оставить их без меня, одних, что дети всё еще нуждаются во мне, что я им нужна – любая. Даже такая, какая я есть сейчас…
С этими мыслями встречаю рассвет, по-прежнему сидя на кровати. Всё еще не понимая, как мне удалось себя остановить, звоню священнику.
Священник приехал. Был долгий и трудный разговор. Тот, который и должен был произойти в подобной ситуации. До конца Евгению, конечно, не отпустило. Но разговор со внимательным, слушающим, хотя и посторонним, человеком сделал свое дело. Она выговорилась. Он слушал ее и кивал. Говорил: «Всё, что вы чувствуете, – это нормально, так чувствуют себя и другие онкологические больные. Депрессия – это тоже нормально, и страх – нормально. Человеку свойственно бояться. Вы не должны переставать любить себя и беречь свою жизнь даже в этом состоянии…» Он говорил правильные, важные, спокойные и внимательные вещи. Те, которые ей были так нужны. Умный и чуткий человек, он спас Евгению Панину тем, что сумел неожиданно стать ее психологом. Тем самым онкопсихологом, ставки которого как не было, так и нет в тарифной сетке российского Министерства здравоохранения.
Я вспоминаю об этой истории несколько лет спустя, когда мы с Женей приходим на концерт Лаймы Вайкуле. Лайма – любимая певица Паниной. Ничего не зная о ее болезни, Панина всю жизнь восхищалась чувством стиля, голосом и характером этой женщины. После того как я рассказала Лайме историю Евгении Паниной, певица пригласила героиню теперь уже нашего общего проекта #победитьрак на свой концерт. Огромный концертный зал «Россия». Свободных мест нет. Концерт вот-вот начнется. А я вдруг говорю Жене: «А знаете, в той же ситуации, что и у вас, дойдя до дна отчаяния, Лайма ведь тоже позвонила священнику. Хотя всё происходило по другую сторону океана».
«Ничего удивительного, – улыбнулась Панина. – Ход болезни не зависит от географии». В Северном и Южном полушариях, в больших и маленьких семьях, у людей с достатком и за чертой бедности – рак одинаково пугает и парализует волю. Место и деньги влияют на комфорт, бытовые обстоятельства, тактику и качество медицинского лечения. Но внутри у каждого онкологического пациента по одному и тому же сценарию разворачивается настоящая драма борьбы между отчаянием и надеждой. Вот как ее описывает Лайма Вайкуле: «Самое страшное в раке – это не лечение, не химия и не ее последствия, не боль и не тошнота. Самое страшное в раке – это страх. Ты ни с кем не можешь этот страх разделить. Он становится сильнее тебя. Ты ни с кем не можешь об этом поговорить. Хотя нет, вначале я могла говорить об этом с Андреем (гражданский муж Лаймы Вайкуле, вместе с которым она живет больше тридцати лет. – К. Г.). Он был, пожалуй, единственным человеком, с кем мы вместе плакали. И только он был допущен к моему секрету, к моему дрожанию, к моим страданиям, может быть, потому, что он однажды в ответ на очередную мою истерику о том, что я не могу больше ждать лечения и жить в этом ощущении страха, сказал: «Ты не волнуйся, если что-то пойдет не так и тебе станет невыносимо, мы сядем в машину, разгонимся – и въедем в стенку. И всё. Это будет одно мгновение»«.
Она замолкает. И я думаю, что вот сейчас она, наверное, представляет себе всё то, чего бы не случилось в ее жизни, если бы тогда они так и поступили с Андреем, покончив со всем в одно мгновение. Но, оказывается, она думает совсем о другом: пытается вспомнить и восстановить все перемены своего состояния, все стадии отчаяния. Задним числом я обнаружу, что они совпадут с классической схемой принятия онкологическим больным своего диагноза, которая была разработана два десятка лет назад специалистами британского хосписного движения. Вайкуле об этом ничего не знала и даже не читала, но она повторяет эту схему слово в слово: «Первая стадия – очень страшная. Пожалуй, это вообще самое страшное, что со мной когда-либо в жизни происходило: это когда ложишься спать и клацаешь зубами. Вот тогда я первый раз, когда меня спросили, какую книжку мне принести, сказала – Библию, потому что других ответов я не знала. До тех пор я никогда Библию не то что не читала, даже в руках, наверное, не держала. Я просто уважала религию издалека, как все советские люди. Но в том, первом, страхе Библия, я теперь могу это совершенно уверенно сказать, меня спасла. Мне принесли Библию, и это было мое единственное утешение. Я ложилась спать с Библией, я засыпала, крепко держа ее в руках. А потом опять просыпалась от клацания зубов. От страха. Библия ненадолго спасала, страх оказывался сильнее.
Вторая стадия – это ненависть. Ко всем, кто здоров. Я помню, как сидели рядом со мной все мои музыканты. А я сидела в стороне. То есть мы как будто сидели рядом, но я не была с ними рядом. И они говорили что-то такое очень обыкновенное: вот надо малышу ботиночки купить… А я смотрела на них невидящими глазами и слушала так, как будто не я это слышу, а какой-то другой человек».
Здесь она остановится. Запнется. Станет искать кого-то взглядом. Придумает, что ей надо позвонить. Спросит у ассистента, не опаздывают ли они на репетицию концерта. Словом, опять, как ребенок, начнет выдумывать миллион поводов, чтобы не продолжать. А потом сама себя одернет: «Да что же это я, уже начала, значит, надо рассказывать». И, вцепившись в локоть сплетенного для мягких поглаживаний ротангового кресла, продолжит: «Если говорить правду, я их не-на-ви-де-ла. Я сидела и с ненавистью думала: «Господи, ну какие ботиночки! Это всё так неважно, все эти ботиночки, такие глупости, такие неважные совершенно вещи! Как можно вообще об этом говорить? У меня рак, я умираю. Всё кончено, а они говорят о ботиночках…» Да, наверняка это была такая дикая, неведомая мне до тех пор смесь страха и одиночества. Но я до сих пор стыжусь той ненависти. И стыжусь того, что я так и не смогла никому этого объяснить. И, наверное, до сих пор многие имеют обо мне превратное мнение. Впрочем, это уже неважно, неважно…»
Она опять молчит. А я вспоминаю газетные публикации того времени: «Певица Лайма Вайкуле не приехала на похороны своего отца, предпочтя звездную карьеру в Америке». О болезни в тех газетах не было ни слова. Но по времени всё совпадает. Спрашивать неловко, но спросить нужно. И я спрашиваю. Она отвечает медленно. Тщательно контролируя каждое слово. Видно, что ничего не отболело и не забылось, она всё помнит. Просто запрещает себе ненавидеть в ответ: «Как они могли писать? Что они знали об этом? Как меня могут судить люди, которые вообще не посвящены в этот вопрос? Это такая бестактность. Тогда я даже маме не говорила о том, какой мне поставлен диагноз. Никто не знал. Да, так случилось, что мой папа умер, когда у меня шло облучение. И я действительно не смогла приехать на его похороны. Хотя бы потому, что я физически не могла это сделать. Помню, как я звонила домой и говорила маме: «У меня сейчас запись, я не могу приехать». В горле комок. Не понимаю до сих пор, как я вообще сумела это произнести, но надо было продержаться. Потом положила трубку и, естественно, сразу же свалилась со своим горем и несчастьем». Тут я испугалась, что она заплачет. Но Вайкуле просто делает паузу: вдыхает и выдыхает. И продолжает рассказывать: она же мне обещала рассказать эту историю от начала до конца. «Да, я слышала, что на похоронах меня осуждали за то, что я не приехала. Эти люди говорили: «Ах, Лайма, ну, конечно, у нее на первом месте карьера!» А дело было вообще не в карьере, но разве это объяснишь тому, кто не хочет слышать?! Да и не хотелось тогда никому и ничего объяснять. Хотелось просто закрыться в своей скорлупе: я – отдельно, а все остальные, здоровые, – отдельно. Они там живут, радуются, сплетничают. А я тут одна со своим несчастьем. И говорить об этом я не могла ни с кем, а уж тем более с какими-то посторонними людьми, для которых выслушать твою историю – профессия. Хотя, если честно, врачи в Америке, в госпитале, предлагали психолога. Но я гордо отказалась: что это еще такое – психолог? Мы же советские, для нас психолог – это как унижение. Какие у нас были психологи? Так, подружки, что-то случится – и сядешь с подружкой всё перемалывать: дыр-дыр-дыр. Но рак – это не та история, которую можно обсудить за чашечкой кофе. Конечно, нужен был психолог, которого они предлагали. Просто я этого не понимала».
Это положено знать любому практикующему онкопсихологу. Это описано в учебниках: у рака нет друзей. Есть просто стадии принятия болезни. По идее, врач или онкопсихолог, помогающий врачу, должен разъяснить пациенту, когда и с чем ему придется столкнуться.
Вот как в традиционной онкопсихологии принято описывать пять стадий принятия смертельной болезни:
1. Отрицание. Больной не может поверить, что это действительно с ним случилось.
2. Гнев. Возмущение работой врачей, ненависть к здоровым людям.
3. Торги. Попытка заключить сделку с судьбой. Больные загадывают, допустим, что они поправятся, если монетка упадет орлом.
4. Депрессия. Отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни.
5. Принятие. «Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Если мне суждено принять смерть, я приму ее достойно и в срок».
Эти пять коротких пунктов на деле – длинный путь: пять ступеней, перешагивать через которые обыкновенному человеку, да еще и несущему на себе груз болезни, очень тяжело. Я почти не знаю или знаю очень мало людей, сумевших, миновав первые четыре ступени, сразу оказаться на пятой. И даже те, кого я знаю, возможно, тоже проходили через отрицание, гнев, торги с судьбой и депрессию, но я при этом не присутствовала, не была с ними знакома. Силой своего характера, силой воли или просто ввиду сложившихся обстоятельств наших нечастых встреч этот тяжелый путь мои друзья преодолели незаметно для меня. Но все признавались: нет такой силы воли и нет такого характера, что позволяют принять болезнь с возможным смертельным исходом запросто. Сам факт конечности жизни, окончательности не дается просто. Другое дело, что и профессиональная помощь, и поддержка, и участие близких, родных делают принятие болезни более естественным, менее разрушительным для личности, эмоционального состояния, душевного здоровья онкологического больного.
Я спрашиваю Лайму Вайкуле, сколько в итоге месяцев провела она в американской клинике, сколько секунд, минут, часов вырвала из ее жизни болезнь и сколько в итоге это стоило денег? Она улыбается. И, дотронувшись до руки, обрывает поток вопросов:
«Это слишком разные вопросы, Катя. На них нельзя ответить одним махом. Самое простое в этой истории – деньги. В это невозможно поверить, но мое спасение обошлось мне в двадцать пять долларов, которые я заплатила за страховку. А мое лечение стоило несколько сотен тысяч долларов: сработала страховка. Потребовалось совсем немного бюрократии: подтвердить, что мое состояние не позволяет мне уезжать, что лечение необходимо начать тотчас же, в Америке. Клиника такое подтверждение дала. И меня немедленно стали лечить. Это, конечно, везение. Потому что сегодня я понимаю, что без денег ты пропал. В этом смысле мне повезло. В остальном – не очень. Хотя опять же – как сказать. Стала бы я такой, какая я сейчас, если бы не болезнь? Думаю, нет.
Эта последняя ступень в понимании болезни делает человека предельно открытым, готовым к любви: ты ценишь маму, ты ценишь родных, ты ценишь каждую минуту, когда ты с ними. Выражение «душа открыта» – это даже не совсем точное выражение. Точнее сказать, ты выучиваешься жить не только для себя, ты понимаешь, что жить нужно для всех, а для себя уже на последнем месте. Вот та я, которая начала болеть, та, первая, любимая – «Я и только Я», – она осталась там, в палате госпиталя. Появилась другая я, которая вообще не видела себе места на свете, где нет всех остальных, любовь к которым и стала смыслом жизни. Появляется, правда, проблема времени: ты больше не умеешь что-то делать бегло, мимоходом. Становится важной каждая минута. И эта минута наполняется невероятным смыслом, когда ты держишь за руку кого-то бесконечно дорогого. И эта минута звенит от напряжения, когда по какой-то причине этого близкого и родного человека нет рядом: вы плохо поговорили или просто разъехались по делам и не получается дозвониться. А тебе кажется самым важным на свете именно сейчас услышать его родной голос».
Я хорошо понимаю, о чем она говорит. Со мной это было. И, как ни странно, это тоже связано с проектом #победитьрак.
9 ноября 2011 года. Онкоцентр на Каширском шоссе. Точнее даже, Научный центр Онкоцентра на Каширском шоссе, лаборатория комбинированной терапии опухолей. Готовлюсь к интервью с руководителем лаборатории, умнейшей и талантливейшей женщиной, доктором медицинских наук Еленой Трещалиной (о ее большой подвижнической и научной деятельности еще пойдет речь в этой книге). Елена Михайловна поит меня кофе, кормит мармеладом, между делом рассказывая захватывающую историю развития онкологической научной мысли в СССР, а затем и в России. Стены ее кабинета увешаны портретами учителей, выдающихся ученых-онкологов: Блохина, Ларионова, Преснова…
Рассказ интересный, говорит доктор наук Трещалина как по писаному, но я никак не могу сосредоточиться. Всё время выбегаю в коридор и набираю телефонный номер, слушаю длинные гудки, упирающиеся в металлический голос: «Абонент не может ответить на ваш звонок». Я то злюсь, то нервничаю: «Ну как это не может! Всегда мог!!!» Елена Михайловна беспокоится: «Катя, я что-то не то говорю?» – «Нет, всё то. Но сегодня день рождения у очень близкого мне человека. У моего учителя и друга. А я не могу дозвониться, чтобы поздравить. И еще: у него рак. Возможно, это и есть причина, по которой я не могу дозвониться».
«У нашего Лёвушки сегодня тоже день рождения», – задумчиво говорит Елена Михайловна. И оказывается, что мы спешим поздравить с днем рождения одного и того же человека. У рака много причудливых совпадений.
9 ноября 2011 года блестящему журналисту и телеведущему Льву Бруни исполнялся шестьдесят один год. Чуть больше года назад врачи обнаружили у Льва Ивановича агрессивный и стремительный рак поджелудочной железы. Это было осенью 2010-го. Врачи сказали, что ничего нельзя сделать, всё кончится быстро.
Свое шестидесятилетие Лев Бруни отметил в шумной и веселой компании друзей, большинство из которых ничего не знали о его болезни. За этот год мы с ним несколько раз говорили по телефону. Но я старалась не докучать рассказами о себе и работе, больше помалкивала да расспрашивала: «Как дела?» – всякий раз слыша в ответ: «В целом очень даже неплохо, Катька». И смешок.
Теперь в коридоре Научного центра, то и дело выбегая из кабинета Трещалиной, я названиваю Бруни и корю себя: чаще надо было звонить, дура. Звоню Лёвиной сестре Дюке: «Почему Лев Иваныч не берет трубку?» – «Да не волнуйся ты, у него сейчас священник», – говорит нарочно спокойным голосом Дюка. Больше ничего не говорит. Кладет трубку.
Через полчаса он перезванивает сам. Живой. Отлегло.
Я тороплюсь поздравить, желаю не ему, а себе – почаще видеться, что-то еще в том же бодром духе. Он перебивает: «Катя, я хочу дать вам интервью». Мне? Зачем? Почему? За что?
– Я хочу, чтобы вы соединили свою профессиональную деятельность, журналистику, и общественную, работу в фонде «Подари жизнь». Я хочу рассказать вам о смерти. Вы такое интервью больше ни с кем не запишете.
– Но…
– Не перебивайте сейчас, мне трудно говорить. Я совершенно не боюсь смерти. Я готов. И мне кажется важным об этом рассказать и быть услышанным. Приезжайте.
Глава 9
Спустя два дня чавкающая ноябрьская слякоть в Москве сменится здоровым, почти зимним морозцем. Осеннюю растерянность опавших и неубранных листьев отеческой ладонью накроет снег. Лужи станут льдом. Тоска – надеждой.
В квартире Льва Бруни на метро «Аэропорт» – распахнутые форточки. Врывающийся через них свежий уличный ветер почему-то пахнет огурцами.
Я ерзаю, курю, не к месту хихикаю каким-то глупостям, не отваживаясь начать интервью. Бруни берет инициативу в свои руки: «Обезболивающий пластырь, наклеенный к вашему, Катя, приходу, – объясняет Лев Иванович, – будет действовать от силы пару часов, в которые я смогу сохранить ясность мысли, не отвлекаясь на боль». Я пока всего этого не понимаю. Он знает наверняка. Это – наше время. Не дожидаясь вопроса, Лев Иванович начинает разговор с той самой точки, на которой сорок восемь часов назад закончился поздравительный телефонный звонок: «Понимаю, это звучит неубедительно, но я совершенно не боюсь смерти. И у меня нет никаких претензий к моей болезни. Дело в том, что я считаю, что рак – это благословение».
– Почему?
– Потому что у меня есть время. Я получил рак как подарок к своему шестидесятилетию. Сейчас я понимаю, что это действительно был подарок. Ведь я как будто бы получил письмо, уведомление о будущем. И это очень важно и ценно. Это дает возможность по-человечески завершить дела. Я вот иногда думаю: какой ужас, если человек ложится спать и не просыпается, или выходит из дома, а на него кирпич падает, или инфаркт. У него даже нет времени подумать ни о своей жизни, ни о жизни вообще, ни о чем.
– Что именно вы имеете в виду, когда говорите, что не боитесь смерти и что готовы к ней? Мне кажется, что страх неизвестности, даже при условии веры в загробную жизнь, это непреодолимый страх.
– Значит, вы просто еще не готовы. Я здесь согласен со Стивом Джобсом (У Льва Ивановича Бруни и у Стива Джобса один и тот же агрессивный рак поджелудочной железы, и в беседах Бруни часто ссылался на опыт Джобса по борьбе с болезнью и принятию ее, в особенности на прощальную Стэнфордскую лекцию главы компании Apple, произнесенную в июне 2005 года. – К. Г.), смерть – это самое прекрасное в жизни. За исключением одного – отношения близких и отношений с ними.
Да, я совсем не боюсь смерти, я абсолютно готов, я буду готов в любую секунду. Я – человек верующий, мне это очень сильно помогает быть готовым. Но я не готов в любом состоянии оставить своих близких. Такая болезнь, как рак, более или менее растянутая во времени, дает возможность подготовиться не только самому. Она дает возможность постепенно подготовить к моему уходу близких мне людей.
Говорить Льву Ивановичу непросто. Нужны паузы. Просит сигарету. Стакан воды. Курим. Он пьет: один шумный глоток, другой.
Я рассматриваю его исподтишка, с одной стороны, внутренне пытаясь сформулировать, что значит в моей жизни этот человек, с другой – хочу разглядеть перемены. Он похудел, осунулся. Кажется, всё. Голос тот же. Улыбка прежняя. Нет, еще глаза, они изменились. И теперь как-то по-особенному смотрят внутрь. Как у беременных женщин. Но додумать до конца эту мысль я не успеваю. Он спрашивает:
– Сильно я изменился?
Почти не вру:
– Нет, думала, что вы изменитесь сильнее.
Смеется. Проверяю: да, смех действительно тот же.
Мы познакомились в 1997-м. Он – огромный, умный, сильный и важный журналист с сумасшедшей биографией. Родился в 1950 году в Москве, потомок одного из основателей русской классической школы живописи середины XIX века Федора Бруни. Учился на отделении истории искусств истфака МГУ. В 1975-м участвовал в выставке нонконформистов на ВДНХ, а в 1976-м эмигрировал в Швецию. Там – Стокгольмский университет, работа в русской редакции «Радио Швеции». После этого – Франция, где Бруни создаст и возглавит редакцию русской службы Radio France Internationale.
В эмиграции женится на польке по имени Марыся, станет отцом чудесного белокурого мальчика Шуры. А в 1992 году, поняв, что по-журналистски, по-граждански, по-человечески, черт побери, не может оставаться в стороне от происходящего на Родине, вернется в Москву. В редакцию «Независимой газеты», для которой Лев Бруни писал заметки и статьи из Парижа, он явится невероятным заграничным красавцем в немыслимом для тогдашней Москвы белом плаще, с бутылкой виски в одной руке, ананасом – в другой. Первым человеком, которого Бруни встретит в «Независьке», будет корреспондент международного отдела Елена Березницкая. Это она редактировала для газеты его тексты из-за границы.
Лев Иванович станет политическим обозревателем «Независьки», заместителем главного редактора газеты «Сегодня», а Лена Березницкая – его женой, мамой дочери Ниночки, моей подругой.
Я встретилась со Львом Бруни в 1997-м в редакции нового российского телеканала ТВ Центр. Он стал ведущим еженедельной итоговой программы «День Седьмой». А я – ее корреспондентом. Вот тогда-то я и выучила этот смех и эту удивительную манеру говорить даже с теми, кто младше, на «вы». Увидела, как это – уметь быть старшим, но не занудой и ментором, уметь быть мудрым, но не претендовать на почетный титул патриарха. И что значит оставаться настоящим романтиком в профессии даже тогда, когда все вершины, казалось бы, покорены.
Однажды Бруни меня спас. За прогулы, а на самом деле – за прогулы по причине круглосуточной работы над программой, меня собирались отчислить с журфака МГУ. Лев Иванович позвонил прямо декану факультета Ясену Засурскому, с которым, надо полагать, был давно и хорошо знаком. Я не слышала их разговора. Слышавшие коллеги передавали, что Бруни сказал что-то в том духе, что подтверждает, что я не прогульщица, а трудоголик, поэтому просит дать возможность сдать всё заваленное. Мне же сообщил, что не собирается меня протежировать и «отмазывать», что сделал этот звонок в качестве аванса хорошему сотруднику. А еще потому, что сам – с двумя неоконченными высшими, знает, каково это быть недоучкой. Потом гнал меня на зачеты и экзамены, исправно интересуясь: «Это сдали уже? А это?»
Как-то незаметно я оказалась принятой в их с Леной доме, мы стали дружить. Программа «День Седьмой» просуществовала недолго. Чуть больше года. А мы дружим до сих пор. С Леной и со Львом Ивановичем. Они развелись, а наша дружба продолжается.
Всё это в секунду проносится в моей голове, пока мы курим, а Бруни пьет воду и переводит дыхание.
– Вы сейчас, наверное, спросите, так о чем же я хотел поведать миру, раз предложил вам взять у меня интервью? – возвращает он сам себя к разговору. Вообще-то именно над этим вопросом я и задумалась в конце этой мгновенной ретроспективы наших отношений. Киваю. Он удовлетворенно улыбается: он по-прежнему журналист, более опытный и прозорливый, чем я – его ученица.
– Я считаю, что есть вещи, которых многие люди не знают и не понимают про рак, про человека, больного раком, – говорит Бруни. – В данном случае это гораздо меньше касается самых близких, скорее тех, кто не находится в непосредственной близости, но всё равно оказывается рядом. Вы знаете, оказалось, что существует просто огромное количество людей, которые меня любят. Я был этим, честно говоря, потрясен. У меня просто иногда такое впечатление, что я плыву по огромному океану любви. И я должен как-то ответить на эту любовь, которая на меня обрушилась, которая меня окружает. Вот только представьте себе: в течение многих месяцев моей болезни во всем мире, в разных странах, одновременно, в десять вечера по московскому времени, несколько десятков человек становились у икон и молились за меня, произнося общую молитву. Ну что-то же я должен сделать обратное! Я должен рассказать этим людям, что я чувствую, рассказать им о болезни, рассказать, что есть такого в этой болезни, о чем они не знают… Ну вот, например, масса людей не знают, чего больному хочется узнать или услышать. А чего – нет. Что онкологический пациент воспринимает как какую-то беспомощную попытку поддержать, а что – на самом деле поддержка. И как говорить эти слова так, чтобы помогло…
В эти несколько встреч мы записали в общей сложности четыре часа интервью, всякий раз откладывая на потом формальность: его представление для проекта #победитьрак. Такие представления, обозначающие роль болезни в своей жизни, записали до него все участники этого энтэвэшного фильма – в ноябре 2011-го съемки были почти завершены.
Представление Льва Бруни мы должны были снять в нашу следующую встречу. Не успели.
Эти слова так и остались текстом на бумаге. Я привожу их так, как они были записаны Львом Ивановичем Бруни 23 ноября 2011 года. Меньше чем за неделю до смерти.
…Меня зовут Лев Бруни, мне 61 год. Большую часть своей жизни я проработал журналистом. В ноябре 2010 года я узнал, что болен крайней стадией рака, и мне кажется, что опыт моей жизни за этот год может помочь другим людям. Прежде всего – в отношениях между заболевшими и их близкими. Чтобы превратить недели, месяцы, будем надеяться, оставшиеся годы в то, что хочется услышать и тем, и другим, а не в обсуждения банальностей типа «держись!»
Мне – на словах, передавая исписанный листок, – добавит: «Я даже вывесил в Facebook просьбу не обращаться ко мне со словами поддержки. Я и так держусь изо всех сил. Гораздо больше, чем люди себе представляют. А вот эти заявления типа «держись!», «самое главное – хотеть жить!» и так далее – мне это объяснять не надо, они пускай себе это объясняют».
На крошечный сугроб балконных перил аккуратно садится синица. Перетаптывается. Заглядывает в окно. Молодая – они буквально год назад поженились – жена Льва Бруни Вероника приносит суп в пузатой супнице. Он с аппетитом ест, размахивает ложкой, помогая себе формулировать:
– Катька, я о стольком успел подумать за этот год, всё это надо успеть рассказать, потому что много насчет чего мое мнение переменилось. А о каких-то вещах я даже и не думал никогда, теперь вот только начинаю. Счастливое стечение обстоятельств: вы мне позвонили и поздравили меня с днем рождения – и появилась возможность все эти мысли как-то систематизировать и для кого-то оставить. А до этого звонка я даже сам специально думал кого-то просить поговорить со мной обо всем.
Мне больше не страшно говорить. Я забыла, что это интервью. Я просто любуюсь им. И стараюсь его запомнить. Вот таким: романтиком в профессии, до мозга костей журналистом, сумевшим даже из болезни сделать какой-то полезный для всех вывод, который можно записать, который, значит, потом можно будет прочитать, который будет нужен людям. В этих нескольких беседах Лев Бруни старается объяснить философию принятия болезни, позволяющую с ней по-человечески жить: «Многие люди считают, что они мало прожили, что они многого не успели. Я так не считаю. Моя история болезни длится уже больше года. И я считаю это подарком, ведь могло быть сильно меньше. Но, конечно, думаю о том, сколько успел, сколько не успел, сколько прожил, достаточно ли этого. Думаю о смерти всё равно. Боишься или не боишься смерти, но думаешь ведь об этом. И подводишь какой-то итог.
Я считаю, что я прожил долгую и интересную жизнь. Шестьдесят один год. Когда я начинаю вспоминать какие-то вещи, которые были в пятидесятые годы, так мне вообще кажется, что я живу вечность! У меня одно из первых воспоминаний – смерть Сталина вообще! Вы скажете, это короткая жизнь?»
Я отвечаю:
– Нет.
Но приходится добавить:
– Знаете, еще год назад никому даже не могло прийти в голову беседовать с вами о смерти.
Он реагирует молниеносно:
– А я за год, прошедший с того момента, как мне поставили диагноз, женился, путешествовал, был два раза в Испании, один раз в Португалии. Съездил вот сейчас уже, в октябре, к сыну Шурке на день рождения в Варшаву, ему исполнилось двадцать пять лет. И мне, и ему было важно, что я приехал.
Этим летом я сидел в деревне, растил свой огород, варил себе щи, потом подымался на чердак, работал, писал рецензии, отправлял в редакцию, ходил в редакцию. Какие должны быть еще дела у человека, что еще можно уместить в свой последний год? Я удивляюсь этому году и тому, как наполненно я его провел, особенно когда вспоминаю, что в момент постановки диагноза мне было отпущено от силы два месяца.
Я молчу. Подбираю слова для этого общего для всех смертных людей, болеющих, или только столкнувшихся с болезнью, или просто загодя боящихся рака, вопроса: да разве ж отодвинутая во времени смерть менее страшная? Разве же от того, что она не через два месяца, а через год, даже через два года, – ее меньше боишься?
Он кивает довольно. Он ждал и этого вопроса. Проглатывает ложку супа. Облизывается. И отвечает:
– Жизнь человека совсем иной бы была, если бы в ней отсутствовала смерть. Многие люди ставят себе вопрос «за что?» Тоже не вижу никаких оснований. Ни для себя, ни для кого бы то ни было. Просто потому, что вопрос «за что?» подразумевает некое наказание. А рак, как я вам уже сказал и как я глубоко убежден, – абсолютно не наказание. Более того, мне, например, известно, что афонские монахи, причем здоровые монахи, а не больные раком, молятся со слезами: «Господи, почему ты мне этого не дал? Только через это может глубина веры измеряться…» То есть просят Господа ниспослать им именно это испытание – рак. Когда человек узнаёт о том, что его диагноз онкологический, он получает время, отсутствующее в жизни здоровых, вечно поспешающих людей. Время на то, чтобы подумать о своей жизни: правильно ли он ее прожил, что он сделал не так, поправимо ли это, может ли он еще помочь своим близким, с чем он их оставляет. Таким образом, человек получает время подумать о тех, кто рядом, и возможность критически оценить свою жизнь. Он получает время наладить отношения с близкими. Это очень важно. Отношения с детьми, отношения с женой, отношения с друзьями. Ведь за жизнь у человека набирается огромный архив отношений. И этот архив надо разобрать. Я теперь много об этом думаю, мысленно разбирая свой архив: кому я вдруг что-то не простил, потому что это очень важно: простить. Я ведь не могу уйти, проститься с миром, не простив людей, на которых я заслуженно или незаслуженно обижался. Я не могу уйти, не поговорив с любимыми людьми, не подготовив их к жизни без меня.
Очень важно успеть поговорить с детьми. Это, пожалуй, самая важная задача. Я, Катя, был хорошим отцом, как мне кажется, но времени на разговоры с детьми в здоровой жизни было немного. Казалось, успеется. Времени никогда не хватает. Сейчас его больше, и я стараюсь как можно чаще видеться и беседовать с Ниной и Шурой, с дочерью и сыном. Мне очень важно рассказать им какие-то вещи, узнать про их жизнь. Иногда это трудно. И не только с детьми.
Например, еще несколько месяцев назад Вероника просто не могла говорить про мой рак. Она мечтала о каком-то чудесном исцелении. Ну, знаете, все мы иногда надеемся, что есть на свете какие-то волшебные знахарки, которые всех, в том числе и больных раком, исцеляют… Я считаю огромным достижением нашей с Вероникой совместной работы, что мы стали с ней и про это уже говорить более-менее спокойно. Я-то всё время хотел говорить, а вот она боялась. Теперь страха меньше. Да, миленькая?
Вероника с полуулыбкой кивает. Она стоит всё это время в соседней комнате со стаканом воды наготове. Потому что знает, ему сейчас опять надо будет сделать несколько глотков, перевести дух. Он пьет. Отдыхает. Я вдруг ни с того ни с сего спрашиваю, можно ли ему гулять, гуляет ли он. Лев Иваныч разводит руками: «Когда я говорю, что рак – это подарок, я, конечно, не имею в виду, что кто-то действительно может хотеть заболеть, что кому-то эта болезнь может нравиться. Но в этой истории ничего уже не переписать. Значит, ее надо принимать такой, какая есть. Я учусь принимать. Хотя многого, порой очень привычного и обыденного, не хватает. Скажем, я бы сейчас с удовольствием сыграл в бридж. Но сыграть в бридж уже не выйдет: я не могу себе позволить долго сидеть, мне тяжело. Вы спрашиваете – гулять… С этим тоже некая затруднительная ситуация: спуститься-то по лестнице мне не трудно, но трудно подняться. Несмотря на то, что я живу на втором этаже. Но дом без лифта, и подняться у меня не выйдет. А вот если бы я жил на первом этаже, я бы выходил каждый день на улицу! Может, съездил бы еще разок в своей жизни в горы (Лев Иванович с юности страстный горнолыжник. – К. Г.). Если бы кто-то меня туда доставил. И если бы этот кто-то двигал бы меня на инвалидной коляске в горку, я, может быть, пошел бы на детскую горку и прокатился. Но это такая очень глупая в моей ситуации мечта, поэтому я приглашаю вас, Катя, гулять по моему новому рецепту».
Он надевает валенки, тулуп, обвязывает шею элегантным красным шарфом и садится к балкону. Курит. Щурится на солнце. Мы гуляем. Синица, потревоженная открывшейся балконной дверью, теперь сидит на соседнем дереве и с интересом разглядывает нашу гуляющую компанию. Лев Иванович строит ей рожи. Он доволен своим прогулочным ноу-хау. А еще очень гордится, что отпущенные месяц-два жизни ему удалось превратить в год. Даже больше года. Спрашиваю: «Есть ли рецепт, который мог бы пригодиться другим?» – «Я как раз собирался рассказать».
– С самого начала, как я узнал, что со мной приключилось, я решил не строить никаких грандиозных планов на жизнь. Я придумал политику маленьких шагов: дожить до Нового года, это был новый 2011-й. Потом дожить до Рождества. Потом дожить до венчания. И вот 13 февраля мы с Вероникой обвенчались. Потом задумал дожить до Пасхи. Набраться сил, чтобы на Пасху быть в церкви, отстоять службу. Всё это было осуществлено. Потом мы путешествовали, встречались с друзьями, я встречался и говорил с детьми… Вот теперь у меня новый план: первого числа (1 декабря 2011 года. – К. Г.) должен приехать мой самый любимый друг, с которым я дружу с детского сада. Он живет в Португалии. Я ему недавно позвонил, сказал, что мне не очень хорошо, и он заплакал, и разговор как-то скомкался, не получился. Мы дружим с 1953 года. И мне было очень неуютно, что этот разговор, который вполне может оказаться последним, как-то так по-дурацки кончился. И я очень переживал. И вдруг он мне пишет: «Вот я сидел, плакал, вспоминал нашу жизнь. И решил: знаешь что, я лучше, чем плакать, возьму и к тебе приеду». Я был так счастлив, что он так решил. Теперь вот жду его не дождусь. И продолжаю копаться в себе, разбирать, вспоминать: ничего ли я не забыл, всех ли я простил, у всех ли я попросил прощения, мне еще очень много чего предстоит сделать…
Мне показалось, что он устал, ушел в себя, я засобиралась… Вдруг Бруни как шлепнет себя ладонью по ноге: «Как же я мог забыть!» И едва ли не вскочив со своего стула: «Катька, футбол же!» По телевизору начинается матч его любимого «Динамо». Ей-богу, не помню, с кем они играли. Но благодарна команде «Динамо». В той игре они забили гол. Лёва подпрыгивал, как ребенок, с криком «YESSSS!» И даже приплясывал.
Я ушла. Это была наша последняя встреча. 29 ноября 2011 года Льва Бруни не стало.
Позвонила подруга, тоже врач. Я ей сказала: «Ты знаешь, я больше всего на свете боюсь того, что, даже если выкарабкаюсь, то, наверное, не смогу больше работать. А как жить без работы, я не представляю…» Повисла пауза, она знала, что официально я нахожусь в отпуске, на работе никто о болезни не знает. У врача моей категории отпуск почти 60 дней, и я решила пока ничего не обнародовать. И тут она говорит: «Жень, ну конечно, не сможешь, о чем ты говоришь! Тебе в твоем состоянии, с твоим диагнозом давно уже надо было написать заявление об увольнении…» Я молча повесила трубку. В висках стучало: «Что значит уволиться?! Да как ты смеешь?!
Это была, пожалуй, самая сильная ее эмоция с момента начала болезни. Сильная, совершенно не похожая на безнадежное чувство угасания: возмущение, желание доказать обратное, надежда выкарабкаться назло, придающая силы, что угодно, только не беспомощность.
Так, как будто сама собой, получилась внутренняя экспериментальная терапия: дойдя до дна отчаяния, Евгения Панина решила начать бороться. Поначалу даже не во имя, вопреки. Потом в разговоре со мной она вспомнит: «Мне так хотелось выйти из больницы, надеть самое красивое платье и туфли на каблуках, вернуться на работу и, проходя мимо той самой коллеги, поздороваться с ней одним лишь кивком головы. Глупость? Но эта глупость, можно сказать, подняла меня с постели». А если что-то поднимает онкологического больного с постели – это уже не глупость. Это – очень важная перемена. Так что, я думаю, Женя должна быть благодарна той своей глупой, циничной, разумеется, теперь уже бывшей подруге: ее глупое (и профессионально, и по-человечески) замечание стало своеобразной точкой бифуркации, поставив Женю перед необходимостью выбора: смириться с тем, что ее спишут со счетов, приложить максимум усилий к тому, чтобы утереть подруге нос и выкарабкаться. Для Паниной именно этот момент стал той точкой выбора, моментом отсчета и принятия решения. Даже не отдавая себе до конца отчета в происходящем, Женя выбрала борьбу. Она еще этого не сформулировала, но решение принято: она будет зубами цепляться за жизнь и сделает всё от нее зависящее, чтобы победить.
Глава 10
Врачи объяснили: если вытянем почки, станет возможна химиотерапия. Почки вытягивают ежедневным гемодиализом: по пять часов в день на аппарате. И так пять недель. Сильные боли, обезболивающие нельзя, так как это может отразиться на почках, а я больше всего боюсь за почки… Я, как сумасшедшая, даже с ними разговариваю, умоляю их: «Почки, родные мои, ну пожалуйста, ну выдержите, ну соберитесь, не отказывайтесь работать…»
Так в жизни Евгении Паниной начался обратный отсчет. Теперь не болезнь подворовывает у нее дни, часы и минуты. А Женя возвращает себе обратно то, что по праву ей принадлежит. Рак, конечно, еще не сдался. Но Панина уже полна решимости его победить. Спустя пару дней доктора скажут: «Мы начинаем химиотерапию». И Женя обрадуется как ребенок. Сам факт того, что они переходят к химиотерапии, для нее означает начало борьбы с раком, войны именно против него. Так почти всегда бывает в жизни и восприятии болезни взрослым онкологическим больным: всё, что предшествует началу лечения, тяготит, само лечение, каким бы оно ни было тяжелым, обнадеживает, дает шанс на победу.
На самом деле Женя, конечно, не представляет себе, что ей предстоит. Разумеется, она слышала, что «химиотерапия – это не курорт», но как это в действительности происходит, какие ощущения она будет испытывать, что будет происходить в ее организме – Женя не знает. Хотя, как и любой другой пациент, имеет право знать.
Прежде всего, что имеют в виду пациенты и что имеют в виду врачи, когда говорят «химиотерапия». Пациенты, как и Панина, считают, что химиотерапия значит собственно лечение. Врачи же имеют в виду один из этапов лечения, у которого есть предыдущий и последующий этапы.
Вот так, в общих чертах, выглядит комплексное лечение рака и инструментарий, применяемый врачами:
1. Вначале надо установить диагноз. Для этого, как правило, проводятся следующие манипуляции:
– биопсия/пункция;
– изучение полученного материала:
• под микроскопом (морфология/гистология);
• специальные окраски (цитохимия, гистохимия);
• изучение генетических изменений в злокачественной клетке (транслокации, цитогенетика, молекулярная генетика).
2. Затем необходимо присвоить болезни стадию. На врачебном языке называется стадирование, то есть уточнение того, насколько серьезно развилось и распространилось заболевание.
Для этого нужна визуализация с помощью КТ/МРТ; ПЭТ-КТ, сцинтиграфия (метод исследования, основанный на излучении введенных в организм радиоактивных изотопов).
3. Теперь предстоит выбор схемы терапии.
4. Во время лечения и после окончания активной фазы лечения необходим контроль за состоянием опухоли. Он осуществляется с помощью некоторых манипуляций, помогавших в постановке диагноза:
– контрольные пункции, КТ, повторные операции; для лейкозов – MRD (минимальная остаточная болезнь).
5. Если врач видит, что избранная стратегия лечения не помогает или помогает не так эффективно, как ожидалось, то он может увеличить агрессивность лечения или пересмотреть и изменить тактику лечения. Это не значит, что врач ошибся. Это значит, что каждый организм имеет право на индивидуальные особенности.
Теперь о том, какие бывают способы и принципы лечения.
1. Химиотерапия («умри всё плохое») – лекарственное (химическое) воздействие на все быстроделящиеся клетки.
2. Операция – механическое удаление опухоли (бывает радикальная, то есть полное удаление, нерадикальная операция, а также биопсия (взятие кусочков ткани на исследования).
3. Лучевая (радио) терапия («умри всё плохое здесь») – местное, прицельное воздействие на очаг заболевания, чаще всего непосредственно опухоль. В качестве результата подразумевается не смерть клеток (апоптоз), а их так называемая инактивация, то есть прекращение деления. Современные медицинские установки для лучевой терапии позволяют облучать не весь организм в целом, но фокусироваться на злокачественном очаге, а также регулировать дозу облучения.
4. Таргетная терапия (target – мишень) – воздействие на клетки, обладающие определенными свойствами; таргетная терапия воздействует на конкретную клеточную поломку или отдельный механизм при конкретном раке. Это относительно новый метод лечения, о котором мы еще поговорим подробно в этой книге.
5. Иммунотерапия – идея состоит в воздействии на опухолевые клетки с помощью антител: коварность рака в том, что злокачественные клетки так маскируются, что иммунная система не всегда способна их распознать и/или уничтожить. Кроме того, злокачественное образование учится тормозить иммунный ответ в буквальном смысле, усыпляя иммунитет. В основе метода иммунотерапии лежит уникальный (для каждого пациента) способ будить заторможенный опухолью иммунный ответ. Так иммунитет обнаруживает внутри организма врага и направляет на борьбу с ним все свои резервы. Иммунотерапия сегодня используется чаще как вспомогательное, но иногда и как основное средство лечения некоторых видов рака.
Евгении Паниной предстоит несколько курсов химиотерапии. Сегодня это самый распространенный и в России, и в мире способ лечения онкологических заболеваний.
Классическая химиотерапия исходит из того, что клетки рака делятся быстрее остальных, и, агрессивно воздействуя именно на эти быстро делящиеся клетки, а точнее, уничтожая их, можно победить опухоль. Задача химиотерапии – убить опухолевые клетки, уменьшить размер опухоли и облегчить симптомы заболевания.
Как правило, химиотерапия – это сочетание нескольких лекарств, которые вводятся пациенту внутривенно или даются в виде таблеток. То, какие лекарства будут использованы в лечении, каким образом и в каких дозах, регламентируется протоколом лечения болезни.
Все изученные онкологические заболевания в большинстве клиник по всему миру лечатся по единым протоколам, написанным на основе масштабных научных и клинических исследований (о них мы поговорим потом), в которых суммируются знания о болезни, существующих лекарственных препаратах и статистике их успешного применения. Чем больше врачей и клиник участвовали в создании протокола, тем больше вероятность того, что он действительно лучший из возможных.
Протокол – это алгоритм действий врача на каждый день лечения пациента. Разрабатывается крупными, иногда межнациональными, содружествами клиник на основе результатов лечения больших групп пациентов. У каждого протокола есть свое название, в котором используется аббревиатура, указывающая на его разработчиков, название болезни, год разработки протокола. Например: ALL-BFM-90, ОЛЛ-MB-2008, NHL-BFM-2002, CWS-2000. Как правило, в каждой клинике есть утвержденные (используемые) протоколы лечения, по которым лечат разные онкологические заболевания.
Обязательной при химиотерапии является сопроводительная терапия – последовательность процедур и назначений, призванных снизить негативные последствия самой химиотерапии. Речь о препаратах, которые вводятся до того, как началась «химия»: как правило, это коктейль из противорвотных препаратов от аллергических реакций и др. По мнению большинства врачей, считающих качество жизни крайне важной частью лечения, сопроводительная терапия необходима. Она делает химиотерапию более безопасной и менее дискомфортной.
Разумеется, ни один общий рассказ не сможет ответить на все вопросы, которые теснят друг друга в голове у любого оказавшегося перед лицом начинающейся химиотерапии пациента. К тому же нет ничего удивительного в том, что, даже имея возможность поговорить с лечащим доктором, пациент будет нервничать.
Вместе с онкологом Михаилом Ласковым мы составили список вопросов, который поможет вам подготовиться к исчерпывающему разговору перед началом химиотерапии.
Какая схема химиотерапии (какой протокол) будет использоваться в моем случае? Какие препараты в нее входят?
Сколько будет продолжаться каждый курс химиотерапии?
Сколько всего мы планируем курсов?
Как, когда и по каким критериям мы будем оценивать результаты химиотерапии?
Когда должен состояться следующий визит?
Можем ли мы уже сейчас запланировать дату контрольного обследования? Если нет, то о каком горизонте планирования идет речь.
Как (если речь идет о внутривенном введении) мне будут вводить химиопрепараты? Нужно ли будет устанавливать порт-систему или ПИК-катетер?
Выпадут ли у меня волосы? Какие еще побочные эффекты от лечения этими препаратами и как с ними бороться?
Есть ли какие-то дополнительные препараты, которые облегчат мое состояние между курсами химиотерапии?
Если речь идет об амбулаторном (то есть без госпитализации) лечении, то что делать в экстренных случаях: кому звонить, что говорить, к чему должны быть готовы родственники?
Какие траты меня ожидают? На конкретный курс и на все лечение? Могут ли быть экстренные непредвиденные траты?
Есть ли мне смысл обращаться за границу? В другую клинику в России? С какой целью?
И, наконец, самое важное: как выбранная схема лечения повлияет на мою привычную повседневную жизнь: смогу ли я работать? Быть с детьми? Выполнять домашние обязанности? Что мне можно/нельзя есть, пить? Можно ли мне отдыхать? Мои привычки (охота, баня и т. д.) – что с ними?
Словом, насколько предстоящее лечение выбьет меня из привычной колеи и как скоро я смогу опять туда вернуться?
Евгении Паниной никто на эти вопросы не отвечал. А она не знала, что вправе кому-либо их задавать. Писатель Людмила Улицкая потом, задним числом, вспомнит: она воспринимала химиотерапию как «точку невозврата», момент, к которому хорошо бы привести в порядок свои дела. Именно поэтому новую книгу «Зеленый шатер», она, совершив немыслимое усилие, закончила до начала химии. Чтобы высвободить силы. Писатель Улицкая решила задокументировать всё, что будет происходить с пациентом Улицкой во время лечения. Эти записи – очень важный документ, состоящий из немедицинских отчетов, но психологически точных дневников и зарисовок, которыми мне было позволено воспользоваться для создания этой книги.
Человек основательный, системный, едва заболев, Улицкая попросила нескольких своих по-разному тяжело болеющих подруг записать истории своей борьбы с болезнью. В их числе Вера Миллионщикова, основатель и первый главный врач Первого Московского хосписа, и Ирина Ясина, экономист, журналист, бесстрашная женщина и невероятная красавица, много лет сражающаяся с тяжелой болезнью – рассеянный склероз.
Вера Миллионщикова ни строчки написать не успела. Ирина – написала. Публикация ее повести «История болезни» (кстати, вычитанная Улицкой) в журнале «Знамя» совершила настоящий переворот в общественном сознании: может ли человек так откровенно говорить о своей болезни? Должен ли? Обязан ли? Выход в свет вначале аудиокниги, а потом и просто большой и подробной книги «История болезни» ответил на эти вопросы: может, должен, обязан. Особенно если болеющий не глуп и не ленив, а открыт, старателен и способен осмыслить случившееся, способен сделать вывод, который мог бы быть полезен многим, которым многие могли бы воспользоваться.
Свой писательский дневник переосмысления жизни и попытки осмысления болезни по имени рак Людмила Улицкая начала вести в Израиле вместе с началом химиотерапии.
Грудь уже отрезали. Моя левая грудь теперь похоронена ныне в специальном могильнике на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме вместе с ампутированными частями тел других пациентов больницы «Хадасса». Вся остальная часть меня еще жива, отлично себя чувствует и рассчитывает еще некоторое время погулять по миру, порадоваться и подумать, как волшебно интересно устроена жизнь.
В первый раз читая этот отрывок из дневника Людмилы Улицкой, совершенно неприлично поразилась именно истории с кладбищем. Отправляясь в командировку в Израиль, я даже специально запланировала встречу с раввином кладбища Гиват Шауль. Он согласился не только встретиться, но и дать интервью.
Раввин Ханнанья Шахор – огромный улыбчивый дядька. Кажется, он согласился беседовать не столько из вежливости, сколько из любопытства: «А почему в истории о раке вам показались важными иудейские кладбища?» – «Моя героиня – известный в нашей и в вашей стране писатель – рассказала в своем дневнике, что ее грудь, ампутированная в ходе операции в клинике «Хадасса», покоится теперь на этом кладбище. Я хотела бы понять почему. И есть ли в этом какая-то привилегия или знак?» Раввин хохочет: «Привилегии точно нет. Вы даже не найдете здесь указателя: где и чья часть тела хранится. И дат тоже, конечно, нет. Раз в три дня я действительно забираю из «Хадассы» пакет с тем, что вы называете «части тела», биологический материал. Это иудейская традиция. Мы хороним части тела пациентов, те, которые больше ногтя. Это связано с верой в то, что, когда придет Мессия, человек сможет физически воскреснуть из тлена. И тело его обретет прежнюю форму… Но в этом есть, безусловно, философский смысл. Опухоль отныне будет отдельно, а исцеленный – отдельно. Как вам такая идея?»
Отрезанные части пациентов онкологического отделения клиники «Хадасса» хоронят в специальном могильнике. На похоронах присутствует раввин, похороны эти сопровождаются специальным ритуалом (сильно сокращенной версией ритуала похорон обычного иудея).
Раввин Шахор – сам бывший онкологический пациент. Его опухоль тоже где-то здесь, на кладбище Гиват Шауль. Еще раввин не верит, что рак, а точнее страдания, которые испытывает пациент, больной раком, очищают. Ребе Шахор полагает, что наука, прежде чем отыщет какое-то чудесное средство спасения от рака, должна приложить все усилия для того, чтобы облегчить страдания.
Когда речь заходит о раке, возникает еще большая тема – страдания. Я об этом всё время думаю, еще до конца не додумала. Но направление мысли таково, что ни один православный священник не одобрил бы: страдание – то, чего не должно быть. А то, что из страдания может родиться доблесть терпения и мужества, так это побочный продукт. Потом к этому вернусь…
Она до сих пор об этом думает. И говорит, что еще не додумала до конца. «Страдание – то, чего не должно быть» – это аксиома в израильской медицине. С этого Улицкая начинает свою экскурсию по огромной израильской государственной клинике «Хадасса»: в этом здании онкологические, хирургические отделения, а также отделения лучевой и общей терапии.
Она рассказывает о «Хадассе» и показывает «Хадассу» так, будто сама тут работает, будто эта система медицины – ее личное достижение. Вот – на пять этажей вверх – вертолетная площадка, чтобы могли доставлять экстренных больных. А на пять вниз – специальная реанимация и операционные, чтобы операции можно было вести даже во время бомбежек, это все-таки Израиль. Вот – вход. «Пойдем, пойдем, здесь целый удивительный город», – говорит Улицкая. Мне поначалу становится не по себе: неделю назад я бродила по Российскому онкологическиму научному центру имени академика Блохина, огромному, мрачному, двадцати с лишним этажному городу, который даже врачи между собой называют «Блохенвальдом». Идти еще в один онкологический город, честно говоря, не очень хочется.
В вестибюле «Хадассы» играет музыка. Джаз, если я правильно помню. Больные с посетителями прогуливаются сквозь ряды праздничной ярмарки, дело идет к Хануке. Кто-то пьет кофе в сетевой кофейне, кто-то сидит у фонтана с пончиками, некоторые обедают в симпатичном ресторане. Открыты супермаркет, магазин игрушек, цветочный салон, магазины женской и мужской одежды. А еще – парикмахерская и салон красоты. В общем, настоящий торговый молл. Правда, без кинотеатра.
Довольная произведенным эффектом, Улицкая ведет дальше, по длинному коридору, стены которого залеплены небольшими плитками с надписями на иврите. «Это благотворители. Их имена и фамилии. И даты пожертвований, – поясняет она, остановившись. – Те, кто лечился, их родственники, просто случайные люди. Кто-то богат, а кто-то не очень, кто-то дал много денег, а кто-то – десять шекелей. И это всё равно много: у табличек одинаковые размеры».
«Но больница-то государственная, – недоумеваю я, вспоминая, как Людмила Улицкая еще в Москве с восторгом мне рассказывала, что ее соседкой по палате оказалась обыкновенная школьная учительница из Иерусалима, которой делали те же, что и Улицкой, процедуры, обеспечивали тот же уход и уровень медицинского обслуживания, только совершенно бесплатно, просто потому, что она гражданка Израиля. – Лечение для израильтян здесь совершенно бесплатное, а на таких, как вы, Люся, коммерческих пациентах, по идее, «Хадасса» зарабатывает деньги, и их должно хватать на всё остальное».
Она качает головой: «Не хватает. Больница, конечно, государственная и финансируется государством. Хотя коммерческих пациентов много, денег на то, чтобы поддерживать на должном уровне медицинское оснащение, развиваться и вести научные разработки, не хватает. Львиную долю всего того, что здесь есть, купили благотворители. Рак – это очень дорого, и в одиночку не справиться даже самым богатым клиникам мира. Здесь, в Израиле, это прекрасно понимают и те, кто уже встретился с раком. И те, кому еще только предстоит».
Как сквозь строй, проходим через коридор с табличками. Поворот, арка, огромная деревянная дверь: «Там, наверное, нельзя будет разговаривать. Давай зайдем и просто помолчим».
В Молельном доме клиники «Хадасса» – витражи Марка Шагала, белорусского еврея из Витебска, выдающегося художника, эмигрировавшего на Запад и умершего во Франции. Через эти витражи, делаясь синим, алым, желтым и голубым, солнце смотрит на молящихся всех конфессий. Дверь скрипит: люди заходят, молчат, стоя или сидя, уперевшись лбом в стену с витражами, уходят, дверь опять скрипит, провожая. Сколько историй знает эта дверь? С надеждой она скрипит или, наоборот, в печали? Ее щербатое дерево, тяжелую кованую ручку хочется гладить, расспрашивать, но времени нет. Идем дальше.
От Шагала – в Зал славы «Хадассы», несколько бронзовых досок с именами лучших врачей и самых видных благотворителей, потом – просторный вестибюль, в центре которого белоснежный макет клиники: даже вертолетная площадка видна. Потом на лифте – сразу в отделение диагностики. Мы теснимся в лифте с женщинами-волонтерами, которые в свободное от своей основной работы время развозят по «Хадассе» бесплатную еду и напитки. Улицкая здоровается с ними, гладит одну из них по плечу. Они узнают, вспоминают друг друга: когда-то из рук этой женщины-волонтера чашку горячего чая получала и Люся, привязанная к капельнице. Теперь пытается ей благодарно объяснить – это ТАК согревало: «Здесь меня всё время не покидало чувство нужности, неброшенности, незабытости, такое важное во время химии и вообще лечения».
Лифт приехал: отделение химиотерапии.
Идем по коридору. Она по-прежнему со всеми здоровается, но глаза теперь отсутствующие. Для нее это возвращение в «Хадассу» – своего рода эксперимент. Усилие, которое необходимо совершить, чтобы понять: что же в связи с этой болезнью и этим лечением произошло с ней, с ее мировоззрением, с ее жизненной философией. Что же переменилось?
На меня наседает Ляля – там, у Блохина (РОНЦ им. Н. Н. Блохина. – К. Г.), у нее работает какой-то двоюродный родственник, он там иммунитетом заведует. Он меня отведет, пусть сделают там биопсию. Я не хочу. Категорически не хочу в институт Блохина. Но я покладиста и сговорчива. Еду. Двоюродный иммунолог ведет меня к своему знакомому хирургу, тот тискает мою грудь, говорит, что сделает мне сейчас биопсию. Немедленно. Достает иглу толщиной чуть не в палец и колет. Больно. Но дело не в этом. Потом иерусалимские врачи еще три недели не могли сделать биопсию, потому что внутри был один сплошной кровоподтек во всю грудь. Зато всё быстренько – через два часа лаборантка дает мне мятую бумажку размером в трамвайный билет, на котором написано: РАК. Надо отдать должное, это была чистая правда. Потом евреи подтвердили. Единственная отечественная деталь – после слова «рак» стоят цифры. Что, я спрашиваю, эти цифры означают? Это, говорит лаборантка, сделавшая свое заключение за более чем скромные две тысячи рублей, шифр клетки. «Так какая же клетка?» – я спрашиваю. Она жмурит свои глупые глаза и сообщает: «А это секрет. Это только врачу могу сказать».
Еду в Израиль. Анализов там – тьма-тьмущая. Денег перевела, не знаю сколько. Много. Один анализ даже в Америку посылают, за четыре с половиной тысячи долларов сообщают, что вероятность возврата после лечения 11,5 %.
В отделении, где было пережито самое трудное время болезни, Улицкая светится от счастья: обнимается с бывшим лечащим врачом, тот гордо осматривает ее, как собственное творение, и говорит: «Люся, вы прекрасно выглядите, даже похорошели!» Сбегаются, щебеча на ходу что-то страшно воодушевляющее, медсестры. Я отхожу на несколько шагов и стараюсь рассмотреть происходящее как бы со стороны: объятия, хохот, теплота и небезысходность болезни во взрослом онкологическом отделении до сих пор мне представляется чем-то немного немыслимым.
На выходе из отделения, с которым, по идее, должны быть связаны самые тяжелые воспоминания, бывший пациент «Хадассы» Людмила Улицкая сообщит: «Я специально задумала давать вам интервью и рассказывать о своей болезни здесь, чтобы всё было наглядно. Принципиально разный подход во всем, что касается зависимости человека от врачей, от больницы, чувства достоинства пациента и его перспектив жить после болезни. Вот, например, они здесь вообще не задерживают людей в больнице. Можно, конечно, сказать, что это потому, что очень дорого. Но можно и по-другому сказать: всё необходимое сделано – иди на волю. Я пролежала здесь два дня после онкологической операции, после которой в России держат две недели. Я вышла в таком состоянии, что могла уже существовать нормально, хотя у меня висели трубочки, и я раз в два-три дня ходила в отделение на некоторые процедуры. И пока я лежала, и пока я ходила, день за днем разрушались мои представления о том, что есть взаимоотношения медицины и человека».
И, по-прежнему испытывая неловкость перед теми своими подругами, кто не смог себе позволить лечение за границей, она сокрушается даже не о качестве лечения «здесь» и «там». А о страданиях. Которые в одной стране – обычны. А в другой – неприемлемы. О том же она беседует на иерусалимской кухне со своей подругой Ликой Нуткевич.
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ: Мы у себя на родине привыкли, что, когда человек болен, он должен страдать. И мы выращены в знании, что это страдание – неизбежное свойство болезни. Установка здешней медицины совершенно не такова. Тебя всё время спрашивают: «Больно? Больно? Вам больно?» Потому что больно не должно быть. И вот эта установка, что больной страдать не должен, она мне очень напомнила древнюю установку Гиппократа, который писал две с половиной тысячи лет тому назад о том, что страдания от лечения не должны превышать страдания от заболевания. Это то, о чем мы совершенно забыли в России. Наша современная медицина очень жестокая. А здесь жестокость этой медицины по возможности смягчается.
Лика понимающе качает головой. В Израиле она как раз работает в сфере, которая, если так можно выразиться, «амортизирует» жестокость медицины: центр реабилитации онкологических больных с выездной службой. В самом центре (он носит имя умершего от рака известного израильского политика Юрия Штерна и был основан в память о нем его женой Еленой) горят ароматические свечи, звучит музыка, ежедневно в четыре часа дня – чаепития. Бывшие и нынешние онкологические больные могут пообщаться, рассказать друг другу о ходе лечения, о победах и поражениях, просто поболтать на не связанные с болезнью темы. Из гостиной три двери ведут в крошечные комнаты: массажный кабинет, психолог, фитнес. Волонтеры центра, в числе которых Лика Нуткевич, принимают здесь людей во второй половине дня. В первой – они в больнице. Потому что в больницах по утрам химиотерапия…
Вместе с Ликой и другими волонтерами на следующее утро мы едем в частную клинику «Шарей Цедек». Сотни пациентов сидят вдоль коридора в ожидании вызова на капельницу с химиотерапией. Их глаза – усталые, грустные, полные болезни. Они почти не разговаривают между собой.
Но вот в дальнем конце коридора появляется тележка с блестящим флюгером. Это волонтер Рахель привезла косметику для бесплатного макияжа всем желающим. Следом Лика и Ноах развозят бесплатные напитки: кофе, чай, сок, вода. Пациенты оживляются. Кое к кому подходят волонтеры-массажисты, приглашают на расслабляющий массаж шеи или ног – это тоже бесплатно. Завотделением выделил для расслабления пациентов отдельную палату. Там можно курить благовония, зажигать свечи, тихонько включать музыку. Самого заведующего отделением я замечаю не сразу: улыбчивый мужчина в оранжевой футболке, шортах и шлепках, на бейджике написано «профессор Шимон», совсем не похож на врача, скорее, он похож на артиста Дастина Хоффмана. Я думаю: наверное, это кто-то из не погруженных в депрессию родственников, а может, какой-то бывший пациент – жертва госпитального синдрома. В общем, я еще не успеваю себе придумать, что этот Дастин Хоффман здесь делает, как он тянет меня за руку: «Смотри, смотри, вот моя любовь! Наше солнце, больничный клоун».
Доктор Шимон смотрит на клоунов с отеческой нежностью: «Мне кажется, хотя я могу ошибаться, и может найтись миллион врачей, которые считают иначе, но вот эта возможность для пациентов расслабиться, улыбнуться, почувствовать тепло руки, делающей массаж или просто держащей за руку, – это помогает иногда лучше всякой химии. Практичнее, чем бесконечно крутить у себя в голове это слово: РАК. Я никогда не надеваю в отделении белый халат, так и хожу в шортах и майке – у людей и так куча всяких проблем, зачем лишний раз напоминать, где они находятся. Никто из пациентов не знает, но тридцать лет назад я сам был пациентом. Рак яичек с метастазами в легкое… В общем, я был в их шкуре и понимаю, что им нужно. Поддержать пациента так просто: рассмешить, удивить, пококетничать – это уже значит отобрать очко у рака. Неужели еще есть люди, которые этого не понимают? Нельзя пичкать человека, не желающего жить, лекарствами и думать, что это и есть помощь. Помощь – это когда ты уверенно держишь своего пациента за руку. Впрочем, в другой руке вполне может быть капельница».
Это, прежде невиданное, непривычное, да что там, совершенно ошеломляющее советского человека стремление сделать болезнь комфортной Людмилу Улицкую в Израиле поразило. Согласно этой формуле мягких и уважительных взаимоотношений врача, пациента и болезни, страх и боль не отнимают у страдающего раком все силы. А значит, на борьбу с самой болезнью сил остается больше.
Глава 11
Как правило, те российские пациенты, которые уезжают лечиться за границу, объясняют свой выбор вовсе не невозможностью излечить данное конкретное заболевание на родине, а тем, что лечение за границей гуманнее, сохраннее, комфортнее, а значит, в конечном итоге, лучше.
«У заболевшего раком человека порой складывается ощущение, что на родине от него все отказались. И этим вызвано решение уехать за рубеж, – говорит Екатерина Чистякова, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» с 2011 по 2018 год. – Часто, и вполне оправданно, пациенты рассчитывают, что уход в зарубежной клинике будет лучше».
Тем не менее, по словам Чистяковой, фонды редко оплачивают лечение за рубежом – чаще всего в тех случаях, когда предложенная иностранной клиникой терапия недоступна в России, не является экспериментальной и дает существенные преимущества в прогнозе лечения заболевания в сравнении с тем, которое возможно на родине.
Единых гайдлайнов по оплате лечения за рубежом у российских фондов нет. Но некоторые общие подходы с помощью Екатерины Чистяковой все же удалось обнаружить. Например, сотрудники фондов понимают, что выбор пациента в пользу зарубежного лечения не случаен: контакт с доктором в России не складывается, пациент не может получить понятного плана лечения, объяснения того, что будет происходить и на какие результаты лечения можно рассчитывать. Учитывая принципы, на которых основываются фонды, принимая решения, просьбы об оплате лечения за рубежом надо обязательно подкреплять свежей медицинской выпиской из России, содержащей подробную информацию о том, какое лечение и какие обследования были выполнены на родине, план лечения из зарубежной клиники (а не только счет!) и отказы в оказании помощи от российских клиник (если были отказы).
Однако, по словам Чистяковой, план лечиться за границей – не всегда идеальный выход из ситуации. «Зарубежное лечение, особенно с точки зрения организации ухода за пациентом, выглядит очень привлекательным. Но есть и подводные камни. Во-первых, лечение стоит очень дорого, и сбор денег на лечение за рубежом может занять много времени, и лечение начнется слишком поздно, когда болезнь уже станет непобедимой, – говорит Чистякова. – Во-вторых, в ходе лечения могут возникнуть непредвиденные осложнения, и тогда деньги на счете зарубежной клиники могут закончиться прямо на середине лечения, и его придется прервать. В этом случае вернуться в Россию и продолжить начатую терапию будет очень сложно. Перерыв в лечении может оказаться очень длительным, и это плохо повлияет на результаты. В-третьих, нередки случаи, когда в зарубежные клиники едут за последней надеждой те пациенты, которых, к сожалению, невозможно вылечить. Еще несколько блоков химиотерапии или лучевой терапии провести можно, но вылечить нельзя. В таких случаях фонды не оплачивают лечение за рубежом. Часто такие отказы остаются непонятыми пациентами и их родственниками. Это грустно, но таковы реальные обстоятельства. В таком случае ответственность за выполнение принятого решения целиком и полностью на пациенте и его семье, словом, на тех, кто это решение принимал».
Чаще всего российские пациенты едут в Германию и Израиль. Это близко. Здесь много тех, кто говорит по-русски (в том числе и врачей, выходцев из бывшего СССР), здесь есть уже давно работающие программы для так называемых медицинских туристов. Совершенно новое и, по мнению докторов, чрезвычайно перспективное в плане медицинского туризма направление – Индия. Иногда пациенты оказываются за границей по решению экспертных советов благотворительных фондов (на основе рекомендации врачей). И тогда лечение оплачивает фонд. Иногда такое решение принимают близкие того, кто болеет, или сам человек. Тогда расходы на лечение и пребывание за границей – это целиком и полностью зона ответственности семьи пациента.
Специально для книги «Победить рак» доктор Светлана Левант, сотрудничающая с фондом «Подари жизнь» в Израиле, доктор Мария Шнайдер, работавшая прежде в РДКБ, а теперь перебравшаяся в Германию, но продолжающая консультировать российских пациентов, и доктор Анна Вербина, сотрудничающая с медицинскими учреждениями Индии, составили список добросовестных клиник с хорошей медицинской репутацией и короткие рекомендации для пациентов и их семей, позволяющие избежать обмана.
1. ИзраильСветлана Левант
Скорее всего, вы приняли решение о лечении в Израиле потому, что наслышаны о высоком уровне израильской медицины. Эти слухи не лишены основания. Однако прежде чем вы примете точное и окончательное решение о поездке, удостоверьтесь, что именно в области вашего заболевания Израиль находится «впереди планеты всей»: поговорите с лечащим врачом в России, узнайте второе мнение, в конце концов, посмотрите медицинские и пациентские форумы в Интернете.
Затем необходимо составить краткое описание истории болезни своими словами. Это описание не должно содержать бытовых подробностей, несущественных моментов, имущественных, личных или социальных эпизодов. Это должно быть именно описание болезни, а также жалобы на момент обращения. К этому описанию должны быть приложены медицинские заключения и, если есть, записи проведенных пациенту исследований на электронных носителях. Важно не присылать всю документацию, а только действительно отражающую клиническую картину и диагнозы: анализы крови должны быть не старше трех месяцев, заключения врачей – не старше полугода. Обычно в последних выписках врачи описывают анамнез и отмечают важные результаты предыдущих обследований. Все эти документы, а также ваше письмо должны быть переведены на английский язык.
Документы следует отправлять по электронной почте, указанной для пациентов на сайтах клиник. Как правило, такой алгоритм действует в том случае, если вы обращаетесь к израильским врачам впервые, не понимая до конца, с каким специалистом вам лучше иметь дело и в какой клинике лечиться. Если вы уже лечились в Израиле и знаете название лечебного учреждения или имя врача, который профильно занимается вашей проблемой и достиг в этом существенных результатов, необходимо связываться именно с ним. Это довольно большая трудность. Как правило, достоверной информации на русском языке нет ни про одного практикующего израильского доктора. А это значит, что вам придется иметь дело с посредниками, уверяющими – причем по-русски, – что ваш врач сотрудничает с ними, работая при этом одновременно чуть ли не в пятидесяти клиниках Израиля.
Как найти истинное место работы врача? Дистанционно это можно сделать, только внимательно изучая официальные сайты клиник. Как правило, сайты эти достоверны и информативны, хотя порой довольно неудобно устроены. У большинства крупных клиник есть страница на русском языке. Однако если вы изучаете сайт, у которого есть только русскоязычная и англоязычная страницы, то это не клиника, это – посредник. Все сайты государственных клиник Израиля на иврите, с возможными версиями на других языках.
Тут важно объяснить, что такое посредник и в чем его важное отличие от отдела медицинского туризма, который, как правило, есть при каждой крупной израильской клинике и сотрудники которого официально помогают иностранным пациентам в организации консультаций, обследовании и лечении на базе этой больницы.
Посредник – это отдельно существующая организация, которая также занимается организацией консультаций, обследования и лечения, однако не связана формально с какой-то конкретной клиникой. Разумеется, среди посреднических организаций есть такие, которые ответственно и порядочно относятся к своей работе. Однако, увы, скорее это исключение, чем правило. Как правило, посредники сотрудничают с разными врачами и разными лечебными учреждениями. Интерес посредника – разница между суммой, в которую обойдется ваше лечение с точки зрения клиники, и той суммой, которую в действительности заплатите вы. Эта разница может доходить до десятков тысяч долларов. Да, все посредники работают на русском языке, да, вам помогут с переводом документов, контактами с врачами, бытовыми и организационными вопросами, однако риск столкнуться с мошенниками очень высок. В этом случае цена ошибки – не только большие деньги, которые невозможно вернуть, но и упущенное время – бесценное в случае быстрой агрессивной болезни. Так вот, если уж вы решили иметь дело с медицинским посредником, обращайтесь только туда, где уже была оказана помощь людям, которых вы лично знаете. В выборе медицинского посредника ни в коем случае нельзя доверять отзывам в Интернете; посредники немалые деньги вкладывают в свою рекламу и продвижение, не верифицированные отзывы могут оказаться просто-напросто подделкой.
Если ваше лечение будет проходить в негосударственной клинике, то отличить мошенника от добросовестного поставщика медицинских услуг на этапе выбора практически невозможно. Если же вы столкнулись с мошенником, представляющимся сотрудником государственной больницы, насторожить может, во-первых, то, что государственные компании никогда не будут предлагать вам какие-то дополнительные услуги и звонить лично с какими-то предложениями, не связанными непосредственно с лечением. Во-вторых, в ценовом предложении государственной клиники никогда не будет строки за сопровождение, скидки или указания о бесплатном предоставлении каких-либо услуг: например, транспортные услуги, экскурсии, аренда квартир. Наконец, в-третьих, в документе, который вы получите от отдела медицинского туризма лечебного учреждения на английском языке, будет две страницы: эпикриз (короткая информация о состоянии пациента и рекомендации клиники) и план лечения со сметой (что планируется делать), койко-днями, непредвиденными обстоятельствами и итоговой суммой. В документе пациент будет называться по фамилии, а сама бумага будет составлена формальным медицинским языком. Посредники присылают пациентам и их родственникам медицинские и финансовые документы на русском языке, в них пациента называют неформально и по имени (например, Наташа, Петя и т. д.), в смету включен отдельный гонорар доктора (например, хирурга) и разные, не связанные непосредственно с лечением и реабилитацией пункты (например, машина, аренда квартиры, переводчик и т. п.).
Россиянам в Израиль въезд безвизовый. В большинстве клиник, а также в магазинах, агентствах недвижимости, гостиницах и т. д. работают русскоязычные израильтяне, так что никаких бытовых проблем, по крайней мере на первых порах, не возникнет.
Вот список израильских клиник, которым я бы рекомендовала доверять в первую очередь.
Государственные больницы
1 Tel Aviv Sourasky Medical Center (Ichilov), Tel Aviv
http://www.tasmc.org.il/sites/en/Pages/default.aspx
2 Rambam Health Care Campus, Haifa
https://www.rambam.org.il/EnglishSite/Pages/default.aspx
3 Rabin Medical Center (Beilinson Hospital, Hasharon Hospital) Petah Tikva
http://hospitals.clalit.co.il/Hospitals/Rabin/en-us/Pages/Homepage.aspx
4 Soroka Medical Center, Beer Sheva
http://hospitals.clalit.co.il/hospitals/soroka/en-us/Pages/Home.aspx
5 Meier Medical Centre, Kfar Saba
https://hospitals.clalit.co.il/meir/he/Pages/default.aspx
6 Carmel Medical Centre, Haifa
https://hospitals.clalit.co.il/carmel/he/Pages/default.aspx
7 HaEmek Medical Centre, Afula
http://hospitals.clalit.co.il/hospitals/emek/en-us/Pages/EmekMedicalCenter.aspx
8 Kaplan Medical Centre, Rechovot
http://hospitals.clalit.co.il/Hospitals/kaplan/ru-ru/Pages/Homepage.aspx
9 Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem
https://www.szmc.org.il/eng/home/
10 HADASSAH MEDICAL CENTER, Jerusalem
Частные клиники
1 Assuta Hospital
2 Herzliya Medical Center
2. ГерманияМария Шнайдер
Я несколько лет проработала в фонде «Подари жизнь» в Москве в отделе иностранного лечения, так что хорошо знаю следующее: сроки, в течение которых можно получить согласие какой-либо клиники на приезд пациента, обычно составляют около двух недель. За это время клиника рассматривает медицинские документы и высылает счет для оплаты лечения (химиотерапия + операция). Практика такова, что в реальности выставленный счет (обычно это около 100 тысяч евро при несложном заболевании) увеличивается на 50 %. После того как счет получен, его нужно оплатить, то есть перевести всю сумму банковским переводом, получить подтверждение оплаты и приглашение от клиники для посольства. Обычно на это уходит еще две недели. После этого надо получить шенгенскую визу для пациента и, если нужно, сопровождающего лица.
На получение визы в Москве уходит как минимум три дня (иногда до 10 дней). Если вы решаетесь на организацию своего лечения самостоятельно, то вам потребуется: знание языка, понимание медицинской специфики каждого учреждения, связи в немецком медицинском мире, поскольку без них попасть к некоторым действительно выдающимся профессорам без задержек практически невозможно не только из-за больших очередей, но и по вполне банальной причине – нужно, чтобы кто-то бегал по немецкой клинике с вашими документами от секретариата профессора в планово-экономический отдел, международный отдел и отдел госпитализаций, кто-то бы организовал встречу в аэропорту и трансфер в клинику, нашел бы переводчиков, которые постоянно находились бы с вами во время лечения. Да, в Германии иностранные пациенты попадают в клиники с помощью специально существующих для этого посредников. Иногда их даже могут посоветовать в отделе медицинского туризма. Цены у немецких посредников не очень большие – им законодательно запрещено брать агентские проценты, – но тем не менее ощутимые.
Вот список клиник, связанных с онкологическими проблемами, в которые я бы рекомендовала обращаться. Будет честно предупредить, что клиники дальше восьмого номера в этом списке я бы без особой нужды рассматривать не стала.
1 Шарите в Берлине: https://www.charite.de/ru/
2 Университетская клиника в Мюнстере:
http://internationalpatients.ukmuenster.de/index.php?id=1&L =4
3 Университетская клиника в Мюнхене:
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/International-Patient- Office/ru/index.html
4 Университетская клиника во Франкфурте:
http://www.kgu.de/index.php?id=3210
5 Университетская клиника во Фрайбурге:
http://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/glavnaja.html
6 Университетская клиника в Хайдельберге:
https://www.heidelberg-university-hospital.com/index.php? id=2&L=ru
7 Университетская клиника в Тюбингине (русской версии сайта нет):
https://www.medizin.uni-tuebingen.de/en/Patients.html
8 Университетская клиника в Эссене (русской версии сайта нет):
https://www.uk-essen.de/index.php?id=2268&L=1
9 Университетская клиника в Ганновере (русской версии сайта нет):
https://www.mh-hannover.de/patienten.html?&L=1
10 Университетская клиника в Киле:
11 Университетская клиника в Регенсбурге (русской версии сайта нет):
http://www.uniklinikum-regensburg.de/e/patients/index.php
12 Университетская клиника в Гамбурге (нет ни русской, ни английской версии сайта):
https://www.uke.de/patienten-besucher/uke-international/index.html
3. ИндияАнна Вербина
Об Индии как стране, куда можно отправиться в качестве медицинского туриста и получить качественное лечение, у нас стали говорить совсем недавно. Но, как мне кажется, как раз вовремя. Лечение, в том числе и онкологическое, для иностранцев в Индии в 10 раз дешевле, чем в США, в семь раз дешевле, чем в Великобритании, в пять – чем в Германии и в четыре – чем в Израиле. При этом в стране существуют лечебные учреждения конкурентного уровня с вышеперечисленными странами. Прежде всего это результат масштабной образовательной программы, по которой, начиная с 80-х годов XX века, многие индийские врачи получали образование в США и Великобритании, а потом возвращались домой. Первая частная клиника была построена в Индии как раз таким «возвращенцем», доктором-кардиологом по имени Пратап Редди. Оказалось, что в стране с населением почти в полтора миллиарда человек спрос на качественную платную медицину колоссальный. И частная практика стала расти. Работает это так: индийские студенты по-прежнему получают образование (институт, ординатура) в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а затем возвращаются домой, где имеют возможность работать на качественном оборудовании по современным (уже хорошо знакомым) протоколам и технологиям.
Если вы решили, что Индия, с точки зрения лечения, это именно то, что вам надо, имейте в виду, что реальный уровень частной медицины в этой стране очень разный: от примитивного до высокотехнологичного.
Я бы рекомендовала выбирать из следующих десяти частных больничных сетей. Но надо иметь в виду, что внутри каждой больничной сети несколько клиник; уровень их качества неодинаков.
1 Фортис Хелскеа (Fortis Healthcare)
http://www.fortishealthcare.com
2 Глиниглс Хоспиталс (Gleneagles Hospitals)
http://www.gleneaglesglobalhospitals.com
3 Вокхард Хоспиталс (Wockhardt Hospitals)
https://www.wockhardthospitals.com
4 Макс Хелскеа (Max Healthcare)
5 Меданта (Medanta)
6 Коламбиа Азия (Columbia Asia)
7 Кокилабен Хоспитал (Kokilaben Hospital)
http://www.kokilabenhospital.com
8 BLK Хоспитал (BLK Hospital)
9 Аполло Хоспиталс (Apollo Hospitals)
https://www.apollohospitals.com
10 Джайпи Хоспитал (Jaypee Hospital)
http://www.jaypeehealthcare.com
Выбирать госпиталь и врача следует исключительно исходя из рекомендаций пациентов и врачей, с которыми вы знакомы лично. Если вы свободно владеете английским языком, то можете организовать процесс своего лечения самостоятельно, связавшись с госпиталем и задав интересующие вопросы. Если же нет, то стоит обратиться в официальное представительство госпиталя в той стране, где вы живете. Консультационные услуги (консультация по документам) у индийских госпиталей, как правило, бесплатны, пациент оплачивает только счет за лечение непосредственно в кассе госпиталя, то есть уже в Индии. Если вы решаете лечиться в Индии, то надо помнить, что это тропическая страна, в которой необходимо соблюдать элементарные правила гигиены и проявлять аккуратность в том, что и где вы пьете и едите. Для краткосрочного лечения подойдет медицинская E-visa продолжительностью 60 дней, она оформляется через Интернет. Если лечение предполагает большую продолжительность, необходимо оформить визу в визовом центре Индии или консульстве Индии. Основной язык общения в частных медицинских учреждениях Индии английский, и во всех госпиталях врачи, средний и административный персонал говорят по-английски. Почти везде возможно организовать переводчика на любой, в том числе и русский, язык.
В Индии действует огромное количество посредников, получающих комиссию от госпиталя. В случае, если есть необходимость в посреднике, к его выбору нужно относиться крайне осторожно и, еще раз повторю, лучше все же обращаться к официальному представителю госпиталя в своей стране.
«Мы получили все документы, клиника выставила счет. Вас ждут», – написала я в письме Марии Моховой, основательнице благотворительного фонда «Сестры», который помогает женщинам, пережившим насилие. Так вышло, что лично с Марией мы никогда не были знакомы, о ее диагнозе я узнала по телефону, пытаясь понять, почему в течение месяца летом 2016 года Мария отказывала мне в интервью о деятельности фонда – то есть в каком-то смысле в интервью, в котором она была заинтересована.
«Я болею», – повторяла из раза в раз, от звонка к звонку Мохова. Я настаивала. В конце концов, ей пришлось признаться. Тогда вместе с действительно хорошо лично знавшим Марию председателем совета фонда «Нужна помощь» Митей Алешковским мы смогли организовать сбор средств, запросили иностранные клиники о возможности лечения. Довольно быстро отовсюду пришел ответ: Марию ждали. И хотя нигде не гарантировали чудес, обещали, что пациентке будет как минимум комфортнее, а все исследования и манипуляции больше не потребуют многомесячных ожиданий «дырки» в записи, многочасовых сидений в очередях, унизительных просьб и звонков. Все это я объясняла Марии, зная, что она мучается от того, как организовано ее лечение: онкологическое заболевание, поздно обнаруженное и быстро прогрессировавшее, Мохова лечила в онкодиспансере по месту жительства, а его осложнения – в районной больнице. Оба наблюдавших ее врача никогда не разговаривали между собой и не пытались выработать какую-то единую стратегию лечения. Между этими медицинскими учреждениями передвигалась Маша своим ходом, обвязанная катетерами и медицинскими мешками, на общественном транспорте, потому что такси дорого. Бесплатным ее лечение в России было, как это обычно бывает, номинально: кое-какие анализы, кое-какие медикаменты, кое-какие процедуры и исследования среднестатистическому пациенту приходится оплачивать из собственного кармана.
Разумеется, в ответе из зарубежной клиники не подразумевалось полное излечение от рака 4-й степени с множественными метастазами, которым страдала Маша, но предполагалось купирование некоторых осложнений, облегчение состояния, попытка нового типа химиотерапии и главное – общий комфорт и полноценный контакт с врачом.
«Я могу подумать немного?» – спросила Мария. Я с большим трудом сдержала себя, чтобы не прокричать в трубку: «Да чего думать-то! Скорее, скорее езжайте. Там вас ждут, там не будут говорить: у нас на этот месяц нет коек, там врач будет всегда на связи, и это будет один врач, а не несколько постоянно исчезающих и не берущих трубку…» Но я сдержалась. «Да, конечно», – ответила я.
Это было в ноябре. В декабре Мария перезвонила. «Катя, я приняла решение никуда не ехать, – спокойным и уверенным голосом сказала она. – Здесь моя земля, мой язык, моя квартира. У меня двое юных сыновей: один недавно женился, у другого только-только появилась девушка. Я не хочу обременять их, а со мной придется кому-то поехать в качестве сопровождающего. Я хочу видеть их жизнь до самого последнего момента своей жизни. Я никогда не проводила за границей больше десяти дней, я не представляю себе своей жизни, своего лечения – пусть даже самого прекрасного – вдали от дома. Я решила не ехать».
Внутренне я не соглашалась ни с одним аргументом Марии. Я была в той клинике, откуда ей пришел положительный ответ. Я совершенно точно знаю разницу между тем, как лечится здесь и сейчас она, и тем, как это могло бы быть организовано. Я уверена, мы смогли бы собрать деньги на то, чтобы Маша лечилась, чтобы реабилитировалась, а там чем черт не шутит…
Но я молчу и соглашаюсь. Потому что – и это, наверное, одно из важнейших правил, которого должны придерживаться люди, близко общающиеся с онкологическим пациентом, – есть решения, которые вправе принять только сам человек: как лечиться, где лечиться, какому врачу доверять, какой стратегии придерживаться, когда и как (если нет сил и озвученных врачом перспектив) прекратить лечение. Это правило также распространяется на родителей детей, которые болеют раком: никто не имеет права их заставлять принять тот или иной план лечения, никто не имеет права давить, окончательное решение за ними.
Мария решила остаться дома. Она провела Новый год с сыновьями и их возлюбленными. Средства, которые мы собрали, пригодились: бесплатная медицина на самом деле дорогое удовольствие, а рак лишил Марию возможности зарабатывать на жизнь. Она мужественно переносила одну за другой химиотерапии, больше страдая от неизвестности и невозможности получить медицинские консультации в режиме реального времени. Она терпеливо ждала, когда в больнице по месту жительства освободятся койки в онкологическом отделении, чтобы лечь на химию, и в терапевтическом, чтобы после химии восстановиться. Но она была совершенно спокойна и благодарна судьбе за то, что у нее была возможность вдоволь наобщаться со своими сыновьями и провести отпущенное ей время на родине.
«Ты пожалел хоть раз, что Жанна лечилась не в России?» – спрашиваю я Дмитрия Шепелева. В питерском кафе на крыше мы работаем над сценарием фильма о Жанне, время от времени отвлекаясь на неяркий, но постоянно меняющий цвета балтийский закат. Мы всё еще уверены – это история победы над болезнью. «Мы особо не выбирали. И с какими-то проблемами, связанными с языком или обычаями, не сталкивались: я хорошо говорю по-английски, в течение болезни поднаторел в медицинских терминах. Но и так сложилось, что наш опыт лечения сразу был международным: диагноз поставили в США, там Жанна лечилась с самого начала, – говорит Шепелев, смотрит куда-то мимо меня и продолжает: – Потом встал вопрос о том, куда двигаться дальше. Меня все время настораживало, что наш лечащий доктор настойчиво повторял: «Вам надо перебраться поближе к дому». «Что он имеет в виду? Березки?» – думал я. Ни о какой ностальгии или неудобстве, связанных с тем, что мы лечимся не дома, речи не шло. В итоге мы из США переместились в Германию. И, знаешь, с самого начала, признаюсь, я заметил, как от географии зависело то, что и как говорили мне и Жанне врачи. В отличие от Майами, где доктора старались избегать прямолинейности и окончательности, немецкие врачи говорили сухо, прямо, не поддерживая никаких иллюзий о будущем, не испытывая никаких видимых сожалений. Вообще, я заметил, к вопросам жизни и смерти там относятся более прагматично, чем в России, где человеческая отзывчивость часто соседствует с чувством абсолютного смирения перед болезнью. У нас на родине речи не идет, как правило, ни о поддержке, ни о попытках воодушевить пациента на борьбу с болезнью. В США, несмотря на тяжесть диагноза Жанны, настроение врачей чаще всего было боевым: «Ну что же, дело дрянь, но мы поборемся».
Но это всё Шепелев проанализировал и понял позже. Тогда, в Майами, перед ним стоял выбор: Израиль или Германия. Одно из имен, которое встречалось Дмитрию в его интернет-поисках чаще остальных в связи с диагнозом Жанны, – профессор Манфред Вестфаль из Университетской клиники Эппендорф-Гамбург. Его к тому же горячо рекомендовал американский доктор Фриске. Обменявшись письмами с профессором, заручившись его поддержкой, согласием госпиталя и получив счет в 70 000 евро за отдельную палату и проведение назначенного лечения, Шепелев и Фриске отправились в Германию. «Тут, конечно, сразу становится понятно, как работает тамошняя медицина: не успели мы приземлиться, как тут же оказались внутри кем-то сконструированной матрицы. На взлетном поле ждет «Скорая помощь», внутри которой сопровождающий доктор с распорядком нашей жизни на ближайшие несколько дней, – рассказывает Дима. – Мы несемся в госпиталь, включая сирену на перекрестках, в окне мелькают… березы! И это, конечно, сильно отличается от пейзажа, набившего нам оскомину в Майами. Помню, я открыл окно, вдохнул – воздух какой-то наш, родной. И я сказал, даже почти закричал Жанне: «Слушай, да мы почти дома!»
«Неужели пейзаж за окном действительно так значим?» – перебиваю его.
«Если бы это не случилось со мной, я бы тебе и сейчас ответил: чушь какая-то, ерунда, – пожимает плечами он. – Но ты не поверишь, с нами обоими в тот момент, когда мы неслись из аэропорта в клинику, приключилась странная штука: эти березы, этот знакомый на вкус воздух вдруг придали уверенности в том, что здесь-то у нас всё будет хорошо; по крайней мере – без ухудшений. В клинике не успеваем опомниться, как входит одна медсестра, вторая, третья, у всех сосредоточенные доброжелательные лица и вопросы вроде: «Что вы желаете на обед: суп с фрикадельками или суп-пюре?» В общем, почти как в хорошей гостинице. И главное – никакого больничного запаха. На следующее утро я должен идти к тому самому профессору Вестфалю. Это скромный мужчина средних лет с крепким рукопожатием, одет в рубашку и джинсы. Кабинет аккуратно заставлен медицинской литературой. На столе модель черепа. На экране компьютера МРТ-снимки моей жены. «Манфред Вестфаль», – по-английски приветствует профессор. Садится. Отворачивается к окну. Возвращается ко мне и смотрит прямо в глаза: жесткий, цепкий, глубоко проникающий взгляд. Четко отделяя каждое слово, произносит: «Дмитрий, не стройте иллюзий. Ваша жена умрет»«.
Шепелев хлопает себя по карманам, как будто ищет сигареты. Но он не курит. Шарит рукой по столику. Но там пусто. Смотрит по сторонам, словно увидел кого-то знакомого. Но в кафе никто не заходит.
«Что ты ответил?» – возвращаю его к беседе.
Он пытается вспомнить, ответил ли он тогда вообще хоть что-то профессору Вестфалю. Но не может. Потому что боится не совладать с эмоциями. Точно так же, как тогда, три года назад, пытался совладать с эмоциями, возвращаясь из кабинета профессора в палату номер 316, где Жанна ждала его и хороших новостей, которых у него не было. Но тогда справляться с эмоциями в одиночку ему не пришлось: вместе с Шепелевым в палату вошел – как выяснилось – лечащий врач. Его рукопожатие было мягким, шутки – остроумными, а речь – не пугающей. Он делал всё возможное, чтобы пациентке Жанне Фриске было комфортно, кроме одного – не обманывал.
«Понимаешь, – рассуждает Шепелев, – с точки зрения немецких врачей (человеку неподготовленному нужно время, чтобы привыкнуть к болезни), болезни, в том числе и онкологические, делятся на те, которые они воспринимают как излечимые, и все остальные – при которых возможно только немного продлить жизнь и сохранить ее качество. «Борьба против рака», «вызов болезни», «сражение» – это слова не их лексикона. Безусловно, нас лечили, нас поддерживали, нам сочувствовали. Но ни о какой надежде речи не шло. Просто курс облучения и шесть курсов стандартной химиотерапии. Но при этом – окна из палаты в старинный парк, возможность засыпать и просыпаться вместе, кофе с круассанами на завтрак и возможность общаться с сыном Платоном столько, сколько у Жанны было сил. В немецких больницах нет этой, вдолбленной нам с детства, фобии перед грязью, инфекциями, особенными детскими болезнями, которые делают невозможным посещение маленькими детьми своих больных родителей. В общем, как это ни странно, лечение в UKE – один из самых светлых и даже романтических моментов болезни Жанны».
Он еще немного помолчит, как будто растерянно. А потом очень быстро, без выражения, как будто читает инструкцию по безопасности или какую-то памятку, расскажет, как именно там, в Гамбурге, ему впервые приснился сон о том, как оправившаяся после болезни Жанна возвращается на сцену, как публика, замерев, смотрит на нее, пытаясь угадать нанесенные раком отметины, но Жанна прекрасна как раньше. Она выходит на авансцену, становится в луч прожектора и поет. Зал с восхищением смотрит на нее, а потом взрывается аплодисментами: она победила!
Возможно, поэтому, когда после обещанных шести курсов химиотерапии профессор Вестфаль пришел проститься с Димой и Жанной и, по-отечески посмотрев в глаза Шепелеву, произнес: «Ты справишься», тот с вызовом ответил: «Мы еще удивим вас. Вот увидите!»
– Как ты планировал его удивить?
– Никак. Не знаю. Никакого конкретного плана у меня не было. Только откуда-то из подсознания всплыло вдруг слово «реабилитация». Я представил страшно кинематографично: красивая клиника в горах на берегу озера, чистый воздух, лебеди. Жанна занимается физиотерапией, набирается сил и хорошеет на глазах. Потому что просто сидеть и ждать, когда подействует «химия» и подействует ли, мне казалось неправильным. Я считал, что надо всё время двигаться, надо действовать. Немецкие врачи мой энтузиазм не разделяли, но пожали плечами: желание клиента – закон. И в течение двух дней нам была подобрана клиника: лебеди, озеро, парк, вот это всё, как я хотел.
Счет, по немецким меркам, удивил: шесть тысяч евро в месяц. Но неожиданно для себя, привыкшего дотошно впиваться в суть всякого медицинского разговора, Шепелев пропустил мимо ушей все подробности: подписал бумаги и улетел в Москву. На «реабилитацию» Жанну перевозили уже без него.
Он сперва смеется минуту каким-то своим воспоминаниям. И только потом посвящает в них меня: «Через пару дней, Катя, я получаю от жены гору смайликов: немецкие врачи, оказывается, перевели ее в хоспис; трудности перевода. Это, конечно, издержки жизни медицинского туриста. Даже зная язык, даже полагая, что контролируешь ситуацию, ты всё равно оказываешься немножко с завязанными глазами, потому что находишься не дома, не все понимаешь и не обо всем можешь поговорить с теми, кто рядом. Жанну перевезли в хоспис».
Еле прихожу в себя, переспрашиваю: «Таким был твой план удивить профессора?»
«У меня не было плана. Но это – урок всем другим людям, у которых не будет плана: всегда рядом есть кто-то, кто сможет воспользоваться вашей растерянностью и распорядиться вашими деньгами по своему усмотрению. И, кстати, наш вариант был не худшим: в том хосписе действительно было красиво. А в озере рядом действительно плавали лебеди. Но это было совсем не то, что я имел в виду, произнося слово «реабилитация»«.
Глава 12
В большом, пропитанном осенью парке маленького немецкого городка Мюнстер я сижу на скамейке с мамой семилетнего мальчика Димы. Дима играет в классики с русскоговорящей сопровождающей Эрикой. Услуги Эрики входят в стоимость контракта, который мама Димы заключила с Университетской клиникой Мюнстера. В контракте сказано, что Эрика должна быть всегда на связи с семьей Димы, переводить всё, что говорят врачи Диминой маме и что Димина мама хочет спросить у врачей. В любое время суток.
«Вы знаете, я всё никак не могу поверить, что после стольких унижений к нам стали относиться как к людям, что у нас появились права», – говорит Димина мама и вздыхает. Мне кажется, что сейчас она должна заплакать, и я втягиваю голову в плечи. Как любой нормальный человек, я очень неловко себя чувствую, когда плачут мамы больных детей. Но Димина мама не плачет. Она просто говорит. Вроде бы восхищенно, но всё как-то на одной ноте. Кажется, она действительно до сих пор не верит. «По сравнению с тем, как это было в ****ске (я намеренно опускаю имя Диминой мамы и город, откуда они родом. Поверьте, это типичная ситуация для любого российского города. Тем более что почти во всех трудных случаях такие дети с мамами оказываются в Москве, где очень часто сценарий повторяется), мы как будто очутились на другой планете. В первый же день после прилета мы прошли полное обследование. У нас взяли все анализы крови, пробирок пятнадцать, наверное, чтобы проверить всё по всем показателям. Они всё делают так основательно, вплоть до каждой мелочи. И всё время повторяют: не стесняйтесь спрашивать. Мне это так странно. Наш завотделением в Москве всё время орал на мамочек: «Перестаньте дергать врачей, не мешайте им работать». А тут… У Димы вчера ночью заболела голова очень сильно, они повезли его сразу же на КТ, проверить, нет ли кровоизлияния. У нас в городе на КТ надо в очереди стоять не меньше месяца. И из-за какой-то головной боли никто, конечно, посреди ночи никакое КТ делать не будет». Мама опять вздыхает.
Я спрашиваю: «Как вы здесь оказались? Кто вас направил, кто оплачивает лечение?» Мама рассказывает, как всё тот же заведующий отделением одной из московских клиник, куда попали Дима с мамой, сообщил, что в Москве им помочь, по всей видимости, не смогут. Димин рак признали не поддающимся лечению и стойким к химиотерапии. Но, выписывая мальчика, завотделением почему-то сказал, что единственный шанс попробовать спасти Диму – лечение за границей. Всё это случилось под конец года, когда почти для всех российских пациентов кончились квоты на лечение и благотворительные фонды судорожно латали дыры, оплачивая бесплатное, по идее, лечение маленьких пациентов в российских клиниках деньгами благотворителей. Когда мама Димы обратилась в фонды с просьбой оплатить лечение ребенка в Германии, ни у одного фонда такой возможности не нашлось. Но нашлись спонсоры – работодатели мамы и папы Димы. Пока у них на счету есть 40 тысяч евро. Пока, если план, описанный немецкими врачами, не претерпит корректировок, этого хватает.
Прежде чем ехать, Димина мама прошерстила интернет-форумы родителей больных детей, обзвонила десятки других мам и пап для того, чтобы быть уверенной, что они едут не просто потому, что завотделением одной из московских клиник от них отказался: «Решение я принимала самостоятельно и своих родителей подготавливала к этому, потому что статистика выздоровлений и смертей, которая есть в России, мягко говоря, пугает. И по этой статистике выходит, что ребеночек умирает не потому, что не смогли вылечить, а потому, что не смогли выходить. Я нашла несколько мам, которые лечились в Германии, прочла всё, что было доступно, про клиники. Со всеми переговорила. И личный опыт родителей, и статистика – всё говорило за то, что нам надо искать деньги и мчаться сюда, чтобы не потерять ребенка. Послушайте, ну что о каких-то высоких и далеких вещах говорить, если здесь просто можно посещать сына, брать его гулять, жить с ним, он не находится всё время в замкнутом пространстве, в депрессивной палате после тяжелой и болезненной химии!» Димина мама опять вздыхает.
Контракт на Димино лечение заключали со специальным отделом медицинского туризма Университетской клиники Мюнстера. В нем всё устроено очень похоже на обыкновенное турагентство: проспекты, варианты, расценки. В буклетах улыбающиеся лица вроде бы реальных пациентов из России. Всех новеньких всегда лично принимает глава отдела господин Йорг. Он и предлагает пациентам или родителям маленьких пациентов заключить контракт по типовой схеме: «Чтобы составить план лечения, необходимы результаты обследований из Москвы, которые будут проверены нашими специалистами. То есть на самом деле пациенту будут сделаны все новые анализы, но мы должны знать, от чего отталкиваться. К вашему приезду назначат приемы у врачей, все обследования постараются выстроить в максимально комфортный для вас график. Всё займет примерно неделю. Затем ваш лечащий врач сообщит, какой метод лечения для вас мы бы рекомендовали, и мы сможем подсчитать, сколько примерно это будет стоить».
После этого останется, вернувшись в Россию, оплатить лечение и, получив приглашение из клиники, оформить визу в посольстве. Иногда, как в случае с Димой, клиника проводит заочную консультацию и сразу вызывает пациента на обследование и лечение. Ханс Йорг удивляется, когда я спрашиваю его: на что вправе рассчитывать медицинский турист в Мюнстере? Ответ стандартный: «Медицинский турист вправе рассчитывать на тот же уровень и качество помощи, что бесплатно получают граждане Германии. Только за деньги. Для пациентов из России существует гибкая система скидок. Например, десять лет назад россияне платили за каждый день пребывания в больнице, а сейчас тарифная система рассчитывается в зависимости от заболевания и выбранного вида лечения. Например, химиотерапия – полный цикл – может стоить от пятнадцати до тридцати тысяч евро. Но люди едут к нам не из-за скидок. Основная причина – это доверие. Не столько к конкретным врачам, сколько к самой системе организации помощи. Наша медицина – это не только химиотерапия, операция, облучение или какие-то манипуляции. Это еще и комфорт. Бытовой и психологический».
Единственный вопрос, на который не умеет отвечать Ханс Йорг, – откуда у российского медицинского туриста возьмутся деньги на лечение. То есть всё и вправду как в туристическом агентстве: будут деньги – будет контракт. Кто-то, может, богат, кому-то помогут благотворители. Если все сложится, то вместе с лечением медицинские туристы из России получат некоторые бытовые, социальные и психологические гарантии, о которых на родине не могло быть и речи: услуги психолога, терапию музыкой, терапию искусством, а также штатного переводчика-сопровождающего от отдела медицинского туризма. В Димином случае – это дочь эмигрантов из России Эрика Кинсфатер, чьи услуги входят в турпакет. И в чьи профессиональные обязанности входит забота. На время лечения Эрика – член семьи медицинского туриста.
Дима с мамой, судя по заключенному контракту, будут лечиться в Университетской клинике Мюнстера не меньше месяца. На это время им как медицинским туристам дадут социальное жилье в располагающемся напротив кондоминиуме. Эрика будет неподалеку, с постоянно включенным, согласно контракту, мобильным телефоном. Если понадобится, она свяжет Димину маму с нужным врачом, поможет получить любое необходимое лекарство без очереди и задержек. А еще, конечно, обезболивание: в любое время суток и по самой незначительной жалобе, потому что больно вообще никогда не должно быть.
Проводив Диму с мамой домой, мы с Эрикой пьем чай в самой известной гостинице Мюнстера Mоvenpick. Эрика с гордостью показывает цветок из пластилина, который ей подарил сегодня Дима. Она говорит: «Эти дети так настрадались, что хочется прямо из кожи вон вылезти, чтобы они всё время улыбались, я очень стараюсь. Мне сказали на работе, что это непрофессионально, но с каждым их своих подопечных я поддерживаю связь потом, когда они заканчивают лечение и возвращаются на родину».
Спустя полторы недели именно Эрика найдет меня на другом конце света, в Америке, чтобы сообщить, что Димин рак, диагностированный вначале в провинции, а затем признанный неизлечимым в одной из московских клиник, не подтвердился. Да, у него заболевание крови, но не смертельное, а поправимое. Дима с мамой скоро отправятся домой, но, к сожалению, деньги за лечение им уже никто не вернет. «Эрика, какие глупости, деньги», – кричу я в трубку. А она рассудительно говорит: «Мне кажется, что так было бы честнее». Информацию об ошибочном диагнозе «рак» позже подтвердит и совершенно счастливая мама Димы, и Ханс Йорг, директор отдела медицинского туризма, который в свойственной ему обстоятельной манере добавит в письме: «Точнейшая диагностика – одна из привилегий нашей клиники, по праву входящей в список лучших в мире в области лечения гематологических, онкогематологических и онкологических болезней».
Читая это письмо, я вспомню гостиницу Mоvenpick, нашу первую встречу с Йоргом и его слова: «Многие пациенты, собираясь лечиться у нас, действительно спрашивают про Раису Горбачеву, им кажется, то, что она здесь лечилась, дополнительной гарантией. Я всё время, если честно, этому удивляюсь, потому что мне до сих пор больно: Раиса здесь умерла…»
И Ханс Йорг, и управляющий гостиницей Mоvenpick Теопольд Леопольд произносят имя Раиса как Raissiа. Раша. Россия. Может, совпадение, а может, они специально так придумали. О Горбачевых, их истории любви, болезни и расставании здесь до сих пор говорят с трепетом. Летом 1999-го консилиум лучших врачей и семья приняли непростое решение: единственный шанс на спасение Раисы Горбачевой – лечение за границей. Так первая леди СССР стала первым известным медицинским туристом нового времени.
Управляющий Movenpick предлагает мне посмотреть «тот самый номер, где жил Михаил Сергеевич». Воодушевившись моей готовностью, как будто забывает о существовании лифта, бегом несется на четвертый этаж. У меня – мурашки по телу. Тот самый номер – соседняя дверь с моей. Стандартный. Только окна в другую сторону. Леопольд поясняет: «Вот это была его комната. Мы спрашивали, может, что-то еще. Может, люкс… Но он сказал: мне ничего не нужно, просто комната. И чтобы окна в сторону больницы».
В Москве, во время интервью, я спрашиваю Горбачева: «Как вы решились повезти Раису Максимовну в Германию – вроде бы неудобно, вроде бы не принято еще тогда было лечиться за границей?» Ответ очень прост. Другого выхода у них тогда не было. «Та форма болезни, лейкоза, которой заболела Раиса, – мало распространенная, мало изученная в тот момент, у нас вообще не имела лечения, – говорит Горбачев. – Ведущие специалисты в прямом разговоре вынуждены были признать наше отставание по этой части. Отставание не с точки зрения уровня наших медиков, а с точки зрения оснащения наших больниц. Более того, клинику для лечения Раисы выбирали специалисты со всего мира. Остановились на Мюнстере. Потому что там только что было открыто суперсовременное по всем требованиям отделение пересадки костного мозга взрослому человеку. А ведь Раисе требовалась именно трансплантация. В общем, на тот момент лечение Раисы было возможно только в Мюнстере».
В это сейчас трудно поверить, но, действительно, каких-то два десятка лет назад, в самом конце XX века, немецкая клиника в городе Мюнстер имела пусть и небольшой, но редкий в мире и отсутствующий в России опыт пересадки костного мозга человеку старше сорока. В наши дни такие пересадки – обычное дело. И формулировка «пересадка костного мозга» часто звучит и с экранов телевизоров, и в просьбах о благотворительной помощи.
Для того чтобы читателям было понятней, что же имеется в виду (и в случае с Раисой Максимовной, и во многих других случаях), я попросила объяснить термин «трансплантация костного мозга» и связанную с ним обывательскую путаницу гематолога, заведующего отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.
Путаница – мозг и костный мозг – действительно существует. Связана она с неудачным стечением лингвистических обстоятельств. Потому что по-английски головной мозг – это brain, а костный мозг – это marrow. То есть это два совершенно разных слова, и во всем мире их никто не путает.
Костный мозг, то есть marrow, расположен в основном в плоских костях (мы говорим, в губчатых костях), в большей части костей организма. Костный мозг – это место, где образуются клетки крови. Чтобы вам было легче понять, вообразите, что костный мозг – это такая грядка, на которой вырастают клетки крови, а потом они из костного мозга выходят в кровь и выполняют там свою важную и нужную работу.
Трансплантация костного мозга (ТКМ) / гемопоэтических стволовых клеток – метод лечения гематологических, онкологических и аутоиммунных заболеваний, при котором пациенту после проведения интенсивной цитостатической и иммуносупрессивной терапии с применением специальных препаратов или облучения вводят предварительно заготовленный костный мозг или стволовые кроветворные клетки периферической крови.
Дело в том, что химиотерапия как важнейший инструмент борьбы против рака, как правило, воздействует и на опухоль, и на здоровые клетки. Больше всего она воздействует на клетки, которые быстро размножаются: это, в первую очередь, костный мозг и эпителий, то есть поверхность кожи и желудочно-кишечного тракта. «Если дать пациенту очень большие дозы химиотерапии, то он может и их перенести и пережить, – рассказывает профессор Алексей Масчан. – Но что это значит? Это значит, что химиотерапию перенесут такие его органы, как сердце, почки, легкие, то есть все органы, достаточно устойчивые к химиотерапии. Но не костный мозг. Высокие дозы химиотерапии убивают костный мозг. С убийством костного мозга в организме человека заканчивается кроветворение, человек погибает. Получается, что и химиотерапия была напрасной. Рак, может, и побежден. Но пациента такое лечение погубило».
И долгое время этот порог чувствительности костного мозга к химиотерапии был непреодолимым в лечении опухолей. Но в какой-то момент появилась идея: если заменить костный мозг пациента донорским, то есть если сначала его уничтожить с помощью химиотерапии вместе с опухолевыми клетками, а потом заменить донорским, здоровым, как бы новым, то это должно заработать! Ведь так у организма появится возможность барьер максимальной дозы химиотерапии преодолеть.
«Безусловно, чаще всего речь шла о лейкозах, которые, собственно, и являются опухолью из клеток крови, – рассказывает Масчан. – Идея проводить вначале уничтожительную химиотерапию, а потом пересаживать пациенту новый здоровый костный мозг оказалась очень продуктивной. Сегодня трансплантация – это один из самых распространенных и самых эффективных методов иммунотерапии опухолей».
За изобретение как метода спасения погибшего кроветворения в 1990 году профессор Эдвард Донналл Томас из Центра исследований рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле получил Нобелевскую премию.
Донором костного мозга для Раисы Горбачевой собиралась стать ее сестра Людмила. Ее клетки идеально подходили Горбачевой. И, несмотря на то, что Людмиле Максимовне на момент запланированной пересадки было больше семидесяти (обычный возрастной порог донора – 45 лет), врачи пошли навстречу и разрешили ей быть донором. До своего возможного шанса на спасение Раиса Горбачева не дожила двух дней. Организм не выдержал.
«Знаешь, когда Раиса умирала в Мюнстере и в стерильную палату отделения трансплантации костного мозга, где она лежала, нельзя было заносить газеты, я все-таки решился, я вырезал из газеты «Известия» заметку «Леди достоинство» и прочитал ей», – рассказывает Горбачев. Смотрит на меня: я понимаю, о чем речь? Я понимаю. Та заметка в «Известиях» – первое в российской прессе доброе человеческое слово о жене президента СССР за десять лет травли. Горбачев продолжает: «Она, конечно, плакала. Она лежала, и так плакала, и говорила: «Господи, Миша, неужели для того, чтобы люди меня поняли и признали, я должна была умереть?»
Он вспоминает каждый день, каждую минуту, проведенную в Мюнстере, подробно, в деталях, будто это было вчера. Я даже спрошу его: «Неужели в то время вы вели дневник?» Он удивится вопросу: «Нет. А почему спрашиваешь?» Я объясню, он в ответ как-то сожмется весь и даже не мне, в сторону скажет: «Я всё время к этому возвращаюсь. Я никак не могу научиться жить без нее. А там мы были очень, очень близки, я, понимаешь, ее провожал».
Управляющий гостиницей, где жил Горбачев, рассказывает: каждый божий день первый президент СССР вставал, завтракал у себя в номере и выходил из отеля в восемь утра, чтобы вернуться в восемь вечера и, ни на кого не глядя, пройти к себе в номер. Теопольд Леопольд даже вспомнит: «Однажды я приехал в отель, была пробка на перекрестке. Лил дождь. Горбачев переходил дорогу. Я остановился и сказал: господин Горбачев, садитесь, я подвезу вас. Он ответил: нет-нет, всё в порядке, спасибо. Я сам».
«Катя, веришь, я до сих пор помню запах вот этого средства, антисептика, которым моешь руки, прежде чем войти в отделение. – Михаил Сергеевич рефлекторно как будто моет руки на моих глазах. И продолжает вспоминать: – Я всё снимал, надевал зеленые бахилы и шел по этому длинному коридору. И его длина позволяла мне собраться с мыслями, придумать что-то еще, что заставило бы ее улыбаться, держаться за жизнь».
В конце концов они придумали писать немецким врачам записки, с помощью которых Раиса Максимовна могла бы учить немецкий язык. Пара записок хранятся в музее Фонда Горбачева. Мне как-то не хватило духу спросить у него, пригодились ли они.
Когда прощались, управляющий Теопольд Леопольд вдруг, как ребенок, потянул меня за рукав и показал фотографию. На фото Горбачев с бокалом шампанского в руках, окруженный кучей незнакомых людей. Интерьер – холл гостиницы. «Когда умерла Раиса, Горбачев с дочерью принесли в отель шампанское и что-то еще, так они хотели поблагодарить нас за то, что в этот трудный месяц их жизни мы были рядом. Вы себе представить не можете, что это для меня значило! Вот я на этой фотографии. Каждый из нас тогда подошел к Горбачеву и пожал ему руку. Мы старались много не говорить, он и так еле держался.
А потом приехали журналисты, несколько десятков. Они тоже благодарили его и просили прощения, что вынуждены были снимать, просить об интервью, словом, беспокоить. Он махнул так рукой, говорит: «Ну что вы, это ваша работа». Потом собрался с мыслями и сделал заявление о смерти Раисы. Всё кончилось. Назавтра они уехали. Я очень часто думаю о том шансе, который дала мне судьба, сведя меня так близко с таким великим человеком. И я долгое время не мог поверить в то, что тот самый Горбачев, покончивший с тоталитаризмом и объединивший Германию, – это вот этот пожилой растерянный мужчина, каждый день, в любую погоду идущий знакомой мне с детства дорогой от гостиницы до больницы, чтобы потом весь день сидеть у постели своей любимой. Я был поражен тем, что увидел и узнал в Великом Деятеле XX века – человека. Именно Человека».
Я буду думать об этих его словах всю обратную дорогу в Москву, несколько дней в Москве и по пути в Израиль, на интервью с Людмилой Улицкой. И в ее словах я услышу ответ: «Катя, рак так меняет людей. Он порой позволяет вырасти им над самими собой, ведь это же не из ниоткуда взялось: что не убивает, делает нас сильнее».
Я не была знакома с Михаилом Горбачевым до болезни Раисы Максимовны. Но думаю, что эта болезнь сильно его изменила. Как изменила она и Людмилу Улицкую. Об этих изменениях она пишет в дневнике. Возможно, именно ради того, чтобы зафиксировать перемены, Улицкая и стала вести дневник своей болезни.
Глава 13
Да, зачем я всё это пишу? Дело в том, что мне надо установить новые отношения с моим телом, в первую очередь с грудью. К исходу седьмого десятка я, испытывавшая чувство вины по самым разным поводам, остро ощутила себя виноватой перед своим телом. Странно, что всю жизнь относясь к невинному моему телу с равнодушием, в лучшем случае, и с жестокостью, как правило, – я так поздно это ощутила…
В своих размышлениях Людмила Улицкая постоянно возвращается к этой теме: о том, что у нее «раковая» семья, она знала с самого начала. Гормонозависимые раки, такие как рак яичников и рак молочной железы, имеющиеся в семейном анамнезе (то есть подобным раком болела сестра, мама, тетя, бабушка или прабабушка), – это группа риска. Но – и это очень странно! – Улицкая, как и многие другие, не думала применить имеющиеся знания к себе, не размышляла над тем, как помочь своему телу, как защитить его, как избежать, в конце концов, предначертанного заболевания. Да и можно ли избежать предначертанности? Бывает ли рак предопределен? И что значит семейная история в шансах победить болезнь?
Этот вопрос один из самых популярных у обывателей. Однажды я слышала, как с высокой трибуны в тот момент действующий министр здравоохранения России Михаил Зурабов произнес: «Рак, мы же знаем, – это такая болезнь: если умер отец, умрет и сын». Зал, полный врачей и онкологических пациентов, затопал ногами. Министр ретировался, но вопрос так и остался висеть в воздухе: «Рак действительно передается по наследству? И, если это так, что делать тому, чьи риски понятны заранее?»
На самом деле чаще всего заболевание возникает независимо от наследственных факторов. Но про некоторые формы рака уже достоверно известно: они генетически предопределены. «Этих форм не так много, – рассказывает профессор Российского научного центра рентгенорадиологии Ольга Желудкова. – Но вот какая загвоздка: предрасположенность к болезни нельзя лечить как саму болезнь. Так, например, в рамках одного недавно проведенного исследования группы женщин, в чьей семейной истории были гормонозависимые раки, выбрали тех, у кого был и ген, который обязательно программирует заболевание, и онкомаркеры в очень высокой концентрации. Этим женщинам превентивно проводили химиотерапию, проводили лучевую терапию, им проводили даже резекцию молочной железы. Но через пятнадцать лет все они всё равно заболели, несмотря на то, что, казалось бы, еще до возникновения заболевания начали его лечить». Выходит, генетически обусловлен сам факт возникновения заболевания, значит, есть какие-то изменения в организме, которые не позволяют вылечить болезнь превентивно.
По статистике ВОЗ, примерно 10 % всех видов и типов онкологических заболеваний имеют наследственную природу, но большинство – то есть 90 % – это совершенно случайное стечение обстоятельств. В этих случаях рак происходит потому, что в соматических клетках организма, например в клетках печени или в клетках эпителия (у взрослых это прежде всего эпителиальные клетки: да-да, и в легких, и в кишечнике, и в желудке клетки всё равно эпителиальные), возникают мутации и происходит перерождение клеток, они бесконтрольно начинают делиться, и получаются злокачественные опухоли.
«Для того чтобы рак был наследственным заболеванием, – объясняет профессор Алексей Масчан, – нужно, чтобы эти мутации возникли, например, не в клетках эпителия кишечника, и возник рак кишечника, или не в клетках эпителия легкого, и возник рак легкого, а чтобы эти мутации возникли в половых клетках. Вот тогда теоретически возможна передача этих мутаций, которые могут приводить к возникновению опухолей, через поколение. Тогда можно сказать, что это наследственное заболевание. Существует так называемый синдром Ли-Фраумени, синдром наследственного, или фамильного, семейного рака. Когда есть опухоль у маленького ребенка, есть опухоль у ближайших родственников до 35–40 лет. И вот тогда врачи хватаются за голову и говорят: это синдром Ли-Фраумени, это семейный рак! Но, друзья мои, в мире описано, может быть, 100, может быть, 300 таких случаев. Вероятность этого даже не одна сотая или одна тысячная процента, вероятность этого – 00000. Это очень редкий синдром. Потому что, если в половых клетках и происходят такие мутации, которые могут в будущем привести к возникновению опухоли, то в 99,99 % случаев такие оплодотворенные яйцеклетки нежизнеспособны, они просто погибают в момент зачатия. Из них, как правило, не развиваются эмбрионы. Природа, оберегая нас, отбраковывает такие ситуации».
Иными словами, те опухоли, с которыми врачи имеют дело каждый день, это не наследственные опухоли, это опухоли, возникшие в силу неких, до сих пор неясных науке, сбоев. Однако некоторые типы рака молочной железы, некоторые формы хронического лимфолейкоза и некоторые другие раки действительно имеют семейную природу и семейную предрасположенность. Такие раки, как правило, связаны с поломкой конкретного для семьи гена – обычными скринингами и проверками этот сбой не поймаешь. Найти и соединить причину со следствием в каждом конкретном случае – научное открытие.
В профессиональной деятельности профессора Алексея Масчана такое открытие однажды произошло. Но вначале случилось невероятное стечение обстоятельств: 1990 год с точки зрения медицины вообще и с точки зрения онкологии в частности совершенно безрадостный для России – политические, социальные и экономические трудности не в счет. К молодому доктору Масчану попадает пациент Вася Коваленко, 9 лет. Диагноз – острый миелоидный лейкоз. «Причем перед острым лейкозом у него было в течение четырех лет предраковое состояние, которое называется миелодиспластическим синдромом», – добавляет доктор. Во время обследования лечащие врачи Васи узнают от мамы, что и дедушка мальчика умер от точно такого же острого миелоидного лейкоза. Но доктора не придают этой информации значения – в 1990-м онкологи еще не знают: эта информация может быть чрезвычайно важной для четкого понимания того, что происходит с Васей.
Спасти Васю Коваленко не получится, мальчик погибнет: в то время ни трансплантаций, ни даже адекватной химиотерапии, не говоря уже о сопутствующей медицинской поддержке, еще не существует.
Через несколько лет после Васиной смерти у его мамы родятся две дочери – Таня и Катя. Когда Тане исполнится двадцать, в совершенно другой больнице совершенно другой доктор обнаружит у нее рак: острый миелоидный лейкоз, такой же, как тот, от которого умер Вася. Но к этому моменту уже известно: на свете существует такой метод лечения, как пересадка костного мозга. И Васина мама попросит бывшего лечащего врача Васи Алексея Масчана узнать, сможет ли Катя – сестра заболевшей Тани – стать донором костного мозга для сестры.
С точки зрения внутримедицинских процессов, профессор Алексей Масчан оказался в эпицентре детективного сюжета этого конкретного рака семьи Коваленко. «Когда позвонила Танина мама, прошло 20 лет с момента смерти Васи, многое изменилось и в медицине, и в моем уровне квалификации. Не только в России, но и в науке надо уметь жить долго, чтобы стать свидетелем заметных перемен», – рассказывает Масчан.
Успеваю вставить: «Что – самое важное – изменилось?» – «Как минимум я на профессиональном медицинском уровне выучил английский язык, стал читать статьи и прочел описание нескольких семей, которые были очень похожи на семью Васи Коваленко. Эти описания были сделаны спустя 10 лет после того, как Васи не стало, и за 10 лет до того, как позвонила их с Таней мама. Но когда она позвонила, я совершенно отчетливо понял, что нужно, в чем вообще интрига этого сюжета».
Масчан вспомнил, что Васин дедушка умер от той же болезни, от которой потом – Вася: миелоидный лейкоз. За 20 лет в науке произошел такой существенный сдвиг, что эта информация стала очень важной.
«Я уже знал, – говорит Масчан, – что открыт ген RUNX1, отвечающий за возникновение и развитие некоторых форм лимфо- и миелолейкоза. Поэтому, когда мы встретились с Таней и ее мамой для обследования, я понимал, что нужно искать именно этот ген. И я попросил сотрудников из лаборатории молекулярной биологии проверить, или, как мы это называем, просеквентировать, то есть прочесть последовательность, структуру данного гена у всех членов этой семьи. И действительно: у некоторых родственников и у самой Тани была выявлена поломка этого гена. Но самое интересное: выяснилось, что у ее родной сестры Кати поломки этого гена не было, то есть она здорова. И выяснилось, что сестра Катя подходит Тане в качестве донора костного мозга. А вот у другой, двоюродной Таниной сестры, Лены, мы обнаружили синдром предрасположенности к лейкемии».
В истории семьи Коваленко ученых поразила и еще одна деталь: Вася заболел в 6 лет, Таня – в 19, а их дедушка и вовсе – в 78 лет. То есть одинаковая для всех поломка проявила себя с разницей в шестьдесят лет! По мнению онкологов, это служит доказательством того, что рак – цепь случайных событий. Поломка, дефект определенного гена может лишь увеличить вероятность злокачественной трансформации, для осуществления которой нужны и другие генетические изменения, – время их появления случайно, они могут произойти в любом возрасте: и в 4 года, и в 20 лет, и в 70, а могут и вообще не произойти.
В ходе генетических исследований семьи Коваленко выяснилось, что сын Таниной двоюродной сестры, Лены, унаследовал эту самую семейную генетическую поломку. 12-летний мальчик, носитель «семейной» поломки, ничего не знает о своей предрасположенности, и ему пока не рассказывают: семья не понимает, как рассказать ребенку о его дамокловом мече, как он отреагирует, что скажут одноклассники, что – их родители, как отнесутся к этой информации посторонние люди. И как это отношение изменит жизнь ребенка. Ведь многие люди в России до сих пор суеверно считают рак чем-то средним между проклятием, наказанием и неотвратимой судьбой. Именно поэтому фамилии всех участников этой детективной истории изменены, а имена и сама история – подлинные.
Я спрашиваю профессора Масчана: «Как вообще в обычной жизни люди – врачи или просто случайные знакомые, узнавшие тайну семьи Коваленко, должны себя вести?» Профессор не знает правильного ответа: «Эта ситуация и этически непростая, и профессионально, по-медицински. Единственно верной модели поведения в таком случае быть не может. Каждый врач вырабатывает эту модель вместе со своим необычным пациентом, а в Васином и Танином случае, пока что, – с его родственниками. Да, у меня есть информация, что у пациента предраковое состояние. Но он клинически здоров, он не имеет никаких проблем, он живет. Мало того, я как врач и как ученый понимаю, что он вообще может лейкозом не заболеть. Что я должен делать? Я не знаю».
Те несколько лет, что отделяют издание книги «Победить рак» от нынешнего, профессор Масчан находится в постоянном контакте с семьей, все родственники всех ветвей семьи проинформированы об «особых» рисках. Все знают о том, что есть наследственная предрасположенность и в случае с мальчиком, и в тех случаях, когда у кого-либо из семьи появятся дети. Но что, по сути, знает семья Коваленко? Что им нужно быть внимательными, что при появлении любых признаков любого нездоровья, помимо того, что они должны всегда обращаться к терапевту, а не заниматься самолечением, они должны сразу же ставить нас в курс дела? Да. И еще – что самый маленький мальчик Коваленко как минимум раз в год должен проходить полное обследование и сдавать расширенный анализ крови. Недавно мама с ребенком были на проверке. Всё хорошо. Пока в их состоянии нет никаких тревожных признаков. Вот и всё. На данном этапе развития науки для их семьи больше никто ничего не может сделать. В такой области, как онкология, черных дыр всё еще очень много. Постепенно они заполняются знанием. Которое, с определенной точки зрения, является преимуществом – знание о том, в каком месте у организма тонко, в каком может порваться. «Многие из нас носят гены предрасположения к раку и об этом не знают, – говорит профессор Алексей Масчан. – Но знать, что у тебя точно есть ген, который примерно в 30 % случаев приводит к развитию лейкоза, наверное, довольно тяжело. Хотя я считаю, что в данном случае для больных это большое благо, потому что они, по крайней мере, знают, с какой стороны их может подстерегать опасность».
По мнению заведующего отделением химиотерапии Московской городской онкологической больницы № 62 Даниила Строяковского, чрезмерные знания пациентов о вероятности прихода болезни и чрезмерные усилия медиков по поиску болезней, которые еще себя не проявили, вредны, как все чрезмерное. «С очень активной и модной теперь превентивной диагностикой большие сложности», – говорит мне Строяковский. Мы идем по длинному коридору вверенного ему отделения химиотерапии. В палатах по обе стороны – люди, которые лечатся от рака, в коридоре – онкологические больные, в очереди в столовую – тоже. Это настоящий раковый корпус. «Разница между этими людьми и теми, чьи риски мы просто знаем, огромна. Этих мы знаем, как лечить в большинстве случаев. Про тех, чей рак только в прогнозе, – большой вопрос: что с ними делать?» – разводит руками Строяковский.
Доктор прав: дело не в том, чтобы технически поставить сам диагноз, когда болезнь еще не случилась. Дело в том, что с этим диагнозом потом делать: «Это очень важный и очень большой вопрос. Вот, смотрите, простой пример. По сравнению с данными 1970-х годов сейчас заболеваемость раком щитовидной железы выросла в пять раз. Почему? Потому что вырос уровень диагностики. А вот уровень смертности от этого рака что в 1970 году, что в 2010 году одинаков. Вопрос, является ли это эпидемией болезни или является эпидемией диагнозов? Это, конечно, эпидемия диагнозов. Нужно ли нам ставить такое количество раков щитовидной железы? Влияет ли на жизнь больных такое количество поставленных раков щитовидной железы? Ответ – нет. Или рак молочной железы. У американцев заболеваемость в 1980 году была в 2,5 раза меньше, чем сейчас. Смертность по сравнению с 1980-м снизилась на 30 %. А количество запущенных случаев снизилось всего на 8 % по сравнению с тем, что было в 1980 году! Выходит, они загодя перелечили дикое количество людей с ранней диагностикой, получив фантастические цифры пятилетней выживаемости. А смысл-то в чем? Дело в том, что парадигма «рано выявил, не допустил запущенной стадии, значит, не допустил смерти» не работает линейно. Если бы оставалась точно такая же заболеваемость, но при этом стадии, которые тогда были запущены, стали бы все ранними, а смертность снизилась – тогда бы это работало. Но запущенных стадий стало всего на 8 % меньше, а количество выявленных в 2,5 раза больше. Выходит, что смертность снизилась за счет качественного лечения, а не за счет огромного количества поставленных диагнозов у женщин, у которых никогда и не реализовался бы этот рак молочной железы, они бы умерли от других причин. То есть все эти скрининги, поиски, то, что сейчас очень в моде, на самом деле, как мне кажется, несколько переоценены».
Та же самая проблема, по словам Строяковского, возникает и при скрининге рака предстательной железы, точнее, выявлении предраковой стадии по анализу крови. «Вот взяли кровь, и там – бах! – выявились раковые клетки. Но это даже не первая стадия. А просто есть клетки. Что тут делать? Лечить человека? От чего лечить? Подождите секундочку, клетки есть, а рака нет, – возмущается врач. – И такая ситуация сегодня более чем возможна. Сегодня есть возможность проанализировать ДНК и отыскать там раковые клетки. Сейчас вдруг выяснилось, что, оказывается, у каждого человека в принципе можно найти клетки, которые имеют транслокацию 22, как при хроническом миолейкозе, есть клетки, похожие на те, что отвечают за образование фолликулярной лимфомы. Но это не значит, что у всех, у кого есть эти клетки, в будущем случится лейкоз или фолликулярные лимфомы. А может иначе – человек пока не дожил до своей фолликулярной лимфомы. И что делать врачам? Уже сейчас, заранее, лечить или пока подождать? Также не до конца понятно, нужно ли всем женщинам определять наследственный рак молочной железы, как это было модно последние 20–30 лет? Я убежден, что нет. Потому что, если мы начнем всех женщин проверять и информировать, то знание того, что у нее есть наследственная мутация, приведет к тому, что она всю свою жизнь распланирует под это. Она будет жить не так, как ей Господом суждено. И многое может пойти наперекосяк. И вот я думаю, что не надо вторгаться в такую чрезвычайную материю. Никто не знает, к каким проблемам, в том числе и психологическим, это приведет у каких-то людей. Нам надо жить, как будто мы будем жить вечно. Не погружаться всё время в ипохондрию и ждать, что мы чем-нибудь заболеем и чем-то отравимся или что-то случится».
Иными словами, проверяться надо, причем регулярно, но именно проверяться по понятным, соответствующим полу и возрасту графикам (о них чуть ниже). Но проверяться – не значит выискивать болезнь, а тем более ее ждать. Ведь если ждать, что что-то случится, не надо ездить на машинах, летать на самолетах, плавать на кораблях и вообще выходить из дома, то есть – жить. «Помните, этот фокус попытался провернуть Майкл Джексон, – говорит Строяковский. – Но у него ничего, как вы знаете, не вышло. Он умер в своей идеальной барокамере в пятьдесят лет. По совершенно другой причине».
«Ко мне очень часто приходят пациенты, переполненные знаниями о том, какой рак в них «спит и вот-вот проснется». Они уже не спят и не едят, рак ищут. Они сетуют на повышенный онкомаркер, но они не знают, что он может быть повышен при очень разных процессах. И выходит, как у Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда», – рассказывает онколог Михаил Ласков. Мы сидим на подоконнике кабинета химиотерапии его новой клиники. Окна кабинета химиотерапии выходят на московский горнолыжный склон. Я перебиваю Ласкова: «Слушай, а как пациенты реагируют на то, что им во время химии приходится смотреть на всяких сноубордистов?» – «Я тоже не был уверен, но вышло отлично. В отличие от многих здоровых людей те, кто уже болеет, умеют ценить каждое живое мгновение», – отвечает Ласков. Но всё равно возвращается к теме превентивной диагностики и всеобщего на ней помешательства.
«Понимаешь, все вроде хотят, чтобы всё было просто и точно, но получают постоянный нервный стресс. Да, безусловно, есть случаи, когда в силу семейного анамнеза человек должен находиться под контролем врачей. Но таких случаев – один на миллион! И, как правило, вот этот один из миллиона уже знает обо всем, уже предупрежден и наблюдается. В остальном же, конечно, существуют программы скрининга, которые не включают в себя онкомаркеры, опросники и гадание на кофейной гуще, – это плохая идея, но предлагают пациентам четкую схему обследования. Есть ряд программ скрининга, позволяющих «поймать» на ранней стадии наиболее распространенные заболевания: рак кишечника, рак молочной железы и другие. Скрининги эти не умозрительные, а вполне конкретные: регулярная (по возрасту) маммография и колоноскопия, анализ стула на скрытую кровь, Pap test. Даже с этими скрининговыми тестами не все ясно, и споры вокруг них у специалистов продолжаются. Все остальные методы недостоверны, дают много ложноположительных результатов и сводят людей с ума. Я, например, знаю людей, которые раз в три месяца заставляют сдавать кровь своих маленьких детей, боясь рака. Но это же чистое безумие! Во-первых, надо уяснить, что онкологическое заболевание в меньшинстве случаев выявляется по анализам крови, только лейкозы, и то их нельзя поймать на ранней стадии, а во-вторых, у педиатров возникает огромное количество проблем из-за анализов крови, которые делают не по показаниям. Если ребенок здоровый, хорошо ест, активный, хорошо спит, всё нормально, отстаньте от него. Это относится и к взрослым. Живите спокойно, не изводите себя», – говорит Ласков, обращаясь уже не столько ко мне, сколько к каким-то цветным и неразличимым в шлемах сноубордистам, что вылетают из снежной трубы склона в районе Нагорной и прокручивают двойные сальто прямо перед окном его кабинета.
«Знаешь, я потом часто спрашивал себя: а что было бы, если бы мы знали о том, что ждет Жанну, что нас всех ждет после рождения Платона, пошли бы мы на это, прожили бы мы так же, как прожили это время, решились бы на все то, на что решились?» Балтийское солнце всеми силами держится за обрывки облаков, но соскальзывает куда-то за бесконечную линию горизонта, где-то переливается колокол, гудит троллейбус. Шепелев листает в телефоне фотографии: вот они с Жанной только что узнали, что у них будет ребенок, вот – путешествуют; вот – придумали имя ребенку; вот Америка, Жанна, красивая и умиротворенная, приехала рожать сына.
Фотографий начала болезни почти нет. Только какие-то обрывки: июль, день рождения Жанны, который никто из них почти не помнит, хотя палата американского госпиталя украшена шарами. «Кто-то же их заказывал? Кто-то развешивал?» – спрашивает Шепелев в воздух. Питерский воздух прозрачен и молчалив. Вечереет. Порыв ветра мнет зонтики кафе. Шепелев неохотно возвращается к теме: «Мне, конечно, говорили, что глиомластома, которая случилась у Жанны, часто бывает у взрослых женщин после рождения ребенка; такое же было у Насти, жены Кости Хабенского. Но что мне делать с этим знанием? Как его применить? Что изменится от того, что я поверю в именно эту цепочку событий?» На экране айфона Димы улыбающийся Платон, их с Жанной сын. Мы пьем чай и молчим.
«Есть только один вывод, который я сделал из болезни и которым я бы очень хотел поделиться со всеми, кому предстоит пройти наш путь: надо жить сегодняшним днем. Не искать причин в прошлом, не бояться будущего. Надо четко представить себе план действий и жить, не ища виноватых в том, что случилось. Потому что это отнимает силы, которые могут быть потрачены на борьбу. Кстати, знаешь, что мне тогда невероятно помогло?»
Нет. Я не знаю. Я слушаю эту историю впервые. Как и впервые вижу Шепелева живьем. До сих пор мы только обменивались эсэмэсками и звонками, аккуратно сближаясь по телефону: он нашел меня и позвонил той осенью, когда диагноз Жанны был тайной, а Дима – человеком, впервые столкнувшимся с тяжелой болезнью близкого. Он позвонил потому, что в поисках ответов на взрывающие мозг вопросы прочел, в том числе, и первое издание книги «Победить рак». Мы время от времени разговаривали, обсуждая поиски лечения, варианты психологической помощи Жанне, варианты будущего, в которое все вокруг Жанны старательно верили.
«Я читал «Победить рак», потом – «Антирак» Давида Серван-Шрейбера, потом «Благодать и стойкость» Кена Уилбера. Я проглатывал эти книги и с каждой строчкой, с каждой новой главой понимал всё отчетливее, что мы не первые, кто оказался в этой ситуации, что есть опыт людей, которые уже прошли через болезнь. И не воспользоваться этим опытом – преступление. Я читал и всё лучше понимал эмоции, которые испытываю я, испытывает Жанна. Я понимал, в конце концов, что нас ждет. И это тоже – важнейшая часть болезни: принятие диагноза и жизнь с ним. Наверное, где-то в этот момент я впервые подумал о том, что, когда мы выкарабкаемся, нам тоже надо будет рассказать свою историю людям, чтобы помочь: знаниями, навыками, элементарной информацией, которой чертовски не хватает, – говорит Шепелев. – Наверное, поэтому мы сейчас просидели тут с тобой больше пяти часов, записывая нашу историю».
Официанты закрывают зонтики в кафе. Петербург погружается в свойственную только этому городу летнюю дымку, которую здесь называют белой ночью. Мы бредем по улицам, полным, как днем, людей, и молчим. На набережной ликующие крики: развели мосты. На катерке, спешащем по Фонтанке, с хлопком и пеной открыли шампанское, все хохочут. У парадной в Оружейном целуется парочка. Через дорогу за всем происходящим этой ночью в городе внимательно наблюдает тощий серый кот. Его хозяин докуривает на балконе сигарету и зовет кота домой, спать.
«Как думаешь, много ли из этих людей уже прошли через рак? – вдруг спрашивает Шепелев, показывая не на конкретного кого-то, а на речку, улицы, дом, город, на вообще абстрактных людей вокруг нас. – Многим ли предстоит пройти?»
Я не отвечаю. Я помню так поразившую меня фразу профессора Хейфлика: «В XXI веке необходимо знать: у каждого из нас есть свой рак; не каждому суждено до него дожить».
Мне показалось важным составить небольшой список литературы, который, возможно, будет полезен онкологическим пациентам и их родственникам. Это истории борьбы и победы, надежды и отчаяния, поражения и веры, что всё не напрасно. Я бы рекомендовала прочесть эти книги людям, у которых нет опыта болезни (своей или близкого). На мой взгляд, это важное чтение, важное знание и важный опыт, который, увы, однажды пригодится каждому из нас.
Кен Уилбер «Благодать и стойкость»
Давид Серван-Шрейбер «Антирак»
Эрик-Эммануэль Шмитт «Оскар и розовая дама»
Виктор Зорза «Путь к смерти. Жизнь до конца»
Марк Шрайбер «Принцы в изгнании»
Дрейпер Шэрон «Привет, давай поговорим»
Жан-Доминик Боби «Скафандр и бабочка»
Р. Дж. Паласио «Чудо»
Людмила Улицкая «Человек попал в больницу»
Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
Дмитрий Шепелев «Жанна»
Рэнди Пауш «Последняя лекция»
Антон Буслов (книга памяти) «Между жизнью и смертью»
Дженни Даунхем «Пока я жива»
Глава 14
Не помню, откуда эта книга появилась в моей палате. Все посетители приносили «что-то почитать», но читать не хотелось. Вдруг «зацепило» название. «АНТИРАК». Меня как током ударило: Женя, ты должна это прочесть. Сил читать нет. Стыдно сказать, за эти месяцы – месяцы своей болезни – я сама почти ничего не прочла. Всё мне читала вслух дочь. И это, скорее, она хотела читать, а я дремала под ее голос. Но тут – иначе, сама прошу: «Прочти». Она читает, потом уходит, потом я хватаю книгу и сама начинаю лихорадочно читать: строчки плывут, концентрация нулевая. Но я цепляюсь за слова и продираюсь вперед. Кажется, это то, что мне нужно: история человека, который справился.
Помимо ощутимо меняющего настрой пациента знания о том, что он не первый, кому выпало пройти через болезнь, есть еще один существенный и часто поворотный момент в лечении: пример кого-то, кто через болезнь прошел и вышел победителем. Книга французско-американского нейролога Давида Серван-Шрейбера «Антирак» – именно такое вдохновляющее чтение. Серван-Шрейбер честно и подробно описывает свои ощущения от получения диагноза, последовавшую затем апатию, отчаяние и, наконец, желание понять природу болезни, давшее ему силы, в том числе и на то, чтобы победить ее. Профессиональная близость (оба – врачи) позволяет Жене не просто верить далекому иностранцу, но сопоставлять свои ощущения с его. А затем – чувствовать себя причастной к его пути победы над болезнью.
«Совершенно четко в моей голове поселилась мысль, – рассказывает Женя. – Если смог он, значит, могу и я. Тем более что он тоже, как и я, врач. Мне понятны его формулировки. Потом я прочту книгу несколько раз последовательно, еще десятки раз – важные для меня места. Но из того, первого чтения в моей голове остается одно важное словосочетание: казуистический случай. Постепенно примеряя его на себя, я начинаю думать, что справлюсь».
Книга «Антирак», кажется, меняет ход моей болезни больше, чем лекарства. Она заставляет меня выстроить свои мысли: что могу сделать я, лично я, доктор Евгения Панина, ставшая пациентом, чтобы помочь врачам бороться с моей болезнью.
Ведь как было до сих пор? Я верила врачам, я выполняла все их предписания, я старалась быть послушной, но лично я ничего не делала для своего выздоровления. Больше того, я теряла надежду, я отчаивалась, я даже пыталась покончить с собой. Теперь я другая. Главу за главой изучаю опыт доктора Серван-Шрейбера и становлюсь сильнее. Я больше не боюсь того, что меня ждет впереди. Я знаю: мне предстоит тяжелая химиотерапия, тяжелейшая реабилитация. Потом трансплантация костного мозга и реабилитация после нее. Я всё это уже обсудила с врачами. И я ко всему этому готова. У меня есть надежда. Я уже умею жить со своей болезнью и я верю в то, что смогу ее победить, что я сильнее. Что я стану тем самым казуистическим случаем на грани погрешности, о котором говорит в своей книге доктор Давид Серван-Шрейбер. В книге я нахожу ответы на вопросы, которые пульсировали в моей голове, я понимаю, что я не в тупике, что это не конечная остановка, это всего лишь развилка. Выбор, в какую сторону двигаться дальше, – за мной.
Двадцать лет исследований собственной болезни профессор Серван-Шрейбер уместил в 500 книжных страниц. Научно-популярный путеводитель по раку: это сразу и пособие для новичков, и поддержка бывалым, и руководство к действию для всякого, кто настроен бороться. Оно предваряется словами самого Серван-Шрейбера, бывшего доктора, ставшего пациентом: «Я хочу извиниться перед биологами и онкологами за упрощение того, что для многих из них представляет труд всей жизни. Но мне кажется, я имею право говорить об этой проблеме хотя бы потому, что у меня самого был рак. После того как двадцать лет назад мне был поставлен такой диагноз, меня лечили обычными методами, а затем произошел рецидив. Вот тогда я и решил искать, помимо обычных методов лечения, всё, что могло помочь моему телу защищаться. Мне повезло в том, что как врач, исследователь и директор Центра комплексной медицины в университете Питсбурга, я имел доступ к исключительно полезной информации о естественных подходах, которые могут внести вклад в предупреждение или лечение рака. Вот уже семь лет я живу в добром здравии. В этой книге я хотел бы изложить всё, что я узнал».
История болезни доктора Давида Серван-Шрейбера, как и очень многие онкологические истории, напоминает детектив. Он, как будто бы случайно, и начинает ее как детектив с выступления на одном из французских каналов, принесшем ему мировую известность: «Человек сильнее рака. Умнее и сильнее. И может научиться играть на опережение. Если бы это было не так, я бы не написал этих слов. Двадцать лет назад мне сказали, что я умру через семнадцать недель. Как я провел эти двадцать лет? Неправильный вопрос. Правильнее будет спросить, что я сделал для того, чтобы иметь их», – говорит Шрейбер. И аудитория замирает.
Американец французского происхождения (родом из известной и влиятельной во Франции семьи соратника Шарля де Голля – Жана Жака Серван-Шрейбера) Давид Серван-Шрейбер по профессии нейролог. Его специальность – поведенческие реакции, контролируемые передней лобной долей головного мозга. Ничего общего с онкологией. В 1992-м он в самом начале пути: ему тридцать один, за плечами блестящая ученая карьера, степень, а в перспективе – кафедра и даже, чем черт не шутит, Нобелевская премия. Словом, он молод, полон сил и амбициозен. По утрам читает лекции, по ночам ведет научные эксперименты: изучает те самые поведенческие реакции. Для исследований нужен магнитно-резонансный томограф, МРТ: в начале 90-х прошлого века – новинка и редкость. Университетская клиника дает для работы группе Шрейбера только ночное время. Доброволец, который для опытов должен этим вечером лечь в аппарат, опаздывает. Группа ждет пятнадцать минут, полчаса и, наконец, час. Добровольца нет. Тогда нетерпеливый Давид сам ложится в МРТ. Эксперимент начался. Аппарат запущен. И вдруг… Всё резко остановилось. Несколько минут абсолютной тишины. Аппарат запущен повторно. Опять пауза. А потом по громкой связи самый смелый из коллег попросит Давида прервать эксперимент и, едва связывая слова, скажет: «Давид, у тебя что-то в голове, мы не можем продолжать». Так Давид Серван-Шрейбер узнал, что у него рак головного мозга: на снимках отчетливо видна опухоль размером с яйцо.
Рак головного мозга, самое страшное, что может себе представить молодой человек в расцвете сил. Но он же врач, он понимает: ему повезло. Опухоли головного мозга, как правило, опасны тем, что диагностируются на крайне поздних для адекватного лечения стадиях, когда ситуация непоправима. Из-за случайного стечения обстоятельств, из-за опоздания добровольца опухоль Давида была замечена довольно рано, что давало шанс.
Для того чтобы было понятно, я поясню: новообразования в головном мозге можно условно разделить на четыре группы.
Доброкачественная. Независимо от пола и возраста она может жить с рождения до самой смерти, не беспокоить и не причинять вреда. Это доброкачественная, медленно растущая опухоль. После хирургического удаления в большинстве случаев наступает полное выздоровление.
Тоже доброкачественная, но в отличие от первой растущая более активно и потому подлежащая оперативному удалению. Если операция сделана качественно и вовремя, а реабилитация проведена грамотно и в срок, никаких последствий заболевание, как правило, не имеет.
Астроцитома. Злокачественная опухоль, состоящая из активно делящихся клеток и требующая обязательного вмешательства: операции, химиотерапии, облучения. Статистически у пациентов с этим видом рака есть перспектива пятилетней выживаемости.
Глиобластома, самая агрессивная, сопротивляющаяся лечению опухоль головного мозга. Для клеток этой опухоли характерно активное деление, прорастание в кровеносные сосуды, образование некротических (отмерших) участков. Прогноз менее благоприятный: в течение пяти лет выживают 13 % пациентов в возрасте 20–44 лет и 1 % пациентов в возрасте 55–64 лет.
По оценкам ВОЗ, возможность успешного и полноценного излечения опухолей головного мозга (как, впрочем, и любых других опухолей) зависит от своевременного и адекватного диагноза. В зависимости от гистологического подтипа опухоли при раннем обращении (1–2 стадия) пятилетняя выживаемость составляет 60–80 %. При позднем обращении и невозможности хирургического вмешательства выживаемость не превышает 30–40 %.
Всё это Давид Серван-Шрейбер пока знает чисто теоретически, из учебников, по которым учился в мединституте. На практике – анализы, обследования, несколько сменяющих друг друга врачей и вердикт: положение плачевно; его опухоль головного мозга чрезвычайно агрессивна. Впереди – призрачная возможность экспериментальной операции. Это отсрочка на несколько месяцев, максимум год. Благоприятный исход его рака – цифра с парой нулей впереди. А в его жизни, напомню, всё только начинается: карьера, молодая русская жена Анна, горячее желание продолжения рода… Тогда Серван-Шрейбер поступил парадоксальным образом, он сказал сам себе: я же врач; я должен придумать что-то, что поможет моему организму победить.
Нет, он не отказался ни от химии, ни от операции. Но, находясь на больничной койке, только и думал о том, что должно быть обязательно что-то еще. Операция и химиотерапия поставили Шрейбера на ноги, остановили его рак. Конечно, Давид верил (точнее сказать, хотел верить), что это окончательная победа и больше он никогда не вернется к этой теме. Но как ученый он не мог не понимать, что это никакой не конец. Это только начало сражения. Перед выпиской Шрейбер спросит своего доктора: «Могу ли я сам чем-то помочь лечению?»
Ответ хотя и был ожидаем, поразил Давида. Врач сказал: «Я не знаю». Так, перейдя из категории «врач» в категорию «больной», Серван-Шрейбер понял, насколько мало и те, и другие – и доктора, и их пациенты – знают о раке. И как узко, каждый со своей стороны, видят проблему.
Как и предполагал Давид, его рак вернулся через два года. Узнав о рецидиве, Серван-Шрейбер уже не из праздного любопытства, а с точки зрения жизненно важной необходимости задался вопросом: почему никто не рекомендует никакой профилактики рака? Ведь есть же средства профилактики гастрита, например, или инфаркта! В онкологии ничего такого, что «вы могли бы сделать, чтобы предотвратить свой рецидив или отдалить его», просто не существует. На вопрос: «Что мне делать, чтобы уберечь себя?» – онкологи всех мастей, как правило, пожимали плечами: «Живи как жил, но регулярно обследуйся. А мы при самых ранних признаках рецидива снова применим к тебе весь современный медицинский арсенал: хирургия, химиотерапия, рентгенотерапия, радиологическая терапия, а вскоре и иммунная терапия».
Будучи ученым, Серван-Шрейбер решил сам заняться этой проблемой. Он взял за правило регулярно просматривать публикации во всех наиболее авторитетных мировых научных журналах и обозрениях и систематизировать их. Оказалось, что они содержат много клинически подтвержденной информации, которую каждый любознательный пациент может использовать для существенного снижения риска заболевания раком, а каждый широко мыслящий доктор – рекомендовать пациентам. Но проблема в том, что практикующие врачи из-за их огромной занятости не читают этих научных журналов и ждут, пока все новейшие достижения науки спустятся до их уровня в виде чудесных таблеток, на что требуется очень много времени и финансовых вложений. Да и не у каждого пациента есть время дождаться, когда эта чудесная таблетка появится именно в том отделении, где лечат его рак.
Собранные по крупицам сведения, вроде бы напрямую не касающиеся болезни, но явно связанные с ней, легли в основу титанического исследования Серван-Шрейбера, которое он вначале для себя, а затем уже для широкой публики озаглавил «Антирак».
Работа оказалась невероятно трудной: всему, даже каким-то новшествам в образе жизни или в системе питания, были нужны клинические, научные подтверждения. Медики, онкологи считали всё, не связанное с лекарствами, чепухой и в подтверждение любого рода умозаключений требовали статистику, которой у Шрейбера, да и вообще в мире, на тот момент просто не существовало. Большинство идей, легших в основу «Антирака», профессору Серван-Шрейберу пришлось проверять на себе: «По большому счету другого выхода у меня не было: уже была операция, но рак вернулся. Потом была химиотерапия – болезнь снова отступила. Но никто в целом свете не решался дать мне гарантий: это на год, на два или на пару месяцев. А мне как раз были нужны гарантии: я только женился, моя жена ждала ребенка, я хотел жить полной жизнью, я не был готов смириться, лечь и умереть. Это было бы так несправедливо».
О том, как ему удалось дожить до рождения этого малыша и дождаться еще двоих, он напишет в 1997-м. Книга «Антирак» о неочевидных способах победить болезнь тут же станет мировым бестселлером.
Но лишь спустя 13 лет, в 2010-м, Национальный институт здоровья США впервые официально подтвердит: 40 % раковых заболеваний или рецидивов после них действительно можно предупредить, изменив образ жизни и систему питания так, как рекомендовал Давид Серван-Шрейбер.
Я прочла «Антирак» уже несколько раз, обсудила со всеми, с кем могла, даже с врачами. Многие слушают с пониманием. Книгу теперь знаю настолько хорошо, что могу начать читать с любого места. Так и делаю, если вдруг подступает страх, тоска или просто усталость. В оттенках этих чувств я теперь хорошо ориентируюсь.
Химия идет тяжело, очень тяжело. Но я так рада тому, что меня начали «химичить». Появилась перспектива: если я переживу химию, если она подействует, то мне сделают трансплантацию костного мозга. О, как я мечтаю о ней. О, если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, что моей мечтой станет трансплантация костного мозга… Но надо жить, надо бороться.
Книга Серван-Шрейбера настроила Женю на деятельный лад. Теперь она четко понимает этапы своего лечения и последовательность этих этапов. Панина также понимает, какими могут быть осложения от химиотерапии, через что ей предстоит пройти.
Эта готовность, на мой взгляд, очень важный фактор. Пациент, заранее поставленный в известность о том, что его ждет, чуть больше готов, а его близкие, которым происходящее так же, а иногда – из-за неспособности помочь – даже более мучительно, имеют больше ресурсов поддержки. К несчастью, почти никто из нас не осведомлен о «дорожной карте» онкологического больного: что и когда его ждет, к чему готовиться, на какой период рассчитывать свои силы.
Столкнуться лицом к лицу с тем, какой урон наносит организму химиотерапия, убивая опухоль, но попутно разрушая организм, какие приступы боли и рвоты ее сопровождают, как сохнет кожа, как мучительно хочется пить и невозможно сделать ни глотка, как голод пожирает изнутри, но нет сил что-то съесть, как изводят то понос, то запоры, – это мука. И часто мы оказываемся слабы и беззащитны в этот момент не только перед болезнью, но и перед лечением. И тогда даже тот, кто должен быть поддержкой, не может признаться, что нет сил. Помню, как одна моя знакомая, проходившая курс агрессивной химиотерапии, не могла говорить и написала в эсэмэске: «Мой язык распух и высох во рту так, как будто он – огромный кит, выброшенный на берег». Спустя несколько лет я пересказала эту фразу другой знакомой, которой только предстояла химиотерапия. Как же было удивительно потом получить благодарность! Женщина говорила, что готовилась именно к этому ощущению. И когда оно пришло, оно не напугало ее. К тому же, снабженная рекомендациями, она более-менее легко справилась с последствиями химиотерапии.
Я попросила онколога Михаила Ласкова составить список таких рекомендаций для пациентов, проходящих химиотерапию, а также рассказать о том, какие ощущения могут ее сопровождать, как с ними бороться, в каких случаях можно справляться самостоятельно, а когда – нужно бить тревогу.
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ХИМИОТЕРАПИИ ПРОПАЛ АППЕТИТ.
Это нормально. Не пугайтесь. Но ни в коем случае не переставайте совсем принимать пищу: обязательно завтракайте; старайтесь есть свои любимые блюда маленькими порциями, балуйте себя; сосание кубиков льда или фруктового мороженого во время введения некоторых противоопухолевых средств помогает предотвратить стоматит (появление язвочек во рту), также можно растолочь дольки консервированного ананаса, перемешать со льдом и сосать маленькими порциями; старайтесь есть пищу, в которой много калорий и которую легко принимать (пудинги, желе, шоколадные йогурты, мороженое, молочные коктейли); добавляйте в блюда высококалорийные соусы и подливки; мясо режьте маленькими кусочками, чтобы было проще глотать; если есть возможность, старайтесь делать так, чтобы прием пищи был праздником: ходите в ресторан с друзьями, включайте приятную музыку, если вы в стационаре – закажите доставку любимого блюда; если есть совсем не хочется, попробуйте пить высокобелковые напитки («Нутридринк» и другие).
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИЛИ ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ ПОЯВИЛИСЬ ЯЗВЫ ВО РТУ И СЛИЗИСТАЯ ВОСПАЛИЛАСЬ.
Начните чистить зубы только мягкой зубной щеткой, перед использованием ее можно вымочить в горячей воде, чтобы она еще больше смягчилась; полощите рот каждые четыре часа в течение дня, а также до и после еды; если вы носите зубные протезы, чистите их несколько раз в день; не полощите рот жидкостями, содержащими алкоголь; смазывайте губы гигиенической помадой или очень жирным кремом; продолжайте есть небольшими порциями пищу комнатной температуры (не горячую и не холодную); постарайтесь отказаться от цитрусовых напитков, алкоголя и курения; если полоскание и диета не помогают в течение суток, обязательно сообщите своему лечащему врачу, он назначит снимающие зуд и воспаления препараты.
ЕСЛИ ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ ПОЯВИЛАСЬ СИЛЬНАЯ СЛАБОСТЬ, НЕТ СИЛ ВСТАТЬ И ЧТО-ЛИБО ДЕЛАТЬ.
Не насилуйте себя, старайтесь перемежать отдых и работу по дому; планируйте день так, чтобы делать все дела в то время, когда у вас больше сил, ведите дневник, чтобы понимать, когда приходит упадок сил; высыпайтесь, спите днем, спите тогда, когда приходит усталость; не стесняйтесь, если вам тяжело справляться по дому одному, попросите близких и друзей помочь, в этом нет ничего унизительного, скорее всего все будут рады вашей просьбе: они изводят себя, пытаясь угадать, чем вам можно помочь; даже если у вас нет ни на что сил, старайтесь перекусывать, а также пить не меньше 8–10 стаканов воды в сутки; иногда, как ни парадоксально, справляться со слабостью помогает физическая нагрузка, попробуйте потихоньку начать делать зарядку.
Однако если вдруг наступила резкая слабость, подъем температуры или любые другие резкие изменения, немедленно сообщите об этом лечащему врачу.
К своей химиотерапии Евгения Панина подходит с книгой «Антирак» в руках. Она готова бороться, причем именно описанным Серван-Шрейбером способом, когда пациент оказывается не пассивным объектом лечения, а активным его участником, что, по признанию многих последователей профессора, очень мобилизует, придает сил.
Интервью с Давидом Серван-Шрейбером у меня было назначено на август 2011 года. 24 июля профессора не стало. Рак оказался сильнее. Хотя в двадцати отвоеванных у болезни годах – настоящее торжество человека, сильного и смелого, бросившего раку вызов и на самом деле победившего. Вот последние слова Давида Серван-Шрейбера, его завещание, написанное для тех, кому его жизнь послужила примером, а его опыт стал руководством к действию: «С этой болезнью можно жить. Эту болезнь можно научиться воспринимать как главную перемену в своей жизни. И почему бы этой перемене не быть к лучшему? Поверьте мне, это возможно.
Евгения Панина о смерти Давида Серван-Шрейбера узнает только в феврале 2012 года. Она позвонит мне поздней ночью: «Это правда, что он умер?» – «Да, Женя, я боялась вам говорить». – «А к кому же вы тогда ездили в командировку во Францию?»
Во Францию я действительно поехала. И действительно по поводу Давида Серван-Шрейбера. В конце сентября 2011-го я получила письмо от брата Давида, Эдуарда. Он писал, что в связи со смертью брата семья вначале думала оставить нашу договоренность по поводу интервью без ответа… Но в этой большой семье, кажется, не принято довольствоваться простыми решениями сложных вопросов. Эдуард написал: «Мама, я и сын Давида, Саша (который благодаря своей маме из России умеет говорить по-русски), готовы дать вам интервью. Мы считаем, что идеи, мысли и мировоззрение, которые проповедовал Давид и которые, судя по всему, разделяете и вы, должны получить самое широкое распространение. Мы полагаем, что ваш проект очень важен людям в вашей стране, и не считаем возможным отказать вам в помощи».
Так я оказалась в Нормандии. Поздний октябрьский вечер, солнце, догорающее над Ла-Маншем. Ветер, про который сразу не разберешь: то ли пытается ухватить, утащить прямо в воду, погубить в пучине, то ли обнимает и хочет закружить в танце. В конце набережной – белокаменный маяк. Как знак надежды. Мы с Соней, дочерью Жени, ищем защиты от ветра под маяком. «Знаешь, – вдруг говорит Соня, – я бы так хотела, чтобы мама дожила до пятидесятипятилетия и увидела эту красоту. Можно я при тебе дам себе слово привезти ее сюда через год?» Соня плачет. От надежды, от боязни надеяться, от неизвестности, что сопровождают болезнь ее мамы. Вместе мы звоним Евгении и рассказываем, что, кажется, нашли место для празднования ее пятидесятипятилетия. Еще мы говорим, что это место очень связано с дорогим ей Давидом Серван-Шрейбером. Но в тот вечер о том, как сложилась судьба Давида, не говорим. Боимся. Учиться смелости нам предстоит завтра. У мадам Сабин Серван-Шрейбер, мамы Давида. Она живет в белом, кажущемся хрупким, сказочном доме, возвышающемся над проливом.
Асфальтовая дорога берет резко вверх от океана и, сужаясь и углубляясь в лес, становится накатанной земляной тропинкой точно по ширине среднегабаритной легковушки. Виляя между буреломами, тропинка в конце концов бескомпромиссно упирается в белый дом с острыми башенками и узкими окнами. Калитка болтается на одной петле. Заходим, кричим: «Мадам Серван-Шрейбер, мадам Серван-Шрейбер». Тишина. Скрипит кособокая калитка. Горланит спрятавшаяся за еловыми ветками сойка. Дом кажется нежилым. Но мы опять стучим: нам же назначено.
Вдруг неясно откуда властный голос с хрипотцой: «Не стойте, проходите! Давайте быстро! Что вы там застряли? Неужели стесняетесь?» И уже в дверях: «И будьте любезны, не называйте меня мадам Серван-Шрейбер. Меня зовут Сабин». Она появляется откуда-то из глубины едва подсвеченных мутными хрустальными люстрами комнат. Идет быстро, совершенно не соответствуя застывшей манере этого глубокого древнего французского леса. Сабин выныривает из-под хрусталя в дневной свет. Сразу – крепкое рукопожатие. И видно: светловолоса, голубоглаза, женщина, похожая на повзрослевшую Джейн Биркин. Не останавливаясь ни на секунду, усаживает нас за длинный обеденный стол, сама вытаскивает из-под стола табуретку, вскакивает на нее прямо в туфлях-лодочках, неожиданных в лесной глуши, привстает на носочки за какой-то банкой, заставляя мини-юбку подняться выше приличного и продемонстрировать безупречные ноги, без единой отметины возраста. Сабин семьдесят девять. Все еще стоя на табуретке, она оглашает меню и порядок подачи блюд, которые она приготовила к нашему приезду. Почти не делая паузы, рассказывает распорядок тех двух дней, что мы у нее проведем: как и где будет интервью, что мы будем делать в перерывах и почему бурбон вечером – это хорошо, а кофе утром – это очень хорошо. Через каждые три предложения повторяет: «Я это уже продумала и приняла решение».
Я смотрю на нее, командующую, и мне хочется ее обнять и попросить перестать притворяться сильной. Я вижу в ней красавицу-маму, сумевшую вырастить четверых сыновей, каждый из которых добился успеха. Умницу-маму, сумевшую остаться другом и верным сторонником каждому из своих сыновей. И, конечно, маму, потерпевшую крах. Потому что ни одна мать на свете не может пожелать себе пережить кого-то из своих детей.
Ничего этого вслух я не говорю, просто завороженно смотрю на Сабин, демонстрирующую дом: «Для моих детей этот дом – всегда крепость», вид из окна – «О, как любил его Давид!», переводы книги «Антирак» (50 языков) – «О, вы не представляете, мне до сих пор приходят письма благодарности Давиду со всего мира. И я на них отвечаю»; кабинет, где была написана большая часть «Антирака», еще пара книг и самая последняя книга Давида Серван-Шрейбера, «Об умении сказать «до свидания»«, – «О, мой мальчик, он работал до последнего вздоха».
Интервью она решает давать с левреткой на руках. Говорит, иначе собака будет выть из соседней комнаты. Но это, разумеется, отговорка. Просто она цепляется за эту испуганную собачонку, как за спасительную соломинку. Она решила никого не ставить в известность, но вообще-то это ее первое интервью после смерти Давида Серван-Шрейбера. И она дает его так, будто ее сын все еще нуждается в материнской защите: «Начиная «Антирак», Давид рисковал поссориться со всем ученым сообществом, ведь он ставил под сомнение всё то, что годами вдалбливали врачи своим пациентам: лекарства, покорность и никакой самодеятельности. И тут возникает Давид с этим «Чем я могу помочь своему лечению?!»«Она смотрит на меня выжидательно: я вообще понимаю, о чем она говорит. Тут дело не в трудностях перевода. Ей нужно безоговорочное одобрение линии жизни ее сына. Только получив его, мадам Серван-Шрейбер продолжает: «Врачи вначале, конечно, были Давидом недовольны: сам – врач, он как будто перешел на другую сторону. Никто ничего и слышать не хотел о какой-то там помощи со стороны пациента, о любого рода самодеятельности. Давида с его идеями попросту не воспринимали всерьез. Стали говорить, что его исследования и эта книга – просто агония ракового больного. Но мой Давид – он очень упрямый. Он уперся и привел доказательные примеры того, что статистика в болезни – не самое главное. Что бывают и «казуистические» случаи. И вероятность успеха в таких случаях часто в наших руках.
«Антирак» – это, безусловно, идеальный способ отношений человека с болезнью по имени рак в XXI веке: человек понимает, что рак очень силен, хитер, опасен, но также человек знает, что в нем самом есть, самой природой заложены ресурсы, позволяющие с этим раком сражаться. Вот что хотел доказать мой сын!»
Мадам Шрейбер рассказывает, как, пытаясь доказать, что в большинстве случаев рак не был связан с генетической предрасположенностью, ее сын Давид получил доступ к самому подробному реестру (он находится в Дании), в котором отслеживается происхождение каждого индивидуума, пострадавшего от рака. Больше года Шрейбер изучал данные. Выяснилось: рак не так уж зависит от генетики – иначе в семьях, где есть приемные дети, был бы тот же уровень заболеваемости раком, что и у их биологических родителей, а не тот, что у их приемных родителей. Но всё было наоборот. Заключение специалистов, которые нашли и обследовали больше двух тысяч приемных детей и их родителей, опубликованное в крупнейшем медицинском обозрении New England Journal of Medicine, утверждает: наследование генов биологических родителей, умерших от рака в возрасте до пятидесяти лет, не влияет на риск заболевания раком их отпрыска. Напротив, смерть от рака приемного родителя (который не передает никакие гены, но передает свои жизненные привычки) увеличивает риск приемного ребенка столкнуться с болезнью в пять раз. Это исследование показывает, что именно жизненные привычки, а не гены, являются основной причиной склонности к раку. Результаты всех исследований онкологических болезней совпадают: генетическая компонента имеет значение максимум в 15 % случаев гибели от рака.
Мадам Шрейбер останавливается, чтобы насладиться произведенным эффектом. И продолжает: «Благодаря моему сыну стало совершенно очевидно: рак – это эпидемия, которая растет. И что есть нечто такое в нашем образе жизни, что создает эту эпидемию. И, разумеется, это обратимо. Нет никакой фатальности, и все мы можем научиться защищаться. Я могу только повторить вслед за моим Давидом: «В каждом из нас есть раковые клетки, но у каждого из нас есть также организм, природа которого позволяет мешать процессам образования опухолей. И каждый из нас должен пользоваться этим»«.
Главная и неоспоримая заслуга профессора Серван-Шрейбера заключается в том, что он стал первым, кто простыми словами изложил публике важные знания о раке, до сих пор фигурировавшие лишь в научных статьях. Поворотный момент в книге «Антирак» – фотография подопытного Мышонка Номер Шесть. И его история.
Маленький белый мышонок – один из тысяч безымянных подопытных профессора Чжен Цуя из Северной Каролины, отважно согласившегося поделиться результатами своей профессиональной деятельности с профессором Серван-Шрейбером. Для понимания механизмов роста опухоли Чжен Цуй вводит мышам смертельные дозы раковых клеток S180.
Из всех штаммов раковых клеток, используемых исследователями, клетки штамма S180, или клетки саркомы 180, – одни из самых агрессивных. Произошедшие от особой мыши из швейцарской лаборатории, они используются во всем мире для изучения рака в идентичных условиях воспроизводства. Эти клетки содержат необычное количество хромосом и выделяют огромное количество ядовитых веществ, которые взрывают капсулы клеток, с которыми они вступают в контакт. При введении в организм мышей клетки S180 размножаются с такой скоростью, что масса опухоли удваивается каждые десять часов. Они оккупируют окружающие ткани и разрушают всё, что встречают на своем пути. Когда они находятся в брюшной полости, их разрастание быстро превосходит возможности дренажа лимфатических сосудов. Как в засоренной ванне, жидкости накапливаются до тех пор, пока живот не заполнится брюшной водянкой. Эта светлая жидкость представляет собой идеальную среду для роста клеток S180, которые продолжают свое быстрое размножение до того момента, пока не блокируется жизненный орган или не разрывается важный кровеносный сосуд, что приводит организм к смерти.
В лаборатории Чжен Цуя изучают не рак, а обмен веществ в жировой клетчатке. Для того чтобы получить антитела, необходимые для экспериментов, в короткие сроки, мышам и вводят пресловутые клетки S180, которые производят брюшную водянку, откуда можно легко извлечь эти антитела. Эта классическая процедура требует, увы, постоянного обновления подопытных, поскольку ни одна из мышей, которым вводят несколько тысяч клеток S180, не может прожить больше одного месяца.
Ни одна. До тех пор, пока однажды в лаборатории Чжен Цуя не происходит нечто из ряда вон выходящее. Помощница Цуя согласно правилам эксперимента вводит 200 тысяч клеток S180 группе мышей – обычную дозу для этой обычной процедуры. Дальше всё идет по плану: мыши страдают, их животы раздуваются, в них концентрируется искомая жидкость. И только одна из подопытных (вскоре выяснится: это на самом деле он, мужчина), Мышь Номер Шесть, оказывает сопротивление инъекции, упрямо сохраняя плоский живот. Лаборантка повторяет инъекцию. Безуспешно. Тогда по совету Чжен Цуя она удесятеряет дозу, доведя ее до 2 миллионов клеток. К изумлению лаборантки, в животе Мышонка Номер Шесть по-прежнему нет ни рака, ни брюшной водянки.
Засомневавшись в технических способностях помощницы, Чжен Цуй решает сделать инъекцию сам. Для получения явной картины он щедро вводит 20 миллионов клеток в подопытного Мышонка Номер Шесть и лично проверяет, что жидкость хорошо проникла в брюшную полость. Проходит две недели – по-прежнему ничего! Тогда, решившись на отчаянную меру, Цуй пробует 200 миллионов клеток – в тысячу раз больше обычной дозы, но опять ничего не происходит. Мало того, профессор обнаруживает, что в то время, как ни одна мышь не прожила в его лаборатории больше 64 дней, Мышонок Номер Шесть беззаботно живет уже восьмой месяц, как будто не замечая астрономические дозы раковых клеток, вводимых прямо в живот. Сопоставив всё это, Чжен Цуй задумывается, чем черт не шутит, а вдруг речь и вправду идет о невозможном: о мыши, естественным образом сопротивляющейся раку… И сам Цуй, и те, кому он рассказывает о невероятном повороте своего в общем-то заурядного эксперимента, начинают волноваться: неужели в природе и вправду существует живой организм, абсолютно устойчивый к раку?! Окрыленный профессор дает подопытному мышонку имя Могучий. И, вооружившись микроскопом, пытается понять: как ему это удается?! Чжен Цуй – ученый, ему нужны веские доказательства и рациональные объяснения происходящего. Но ведь он еще и человек и, как всякий человек, хочет и смеет надеяться: бывает так, что живой организм сильнее рака. Иначе откуда бы медицинская и научная, не говоря уже о художественной, литература черпала все эти случаи с пациентами, у которых рак, диагностированный в «конечной фазе», неожиданно давал обратный ход вплоть до полного исчезновения. Но это были редчайшие случаи, и очевидно, что их трудно изучать: они ведь возникали спонтанно, как правило, «где-то далеко», а не под присмотром больших ученых. И никому и никогда не удавалось воспроизвести такие случаи по желанию. Именно поэтому случаи «внезапного исцеления», как правило, принято относить к ошибкам в диагнозе («без сомнения, это был не рак…») или к запоздалому эффекту обычных курсов лечения, проведенных ранее («без сомнения, сказалось, наконец, лечение предыдущего года…»).
Но вот что на самом деле происходило внутри Могучего Мышонка: раковые клетки были уничтожены специальными клетками иммунной системы, названными NK-клетками, или «натуральными киллерами», которые оказались способны справиться с опухолью, составлявшей 10 % массы тела!
В научном порыве Мышонка женили, у него родились дети, половина из которых унаследовала фантастическую жизнестойкость отца. Этим же мог похвастать каждый четвертый внук Могучего Мышонка. Как часто бывает с самыми невероятными открытиями, NK-клетки были открыты фактически случайно.
NK-клетки (Natural killer cells) – прирожденные убийцы, имеющиеся в арсенале нашего организма. Специальная антираковая полиция, которая вызывается по любому подозрению на появление клетки, похожей на раковую. Эти клетки имеют право нападать и убивать без предупреждения.
NK-клетки – важная часть врожденного иммунитета, являются специальными агентами нашего организма. Вместе с другими клетками иммунной системы NK-клетки циркулируют в крови, постоянно обходя организм дозором в поисках чужаков: бактерий, вирусов или раковых клеток. Как только они обнаруживают чужую клетку, они облепляют ее, стараясь обеспечить контакт мембраны к мембране. И когда этот контакт установлен, NK-клетки нацеливают на мишень внутреннее устройство, транспортирующее пузырьки, наполненные ядом. Достигнув «сердца» раковой клетки, клетки-киллеры приводят в действие механизмы самозапрограммированной смерти. «Плохая клетка» умирает. Остатки мертвой клетки готовы к тому, чтобы их переварили макрофаги, мусорщики иммунной системы, которые всегда идут в кильватере NK-клеток.
Как NK-клетки у Могучего Мышонка профессора Чжен Цуя, NK-клетки человека способны убивать раковые клетки различных типов, в частности клетки саркомы, рака груди, простаты, легких или толстой кишки.
Профессор Михаил Масчан, работающий в Центре им. Дмитрия Рогачёва, один из тех ученых, кто еще совсем недавно разделял мысль о том, что, если научиться активные, агрессивные NK-клетки выращивать индивидуально для каждого пациента, то они, возможно, могут стать новой революционной терапией для онкологических больных.
Глава 15
Чем дольше шли исследования, тем очевиднее становилось ученым, что NK-клетки – это всего лишь один из важных механизмов защиты нашего организма от опухоли. Важный, но далеко не единственный. На самом деле в иммунной системе есть много клеток, которые работают против возникающих опухолей. А надежды на то, что именно NK-клетки однажды станут важной частью противоопухолевой терапии, откровенно говоря, сдулись. Все оказалось не таким простым и не таким перспективным, как представлялось в самом начале, когда NK-клетки были только открыты. В общем, пока в реальную практику лечения опухолей у большинства пациентов NK-клетки не вошли, и это не стало таким простым и обыденным методом, как, скажем, химиотерапия.
Часть ученых разочарованно потеряла интерес к этой идее и увлеклась чем-то другим, на их взгляд, более перспективным. Другие всё еще верят в то, что идея с клетками-киллерами однажды выстрелит. Третьи полагают, что NK-клетки станут одним из возможных средств терапии опухолей. Не революционным, не главным, но неотъемлемым и вспомогательным. Во многом это связано с теми знаниями, которые ученые уже имеют про принципы действия клеток-убийц. Профессору Масчану, как и многим другим, поверившим NK-клетке, важно рассказать, чем именно было вызвано это доверие. И он старательно объясняет: «У NK-клеток есть одна хитрость, которую я сейчас попробую простыми словами, что называется, на пальцах, объяснить. Дело в том, что на поверхности всех клеток у нас есть так называемая молекула тканевой совместимости, такие «усики», основная функция которых заключается в том, что они выставляют на поверхность клетки вещества, в том числе кусочки микробов, бактерий, вирусов или аномальные белки, как бы показывая: «Я плохой, меня надо убить». Это реальный сигнал иммунной системы, очень понятный и очень практичный». Он тут же упрощает малопонятную для обывателя схему: «Представьте себе, если бы каждый преступник в мире людей надевал такую красную шапочку, чтобы полиция знала, что именно его нужно поймать и уничтожить, как бы это было удобно и здорово! И лимфоциты этот сигнал прекрасно распознают и бросаются на борьбу с чужеродцем. Но, к сожалению, среди преступников даже в мире клеток попадаются и достаточно сообразительные, которые красную шапочку снимают и стараются затеряться среди добропорядочных сограждан. Это именно то, что делают опухолевые клетки. Они снимают красную шапочку и не подают организму никакого сигнала о том, что с ними что-то не так, что они опасные, опухолевые».
По словам Масчана, иммунная система, которая в норме привыкла распознавать все сигналы о грозящей опасности с помощью молекул тканевой совместимости, оказывается обманутой, введенной в заблуждение. И вот тут в дело вступают клетки-киллеры, основное предназначение которых как раз заключается в том, чтобы найти и обезвредить всех тех, кто не надел красную шапочку. Они убивают всех, кто кажется подозрительным, хоть и без шапки. Они убивают клетки, на поверхности которых нет молекул тканевой совместимости. И в этом смысле они являются как бы вторым эшелоном нашей защиты.
К сожалению, своих NK-клеток в организме иногда бывает недостаточно. А опухолевые клетки чрезвычайно умные, хоть в нашем представлении у них и нет мозга. Но они умные, хитрые и боеспособные. Они умеют совращать или подговаривать клетки иммунной системы так, чтобы те вместо нападения их защищали. Если 40–50 лет назад представление ученых об опухоли сводилось к тому, что это клубок сошедших с ума клеток, делящихся без логики и безо всякой системы, то сейчас ясно, что это сложная ткань, где есть собственно опухолевые клетки, но есть еще сосуды, есть клетки иммунной системы, которые нападают, есть клетки иммунной системы, которые сговорились с опухолевыми и защищают их от нормальных. То есть это целый маленький космос, который начинает жить своей жизнью. Так вот, основная проблема современной онкологии заключается в том, что этот космос начинает жить не по законам организма, а по своим собственным законам, которые мы пока не до конца понимаем. Но с каждым годом знаем о них всё больше и больше. По большому счету открытие NK-клеток, работа с ними ученых стала попыткой создания одной из первых иммунотерапий онкологических заболеваний. За понимание, систематизацию и практическую реализацию иммунотерапии рака в 2018 году ученым Джеймсу Эллисону из США и Тасуку Хондзё из Японии дали Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Именно на этот принцип лечения сейчас возложены самые большие надежды, связанные с лечением рака и будущей победой над ним. Некоторые из них оправданы, некоторые, к сожалению, не имеют никакого научного обоснования. Для того чтобы в этом разобраться, давайте для начала выясним, что такое иммунотерапия.
Иммунотерапия – новейший из существующих методов лечения злокачественных опухолей, который не основан на прямом уничтожении опухолевых клеток, как классическая химиотерапия (таргетная и радиотерапия). Иммунотерапия «дрессирует» иммунитет человека, заставляя его самого бороться с опухолью. Иммунотерапия стимулирует клетки трудиться больше и эффективнее, чем они привыкли делать в обычной жизни.
Разумеется, у многих людей, впервые слышащих слово «иммунотерапия», может возникнуть некое дежавю: слово это мы в повседневной жизни слышим уже давно, почему вдруг врачи начинают говорить о нем как о чем-то изобретенном буквально вчера. Дело в том, что с иммунотерапией у людей часто ассоциируется огромное количество неэффективных недорогих «лекарств от всех болезней», которые везде и всюду рекламируются и позиционируются лекарством буквально от всего – от простуды и рака до геморроя. Но это на самом деле не иммунотерапия, а что это, никто не знает. Никаких исследований толком не было, результаты не доказаны, не опубликованы. Но это звучит красиво и стоит недорого.
Нобелевскую премию Эллисону и Хондзё дали за «открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции». Но эта формулировка сложная. Поэтому в популярной прессе часто, но неточно говорится, что премия – за открытие «иммунотерапии рака».
В действительности понятие противоопухолевой иммунотерапии намного шире, да и возникло оно далеко не вчера. Применение монолокальных антител (это такие белки-антитела, которые производят идентичные иммунные клетки и они являются потомками одной и той же клетки), интерферонов, противораковых вакцин, новейших клеточных технологий – это все иммунотерапия. Некоторые из ее подходов пока на стадии активного развития, другие не оправдали возлагавшихся на них надежд, третьи вполне успешно и уже много лет применяются при онкологических заболеваниях, но имеют ограниченную эффективность.
Массовый интерес к открытиям Эллисона и Хондзё связан с тем, что за последние пять-десять лет в арсенале онкологов именно благодаря этим открытиям появились принципиально новые препараты, так называемые ингибиторы иммунных контрольных точек. Они изменили подходы к лечению нескольких опухолей и дали надежду многим пациентам, которые раньше были бы признаны неизлечимыми: препараты заставляют иммунитет активно уничтожать опухоль. Из этого следует, что в отличие от химиотерапии, лучевой терапии и таргетной терапии иммунная не обладает самостоятельным противоопухолевым эффектом, она заставляет иммунные клетки убивать опухоль. В англоязычной литературе об этой терапии пишут, что она «снимает иммунитет с тормоза».
Для нас как для пациентов суть открытий Эллисона и Хондзё в том, что ученые смогли выявить некоторые механизмы взаимодействия между опухолевыми клетками и клетками иммунной системы, а также понять, как лекарства могут повлиять на эти механизмы, чтобы усилить иммунную атаку на опухоль. В отличие от всех предшествующих лекарств новые иммунопрепараты не убивают клетки опухоли сами, а создают условия, при которых это сделает иммунная система организма. Как сказал сам Эллисон, речь идет о «воздействии на иммунную систему, а не на опухоль».
Онколог Михаил Ласков объясняет: «В норме иммунная клетка (T-клетка), распознав опухолевую, пытается ее съесть или просто убить, а та сопротивляется: с помощью специальных молекул связывается с иммунной и уговаривает ее остановиться. Состоявшийся рак – это подобного рода переговоры, которые закончились в пользу опухолевой клетки. Так вот, иммунная терапия вмешивается в эти переговоры. И либо блокирует иммунный тормоз, либо те белки (они называются PD-L1), которые позволяют уклоняться от действия иммунитета». Иногда, поясняет Ласков, снятие с тормоза приводит к тому, что иммунитет как будто бы «сходит с ума» и начинает атаковать свои собственные клетки – это немного похоже на аутоиммунную болезнь. Побочный эффект иммунотерапии: усталость, кашель, тошнота, сыпь, зуд, потеря аппетита, а бывает, что и диарея, и воспаление кишечника – довольно серьезная проблема для онкологов. И часто схему лечения приходится корректировать.
Но есть еще как минимум две проблемы, с которыми приходится сталкиваться докторам: во-первых, невероятная популярность самого словосочетания «иммунная терапия» и желание всех пациентов со всеми онкологическими заболеваниями получить именно этот вид лечения. На самом деле ожидаемая успешность применения иммунотерапии зависит от того, есть ли в опухоли определенные маркеры, чувствительные именно к этому лечению. Такие маркеры могут быть в каком угодно раке. Однако сегодня достоверно известно о том, что лучшие результаты применения метода – при лечении меланомы (рак кожи) и рака легких. Онколог Ласков поясняет: «Иммунотерапия – это один из первых методов, который используется в режиме histology agnostic indications. Это значит, что если есть определенные маркеры в опухоли, то ингибиторы контрольных точек (те самые новые препараты) можно назначать вне зависимости от расположения и вида рака. Например, если есть микросателлитная нестабильность, то можно назначать пембролизумаб («Китруду») и для глиобластомы, и для рака желудка, и для чего угодно. Другой вопрос, что она очень редко возникает в этих опухолях».
Впервые иммунотерапия была предложена для меланомы, которую до тех пор было крайне сложно, а точнее, невозможно лечить в продвинутых стадиях (когда у пациента уже есть метастазы, такой рак называют метастатическим). До изобретения иммунотерапии люди с метастатической меланомой очень редко жили больше года. После ее появления половина людей уже живут больше трех лет.
Иммунотерапия сейчас применяется для разных видов опухолей: хорошо проявила себя при раке легких, при опухолях почек, некоторых видах лимфом, при так называемом раке головы и шеи.
«Я убежден, что иммунотерапия – совершенно новая эра в онкологии, которая позволяет нам делать то, о чем мы даже не могли подумать: то есть прежде, когда у медиков заканчивались все резервы, был исчерпан ресурс химиотерапии, таргетной терапии, пациента невозможно было прооперировать или облучить, мы говорили, что медицина бессильна, врачи больше ничего не могут сделать, чтобы продлить жизнь пациента или вылечить его, – говорит онколог Михаил Ласков. – Теперь появилась целая область, которая прежде была закрыта. Иногда, опираясь на результаты применения иммунотерапии, мы можем говорить об излечении пациентов, в отношении которых прежде такого даже предположить было нельзя».
Иммунопрепараты для лечения онкологических опухолей появляются с впечатляющей скоростью, поэтому было бы опрометчивым говорить о том, что какой-то из них более действенный, какой-то менее. Каждый, как правило, прошел клинические испытания и признан более действенным в отношении какого-то конкретного (каких-то конкретных) вида рака. Первым прорывным иммунопрепаратом стал ипилимумаб («Ервой»), его действие заключалось в ингибировании гена CTLA4; сегодня, по результатам клинических исследований и опыта применения, этот препарат считается более токсичным, чем другие иммунопрепараты, и менее эффективным. Флагманом второго поколения называют пембролизумаб («Китруда»). Препарат работает принципиально иначе, чем остальные, воздействуя на белок PD1, который отвечает за смерть клеток, но при онкологическом заболевании делается невидимым, пембпролизумаб «разоблачает» маскировку, позволяя T-клеткам «увидеть» и уничтожить больную клетку, а самой опухоли блокирует доступ к питающему ее белку.
Другие препараты действуют схожим образом, разница состоит лишь в белке, с которым они взаимодействуют. Эффективность препарата при том или ином заболевании определяется результатами клинических исследований и, как правило, описывается в рекомендациях, например, FDA (Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США), при разрешении выпуска препарата на рынок. Из-за повышенных ожиданий, связанных с иммунотерапией, некоторые врачи по всему миру предпринимали попытки использовать новые препараты к самым разным онкологическим заболеваниям, в том числе к тем, в отношении которых клинические исследования еще не были проведены. По мнению Михаила Ласкова, такие попытки, разумеется, говорят о человеческой надежде на чудо, однако с медицинской точки зрения связаны с «использованием пациента в научных целях. Причем за чужой (и немалый) счет».
В России основные иммунотерапевтические препараты, например пембролизумаб («Китруда»), ниволумаб («Опдиво»), ипилимумаб («Ервой») и атезолизумаб («Тецентрик») уже зарегистрированы. Но лечить ими доктора не всегда могут. «По одному тарифу на один иммунотерапевтический препарат в государственной больнице могут выделять 180 тысяч рублей, – рассказывает Ласков. – Притом что в реальной жизни препарат будет стоить 300 тысяч и больше. То есть лекарство просто не назначат, потому что не на что покупать». И это – вторая проблема, связанная с иммунотерапией: она очень дорога.
На сегодняшний день стоимость самых распространенных иммунопрепаратов, применяющихся при онкологических заболеваниях, очень высока. Минимум – несколько тысяч долларов за курс.
По словам бывшего директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Чистяковой, появление этого нового и, судя по всему, перспективного вида терапии – большое счастье и огромная головная боль для благотворительных фондов: «Счастье, потому что появились лекарства, которые дают надежду на излечение тем, кто еще вчера был неизлечим. Однако иногда получается так, что надежды опережают научно подтвержденные данные об эффективности. Например, на препарат ниволумаб («Опдиво»), зарегистрированный для лечения меланомы, рака легкого и почечноклеточного рака, возлагались надежды, что он окажется эффективным для лечения опухолей мозга. Эти надежды, к сожалению, не оправдались. Сейчас идут исследования эффективности этого лекарства для лечения рецидивов лимфом. Данных пока нет. Но новости о препаратах разлетаются быстро; пациенты о них узнают, каждый верит, что новое лекарство будет спасительным именно в его случае. Каждый хочет попытаться».
Тут-то и начинается головная боль благотворительных фондов: с одной стороны, лекарство дает надежду, с другой – эффективность его применения в данном конкретном случае под вопросом. А стоимость лечения очень высока – это миллионы рублей на одного пациента. Все фонды принимают решения о закупке новых дорогостоящих препаратов по-разному. Фонд «Подари жизнь», по словам Чистяковой, оплачивает закупки препаратов только в тех случаях, когда эффективность их использования доказана масштабными клиническими исследованиями. «Просто упоминаний в статьях о том, что в отдельных случаях наблюдался положительный эффект от лечения препаратом, нам недостаточно. Также фонд «Подари жизнь» закупает новые дорогостоящие лекарства в рамках исследовательских клинических протоколов в случае, если есть договоренность с федеральным научно-клиническим центром о проведении таких исследований», – говорит Чистякова.
Глава 16
Бывает такое время – где-то в апреле, – когда дни уже очевидно длиннее ночи, но ты еще к этому не привык. Окна в доме пока не мыты, а привычка закрывать занавески – за зиму атрофировалась. Открываешь глаза от солнечного света, бьющего прямо в лицо, садишься на кровати и одурело глядишь в мутное окно. Ты – в аквариуме, реальность – где-то там, за стеклом, может, и не дотянешься теперь до неё никогда. Может, ее и нет вовсе.
Нащупываю на тумбочке телефон, вслепую набираю номер: «Привет, мне приснилось, что ты седой и плачешь. Мне приснилось, что какие-то важные для тебя пробирки с синей жидкостью застряли на таможне. И ты плачешь, потому что нечто внутри пробирок может спасти жизнь. А пробирки так просто не вызволить. Их может спасти только какой-то таможенный генерал. И вот мы все его ищем. Генерала», – рассказываю я в трубку профессору Михаилу Масчану. «Катюша, всё в порядке, – вдруг вместо того, чтобы посмеяться над этим бредом, серьезно отвечает Масчан. – Пробирки спасли. Это было несколько недель назад. А сегодня утром выяснилось, что и клеточки, за которые я ужасно волновался, выросли, выжили и не пострадали». И мы смеемся.
«Мишины клеточки» – это то, вокруг чего в 2016–2017-м крутится любой разговор в фонде «Подари жизнь». Это – наша главная надежда с тех самых пор, как профессор Масчан, выступая перед правлением и попечительским советом фонда, рассказал о своей мечте – плане развивать в России CAR-T клеточную технологию.
CAR T-cell, CAR T-технологии, Т-клеточная терапия, генная модификация лимфоцитов, химерная клетка – для методики лечения, которая, судя по всему, победит рак в XXI веке. По-русски нет даже устоявшегося названия. Суть технологии – модификация иммунных клеток больного. Подход получил название CAR T-клеточной терапии, от аббревиатуры CAR – «химерный антигенный рецептор» (chimeric antigen receptor). И T-клетки – одна из разновидностей лимфоцитов.
Метод CAR T-клеточной терапии предполагает введение пациенту собственных Т-лимфоцитов с присоединенным искусственным рецептором, запрограммированным извне на распознавание мишени на поверхности опухолевых клеток.
Выступая на том памятном заседании фонда, Масчан попытался объяснить несведущим в микробиологии и биохимии, но очень неравнодушным людям смысл терапии: мы знаем, что раковые клетки – это те, которые «сошли с ума», перестали подчиняться «правилам» здорового организма, это – клетки-преступники, наглые и бесцеремонные настолько, что любые другие клетки, отвечающие за порядок внутри человека, перед ними пасуют. CAR-T клеточная технология – оснащение хорошего, но растерявшегося в мире распоясавшихся преступников полицейского прибором распознавания криминальных элементов.
Это очень примитивное, любительское объяснение. Но из него понятно, почему мы все были так впечатлены и воодушевлены Мишиной идеей. Почему, наконец, фонд «Подари жизнь» принял решение потратить несколько сотен тысяч евро на развитие технологии в России. В тот момент, когда в США и Германии уже были два завода, которые делали уничтожающие рак иммунные клетки для каждого пациента, в Америке, Европе, Израиле и Китае уже существовали четыре сотни исследовательских групп, которые при помощи устройств величиною с обувной шкаф пытались производить для пациентов – в каждом случае индивидуальные – Т-лимфоциты для перевоспитания раковых клеток, заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, профессор Масчан оказался единственным в России человеком, первым, кто попытался применить к своим пациентам эту новую технологию.
В общем, все кругом страшно переживали за Мишины «клеточки»: было важно, чтобы у него все получилось, чтобы здесь, у нас, на нашей почве, для наших пациентов – появился шанс. Страх, что ничего не выйдет, что риски – чрезмерные, прокрался в мой сон, смешавшись с реальностью: жидкость, что необходима для выращивания специальных, воинственно настроенных по отношению к раку клеток, действительно застряла на таможне. Пока разбирались с документами, прошло чуть больше времени, чем, по идее, позволял срок годности. Но вот раствор доставили в Центр имени Рогачёва. Профессор Масчан поместил в эту среду первые, тестовые, клетки еще даже не пациента, а донора-волонтера, согласившегося быть первым в России человеком, чьи клетки будут изменены по технологии CAR T. И спустя положенное время клетки – теперь уже переученные – стали расти. Это профессор Масчан обнаружил минут за десять до моего звонка. И, сидя на кровати с трубкой в руке, я совершенно ошеломлённо оглядываюсь вокруг: ну разве вот так обычно люди узнают о больших научных переворотах и открытиях? Разве вот так на твоих глазах происходит нечто поистине великое? Черт его знает. Со мной такое впервые. Я плещу себе в лицо холодной водой, чтобы знать наверняка: это не сон, это все взаправду.
Для того чтобы досконально объяснить вам технологию, которая, судя по всему, если и не принесет человечеству полную и окончательную победу над раком, то совершенно точно сильно изменит направление развития методов лечения, нужно освоить немного терминов.
Лимфоциты – это главные клетки иммунной системы. Они играют ключевую роль в сложнейшем процессе развития иммунного ответа на инфекции и вообще на присутствие в организме чужеродных частиц. Существует несколько типов лимфоцитов, и каждый выполняет свои специфические функции.
Большинство лимфоцитов составляют Т-лимфоциты. Их назвали так потому, что эти клетки после своего образования в костном мозге дозревают в тимусе, или вилочковой железе, расположенной в верхней части грудной клетки. Среди Т-лимфоцитов есть «киллеры», непосредственно уничтожающие чужеродные клетки, а есть и разнообразные регуляторные лимфоциты (помощники, подавители и другие), которые направляют действие других лимфоцитов, контролируют продолжительность и силу иммунного ответа.
Не менее важны для организма B-лимфоциты, роль которых в иммунном ответе очень многообразна. Они отвечают за выработку антител (так называемый гуморальный иммунитет), а также могут превращаться в клетки памяти, благодаря которым при повторном заражении одной и той же инфекцией возникает быстрый иммунный ответ.
Известны также NK-клетки («клетки-киллеры»), которые нужны для уничтожения в организме патологических клеток, прежде всего опухолевых или же зараженных вирусами.
На картинках в научных журналах Т-лимфоциты выглядят как сверкающие синие звезды: такими их видят ученые через свои мощные микроскопы. На обывательском уровне про Т-лимфоциты (или Т-клетки) следует знать, что они – родом из гемопоэтических, то есть кроветворных, клеток. Главное, что есть у Т-лимфоцитов – их рецепторы и поверхностные маркеры, которые играют важную роль в том, как организм реагирует на болезни. Это называется «приобретенный имунный ответ»: Т-клеточные рецепторы и маркеры распознают чужеродные клетки, которые несут губительные антигены и мобилизуют всю боевую армию организма – моноциты, NK-клетки и другие – на борьбу с врагом. В этом смысле важнейшая часть Т-лимфоцитов, ответственная на распознавание антигенов – Т-клеточный рецептор: поверхностный белковый комплекс. С его помощью клетка распознает опасность, и он «нажимает» кнопку тревоги, обнаруживая в организме сбой, связанный, например, с онкологическим заболеванием. Однако раковые клетки столь хитры, что умеют усыплять бдительность Т-клеточного рецептора: растут и размножаются. Идея ученых изначально состояла в том, чтоб разбудить «стража» и образумить больной организм собственными силами несколько оставшихся здоровых лимфоцитов забирают у пациента и снабжают новым рецептором, благодаря которому лимфоциты начинают «видеть» опухолевые клетки.
Как и в большинстве открытий XXI века, важнейшую роль в развитии CAR T сыграло открытие ДНК, за которое в 1962 году Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Расшифровка ДНК дала ученым представление о том, что «главная загадка и секретный код человеческой жизни» – это на самом деле длинная-предлинная молекула, которая состоит из отдельных элементов цепочки, «сшитой» специальными ферментами. Следующий шаг – новое открытие: отдельные элементы цепочки ДНК можно, воздействуя с помощью специальных ферментов, «вырезать», а другие, наоборот, «вставить», моделируя, по сути, саму природу. «Это чем-то похоже на кулинарию: если ты полил соду лимоном, она зашипит, – как ни в чем не бывало комментирует профессор Масчан, – так и с ДНК: с помощью отдельных ферментов можно «вырезать» или «выжигать» целые фрагменты цепочки и вставлять на их место другие, новые».
Незадолго до открытий Уотсона, Крика и Уилкинса англичанин Питер Медавар, тоже лауреат Нобелевской премии 1960-го по физиологии и медицине, главные работы которого посвящены росту и старению организма, открыл явление иммунотолерантности и описал гены антигены и то, как организм «пропускает» смертельную опасность, принимая «своих» за «чужих» и наоборот.
Затем, в 1970-х, ученым удалось впервые вырастить искусственную B-клетку, способную вырабатывать антитела против конкретных микробов.
Но в это же самое время совершенно в другом месте и с другим человеком произошла мистическая история, каких много в войне против рака: в израильских МАГАВЕ – погранвойсках – служил парень, подрабатывавший в свободное время в соседнем с частью кибуце пчеловодом. Парня звали Зелиг Эшхар. Служить ему нравилось, пчелы – увлекали. О будущем Эшхар, можно сказать, особенно не задумывался. Но однажды в рамках просветительской кампании среди солдат срочной службы в часть приехал лектор, рассказавший пограничникам о молекулярной биологии. Весь взвод под рассказы о клетках спал. А Эшхар вскочил, схватил лектора за лацкан пиджака и страстно потребовал немедленно отвести его туда, где обо всем рассказанном можно будет узнать больше. Вежливый лектор в ужасе пожал плечами и уехал. Взволнованный Эшхар попросил у секретаря кибуца выдать ему в срочном порядке разрешение на учебу в университете, ему отказали. «Есть очередь, записывайся и будешь в ней последним», – сказали ему. Эшхар не растерялся: бросил кибуц и уехал в Иерусалим учиться. Где-то к концу учебы, по словам самого Зелига Эшхара, его стали одолевать мысли о том, что иммунная система человека, по идее, сама должна уметь уничтожать больные клетки, надо только помочь ей. В конце 1980-х Эшхар придумал, что можно взять кусочки Т-клеточного рецептора, кусочки сигнальных молекул, кусочки антитела и соединить их в одну структуру. Иными словами, на уровне гена сделать синтетическую (искусственную) молекулу, которой в природе не существует, но которая не будет чужеродной. Эшхар предложил лечить рак генетической перезагрузкой крови. Он, прошедший израильскую армию, сравнивает разработанное им средство с армией и спецназом: обычные противораковые лекарства – большая армия, генетически измененные клетки – спецназ. Они атакуют клетки рака и уничтожают их.
Мы сидим с профессором Михаилом Масчаном в столовой Центра имени Димы Рогачёва. На столе – несколько опустошенных кружек с кофе и исписанные листы бумаги со странными картинками, кружочками, усиками, выходящими из них и стрелочками, соединяющими все эти геометрические фигуры Масчан пытается разъяснить мне принцип действия CAR T-клеточной терапии. У меня за плечами – физико-математическая школа, где химию и биологию нам преподавали скудно. И понимать мне Масчана – непросто. Мне кажется, что еще немного профессор станет объяснять мне всё по слогам. Но он вроде держится, просто говорит медленно и все время рисует: «Смотри, Т-лимфоциты играют важнейшую роль в распознавании и уничтожении чужеродных клеток. Но сами по себе они недостаточно сильны и специфичны, чтобы справляться с опухолями. Поэтому у Эшхара и возникла идея их генно-инженерной модификации: требовалось улучшить распознавание опухолевых клеток и усилить иммунный ответ».
Технически дело выглядит так: у больного раком пациента из крови забирается определенное количество Т-лимфоцитов. Затем их «перепрограммируют» вне человеческого тела, вводя искусственную ДНК. В результате на поверхности «своих» Т-лимфоцитов вместо прежних, обычных белков-рецепторов оказываются новые, ранее не существовавшие в природе белки. Это и есть химерные антигенные рецепторы (CAR). Они как бы собраны из разных частей – отсюда и название «химерные».
За счет той части, которая находится с внешней стороны иммунной клетки, химерный рецептор получает способность очень точно узнавать нужные опухолевые клетки. А «внутренние» части отвечают за работоспособность лимфоцитов. Ведь Т-лимфоциты должны не просто активироваться при контакте с мишенью, но и сохранять свою активность в течение многих недель, чтобы за это время справиться с опухолью.
Некоторое время смотрю на Масчана, пытаясь переварить информацию: в крови каждого из нас плавает миллиард лимфоцитов и у каждого есть Т-клеточные рецепторы со своими многочисленными специфическими навыками – какие-то распознают цитомегаловирус, какие-то вирус Эпштейна-Барр, какие-то – другие вирусы, которые еще даже, может, и не открыты. Это называется «репертуаром специфичностей», с его помощью наш организм более-менее умеет справляться со всякими микробами. Среди прочих есть Т-лимфоциты, которые «заточены» на то, чтобы бороться с опухолью, уничтожать ее на корню.
«А как они ее уничтожают?» – вдруг спрашиваю я. Мне важно представить себе эту войну наглядно. Масчан смеется: «Если грубо, то Т-лимфоцит буквально физически подползает к врагу и плюется веществом, которое запускает смерть микроба или раковой клетки. Называется этот процесс клеточной цитотоксичностью. Представляешь, один лимфоцит может уничтожить тысячи мишеней».
«Круто», – выдыхаю я в каком-то детском восторге. Масчан остужает мой пыл: «Беда в том, что Т-клеточные рецепторы довольно сложно устроены и мы не умеем пока делать Т-клетки для каждого конкретного микроба».
«Но что-то же ты сейчас делаешь?» – «Пойдем», – говорит Масчан, и мы идем длинным солнечным коридором Центра Рогачёва в научную часть. Там «чистая» зона за двумя дверями. Там в похожей на обувной шкаф металлической штуковине Масчан перевоспитывает Т-лимфоциты.
Первый значительный успех CAR T случился в 2011-м. Тогда в США умирающую пациентку с лимфобластным лейкозом при помощи новой технологии удалось вывести в ремиссию: ее клетки при помощи специального искусственного вируса изменили, встроив в них специальную конструкцию, которая велела им распознавать раковые клетки.
(Вирус во всей это схеме необходим как раз потому, что именно он лучше всех умеет проникать в клетку и встраивать туда свою ДНК; сделав дело, вирус не размножается и не ведет себя, как вирус, фактически он – тоже искусственная конструкция, сделанная, как правило, на базе вируса иммунодефицита человека.)
В 2014-м году технология CAR T была применена уже к нескольким десяткам пациентов. Ремиссий было такое количество, что случайностью их уже никак нельзя было считать, причем все эти пациенты считались неизлечимыми, имели терминальную стадию лейкозов. Результат – ошеломительный. Сравнимый, разве что, с фурором, произведённым в начале XX века антибиотиками, а, если говорить о лечении нимфобластного лейкоза, то в 1948 году – преднизолоном и первыми химиопрепаратами.
Сперва новая технология в «серьезном научном мире» была воспринята как чистое безумие – в США, например, модифицированием Т-лимфоцитов занимались несколько независимых групп исследователей, но к ним мало кто относился всерьез, потом – как это часто бывает со всем новым – совершенно не вписалось в существующую концепцию фарминдустрии и все, что с ней связано: технологию перевоспитания клеточек каждого конкретного пациента не поставишь на полку и не будешь продавать в таблетках или ампулах. Однако одной из исследовательских групп удалось продать технологию транснациональной компании «Новартис» за неразглашаемые миллионы долларов. Это подтолкнуло другие исследовательские группы на переговоры с оставшимися фармгигантами или – на создание собственных компаний: некоторые из них теперь успешно торгуются на биржах. Но совершенно не приблизило пациентов к спасительному лекарству, а лекарство – к пациентам.
«Почему?» – спрашиваю я Масчана. Профессор как-то неловко склоняет голову набок: «Понимаешь, научный академический мир – это один мир, фармкампании – это другой, у всех свои интересы. И все в общем-то понимают, что грядет революция. Но как позволить ей произойти и не упустить свою выгоду? Этот вопрос сейчас все каким-то образом решают, должны решить. А пациенты ждут», – говорит Масчан. И я показываю ему результаты исследований Национального центра здоровья Великобритании: интересы пациента – это восемь процентов, остальные девяносто два – фармкомпании, страховые фирмы, профессиональные сообщества и нацпрограммы.
Мы подходим к «одежному шкафу». И я в который раз спрашиваю: «Как это работает?». И, чтобы обновить вопрос, прибавляю: «Какие риски?». Масчан дает мне заглянуть в микроскоп: «Смотри, видишь? Клеточки». Он говорит о них, как о родных детях. Но, по правде сказать, я ничего не вижу: серый фон, точки. Поверить, что все вот это – чья-то жизнь и чей-то шанс, почти невозможно.
«Вот сюда помещаются клетки пациента, они очищаются, здесь происходит их реконструкция. Клетки, во-первых, надо считать – это контроль качества, во-вторых, надо убедиться, что среди них нет нежелательных микробов и так далее. В-третьих, существует проблема цитокинов, веществ, которые выбрасывает лейкоцит, уничтожая раковые клетки. У пациентов бывает синдром выброса цитокинов – тяжелое осложнение, человек чувствует себя как при тяжелой инфекции: температура, сепсис. На первых конференциях, посвященных Т-клеточным технологиям, говорили буквально, что это «терапия не для слабонервных», потому что половина пациентов из-за побочных реакций, связанных с выбросом цитокинов, попадала в реанимацию на аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас мы понемножечку научаемся управлять этими побочными эффектами».
Прежде чем подвергнуться Т-клеточной терапии, обычно пациенту нужна небольшая химиотерапия. Она помогает освободить место для того, чтобы Т-клеткам было где размножаться в крови пациента, а собственные лейкоциты не конкурировали с Т-клетками за «еду». Обычно химию делают в то время, пока T-клетки находятся вот в этом «одежном шкафу» и обзаводятся химерным рецептором. Новые Т-лимфоциты вводят пациенту и ждут. Только на 28-й день после введения модифицированных Т-лимфоцитов можно проверить, сработали ли они. Это проверяется с помощью пункции костного мозга: в одной пробирке – смотрят под микроскопом, в другой – делают цитометрический анализ, считают оставшиеся опухолевые клетки. В третьей – ищут перестройки опухолевых генов в лаборатории молекулярной биологии. В четвертой – узнают, сколько осталось Т-лимфоцитов. Пятая отправляется в биобанк на случай внезапных озарений, дополнительных исследований и просто на всякий случай. В лаборатории Масчана есть специальный электронный график, в котором расписано, когда у какого пациента какие анализы брать и в какие лаборатории нести; есть и специальный доктор-ассистент, который отвечает за правильность и своевременность лабораторных исследований.
Первый врач, применивший технологию CAR T-cell и по праву считающийся «отцом» этой революции в области лечения рака, – американский профессор Мишель Саделайн из Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга. Когда-то Саделайн принимал доктора Масчана в своей клинике и делился знаниями, касающимися производственной части работы лаборатории по технологии CAR-T. Но договориться о «переносе» работающей в Центре им. Слоуна Кейтеринга технологии в Центр имени Димы Рогачёва не удалось: Саделайн и коллеги были связаны ранее данными обязательствами, Масчану пришлось договариваться о партнерстве с другими клиниками.
Но вот теперь Саделайн читает лекции в Центре Рогачёва и говорит о том, что совершить такую дорогую и масштабную революцию врачи и ученые всего мира могут только сообща. «Прежде было принято говорить о том, что самая амбициозная цель в области борьбы против рака – это превратить его в хроническое заболевание, при котором пациенты живут всё дольше. Наша цель другая. Мы ищем излечивающую терапию», – говорит Саделайн. Но все – непросто.
Во-первых, область успешного клинического применения этой терапии пока довольно узка. Она касается только опухолей, которые состоят из В-лимфоцитов и их клеток-предшественников. То есть это только лейкозы и лимфомы, да и то не все. Вопрос развития технологии в том, появятся ли методы CAR T-клеточной терапии, которые будут эффективны и при других опухолях. По всему миру, в первую очередь в США и Китае, ведутся сотни клинических испытаний. Если хотя бы небольшая их доля приведет к успеху, это изменит лицо современной онкологии.
И тут опять встает вопрос денег. Когда в 2014-м профессор Масчан попытался заинтересовать американских коллег в развитии технологии в России, ему было отказано. После памятного заседания попечительского совета и правления фонда «Подари жизнь» несколько сотен тысяч евро благотворительных денег были потрачены на «перенос» в Россию эти технологии: Масчан и коллеги не изобретали велосипед (что для пациентов было бы медленнее и дороже), Центр Рогачёва стал партнером немецкой компании Miltenyi Biotec: там закупаются все средства производства – пробирки, трубки, реагенты. Лентивирус, который переносит в клетку химерные рецепторы, компания Miltenyi Biotec дает бесплатно, потому что таковы условия партнерской программы. Т-лимфоциты онкологических пациентов врачи «заряжают» химерным рецептором в Москве, в Центре имени Димы Рогачёва. Но вся эта процедура оплачивается из благотворительных денег, а само лечение – незаконно.
«Не поняла», – грубовато перебиваю Масчана. «У нас нет официального разрешения Министерства здравоохранения на проведение исследования. CAR T-клетки наши пациенты получают по решению врачебного консилиума как лечение, необходимое для спасения жизни. А деньги на производство T-клеток мы получаем не от государства, а от топ-менеджеров «Роснефти», частных лиц и фонда поддержки науки «Врачи, инновации, наука – детям», созданного специально для таких инновационных направлений», – отвечает Михаил Масчан.
Выходит, что вся эта история с CAR T-cell терапией, с надеждой и шансом как минимум для половины, прежде считавшихся неизлечимыми, пациентов с лейкозами и лимфомами – нелегальная. В России не существует полного пакета законодательства о биомедицинских клеточных продуктах. «То есть сам-то закон есть, – уточняет профессор. – Но, чтобы он заработал, нужны приказы и положения про контроль качества, лицензирование и куча всего остального. А в этой нормативной базе такие лакуны, что если я сейчас пойду в Минздрав и попрошу разрешения делать то, что делаю, мне этого разрешения не дадут просто потому, что у чиновников нет юридических оснований это разрешение дать. Мы, конечно, заручились поддержкой локального этического комитета. Мы никого не обманываем, для каждого нашего пациента эта терапия реально является последним шансом в борьбе за жизнь. Но, с точки зрения закона, мы тут совершенно непонятно чем занимаемся».
Кроме Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва в России изучением технологии CAR-T cell и попытками работать с помощью этой технологии с пациентами занимается группа ученых в Национальном медицинском исследовательском центре Алмазова, Санкт-Петербург. Биотехнологические компании «Биокад», «Генериум» и «Р-Фарм» уже объявили, что им тема CAR T-cell в той или иной степени интересна. Однако профессор Масчан – единственный, а Центр имени Димы Рогачёва – один на всю страну, где в 2019 году клинически применяется CAR T-cell технология. И уже есть десять первых пациентов, с помощью этой технологии спасенных.
В среднем в США лечение одного пациента с помощью технологии CAR T-cell стоит от 800 тысяч до полутора миллионов долларов. В Германии – миллион евро, в Китае – от полумиллиона долларов.
Глава 17
США. Лос-Анджелес. Бульвар Сансет, Беверли-Хиллз, Малхолланд-драйв, поворот, загогулина и – здание Медицинского центра Седарс-Синай, больше похожее на продолжение голливудской мечты, чем на очередную больницу. С Дмитрием Шепелевым мы проделываем тот же путь, который в 2013-м он проделал с Жанной Фриске. На входе в клинику Шепелев как будто споткнется, остановится, вспомнит: «Жанна тогда пошутила: мы точно едем к врачу, не на пробы в кино?»
В большом кабинете с кондиционированным воздухом в 2013-м их ждал доктор Кейт Блэк – светило мировой нейрохирургии, «на которых надеется Америка», в десятке лучших врачей мира.
Так же, как в 2013-м Шепелев с Жанной, мы легко находим место на больничной парковке, так же, как они тогда, говорим на ресепшн, что у нас назначена встреча. Только теперь это – не консультация, интервью.
Пока готовимся, спрашиваю Шепелева: «Почему тогда вы решили, что доктор Блэк – это единственный шанс?» – «Потому, – отвечает, – что других шансов у нас просто не было».
Зимой 2013-го Фриске в Нью-Йорке ожидала вердикта врачей престижной клиники Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга, врачи которой должны были включить Жанну в группу клинических испытаний одного из относительно новых химиотерапевтических протоколов. Но время шло, ответа не было: сперва не доставало анализов, потом состояние здоровья Фриске стремительно ухудшилось. «Всё это время, – рассказывает Шепелев, – мне писали и звонили разные люди, пытавшиеся помочь. В их числе – мама Анастасии Хабенской. У Жанны и Насти, я тебе говорил, – схожая болезнь: такой же стремительный прогресс и ничтожные шансы на выздоровление. С одной лишь разницей: мы проходили этот путь позже Насти и Кости, за нас было время: в медицине кое-что изменилось». Телефон доктора Блэка Шепелеву передала мама Насти Хабенской: «Нам он уже не поможет. Может быть, вам», – сказала она.
Жанну Фриске Блэк впервые принял в холле одной из гостиниц Нью-Йорка, где получал очередную престижную медицинскую премию. «Я хорошо помню, как прямо в лобби этой фешенебельной гостиницы доктор Блэк загрузил на свой лэптоп снимки Жанны, – рассказывает Шепелев. – Несколько минут изучал их. А потом, не отрываясь от экрана, спросил:
– Вы слышали что-нибудь об иммунной терапии?
– Нет.
– У меня есть для вас предложение. «Ервой». Считаю, это единственное, что может помочь. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, это экспериментальная терапия, то есть никаких гарантий, только шанс».
Шепелев вспоминает, что тогда ответил: «Если честно, то до вас нам никто даже не предлагал шанса».
Всю следующую ночь Дмитрий просидит в Интернете, пытаясь без эмоций оценить итог разговора с доктором Блэком. Выяснит то, что ни для кого не является секретом, но о чем прежде с ним не говорил ни один врач: в 2013 году во всем мире уже применялась иммунотерапия, однако ни о каких клинических испытаниях иммунотерапевтических препаратов вообще, и «Ервой», в частности, в России речь не идет.
Сама идея использовать PD-1 ингибиторы для попытки контролировать опухолевые клетки появилась в конце 1990-х, к 2008 году первые иммунотерапевтические препараты прошли клинические испытания во время международных мультицентровых исследований. В 2018-м за идеи о возможной иммунотерапии онкологических опухолей и их практическую реализацию Джеймсу Эллисону из США и Тасуку Хондзё из Японии дали Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Именно США и Япония, а также Израиль стали лидерами научных изысканий и практических исследований, касающихся иммунотерапии. В этих странах впервые были проведены клинические исследования пионера иммунотерапии – ипилимумаба (торговое название «Ервой»). Его действие, напомню, заключается в блокировании гена CTLA4. Наиболее широкую и, по сути, главную известность «Ервой» приобрел в случае меланомы, теперь это стандартная терапия для этого заболевания. В 2012-м в нескольких крупных онкологических центрах, в том числе и в Медицинском центре Седарс-Синай, начались исследования «Ервой» для лечения агрессивных опухолей мозга. На момент первого визита Шепелева и Фриске в клинику и встречи с профессором Блэком результаты этих исследований были неизвестны, но считались перспективными. То есть единственное, что Блэк действительно мог предложить, – это надежда. Однако для человека, у которого еще вчера вообще никакой надежды ни на что не было, это предложение колоссально и многообещающе. Дмитрий Шепелев, разумеется, был таким человеком: «Всю эту ночь, весь следующий день и много, много дней и месяцев у меня из головы никак не шел финал нашего разговора с доктором Блэком. Помню, я спросил его: «Когда вы произносите слово «шанс», что вы имеете в виду, излечение?» Он ответил: «Продление жизни». Но продление жизни – это же шанс и есть. Ты понимаешь, о чем я говорю?»
Я молчу и считаю лепестки на цветах яблони, что растет прямо под окном кабинета доктора Блэка. Яблоня эта такая полногрудая, полноцветная. Она так привольно и широко раскинулась в гостиничном палисаднике, что хочется вдыхать и вдыхать пьяный запах этих розовых цветов. Но стеклянное окно кабинета герметично. И никакого запаха нет. Я смотрю на цветы и думаю о том, что часто желание обрести надежду у онкологического пациента или его близких побеждает чувство реальности. Так бывает: люди слышат то, что хотят услышать, неосознанно пропуская мимо ушей подробности, могущие отобрать надежду, разрушить устраивающую картину.
«Да, надежда – это то, с чем нам приходится иметь дело». Во время интервью доктор Блэк собран, спокоен и серьезен. Ему не кажется несущественным такой немедицинский поворот разговора. «Но в каком-то смысле мы, врачи, тоже оказываемся эмоционально вовлечены в эту историю. Это очень связано с гуманизацией всего того, что касается лечения, спасения, качества жизни и ее продления. Наука развивается. Но развивается не так быстро, как нам хотелось бы. Однако это движение вперед вместе с повышенной чувствительностью к ценности каждой человеческой жизни позволяет нам страшно радоваться, если вдруг появляется препарат, который (есть надежда!) продлит жизнь пациента на год. На полгода. Или даже на несколько месяцев. Вам кажется это несущественным? Вы скажете: это несоизмеримые траты? Хорошо. Теперь представьте, что речь идет о ком-то, кого вы любите. И важным станет каждый день. В этом смысле этически современный врач находится в очень сложном положении: шанс ведь стоит денег, и немалых, они есть не у всех. Это очень сложные размышления».
«Еще десять лет назад в моей ситуации выхода никакого не было, никакой надежды. А теперь – вот», – говорит моя подруга Надя, покачивая на руках засыпающего Гришу. Гриша посасывает грудь и смешно храпит. Я смотрю на Гришу, этого полуторагодовалого розовощекого младенца. Его существование, его необходимость в нашем существовании и, в конце концов, этот его ничем не выдающийся, очень обычный детский храп не терпят никакой сослагательности. Его, Гриши, не могло не быть. И говорить об этом даже как-то дико.
Но два года назад Гриши еще не было. Точнее, он был внутри Нади. Кроме него внутри Нади был рак. Мне ужасно не хочется спрашивать, но спросить надо: «Вот у тебя есть ребенок внутри, но есть еще и муж, и другой четырехлетний здоровый и веселый ребенок. Были ли у тебя варианты: лечиться, избавившись от ребенка, что легче и эффективнее, не лечиться вообще, испугавшись нанести ребенку внутри непоправимый вред? Кто и как озвучивал эти варианты и как ты выбирала?»
Надя смотрит на спящего Гришу. Наде совсем не хочется отвечать. Но я сижу напротив и смотрю на нее: не встанешь же и не уйдешь. И я вижу, как начинает дрожать Надина рука, когда она отпивает глоток чая, как часто она моргает, как нарочно смотрит на Гришу и что-то там поправляет ему, хотя ничего поправлять не надо: спит ребенок спокойно и пусть спит.
«Знаешь, – говорит наконец Надя, – все решения мы принимали вместе с моим мужем Славой. И я ему невероятно благодарна за то, что ни разу маятник не качнулся в какую-то сторону: или я, или ребенок. Нам обоим были одинаково важны обе жизни. Мой рак начался с предопухолевого состояния, которое было диагностировано еще до беременности. Но врачи сказали: наблюдать. Никто же не мог предугадать, что я забеременею Гришей. Таких планов не было».
Доктор Михаил Ласков потом назовет всё случившееся с Надеждой Кузнецовой «идеальным штормом»: цепочка обстоятельств, каждое из которых могло и не произойти, но, произойдя, спровоцировало другое. Но всё произошло, реализовав худший из возможных сценариев: диагноз «рак матки» на шестом месяце беременности.
«У меня была фантастическая команда: онколог Михаил Ласков, химиотерапевт Даниил Строяковский, хирург-онколог Владимир Носов. Они всё досконально изучили. Они меня вели через всю беременность до тех пор, пока рак не стал раком, так, как будто ничего особенного не происходило. И ведь была вероятность, что и не произойдет». Всё случилось, как всегда бывает с раком, неожиданно. Кузнецова пришла на очередной прием к онкологу Владимиру Носову. Он посмотрел очередные анализы и сказал: «Будем брать биопсию».
«Он сказал, что если всё будет нормально, то пришлет результаты в электронную почту, а если нет – пригласит на прием, – рассказывает Надя. – А это такое время зимнее, предрождественское, мы должны с друзьями ехать на дачу. Но, не получив никаких результатов анализов в почту, я нахожусь в полной прострации. А потом еще мне помощница доктора звонит и назначает время на самый ранний прием. Я почти не помню этих выходных. Помню только, что вдруг оказалась в настоящем коконе заботы. Меня окружили со всех сторон фантастической любовью, подхватили и понесли».
Наступил понедельник. Надя думала, что доктор назначит операцию, опухоль вырежут, беременность оставят. Но на шестом месяце беременности такого варианта нет. Вариантов вообще никаких нет. Пятнадцать, десять, пять лет назад, да и сегодня почти везде единственный вариант, который мог быть предложен Наде, – сохранение ее жизни: операция с прерыванием беременности и быстрое начало химиотерапии.
Гриша проснулся. Его надо переодеть, покормить. Мы отвлекаемся, шутим, перебираем игрушки, способные его отвлечь, наконец, сдаемся – ставим мультики. Мне очень надо спросить, как она, Надя, сделала другой выбор. Как этот другой выбор вообще оказался возможным. Но спрашивать о том, как была решена судьба Гриши, имея живого и веселого Гришу перед глазами, я не могу.
Надя начинает сама: «Я пришла к доктору Носову на прием, и он сказал, что варианты такие: либо я прерываю беременность и иду спокойно лечиться – у меня первая стадия, лечение будет быстрым и минимальным. Либо я сохраняю беременность, и мы прямо сейчас начинаем довольно длительную химиотерапию. При этом риск негативных последствий для ребенка около 15 %. Варианта не лечить нет. Риск, что рак перейдет в неоперабельную стадию еще до родов, больше 50 %». «Как ты сделала этот выбор?» – спрашиваю я. И Надя останавливается, замолкает. Очень спокойно смотрит на меня. А я ее рассматриваю. Свет из кухонного окна падает ровный, мягкий. В нем хорошо видно, что у Нади светлые, до прозрачности голубые глаза, смуглая кожа, родинка над верхней губой. Надя красивая. Она всегда была красивой. Но рак как-то по-особенному подчеркнул эту красоту, сделав очевидной, заметной.
Мы познакомились с Надей десять лет назад: обе были волонтерами в онкологическом отделении Российской детской клинической больницы. Для Нади волонтерство стало способом найти смысл и вкус в однообразной жизни менеджера. Этим смыслом оказались «Игры победителей» – ежегодные спортивные соревнования для детей, победивших рак, которые Надя придумала и вместе с фондом «Подари жизнь» стала проводить в России. Помню, я как-то спросила ее, что самое главное случилось с ней на «Играх победителей», и она ответила: «Надежда» – «В каком смысле?» – «Надежда, что всё не напрасно, что за мучительно трудным лечением есть жизнь, что то, чего еще вчера не было, что было недоступно, сегодня появляется и лечит. И, значит, надо надеяться. Понимаешь?» Теперь Надя рассматривает меня. И я в принципе понимаю, о чем она: больница, в которой мы провели огромное количество времени, – мир герметичный. Ты видишь ребенка и его родителей в точке отчаяния: получен диагноз, оставлен дом, предстоит длинное и трудное лечение. В московские больницы, разумеется, попадали самые тяжелые пациенты. Многие погибали. Прощания с детьми – самая сложная часть жизни волонтера, жизни больницы. Но на прощания с детьми волонтеры приходят, а на 1 сентября в каком-то далеком городе, на свадьбу, в роддом, когда у бывших больных детей рождаются уже свои, прекрасные и здоровые дети, волонтеры не приходят. Тем, кто ее не видит, жизнь после болезни кажется неочевидной, несуществующей.
На «Игры победителей» приезжают дети, победившие болезнь. Повзрослевшие, они подходят к своим прежним больничным волонтерам, и те их не всегда узнают, а узнав, часто плачут.
«Знаешь, какая самая счастливая для меня картинка «Игр победителей?» – вдруг, полуобернувшись, спрашивает Надя. Киваю. Надя разливает зеленый чай в прозрачные чашки и несколько секунд молча улыбается, вспоминает: «Представь, Лужники, 2015 год, пятые игры. Церемония награждения, я стою рядом с трибуной и вижу ее сзади. Награждают футбол, и команды очень многочисленные, поэтому места на пьедестале мало. Из одной команды выходит мальчик лет девяти, который не очень хорошо ходит, он прихрамывает. С ним выходит мама. Она понимает, что он может свалиться с этой трибуны, потому что они все толкаются, им вручают медали. И она забирается на трибуну вместе с ним, у него за спиной встает на колени, и он опирается на нее… Для меня это абсолютный символ того, что происходит с этими мамами. Это символ надежды на полную и окончательную победу. Ведь она своего ребенка вытаскивает, ставит и добивается того, чтобы он среди живых стоял на этой трибуне. Маму саму при этом не будет видно, она на коленях стоит за своим ребенком, он опирается на нее, пока ему на шею вешают медаль. Вот это для меня «Игры». Это всё, что нужно знать про цену победы и про ее важность. Это нужно, согласись».
Выходит, что к моменту, когда самой Наде поставили диагноз «рак», она уже десять лет, что называется, «плотно варилась в теме». Нельзя сказать, что у нее были заранее приготовленные ответы на все те вопросы, которые обычно задает себе онкобольной. Но кое-какие ответы у Кузнецовой были.
– Что ты почувствовала, когда уже про тебя лично прозвучало это слово «рак», когда тебе поставили онкологический диагноз?
– Первое, что я почувствовала, – это что мне повезло: я к этому моменту десять лет варилась в теме. Это амортизацию дало фантастическую. Я оказалась психологически готова, потому что я много чего прошла с другими людьми. И разговоров на эту тему, и кризисов, и выхода из этих кризисов я наблюдала много. То есть я видела, как сначала плохо-плохо, потом хорошо. Ну, не хорошо, нормально.
– Ты спросила: «За что?»
– Конечно, нет.
– А «почему – я?»
– А почему не я? Я же все эти вопросы задавала себе раньше, когда очень любимые мною дети болели и когда они уходили. Я уже задавала тогда себе эти вопросы, понимаешь? Уходили дети, которые вообще не могли уйти, так сильно мы их любили, в них столько жизни, столько энергии. И ты в эти моменты понимаешь, что не все зависит от силы воли и любви. Что есть статистика: грубо говоря, на 100 тысяч человек сколько-то там заболевает. Не заболела бы я – заболел бы кто-то другой из этих 100 тысяч человек. Почему не я? Всё время крутится эта рулетка, на кого-то выпадает. Выпала на меня. Ну, о’кей. Значит, идем и разбираемся с этой ситуацией.
Она говорит о раке – своем и вообще – очень конкретно, называя его драконом: «Мне кажется, рак – это такой отвратительный дракон. Есть люди, которые ему дали по морде, и он в ответ огрызнулся. На кого-то, как на Галю Чаликову или Раису Горбачеву, которые как следует ему врезали, огрызнулся смертельно. Я, пусть и скромно, но царапину на его щеке оставила – и от меня он отмахнулся полегче, чем от других, я не такой весомый для него персонаж. Где-то краем глаза заметил, махнул. Но знаешь что? Мы его добьем». И я вижу, что это не просто слова, она настроена решительно.
«Ты поэтому решила рассказать мне свою историю?» – осторожно спрашиваю ее. Отвечает: «Нет. Я решила рассказать для того, чтобы женщины, которые, вслед за мной, окажутся в похожей ситуации, знали о том, что я через всё это уже прошла и у меня всё хорошо, это важно».
И я понимаю, что Надя уже психологически готова ответить на вопрос о том, как она сделала выбор между быстрым и привычным для онкологов прошлого лечением (прервать беременность, вырезать опухоль, пройти через щадящий курс химиотерапии) и – оставить ребенка, начав химиотерапию прямо во время беременности, имея пусть небольшой, но риск нанесения вреда здоровью малыша.
«Был же еще и третий вариант, Катюш, – говорит Надя. Я не понимаю. – Был, был. То есть умом я сейчас понимаю и тогда понимала, что нельзя ничего не делать с опухолью, позволяя ей расти на фоне беременности. Но мне было страшно. И пока я на приеме слушала доктора, то кивала головой, всё слышала и вроде бы всё понимала: что точно не откажусь от ребенка, что буду лечиться. Мне казалось, что я очень спокойная. Правда, в этот же день мне надо было сделать МРТ, и у меня случился дичайший приступ клаустрофобии. Но потом я успокоилась и поехала обсуждать план лечения к химиотерапевту».
Химиотерапевт Даниил Строяковский сказал понятные и обычные в этом случае слова: «Я должен озвучить риски». И стал говорить о том, что есть очень небольшая вероятность того, что химия окажется несовместимой с беременностью или навредит ребенку. В этот момент Кузнецова подняла на него глаза и твердо произнесла: «Я не буду травить абсолютно здорового ребенка при таких возможных рисках».
С точки зрения плана лечения это означало катастрофу: она отказывается лечиться, опухоль гарантированно вырастет и ее погубит. Строяковский некоторое время помолчал, а потом, глядя прямо на Надю, сказал, отчетливо произнося каждое слово: «Это твое право. Но в этой версии у тебя может остаться целых два здоровых ребенка. Только мамы у них не будет. Ты готова сделать этот выбор?»
Надя плачет. Гриша не видит этих слез, он следит за мультиком. Я пытаюсь поставить себя на ее место, и это невыносимо. «Ты понимаешь, почему мне важно рассказать эту историю? – вдруг спрашивает Надя, возвращаясь в начало нашего разговора. – Мне очень важно, чтобы у людей была надежда. Я через это прошла, я родила здорового ребенка, я принимала химиотерапию во время беременности, и это не принесло вреда Грише». Надя поворачивается ко мне. Я вижу ее лицо – немного усталое, как у любой мамы маленького ребенка, двоих маленьких детей, но полное решимости довести задуманное до конца: «Еще пять или десять лет назад у меня не было бы никаких вариантов сохранить беременность, родить Гришу, таких протоколов химиотерапии, таких схем, таких лекарств просто не существовало. Да, мне повезло, что меня лечили лучшие врачи на свете, умные и начитанные, они знали всё самое новое, до чего добралась наука, что придумано, что вышло на рынок. Но ведь сотни женщин, которые оказываются в моей ситуации, не знают, что такой выход вообще возможен».
На шестом месяце беременности 35-летняя Надежда Кузнецова начала химиотерапию: три блока во время беременности, роды, один блок после рождения Гриши, операция. Гриша родился на 36-й неделе – так решили врачи – обычным здоровым ребенком.
«Тебя в роддоме жалели?» – спрашиваю Надю. Смеется: «Нет, никто ничего не понял. Просто думали, что такая бритая мадам, неформалка. С другой стороны, даже я со своим десятилетним опытом общения с онкологическими никогда не видела ни одной лысой беременной и не слышала ни про одну знакомую беременную женщину, которая столкнулась с раком. В этой дурацкой болезни всегда есть что-то, к чему ты не готов, даже если тебе кажется, что подготовился, что тебя ранит».
Надю ранили волосы. Точнее, необходимость с ними расстаться. Обычно волонтеры в детских больницах рассказывают девочкам, как они хороши без волос, как красивы. Детские драмы, связанные с необходимостью сбрить косы, – повседневность онкологических отделений.
Когда мы познакомились с Надей, у нее была длинная и очень толстая коса. Я никогда не видела Надю с какой-то другой прической. Теперь у нее модная короткая ассиметрия. «После болезни, – улыбается Надя, – у меня появился свой парикмахер». Парикмахер появился вынужденно: сразу после первого блока волосы стали выпадать, а к третьему стало ясно, что короткой стрижкой не обойдешься. Надо бриться налысо. «Я не ожидала, насколько для меня были важны мои волосы», – говорит Надя. Мы листаем в телефоне ее «лысые» фотографии. На них Надя очень красивая. «Ты красивая», – говорю я. Кивает. «Да. Но тогда мне так не казалось. Знаешь, я была потрясена тем, что я совершенно не соответствую тому, что сама говорила прежде больным детям: я не эльф и не инопланетянка. И мне совсем не нравится быть лысой. То есть штука в том, что это кому-то другому ты можешь нравиться лысым. Тебе это неприятно. Ты ценишь ту свою внешность, к какой привык. Я хотела видеть себя в зеркале такой, какой была до болезни». Человека, который обреет ее налысо, Кузнецова нашла через знакомых – дали телефон и она, просто позвонила в салон красоты и сказала: «Здравствуйте, мне надо побрить голову под ноль».
«Я теперь от этого мастера никогда и никуда не уйду, – говорит Надя, поправляя модную стрижку с косой челкой. – Он сделал вид, что буквально каждый день бреет длинноволосых девушек с большими животами налысо, что рак – это тоже повседневность. В общем, он всё сделал правильно: мы всё время хохотали, он отстриг мне хвост, назвал его «бобиком», мы с этим «бобиком» разговаривали. Потом он уговорил меня «бобика» сохранить. Я не хотела. «Кого я буду обманывать? Я не буду ходить в парике. Если я буду лысой, значит, буду ходить лысая», – говорила я. А он отвечал: «Ты не знаешь, сколько будет блоков. Может быть, ты все-таки захочешь парик. А это твои волосы».
«Тебе так и не захотелось надеть парик?» – спрашиваю я.
«Нет. Но я теперь понимаю тех, кто их носит: я смотрела на себя в зеркало и думала, что моя лысая голова – это страшный ужас и кошмар. Меня боялся мой старший ребенок, он мне говорил: «Мама, ты похожа на пришельца». И я дома ходила с покрытой головой, потому что, когда я снимала шапку, он начинал плакать. И я могла снять шапку, только когда сын спал.
А потом, уже после рождения Гриши, мы с мужем пошли в театр с нашими друзьями. И человек, наш приятель, который меня знал, искал меня глазами в холле, а я лысая стояла рядом с ним, он меня не узнал. Когда он меня увидел, у него лицо просто стекло. Он не удержал лица вообще, сказал: «Ой, мне сейчас надо, вот, сходить в буфет». И смылся».
Я спрашиваю Надю, простила ли она этого своего бывшего друга. Кивает. Я спрашиваю, понимает ли она, чего он боялся. Пожимает плечами: «У нас просто никто не знает, как себя вести в этой ситуации, у нас этому не учат». Я спрашиваю, как надо вести себя, встретив после долгой разлуки человека и обнаружив, что он лысый после химиотерапии. Надя отвечает так, будто к ответу на этот вопрос она готовилась, будто где-то там, у себя в голове, между заботой о детях, работами и подготовкой к будущим «Играм победителей» пишет инструкцию о том, как надо общаться с онкобольными:
«Если ты встречаешь кого-то, кто плохо выглядит, у кого нет волос или на лице внезапно появилась маска, надо найти тон, которым тактично уточнить, хочет ли человек поговорить о происходящем, поделиться. Но это требует колоссальных усилий. Либо сделать вид, что ничего не происходит. И это тоже трудно. Я очень благодарна тем людям, которые продолжали на меня смотреть тем же взглядом, которым они смотрели на меня до этого. Этого нельзя требовать от людей, все живые, но те люди, которые, не поведя бровью, продолжали со мной общаться, меня очень поддержали. Оказывается, это очень важно, черт побери, уметь управлять собственными эмоциями и быть готовым к тому, что в мире разные вещи происходят и люди бывают разными». Мультик у Гриши заканчивается. Я собираюсь домой. У меня тоже дети. На пороге спрашиваю ее: «А что стало с твоим «бобиком»?»
«Свои волосы, в итоге, я отдала в программу «Сантиметры красоты» фонда «Жизнь». И из них сделали фантастической красоты каре для девочки-подростка. Когда мне пришла эта фотография, у меня, как у клоуна, брызнули слезы, потому что ты видишь свои волосы на голове другого человека. Это очень странно. И красиво». – «Ты познакомилась с этой девочкой?» – «Нет» – «Хотела бы?» – «Нет. Я бы просто не смогла. И не уверена, что ей было бы приятно».
В заключение этой главы я бы хотела привести вторую часть рекомендаций, составленных пациенткой Евгенией Паниной и онкохирургом Андреем Павленко для людей, которые лечатся от рака, и их родственников. Эта часть посвящена периоду интенсивного лечения.
– Точка, в которой вы оказались, очень важная: лечение идет полным ходом. Оно вроде бы действует, так вам говорят врачи. Верьте им. Разговаривайте со своим организмом, как можно больше думайте о том, что и как сейчас с вами происходит, что будет происходить.
– Как правило, лечение онкологических болезней сопряжено с большим количеством негативных физиологических моментов: выпадают волосы, тошнит, сереет и обвисает кожа. Надо научиться принимать себя таким, какой ты есть с этой болезнью. Это твоя жизнь. Всё в ней твое, даже эта болезнь. Это очень трудно, но надо научиться любить себя даже слабым, даже беспомощным.
– В этот момент важна помощь близких, особенно для женщин. Важно не допустить того, чтобы онкологическая пациентка видела, как выпадают ее волосы, следует предложить ей заранее постричься. Следует помочь ей воспринимать происходящее как игру. Действует всё, даже такие, казалось бы, незначительные комплименты, как: «Какая у тебя, оказывается, хорошая форма черепа! Какой трогательный ёжик! Тебе идет короткая стрижка!»
– Надо постараться при этом соблюсти баланс между доброжелательностью и искренностью. Если вы скажете пациенту, переживающему химиотерапию, что он отлично выглядит, – это будет враньем. Чувствительный и мнительный человек, а онкобольные именно таковы, вообще воспримет это как упрек: ты не болеешь, а симулируешь. Постарайтесь сказать честно и спокойно: «Ты замечательно выглядишь сегодня. А как ты себя чувствуешь при этом?» Постарайтесь давать себе труд действительно интересоваться самочувствием и мироощущением того, кто болеет.
– «Ты сильный, ты справишься» – одна из наиболее раздражающих онкобольного фраз. Самая раздражающая – «Держись!» Понятно, что вы хотите, чтобы больной верил в то, что тяжелый период пройдет и здоровье вернется. Но на деле человеку кажется, что его оставляют одного бороться с болезнью. Лучше сказать: «Я с тобой, что бы ни случилось и как бы ни повернулось. Вот моя рука».
– Не стоит говорить, что вы бы не смогли так жить и наверняка бы умерли – это кокетство и обесценивание серьезности момента. Лучше сказать о том, что не до конца представляете себе, столько сил уходит на то, чтобы выживать, что видите и понимаете, сколько другого важного ваш близкий успевает делать, несмотря на болезнь. Было бы здорово, если бы об этих делах у вас нашлось время поговорить подробно.
– «Выздоравливай!» – опасное пожелание. Понятно, что вам хотелось бы, чтобы ваш близкий поправился поскорее. Ну, так и ему бы хотелось. Но поскорее в случае с онкологией – не выйдет. И не в силах больного раком это изменить. Вот он и сердится, расстраивается, опускает руки в ответ на это дежурное «Выздоравливай». Вместо этого лучше сказать: «Обнимаю бережно, если позволишь. Очень хочу, чтобы тебе было хотя бы капельку полегче. Я на днях буду в твоем районе, позвоню и спрошу, чего тебе купить. Позволь мне что-нибудь тебе купить. Мне, правда, хочется быть хоть капельку полезным».
– Пожалуйста, постарайтесь воздержаться от любого рода советов и рекомендаций общего порядка: гулять, пить воду, отдыхать, быть в хорошем настроении и так далее. Понятно, вам очень бы хотелось, чтобы можно было сделать что-то простое, от чего всем бы стало легче. Но, во-первых, таких чудес не бывает, а во-вторых, простые рекомендации выглядят незаинтересованными попытками отмахнуться от по-настоящему трудных проблем. Кроме того, попытка что-то посоветовать с ходу как будто бы намекает на то, что человек, сражающийся с болезнью довольно продолжительное время, полный идиот. И не в состоянии узнать, что именно ему требуется. Вместо этого лучше подробно и заинтересованно поговорить о том, как идет болезнь, от чего становится лучше, от чего – хуже. Договориться сделать что-то, приносящее облегчение (прогулка, мороженое в кафе, фильм с бокалом вина), вместе.
– В принятии себя в болезни надо идти от частного к общему, не стесняясь малости своих шагов. В этот момент очень важно выбрать пример для подражания в болезни. Для Евгении Паниной, как мы знаем, таким примером стал Серван-Шрейбер и его стратегия «Антирак». Возможно, для вас или ваших близких путеводная звезда будет другой. Возможно, кто-то из героев этой книги.
– Все люди, которые оказываются вокруг онкологического пациента, его друзья и коллеги, в пиковый момент существуют исключительно для того, чтобы давать маленькие задания и укреплять веру в то, что всё получится. Обязательно надо приходить к больному в гости или в больницу, но не быть назойливыми. Ни в коем случае нельзя приходить и сидеть, тянуть время, только потому, что ты пришел и потратил полдня на дорогу. Это никому не нужно и всем очевидно. Надо обязательно прийти с каким-то делом. Если вы принесли еду, подогрейте ее, накройте красивый стол. Если вы принесли книгу, почитайте. Возможно, у пациента нет сил читать. Если у больного есть силы, предложите погулять, только не бездействуйте и не «высиживайте» обязательный визит, это бесит.
– Важно поймать момент, когда сам пациент не может справиться со своими негативными мыслями, эмоциями, пониженным настроением. До этого момента лучше не доводить, но коли дошли, очень важно обратиться к психологу, психотерапевту или даже к психиатру. Возможно, ситуация такая трудная, что только специалист сможет с ней справиться. Очень часто больные или их родственники наотрез отказываются от услуг психологов и психиатров. Как правило, онкологические пациенты сетуют: «Мне не голову надо лечить, а рак». Это не так. Если голова не в порядке, то рак будет в разы труднее вылечить. Важно донести эту мысль и до самого пациента, и до тех, кто рядом.
– Не бойтесь, если специалист предложит вам преодолеть проблемы с помощью каких-то медикаментов, даже антидепрессантов. В небольших количествах под контролем врача они неопасны. А вот загнанная в угол депрессия на фоне лечения от рака гораздо опаснее и вреднее. Если пациент не справляется и не хочет справляться, отказывается обращаться к психологу, то к специалисту может прийти его родственник или близкий человек. Вместе они смогут быстрее найти выход из сложившейся ситуации.
– Если ход вашей болезни и стратегия ее лечения позволяют, постарайтесь не бросать работу. Работать с онкологическим диагнозом не просто можно, нужно! Крайне важно, чтобы коллеги и сослуживцы незаметно помогали пациенту. Чтобы из этого не делалась история героического преодоления или, наоборот, дискриминации – «ах, бедненький больной», было бы замечательно, если бы работодатели смогли придумать для такого сотрудника неочевидно щадящий график.
– Возможно, коллегам стоит обсудить между собой тактику поведения со своим временно ослабленным коллегой. Надо договориться о том, чтобы исключить бестактные вопросы типа: «А ты что, в парике? Ты в косынке? Почему? Как долго ты будешь лечиться? Что говорят врачи? Как ты себя чувствуешь?» Эти вопросы можно и нужно задавать, но не праздно, а действительно участвовать в разговоре. В противном случае лучше промолчать. Неинтересно – не спрашивайте. Так честнее.
– Пациент всегда ждет, когда и как он пойдет домой. Это самое главное ожидание на протяжении всего лечения. Это надо понимать и близким, и врачам. Об этом можно и нужно говорить прямо, здесь нельзя врать или выдавать желаемое за действительное.
Глава 18
Через два с половиной месяца после курса химии меня в первый раз выписывают. Дома две недели тянутся долго. Очень тяжело: дикая слабость, перепады настроения. Иногда доходит до того, что хочется обратно в больницу. Дома всё кажется чужим, всё пугает…
Начинают выпадать волосы. Я привыкла, что мужчины считают меня красивой женщиной. Быть лысой – это, оказывается, ужасно, но вариантов нет. Уговорила своего мастера приехать домой и обрить меня налысо. Посмотрела на себя в зеркало: вроде ничего. Надо же, красивый череп. Хожу по квартире и постоянно ловлю свое лысое отражение в зеркалах, стеклах, во взглядах мужа и дочерей. Какая я? Я другая? Это я?
Маюсь. Никак не могу найти свое место в собственном доме. Не покидает ощущение, что в квартире всё изменилось: высота потолков, размер комнат. Ощущение непривычное и неприятное. Становлюсь невыносимой, отвратительной самой себе, раздражительной. Хочу вырваться из этих вроде бы родных четырех стен и боюсь выйти наружу. Что меня там ждет?
Помимо страха того, что ждет «снаружи», изнутри Женю поедом ест еще один страх: со дня на день должны прийти первые, промежуточные, результаты анализов после химиотерапии. Оценив их, врачи примут решение о том, правильная ли стратегия лечения была избрана. А это, в свою очередь, будет означать: они и дальше будут лечить Панину по заранее намеченному пути или придется сделать остановку, поворот, а может быть, и вовсе прекратить и пересмотреть всё начатое.
Ожидание результатов и связанных с ними решений, страх и надежду на них Евгения держит в себе, ни с кем не деля. Молчание кажется ей самым правильным способом сохранить мир и покой в семье. И она делает вид, что никаких анализов она не ждет, а все остальные делают вид, что не знают, что Панина ждет анализов.
Все суеверно боятся то ли спугнуть удачу, то ли накликать беду. Но если причину тревоги Жене, как ей кажется, неплохо удается скрывать от близких, то саму тревогу не скроешь. Она меряет квартиру шагами, как тигр в клетке. И, как тигр, на всех бросается: «Нет, всё в порядке! Да, мне хорошо дома! Нет, меня ничего не тревожит! Да, я вас люблю всех, черт побери!» Иногда справиться с чувствами не получается. Она злится и плачет. Плачет и злится. Наконец, ближе к концу сентября приходит промежуточный результат: химиотерапия действует. Та стратегия лечения, на которую сделали ставку врачи, сработала. Выдох. Но это только самое начало пути. Вдох. До победы еще очень и очень далеко. И пока никто не решается давать никаких гарантий. Надо продолжать лечиться, действуем по плану. С удивительным для самой себя облегчением Панина возвращается в больницу.
Если бы всего полгода назад кто-то мне сказал, что я буду рада вернуться в больницу для того, чтобы опять «химичиться», опять оказаться запертой в этих стенах, опять мучиться от тошноты, головокружений и слабости, я бы, наверное, даже рассмеялась, настолько всё это еще полгода назад было «не моей» жизнью, настолько больница была для меня местом работы, местом, где я отдавала приказы, а не подчинялась, где я принимала решения, выносила вердикты, где я была врач, а не пациент. Просто поразительно, как быстро внешние обстоятельства меняют человека. На тотальную перемену всего и вся в жизни мне хватило полгода. Теперь командуют мной. И вот я уже радостно возвращаюсь на «химию». Но тут выясняется, что для продолжения курса химиотерапии мне нужен «Дексаметазон». В той дозировке, которая разрешена к продаже в нашей стране, мне нужно выпивать 80 таблеток в сутки, а это один из десяти препаратов, которые я принимаю…
За рубежом есть «Дексаметазон» в нужной мне дозировке: достаточно всего трех с половиной таблеток в день. Но в России его нет, не разрешен. Старшая дочь через знакомых в Германии достает лекарство, надежные друзья тайно провозят его в чемодане, становясь потенциальными преступниками, рискуя оказаться под стражей. Бред, сюр какой-то…
Это не бред и не сюр. Это следствие одного из десятков странноватых постановлений Минздрава России и вызывающей много вопросов российской регистрационной политики в отношении медикаментов. Работает это так: есть список лекарств, разрешенных к продаже и выпуску на территории Российской Федерации. Ввоз остальных – контрабанда. Кому бы и как бы они ни были нужны.
По закону о бесплатной медицине в нашей стране, клиники, в том числе и онкологические, официально получают для бесплатного лечения пациентов строго оговоренные препараты. Но, по мнению врачей, многие из них устарели и не дают того качества лечения и качества жизни, которые могли бы дать новые, уже существующие в мире, но не одобренные нашим Минздравом лекарства. И получается, что доктор должен сообщить пациенту странную вещь: от его напасти вроде бы есть средство. Но у него на это нет средств. Может ли хороший доктор сказать такое пациенту? Может ли вообще человек сказать человеку: «Ты умрешь, потому что в стране, где бесплатная медицина гарантирована любому гражданину Конституцией, средства бесплатной медицины сильно ограничены, а сам ты необходимое тебе лекарство оплатить не сможешь, ибо беден. Или даже лекарство может быть само по себе и недорого, но в стране, где тебя лечат, его невозможно купить?»
Я спрашиваю об этом профессора Рашиду Орлову, заведующую химиотерапевтическим отделением Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера. Доктор Орлова внимательно слушает. А потом, словно уточняя, повторяет вопрос почти слово в слово: «Говорить ли больным, что существует такой препарат, который им показан, который их, возможно, спасет, но которого нет в расписанной на них квоте, потому что это дорогостоящий препарат и денег у пациентов на его покупку может не быть, а само лекарство, например, не разрешено к продаже в России?»
Я киваю. И, зная, что могу доверять, рассказываю Рашиде Вахидовне, как недавно в благотворительный фонд обратилась мама одной маленькой пациентки и рассказала, что ее ребенку было проведено лечение в Москве, а потом для проведения оставшихся двух курсов химиотерапии их отправили в больницу по месту жительства. В маленький провинциальный город, каких сотни по России. В больнице этого городка ребенка положили под капельницу. И бдительная мама заметила, что препарат, который капают ее ребенку, не того цвета, каким был химиотерапевтический препарат в московской больнице. А назначение врачом не менялось. Проведя по горячим следам свое маленькое «мамское» расследование и приперев докторов к стенке, женщина выяснила, что ее ребенку вместо химиотерапии капают… физраствор. Потому что препарата «Космеген» (описываемые события относятся к 2012 году, сегодня «Космеген» в разных видах и дозировках есть в России и доступен, но некоторых других лекарственных препаратов такая недоступность касается по-прежнему), назначенного пациентке, в больнице маленького городка уже полгода нет и, как сказали в главке, в ближайшие несколько месяцев не будет: ну не закупило государство, забыло, наверное, посчитало неважным. А сказать об этом в глаза маме никто из докторов не решился.
Всю ночь мама провисела на телефоне, отыскала координаторов благотворительного фонда, умоляла привезти «Космеген» в больницу маленького города. Спустя двое суток эта конкретная проблема была решена: благотворительный «Космеген» доставлен в больницу, ребенку начат необходимый курс химиотерапии…
Координаторы рассказывают, что врачи отделения старались не встречаться с ними взглядом. А главный врач нашел в себе силы и попросил прощения, сказав, что совершенно не знает, как ему жить и работать дальше. Правда, выяснить, были ли еще пациенты, которым вместо действующего препарата капали физраствор, не удалось. И совершенно неясно, кого винить в этой, слава богу, благополучно разрешившейся истории.
Повторюсь, я знаю, что могу доверять питерскому доктору Рашиде Вахидовне Орловой. И я рассказываю ей эту историю. Орлова выслушивает до конца. Встает. Подходит к окну, отворачивается. Я смотрю на ее ровную спину, не понимая, что происходит, не зная, что предпринять. Рашида Вахидовна – статная, красивая, уверенная в себе женщина. На интервью она надела черную водолазку и яркий шейный платок. Я еще подумала в самом начале: «Как стильно». Но вот уже несколько минут она совершенно несолидно грызет уголок яркого шейного платка, а ее плечи подпрыгивают. Профессор Орлова старается не заплакать, но плачет. Какого черта я вообще полезла к ней со своими неудобными вопросами? Почему эта хорошая и честная доктор должна отвечать передо мной за кособокость всей здравоохранительной системы?
Доктор Орлова шумно выдыхает. И на ощупь приведя себя в порядок, возвращается в кресло. Подается вперед. Сжимает в замке руки: «Я знаю, как правильно отвечать на вопрос «Можно ли не говорить?» Я свой урок на эту тему однажды хорошо выучила. И теперь до гробовой доски буду убеждена, что при выборе стратегии лечения, при назначении препарата я больше никогда не буду думать об экономической и даже правовой стороне вопроса. Я считаю, что пациенту надо назначать то, что считается лучшим в медицине на данный момент. А выбирать назначение только лишь из реалий имеющегося и доступного арсенала – аморально».
Ей приходится найти в себе мужество и рассказать мне эту историю, свой когда-то выученный урок. Ей важно, чтобы я ее поняла. И профессор Орлова на одном дыхании рассказывает о том, как два десятка лет назад она была молодым доктором онкологического отделения, консультировавшим 38-летнюю пациентку с раком груди.
– У нее была дочка четырнадцати лет… Какой-то прямо необыкновенный, любящий муж, очень дружная семья. Когда они приходили, всё время держались за руки. Тогда, конечно, у нас был очень маленький арсенал препаратов, которые я могла ей предложить. Те препараты, которые ей назначали, были неэффективны. Следующим этапом должна была быть гормонотерапия, по стандарту. По логике, перед гормонотерапией ей надо было удалить яичники, но она была молодая женщина, она надеялась на то, что поправится, что сможет еще жить полноценной жизнью. И от удаления яичников категорически отказалась. Сказала: «Я не хочу, поймите меня. У меня уже удалили грудь. И я бы хотела попросить вас не удалять яичники». Сейчас я понимаю, что это было ее право. Сейчас понимаю, что надо было по-другому говорить с ней. И, может быть, даже не мне, может быть, психологу, кому-то еще. Но я тогда ничего этого не знала. Я просто согласилась с ней потому, что мне нечего было сказать, и потому, что мне показалось важным уважать ее решение.
Она спросила: «Быть может, есть препарат, который помог бы безоперационно выключить на время функцию яичников?» Я ответила: «Да, конечно, такой препарат есть, он сейчас только появился на рынке, давайте попробуем, мы как раз посмотрим, будет ли эффект от применения этого препарата такой, как его описывают в научной литературе». Препарат, к сожалению, был не бесплатным. Он стоил по тем временам, а дело было в 1990-е, 220 долларов. Представляете… я даже помню цену.
Рашида Орлова пошла навстречу пациентке, выписав курс дорогостоящего препарата, показанного пациентам, резистентным к традиционным видам лечения. О назначении молодого врача узнало руководство доктора Орловой: Главное управление здравоохранения Ленинграда, онкологический институт, главный врач клиники. Орлову вызвали на ковер и объявили выговор.
– Меня как молодого врача вызвали в дирекцию и сказали, что это неэтично назначать больной дорогостоящий препарат, который она не может купить. «Вы поступили, доктор, неэтично», – сказали мне старшие умные товарищи. Тогда у меня не было аргументов. Я не нашлась, что ответить. Большого скандала, правда, не вышло: моя пациентка нашла какую-то возможность и купила препарат. Но курс кончился. И надо было идти дальше, назначать новые препараты, потому что болезнь прогрессировала. В нашей больнице по-прежнему не было ничего. Хотя я, конечно, знала, что есть, уже появился нового поколения препарат, который мог бы быть очень кстати именно при ее типе опухоли, при ее типе развития болезни…
И вот, как всегда, втроем, они пришли ко мне. Кажется, муж спросил: «А что нам, Рашида Вахидовна, делать дальше?» Я знала, что есть новый препарат, который мог бы ей помочь. Я знала его название, стоимость, всё! Но я прекрасно помнила, как совсем недавно стояла на ковре у директора научного института, где работала. Только что мне было сделано внушение, что я веду себя неэтично, назначая пациентам недоступные им препараты. И я сказала: «Вы знаете, а это – всё. Больше ничего, что может вам помочь, нет. К сожалению».
Семья переспросила: а есть что-то новое, что-то, что могло бы помочь, что давало бы шанс. Доктор Орлова повторила, чеканя каждое слово: «К сожалению. Больше. Ничего. Нет».
По-человечески ей, конечно, было стыдно. Но по инструкции-то она всё сделала правильно. И чувство правильно выполненного долга в молодом и неопытном докторе, каким была Рашида Орлова, пересилило человеческое чувство вины. Со временем чувство вины даже притупилось. Или она просто научилась с ним жить.
– Прошло два года, – продолжает рассказ Орлова. – Эта пациентка исчезла из моего поля зрения. Я, конечно, помнила ее, потому что это была очень запоминающаяся семья и запоминающаяся история. Не могу сказать, что я терзалась этим каждый день. Нет, всё стало стираться… Но спустя два года – я уже стала кандидатом медицинских наук – прохожу мимо своего кабинета. И вижу, стоит девочка, лицо которой напоминает кого-то. Девочка молоденькая, и хотя у меня есть и очень молодые пациентки, я понимаю, что она не моя пациентка. Я спрашиваю: «Вы ко мне?» Она не отвечает, но просит разрешения войти в кабинет. Проходит и говорит: «Рашида Вахидовна, а вы помните такую-то свою пациентку?» И называет имя. У меня внутри всё сжалось. Говорю: «Да, конечно. Конечно, помню». – «Я ее дочка…» Я говорю: «Как ты хорошо выглядишь, как ты повзрослела…»
А она говорит: «Это неважно. Я пришла сказать вам только одну вещь. Я очень долго хотела это сделать. И вот, наконец, у меня появилась возможность приехать. И первым делом я пришла к вам. Я хотела вам сказать: вы нас обманули. После того разговора, когда вы сказали, что помочь уже ничем нельзя, мы нашли возможность и уехали в другую страну. Там маме подобрали лекарство. И она прожила еще два года. И умерла очень спокойно: она знала, что я поступила в институт, влюбилась, собираюсь замуж. Всё состоялось. Всё хорошо. А вы… Вы хотели лишить маму этой возможности. Вы очень плохой доктор, Рашида Вахидовна. Вы не знаете препаратов, вы не знаете, чем можно помочь вашим больным, вы поступаете аморально. Вам не надо работать врачом».
Наверное, хорошо, что, сказав всё это, она развернулась и ушла. Потому что смотреть на нее, смотреть ей в глаза профессор Орлова не смогла бы. Каждое ее слово оставляло рану в сердце Орловой, которая будет саднить всю жизнь. Но дочь ее бывшей пациентки шла, пока еще была видна ее спина, доктор Рашида Орлова дала слово себе и всем своим будущим пациентам: больше никогда не врать. Больше никогда не предлагать что-то дешевое и государственно одобренное, но бесполезное, устаревшее, вместо недешевого, но куда более действенного. Даже если за это теперь придется побороться. «Я приняла сторону этой девочки, – говорит профессор. – Она меня научила, она вернула мне мою профессию – доктора, обязанного лечить людей. И теперь я считаю, что все-таки это аморально – не назначать то, что есть, только потому, что этого нет в бесплатной квоте или трудно достать. Для меня эта история была большим уроком. Я этот урок выучила на всю оставшуюся жизнь. Человеческую и профессиональную».
Именно поэтому теперь профессор Рашида Орлова в свободное от приемов и консультаций время принимает активное участие в просветительской и благотворительной деятельности, цель которой – рассказать докторам обо всех имеющихся в арсенале современной медицины препаратах и сделать каждый из них доступным онкологическим пациенткам. Ведь рак, а особенно рак молочной железы, действительно хорошо поддается лечению, если выявлен на ранней стадии, взят под контроль и лечится с помощью адекватных опухоли препаратов, а не тех, что просто оказались под рукой у онкологов.
«Врач обязан рассказывать пациенту о шансе, который у него есть, – говорит онколог Михаил Ласков, – иначе это отменяет всю теорию равных, доверительных отношений между доктором и пациентом. Но часто такой разговор упирается в деньги. У нас в России принято считать, что вопрос стоимости лечения и невозможности большинства больных себе позволить подобное лечение – это такой наш исконно русский вопрос. Но это далеко не так. Во всем мире, придерживающемся стандартов того, что человеческая жизнь бесценна, на самом деле ее стоимость совершенно четко и определенно подсчитана. Например, я проходил стажировку в Великобритании. По оценкам тамошней организации NICE, занимающейся одобрением лекарств для широкого применения, год качественной жизни онкологического больного принято оценивать в 30 тысяч фунтов. То есть целесообразным считается применение лекарства такой стоимости, если оно продлевает жизнь с сохранением ее качества на год. Если для этого требуются более дорогие препараты или методики, то британское государство не может себе этого позволить. В отличие от нас такие цифры в Великобритании не стесняются публиковать.
И если врач считает, что его пациенту показан более дорогой препарат, то он пишет запросы многочисленным чиновникам, просит разрешить использовать более дорогое лекарство, расписывает возможный эффект, ссылается на статьи и публикации, на результаты каких-то клинических исследований. И такие исключительные случаи наступают – кому-то достается более дорогое лечение. Но это всегда борьба врача и семьи пациента с системой. Потому что система ожидаемо сопротивляется. А если она не будет сопротивляться, то у нее не хватит ресурса вылечить всех больных, она скорее исчезнет, растает сама и не сможет вообще никому больше помочь».
Разумеется, никакому онкологическому пациенту или его близким не может и в голову прийти заботиться о сохранности какой бы то ни было умозрительной «системы» в тот момент, когда речь идет о том, будет или нет доступным необходимое лекарство. Но, согласно исследованию, проведенному Ассоциацией защиты прав пациентов Великобритании, от интересов пациента зависит 7 % происходящего с ним во время лечения. 60 % – это интересы фармкомпаний, 20 % – страховых компаний, 13 % – медучреждений, то есть системы.
Опыт осознанного противостояния людей и рака длиной почти в век подсказывает: без системной государственной помощи болезнь в обозримом будущем побеждена не будет. Рак слишком опасный, коварный и непредсказуемый противник, в одиночку (будь ты фанатично преданный работе ученый, амбициозная фармкомпания или честное министерство здравоохранения) – любой бессилен.
Одно из важнейших событий в будущей летописи победы над раком произошло 12 января 2016 года: президент США Барак Обама в последний раз обратился к Конгрессу. По сложившейся традиции американский лидер должен был говорить о наиболее важных достижениях, пришедшихся на время его правления, а также о планах на будущее. Собственно, так и вышло. Но был в этой речи один неожиданный поворот: президент Обама объявил о начале нового крестового похода Америки против рака.
Я очень верю, что последнее обращение президента Барака Обамы к Конгрессу войдет в историю. Если это случится, значит, мы приблизились к победе над раком еще на шаг. И это важно. Потому что по большому счету никакие другие победы людям, живущим здесь и сейчас, не нужны. Остановить того, кто убивает самых дорогих и любимых без разбора и скидок на возраст, пол, профессию и вероисповедание, – что может быть важнее?
Кажется, и сам Обама, выступая, понимал: ничего более заслуживающего места в истории в его прощальной речи не было. Настаивая на государственном масштабе объявленной раку войны, президент США сказал: «Мы хотим, чтобы это было таким же прорывом, как полет на Луну». Потому что Луна – это неоспоримый повод для гордости любого американца. На Луну астронавты полетели в 1969-м, в пору президентства Ричарда Никсона. Но чем дальше от этого события, тем очевиднее, что в Большую Историю Никсон войдет не Луной и даже не Уотергейтом, которым столь обидно закончилась его политическая карьера. Чем дальше, тем яснее, что главное свое историческое заявление президент Никсон сделал 23 декабря 1971 года, подписывая Национальную программу борьбы с раком (National Cancer Act, NCA), которая подразумевала неслыханное увеличение финансирования фундаментальной науки. Приоритетными были названы исследования механизмов злокачественной трансформации, молекулярная биология, биохимия и экспериментальная онкология. Координировать «крестовый поход против рака» (так американская пресса назовет эту войну) назначат главу Национального института рака (NCI), созданного, кстати, в 1937 году по прямому указанию другого американского президента – Франклина Рузвельта. И по сию пору институт существует в основном на государственные деньги.
Почти 45 лет назад Никсон полагал, что война против рака будет стоить Америке около 100 миллионов долларов, а продлится пару-тройку десятков лет. В конце 1970-х, когда Никсон уже не был президентом, NCA принесла первые быстрые и воодушевляющие результаты: речь о революции в молекулярной биологии, одно из ключевых достижений которой – открытие гена P53, «сторожевого пса» клетки, главного защитника от рака.
На долгое время это открытие останется одним из немногих светлых пятен в запутанной и полной провалов истории борьбы ученых за право понимать механику развития онкологических процессов, а значит, способов им противодействовать. Легкость, с которой человечеству достался пенициллин (а вслед за ним и другие антибиотики), в онкологии не сработала. Уже в середине 1980-х стало понятно: единого универсального средства победы над раком не будет. Каждый рак будет требовать отдельного исследования, понимания и подбора методов борьбы. Кроме того, спустя четверть века финансирование NCA многократно превысило запланированную сумму, а ее результаты часто становились предметом публичных нападок сторонников какого-нибудь более прагматичного расходования бюджетных средств.
К концу 1990-х ситуация внешне выглядела довольно плачевно – безрезультатно (без ощутимого, сногсшибательного, серьезного результата) потрачены 100 миллиардов долларов. Изнутри всё было иначе: установлены обязательные компоненты трансформированного фенотипа, выявлены мутации, лежащие в основе ракового перерождения клеток, разработаны и внедрены десятки принципиально новых противоопухолевых препаратов. Но главное: по всей стране при крупных онкологических клиниках созданы академические центры, в которых на государственные гранты сутками напролет работают сотни тысяч лучших ученых со всего мира. Эти исследователи ищут и находят молекулы, способные в близком будущем стать спасительными лекарствами.
В 2000-х – первый наглядный результат: на рынок выходят препараты нового поколения – «Гливек» (спасение для пациентов, страдающих хроническим миелолейкозом), «Мабтера» (b-клеточные лимфомы), «Герцептин» (определенные мутации рака груди) и, наконец, «Адцетрис» (рефрактерная, то есть не поддающаяся лечению форма лимфомы Ходжкина), не просто совершившие революцию в лечении некоторых видов онкологических заболеваний, но как следует встряхнувшие представление о том, какой именно станет медицина будущего – узконаправленной, почти индивидуальной, дорогой.
Для американских обывателей итоги «крестового похода» к середине нулевых выглядели следующим образом: несмотря на рост населения, снизилось абсолютное число пациентов, умирающих от онкологических болезней; детскую лейкемию лечат почти поголовно; уровень смертности от рака толстой кишки снизился на 40 %; смертность от рака груди – на 25 %; почти на 70 % снизилась смертность от рака простаты.
Наконец, самое главное – перемены в голове. Америка больше не боится рака. Она учится с ним жить. И побеждать. Раз в год Америка облачается в розовое (розовая ленточка – символ борьбы против «женских раков»), еще раз в год, в movember, – отращивает усы (популярный в США способ выразить солидарность с теми, кто страдает «мужскими» раками). Теперь уже никому не нужно объяснять, зачем тратить огромные деньги на поиски новых способов борьбы против рака, для чего нужны скрининги, зачем и почему следует информировать людей и за руку приводить на плановые медицинские осмотры. Кажется, это знают даже дети: чем раньше обнаружен рак, тем проще его победить.
Еще до исторической речи Обамы NCI анонсировал свой бюджет на 2017 год – это больше пяти миллиардов долларов государственных и частных вложений в исследования и медицинские эксперименты. В том числе около 400 тысяч долларов – в профилактику и разъяснительную работу.
В этом контексте рассказывать о том, как с 2010-го по 2014-й на госпрограмму по борьбе с раком российский Минздрав потратил 47 миллиардов рублей, а потом решил программу закрыть, даже как-то неловко.
И описывать чувства россиянина, впервые столкнувшегося с раком, нечестный прием. Вместо того чтобы стать участником экспериментальной программы по исследованию препарата нового поколения в каком-нибудь серьезном научном федеральном центре, обыкновенный пациент, скорее всего, попадет в районную больницу. И попытается выкарабкаться, получая вместо сертифицированных препаратов нового поколения не всегда прошедшие необходимые исследования дженерики. Индийские, российские, польские. Попытки внедрения в российскую онкологию новых методов и новых технологий – дело совсем не государственной важности, но головная боль и неуемный профессиональный энтузиазм отдельных врачей, позволяющих делать свое дело – лечить.
Собственно, о корпоративную солидарность фармгигантов и недостаток финансирования споткнулся в свое время никсоновский «крестовый поход» против рака. И, судя по всему, именно это препятствие – «доступность для каждого шанса быть спасенным от рака» – имел в виду президент Обама в своей прощальной речи. Два основных «антираковых» пункта этой речи таковы: увеличить частное и государственное финансирование антираковых изысканий, сделать результаты поисков широко доступными, обеспечив на стадии реализации максимальную государственную финансовую поддержку.
Главным в этой новой – антираковой – американской войне Обама назначил вице-президента Джо Байдена, который в 2019-м заявил о том, что готов стать новым американским президентом. И в его предвыборных речах тема войны против рака осталась важным лейтмотивом. Как ни странно, это хороший предвыборный год: для Байдена эта война личная, как личная она и для многих американцев, и для миллионов людей по всему миру. В 2013-м сыну Джо Байдена, генеральному прокурору штата Делавэр Бо Байдену, поставили диагноз – рак головного мозга. Тогдашний действующий президент Барак Обама был в курсе происходящего в семье вице-президента с самого начала и до самого конца. И когда Бо по состоянию здоровья был вынужден покинуть пост генпрокурора штата, а семья столкнулась с финансовыми трудностями, американский президент предложил Байденам финансовую помощь. Она не потребовалась. Бо Байден умер в мае 2015 года в возрасте 46 лет. В таких случаях принято говорить: медицина оказалась бессильной.
Но ведь еще несколько лет назад пациенту с таким, как у Бо Байдена, раком обещали всего лишь два-три месяца жизни. А Байден-младший прожил три года, имея возможность работать, строить планы, быть отцом и мужем. Это не делает смерть и потерю менее горькой. Но дает стимул двигать науку и медицину вперед, чтобы следующие больные жили еще дольше и еще полноценнее, отвоевывая у рака новые и новые рубежи.
Именно поэтому Джо Байден – лучший полководец в американской (и общемировой) войне против рака. Для него, как и для сотен миллионов людей на земле, эта война очень личная штука. И в ней обязательно следует победить.
Глава 19
«Война против рака – очень личная штука; и в ней обязательно следует победить» – один из наиболее часто цитируемых бывшим американским вице-президентом Байденом фрагмент книжки французско-американского ученого Давида Серван-Шрейбера. Семья Байдена в многочисленных интервью с благодарностью говорила об опыте борьбы и стойкости, который преподала им книга. «Серван-Шрейбер – тот самый человек, благодаря которому я понял, сколько от нас самих зависит в лечении. И еще, что борьба против болезни – это в каждом конкретном случае командный вид спорта», – сказал Джо Байден в интервью американскому телеведущему Ларри Кингу. И припомнил один из наиболее драматических моментов книги «Антирак»: после очередного лечения Серван-Шрейбер спрашивает лечащего врача: «Чем лично я могу помочь своему лечению? Будут ли у вас рекомендации, связанные с образом жизни, пищевыми, бытовыми привычками, которые помогли бы мне отсрочить рецидив или даже раз и навсегда отменить болезнь?» Доктор (дело происходило в самом начале 1990-х годов) молча разводит руками: мы ничего об этом не знаем.
В «Антираке» Серван-Шрейбер уже приводит исследования о том, что активность клеток-киллеров (умеющих противостоять онкологическим клеткам) очень связана с индивидуальными особенностями пациента (или потенциального пациента, или пациента, находящегося в ремиссии, ведь понятно же, что роль NK-клеток крайней важна именно в этих состояниях). У кого-то клетки-киллеры активны, многочисленны и боевиты – он хорошо защищен. У другого – внутренняя полиция ленива и неповоротлива. Значит, у рака больше шансов. В одном из первых изданий «Антирака» профессор Давид Серван-Шрейбер попытался доказать: NK-клетки можно взбодрить извне. «До опытов на Могучем Мышонке и его потомстве никто не мог ожидать, что иммунная система способна мобилизоваться до такой степени, чтобы суметь переварить рак, весящий 10 % от общего веса пациента, – пишет Шрейбер в своей книге. – Никто не мог даже вообразить этого! Господствующий консенсус по поводу пределов возможностей иммунной системы, без сомнения, помешал бы классическому иммунологу уделить внимание феноменальному здоровью Мыши Номер Шесть. Чжен Цуй, до встречи с Могучим Мышонком ничего не понимавший в иммунологии вне пределов школьной программы, рассказывал мне, какими словами его поздравлял с удавшимся экспериментом доктор Ллойд Оулд, профессор иммунологии рака в Онкологическом центре Слоан-Кеттеринг в Нью-Йорке: «Мы можем поздравить себя с тем, что вы не были иммунологом. Если бы это было не так, то вы, конечно, избавились бы от этой мыши без колебаний…» На что Чжен Цуй ответил: «Скорее, мы можем поздравить себя с тем, что Природа никогда не читала наших учебников!»
По мнению профессора, колоссальная сопротивляемость Могучего Мышонка была связана с его генами. Но что делать всем тем, кто, как я или, может быть, вы, обделен такими исключительными генами? До какой степени можно рассчитывать на «базовую» иммунную систему? Ответ на этот вопрос основывается на боеспособности лейкоцитов, важнейших элементов нашего умения расстроить замыслы рака. Мы можем стимулировать их жизненную силу или как минимум мы можем противостоять попыткам тормозить ее. Супермыши преуспевают в этом как никто другой, но каждый из нас может «толкать» свои лейкоциты к тому, чтобы они максимально проявили себя перед лицом рака. Многочисленные исследования показывают, что, как все солдаты, лейкоциты человека сражаются тем лучше, чем, во-первых, уважительнее к ним относятся, и, во-вторых, если офицер (то есть хозяин, обладатель организма) сохраняет хладнокровие, управляет своими эмоциями и действует спокойно. Различные исследования о деятельности лейкоцитов (в том числе NK-клеток) показывают, что они демонстрируют свой наилучший уровень тогда, когда наше питание разумно, когда наше окружение «пригодно», когда наша физическая активность пробуждает всё наше тело (а не только мозги и руки). У меня есть данные исследований о том, что некоторые виды пищи содержат очень эффективные антираковые химические элементы. Такая еда стимулирует нашу внутреннюю полицию, например, клетки-убийцы. Лейкоциты, и я готов это доказать тысячами примеров (такие примеры Серван-Шрейбер действительно приводит в своей книге «Антирак». – К. Г.), также чувствительны к нашим эмоциям, реагируют положительно на состояния, когда господствуют радость и ощущение связи с теми, кто нас окружает. Всё происходит так, как будто иммунные клетки мобилизуются, находясь на службе у жизни, которая объективно стоит того, чтобы ее прожить».
Сейчас это кажется банальным, но в середине 1990-х профессор Давид Серван-Шрейбер был первым, кто сообщил миру о том, что коровы, которые питаются некачественной или экологически загрязненной едой, и сами не могут стать едой полезной. Что мясоедение вообще штука сомнительная, а вот рыба и морепродукты – совсем наоборот. В своих рекомендациях красное мясо профессор завещал есть не чаще двух раз в неделю. Зато настаивал на невероятно полезных свойствах брокколи и прочих крестоцветных, оливкового масла, зеленого чая, куркумы, китайских грибов, малины, помидоров. И да, красного вина. Его профессор рекомендовал пить ежедневно. Но не больше двух бокалов в день.
Вот пример одной из простейших таблиц из правил жизни Давида Серван-Шрейбера. Кажется, ничего принципиально нового: хорошее в хорошем столбике, плохое – в плохом. Но кто и когда уделял хорошему и плохому пристальное внимание и действительно всерьез верил, что соблюдение этих элементарных правил может спасти от самой страшной и загадочной из существующих в современном мире болезней?
Это никак не противоречит традиционным медицинским методикам и не заменяет лечение, если болезнь случилась. Открытие состоит в том, что до сих пор в онкологии было принято: врачи лечат исключительно лекарствами. Между тем у природы тоже есть что предложить. До сих пор не нашлось ни одного медика, кто поспорил бы с выводами Серван-Шрейбера. Но он первый утверждал: есть доступные каждому методы заставить рак пойти на попятный. Спустя десятилетия после первых попыток Шрейбера заявить о необходимости «нового образа жизни» серьезные медицинские и научные сообщества станут тратить сумасшедшие деньги на изучение антираковых свойств тех или иных продуктов. Это станет национальными программами в развитых странах.
Удивительным образом программа по исследованию антираковых свойств брокколи стоимостью 60 миллионов долларов, проведенная американским Национальным институтом рака, придет к тем же выводам, что десять лет назад профессор Серван-Шрейбер: брокколи при ежедневном употреблении в пищу действительно повышает защитные свойства организма и активизирует NK-клетки.
Откровенно говоря, в проекте #победитьрак многие вещи оказывались связанными между собой помимо моей авторской воли: иногда мне даже казалось, что это не я выдумываю сценарные ходы, а кто-то другой, умный и проницательный, до кого мне еще очень и очень далеко. Очередное странное совпадение, связанное с Давидом Серван-Шрейбером, произошло во время интервью со Львом Бруни. На прикроватной тумбочке замечаю вдруг знакомую обложку «Антирак», французское издание. Откуда?
Лев Иванович берет в руки книгу и читает записку, вложенную в нее: «Дорогой друг, я только что прочел эту книгу и думаю, что она может помочь тебе в твоей борьбе с болезнью». Оказалось, один из французских приятелей Бруни, узнав о том, что Лев Иванович заболел, прислал книгу в Москву срочной бандеролью.
«Антирак» Бруни воспринял даже не как соломинку – как руководство к действию: «Она мне очень понравилась по темпераменту, и поскольку я почувствовал себя лучше, я стал очень внимательно ее читать и практически тут же стал по ней жить, используя все те рекомендации и рецепты, а главное – тот жизненный настрой, который пропагандирует в своей книге Серван-Шрейбер. И оказалось, что эта самая «антираковая диета» – не какая-то унылая и удручающая повинность больного. Оказалось, что это просто здоровый, но научно обоснованный образ жизни. И вдруг выяснилось, что есть масса вкусных вещей, которые даже в моем плачевном положении можно есть и получать удовольствие. Я выучил систему омега-жиров, стал следовать ей – начал чувствовать себя лучше. Выяснилось, что можно есть острое, что много чего мне можно есть, чего не значилось в коротеньком листочке с диетой, который мне вручили в больнице».
Всё это Бруни рассказывает, угощая изумительно вкусными щами, приготовленными сообразно рекомендациям Серван-Шрейбера. И добавляет: «Знаете, Катя, я так, честно говоря, мечтал встретиться с профессором, пожать ему руку, поблагодарить за подаренное мне время и удовольствие от жизни. Жалею, что не успел. Мы же как раз были весной рядом с Францией, могли бы заехать. Всё думал – успеется, в другой раз».
«Но сам факт смерти Давида разве не оспаривает его теорию? Ведь выходит, что его самого система «Антирак» не спасла…» – недоумеваю я. Бруни взрывается: «Какие должны быть еще аргументы, Катя, кроме его собственного примера?! Человек не хотел умирать, пересмотрел всю свою жизнь, и прожил двадцать лет полноценно. ДВАДЦАТЬ лет вместо отпущенных шести месяцев. Неужели это непонятно? И неужели это не доказательство и нужны какие-то еще аргументы?! Я, или люди, оказавшиеся в таком же, как я, положении и состоянии, молятся, чтобы еще хоть на несколько недель, на несколько месяцев продлить свою жизнь. А здесь – 20 лет. И за эти 20 лет он женился, развелся, опять женился, родил детей и, главное, вдохнул надежду в огромное количество людей. Эти 20 лет и его жизнь в эти 20 лет – лучшее доказательство того, насколько верна и полезна система «Антирак»«.
Сегодня многое из того, о чем говорил Серван-Шрейбер, стало общим местом популярных статей о здоровом образе жизни: речь о вреде курения, жирной, жареной, генетически модифицированной еды.
Помимо прочих маленьких, но важных открытий, профессор поделился с последователями важностью в антираковой диете продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами: это рыба, льняное масло и орехи, и вреде омега-6 жирных кислот: обычное молоко, масло, суррогатные жиры. Теперь, когда в Европе и Америке омега-3 продаются в виде пузырьков с витаминами для детей и взрослых, а цивилизованный мир помешался на здоровом образе жизни, выводы и умозаключения Серван-Шрейбера кажутся, конечно, очевидными. Там. У них. На Западе. Россия же, всего два с половиной десятка лет назад справившаяся с продуктовым дефицитом, только начинает узнавать о том, что такое хорошо, а что такое плохо для человеческого организма. И потому нам приходится познавать все «прописные истины» Серван-Шрейбера не постепенно, а разом: и про то, что онкология – часть жизни в XXI веке; и про то, что у организма есть ресурсы бороться с раком.
Однако, по мнению доктора Михаила Ласкова, ставшего консультантом этой книги, труд Давида Серван-Шрейбера не может и не должен восприниматься пациентами как непосредственное руководство к действию и истинная инструкция по борьбе с болезнью: «Я часто сталкиваюсь с больными, которые, прочитав «Антирак», приходят на прием, будучи убеждены, что нехитрый набор действий, главное из которых – диета, поможет им победить рак. Эти люди как будто «дописывают» книгу Серван-Шрейбера в голове так, как уже им самим кажется правильным, – говорит Ласков. – Это очень вредит конструктивному лечению. В головах у таких пациентов укореняется мысль, что смена пищевых и бытовых привычек едва ли не важнее химиотерапии. Это, увы, не так. Я не умаляю заслуг автора «Антирака», боровшегося с болезнью 20 лет, в том числе и с помощью диеты. Но этого мало. Его книга – это индивидуальный опыт одного-единственного пациента, на котором нельзя строить никаких выводов для других пациентов». В онкологии, говорит Ласков, есть термин – exceptional survivors – исключительные истории борьбы и победы над болезнью, какие бывают в профессиональной карьере каждого врача. «Отдавая должность мужеству каждого такого исключительного борца и победителя, нельзя и даже вредно экстраполировать этот опыт на всех остальных. Да, подобные истории – хороший ответ на психологическую незрелость и онкологических пациентов, и родственников, всем нам нужна вербализация надежды, построенная на чуде и авторитете тайны. Но, увы, медицина чаще имеет дело не с чудесами, а с реальными историями, реальными протоколами лечения. Как дополнительный материал книга Серван-Шрейбера хороша. Но делать из нее Библию мне кажется неправильным и даже вредным», – считает Ласков.
Вместе с продуктовыми рекомендациями последователи профессора должны уяснить и то, что рак – это не проказа и не проклятие. Кроме того, в современном научном мире уже есть кое-какие достижения, способные подготовить человека к встрече с предначертанным ему раком. Или постараться отодвинуть эту встречу на как можно более дальний срок. Это и есть ответ на расхожий вопрос обывателей: «Когда надо начинать бояться рака и как самому найти его у себя?»
Итак, возможно ли обмануть свой рак и существует ли профилактика онкологических заболеваний?
Вместе с онкологом, консультантом этой книги Михаилом Ласковым мы постарались ответить на семь самых распространенных обывательских вопросов в этой области.
1. Можно ли «поймать» рак до того, как он появился? Поймать нельзя, но некоторые раки можно профилактировать. Первое, что помогает это сделать, – скрининг. С его помощью мы можем выявить опухоль или предопухолевые изменения у людей, у которых нет никаких симптомов, жалоб и желания пойти обследоваться. Просто они по возрасту или каким-то другим показателям входят в группу риска по какому-то конкретному заболеванию. Второе – ранняя диагностика. Она начинается, когда уже есть первые симптомы или жалобы, пусть и самые безобидные.
2. Что такое первые симптомы? Человека может уже что-то беспокоить, но он не связывает это с развитием онкологического заболевания. Например, если у курильщика изменился характер кашля, он должен пойти к врачу. Важно, что одно обследование может использоваться и при скрининге, и при ранней диагностике. Например, женщина пришла с жалобами на какое-то образование в молочной железе. Ее не послали на три месяца собирать анализы и консультироваться с кардиологом, а сразу в этот же день сделали маммографию. В данном случае это – ранняя диагностика. А вот если у 50-летней женщины нет никаких симптомов, но ей приходит приглашение сделать маммографию, то это уже скрининг. Потому что обследование делается, когда никаких симптомов нет.
3. Какие скрининговые исследования имеет смысл проходить, если я хочу себя обезопасить? Существует три главные скрининговые программы: колоректального рака (рак кишечника), рака шейки матки и молочной железы. Для каждой есть четкие возрастные рамки. Для каждого возраста – рекомендуемая частота повторения скрининга. Всё это сейчас в России возможно пройти по ОМС. Ваш терапевт или районный онколог обязан рассказать вам о том, какой скрининг вам рекомендован и когда его необходимо повторить, не стесняйтесь спрашивать. Следует помнить, что избыточное количество исследований, «перепрофилактика» и «гиперскрининг» вредны для человека, это тот случай, когда меньше знаешь – крепче спишь. В конце этой книги вы найдете таблицу необходимых скринингов.
4. Скрининг учитывает проблемы наследственности? Программы скрининга, которые существуют, обязательно надо модифицировать, если известно, что, например, у родственника была опухоль с генетическим синдромом. Если кто-то в молодом возрасте заболевает колоректальным раком, то, скорее всего, там есть генетическая аномалия и нужно обязательно сделать анализ на ее выявление. И если мутация подтвердится, высока вероятность, что и у родственников она есть. Значит, скрининг для родственников пациента должен начаться не в 50 лет, а раньше, и обследования должны проходить чаще, и смотреть нужно другими методами, более интенсивными, потому что риск заболеть высок. Методы типирования генов и изучения опухоли уже доступны в крупных российских городах.
5. Что человек должен знать о своих родственниках? До какого колена? Всегда, когда есть родственники с онкологическим диагнозом, процент риска чуть выше, особенно если эти опухоли были выявлены в молодом возрасте. Но нужно понимать, что подавляющее большинство таких заболеваний, как рак желудка или рак легких, обусловлены не генетикой, а внешними факторами. Например, к раку желудка среди множества других факторов ведет инфицированность Хеликобактер пилори.
6. Что такое по-настоящему здоровый образ жизни? Чего нельзя делать? Самый главный способ профилактики рака, как это ни банально, здоровый образ жизни: отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, подвижный образ жизни, диета, богатая овощами и фруктами, отказ от мясных полуфабрикатов – этого уже достаточно, чтобы снизить риск развития онкологического заболевания более чем на треть. Небольшая физическая нагрузка, будь то часовая прогулка или поездка на велосипеде, может стать той небольшой, но значимой профилактикой уже сейчас для каждого из нас. Любой человек, который хочет обмануть свой рак, обязан бросить курить: табак ежегодно является причиной шести миллионов смертей в мире, но главная трагедия заключается в том, что это устранимый фактор. И, разумеется, солнцезащитные кремы: вы пользуетесь ими не потому, что не хотите (или хотите) загореть, а потому, что защищаете кожу от прямого воздействия ультрафиолета, который является фактором риска возникновения меланомы (рака кожи).
7. Как реагировать на публикации из серии «британские ученые доказали»? Можно ли верить таким публикациям? Если верить им, то выходит, что болезнь Альцгеймера уже побеждена и много лет успешно лечится, что рак молочной железы лечат тремястами разными способами, а разнообразным червям и крысам из популярных публикаций уже настолько долго продлили жизнь, что они должны доживать лет до трехсот как минимум.
К сожалению, это не так. Любое исследование дополняет уже имеющийся большой массив данных. И надо смотреть на то, что это исследование добавляет. Если «британские ученые» пишут, что кофе повышает рак развития поджелудочной железы, надо посмотреть, что выявили другие ученые. Возможно, эти конкретные специалисты не учли, что люди, которые пьют кофе, еще и курят. Как правило, в зарубежной журналистике все эти статьи следующими абзацами после новости перечисляют предыдущие данные. И вот на них надо обращать пристальное внимание. И, конечно, никто не отменял здравый смысл и здоровую критику. А если пользоваться адекватными сетевыми научными и медицинскими ресурсами, то любое исследование и публикацию можно критически оценить, но этому тоже надо учиться.
Я попросила лучших онкологов страны, экспертов #победитьрак, дополнить эти общие рекомендации индивидуальными. Вот они:
РАШИДА ОРЛОВА, руководитель специализированного центра онкологии, главный онколог КБ № 122, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии СПбГУ: «Самый первый и самый простой ответ – любите себя. И точно так же, как дважды в год вы берете отпуск и отправляетесь отдыхать, заведите привычку сдавать анализы. Просто пойдите в районную поликлинику, сдайте общий анализ крови и покажите его терапевту: есть ли повод волноваться?»
КАПИТОЛИНА МЕЛКОВА, врач-гематолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением трансплантации костного мозга и интенсивной химиотерапии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина»: «Иногда терапевту не до вас. Добивайтесь, чтобы вам ответили понятным вам языком на те вопросы, которые вы задаете врачу. Если вы эти ответы получите после обследования или разговора с врачом, живите спокойно и не бойтесь. Но помните: своевременное обследование однажды может спасти вашу жизнь. Если же предварительный диагноз поставлен – не зацикливайтесь на этом. Постарайтесь найти кого-то, кто сможет составить второе мнение. В медицине это чрезвычайно важно».
ДМИТРИЙ ПУШКАРЬ, профессор, главный уролог Минздрава России: «Рак – это каждодневная ситуация, с которой нужно бороться: физическая нагрузка, правильное питание, режим. Постарайтесь меньше употреблять или вовсе не употреблять сахар, ограничить жирное, острое, жареное. Постарайтесь не жить и не работать «на износ». Чтобы у организма оставались силы на ежедневную борьбу с раком, ведь такая борьба идет, это не пустые слова. Бросьте курить, употребляйте красное вино, бегайте, прыгайте, чтоб была одышка, чтоб была мокрая майка. Это профилактика».
АЛЕКСАНДР КАРАЧУНСКИЙ, доктор медицинских наук, профессор, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»: «Старайтесь задумываться, в каком мире вы живете: дышите ли вы свежим воздухом, есть ли у вас физическая нагрузка, достаточно ли в вашей жизни положительных эмоций. Это всё очень важно. И постарайтесь, конечно, избавиться от вредных привычек. «Шашлычок под коньячок» – двойной канцерогенный фактор. Картошечка, жаренная на масле, а сверху жирный тортик – это, конечно, вкусно. Но в ежедневном режиме – вредно. Приучите себя к здоровой еде, к здоровому воздуху, к здоровому образу жизни».
АЛЕКСЕЙ МАСЧАН, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва»: «Есть ряд глупостей, которые лучше не делать, чтобы не заболеть раком, и это абсолютно очевидно. К ним, безусловно, относится курение, хотя мы прекрасно знаем, что не у всех курение способствует возникновению рака, но все-таки это один из важных, я бы даже сказал, важнейших факторов. Загорать следует только с солнцезащитным кремом высокой степени защиты, потому что второй наиболее важный канцерогенный фактор – это солнечный свет. Большинство из нас – белокожие люди. Мы физиологически не приспособлены для загорания».
РАШИДА ОРЛОВА: «Не загоняйте себя в угол. Понимаю, это трудновыполнимая рекомендация, но все же не загоняйте себя в угол. Давайте эмоциям выход, не поддавайтесь депрессии. Если она пришла – обратитесь к специалисту. Депрессия – это важный фактор канцерогенеза».
ДМИТРИЙ ПУШКАРЬ: «Старайтесь не есть то мясо, в происхождении которого вы не уверены. Любое красное мясо старайтесь есть не чаще одного, максимум двух раз в неделю. Жирное, жареное, сладкое, соленое – пусть останутся в прошлой жизни. Зеленые, сырые овощи и фрукты, на пару, на гриле: капуста, брокколи, спаржа, сельдерей, помидоры, болгарский перец, оливковое масло первого отжима (extra virgin), кукурузное масло, кедровое масло, кунжутное масло. А вот сливочного – поменьше. Пожалуйста, помните, самая здоровая в мире кухня – средиземноморская: большие сытные салаты на оливковом масле и рыба на гриле или углях. И красное вино. Это здоровая и вкусная еда».
КАПИТОЛИНА МЕЛКОВА: «Отдельная статья профилактики – мужские и женские раки. Именно с ними человек в первую очередь может бороться самостоятельно. Во-первых, прививки. Девочкам можно и нужно делать прививку от папилломавируса. Эта прививка уже доступна на всей территории Российской Федерации».
ДМИТРИЙ ПУШКАРЬ: «Для профилактики рака простаты мы рекомендуем мужчине воздерживаться от потребления животных жиров. Это не так просто: животные жиры – это практически все продукты, которые мы потребляем в средней полосе России. Мясо, молоко, яйца, масло, творог – продукты, которые влияют на развитие рака простаты. И если мы стараемся избавить пациента в перспективе от рака простаты, первое, что мы рекомендуем, – ограничить их потребление. А каждая женщина должна научиться осматривать свои молочные железы самостоятельно. Есть миллион пособий. Во время принятия душа, во время гигиенических процедур, просто буднично профилактически осматривать себя – нет ли каких-то образований в молочной железе. Если что-то смущает, не надо тянуть – сразу к доктору».
НАТАЛЬЯ МЯКОВА, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением онкогематологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва»: «Не запускайте свои болезни. Если у человека всё время наблюдается какое-то хроническое воспаление, туда всё время приходят клетки, которые борются с этим воспалением, они там делятся и размножаются, и если при этом еще что-то неправильное происходит с иммунным ответом организма, то создается более высокая вероятность того, что в клетках что-нибудь сломается в процессе этого деления. Простой пример уже доказанной взаимосвязи возникновения опухолей кишечника с болезнью Крона, хроническим воспалительным процессом на фоне иммуноподавляющей терапии. Есть и стопроцентные причинно-следственные связи: если ходить в голом виде по пляжу в Австралии, то вероятность развития меланомы возрастет; если облучить грудную клетку, то возрастет риск развития рака молочной железы. Это однозначно доказанное мутагенное поведение, которого следует избегать».
МИХАИЛ ДАВЫДОВ, профессор, один из ведущих мировых хирургов-онкологов, главный онколог «МЕДСИ», бывший директор РОНЦ им. Блохина: «Постарайтесь выяснить медицинскую историю своей семьи: от чего умерли бабушка и дедушка, их родственники. Если рак, особенно в ранней стадии, частое явление в вашей семье, вы должны проходить регулярные обследования чаще, чем остальные люди, быть к себе внимательнее. Приход к врачу и обследование раз в полгода – это попытка выявить возможную опухоль на ранней стадии, это раздел скрининга и поиска раннего рака, для того чтобы эффективно его лечить. Специализированные анализы уже существуют в лабораториях по всей стране».
ДАНИИЛ СТРОЯКОВСКИЙ, кандидат медицинских наук, заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й больницы г. Москвы: «С превентивной диагностикой большие сложности. И даже в том, чтобы сам диагноз рано поставить. А в том, нужно ли его ставить, – вот это очень важный вопрос. Бесконечно все говорят об эпидемии раков. Но это не заболеваемость подскочила, это диагностика улучшилась. Иногда это даже вредно для здоровья пациентов. Так что мой совет: живите спокойно, проходите регулярные, рекомендованные вашим врачом проверки, не делайте глупостей (курение, алкоголь, незащищенный загар, жирное и чересчур жаренное), регулярно занимайтесь спортом. И, главное: будьте спокойны и уверены в завтрашнем дне. Это, пожалуй, главная помощь, которую вы можете оказать вашему организму в его ежедневной борьбе против раковых клеток».
И, наконец, один из самых важных вопросов, которые задает себе человек с нормальной для XXI века онкологической настороженностью: «Как узнать, что мне пора идти к онкологу?»
Нет на свете человека, который не боялся бы заболеть раком, чего тут скрывать. Но в своем страхе обычные люди делятся на две категории. Одни постоянно к себе прислушиваются, сомневаются, переживают, изводят себя и окружающих (в том числе и врачей) вопросами о том, какой рак в них «спит и вот-вот проснется». В общении с такими людьми – они называются канцерофобами – врачи стараются снизить уровень тревожности. Другие пациенты, напротив, полагают, что чем дольше они не будут ходить к врачам, чем меньше будут знать о своем организме, тем здоровее будут. «Один раз придешь на прием к доктору, потом всю жизнь проведешь в больнице», – говорят они. Эти люди, наоборот, нуждаются в стимулировании чувства ответственности по отношению к себе и близким, на плечи которых, в случае чего, будут возложены внушительные бытовые и материальные нагрузки.
Правда о том, как в ежедневном режиме – спокойно или с повышенным вниманием – относиться к вероятности того, что однажды в жизни вам придется встретиться с онкологическим заболеванием, находится где-то посередине.
Вначале успокоим тревожных читателей: если в последнее время вы резко, против своей воли, не худели; у вас нет постоянных, становящихся интенсивными болей; на вашем теле не возникали шишки; не увеличивались лимфоузлы; вы не обнаруживали в груди растущих уплотнений; ваша температура не была постоянно повышенной – стойко выше 38С; вы не чувствовали резко возросшей утомляемости и слабости; не теряли несколько раз подряд сознание; если в вашей моче не было крови; у вас не было затруднено глотание; скорее всего, никакого смысла сломя голову бежать к онкологу у вас нет. Исключения составляют люди, в чьей семейной истории были случаи повторяющихся онкологических заболеваний, например рака яичников, рака матки, рака простаты, рака кишечника, некоторых типов рака легкого. Как правило, график регулярных осмотров для таких людей составляет семейный врач (терапевт или онколог) в индивидуальном порядке.
Ко всем остальным применим универсальный совет: «Живи как жил, но регулярно обследуйся».
Теперь важный вопрос: «А когда все-таки надо бежать к онкологу?»
Чтобы ответить подробно, напомню: онколог – это врач, выполняющий диагностику и лечение опухолевых образований доброкачественного и злокачественного характера. В компетенции врача-онколога – диагностика и лечение опухолей, а также изучение возможностей преобразования доброкачественных опухолей в злокачественные.
К врачу-онкологу следует, не откладывая, записаться, если:
– у вас есть признаки кровотечения из внутренних органов;
– вы резко потеряли в весе, не переменив образа жизни;
– появились любые кожные новообразования, заметные изменения родинок, бородавок, полипов и т. д., особенно с кровоточивостью;
– прощупываются уплотнения в любой части тела, особенно в молочных железах. Есть увеличение и уплотнение лимфатических узлов;
– случается необъяснимое и длительное лихорадочное состояние, боли, повышение температуры стабильно выше 38 °C;
– возникают постоянные резкие и необъяснимые головные боли, ухудшение зрения, слуха или координации;
– вы заметили у себя необычные выделения из молочных желез и прямой кишки;
– вы чувствуете резкое ухудшение самочувствия, снижение аппетита, иногда тошноту;
– появилось длительное ощущение дискомфорта в каком-либо органе – першение или сдавливание в горле, давление в области грудины, брюшной полости или малого таза.
Если у человека что-то долго, непривычно и нестерпимо болит, не надо бояться и откладывать поход к врачу и необходимые исследования, потому что в большинстве случаев на ранних стадиях рак прекрасно оперируется и лечится. А перенесший его человек будет в будущем жить совершенно полноценной жизнью.
Глава 20
В мире, где рак, в конечном итоге, ожидает каждого третьего жителя планеты, заранее знать о надвигающейся болезни полезно и нам самим, и врачам, которые нас, вероятнее всего, будут лечить. За первые десять лет XXI века развитые страны потратили на разработку и пропаганду массовых скрининговых программ больше двух триллионов долларов, ожидается, что траты во втором десятилетии вырастут как минимум втрое. Ранняя диагностика и умение использовать ее результаты – ноу-хау тысячелетия. Работает это следующим образом: научно-исследовательские центры, где были разработаны методы, касающиеся сверхранней диагностики определенного вида рака, объявляют о бесплатных программах обследования пациентов из потенциальных групп риска: имеется в виду пол, возраст, наследственность, среда, пищевая культура, экология и, наконец, профессия. Деньгами на обеспечение высокого качества этой процедуры, как правило, помогают большие профильные корпорации: например, национальный американский Институт рака или Международное агентство по изучению рака (Лион); бизнес-гигант AVON, поддерживающий борьбу против рака груди и все исследования, с этим связанные; корпорация PHILLIPS, крупнейший производитель маммографов; фармкомпания NOVARTIS, выпускающая химиопрепараты для терапии рака молочной железы; пациентская организация «Женское здоровье», помогающая как предупредить развитие рака, так и маршрутизировать лечение в случае возникновения болезни. Это неполный список. Для всех участников исследования всесторонне полезны: профилактика и приведение в соответствие с действительностью статистической базы, движение вперед с точки зрения науки и, конечно, нормализация отношения общества к болезни и к тем, кто болеет.
В одной из самых прогрессивных современных исследовательских скрининговых лабораторий – лаборатории профессора Фарелла из Калифорнии – наша встреча с врачами и учеными начинается парадоксальным образом. Профессор зачитывает мне фрагмент из открытого письма руководителя корпорации Apple Стива Джобса. Джобс написал его 9 января 2009 года: «На прошлой неделе я узнал, что проблемы со здоровьем куда серьезнее, чем предполагалось. И гораздо серьезнее, чем я их воспринимал. Не скрою, я сожалею о том, что по неверию или самонадеянности не положился на современный и, как оказалось, довольно высокий уровень развития диагностики и превентивных методик, которые могу оценить лишь задним числом и, увы, теперь уже бесполезно для себя».
Я молча слушаю, киваю, еще не до конца понимая, к чему клонит профессор. Дочитав, мистер Фарелл аккуратно складывает листок вчетверо и кладет в карман халата: «Если бы подобный скрининг был придуман всего на десять лет раньше, жизнь Стива Джобса могла бы и быть подлиннее, и сложиться совершенно иначе. Разумеется, при условии, что мистер Джобс был бы посговорчивее и больше бы верил в медицину. (Известно, что в первые несколько лет своей болезни, рака поджелудочной железы, Стив Джобс действительно предпочитал тибетских целителей представителям официальной медицины. – К. Г.)
Мы разработали диагностическую панель макробиомаркеров в слюне, которые различаются у здоровых людей и пациентов с болезнями поджелудочной железы. Мы уже умеем в 95 % случаев предсказывать риск развития рака поджелудочной железы. И я могу сказать, что даже такой агрессивный и нетипичный рак, как у Стива Джобса, мы могли бы если не остановить, то приостановить и продлить тем самым мистеру Джобсу жизнь. Жаль, время и наше отношение к себе нельзя анализировать задним числом».
Профессор вздыхает и, заявив, что больше времени на интервью у него нет, предлагает просто проследовать за ним в его рабочий кабинет. Вдоль коридора, ведущего к двери профессора, сидит очередь из людей, пришедших на придуманный доктором Фареллом скрининг. Никто не выглядит напуганным, наоборот, каждый уверен: он вытащил счастливый билет, вовремя узнав о том, что во всемирно известной лаборатории в течение этой недели будут проводить бесплатные скрининги для всех желающих.
К людям в очереди подходит ассистент Фарелла, доктор Дэвид, представляется: «Здравствуйте, меня зовут Дэвид, я врач, ведущий исследование биомаркеров, определяющих рак поджелудочной железы. Нам нужно ваше письменное согласие на то, что вы разрешаете нам брать у вас образец слюны, хранить его и уничтожать по своему усмотрению в пределах нашего университета. Пожалуйста, прочтите (достает документы) и подпишите. Я буду рад ответить на ваши вопросы».
Лаборатория профессора Фарелла в Калифорнии – первая в мире, где пытаются поставить преддиагностику самого необузданного из раков – поджелудочной железы – на поток. Первые массовые скрининги здесь были запущены в 2012-м.
Так потихоньку во всем мире приживается идея превратить регулярную преддиагностику в нечто обычное и само собой разумеющееся, но существенно упрощающее жизнь и самому пациенту, и лечащему врачу. «Раз уж эту статистику отменить нельзя, надо пытаться переиграть рак на его поле: «поймать» тогда, когда еще возможно практически без потерь вылечить. Тут всё, как правило, просто: чем меньше стадия, тем легче вылечить. Но проблема в том, что на ранней, сверхранней стадии нет никаких симптомов. То есть не только боли нет, но нет никакого дискомфорта, никаких подозрений, ничего такого, что могло бы насторожить. Именно поэтому мы говорим о скрининге – плановом обследовании, способном выявить симптомы», – доктор Михаил Ласков останавливается. Закатывает рукава рубашки, как будто собирается взять лопату и выкопать какую-нибудь специальную скрининговую грядку. Но вместо этого берет листок бумаги и начинает чертить схемы, приговаривая: «Смотрим, как это работает: возьмем рак желудка – один из показательных раков. Поймал на ранней стадии – вылечил, поймал чуть на более поздней стадии – в разы снижаются шансы вылечить. Какие проявления могут быть? Далеко не только боль. Это может быть желудочно-кишечное кровотечение, может быть жидкость в животе, которая возникает уже на более поздних стадиях, дискомфорт при приеме пищи. Чем больше опухоль, тем больше шанс, что эти симптомы разовьются. Это логично, когда что-то маленькое в огороде, его не видно, а когда вырос огромный лопух, то все его увидят невооруженным глазом. Но в такой ситуации победить уже сложно». Я радостно выдыхаю: Ласков не зря закатывал рукава, ему все же пришлось прибегнуть к садово-огородной аналогии.
Но если серьезно, именно на этом основана программа активного скрининга на желудочную опухоль, которую организовали в Японии и Корее. Теперь у них выявляемость рака желудка на ранних стадиях около 70–80 %. В России и на Западе такого скрининга нет, поэтому стадии, на которых обнаруживают заболевание, гораздо более поздние.
«Почему японцы с корейцами это сделали? Не от хорошей жизни – у них частота встречаемости именно рака желудка (это связано в основном с пищевыми привычками) в разы выше, чем в западных странах. Они поняли, что надо с этим что-то делать, это просто угрожает национальной безопасности, и ввели с 70-х годов прошлого века программу скрининга, результатом которой стало раннее выявление рака желудка, высокая излечиваемость, увеличившаяся продолжительность жизни и так далее. Но и тут не всё так просто: скринингом можно побороть только часто встречаемые опухоли, такие, как рак желудка у японцев. С европейцами, у которых рак желудка встречается гораздо реже, такой фокус уже не пройдет», – говорит Ласков.
К сожалению, программы скрининга работают не со всеми раками. Но есть такие, в которых скрининговая бдительность действительно спасает жизнь.
«Вам больше нравятся холодные оттенки или теплые?» – приподняв бровь, спрашивает меня голландский профессор Рууд Пайнэппл, один из авторов национальной скрининговой программы Голландии. И, не дождавшись ответа, уточняет: «Вот, например, вам приятнее было бы сейчас оказаться в осени или в зиме?» Теряюсь, не зная, что ответить. Тем временем свет в комнате для скрининга меняется от зеленоватого до желтого, на стенах шелестят нарисованной листвой березы – действительно, то осенние, то летние, из колонок доносится шум ветра, который от прикосновения профессора Пайнэппла к какой-то невидимой кнопке становится шумом моря или даже шумом падающей воды в водопаде. Так в 2017 году в Голландии выглядит обыкновенный районный скрининговый кабинет, куда раз в год после 40 лет и дважды в год – после 50 имеет возможность бесплатно приходить любая голландка для того, чтобы рак молочной железы, который, по статистике ВОЗ, «светит» каждой седьмой женщине на планете, был «пойман» на ранней, а лучше – сверхранней стадии.
«Когда мы придумывали программы, – рассказывает профессор Пайнэппл, – мы исходили из того, что добраться до скринингового кабинета любая голландка должна не более чем за 15 минут езды на велосипеде, мы все-таки очень голландцы». Рууд Пайнэппл рад удавшейся шутке. И тому эффекту, который произвел на меня этот кабинет для скрининга, больше похожий не на кабинет, а на комнату отдыха.
Рак молочной железы – один из тех, что давно и хорошо известен и медицине, и науке. Среди факторов риска, по словам профессора Надежды Рожковой, заведующей маммологическим отделением в Московском научно-исследовательском онкологическом институте (МНИОИ) имени П. А. Герцена: возраст (группа риска начинается от сорока лет); избыточный вес; отсутствие родов и отказ от кормления грудью; склонность к гинекологическим заболеваниям; наследственная предрасположенность (5–10 % от всех случаев рака молочной железы, как правило, наследственные формы – наиболее агрессивны и хуже поддаются лечению). Согласно статистике ВОЗ, риск заболеть имеет 80 % женщин, имеющих мутацию гена BRCA (в норме подавляющего опухоль).
«В идеальном мире мы должны сделать так, чтобы женщины, имеющие мутацию или наследственные риски, постоянно находились на скрининговом контроле, – говорит профессор Рууд Пайнэппл. – За годы работы нашей Национальной скрининговой программы мы получили данные о том, что на миллион голландок приходится 12,5 % тех, у кого риск заболеть выше, чем у других. Я хотел бы дожить до того момента, когда всем остальным можно будет проходить скрининг реже, чем сейчас рекомендовано ВОЗ, а эти бы женщины находились под постоянным неназойливым и непугающим вниманием врачей. И в случае необходимости получали бы своевременную и качественную медицинскую помощь».
На столе у профессора Пайнэппла тома интервью голландок, которые в рамках исследований взяли специалисты нидерландского Минздрава. В них женщины говорят о том, что они думают о раке молочной железы. Главное слово в этих интервью – страх. В этом смысле голландки мало чем отличаются от женщин всего мира. С конца 1990-х Рууд Пайнэппл и рабочая группа Минздрава работает над тем, чтобы разъяснить соотечественницам: по крайней мере, в отношении этого конкретного заболевания медицина сделала большой шаг вперед.
«Вообще, главная польза от этой сверхранней диагностики состоит в том, что она значительно меняет врачебную тактику», – говорит Надежда Ивановна Рожкова, потрепав желтый первоцвет носочком безупречной лодочки. Хрупкая женщина Надежда Ивановна – большой человек: профессор, руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов, президент Российской ассоциации маммологов, доктор медицинских наук. У Рожковой идеальная фигура и фантастически ухоженное лицо. Во врачебном мире с придыханием рассказывают, что в свободное от научной и медицинской деятельности время Надежда Ивановна участвует в модных показах коллекций для женщин среднего возраста. Доктор Рожкова – модель-волонтер. Мы встречаемся в парке у Новодевичьего монастыря. Надежда Ивановна включает шагомер: «Прогуляемся?» В день профессор приучила себя проходить не меньше десяти тысяч шагов. Но отдельного времени на это нет, поэтому интервью Рожкова дает на бегу: цокает каблуками по асфальтовым дорожкам парка и терпеливо объясняет: «Самое главное, что произошло на сегодняшний день в мировой науке и медицине в отношении рака груди, – это появление новых сверхточных и сверхранних методов диагностики. Раньше мы очень многого не знали о раке: делали калечащие операции, назначали жесткую химиотерапию. Почему? Да потому, что буквально 30–40 лет назад мы выявляли рак молочной железы в первой и второй стадии лишь в 13–16 % случаев. А 50 % заболевших женщин погибали у нас в первые пять лет после операции. Из выживших более 40 % женщин становились инвалидами. Такая статистика, естественно, пугала и пугает женщин. И вот теперь нам надо рассказать о том, что всё изменилось».
Если честно, на сегодняшний день российская статистика не выглядит оптимистично: ежегодно 62 тысячи россиянок получают диагноз – рак молочной железы, 22 тысячи из них каждый год умирают. В большинстве случаев не потому, что их нельзя было вылечить. А потому что диагноз был поставлен в слишком поздней стадии, а по месту жительства не было предложено адекватного лечения. Эта статистика выглядит и вовсе трагичной, если помнить, что особенность рака молочной железы еще и в том, что заводится он нередко и у молодых женщин, мам, которые нужны своим детям. Именно поэтому такой рак во всем мире – отдельная тема: спасая маму, спасают еще и ребенка. Не от рака. От сиротства. По статистике программы «Вместе против рака молочной железы», каждый день в нашей стране, в России, 47 малышей остаются без мамы: мамы этих детей умирают от рака молочной железы, уже давно переставшего быть смертоносным в развитых странах. Жуткие ролики с цифрами смертей и глазами лишившихся мам сирот снимают не российские социальные службы, не Минздрав и даже не активисты из числа медицинских журналистов, а производители иностранных лекарств, пытающиеся работать по международным стандартам в России, и поставщики современного диагностического оборудования, лезущие из кожи вон для того, чтобы поставить на ноги национальную скрининговую программу в России.
Среди докторов, борющихся за доступность российским женщинам препаратов, прописанных во всех международных протоколах лечения рака молочной железы, и профессор Рашида Орлова.
Иногда она устает. Иногда собирается с силами и опять, и опять делает доклады на разных высоких совещаниях с участием государственных медицинских чиновников, доказывая, что лечить и вылечить дешевле, чем не лечить и бросить на произвол судьбы. «Государству воспитание ребенка от рождения до 18 лет, если иметь в виду ныне существующую систему детских домов, обходится в два миллиарда рублей, – рассуждает Орлова. – Представляете, два миллиарда рублей на каждого ребенка, потерявшего мать из-за рака молочной железы. Может быть, эти два миллиарда лучше вложить в ее раннюю диагностику и правильное лечение? Ведь даже если не брать в расчет гуманизм, ответственность и милосердие, если не задумываться о человеческих мелочах, а исходить из математического расчета, неужели лечить не выгоднее?!»
Все просветительские лекции, которые читает профессор Орлова, начинаются с простой статистики: рак молочной железы, обнаруженный на стадиях от нулевой до второй, при своевременной диагностике и правильном лечении гарантирует более чем 94 % пациенток благоприятный прогноз. То есть полноценную и качественную жизнь. На третьей стадии такие гарантии могут получить до 86 % пациенток, на четвертой А стадии – до 35 %.
Сверхранняя диагностика молочной железы может быть проведена единственно возможным способом: с помощью маммографического исследования под контролем хорошо обученного внимательного специалиста. Современный маммограф – правнук великого изобретения, которое сделал 8 ноября 1885 года немецкий физик Вильгельм Рентген. Засидевшись дотемна в лаборатории, он обратил внимание на свечение кристаллов платино-цианистого бария. Свечение то возникало, то пропадало, в зависимости от включения электрического тока. Ученый назвал это явление икс-лучами. Вскоре выяснится, что все природные материалы, кроме свинца, проницаемы для икс-лучей, но в разной степени, а изображение того, что просвечивают эти икс-лучи, можно запечатлеть на фотопленке. Первый известный миру рентгеновский снимок – рука друга Рентгена, зоолога Альберта Кёлликера. Но для того чтобы увидеть внутри человека не только кости, но и мягкие ткани, человечеству потребуется еще почти столетие. В конце 90-х XX века будет изобретен специальный рентген молочной железы. Его назовут по-особенному – маммограф, а новый метод исследования – маммография. От греческого: маммо – молочная железа, графо – записывать. Маммография отныне – самый грамотный способ понять, что происходит внутри женской груди, не оперируя ее.
Современные маммографы – уже цифровые, у врача есть возможность менять яркость снимка, его контраст, увеличивать нужные участки. И если попытаться предложить наглядное объяснение этой технологии, то можно представить себе обычную стопку писчей бумаги: снаружи с обеих сторон всё чисто, но внутрь попала клякса (опухоль) – это внешне незаметный целый слой листов с повторяющимися пятнами. С помощью маммографического исследования можно не только увидеть пятно, но и послойно рассмотреть степень его распространения.
И еще. Вопреки представлениям о том, что само подобное исследование вредит организму, следует знать: при маммографии женщина получает ту же дозу облучения, что каждый пассажир трехчасового авиарейса, например, Москва – Тюмень. Главный вред, который может принести скрининг, – гипердиагностика и выводы, сделанные неквалифицированным специалистом. По словам Михаила Ласкова, «тысячи женщин в России пострадали от скрининга, по итогам которого были выявлены незлокачественные образования – фиброаденомы, и их зачем-то было решено оперировать, хотя требовалось лишь наблюдение».
По словам профессора Рожковой, не следует думать, что любой визит на скрининг должен оканчиваться постановкой диагноза: «По нашей статистике, из 10 тысяч женщин старше сорока лет, которые пройдут скрининговую маммографию, только полпроцента будет направлено на дообследование. Но даже если диагноз подтвердится, он будет поставлен в так называемой сверхранней стадии, дающей широкую возможность для маневра и последующего полного излечения».
К сожалению, в России борьба за постановку сверхраннего диагноза – это выбор и ответственность каждой женщины. Теоретически каждая из нас имеет право на скрининг в рамках программы ОМС, но для этого придется получить направление от районного гинеколога, занять очередь и дождаться ее (в некоторых регионах ожидание может длиться месяцами).
Платная маммография более доступна. Как правило, стоимость коммерческого исследования составляет от полутора до двух с половиной тысяч рублей.
Исследование (вместе с оформлением документов и подготовкой пациентки) длится около часа, его нельзя назвать полностью безболезненным: грудь с двух сторон сдавливает маммографический аппарат, но это происходит в течение нескольких минут. Пошаговая инструкция о том, где, как и каким образом каждая россиянка может пройти маммографический скрининг, описана на сайте программы «Женское здоровье» (женскоездоровье. рф или zhenskoezdorovje.ru). Это одна из важнейших некоммерческих организаций в России, занимающаяся просвещением, помощью в профилактике и реабилитации онкологическим пациентам, а также тем, кто готов предпринять все возможные меры в противостоянии раку.
«Ни таблеток, ни пилюль, ни микстур, ни травки, ни какого-нибудь великолепного средства против рака молочной железы нет. Все женщины одинаковы перед этой болезнью. И наша задача – только суметь ее вовремя диагностировать. И мне приходится изо дня в день доказывать женщинам, что рак молочной железы – хорошо изученная болезнь, против которой уже придуманы все меры, позволяющие с ней бороться. Но эффективность этих мер в 100 % случаев зависит от своевременности постановки диагноза. В третьей стадии мы не можем каждую женщину вылечить, а в первой мы можем гарантировать женщинам выздоровление более чем в 94 % случаев. Это очень высокий процент!» – говорит профессор Рожкова.
Если честно, то 94 % – это целая жизнь. Цена которой для женщины – внимательность к себе и час свободного времени в год (после 50 лет) на посещение маммолога и гинеколога.
«Вот это и есть тот самый водораздел, когда мы не просто боимся рака и умозрительно прикидываем, что мы такого можем сделать, чтобы спастись, но действительно что-то конкретное делаем. В XXI веке есть диагностические средства, которые позволяют мне как пациенту максимально увеличить свои шансы на выживаемость. И мне, как врачу, сделать максимум возможного для пациента. Но это всё находится в зоне ответственности пациента, увы. Я как врач не могу бегать по улице с плакатом: «Люди, будьте бдительны!» Вот вы сейчас ко мне пришли и сказали, что хотите просветить людей о том, что они могут противопоставить раку. И я вам отвечаю: быть начеку. То есть нужна сверхранняя диагностика. Не очень убедительно звучит? Пойдемте, покажу», – с экспрессией шоумена говорит профессор Дмитрий Пушкарь. На нем широкий модный галстук яркой расцветки, цветные полосатые носки, щеголеватый костюм. Он – пионер роботической хирургии в России, первый, кто стал оперировать с помощью аппарата «Да Винчи» урологические опухоли миллиметрового размера.
О докторе Пушкаре мне рассказала моя хорошая знакомая, главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова. А ей – известный пациент доктора, знакомый Татьяны. Еще одна удивительная цепочка совпадений: зная о проекте #победитьрак, Миткова однажды позвонила и с восторгом рассказала о том, что в одной из обыкновенных московских больниц есть потрясающий уролог, учившийся и работавший во Франции, имеющий степени и дипломы заграничных университетов, но решивший развивать роботическую программу «Да Винчи» в России. Я переадресовала вопрос докторам – экспертам проекта. «Неужели ты до сих пор ничего не слышала о Пушкаре?!» – в один голос изумлялись они.
Знакомиться с доктором Пушкарем я отправилась, вооруженная мобильным телефоном. А потом с восторгом показывала друзьям и знакомым операцию, во время которой пациент, как космонавт, висит вниз головой, не теряет ни капли крови, а хирург управляет процессом, сидя на стуле, ухватившись за рычаги диковинного роботического аппарата. На экране мобильного всё это выглядело кадрами из фантастического фильма. Если честно, до дня съемок никто из проекта #победитьрак не верил, что профессор Пушкарь и его «Да Винчи» и в самом деле существуют и спасают людей в обычной горбольнице.
Робот-хирург «Да Винчи» (от англ. da Vinci Surgical System) – аппарат для проведения хирургических операций. Установлен в нескольких сотнях клиник по всему миру. Состоит из двух блоков. Один предназначен для оператора, а второй – четырехрукий автомат – выполняет роль хирурга. Масса аппарата – полтонны. Врач садится за пульт, который дает возможность видеть оперируемый участок в 3D с многократным увеличением, и использует специальные джойстики, чтобы управлять инструментами.
Перед этим, видимо, всё еще борясь с внутренним неверием в то, что и у нас в стране технологии могут идти в ногу со временем, я обратилась к знакомому Татьяны Митковой, бывшему пациенту Дмитрия Пушкаря. Вот какое он прислал мне письмо:
Дорогая Катя! Вам еще только предстоит узнать, что это за доктор, профессор Пушкарь, а мне уже посчастливилось. И я считаю эту встречу своим вторым днем рождения. Кроме того что Дмитрий Юрьевич, конечно же, спас меня от рака, он позволил мне иначе взглянуть на свою жизнь. Профессор Пушкарь – не из тех, кто обеими руками цепляется за неоспоримые правила традиционной медицины. Он идет в ногу со временем, отдавая должное всем тем новым знаниям, которые появляются в области онкологии. Он – большой знаток всего того, что сейчас происходит в новой области медицины, – онкогенетических исследованиях, скрининговых программах, сотрудничает с немногочисленными российскими лабораториями, занимающимися такого рода анализами; кроме этого, он всегда говорит о том, что и сами пациенты многое могут сделать для приостановки, торможения болезни. А иногда даже для ее предотвращения. При выписке профессор посоветовал мне ознакомиться с книгой американца французского происхождения Давида Серван-Шрейбера «Антирак». Кстати, может быть, эта книга будет вам полезна и для вашего проекта? С уважением и пожеланиями удачи Вашему проекту, N.
8.30 утра. Больница на окраине Москвы: снега по пояс, щербатый бетонный забор, грустное крыльцо с отбитыми ступенями и накренившимся от снежной шапки жестяным козырьком, внутри смешанный запах будущего обеда больничной столовой и хлорки, оставленной серой тряпкой со швабры уборщицы под плинтусами длинных и недружелюбных больничных коридоров. В общем, всё то, что до боли знакомо каждому, кто вырос в СССР и хоть раз в жизни тяжко болел.
Прохожу коридор, еще коридор, переход (это тоже непременный атрибут большого медицинского учреждения, построенного в советские времена). Мимо едут каталки с едой, с анализами, с бельем и людьми: на операцию, на процедуру, в другое отделение… Архитектура советской больницы почему-то никогда не подразумевает простого и быстрого перехода из точки А в точку Б. Приходится вначале спускаться, потом куда-то переходить, потом подниматься, потом переходить на другой уровень, и наконец добравшись до нужного лифта, очутиться на более-менее втором этаже, прямо перед дверью профессора Пушкаря. Его, правда, нет, он уже в операционной. Но вот этот профессорский угол в советской больнице меня сразу поражает. Здесь нет ничего больничного: симпатичные картины на стене, мягкий диван для ожидающих приема пациентов, помощница Ольга, разговаривающая в спокойной и уважительной манере как со мной, так и с теми, кто без перерыва звонит в приемную профессора Пушкаря за консультацией, для записи на консультацию, по другим вопросам. Еще есть большой автомат с водой, автомат с кофе, несколько забавных скульптур и бесплатный вай-фай.
Ольга тщательно переодевает меня во всё стерильное (Боже, впервые в моей профессиональной жизни в больнице нашлись халат, шапочка и бахилы по размеру и без дыр, причем не только для меня – для всей съемочной группы). Мы идем длинным коридором, освещенным дремлющими лампами дневного света и едва проснувшимся зимним московским солнцем. В конце коридора, вокруг экрана, прикрученного под потолком, столпились доктора. Со стороны может показаться, что им на экране показывают премьеру захватывающего детектива или финал чемпионата мира по футболу с участием нашей сборной, но нет – это трансляция операции профессора Пушкаря. Трансляцию ведет аппарат «Да Винчи» прямо из пациента. Во время подготовки к операции в пациенте делают три крошечные дырочки: две – это руки оперирующего хирурга, а третья – видеокамера, которая нужна и для того, чтобы доктор видел, что делает, и для того, чтобы за операцией могли наблюдать другие, обучающиеся у профессора доктора. Ну, а еще иногда, рассказывает Пушкарь, видео просят на память сами пациенты.
В момент знакомства профессор сидит ко мне спиной. И эта спина находится в непрерывном движении: в операции участвуют и ноги Дмитрия Пушкаря (внизу аппарата «Да Винчи», как у органа, есть функциональные педали), и руки Дмитрия Пушкаря, и даже, кажется, затылок Дмитрия Пушкаря. Я, наверное, не смогу описать, что вытворяет внутри пациента профессор Пушкарь, но суть всего происходящего в том, что руками и ногами, мощью и интеллектом (своим и аппарата «Да Винчи», разумеется) профессор проникает в такие глубины лежащего на операционном столе человека, в которые во время обыкновенной полостной операции даже чисто технически невозможно проникнуть. И там умеет найти и ювелирнейше вырезать крошечную опухоль, пока еще не ставшую монстром, но уже опасную для жизни. Потрясенная, стою и молчу. «Скажите хоть что-нибудь, Катя», – хитрит профессор, не оборачиваясь. «Как вы изящно завязали петельку», – пытаюсь пошутить я, видя, как действительно внутри пациента робото-руки руками профессора накладывают швы. «Это в честь нашей встречи, мадам», – с ходу шутит профессор, оборачиваясь. В его глазах светятся искры азарта, увлеченности и страсти к интеллектуальной игре. Место у аппарата «Да Винчи» занимает один из учеников Пушкаря. Дмитрий Юрьевич растит здесь, на окраине Москвы, на втором этаже обыкновенной государственной больницы, целую школу учеников, также увлеченных делом и верящих в его перспективу в России. Краем глаза следя за тем, как занявший его кресло управления «Да Винчи» ученик завершает операцию, Пушкарь рассказывает:
«Мы являемся университетской базой, мы являемся научной кафедрой. Мы здесь учим студентов, безусловно. В современном мире и в такой очень и очень непростой сфере, как онкология, образование – это ведь не только преподавание студентам и врачам, в нашем случае и в нашей стране, Катя, мы с вами должны пойти в народ, в элиты, куда угодно, и бесконечно рассказывать, образовывать. Я стараюсь сам так поступать. И к этому призываю своих учеников. Я даже бросил считать, какое количество презентаций, докладов и сообщений мы делаем, сколько мы стараемся делать, но этого всё равно мало. Но как бы там ни было, мы настойчиво рассказываем самой широкой аудитории о профилактике, о скрининге, о ранней диагностике. Это наша деятельность, наша профессия и наш интерес: дать людям по возможности всеобъемлющее знание. Ведь тогда мы получим образованных, подкованных в своей болезни пациентов. Это ли не мечта практикующего доктора?»
В этот момент профессор теряет ко мне интерес: операция подходит к концу. Вновь занимая место у рычагов управления роботического аппарата «Да Винчи», Пушкарь делает последние стежки крошечными стальными руками и, эффектно отворачиваясь, поет на всю операционную: «Let my people go!» Операционная рукоплещет, съемочная группа в восторге. Профессор вихрем перемещается в кабинет, поясняя по пути: «Катя, поймите, подвижничество и просветительство входят в мои обязанности. Помимо всего прочего, я же главный специалист-уролог Минздрава России. Да-да, я согласился на такую должность. И мне это действительно важно и нужно. Я убежден, что смогу доказать людям: медицина, в том числе и в нашей стране, шагает вперед для того, чтобы быть более полезной пациентам. И, знаете что, вот вам самое поверхностное, но впечатляющее доказательство: если бы вы пришли в эту клинику три года назад, у нас не было никакой роботической программы, а это значит, что сегодняшнему пациенту мы могли бы помочь в гораздо меньшей степени. А десять лет назад не смогли бы помочь вообще. Понимаете, о чем я? Рак – очень хитрая болезнь, всегда играющая на опережение. Но на то есть наука и люди науки, чтобы помогать обыкновенным людям опережать рак, обыгрывать его».
Мы уже в кабинете, профессор сам определяет место для интервью, долго подбирая, какой из разноцветных и чрезвычайно модных галстуков подошел бы к нашему случаю. Я спрашиваю, зачем он взялся заниматься просветительством в России. Ведь в отличие от многих коллег у него за границей есть и имя, и десятки предложений работы. Пушкарь ничуть не смущается: «Все почему-то думают, что обязательно надо науку двигать там, а здесь остаются сплошные лузеры. Это пораженчество так думать. Да, для общего развития, конечно, надо пройти стадию отъезда из России и желательно поработать за границей. Но, даже никуда не уезжая, человек думающий, человек образованный, человек широких взглядов может постичь, что взгляд с Запада на нас более трезвый, чем взгляд наш на Запад, потому что наш взгляд на Запад – более поверхностный. Мы ищем там легкости и привилегий, а дело-то в том, что на Западе гораздо проще и быстрее воплощаются в повседневную жизнь самые новые достижения науки. И в этом заинтересованы все. Смотрите, в Америке страховая компания записала для себя, что вот есть такое изобретение, как роботическая операция, и всё: отныне эта операция оплачивается страховщиками. У нас же, и это спустя несколько лет после появления технологии, роботические операции – новинка, редкость и даже вами, Катя, воспринимаются как научная фантастика. А ведь первый аппарат «Да Винчи» появился аж в 2001 году. Надо каким-то образом интенсифицировать это движение медицины навстречу человеку, заставить чиновников тоже чувствовать себя людьми, нуждающимися в этом движении. Я чувствую в этом и свою ответственность. По моему глубокому убеждению, современный человек имеет уже достаточно научного арсенала для того, чтобы узнавать о раке раньше, чем рак успеет полностью захватить его организм».
Мне кажется, разговор наш с Дмитрием Юрьевичем происходит не в Москве, в больнице с зелеными стенами и серым линолеумом на полу, а в какой-то суперклинике мировой научной столицы. Профессор примиряюще улыбается. «Просто знайте, что, если мы говорим о сегодняшнем пациенте, операцию которого вы с таким энтузиазмом снимали, то этот больной будет жить. Жить очень долго. И умрет не от рака простаты или рака почки. От этого он сегодня был на ваших глазах излечен благодаря, конечно, мне и аппарату «Да Винчи», но прежде всего благодаря технологиям сверхранней диагностики», – заключает профессор. И, не дожидаясь формального окончания интервью, вскакивает, сам отстегивает микрофон и убегает на консультацию. Помощница Ольга потом объяснит извиняющимся тоном: «Пушкарь считает, что ожидание морально угнетает пациента. И никогда не опаздывает на консультации. Хотите кофе на дорожку?»
Я пью кофе, разглядывая стены так непохожего на медицинский кабинета Пушкаря. На стенах вместо дипломов и сертификатов, странных подарков или фотографий со знаменитостями, обычно украшающих стены врачебных кабинетов, – фото незнакомых улыбающихся людей в обыденной жизни: вот усатый мужчина поймал щуку, а вот дедушка тискает внуков, одна дама снялась в театре, другая – с дочерью в Диснейленде. Поймав взгляд, Ольга объясняет: «Это бывшие пациенты, не пожелавшие скрывать свое лицо. Дмитрий Юрьевич любит собирать свидетельства жизни после рака. Ему кажется, эти фотографии – очень наглядное доказательство того, что она есть». «Что она есть», – как эхо бормочу я себе под нос, выходя из кабинета, бредя по коридорам, опускаясь в метро. Там, в вагоне, я разглядываю лица пассажиров, на ходу прикидывая: сколько из них уже столкнулись с болезнью, скольким это еще предстоит, сколько – выжили, выкарабкались, поправились, но никогда и ни за что не станут об этом рассказывать? Почему? Почему, черт возьми, наш образ жизни и мысли подразумевает, что рак – это точка в биографии: даже если он побежден, ничего существенного после болезни в жизни человека не произойдет.
Глава 21
Самолет авиакомпании Delta, стюардесса разносит прохладительные напитки и легкие закуски. Вместе со стаканом на откидной столик ложится розовая салфетка авиакомпании: «Delta против рака груди».
Аэропорт JFK Нью-Йорка. Зал прилета. По стенам – красочные баннеры. Один из них розово-белый: «Нью-Йорк – против рака груди».
Завтрак в недорогой гостинице Best Western, в глубочайшей пенсильванской провинции. Йогурт. На крышке надпись: «Наша компания намерена собрать в этом году один миллион долларов на борьбу с меланомой».
Обыкновенный магазин готовой одежды на Манхэттене. На двери красуется розовая ленточка. Спрашиваю у продавщицы: «Что это? Зачем?» – «Мы отчисляем два процента от продаж в фонд поиска и разработки препаратов для борьбы против рака груди».
Магазин сувениров при Институте онкологии имени Розвелла Парка, где работает профессор Андрей Гудков. В продаже носки, браслеты, кепки, шарфики, наклейки, дамские сумки, майки, да всё что угодно, – с ленточками на любой вкус. Всё продается в пользу благотворительной организации, помогающей людям с каким-либо видом рака.
Мне кажется, последняя капля – это подряд несколько машин на трассе с розовыми ленточками. Но нет, впереди Ниагара. Огромное казино на краю обрыва, за которым водопад. Во весь 50-этажный рост здания – неоновая панель. На панели загорается розовая ленточка с концами, перекинутыми друг через друга, на панели надпись: «Мы – против рака груди». Рядом со мной лысый дядька поправляет на затылке кепку с надписью «Ненавижу этот рак» – я видела их в сувенирной лавке. Бормочу себе под нос: «Сюр какой-то» и плетусь вслед за Гудковым в расположенный на парковке у Ниагары ресторанчик. Просим бутылку знаменитого розового калифорнийского вина Zinfandel. Приносят. Открывают. Рассматриваем пробку. Ну, это уже слишком. На пробке написано: «Каждый доллар от продажи этой партии вина мы направляем на борьбу против рака груди». И вот это уже действительно последняя капля! – я перестаю удивляться и делать брови домиком, я начинаю верить: от этого никуда не спрятаться, до этого всем есть дело, здесь ЭТО и вправду касается каждого. И ровно в эту секунду приходит и понимание, и принятие. И становится… не так страшно. Если со всеми, значит, и со мной, если все вместе, значит, как-то прорвемся.
В США перемена отношения к главной непобедимой болезни века, раку, связана с коммерциализацией борьбы против него: страшный и ужасный рак здесь сделался торговым брендом. Подмигивающим Микки Маусом. Чем-то привычным, повседневным, совершенно не пугающим. Ленточки с концами, перекинутыми друг через друга, разных цветов борются с разными видами рака, обыватели уже научились отличать один от другого. И к фатальному объявлению «у такого-то нашего знакомого рак» теперь непременно добавляется – рак желудка (груди, горла, легкого). Мы стали лучше разбираться даже на бытовом уровне.
Государственные и благотворительные миллионы, выделенные на пропаганду болезни, именно на пропаганду, на то, чтобы слово «рак» для обыкновенных людей перестало быть табу, дают результаты: американские домохозяйки, изо дня в день смотрящие популярные дневные сериалы о раке, уже вполне могут самостоятельно проводить плановые осмотры и не падать в обморок, нащупав в своей груди нечто необычное. А появление внутри рекламных пауз на телеканалах яркого ролика «Поздравляем, у вас рак!» дали старт масштабной просветительской программе, культивирующей заботу о своем здоровье и онкологическую настороженность: чем раньше рак обнаружен, тем эффективней с ним можно бороться. Ведь хорошо изученный, а значит, успешно излечимый рак на ранней стадии обнаружения – это шанс. Причем с высокими процентами на успех. Из всех рекламных роликов о раке мой любимый тот, что придумали для «рекламной кампании» рака легких: улыбчивый мужчина слегка за пятьдесят в твидовом пиджаке доверительно рассказывает с экрана о том, как поход к пульмонологу и онкологу изменили его жизнь… к лучшему. Его рак обнаружили и вылечили. Чувствует он теперь себя на все сто. И главное: перестал бояться рака, ведь он его уже победил.
Однако автор первой концепции рекламной кампании «Поздравляем, у вас рак!» калифорнийский копирайтер Джо Александр вспоминает, что поначалу идея показалась ему чистым безумием: «Когда ко мне пришли из отдела социальных проектов Министерства здравоохранения и сказали: «Послушай, Джо, нам надо сделать так, чтобы люди хотели обнаружить у себя рак», я ответил: «Вы что, чокнутые?» А потом они показали статистику и объяснили, что раком заболеют трое из пяти в этой комнате. Или двое из пяти – это ничего не меняет. Но с болезнью столкнется каждый. И есть два варианта. Или ты всё осознаешь поздно, а значит, беспомощно умрешь, несмотря на то, что на дворе XXI век и у науки есть что противопоставить болезни. Или, наоборот, тебя вылечат, и ты сможешь жить и радоваться дальше, зная, что, по крайней мере, от этого ты уже не умрешь точно. Я взял пару дней на размышление. Потом пришел и сказал: «О’кей, парни. Я всё понял, вы хотите дать понять людям, что у них есть шанс на второе рождение». Так появилась идея серии роликов «Поздравляем с днем рождения, у вас рак!»: в обычный офисный опенспейс входит веселая компания в колпачках, с тортом и свистелками; обнимают и поздравляют коллегу, шутят, пихаются и поют Happy Birthday; на экране высвечивается «поздравляем с днем рождения, у вас рак!», после – телефон горячей линии скрининговой компании и статистика полного излечения раков, обнаруженных на ранней стадии, и слоган: «Победа над раком – ваш шанс на второй день рождения!»
Этот ролик повторяли по нескольку десятков раз за эфирный день на крупных телеканалах, ведь нет ничего более массового, чем телевидение, и ничего более касающегося каждого телезрителя, каждого человека на планете, чем рак. Эффект был ошеломительный. Согласно социологическим исследованиям, проведенным отделом социальных проектов Министерства здравоохранения США, четверо из пяти американцев, посмотрев этот ролик, действительно решились и прошли онкологическое обследование в ближайшей клинике.
Последний и, видимо, сокрушительный удар по заговору молчания вокруг страшного и ужасного рака в США нанесло дневное шоу с говорящим названием «Рак-фигак» (Cancer-shmancer). Его до сих пор ведет в YouTube голливудская звезда Френ Дрешер, прославившаяся на всю Америку в качестве исполнительницы главной роли в собственном телесериале «Няня» (его русскую версию под названием «Моя прекрасная няня» несколько лет назад производил и показывал телеканал СТС).
Мы встречаемся с Френ в коротком перерыве во время перемонтажа декораций. Рак сделал ее не просто знаменитой «прекрасной няней», а очень знаменитой «звездой» и общественным деятелем. В этом сезоне Френ нарасхват. Помимо шоу «Рак-фигак», с которым, как она уверяет, никогда в жизни не расстанется, Френ ведет телесериал «Счастливо разведенные», подписаны и еще какие-то контракты, суть которых пока секрет. Обо всем этом мисс Дрешер говорит со сверкающей улыбкой победительницы. Ее история уже выстрадана, выписана и столько раз рассказана, что во многом превратилась в апокриф.
«Я придумала телесериал «Няня» и сыграла в нем главную роль, в эфир вышли уже десятки серий, когда вдруг выяснилось, что у меня рак, – ослепительно улыбаясь, рассказывает Френ Дрешер, выглядывая из-под кисточки гримера, тщетно пытающегося поправить ведущей макияж во время съемочной паузы. – И все так охали и вздыхали кругом, как будто я уже умерла. И я придумала создать сообщество и назвать его «Рак-фигак». Просто потому, что когда вы говорите: «У меня рак» – люди в шоке. А если вы скажете: «Знаете, у меня какая-то раковая херня», вроде не так страшно. Давайте смотреть правде в глаза, каждый из нас троих заболеет раком. Но в 90 % случаев его можно победить. Выше нос, аллё. Рак лечат! Правда, я круто научилась это говорить?»
И опять ослепительно улыбается. По-моему, я была первой, кто не стал восхищенно аплодировать и восклицать: «Вау, да вы просто супергерой!» По-моему, я вообще была первой на ее памяти, кто в ответ на эту заученную шутку, видимо, из ток-шоу, так и остался сидеть с серьезным и недоверчивым выражением лица, свойственным людям из России. Я помолчала, а потом спросила: «Вас никто никогда не осуждал за то, что вы придумали такое несерьезное название – «Рак-фигак» – для того, чтобы научить людей противостоять такой серьезной болезни? И не кажется ли вам, что в этих попытках отшутиться есть что-то беззащитное и даже… пораженческое? Как будто вы избегаете говорить о сути?»
Надо сказать, ослепительная улыбка на ее лице не дрогнула – все-таки Френ настоящий профессионал. Но вздохнула «прекрасная няня» глубоко. И отвечать стала не сразу, а выдержав такую длинную и тяжелую паузу, что я в какой-то момент испугалась, что она уйдет. Впрочем, настоящих голливудских звезд куют из настоящей стали. Она передернула плечами и отважно начала свою историю с самого начала. На сей раз совершенно серьезно: «Смотрите, как всё было. Я так долго карабкалась на эту голливудскую вершину, что даже когда «Няня» была во всех топах, когда я уже пролетела, хотя и была номинирована, мимо «Эмми» и «Золотого глобуса», – вам не понять, но у нас тут это важная часть карьеры, – так вот, даже в этот момент я продолжала бежать, хотя можно было остановиться. Но я уже разогналась, как поезд. Остановить меня было нельзя. Мне хотелось всё дальше, всё больше, всё круче. И вот в этот момент, на самом взлете, они мне говорят: «У вас рак, дамочка». Вот именно так и сказали. Я отлично это помню. И наступил конец света. Хотя нет, вначале я угробила три года на то, чтобы мне поставили диагноз, злилась и обвиняла в предательстве медицину и собственное тело, потому что мне казалось, что это его вина, что оно не справилось, подвело… Ну, в общем, я была зла, потому что всё то, что я строила и создавала, вдруг в один отвратительный момент полетело в тартарары. И всё, во что превратился мой мир, – это больница, больница, больница. Исчезли друзья, по-свински повел себя муж, мы развелись. Потом, чтобы вылечить рак, пришлось удалить матку. Это тяжелая операция. И особенно она тяжела для женщины, у которой никогда не было детей. Матку удалили, а значит, детей и не будет. Никогда. Это вообще была самая горькая пилюля, которую мне пришлось проглотить. Я ее проглотила. И вот тогда-то наступил конец света. Сериал про няню захлебнулся на пике популярности. Мой муж и партнер по сериалу Питер (Питер Мак Джейкобсон. – К. Г.) не выдержал. Сериал был закрыт. Наша семейная жизнь развалилась. И в эфире во всех смыслах повисла тяжелая пауза. Ну как сказать миллионам зрителей веселого шоу: «Прекрасная няня больна раком?» Как сказать миллионам поклонников: «Привет, мой муж бросил меня, когда мне было очень трудно, и наша семейная жизнь оказалась не такой сладкой?»
В этот момент за спиной Френ с грохотом падает какая-то декорация, избавляя ее от необходимости рассказывать, как она провела пять лет в забвении, у разбитого корыта. Ее рак оказался действительно излечимым: первая стадия, операция, минимальный, почти равный нулю риск рецидива. Страшнее оказалось другое – одиночество, пустота и бесперспективность жизни после рака. Иногда ей казалось, что умереть было бы проще, чем жить, поправившись. Американская желтая пресса за первые года полтора извела тонны букв на описание душевного кризиса бывшей звезды Френ Дрешер. А потом, что хуже, о ней и вовсе перестали писать. Ее не было на экранах долгих пять с половиной лет. В мире кино и телевидения это, как правило, означает профессиональную смерть. Но не в ее случае. «Знаете, – говорит Дрешер, – плохие вещи случаются с хорошими людьми, и когда доктор говорит вам, что у вас рак, вечером он идет домой и садится ужинать с семьей. А вы идете домой и бьетесь головой о стену. Это ваша жизнь. Я посмотрела на свою и поняла: ну, что рак? Ну, херня этот рак, да, он подкосил меня, да, после него жизнь моя будет другой. Но, «рак-фигак», я сильнее! Я повторяла себе это миллион раз в день. И в какой-то момент я поняла, что эти повторения могут пригодиться не только мне. Что выздоравливать иногда даже труднее, чем болеть. И я стала вытаскивать себя. И вытаскивать других. Черт знает, как мы все друг друга вытащили. Но я опять стала звездой. И этот рак отработал на меня по полной. И еще поработает».
Она дает гримеру закончить свою работу и надевает на лицо обычную бронебойную голливудскую улыбку, делающую ее не просто сильной – несокрушимой. И совершенно понятно, отчего ее телешоу «Рак-фигак» пользуется такой популярностью не только у тех, кто столкнулся с болезнью, но и у доброй половины не болевшей Америки: глядя на Френ, очень хочется тоже научиться так победоносно улыбаться. И одной улыбкой преодолевать тысячи преград. И побеждать.
Вернувшись на экраны, Френ Дрешер теперь снова карабкается вверх по голливудской лестнице карьерного счастья. И у нее неплохо получается: о ней пишут, ее обсуждают. Но случившийся в ее жизни рак привнес одну смысловую составляющую: Френ теперь не просто светский персонаж или голливудская дива. Она – человек, столкнувшийся с большой проблемой и победивший ее. И это приносит некоторые дивиденды. С 2008 года актриса Френ Дрешер – член демократической партии и дипломат Государственного департамента США. Ее официальная должность называется «посол по вопросам здравоохранения женщин».
«Теперь я отвечу на ваш вопрос, можно ли несерьезно говорить о серьезной проблеме», – говорит Дрешер, меряя шагами студию, ее теперь слушаю не только я: осветители и операторы, гримеры, стилисты, бесчисленные ассистенты, это похоже на публичную речь. Мне трудно поймать ее взгляд, чтобы сохранить иллюзию доверительного интервью, и в какой-то момент я просто бросаю эту затею. Френ говорит громко, четко и ясно. И вся студия слушает. «Пройдя путь от отчаяния до эйфории победителя, я абсолютно точно поняла: да, рак – это ужас, но не ужас-ужас-ужас… И вот в этом нюансе заложен очень важный механизм. То, над чем можно научиться смеяться, перестает пугать. Так появилось сообщество «Рак-фигак». Серьезное ли оно? О нет, мы собираемся, ржем, рассказываем друг другу забавные истории, связанные с раком или не связанные. Но мы говорим об этом. Это перестало быть для нас табу. А вот это уже серьезно. И как посол по вопросам здравоохранения женщин я скажу: рак наносит глобальный удар, прежде всего, по психике человека. А от этого ломается всё. Людям, столкнувшимся с раком, элементарно не с кем поговорить. Я их приглашаю к разговору, я даю им возможность расслабиться. И тем самым решаю очень важную и серьезную проблему. Ведь вот смотрите: один из двух мужчин и одна из трех женщин встретят рак в своей жизни. И каждый из них насмерть перепугается. И ему будет невыносимо жить в одиночку с этим скелетом в шкафу. А я научу его смеяться».
И она смеется опять. И это больше не раздражает. Ей веришь. Как верят американцы этим роликам, в том числе и с ее участием, и ходят на обследования. И перестают пугаться, обнаружив у себя рак.
Сразу после интервью я еду в аэропорт. В самолете из Лос-Анджелеса в Москву моим соседом оказывается высоченный черноволосый американец, чуть за пятьдесят. Представляется: «Джеральд». Рассказывает, что занимается строительным бизнесом, что есть даже какие-то контракты с Россией, на олимпийской стройке. В ответ рассказываю о проекте #победитьрак и о только что закончившемся интервью с Френ Дрешер. Он хохочет: «Да, я тот, кто вам нужен!» – «В смысле?» – «Два месяца назад вылечился от рака гортани: химия, операция, облучение, теперь всё отлично!» Автоматически предлагаю дать мне интервью. Джеральд задумывается, потом неожиданно спрашивает: «А это увидят в России?» – «Конечно, я же пишу по-русски для русскоязычных читателей». – «О нет, девушка, тогда я вынужден отказаться от интервью, это подорвет мой бизнес в вашей стране».
Оказалось, едва был поставлен диагноз, Джеральд послал своим партнерам из России полное оптимизма письмо: «У меня рак, вынужден на полтора месяца прерваться на лечение, все вопросы можно будет решить с моим замом». С российской стороны последовала внушительная пауза. А потом предложение заморозить деловые отношения на неопределенный срок: «Ну, пока вы не поправитесь», – любезно прибавлял отправитель. «Вот вынужден лететь, доказывать им, что рак меня не убил», – хохочет Джеральд.
Мне не смешно. Для нас, родившихся и выросших в СССР, в советских поликлиниках с очередью и хамством, рак по-прежнему – нечто среднее между проклятием и неотвратимой судьбой. То, чему не идут навстречу и о чем на самом деле лучше никогда не узнать, чем узнать первым. Вот статистика безысходности: 75 % россиян никогда без очевидных подозрений не пойдут к районному онкологу. А онколог никогда не выйдет им навстречу.
Впрочем, для того чтобы эту возможность приблизить, я и пишу эту книгу.
Глава 22
«Понимаешь, нас никогда не учили тому, что пациент – соучастник лечения, что пациента вообще надо как-то привлекать. Я тебе больше скажу: мне до болезни мысль о том, что это как-то категорически необходимо, не приходила в голову». В холодном Петербурге мы пьем горячий чай с хирургом Андреем Павленко и его женой Анной. Румяные, они приехали на встречу прямиком с ледяной горки, катались на «ватрушках» всей семьей – у Анны с Андреем трое детей от 2 до 14 лет. За плечами – год борьбы с болезнью: рак желудка, обнаруженный на третьей стадии. Этот год они старались провести все вместе, в буквальном, физическом, смысле держась друг за друга. Анна и теперь всё время старается прикасаться к нему: плечо, локоть, голова – это сразу и нежность, и попытка зафиксировать: вот же он, на месте. Спрашиваю ее: «Тебе, наверное, тяжелее всех было?» Усмехается: «Мне? Нет. Тяжелее всех было нашей дочери, ей же 14. А вообще тяжелее всех, конечно, Андрею. Потому что он не мог работать. Теперь, вот посмотри на него, счастлив. Ему надо работать. Такой человек, как Андрей, не может без своего дела».
Представить онкохирурга Андрея Павленко вне профессии невозможно: он понял, кем будет, семи лет от роду. Тогда учительница музыки сыграла первоклашкам на фортепиано отрывок из «Реквиема» Моцарта. Закончив играть, учительница сказала: это «Реквием», врачи проиграли, победила смерть. А школьник Павленко никак не мог понять: как так вышло? Они же боролись. Чтобы доказать, что доктора могут выигрывать, Павленко твердо решил, что станет хирургом и переменит ход вещей: окончил школу, поступил в Военно-медицинскую академию, попал на практику в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и увидел первую в своей жизни настоящую операцию – аппендэктомию (удаление аппендикса). Павленко, по его словам, был страшно впечатлен.
После учебы попал по распределению во Владикавказ: военный госпиталь с кучей раненых. В звании капитана попал в гражданскую ординатуру и тут же принял решение: пошел бесплатно работать в областной онкодиспансер, чтобы набраться опыта.
Довольно долго доктор Павленко просто ассистировал главному врачу, но однажды впервые прооперировал пациента – хирург, назначенный на операцию, уступил Андрею место, встав за его спину. На следующей операции – она была сложнее первой – ситуация повторилась.
К 2018-му за спиной у Павленко – больше двух с половиной тысяч операций, должность, ответственность. И – собственный рак, который необходимо оперировать.
Операция, сделанная Андрею Павленко его товарищами по учебе в мединституте Павлом Кононцом и Дмитрием Каннером, химиотерапия, придуманная и проведенная коллегами, плюс облучение – дали результаты. Ремиссия. Поскольку болезнь Павленко была фактом публичным, то и о ремиссии пришлось объявлять во всеуслышание. Одновременно с этим Андрей Павленко рассказал журналистам о том, что во время болезни много, подробно и, что называется, пользуясь совершенно иной, чем прежде, оптикой, смотрел на систему и структуру оказания онкологической помощи в России. И принял решение о создании собственного благотворительного фонда CancerFund, цель которого – качественно изменить подход к оказанию этой самой помощи: переобучить или доучить врачей по всей стране, систематизировать знания, научиться ими делиться, возродив институт менторства (наставничества), понять, сколько на самом деле в стране онкологических пациентов, какие они, что с ними происходит до встречи с онкологом, что – потом, пересмотреть и упросить путь, который проделывает пациент до момента встречи с действительно компетентным доктором, пересмотреть суть этих отношений… Мы сидим в кафе, чай остывает. Павленко говорит, не повышая голоса, но я слышу, как он взволнован, как действительно хочет использовать знание, давшееся ему такой дорогой ценой, во благо будущих пациентов. «Понимаешь, – говорит он, – какие-то вещи прежде мне даже в голову не приходили, я не задумывался об их важности. Я работал себе и работал в клинике, оперировал, консультировал, вел пациентов, учил ординаторов. Но я не понимал, как глобально всё работает, точнее, не работает».
«Как это будет работать?» – спрашиваю Павленко. Он пожимает плечами: «Первое, за что мы сейчас возьмемся, – обучение врачей. Вот это самое менторство, цепочка передачи знаний, позволяющая хотя бы приблизиться к тому, чтобы врачи в самых разных уголках страны знали и умели примерно то же самое, что коллеги в Москве и Петербурге. И это будет выстроено как обычная сеть: передача знаний от одного другому, как сетевая культура врачей. Мне кажется, мы еще должны вынуть из шкафа, отряхнуть и сделать важным понятие «честь профессии». Чтобы быть онкологом, работать в этой области значило быть самым компетентным и самым неравнодушным. Вот ты представляешь, что для онколога эти два качества действительно самые важные?»
По замыслу Павленко, врачей со всей страны, регион за регионом, будет обучать подобранная им команда профессионалов: речь и о науке, и о технологиях, и о психологии. Фактически Павленко задумал, заменив собой государство, реформировать онкологическую помощь в России. Я смотрю на него – тонкого, высокого, тихого доктора с узкой кистью и веселыми карими глазами, и думаю: неужели и вправду может быть так, что человек, нос к носу столкнувшийся со смертью, а рак желудка на третьей стадии – это именно такое столкновение, думает не о ежесекундной радости каждого дня, но о деле всей жизни, которое может улучшить что-то в судьбе других людей.
Пока я об этом думаю, жена Андрея Аня тихонько говорит мне: «Знаешь, он придумал CancerFund по ходу лечения. И пока шли приемы, осмотры, пока принимались решения, вливалась химия, кажется, даже когда шла операция, он допридумывал и допонимал, что можно еще сделать, чтобы изменить в нашей стране участь онкобольных. Так что каждая строчка программы фонда написана, считай, кровью Андрея».
Он как будто ее не слышит. Но говорит о том же: «Я о чем-то таком задумывался, конечно, еще во время учебы, пока голова не была забита огромным количеством текущих дел. До болезни я несколько раз возвращался к идее, например, думал создать учебный центр для ординаторов на базе нашей Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова. Но ты же знаешь, как обычно бывает: сейчас-сейчас, потом будет время, всё успеется… Болезнь заставила меня торопиться – я не знал, как она будет развиваться и сколько у меня осталось времени. Болезнь, тебя сейчас это удивит, мне даже где-то помогла».
Я понимаю, что он сейчас скажет, и смотрю на него во все глаза, чтобы уловить мельчайшие мимические детали, чтобы расслышать и запомнить тембр голоса, жесты – всё! Этот переход от «За что?» к «Для чего?» – действительно фантастическое упражнение воли, дающее тем, кто смог его совершить, какие-то небывалые силы на изменение мира вокруг себя. Пока я это продумываю, Павленко говорит: «Болезнь мне помогла по одной простой причине – хирург-онколог, болеющий раком, становится виднее. Рак вывел меня в медийное пространство». И, видимо, я смотрю на него с таким изумлением, что он предлагает: «Хочешь, прогуляемся до клиники?» Нет, говорю, я просто завтра зайду, удобно? Кивает. Улыбается. Ему не то чтобы нравится шокировать окружающих рассказами о том, как рак натолкнул его на мысль о создании фонда, как болезнь сделала ему имя, как, увидев изнутри систему онкологической помощи в стране, он точнее и четче понял, как ее изменить. Нет. Ему просто нравится видеть, как идея, до конца сформулированная им во время болезни, начинает жить в головах других людей. И, возможно, проживет долго, и, возможно, изменит мир, даже если самого Павленко в этом мире уже не будет.
Анна и Андрей познакомились на работе: он хирург, она медицинская сестра. Приступ аппендицита на работе, который Павленко прооперировал тут же, в процедурной, а потом отнес Анну на руках в палату. Больше они не расставались. «Он меня нес, я смотрела на него и понимала, что это самый лучший человек на свете. Вообще на всем свете», – рассказала мне Анна. И еще рассказала, что долгое время им было очень трудно материально: карьера врача – долгий путь. Но она ежедневно говорила ему о том, что будет терпеть и ждать, потому что абсолютно убеждена в том, что он – гениальный врач. И не имеет права бросать эту, в общем-то, не самую престижную и высокооплачиваемую профессию ради заработков. «Я ему говорила: «Ты – хирург, ты не имеешь права это бросить, ты должен лечить людей. А мы, твоя семья, потерпим». Незадолго до болезни Павленко получил предложение работать в центре высоких медицинских технологий, отделение, ставку. Жизнь вроде начала налаживаться. Анна, наконец, смогла позволить себе оставить работу, родила третьего ребенка и решила, что будет сидеть с ним дома. И тут – рак.
Они выходят из кафе, где мы встречались, обнявшись, как молодожены. Я вижу в окно, как, прежде чем сесть в машину, Аня и Андрей несколько раз целуются. Они не знают, что я подглядываю. Они просто решили ничего не оставлять на потом.
Передо мной – папка документов, оставленных Павленко: план CancerFund, план реформы онкологической помощи в стране. К завтрашнему утру, к нашей завтрашней встрече, я должна его изучить.
Если коротко, план CancerFund состоит из четырех частей: проект учебного центра, который охватывает уже несколько клиник, несколько городов; помощь онкологическим клиникам в дотационных регионах в покупке дорогостоящего оборудования, которое не может закупаться за счет бюджета; стажировки для докторов в крупных медицинских центрах, где можно научиться чему-то новому, и привлечение средств на клинические исследования, которые в России не ведутся больше 20 лет: то есть иногда некоторые крупные центры принимают участие в международных клинических исследованиях, но собственных клинических исследований в стране нет, хотя Академия наук имеется.
На следующее утро я иду на работу к Павленко. Клиника высоких медтехнологий находится в старинном здании в самом конце набережной реки Фонтанки, работает и по воскресеньям, «но народу будет мало», – заверил меня Павленко.
Охранник на входе помогает какой-то старушке надеть бахилы – хороший знак, хотя сами бахилы – знак плохой, но они бесплатные, что хорошо. В гардеробе усталая женщина все же улыбается мне и говорит: доброе утро. Мимо катят тележку с землистого цвета ветошью, прикрывающую какие-то железные банки, – плохой. На недавно покрашенных стенах клиники плакаты, информирующие людей о том, где можно круглосуточно получить консультацию в связи с онкологической помощью, о том, что онкологические больные имеют право на обезболивание в любое время суток, в любом месте, о том, что не только пациентам, но и их родственникам может понадобиться помощь, – хороший…
Я перестаю подсчитывать баланс хорошего и плохого, встретившись взглядом со своей ровесницей, женщиной лет сорока. Она без косметики, волосы стянуты в пучок. Глаза голубые до полной прозрачности. Руки желтоватые. На правой кисти видны синяки, видимо, от капельницы. Вместе с женщиной две девочки младшего школьного возраста, вероятно, погодки. Помогают матери с сумкой, стараются быть полезными. Но что знает о том, как быть полезным онкологическому больному, ребенок восьми лет? Мы оказываемся с женщиной друг напротив друга в коридоре, где ждут приема пациенты клиники. Тут светло, немноголюдно, и разглядывать ее мне неловко, подсматриваю украдкой. Время от времени она устало закрывает глаза. Засыпает. Роняет голову на плечо. Одна из девочек заправляет маме за ухо выбившуюся прядь. Кто эта женщина? Чем больна? Есть ли шанс? Давно ли она болеет? Почему ей не с кем оставить детей и пришлось тащить их в больницу? Судя по тому, как легко они находят в конце больничного коридора туалет, с каким знанием дела рассматривают брошюры о мастэктомии, разложенные вокруг больничного фикуса, они здесь не впервые.
Едва оказавшись в кабинете Павленко, я спрашиваю про пациентку с двумя детьми. Он качает головой: «Все вопросы об этой женщине должны быть заданы в рамках ее обследования, лечения, просто – пребывания в стенах клиники. У врача, который ее лечит, должна быть информация не только об ее диагнозе, но и о том, с кем остаются ее дети, когда она ложится на химиотерапию. Это – в идеале. А на практике – мы пока почти ничего не знаем о своих больных. Из-за этого очень многое в лечении, в сотрудничестве пациента и врача с самого начала идет неправильно, иногда даже ломается».
Павленко, оттолкнувшись от встреченной мной женщины, говорит о глобальных проблемах российской онкологии. Говорит, загибая свои тонкие белые пальцы, потому что проблем много. И без их решения к конкретным действиям перейти нельзя: «Во-первых, мы должны давать гарантию общего, не ниже среднего, уровня онкологов по всей стране. Во-вторых, мы должны убедиться в том, что все клиники одинаково хорошо оснащены, что стандарты оказания онкологической помощи везде одинаковы. В-третьих, мы должны обучить онкологов человечному отношению к больным и лечению, основанному на сотрудничестве. – Павленко делает паузу. И продолжает: – Но всё это имеет смысл только в том случае, если мы будем понимать, какие у нас пациенты, что с ними происходит, если будем действительно видеть картину заболеваемости по стране, а за ней – каждого конкретного человека».
Речь об электронном регистре, базе данных онкологических пациентов, которые ежегодно регистрируются в Российской Федерации. Ее нет. А по мнению Павленко, без этого никакого движения вперед не получится. В базу должна вноситься вся информация о том, какой диагноз пациенту установлен, какое лечение он получает, с каким успехом, какие осложнения возникли в процессе лечения, какое лечение он получал по поводу этих осложнений.
Из такой единой базы, по словам Павленко, можно было бы выудить абсолютно всю информацию, проанализировать ее, понять, насколько лечение совпадает с современными стандартами. И понять, какие в каждом конкретном медицинском учреждении страны требуются перемены – переподготовка специалистов, обновление оборудования и так далее. Речь о нескольких тысячах многопрофильных стационаров и сотне онкодиспансеров. Идея Павленко в том, чтобы, объединив их в единую электронную базу, задать определенный, одинаковый для всех стандарт качества оказания помощи онкологическим пациентам. И тогда на основе анализа данных можно создавать и оснащать амбулаторно-клинические онкоцентры, где онкологи, реабилитологи и другие специалисты занимались бы ведением больных после их лечения в стационаре. Например, больному после операции необходима химиотерапия, но нет нужды проводить ее в стационаре, занимать стационарную койку, ее можно делать амбулаторно. С помощью регистра можно будет не только оценить масштаб проблем с оказанием помощи онкологическим пациентам в стране, но и понять, где помощь, руки хирургов и химиотерапевтов нужнее всего, а где лечат методами полувековой давности и требуется масштабное обучение и подготовка врачей на базовом уровне.
«Понимаешь, – вздыхает Павленко, – мы все только охаем, ахаем или стискиваем зубы, когда непосредственно оказываемся перед лицом нашей медицины, но мы вообще не представляем себе масштаба проблемы. У нас, я сейчас от имени врачей говорю, не от имени пациентов, даже нет статистики смертности от онкологических заболеваний по стране!»
Всё это звучит удивительно: как же так – нет никакой статистики, ведь даже президент Путин время от времени поручает Минздраву эти показания снизить. Павленко горько улыбается: «Достоверных цифр в России нет. Мы работаем по грубым нестандартизированным показателям. Мы вообще не представляем себе, в какой стране мы живем с точки зрения рака». Выходит, мы сражаемся с противником, которого не слишком хорошо знаем, и тем самым уменьшаем свои шансы победить.
На самом деле ситуация со статистикой в области рака и людей, которые с ним сталкиваются, выглядит так: каждый год в мире выявляется 14 миллионов первичных случаев рака, при этом не больше трех миллионов регистрируются медицинскими структурами. Всё остальное – это так называемая экспертная оценка. Ее дают сотрудники Международного агентства по изучению рака (МАИР, ответвление Всемирной организации здравоохранения). Существуют страны, например, в Африке, где нет министерства здравоохранения и онкологических служб как таковых. Там МАИР помогает собирать информацию отдельным медицинским учреждениям. По тем странам, по которым есть только экономическая информация, оценивают примерное количество заболевших на 100 тысяч человек.
В развитых странах оценка ситуации ведется по стандартизованным показателям, а в неразвитых – по грубым. Дело в том, что страны сильно различаются по структуре населения. Если в стране или регионе много детей, там очень низкий уровень заболеваемости: 10–15, максимум 20 первичных случаев на 100 тысяч населения. Если же основу населения составляют люди старше 60–70 лет, там на каждые 100 тысяч человек будет уже от двух до пяти тысяч случаев. От того, какая доля населения превалирует на данной конкретной территории, зависит общий грубый показатель заболеваемости. Но – еще раз! – это грубый показатель, и ориентироваться на него можно очень и очень приблизительно. Так вот, Россия входит в число стран, где статистика ведется по грубым показателям. Разберемся почему.
Для того чтобы грамотно сравнивать данные, их нужно пересчитывать с учетом разных факторов, иначе получится средняя температура по больнице, которая ничего не даст. Это и значит «считать по стандартизованным показателям». Такую работу выполняет, например, международная программа «Рак на пяти континентах», которая появилась после Второй мировой войны. Специалисты этой программы формируют данные о распространенности злокачественных опухолей и издают их в виде монографий. Качество сбора, обработки и обнародования информации жестко контролируется. Долгое время родной для Андрея Павленко Петербург был единственной российской территорией, представленной в «Раке на пяти континентах», самом авторитетном мировом источнике по теме статистики в онкологии. Именно здесь в 1993 году был создан первый в России популяционный раковый регистр – огромная база, объединяющая все медицинские данные обо всех раковых больных.
Такие регистры помогают изучать и прогнозировать онкологическую заболеваемость, исследовать, а затем учитывать потребности пациентов. Создал и возглавляет петербургский раковый регистр коллега Андрея Павленко, профессор Вахтанг Мерабишвили. Через несколько лет после создания первого, петербургского, регистра Минздрав велел организовать подобные регистры по всей стране, руководить которыми было поручено Московскому онкологическому институту Герцена. При этом регистры стали использоваться как система сбора информации для ежегодного отчета.
По идее, все российские больные раком ставятся на пожизненный учет. Происходит это следующим образом: данные о пациентах от всех медицинских учреждений, включая частные клиники, поступают в популяционные раковые регистры. Делается это в рамках ежегодных отчетов, принятых в Минздраве: кончился год – сдали показатели. Но такая система искажает данные, уверен Мерабишвили: «Вообще в мире никто не составляет такого рода государственные отчеты. И уж тем более нельзя это делать через 20 дней после завершения календарного года, как у нас. Это онкология. Здесь торопливость дает неверные данные и больше ничего. Все тенденции, связанные со злокачественными образованиями, развиваются очень медленно. Неважно, представляете вы данные за этот год или за предыдущий – они очень близки, они очень медленно меняются». В развитых странах данные собираются с 1 января до 31 декабря, на их обобщение дается примерно два года. В России обобщение данных за прошедший год проводится до 20 января следующего года. Разумеется, за это время не успевают поступить не только данные об умерших, но еще и большое количество других документов. «За одну неделю нельзя составить отчет по 20 тысячам больных, и они отодвигаются на месяц, потом хвосты с предыдущего года добавляются в отчетный год. А умершие сюда уже не попадают. Зато получаются очень хорошие показатели», – говорит Вахтанг Мерабишвили.
По официальным данным Минздрава, в России выявляется более 50 % ранних стадий, по некоторым территориям даже 60 %. Из уст министра здравоохранения во время доклада президенту в 2018 году прозвучали даже неправдоподобные 70 %. Но в реальности, настаивают специалисты, их не больше 30–35 %. Все эти противоречия хорошо видны по данным популяционных раковых регистров. Однако в СМИ попадает искаженная, неполная информация.
Для примера можно взять данные по зарегистрированным больным, которые погибают на первом году. Данные по России разительно отличаются в лучшую сторону: 23 % по стране (оба пола), Севастополь – 11 %, Московская область – 15 %. «Это не потому, что врут, а потому что неправильно организована система сбора и анализа данных. Но хвастаться тем, что у нас 20 % и эти показатели снижаются, – значит позориться. Никто в мире не в силах добиться таких показателей! По всем 14 территориям, которые мы курируем и где исчисляем данные на основе популяционных раковых регистров, картина одинаковая», – говорит профессор Мерабишвили. При этом он не ставит под сомнение достижения в отечественной онкологии, полагая их весьма существенными. Мерабишвили уверен: российские показатели выживаемости действительно близки к среднеевропейским, идет движение в сторону улучшения. Но хорошая работа специалистов дает честную статистику, которая чиновникам просто-напросто не нужна – они ведь уже составили отчеты.
Чиновники бы хотели, чтобы отчеты из года в год выглядели всё симпатичнее, а мороки с ними было бы всё меньше. Видимо, исходя из этих пожеланий, в 2018 году база канцер-регистра сократилась: вместо данных по 550 тысячам больных в ней остались данные по 200 тысячам. Сотрудники Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) убрали из нее всех умерших. И база эта, по сути, стала бессмысленной. Ведь из нее следует стопроцентная выживаемость при любой локализации опухолей и при любой стадии заболевания.
«Это бред, – говорит Мерабишвили. – Человек, попадающий в базу с раковым диагнозом, никогда из нее исключаться не должен, независимо от того, жив ли он, переехал ли в другую местность. Никаких аналитических разработок провести по этой базе теперь невозможно».
В результате базу данных по Петербургу не приняли в Москве, где формируется федеральный регистр, она впервые за 30 лет не попала и в «Рак на пяти континентах».
По оценкам профессора Мерабишвили, в России сейчас около миллиона «живых» мертвых душ – людей, погибших от рака, но никаким образом не отображенных в канцер-регистре. Дело в том, что по многим территориям у специалистов нет или временно не было доступа к базе данных умерших, даты смерти пациентов неизвестны, и они продолжают числиться живыми.
КАКАЯ НА САМОМ ДЕЛЕ СТАТИСТИКА?(ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССОРА ВАХТАНГА МЕРАБИШВИЛИ)Ежегодно в Петербурге регистрируется более 25 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Первое место принадлежит раку молочной железы. В 2016 году было зарегистрировано более 3000 новых случаев (11,69 % от числа всех опухолей), на втором месте – кожа, кроме меланомы (8,75 %), на третьем – рак ободочной кишки (8,73 %). Это распределение характерно для женщин.
У мужчин преобладают рак предстательной железы (14,44 % от общего числа новых опухолей и более 1500 новых случаев за 2016 год), на втором месте рак легкого (14,13 %), на третьем – рак желудка (8,23 %).
Всего в Петербурге под наблюдением находятся более 124 тысяч онкологических больных.
Ежегодно в России умирает около 2 миллионов человек (1 908 541 – 2015 год), при этом абсолютное число умерших в 2015 году от злокачественных новообразований составило 296 476 человек. В Северо-Западном федеральном округе РФ умерло от злокачественных новообразований 32 265 человек: 16 121 мужчина и 16 144 женщины.
В структуре смертности российского населения злокачественные новообразования занимают второе место, как и в СЗФО, после болезней сердечно-сосудистой системы; травмы и отравления перешли на третье место.
Основными причинами смерти среди злокачественных новообразований у мужского населения Санкт-Петербурга являются рак легкого, рак желудка, рак предстательной железы и рак ободочной кишки.
Ежегодно в Санкт-Петербурге регистрируется более 13 тысяч случаев смерти от злокачественных новообразований (13 319 – 2015 год).
С 1990 года смертность среди мужского населения уменьшилась по таким заболеваниям, как рак пищевода, рак желудка, рак гортани, рак легкого, системные новообразования лимфатической и кроветворной ткани. Произошло увеличение смертности от рака ободочной и прямой кишки, костей и мягких тканей, меланомы кожи и предстательной железы. Среди женского населения снизился уровень смертности от рака пищевода, желудка, прямой кишки, новообразований лимфатической и кроветворной ткани, а первые места занимают рак молочной железы, ободочной кишки и желудка.
Увеличилась смертность женщин от рака ободочной кишки, гортани, костей и мягких тканей, меланомы кожи, молочной железы, шейки матки, опухолей мочевых органов и рака тела матки.
В ноябре 2018 года хирург-онколог Андрей Павленко вернулся к операционному столу. Теперь его рабочий день – это утренняя конференция, консультации пациентов, операции, а потом, уже почти ночью, бесконечные встречи и разговоры, касающиеся развития CancerFund. И уже понятно, что первым шагом нового фонда будет создание канцер-регистра, с помощью которого можно будет оценить ситуацию в стране: «Нам необходимо знать, что происходит с больными после первичного приема у онколога, что – после операции или химиотерапии, что – потом. Россия не может приблизиться ни к европейским, ни к американским честным показателям, потому что мы используем показатели грубые. У нас заполняются бумажные формочки, которые хранятся где-то у районных онкологов. Как они заполняются, мы представляем: баба Люба пришла, смахнула бумаги со стола, часть регистра потерялась. Где больные? Наверное, там. Выпадают из общего наблюдения и пропадают в небытие. И это экстраполируется на отношения доктор – пациент и на отношение общества к болезни. То, за чем не следят пристально, кажется неважным, вытесняется из поля зрения. Хочешь чаю?»
Мы пьем чай и смотрим на звезды над замерзшей Фонтанкой.
«Давай представим, что ты создал канцер-регистр, – спрашиваю я Павленко. – Что дальше?» Мне кажется, сейчас будет медленный разговор о несбыточных мечтах. Но Павленко опять загибает пальцы: у него есть план, он всё продумал, у него на размышления был целый год болезни.
«Да, надо начинать с электронных регистров. Сюда должны вноситься данные по всем онкохирургам. Как они оперируют? С какой частотой? Какая нозология? С какими осложнениями? С какими результатами? Как часто у пациентов возникают рецидивы? Как часто возникает прогрессирование? По какому пути пошла болезнь? Как она прогрессирует? Эти закономерности очень интересны для онкологов. Большой массив таких данных даст нам ключ к пониманию масштаба проблемы. Мы понимаем сейчас, что проблема глобальна, но не можем облечь ее в какие-то рамки.
У нас сейчас нет сильного инструментального голода. Что это значит? Практически все диспансеры оборудованы современным диагностическим оборудованием, есть компьютерные томографы, МРТ, УЗИ, эндоскопические стойки. В некоторых регионах есть проблемы, но из-за волны по поводу принятия программы онкологии (Национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями) инструментальный голод не особо виден. Но контакта между медицинским учреждением и пациентом, в том числе с пациентом, у нас нет. У нас не существует государственных программ скрининга, это точно. Причем надо понимать, что диспансеризация и скрининг – это разные вещи. Их роднит только то, что и то, и другое подразумевает постоянный контакт человека и клиники, пациента и врача».
«О каких скринингах речь? Что бы в этой области ты хотел изменить?»
«В понимании онколога ранняя форма – это интраэпителиальный рак, то есть рак, который на 100 % можно излечить минимальным эндоскопическим внутрипросветным (то есть неинвазивным, «без разреза») вмешательством, если говорить о раке желудочно-кишечного тракта. В понятии нашего Минздрава ранний рак – это первая, вторая стадии заболевания. Если мы берем вторую стадию заболевания для рака пищевода, там пятилетняя выживаемость не превышает 55 %. При раке желудка – 60 % для второй стадии. Но это не ранняя форма рака, мы 40 % пациентов теряем в течение следующих пяти лет, они умирают при прогрессировании заболевания. В общем, скрининг и диспансеризация – разные понятия. Отличается от них и профилактика рака – устранение факторов, которые могут приводить к развитию онкологического заболевания: борьба с курением, устранение канцерогенов, устранение загрязнений окружающей среды и так далее. Это более глобальная проблема. Часто наши чиновники от медицины сильно путаются в показаниях, они не понимают, в чем разница между этими тремя терминами: диспансеризация, скрининг и профилактика.
Так вот, у нас нет государственной программы скрининга, к сожалению, ни по одному онкологическому заболеванию. В Советском Союзе была хорошо развита система скрининга рака шейки матки – знаменитый ПАП-тест, мазок, и большинство ранних форм были выявлены на стадии дисплазии, предракового заболевания, которое обязательно перерастает в рак, если его не лечить. Сейчас, насколько я знаю, у нас нет и этих программ, они не финансируются, не проводятся на популяционном уровне. А это как раз то, во что надо вкладывать деньги. Потому что лечение третьей, четвертой стадий на несколько порядков дороже, чем лечение рака на ранней стадии. Когда мы можем обойтись только простым хирургическим вмешательством, больному не надо будет проводить дорогостоящие химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию. Если бы мы вложили средства один раз в развитие скрининговых программ, то увеличили бы частоту выявления ранних форм рака, снизили бы в конечном итоге нагрузку на бюджет. Это бы не сразу произошло, но лет через 5–10 позитивные изменения были бы видны невооруженным глазом», – говорит Павленко.
Мы выходим на мороз, прошептав «до свидания» задремавшей гардеробщице, скрипнув в абсолютной ночной тишине тяжелой дверью клиники высоких медицинских технологий. Где-то залаяла собака, мимо пронеслась темная иномарка с грохочущим внутри хитом 1990-х. Павленко надо ехать домой: там жена, дети, но ему надо договорить, дорассказать свой план. И уже забравшись одной ногой в машину, он задерживается, не садится, договаривает: «Все врачи четко знают, какие раки хорошо выявляются на ранних стадиях: рак молочной железы, рак шейки матки. Визуальные формы – рак кожи, меланома. Рак простаты, колоректальный рак. Вот пять локализаций раковых опухолей, по поводу которых можно было бы спокойно и с хорошим результатом проводить скрининговые программы. Не дешево и не быстро. Это будет стоить денег, причем немалых, потому что оборудование для скрининга недешево. Но в конечном итоге это принесет фантастический результат: мы сэкономим деньги на лечение и мы спасем жизни. Только это никого не интересует».
«А что интересует?» – спрашиваю. Хотя этот разговор на морозе с человеком, почти усевшимся в машину, выглядит довольно странно.
«У нас все всё время бегут: срочно купить всем томографы! Купили. Специалистов не обучили. К томографам программ по обучению нет, техники как хотят, так и работают, томографы ломаются. Деньги освоены, а эффекта нет. У нас нет долгосрочных целей, которые необходимо ставить для решения глобальных проблем, к сожалению. Кстати, знаешь, болезнь учит планированию: ты лежишь и придумываешь себе день за днем нормальной жизни, ты строишь план. И у тебя есть время сделать его идеально отточенным».
Он улыбается. Дверь хлопает. Машина уезжает. Я некоторое время стою, пораженная очередным невероятным эффектом замены «За что?» на «Зачем?» И, кажется, верю, что все задуманное онкологу Андрею Павленко удастся.
Глава 23
Я не понимаю себя, не чувствую. Не чувствую почвы под ногами. Мне опять страшно. Всё опять переворачивается с ног на голову.
Медленно, но верно я учусь жить с раком. Иногда мне кажется, что я хороший ученик. Иногда – что не очень. Тогда я паникую, мечусь, пытаюсь что-то переиграть, придумать еще какой-то более действенный вариант. Потом успокаиваюсь, возвращаюсь в свою колею. Но чувство уверенности в завтрашнем дне, чувство того, что всё, что я делаю, – единственно верный путь к выздоровлению, – это чувство никак не приходит.
В жизни каждого онкологического больного наступает момент, когда он вдруг начинает сомневаться в том, что все возможные средства для его спасения задействованы. И в том, что эти средства действительно сработают. Как правило, этот момент сопряжен с поиском панацеи на стороне. Пациент или семья принимаются штудировать Интернет, популярные, специализированные и даже сомнительные издания в поисках какого-нибудь удивительного «альтернативного» спасения.
Кто-то бросается на поиски «немедицинского» способа решить все проблемы еще на стадии постановки диагноза и выбора оптимального метода лечения. Кто-то – в самом разгаре химиотерапии, устав от многочасовых капельниц и их тяжелых последствий. Но в возможность существующего на свете «волшебного» и «моментального» способа излечения в какой-то момент верят почти все: видимо, так устроен человек.
Временами начинает казаться: всё напрасно, медицина бессильна. Та самая медицина, которой я прослужила столько лет, та медицина, в руки которой я теперь отдала себя…
В голову приходит убийственная мысль: на свете нет лекарства, что может вытащить меня, поднять и вернуть в нормальную жизнь. Какой-то всё еще сохранившейся частью рассудка понимаю: это обыкновенная психология пациента – цепляться за пусть даже призрачную иллюзию того, что на свете есть нечто, способное совершить быстрое и удивительное чудо, спасти. Но страх подавляет рассудок. Страх питает неуверенность в том, что я иду правильным путем. Страх подталкивает к попыткам найти что-то мгновенное, немедицинское, другое…
В общем, я прошу дочь найти кого-то, кто не врач, но кто согласится помочь. Разум подсказывает: так не бывает, но где-то внутри теплится надежда – а может быть, это и есть мой шанс на спасение?
Об этой слабости, о «страхе после страха» Женя отважится признаться мне только через несколько месяцев после знакомства и нашей совместной работы над проектом. Да и то в ответ на мой возмущенный рассказ о том, что во дворе одной из крупных московских клиник появились граффити на асфальте: «Лечу от рака. Быстро и гарантированно. Запатентованный альтернативный способ». И телефон. Я негодовала: «Во дворе больницы гуляют мамы с больными детьми. Возможно, их вера в медицину зыбка, дети болеют долго, тяжело и не всегда вылечиваются. А бывает и так, что помочь невозможно. Но ведь вполне может случиться, что какую-нибудь не очень образованную маму такое объявление заинтересует? И, оставив лечение, она помчится на край света за чудодейственным снадобьем, лишив ребенка шанса быть вылеченным средствами официальной медицины? Просто от отчаяния помчится, устав ждать?!»
В ответ Панина молчит. Молчит. Молчит, а потом просто произносит: «Наверняка какая-нибудь мама помчится». И ждет моей реакции. Я не унимаюсь: «Почему руководство больницы не сотрет эти граффити? Ведь это может быть просто опасно для жизни пациентов». Женя сжимает губы: «Катя, я как-нибудь расскажу вам о том, как усиливается вера в чудо у больных раком. Как-нибудь, не сейчас».
В следующий раз мы с Паниной вернемся к этому разговору, обсуждая громкую историю ареста целительницы Надежды Антоненко, обнадежившей тысячи онкологических больных по всей стране обещаниями вылечить рак быстро и с гарантией так называемым божественным методом. На самом деле тех, кто готов подхватить, заморочить и, введя в заблуждение, разорить пациента на грани отчаяния, много. Бесплатные газеты пестрят самоуверенными объявлениями: «Лечу рак по фотографии». Более замысловатые способы подразумевают личное присутствие больного и набор никому не понятных, но интригующих ритуалов.
В полупустом доме Людмилы Кудрявцевой ветер едва слышно треплет лепестки оставшихся на стене обрывков обоев. В доме, кажется, больше нет ничего: холодный грязный пол, лысые стены, угрюмые окна, словно через силу освещающие убогость помещения. По дому, всплескивая руками и непрерывно вытирая их о фартук с розочками, мечется Людмила Кудрявцева, мама двадцатитрехлетней Оли. Олин диагноз – рак печени, поставленный лишь на четвертой стадии заболевания. Оля и мама жили в глубокой провинции, и путь до городского онколога занял у мамы с дочкой три с половиной месяца, а потом еще два – ожидание возможности приехать на обследование в Москву. Вот в Москве, в Онкоцентре на Каширском шоссе уже и поставили точный диагноз. И даже взялись Олю лечить. Предписано было три курса химиотерапии. Два Оля прошла. Они дались тяжело, но, как говорили врачи, тенденция была положительной. За неделю до третьего курса Людмила Кудрявцева наткнулась на объявление в ивановской газете «Хронометр» о «божественном методе» целительницы Антоненко. И, уговорив дочь бросить больницу, помчалась за чудом.
Скрипит сорванная с петель дверь в доме Кудрявцевых. Где-то далеко, дома через два, лает собака, голосом больше похожая на волка. Людмила Кудрявцева ищет слова, чтобы объяснить их с дочерью побег из Онкоцентра. И, не отыскав, скребет ногтями голые стены своего полупустого дома. Потом безвольно прислоняет голову к холодной стене. Потом с размаху, до боли, ударяется в нее лбом. И воет.
Этот материнский, бабий, русский, очень простой человеческий вой сливается со скрипом сорванной дверной петли, с лаем собаки. Она воет от бессилия, не умея даже самой себе объяснить, почему лечить дочь Олю она решила таким замысловатым способом. От отчаяния, что ли. От усталости. От страха за дочь, за себя, за внучку, Олину дочь Настю. Ну как-то лишил Людмилу Кудрявцеву рассудка этот свалившийся на голову диагноз.
Кудрявцева рассказывает: «В объявлении «Хронометра» (бесплатная региональная газета) я нашла телефон центра «Надежда». Позвонила, там сказали адрес, сказали, что да, лечат рак. Внутри всё перевернулось – Олю спасут. Вначале я одна поехала к Антоненко. Она даже слушать ничего не стала. Закрыла глаза, посидела молча, потом говорит: «Дочь твою врачи замучили, а я излечу». Велела привозить Олю, оставлять на лечение. Но прежде, сказала, надо снять ковры со стен, обои содрать – всё сжечь. Всё цветное, всё, что из роскоши: телевизоры, приемники, проигрыватели. Оружие и даже ножи и вилки держать в доме нельзя. Посуда, которая с цветами и рисунками, тоже запрещалась. Всё это надо было перебить, выкинуть, уничтожить. Постель, сказала, должна быть только гладкая, без белья, то есть доска одна. У внучки велела отобрать все игрушки – мол, это тоже дьявольские искушения. И главное – золото. Золото всё из дома она сказала собрать и привезти к ней. Золото это они при мне ломали, всё сломали, а потом куда-то унесли. Я говорю: «Куда несете, там ведь и кольцо бабкино», а она мне: «Хочешь дочь вылечить? Молчи!»
От рака печени целительница Антоненко в собственном центре «Надежда» лечила Олю «живой» водой. Сама Людмила этого не видела, но Оля рассказывала, что по «божественному методу» Антоненко ей делали несколько раз в день инъекции этой «живой воды». «Живая вода» отстаивалась в трехлитровых банках на полках в центре целительницы Антоненко. Следствие выяснит, что это была обыкновенная водопроводная вода, в которую просто очень сильно верили тысячи страждущих. И доверяли себя целительнице. Тем более что каждый сеанс излечения сопровождался эмоциональным наставлением.
«Она поднимала руки и громко говорила: «Излечимся только здесь!» Если ей кто-то говорил про химиотерапию или что-то в этом духе, то она прямо свирепела: «Вас там травят, вас там убивают!» Потом уже вкалывала эту воду больным куда-то сзади. Я не видела. Оле вначале стало вроде бы полегче. Я прямо молилась на Антоненку. Верила. Но не помогла она, не помогла. Не знаю почему. Себя виню», – вспоминает Людмила Кудрявцева.
На лечение Оли у семьи ушло около 160 тысяч рублей, это чуть больше, чем положено по минздравовской квоте на лечение одного онкологического больного в России. А еще – всё семейное добро, оказавшееся на помойке, золото, сгинувшее в недрах центра целительницы Надежды Антоненко. Но это, конечно, мелочь по сравнению с Олиной жизнью.
В первые дни у Антоненко Оля вроде бы воспряла духом, даже говорила о том, что стала чувствовать себя лучше. Но через несколько дней эйфория кончилась. Оля сгорела на глазах, оставив сиротой маленькую Настю.
Целительница Антоненко, многим, как и Оле, обещавшая чудесное избавление от рака, в конце 2011-го ненадолго оказалась на скамье подсудимых. Но за нее вступились тысячи адептов по всей стране, некоторые даже организовывали пикеты у здания суда. В итоге вина целительницы доказана не была, Антоненко вышла на свободу, вернула к жизни центр «Надежда» и продолжила бизнес по чудесному излечению от смертельных болезней. Рекламный слоган центра остался прежним: «Неизлечимых болезней нет. Надежда». Но на сей раз центр Антоненко просуществовал недолго. В самом начале 2012 года целительница снова оказалась за решеткой. «Надежду» брали штурмом. Потом был еще один судебный процесс. В итоге Надежду Антоненко признали виновной по статье «мошенничество» и дали три года колонии-поселения.
А Олина мама, так ничего и не поняв про рак, всё вытирает и вытирает руки о фартук с розами и то вслух, то про себя гадает: может, они чего не выбросили, может, какое указание не соблюли? Иногда ей и вовсе кажется, что надо было не к Антоненко, а к какой-нибудь другой целительнице, про которую она тоже слышала «много всего обнадеживающего». И перебирает в уме все адреса и телефоны, про которые ей говорили «знающие люди». И нет среди этих адресов ни больниц, ни госпиталей. О чудесных в основном местах думает Олина мама. И вздыхает: «А может, и вообще этот рак нельзя было вылечить. Ведь сколько от него людей умирает. И богатых, и знаменитых. И артистов сколько. А некоторые даже в Тибет ездят, там им помогают, но они всё равно потом умирают. А у нас денег на Тибет не было. Так всё равно Оля умерла, что уж теперь… Господи…»
Вряд ли в своих причитаниях Людмила Алексеевна имеет в виду Стива Джобса. Однако известно, что великий прагматик и интеллектуал Джобс, узнав о раке, не поспешил к хирургам. А около десяти лет лечился тибетскими травами и консультировался у специалистов по энергетическому воздействию. Видимо, так устроен человек.
Экстрасенс, или, как она сама себя называла, специалист по бесконтактному лечению, встречает меня у себя дома. Глубокомысленно смотрит в светящийся шар, что-то шепчет. Я жду. Сердце замирает – сейчас случится чудо.
Несколько минут сложных манипуляций, и экстрасенс доверительно сообщит: сложности в семье, разбитое сердце. Панина спросит: и это всё? А здоровье? Экстрасенс удивленно поднимет плечи: что здоровье? Со здоровьем всё хорошо.
Я прямо взрываюсь: «Вообще-то у меня рак». Она так вздохнула, как будто я сбилась на что-то неважное, второстепенное, а потом говорит: «Ах да, да, с этим ко мне часто обращаются». И протянула какую-то банку с темной маслянистой жидкостью. Это, говорит, поможет.
Заплатив немалые деньги, Женя в изумлении вышла от экстрасенса. Шла по улице, считая шаги, всё время щупая банку в кармане плаща. Потом еще сама себе удивится: как она, слабенькая после двух химий, смогла преодолеть расстояние в несколько станций метро. Дойдя до дома, опомнилась: «Да что же это такое творится!» И, словно бы в одну секунду оправившись от морока, выбросила банку в мусорный ящик. Потом жалела: надо было все же посмотреть, что это такое было внутри.
Она рассказывает мне эту историю нарочно без эмоций. Ощущение, что стесняется самой себя, своего срыва, мимолетного малодушия. Но, видимо, это и есть психология уставшего от болезни и лечения пациента, простая человеческая психология, подразумевающая надежду на то, что где-то рядом есть простой, чудесный и совсем нетрудный выход. «К сожалению, у рака таких выходов нет, – качает головой Панина. – Теперь-то я это могу говорить, потому что и это я попробовала тоже». Она улыбается. Впервые за этот трудный разговор. Улыбается и говорит: «Знаете, Катя, я так счастлива, что Бог уберег меня от этой дурацкой банки. Ведь в итоге со мной случилось настоящее чудо: я всё еще жива. Чудо, конечно, в том, что я сбежала от этой тетки. И даже в своем отчаянии все-таки не смогла ей поверить».
Но такая уж болезнь – этот рак. С одной стороны, известен каждому, а с другой – никем до конца не изучен: непонятно, откуда приходит, не всегда и не на 100 % излечим. И наверняка трудно угадать, где подстелить соломку, чтобы не было больно падать, как «с гарантией» подготовиться, чтобы выйти победителем.
Именно по этой причине любые, даже ложные надежды на излечение немедленно перестают быть только научной новостью и становятся заголовками газет. Их подхватывают и с невероятной скоростью передают из уст в уста. Так рождаются мифы о каком-нибудь новом чудодейственном лекарстве или методе, который ученые уже якобы доказали.
В одном из нью-йоркских кафе ранним воскресным утром мы пьем горячее какао с океанологом Дином Фесслером. Дин сонный, потому что рановато, я сонная, потому что джетлаг. Официанты лениво-сонные, просто чтобы соответствовать моменту: воскресное нью-йоркское утро. За окном просыпается Манхэттен. Солнце торопится само и торопит проснуться всех, кто в силах. Разбудить Дина оказывается слишком просто: он выпучивает глаза и мгновенно просыпается, стоит мне вынуть из сумочки купленную в Израиле банку с акулой на этикетке. На банке написано: «Экстракт акульего хряща». В принципе подобную банку можно было бы купить и в любой американской аптеке. Без рецепта. Недорого: на наши деньги рублей 200–300. В начале XXI века акулий хрящ не диковинка, а одна из биологических добавок, считавшаяся когда-то спасительной и перспективной. Звездный час акульего хряща, безусловно, пришелся на конец 1980-х – начало 1990-х, когда даже самые уважаемые научные журналы запестрели докладами: «Ученые доказали, акулы не болеют раком».
В это время профессор Андрей Гудков еще жил в Советском Союзе и в качестве младшего научного сотрудника работал в Научном институте при Онкологическом центре на Каширском шоссе. «И вот где-то официально, где-то полуофициально, но в основном на уровне слухов, пошел какой-то невероятный вал сообщений об этих акулах, которые якобы не болеют раком, – вспоминает Гудков. – И началось настоящее коллективное сумасшествие. Народ безостановочно стал писать в центральные газеты и партийные органы: «Где это лекарство из акул? Почему его от нас скрывают?» А привозили это чудо-лекарство с братской Кубы. Руководителем Онкоцентра тогда был академик Блохин, теперь центр носит его имя. Блохин был в составе ЦК КПСС, который принял закон «О работе с письмами трудящихся»: трудящиеся пишут в ЦК, а ЦК несет ответственность за то, чтобы на их письма отвечали лучшие специалисты в стране. И поэтому жизнь тех, кто считался приличным специалистом в стране, стала непростой… Есть же разные письма. Например, пишет человек: «Я уже третий год держу под кроватью таз с концентрированным раствором хлорида калия и пью свою мочу трижды в день – и до сих пор не заболел никаким видом рака, давайте внедрять это в практику здравоохранения». Такие письма тоже приходили, и Блохин спускал их в наш институт, а мы должны были на них отвечать. И вот вдруг все граждане перестали писать про чудодейственность мочи и стали писать про секретные и небывалые свойства акульего плавника или хряща, как это еще называлось. И такое было давление общественности, что были вынуждены развернуть целое научное исследование».
По словам Гудкова, с самого академического верха была дана команда, и ученые в Научном институте РОНЦ проводили исследования, где экстракты акульих плавников проверялись на моделях рака. «Ответить на большинство вопросов, которые граждане задавали в письмах, можно было и безо всяких исследований», – усмехается Гудков. «Ответить – что?» – спрашиваю. «Как что? – сердится профессор. – Что этого не просто не может быть, но что этого не может быть никогда. И что придавать антираковые свойства каким-нибудь частям каких-либо существующих в природе животных, даже если они в самом деле не болеют раком, – это полный бред. Ну, не лечим же мы, скажем, больных сифилисом экстрактом органов здоровых людей. Но было потрачено немало усилий исследователей на то, чтобы доказать очевидное. И – о чудо! – доказали. Написали отчеты и объявили ложный слух тлетворным влиянием Запада. В тогдашнем СССР никто, конечно, и предположить не мог: империалисты страдают от ложных надежд не меньше нашего».
Примерно в то же самое время исследователь акул Дин принимал участие в знаменитом эксперименте: акулам вводились большие и экстремально опасные дозы канцерогенных токсичных химикатов. В начале эксперимента действительно были данные о том, что у большинства акул не развивались раковые опухоли. Информация попала в прессу. И тут Фесслер вздыхает: «Еще ничего не было доказано, просто радостная заметка в прессе. Но сразу появились люди, которые решили на этом заработать. Они заявили, что акулы – новое средство борьбы против рака. Все исследования велись на Восточном побережье, они очень быстро стали доступны на Кубе и почти одновременно попали в американскую и кубинскую прессу. И я думаю, что из кубинской – уже в советскую. На Кубе начались массовые – как подпольные, так и официальные – отловы акул: их потрошили, отрезали плавники и делали из них то, что потом за сумасшедшие деньги контрабандой продавали по всему миру под видом спасительного экстракта акульего хряща!»
В США отлаженный бизнес официального производства пилюль из акульих хрящей, плавников и других якобы целебных частей тела существует до сих пор. Ведь для того чтобы некая пищевая добавка была допущена в США к продаже, достаточно доказать, что она не приносит вред. Разумеется, экстракт из любой части тела акулы не мог принести вред: там много омега-3, фосфора, других полезных веществ, это действительно не вредно. Но и от рака не спасает. Но люди об этом не задумывались. Им подарили надежду. И это свело всех с ума. Всех: умных, глупых, образованных и не очень.
«Представьте себе, – говорит вдруг Фесслер, и у нашей утренней беззаботной беседы тут же появляется нерв и напряжение, – когда моя сестра заболела раком, то, даже зная, чем я занимаюсь, зная, что все эти разговоры о целебности акульего хряща – просто разговоры, она всё равно как сумасшедшая ела эти капсулы. Я пытался ее остановить, но она только сказала: «Дин, прости меня, я уважаю твое мнение, но вдруг акулий хрящ поможет мне вылечиться от рака?» И точно так же спустя несколько лет поступила моя мама. Я приходил к ней домой, ухаживал за ней, я нанимал для нее лучших специалистов-онкологов, от которых она отмахивалась. Прятала в тумбочке баночку с этими «спасительными» пилюлями и тайком ими лечилась. И моя мама, и моя сестра умерли. Никакой хрящ, конечно, не помог. Нет, я не обвиняю хрящ и всю эту истерию, связанную с акулами, в смерти своих близких, нет. Я просто хочу сказать, что они могли бы не тратить время на эти снадобья, а доверять официальной медицине. Может, тогда шансов на излечение было бы больше».
За два последних десятилетия XXI века индустрия по убийству акул достигла невероятного размаха. Ведь целебными считаются только хрящи. Их вырезают, бросая окровавленные туши гнить на берегу.
Похоронив сестру и маму, Дин Фесслер сделал смыслом своей жизни спасение акул от массовых убийств, не приносящих никому никакой пользы.
В своей борьбе Дин последователен. И в промежутках между спасательными экспедициями с Гринпис, цель которых поймать браконьеров за руку, Фесслер штудирует научные статьи в журналах 1980-х, пытаясь понять: кто начал истерику по поводу целебности хряща, кто ввел всех в заблуждение? В 2013-м в одной из букинистических лавок Нью-Йорка океанолога ждала удача – первое издание книги с броским заголовком: «Акулы не болеют раком». 1983 год. Мягкая обложка. «Когда я ее увидел, меня аж затрясло: вот она, та самая первая книга, на которую в той или иной форме ссылаются все «последователи», вот то, с чего всё началось! Авторы – вымышленные персонажи, хотя, если честно, я кое-кого из нашей группы 1979 года по исследованию резистентности акул к раку и подозреваю. Впрочем, дело не в этом, а в том, насколько лжива по своей сути эта книга. Вот заголовок: «Акулы не болеют раком». Этому же «революционному» аспекту посвящено и всё предисловие книги. Спустя всего несколько страниц авторы пишут: «Нам известно, что акулы иногда заболевают раком». То есть, чтобы совсем без рака, тут даже у акул не получается. Но броский заголовок делает продажи. Это такая приманка для людей, потерявших веру и живущих последней надеждой найти какое угодно лечение против рака. И их так легко обмануть», – говорит мой собеседник.
Дин Фесслер полагает целью своей жизни окончательно и бесповоротно в самых широких слоях населения развенчать миф об антираковых свойствах акульего хряща. Он даже нанял сыщика для поиска авторов той самой книги 1983 года и адвоката, чтобы с ними судиться. Однако индустрия броских, но необязательных утверждений за 30 лет ушла сильно дальше возможностей пожилого океанолога.
Вслед за бумом акульего хряща пробил час фекалий летучей мыши, то есть мумиё. Потом еще говорили о том, что лысые крысы, или голые землекопы, что живут в Кении, не болеют раком. А недавно в топы выбилась история о неподвластных раку белках. И ученым приходится на все эти вопросы отвечать. И на это тоже уходит время. В том числе и время, отведенное на мое интервью с профессором Андреем Гудковым. Гудков сердится и, как уставший учитель, повторяет ученику-тугодуму: «Катя, все-все виды животных, которые хорошо изучены, за одним исключением, болеют раком». «Что это за исключение такое?» – оживляюсь я. «Как ни удивительно, это родственник упомянутого вами голого землекопа – blind mole rat. Этого подземного грызуна изучали долго, он живет аж до 20 лет, и не только никогда не наблюдали самопроизвольно возникающих раков, но и не смогли вызвать рак канцерогенами. Недавно команда американских и израильских ученых (под предводительством нашей бывшей соотечественницы, профессора Веры Горбуновой из Рочестерского университета, США), в которую входил и я, опубликовала работу, которая, похоже, объяснила этот чудесный феномен совершенно необычным, никому больше не свойственным способом, каким эти звери избавляются от старых клеток. Это исключение, впрочем, не меняет общей картины, и не значит, что надо этих крысокротов поедать, чтобы жить дольше».
«То есть белка болеет раком?» – «Я сам никогда не видел белку с опухолью, но гарантирую, что с ней это случается. Другое дело, что белки не являются лабораторными животными, мы мало их изучали. Поэтому о частоте рака у белки логично спросить у зоологов. Но полевые зоологи обычно имеют дело с животными молодыми, поскольку в дикой природе редко кто доживает до старости, будучи подвержен разнообразным инфекциям и прочим опасностям. А посади белку в виварий, начни лечить антибиотиками, чтобы она прожила положенный ей природой и проявленной заботой ученых трехкратный возраст белки дикой, конечно, появятся у нее раки.
Так же и у людей. Вот почитайте, Катя, мировую художественную литературу. Ту, что до середины XX века. Есть ли там хоть слово о раке? Нет. Вот так конкретно: жил Иван Ильич и умер от рака – нет. (Профессор Гудков намекает на то, что считается, что Л. Н. Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» описывает именно смерть от рака, хотя прямо на этот диагноз автор не указывает. – К. Г.) Значит ли это, что раньше рака не было? Отвечаю: нет, не значит. Просто люди, как правило, не доживали до того возраста, когда рак становился главной болезнью, умирали от других болезней, несчастных случаев, войн, в конце концов. Мы проявили рак повышением качества жизни и тем, что очень здорово научились лечить всё остальное. Сейчас все говорят: чуть ли не эпидемия рака шагает по планете. А если посчитаешь внимательно, то всё совершенно не так. Действительно, появились и, наконец, были описаны редкие раки. Но это лишь значит, что, во-первых, принципиально улучшилась диагностика, а во-вторых, мы так хорошо научились лечить сердечно-сосудистые и инфекционные заболевания, что раки выходят в цивилизованных странах на первое место как причина смертности.
Потому что люди перестали с такой частотой умирать от инфаркта, который в наше время простая и понятная в своей причинно-следственной связи болезнь. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний – это ремонт сломанного или засоренного водопровода. А рак – возникновение новой формы жизни. Его лечение нам еще только предстоит изобрести. Мы его ждем, мы по нему тоскуем, мы нервничаем от того, что оно не появляется так быстро, как нам бы хотелось. И мы еще больше нервничаем, зная, сколько страдающих ежедневно людей ждут от нас этого великолепного озарения».
Пожалуй, это был самый эмоциональный момент интервью с профессором Андреем Гудковым. Ясно, что попытки недалеких пациентов ухватиться за любую, пусть даже сомнительную соломинку, намекающую на возможность моментального спасения от рака, настоящие ученые воспринимают как претензию в свой адрес: ну почему так долго, ну что же вы там копаетесь? Необходимые науке десятилетия на разработку, исследования и клинические испытания возможного спасительного средства, связанные с этим ожидания и провалы, обычные, боящиеся рака или уже болеющие им люди, как правило, списывают на нарочные промедления и даже заговор. Выдержка и долготерпение ученых обыкновенным пациентам кажутся невероятными. Как будто ученые эти и их близкие сами не болеют раком или не понимают: спасительное лекарство нужно здесь и сейчас. Ну нет даже десяти лет в запасе у обыкновенного человека. Иногда и десяти дней нет.
Профессор Гудков, конечно, такие упреки впрямую слышит нечасто. Но как тонкий человек чувствует их. И как настоящий пассионарный ученый переживает: «Наше нынешнее состояние с лечением рака напоминает состояние с лечением инфекционных болезней в доантибиотиковую эру: туберкулез, сифилис, чума, холера – всё это казалось неизлечимым, а потом вдруг – раз, и нашлись антибиотики. И эта иллюзорная легкость, с которой человечеству достались антибиотики, нас избаловала. Хотя, безусловно, случилось великое дело, которое поддерживает нас в вере в то, что и против рака может быть изобретено нечто действенное и универсальное. Это сродни знанию, что твой сосед выиграл в лотерею. То, что это в принципе возможно, греет. Каждый ученый – игрок. Если бы мы не были игроками, то мы бы давно уже опустили руки. Ведь если работать по Павлову или по Дарвину и убедиться, что это лекарство не работает, другое – провалилось, третье вообще приносит вред, можно сказать, что поиск лекарства от рака – это не занятие для нормального человека. Я лучше буду ботинки чистить: в конце концов, это результат, видный каждый день. А тут бьешься годами, и у тебя сплошные провалы. Вот потому психологически долго в науке выдерживают только люди, которые остались детьми, они умеют верить даже тогда, когда поводы верить практически исчерпаны. Чем отличается ребенок от взрослого? У взрослого мир закончен. Ребенок каждую секунду готов к тому и даже знает, что мир поменяется, не просто может поменяться – должен! Для ученых такой, способный многократно и кардинально меняться мир, – наука. Так мы и живем».
Глава 24
Четыре блока химиотерапии позади. Скоро должен прийти результат. Страшно. Но этого результата я очень жду. Результат должен показать – у меня есть шанс продолжить бороться или нет. Если да, то дальше трансплантация. Говорят, это еще тяжелее химии. Но это уже надежда на победу. Я так хочу, чтобы мне дали эту надежду.
В конце октября 2010-го Женя опять дома. Опять разглядывает свое лысое отражение в зеркалах и стеклянных створках шкафов, опять ждет звонков и боится каждого звука, издаваемого телефоном, опять меряет шагами квартиру. Она опять ждет знака судьбы: всё не напрасно, есть шанс выкарабкаться. Но иногда, устав ждать, опять опускает руки: а если не хватит сил…
В последнюю неделю октября, устав от ожидания и внутренних терзаний, она вдруг приходит к необычайно простому, вроде бы разумному, но очень нетипичному для онкологического пациента в России решению: выйти на работу.
Родные и друзья поначалу изумятся: лечение не окончено, как же так? Но всем ясно, взаперти Женя сведет и себя и всех, кто рядом, с ума. Ее энергии нужен выход. А ей самой нужно еще что-то, кроме замкнутого круга лечения и ожидания его результатов.
В общем, возвращение на работу было как минимум шансом сменить обстановку. По большому же счету – возможностью проверить себя: она всё еще может работать, она там еще кому-то нужна? Ей самой всё еще интересно работать?
«Решение выйти на работу пришло как-то само собой, легко. Но сразу возникли трудности: это же значит выйти из дома! Полгода маршрут больница – дом (не считая, конечно, этой безумной вылазки к экстрасенсу) совершенно лишил меня этой привычки. Да и как выйти на улицу, как прийти на работу – я же лысая!
Парик. Надо купить парик. Оказывается, в Москве не так много магазинов париков для лысых после химиотерапии женщин. Узнаем адрес. Едем с мужем. Я стараюсь сидеть в машине так, чтобы меня вообще не было видно снаружи. Стараюсь срастись с креслом. Боюсь даже повернуть голову: кажется, наша машина в центре всеобщего внимания. И все смотрят, конечно, как я еду покупать себе парик. Чушь какая-то. Сама себе говорю: «Женя, это чушь, в Москве десятки тысяч машин, и все куда-нибудь сейчас едут». Подъехали. Выйти из машины – практически подвиг. Бегом в магазин. На пороге едва ли не спотыкаюсь: вспоминаю вдруг, что уже была здесь, практически в другой жизни. До болезни.
Какая странная рифма судьбы: именно в этот магазин париков незадолго до болезни я приводила свою пациентку. Ту самую девочку после онкологии. Мы с ней вместе покупали парик. Помню, как я ей тогда говорила: «Надевай и смело выходи на улицу, шагай в новую жизнь. Никому нет дела до тебя, никто не смотрит, все в порядке!» Как же я была неправа. Господи, как же я была неправа…
Это только в красивых фильмах и обнадеживающих социальных брошюрах уверяют: гордо поднимите лысую голову и идите, улыбаясь всем вокруг. В жизни так не бывает. В жизни лысую после химиотерапии голову женщины прячут под париком. И после стерильной онкологической палаты боятся свежего воздуха, надевая на лицо медицинскую маску. В новом парике, в маске, закрывающей половину лица, Женя сорок минут не может выйти на улицу. Просто заставить себя открыть дверь и переступить порог. Доходит до двери, хватается за ручку, бросает, возвращается, садится на стул и сидит. И ее трясет мелкой дрожью.
Защитную маску на лице в местах большого скопления людей носят, как правило, люди с ослабленным иммунитетом: те, кто перенес химиотерапию или трансплантацию костного мозга. Если вы увидите на улице, в театре, в магазине или автобусе человека в маске, пожалуйста, не отворачивайтесь и не пытайтесь убежать или увести детей. Этим людям и так непросто.
В конце концов становится стыдно перед консультантами магазина. Я, кажется, полчаса стою перед дверью, не решаясь выйти на улицу. Подхожу – отхожу. Снова подхожу. Наконец заставляю себя дойти до двери, открыть ее и выйти, шагнуть на улицу. Делаю этот первый шаг зажмурившись, пока никто не видит. Вроде ничего. Иду. Пот катится по позвоночнику. Мне кажется – ВСЕ, буквально ВСЕ на меня смотрят. Это невыносимо. Первые минут пятнадцать совершенно невыносимо, прямо пытка. Потом – вроде бы ничего, жить можно. Решаю выйти с понедельника на работу.
На работе Панина до сих пор числится в официальном отпуске. О ее болезни знают только самые близкие из коллег, всего пара человек. Не делая никаких специальных заявлений и никому из посторонних ничего не объясняя, она решает выйти из отпуска. И, надев маску, парик и положенный ей по долгу службы белый халат, возвращается на работу. В привычную среду. Ставшую за эти полгода какой-то очень далекой. Почти чужой.
На работе – молодцы. Сделали вид, что ничего не заметили, что всё так и надо. Сказали, что у меня отличная новая прическа. А маска? Маска – это от гриппа. На улице же эпидемия. Состояние тяжелое, боли, тошнота, головокружение, слабость, в маске трудно дышать. Но как только на прием заходит пациент, мне как будто становится легче. На работе я забываю про свою болезнь. Здесь я уже врач. Люди ждут от меня помощи. И я чувствую, что могу им помочь. И результаты каждого приема стоят всех усилий: я ведь помогаю людям, я им нужна. И, как ни странно, даже то, насколько тяжело мне дается работа, вдохновляет, придает сил и уверенности: я на своем месте, всё будет хорошо.
Она как будто заново учится жить, думать, дышать, понимая, что теперь в ее жизни есть рак. Есть и будет всегда. И ей надо поверить в то, что это обстоятельство в обычном ходе вещей ничего не меняет.
Обычный ход вещей для доктора – это утренние летучки, приемы, консультации, сопровождающиеся немногочисленными, впрочем, изумленными взглядами коллег и перешептываниями за спиной: доктор болела? чем болела? она уже поправилась? она вообще поправится? Но это фон, все эти сплетни и перешептывания как-то теряются, уходят на второй план. Главное, что ей удалось вернуться на работу, войти в привычную колею. Среди рабочей рутины Панину изумляет лишь одна история: пациент на приеме рассказывает о страхе заразиться раком. Канцерофобия, в общем-то, обычное дело даже среди образованных людей. Но пациент говорит о том, что не может ходить мимо онкодиспансера, который расположен рядом с домом, боится устроиться на работу на обувную фабрику, якобы там все поголовно болеют раком. Доктор Панина психиатр, проблема, с которой к ней обратился пациент, психиатрическая, это понятно. Во время приема даже происходит забавный эпизод: пациент внимательно смотрит на ее маску и понимающе кивает: «Да-да, вы молодец, вы тоже защищаете себя от рака». Панина с трудом сдерживает улыбку: ах, если бы он знал правду. Но сколько на самом деле людей опасаются рака, который якобы появится откуда-то извне, – вирусом, порчей, инфекцией или даже силой мысли? И существует ли реальная опасность, связанная с работой, бытовыми условиями, окружающей средой или профессией? Обычным людям об этом известно крайне мало.
Попробуем последовательно и подробно объяснить, откуда берутся такие мифы. И есть ли в них хоть доля правды. Начнем с конца: действительно ли какие-то виды раков могут быть связаны с профессиональной деятельностью или со средой обитания?
Спрашиваю об этом профессора Елену Трещалину. Она обращает внимание на часы в своем кабинете: на них пять вечера. «Вот, – буквально вскрикивает профессор, – я так хотела за что-то зацепиться из повседневной жизни. И вот, пожалуйста, five o’clock, традиционное время английского чаепития – гениальный пример! Теперь представьте себе идиллическую картину: Англия, начало прошлого века, обыкновенная крыша обыкновенного дома с печным отоплением. Человек на крыше – среднестатистический трубочист».
Во всемирную раковую историю будет вписано не его имя, а его диагноз. Рак трубочистов – первый доказанный случай канцерогенеза. То есть четкой взаимосвязи возбудителя рака с возникновением болезни. Трубочисты, согласно первым исследованиям, касающимся причинно-следственных факторов возникновения рака, болели раком мошонки. «И это, – заключает Трещалина, – первый описанный в научной медицине случай профессионального рака, потому что понятна прямая взаимосвязь: канцероген – индуцированная опухоль – возникший рак. И смерть».
Пример с трубочистом, приведенный Еленой Трещалиной, очень яркий. Но, разумеется, в лаборатории изучали не трубочистов, а грызунов. В 1916 году, то есть более 100 лет назад, японским ученым удалось доказать существование химических веществ, как бы подталкивающих организм к поломкам, влекущим за собой рак. В ходе эксперимента кролика ежедневно обмазывали каменноугольной смолой, вскоре он заболел раком. А ученые констатировали: злокачественная опухоль возникает у абсолютно здоровой особи под воздействием химических веществ. И отправились, не только в Японии, на поиски других веществ, способных вызывать рак. Так выяснилось, что в большинстве своем канцерогены встречаются в синтетических веществах, однако есть и опасные растительные соединения.
«Случайностей здесь не бывает, потому что все-таки к любой поломке генома приводят довольно очевидные факторы. И факторы эти просто так, на ровном месте, не возникают. Либо это генетические факторы, которые закладываются в процессе эволюции человека, либо это факторы, действующие извне: канцерогены, которые реально вызывают поломку генома и связанный с этим тот или иной вид патологии, – рассуждает академик Михаил Давыдов. – Довольно большу́ю часть раков, которые можно спрогнозировать, составляют так называемые профессиональные раки. Люди, работающие в разделе анилиновых красителей, имеют облигатный (обязательный. – К. Г.) рак мочевого пузыря. Рабочие, которые трудятся в горячих цехах у открытых источников с высокими температурами, не доживают до пятидесяти лет – почти тотальный рак легкого».
Академик вспоминает: несколько десятков лет назад он участвовал в масштабных исследованиях, которые проходили в Казахстане на заводе хромоникелевых препаратов. Результатом исследования стало обнаружение в несколько раз превышающей норму частоты заболеваемости раком легкого у людей, занятых на этом производстве.
«То есть действительно существуют и нам, медикам, известны профессиональные факторы, которые абсолютно точно способствуют возникновению рака, – заключает профессор. – Врачи и ученые, конечно, составляют списки тех вредных производств, где канцерогенность зашкаливает. Но эти списки не имеют обязательной силы. Владельцы предприятий, правительства стран, сами граждане могут просто принять их к сведению».
Ученые до конца не определились, как лучше классифицировать воздействия, способные вызвать рак. Но чаще всего их делят: на радиоактивные (в эту группу попадают все виды опасного облучения) и нерадиоактивные; на генетические или связанные с воздействием окружающей среды. В них, как правило, включают и факторы образа жизни – курение, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание, низкий уровень физической активности, воздействие солнечных лучей или вирусов, работу на опасном производстве и применение определенных лекарств вроде препаратов химиотерапии, которая, по идее, спасает от рака. В общем, всё запутано.
Канцерогенез – процесс зарождения и развития опухоли.
Канцероген – фактор окружающей среды (вещества или воздействия), который влияет на целостность ДНК и способствует канцерогенезу, то есть формированию и размножению злокачественных клеток в организме человека или животного.
Список признанных канцерогенов то и дело пополняется Всемирной организацией здравоохранения, Национальным институтом рака (США), Международным агентством по изучению рака (Франция), Гринпис и многими другими организациями по всему миру. У человека, который впервые сталкивается с этим документом, он может вызвать ужас: кажется, что все упомянутые в нем продукты и вещества страшно опасны. На самом деле это не так, всем канцерогенам в списке присваивается специальный код: 1 (канцерогенны для человека), 2а и 2b (потенциально канцерогенны для человека, и для «a» вероятность выше, чем для «b»), 3 (не отнесены к канцерогенным для человека), 4 (возможно, не канцерогенны для человека).
В первую, самую опасную группу попадает не так уж много агентов. Ученые до сих пор не уверены в канцерогенности: хлорированной воды; кофеина, даже в больших количествах; красок для волос; стоматологических материалов; сульфитов, которые часто используются в косметике; чая (все эти вещества помечены кодом 3), а также отнесенных к категориям 2а и 2b – красного мяса, экстракта листьев алоэ вера; работа по сменам, которая нарушает циркадные ритмы. Это случайная выборка знакомых продуктов из «канцерогенного списка», которая показывает, почему не нужно верить кричащим заголовкам о «новом исследовании, результаты которого вас шокируют».
Многие вещества, включенные в список канцерогенов, не так опасны, как кажется: мы не находимся под их воздействием в достаточной степени или не потребляем их в количествах, необходимых для нанесения реального вреда. Попытки устранить из жизни абсолютно все канцерогеноподобные вещества могут свести с ума. Но все же стоит обращать внимание на те канцерогены, которые признаны по-настоящему опасными и при этом поддаются контролю.
Отдельным списком ВОЗ обычно публикует канцерогенные производства – места, где людям опасно для здоровья работать. Неизменно в стоп-листе профессий оказываются те, которые связаны со ртутью и горячим металлом, фтором и едкими красителями. ВОЗ рекомендует правительствам развитых стран исключать потенциально опасные производства из повседневной жизни.
Посмотреть, как рекомендации ВОЗ воплощаются в жизнь, я еду в город Асбест Свердловской области. Еду потому, что среди веществ, попавших в красный список Всемирной организации здравоохранения, асбест уже много лет занимает первое место. Для сравнения: такая, казалось бы, опасная ртуть – в третьей категории канцерогенности. Я хочу своими глазами увидеть, как живут и чувствуют себя люди, чье существование на краю опасной черты научно и статистически доказано.
Следует понимать, что опасен асбест из-за своей волокнистой структуры, он неоднороден, как слоеное тесто, только слои очень-очень тонкие, ворсистые. Местные называют асбест «горным льном». На стеле при въезде в Асбест так и написано: «Город горного льна».
Теперь представьте, что вы вдыхаете или едите стекловолокно: мельчайшие частицы впиваются в легкие, в пищевод, вызывая постоянное раздражение, а значит, воспаление, а значит, и рак.
В напуганных раком Европе и Америке асбест и асбестоцементные элементы запрещены к использованию во всех строительных материалах: от шифера для крыш до коммуникационных труб. За последнее десятилетие в несколько раз были сокращены добыча и использование асбеста даже в бесстрашном Китае. Впрочем, это никак не коснулось 70 тысяч россиян, живущих под вывеской «Асбест» уже больше полувека.
Асбест (от греческого – неразрушимый) – собирательное название группы тонковолокнистых минералов из класса силикатов. В природе это агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. Асбест применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении. Основное свойство асбеста и производимой из него продукции – огнеупорность.
Есть несколько видов асбеста: пять минералов амфиболовой группы и хризотил. Именно хризотил добывают в России. Некоторое время считалось, что только асбест амфиболовой группы вызывает онкологические заболевания, а хризотил относительно безопасен при условии соблюдения норм безопасности. Но есть и такие исследования, которые заключают, что хризотиловый асбест тоже вызывает рак, просто не так быстро.
По данным Всемирной организации здравоохранения, хризотил-асбест, который использовался в 95 % строительных конструкций в США и до сих пор производится в России, является самым опасным и канцерогенным видом асбеста. В сообщении организации сказано: «Воздействие асбеста (в том числе хризотила) вызывает рак легкого, гортани, а также мезотелиому (рак плевры и перитонеальный рак). Воздействие асбеста также является причиной таких заболеваний, как асбестоз (фиброз легких) и плевральные бляшки, утолщение и эффузия.
По данным ВОЗ, во всем мире на рабочих местах действию асбеста в настоящее время подвержены примерно 125 миллионов человек и примерно 107 тысяч человек умирают ежегодно от болезней, вызванных действием асбеста, главная из которых – особый вид рака легкого.
С начала 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. С 2005 года применение асбеста в Европе полностью запрещено. В 2011 году Россия официально присоединилась к мировой конвенции, призывающей к сокращению и закрытию добычи и производства асбеста. Но наша страна по-прежнему мировой лидер этого производства.
По данным Росстата, с 2011-го по 2016-й в России каждый год действительно производили всё меньше асбеста, но это было связано, скорее, с падением рыночного спроса. По данным ВОЗ, в 2018 году мировым лидером по производству асбеста остается Россия, затем – Казахстан, Китай и Бразилия.
Большая часть асбеста в России производится в городе, который до того, как стать городом, назывался поселком Куделька. А потом стал городом Асбест. Его специально строили и населяли людьми для упрощения добычи и сокращения издержек на производство асбестосодержащих материалов, которые из-за своей дешевизны и огнеупорных свойств были основным строительным материалом и в СССР, и по всему миру в 60-е и 70-е годы прошлого века.
Теперь жизнь в Асбесте теплится скорее по привычке: асбестоцементный завод за колючей проволокой, покрытые инеем фотографии передовиков минувших лет на проходной, цех по производству шифера, где во влажном пыльном тумане орудуют руками и лопатами несколько десятков мужчин и женщин с красными глазами и серыми лицами. Другой работы в городе нет.
Асбестовая пыль укутывает город своего имени плотным облаком, через которое силится пробиться солнце. Из другого, снежного, облака на Асбест крупными хлопьями падает белый снег. Минут через сорок он перестает быть белым, приобретая желтоватый оттенок безнадежности, так пугающий приезжих. Впрочем, в Асбест просто так мало кто едет.
Я приехала поговорить с дядей Сашей, Александром Кожевниковым: рак легкого, третья стадия. Я не спрашиваю, дядя Саша сам сразу же отвечает на вопрос, который висит тут в воздухе, как асбестовая пыль: «Не думал ли я уехать отсюда? Нет, никогда не думал. Я, наоборот, только пару лет назад жить начал по-человечески. Вот квартиру мы себе выхлопотали на верхнем этаже».
На верхнем – это значит на пятом, под самой крышей, крытой, разумеется, асбестосодержащим шифером. Дядя Саша говорит, что выбирали специально повыше, подальше от «наших осадков и пыли». Он сам делал ремонт, его жена Ольга наводила уют.
«Думал ли я уехать? – опять то ли себя, то ли меня спрашивает дядя Саша. – Да нет, наверное. Как я поеду? Куда? Зачем? Кто меня там ждет? Я уж тут всем оброс, прижился, дети опять же. Вот старший женился, внук есть, тоже здесь неподалёку живут. Ехать надо было давно, когда молодыми были. А когда были молодыми, мы, наоборот, сюда стремились. Здесь заработки знаете какие были? Закачаешься. Вот мы с женой 30 лет назад сорвались и приехали. Еще радовались: квартира рядом с асбестовым заводом, рядом с работой. Ну, потом стали все говорить: такой асбест, сякой асбест, вредный асбест».
Жители Асбеста разговоров о вредности асбеста не любят. Это действительно похоже на разговор о веревке в доме повешенного. Здесь все едины во мнении: «Асбест – наш кормилец». На этом разговор обычно заканчивается. Но квартиру Кожевниковы несколько лет назад все же сменили. Теперь живут подальше от завода. «Впрочем, – с грустью замечает дядя Саша, – теперь на заводе не так уж и много работы. Считай, те, кто всё еще работают, счастливчики». Сокращение рабочих мест – действительно тревожная тема местных разговоров. А о вреде асбеста никто и не говорит. Что толку? Только нервы трепать. Обреченность любого из них на рак – набившая оскомину и потому почти запретная тема. Раком, по словам Ольги Кожевниковой, болеют или болели практически все, с кем они дружат или просто знакомы: «Не легких, так желудка. Не желудка, так рак по-женски бывает. Или рак груди, бронхов, вон соседка наша недавно скончалась, так там вообще просто сказали: рак, а чего это рак, так и не установили. Умерла. Мы живем с этим раком. Не могу сказать, что пугаемся. Привыкли уже, наверное».
В новой квартире Кожевниковых позднесоветский минимализм: ковер над диваном, обои ромбиками, синий с блестками и Богоматерью календарь на стене, занавеска соломкой, сервиз чешского хрусталя за стеклом, громко говорящий телевизор, батарея лекарств на полке серванта. Словом, всё, как у всех.
Когда дядя Саша заболел, ему больше всего почему-то хотелось, чтобы диагноз был как у всех здесь – рак. Но вначале подозревали туберкулез. И дядя Саша беспокоился: «У меня первая мысль была: неужели туберкулез, мне даже стыдно стало: как я с туберкулезом перед людьми покажусь? Когда сказали – рак, как-то отлегло». Ну, рак и рак, слава Богу. Он здесь как аппендицит, почти в каждой истории болезни.
Дядя Саша дает интервью, сидя на диване, на фоне ковра. Говорить о раке ему, по всему видно, скучно, и он все время отвлекается на телевизор. Ольга сидит рядом с мужем, поглаживает его по плечу, чтобы не нервничал и не сердился на меня, задающую так много вопросов. Обоим Кожевниковым больше рака интересна программа про инопланетян, которую передает телик. Они ждут, когда уже закончится это интервью, и, кажется, жалеют, что согласились.
В отличие от миллионов других людей, живущих по всему свету, у Кожевниковых нет ни суеверного страха перед раком, ни трепета. Только покорность судьбе и досада: только жить начали, а теперь опять мыкаться по очередям и поликлиникам. От мыслей об очереди отвлекают телепередачи. И потому Александр и Ольга Кожевниковы очень любят телевизор, полагая лучшим средством от всех болезней: включил и забылся.
О том, что асбест вреден, а город Асбест – в тройке самых «грязных» городов России, по телевизору тоже говорили. Но такие новости в семье Кожевниковых переключают. Всё, что нужно об этом знать, они знают и без телевизора. Асбест и окраины – это 85 тысяч человек, объединенных фатальным незнанием о своей болезни и смиренной готовностью ее принять. Лечить их здесь некому. На Асбест и окраины – один-единственный загнанный участковый онколог. 60–70 пациентов в день.
Его кабинет на втором этаже переполненной людьми серой больницы с зеленым полом. К кабинету огромная очередь, часа на два – два с половиной. Районный онколог Антон, попросивший не называть его фамилию и изменить имя, в первой половине дня принимает пациентов (кого успеет), во второй – оперирует тех, кого может прооперировать, прямо здесь, в районной больнице.
Антон категорически отказывается от интервью. Он боится журналистов, кажется, больше, чем пациентов.
Я спрашиваю: «Чего вы боитесь?» Антон снимает запотевшие очки, протирает их варежкой, близоруко смотрит на меня: «А вы не понимаете?» – «Нет, я не понимаю, хоть убей» – «Меня же, если я вам расскажу, как у нас тут всё обстоит, просто выпрут с работы! А другую я не найду».
Я потрясена. Антон окончил один из лучших медицинских вузов страны, работает районным онкологом в Асбесте уже шесть лет. Его зарплата невелика, 15 000 рублей. Его пациенты – нескончаемая очередь ни на что не надеющихся людей, повторюсь, несколько десятков в день. В их числе дядя Саша. Я спрашиваю Антона, что будет с Александром Кожевниковым. Антон вздыхает: «Направлю на лечение в Екатеринбург. Там, если повезет, дадут квоту, если не будет слишком большой очереди, в течение месяца-двух прооперируют, потом будет ездить на химию. В принципе он мужик здоровый, есть шанс, что выкарабкается».
«Так какую же работу вы боитесь потерять, зная, что просто физически не можете ни лечить, ни вылечить большинство своих пациентов?» – спрашиваю я. «Вот эту…» – пожимает плечами Антон. И мне кажется, это тупик, я никогда не смогу его понять. Чувствуя это, Антон пытается объяснить: «Вы поймите, они здесь болеют все, почти все. Я для них единственная надежда. А они для меня – единственно возможное место работы. Я здесь родился, вырос, я вернулся сюда работать врачом, зная, что показатели по заболеваемости раком просто запредельные. Но не будь меня, они вообще бы нигде не лечились, как это было десятилетиями. Мне не наплевать. А если я уйду, придет другой, кому наплевать. Раньше хотя бы были проверки всякие, флюорограммы на производстве. Теперь этого нет. Теперь они просто начинают чувствовать себя плохо и приходят ко мне. Хорошо, что приходят. Кого-то, может, и вылечат в Екатеринбурге».
Мне кажется, Антон сам не до конца верит, что большинство его пациентов, получив направление на обследование и лечение в областной центр в Екатеринбурге, действительно туда поедут. Совершенно точно Антон знает, что домой из Екатеринбурга вернутся не все. И нет никакой уверенности, что этим людям хватит сил, мужества и веры мотаться несколько раз в неделю несколько недель подряд на химиотерапию два часа на электричке от Асбеста до Екатеринбурга и обратно. Это и здоровый-то человек не выдержит.
На самом деле в большинстве своем они и не ездят. Остаются. И живут, узнавая по телефону или на улице, что вот еще кто-то заболел, еще кто-то умер… Словно бы Асбеста и окраин не коснулась максима, которой учат на первых курсах медицинского института: в успешном излечении задействована триада «врач – болезнь – больной». А если два звена выпадают, остается только болезнь. И тогда она неизлечима. В городе, выросшем на канцерогенном асбесте и укрытом сверху сделанным из канцерогенного асбеста шифером, вопреки любым научным теориям, рак и безнадежность распространяются, как инфекция.
Глава 25
Инфекционная теория распространения рака – одна из самых популярных у обывателей. Этим отчасти объясняется страх перед общением здоровых людей с онкологическими больными. Будучи волонтером в детской больнице, я часто слышала: «Ты туда ходишь, ты с ними общаешься, ты не боишься, что рак перекинется на тебя?» Прямой вопрос: «Заразен ли рак?» – был на втором месте по популярности у респондентов, которых мы опрашивали в рамках подготовки к проекту #победитьрак.
Значит, он действительно важен. Хотя, отвечая на него, академик Михаил Давыдов, например, пытается отшутиться: «Я более тридцати лет занимаюсь онкохирургией и многократно получал травмы во время операций, так что, если бы он был заразен, я давно бы уже умер. Вот, пожалуй, и весь мой ответ на этот вопрос».
Многих людей, не особо хорошо знакомых с методами лечения рака, отпугивают и маски, которые так часто носят пациенты. «Маска – значит, зараза», – самое первое, что приходит в голову.
Если попытаться коротко объяснить, почему рак не заразен, необходимо вернуться в начало нашей книги. Природа многих онкологических заболеваний связана с «уходом» опухолевых клеток от так называемого иммунологического контроля из-за непредсказуемой поломки, случившейся по каким-то (возможно, в каждом случае разным) причинам, наш иммунитет перестает уничтожать опухолевые клетки. В норме в нашем организме (особенно в кроветворной системе) постоянно появляются «неправильные» клетки, но иммунная система быстро справляется с ними. Если этого не происходит, развивается онкологическое заболевание. И опухолевые клетки перестают уничтожаться организмом. Иными словами, всё происходит внутри организма и никак не связано с внешними контактами пациента. Кроме того, чтобы развенчать миф о заразности рака, достаточно вспомнить о том, что врачи, медсестры и волонтеры находятся в онкологических отделениях без специальных средств защиты от инфекции. Но никаких известных и доказанных данных о том, что среди этой категории людей заболеваемость раком выше, нет.
«Рак, и это абсолютно точно, не заразен. Пациенты, больные раком, могут общаться и должны общаться с любыми людьми, которые захотят общаться с ними. Это совершенно неопасно для тех, кто общается с онкологическими пациентами, но как врач, как детский врач, могу вам сказать, что общение со здоровыми людьми крайне важно и полезно для больных», – считает профессор Алексей Масчан. И добавляет: «Миф о заразности рака очень вреден тем, что наши пациенты из-за этих предрассудков часто попадают в практически полную изоляцию. Причина этой изоляции, на мой взгляд, в подсознательном желании общества отодвинуть проблему онкологических заболеваний на периферию. Именно поэтому нам так сложно убедить общество в том, что в онкологии произошли огромные изменения, например, детский рак можно успешно лечить. Сегодня мы достигаем успеха в 90 % случаев. Поэтому я уверен, что о детском раке сейчас нужно говорить без скорби, рассказывать о том, как наши пациенты живут, победив болезнь. И да – рак не заразен!»
Профессор Андрей Гудков выслушивает мой вопрос, склонив голову набок: «Катя, вы хотите знать пример заразного рака?» Киваю, уверенная, что он меня разыгрывает. Но Гудков настроен серьезно: «Пример инфекционного рака есть у сумчатых зверушек с острова Тасмания, что южнее Австралии. Они очень смешные и на вид страшные, за что их прозвали «тасманийские дьяволы». Так вот, среди них лет 25 назад вдруг стал распространяться рак, растущий в виде опухолей на морде, который передается… слюной! В их слюне действительно есть раковые клетки. Но слюна должна попасть в кровь. Когда тасманийские дьяволы, которые, между прочим, довольно игривые и веселые зверушки, в шутку дерутся между собой, то они друг друга, играя, покусывают. И заражают. Именно поэтому на лицо ужасные, добрые внутри тасманийские дьяволы – вид исчезающий. То есть их уникальный, единственный в своем роде рак, которому нипочем иммунитет, убьет своего хозяина и вместе с ним погибнет. (На самом деле, скорее всего, зоологи сохранят этот вид в неволе, где еще не покусанных отделяют от зараженных.) Но этим примеры явно заразного рака вроде бы и исчерпываются. Ведь в принципе каждый новый случай рака – это возникновение злокачественной опухоли de novo, то есть заново, как паразитической популяции клеток, которые стали вести себя асоциально в силу накопления генетических, эпигенетических, а чаще и тех и других изменений. Но при этом одним из таких генетических изменений, которого самого по себе недостаточно, чтобы сделать клетку раковой, но которое является шагом в эту сторону, может быть заражение определенными видами вирусов».
Уже совершенно понятно, что при некоторых формах рака у человека значение имеет и вирус. И это знание – довольно важное в формировании подходов к современной профилактике, диагностике и лечению рака. Но слепая вера в так называемый «вирус рака» может быть очень обманчива, потому что, конечно, удобно верить в то, что такой вирус на самом деле существует и он всему виной. Но на деле всё гораздо сложнее.
«В 1981 году у меня, тогда еще аспиранта, был интересный разговор с Николаем Николаевичем Блохиным, тогдашним директором Онкоцентра на Каширке, – говорит Андрей Гудков. – Я ему рассказал про только что открытые онкогены, а он выдал поразившую меня реакцию: «Не нравятся мне ваши онкогены! Не хочу про них слышать!» Я удивился: «Хотим мы или не хотим, а они есть!» Он: «Может, они и есть, только толку от них мне, врачу, никакого. Вот Зильбер (Лев Александрович, академик, создатель советской школы вирусологии), бывало, говорил мне, что рак – от вирусов. Это было хорошо и понятно: победим вирус – победим рак. А онкогены? Они ж во всех клетках есть, от них не избавишься. Нет, решительно они мне не нравятся». Такой был человек: если не нравится реальность – тем хуже для реальности. Ну и шутил, конечно. Хотя это было не слишком похоже на шутку».
Онкогены – структурно или функционально измененные гены клетки, постоянно толкающие ее к делению. Нормальная функция генов, из которых получаются онкогены (прото-онкогены), тоже связана с контролем клеточного размножения, но они, в отличие от онкогенов, не способны заставить клетку делиться, когда ей это не положено.
Согласно Блохину, доказать, что вирус рака у людей существует на самом деле, было бы очень удобно. Ведь с вирусами человечество давно знакомо и хотя не умеет с ними справляться так же хорошо, как с бактериями, против которых есть антибиотики, но худо-бедно учится защищаться. Например, прививками. Немецкий ученый Харальд цур Хаузен больше сорока лет потратил на то, чтобы доказать: в основе, по крайней мере, одного из видов рака действительно лежит вирус. И теперь рассказывает о своем фундаментальном исследовании как о деле всей своей жизни. Собственно, это и стало делом всей жизни профессора: «Я бился над этим доказательством с середины прошлого века. Я был убежден, что нечто вирусное в природе рака есть. Мои предположения не были основаны на пустом месте, хотя, конечно, многие, что скрывать, считали меня сумасшедшим. Но на моей стороне была вся история онкологической науки. Точнее, та часть, которую ортодоксальные ученые старались не замечать. Судите сами, впервые вирусное происхождение рака было установлено в 1898 году британскими учеными у собак – из бородавок. Также в некоторых научных исследованиях упоминалась информация о развитии лейкемии и саркомы у кур в результате вирусной инфекции: вирус саркомы кур был выделен Пейнтоном Раусом в 1911 году, назван его именем и через 55 лет принес Раусу Нобелевскую премию. Еще через несколько десятков лет в США, в Канзасе, у диких кроликов был найден бородавочный папилломавирус, который вызывал опухоли. Этот вид опухолей, вначале считавшийся доброкачественным, позднее был признан злокачественным. Всё это было уже известно к тому моменту, как я стал работать в этой области, а это было в 1962 году, когда вы, Катя, еще не родились и даже ваши родители не познакомились. В общем, я стал искать вирусные агенты в раке. В то же время микробиологи нашли, что некоторые бактерии могут меняться после инфицирования бактериальными вирусами, брать их генетический материал и развивать новые свойства. И тогда меня озарило, я понял, что рак может появляться точно так же: клетки «вбирают» в себя вирусную ДНК, которая меняет их свойства, что в конце концов и приводит к образованию раковых клеток.
И тогда я стал работать с новыми открытыми вирусами, с их хромосомами, которые они вносят в зараженные клетки. Я смог подтвердить молекулярными методами присутствие ДНК-вируса в каждой опухолевой клетке определенных видов рака. С конца 1960-х мы сконцентрировались на одном таком раке – шейки матки. И мы доказали, что некоторые виды рака шейки матки могут развиваться из клеток, которые были заражены папилломавирусом. До 1982 года эту нашу концепцию оспаривали все кому не лень. Но когда в 1983–1984 годах мы выделили вирусы папилломы 6-го, 16-го и 18-го типов прямо из опухолей, наша правота стала очевидной. Тогда всё сдвинулось с мертвой точки. Было твердо установлено, что практически все раки шейки матки содержат эти вирусы».
За открытие того, что рак шейки матки всегда провоцируется вирусом папилломы, который передается половым путем, доктор Харальд цур Хаузен 1936 года рождения только в 2008-м получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. Долгая борьба с ученым миром и как будто бы вечное ожидание подтверждения и признания своей правоты не улучшили характер профессора. Отныне главный лейтмотив его разговоров – потраченные впустую (то есть на доказательство очевидного) годы. И косность традиционной науки. Большую часть своей Нобелевской премии Харальд цур Хаузен потратил на пропаганду профилактики открытого им рака. «Это было невыносимо, я, как чокнутый, ходил по фармкомпаниям и говорил: смотрите, этот рак всегда возникает из зараженных вирусом клеток, значит, к нему должно быть противоядие, с ним надо бороться, как мы боремся с вирусами. – Цур Хаузен повышает голос: – Обыкновенная прививка. Давайте же ее придумаем. Но на то, чтобы найти кого-нибудь, кто взялся бы за разработку такой прививки, ушло десятилетие. Еще несколько лет вакцину испытывали в лабораториях. А в клинических испытаниях вакцинацию разрешили лишь восемь лет назад. Сколько же времени было потеряно! Это же сколько людей погибло?! Я уже не беру в расчет потраченные годы моей собственной жизни. Я-то ученый, я живу ради науки, а люди, почему они обречены на страдания из-за того, что кучка упертых ортодоксов категорически не хочет слышать и воспринимать ничего нового?!»
За первое десятилетие 2000-х прививку от рака шейки матки сделали 100 миллионам девочек 11–13 лет. В развитых странах бесплатную прививку с согласия родителей делают, как правило, в 12 лет: вирус передается половым путем, и прививку лучше всего сделать до начала половой жизни. Впрочем, теперь об этом популярно рассказывают по телевидению и даже на улицах больших городов в развитых странах.
В некоторых странах вакцинирование даже внесли в официальный прививочный календарь. И если о первом поколении девочек, чьи родители еще подписывали специальное согласие на «экспериментальную» прививку, можно сказать, что они «не до конца понимали, спасает ли вакцина от вируса папилломы человека и, следовательно, от рака шейки матки», то теперь, когда эти девочки сами стали мамами, а их медицинские карточки – важной страницей в истории медицины, есть исследования, подтверждающие: своевременное вакцинирование приводит к снижению риска развития ВПЧ и провоцируемого им рака шейки матки.
В общем, резюмируя все имеющиеся к концу второго десятилетия XXI века знания, можно с уверенностью заявить: в обычной человеческой жизни «заразиться раком» нельзя, невозможно. Но можно подхватить инфекцию, повышающую риск ракового перерождения. При этом надо понимать, что даже в самом неудачном случае между моментом заражения и развитием опухоли пройдет по меньшей мере несколько лет и к моменту появления симптомов онкологического заболевания от вирусной инфекции, которая его вызвала, скорее всего, не останется и следа. В любом случае риска заражения онкогенными вирусами легко избежать. Достаточно соблюдать элементарные требования гигиены: большинство вирусов, канцерогенность которых на сегодняшний день доказана, передаются либо половым путем, либо через кровь, вероятность заразиться ими при бытовых контактах равна нулю; для некоторых уже существуют профилактические прививки. Знания об этом – признак цивилизованности. А незнание ведет к нецивилизованному поведению, когда здоровые люди демонстративно избегают контактов с больными, мамам с больными детьми в масках устраивают обструкцию, бывшие друзья отказываются обнимать заболевшего человека, так нуждающегося в поддержке, и так далее. Если вы дочитали до этого момента, пожалуйста, запомните: рак не заразен, а равнодушие и мракобесие – губительны.
Глава 26
Результаты химии еще неизвестны, но я вроде бы вошла в привычную колею: работа, пациенты, дом, муж, тихие минуты вдвоем. И вдруг звонок: Лайма Вайкуле. Моя дочь как-то нашла ее, мою любимую певицу. И договорилась об этом звонке. Даже больше – о приглашении на концерт. Могла ли я представить себе такое приглашение? Нет, конечно, не могла. Улыбаюсь и совершенно непроизвольно плачу от радости. Долго мысленно выбираю наряд, представляю, как войду в зал – красивая, худая, с макияжем…
Но накануне случается непредвиденное: температура, головокружение, слабость. Едем с мужем в больницу. Мне страшно. Я уже не боюсь болезни, я боюсь, что так и проведу остаток своих дней в этих поездках: дом – больница. Что ничего у меня уже не будет, ни радостей, ни концертов, ни неожиданных встреч. В таком состоянии я никуда, конечно, не пойду. Я больше вообще никуда не пойду. Жизнь, такая, какой я ее люблю, полная приключений и неожиданностей, кончилась. Мы сидим в коридоре Онкоцентра и ждем доктора. Я закрываю глаза: «Да разве ж это жизнь?
Лечащие доктора Паниной – умные и тонкие профессионалы Ольга Вотякова, Мария Кичигина и Капитолина Мелкова, – встретив Евгению в отделении трансплантации костного мозга Онкоцентра имени Блохина, поймут: это не болезнь. Это пациентка Евгения Панина боится выйти в кажущийся ей непривычным мир здоровых людей. Вердикт докторов: «Вы не просто можете, вы обязаны пойти на концерт. И там, прямо в кассе, купить билеты еще на пару концертов. Ну и что, что химия! Жизни никто не отменял! Идите! Считайте это назначением».
Спустя год после этого назначения я спрашиваю Мелкову, не страшно ли ей было отправлять едва стоявшую на ногах Панину в «место скопления людей»: инфекции, взгляды, суета, духота и, наконец, все эти переживания. Мелкова смотрит на меня так, будто я только что сморозила что-то типа «рак принесли на Землю инопланетяне». Извиняющимся тоном сообщаю: «Многие думают: заболел – сиди дома и лечись». Капитолина Николаевна смотрит еще строже. «Видишь ли, Катя, – говорит она мне назидательно, так строгая завуч обычно отчитывает нашкодившего на переменке первоклассника, – жизнь невероятно важная часть лечения. И порой мы больных с койки поднимаем, чтобы отпустить по важным показаниям «на волю». Они у нас женятся, венчаются, жизнь продолжается. Болезнь никаким образом не должна выбивать человека из общего течения жизни, потому что человеку очень трудно туда возвращаться потом. Вот представь, человек вылечился от рака, но два или три месяца по медицинским показаниям был изолирован в боксе. Как это на него повлияет? Он дичает. Даже человек из отпуска возвращается, и то проблемы с адаптацией. А после тяжелой болезни эта адаптация сложнее втройне. Что такое сложности в адаптации: это как раз пустая трата нашей бесценной жизни, которая у нас есть и в которой надо ценить каждую минуту, каждую секунду, я уж не говорю каждый час и каждый день. Мы ее тратим на страхи, на сомнения, мы включаем модель улитки: я боюсь, я не пойду, я плохо себя чувствую. Все эти чувства понятны. Я с ними неоднократно сталкивалась. В этот момент надо подхватить пациента под локотки и подтолкнуть: иди, чувствуй, переживай, плачь, радуйся, это твоя жизнь, другой не будет. Мы ради этого тебя лечим. И я тогда действительно сказала Жене: «Вы должны пойти, вы не можете не пойти. Считайте это назначением».
Я надеваю парик, маску, мы с мужем едем в театр. Всё как в тумане. Я смотрю на сцену и ничего не вижу. Ничего не понимаю. Ничего не запоминаю. Помню только, что слезы скатываются под маской по щеке в угол рта. Они соленые, я их глотаю. И в этих соленых слезах, в их вкусе почему-то в тот момент для меня был вкус жизни. Я как будто со стороны смотрела на себя: «Господи! Да я жива! Я – живая!» И именно в этот момент, как нарочно, Лайма сказала со сцены: «В этом зрительном зале сидит Евгения, которой я желаю много сил». Это Соня ее попросила, нашла кого-то из ее людей, объяснила ситуацию. Доченька моя. И тут уж я расплакалась от души. Забыла, что мне душно, что тошнит, что маска, что парик и что температура. Я была так счастлива дожить до этого дня. Господи, спасибо, что я дожила до этого дня.
Этот день, этот концерт и эти соленые слезы стали для Евгении Паниной по-настоящему переломными. Так считает и она сама, и ее врачи, и дочери, и муж. В каком-то смысле она почувствовала прежний вкус жизни и поняла, ради чего столько терпела и мучилась. И почувствовала, что у нее есть силы еще побороться за эту жизнь. И главное, что за эту жизнь стоит бороться. Эта переломная точка – важнейший момент болезни. Я видела, как это происходит, как человек на глазах перестает готовиться к смерти и начинает жить, много раз. Но почему-то лучше других мне запомнилась история Светы, моей коллеги журналиста, только политического, ушедшего, как и многие люди нашей профессии, в пиар. Успешная и красивая, всегда безупречно выглядевшая и очень серьезно к этому относившаяся, отважная, отчаянная и самостоятельная, Света как будто обожглась о рак: замкнулась, перестала общаться с друзьями и знакомыми, немногим, посвященным в болезнь, категорически запрещала обсуждать ее диагноз с кем бы то ни было. Рак прямой кишки – ей этот диагноз казался чем-то неприличным, сводящим на нет ее профессиональные достижения, исключающим женскую привлекательность, словом, перечеркивающим жизнь. Светлана – состоявшаяся и состоятельная женщина. Она приняла решение лечиться в одной из самых дорогих и престижных клиник России. От любой помощи – консультации, разговоры, деньги, встречи – Света отказалась. Потом я узна́ю, что доктор, который ее лечил, был обходителен, но неразговорчив. На вопросы не отвечал, прогнозов не строил. Химиотерапия, операция, опять химиотерапия. Через год Света сдалась. «Мне кажется, я больше не хочу и не могу жить; мне кажется, всё это лечение – фикция, и я просто продлеваю свои мучения, я не знаю, зачем мне такая жизнь, я больше не хочу», – написала она мне в длинном обстоятельном письме. В конце, и я представляю, каких трудов это стоило моей независимой приятельнице, робко попросила о помощи: «Если у тебя есть знакомый доктор, который сможет меня проконсультировать и объяснить, что со мной происходит, я буду признательна».
Я записала Свету на консультацию к Михаилу Ласкову.
Через несколько дней она звонила мне со ступеней клиники, рыдая так отчаянно, что я перепугалась. «Катя, Катя, ты просто даже не представляешь, – рыдала Светка, – Михаил Савельевич велел мне сделать маникюр!» И опять рыдания, всхлипывания, причитания: «Мне, оказывается, можно маникюр, я не была на маникюре полгода! Как же это… Я раньше не пропускала и недели».
Прошло полмесяца. Света прислала фото из спортзала: накрашенная, с прической и, разумеется, маникюром. Подпись к фотографии гласила: «Ласков – лучший доктор на земле: он заметил, что у меня не было маникюра!»
В восторге от увиденного я переслала Михаилу Ласкову это сообщение. Он перезвонил. «Ты даже представить себе не можешь, насколько это важно напомнить человеку, что он – человек. Не пациент, не больной, не кто-то, кто должен пить таблетки, приходить на прием и мучиться от химиотерапии, а именно человек. Иногда за всеми этими медицинскими манипуляциями мы теряем того человека, каким он был до болезни, а человек – теряет смысл жить. Я тебе еще сформулирую свои мысли про это», – сказал Ласков и попрощался.
Через пару дней прислал письмо. Просил опубликовать в этой книге: «Об этом не пишут в учебниках по онкологии, к сожалению. Но, думаю, совсем скоро начнут писать: влияние эмоциональной сферы на течение болезни определенно существует. Психологическое и эмоциональное состояние пациента должно быть зоной внимания врача, психолога, если он есть, всех тех, кто так или иначе общается с этим человеком, заинтересован в его выздоровлении. В этом смысле, мне кажется, довольно важно понимать: онкологическое лечение само по себе иногда приводит к потере веса, потере аппетита, снижению жизненного тонуса, потере сил. У пациента образуются тромбы в сосудах, пневмония и разные другие осложнения, связанные с малоподвижностью. А малоподвижность связана с депрессией, а депрессия связана, в том числе и с тем, что человек не смог справиться со своим стрессом. И тут невозможно переоценить роль чуткости людей, которые находятся рядом: вовремя разглядеть, вовремя поддержать, вовремя что-то такое сделать или помочь во что-то поверить, чтобы настрой изменился. Мне кажется, что в этом смысле родственники очень могут помочь лечению. Но на практике чаще бывает, что они, наоборот, мешают: загоняют своей гиперопекой, беспокойством или чрезмерным сочувствием человека в угол; и там, в углу, говорят ему, что «надо бороться», при этом всячески намекая, что он очень болен, даже недееспособен. Нет универсальных рецептов, как поддерживать человека в болезни, как дать ему возможность поверить в счастливый исход и избавление от страданий. Но есть и мои личные профессиональные наблюдения, и результаты специальных исследований, когда пациентам раздавали опросники, меряли их уровень оптимизма, а потом смотрели их результат лечения: оптимистический настрой сильно увеличивает шансы на победу. Твоей подруге маникюр, о котором она забыла, добавил жизни едва ли не больше, чем курс химии. Хотя как врач я, наверное, не должен такое говорить, а тем более писать – веет схоластикой. Но надеюсь, что ты меня поймешь: рак – это темная сторона, а мы такие рыцари света. Нам нельзя давать ему себя сожрать и поработить. Понимаешь, о чем я».
В антропософской традиции жизнь – это тепло. Раковая опухоль – холод. Она выпивает из человека теплые жизненные соки, лишая возможности сопротивляться. Со стороны всё происходит так, будто бы рак заимствует интеллект и силы у наших витальных функций, чтобы совратить их, сбить с толку и запутать. И, в конце концов, повернуть против самих себя. Но кто ему дает такое право? И как распутать эту детективную цепочку, в которой убийца известен заранее, а способ, мотивы и единственная возможность его остановить – нет?
Первая Нобелевская премия исследователям рака была присуждена в 1926 году. Ее лауреат, датский микробиолог Йоханнес Фибигер полагал, что одну из разновидностей рака – карциному Spiroptera – вызывают микроскопические черви. Потом выяснилось: открытие Фибигера – ошибка.
И Нобелевский комитет по сей день стыдится присужденной премии: ведь считается, что он, как Папа Римский, не ошибается никогда.
С тех пор, а это почти 100 лет, в Стокгольме еще несколько раз давали Нобелевскую премию за те или иные открытия, касающиеся рака. Но они никогда не были связаны между собой и не продолжали друг друга, как будто речь шла о разных болезнях, лишь номинально объединенных словом «рак».
Но вплоть до 2018 года все выданные премии роднило одно: всякий раз претендент выбирался с поразительной осторожностью, а самые громкие открытия, по мнению некоторых ученых, и вовсе обходили стороной. Так вышло и с открытием, перевернувшим представление ученых-онкологов о роли генов в процессе канцерогенеза, то есть в образовании рака. Открытие это сделал жизнерадостный американец еврейского происхождения Арнольд Левин: мятая рубашка, потертые джинсы, битловская стрижка, а точнее, ее отсутствие. И снисходительная профессорская улыбка в ответ на навязчивый журналистский вопрос: «Сожалеете ли вы, что Нобелевский комитет так и не оценил вашего вклада в науку, связанного с открытием р53?»
«Ну не дали и не дали! Я не думаю о премиях, как их выдают и почему. Хотя, конечно, многие мне твердят, что это несправедливо. Журналисты бесконечно подначивают. Да и что лукавить, я и сам знаю, что наш р53 – это кое-что. Людям свойственно заблуждаться, – говорит Левин. – Сказать по правде, мы и сами не сразу поняли, с чем имеем дело. Это была середина 1970-х, около 1975–1976-го, я прочел статью русского ученого Абелева, где он показал, что в раке производятся белки, которые в норме есть только в зародыше, в эмбрионе. По всему выходило, что когда у нас во взрослом возрасте развивается рак, то он начинает производить белки, которые обычно имеются только у эмбриона. И мы ожидали, что у человека, больного раком, этот белок будет как будто бы чужой, а значит, на него возникнут антитела, как в случае с вирусом. Только в случае с раком эти антитела – против эмбрионального белка. Ваш соотечественник Абелев привел в своей статье два примера таких белков: один – при раке печени под названием альфа-фетопротеин, который производится в эмбриональной печени, а второй – раково-эмбриональный антиген, это антиген рака прямой кишки. Так появилась гипотеза, что рак – это как бы возврат к эмбриону. У нас на основании всего этого возникла идея, что и на другие раки будут возникать антитела, и мы стали их искать.
Мы взяли сыворотку крови хомяка с опухолью. И предположили: если важный антиген выражен в опухоли, хомяк произведет антитела против него. Мы специально использовали опухоль, имеющую свойства зародышевой ткани, – опухоль яичек, тератокарцинома называется. Кстати, именно этот вид опухоли был у Лэнса Армстронга, знаменитого велогонщика, и он от нее излечился. Мы использовали, конечно, не его клетки, а клетки хомяка. Так вот, у этого хомяка были антитела, связывающие белок, который мы назвали р53. Вначале мы думали, что это новый эмбриональный белок, который снова появлялся в опухоли. Но быстро заметили, что он есть и в здоровых клетках взрослого организма. И вот в этот момент мы, пожалуй, впервые стали понимать, что столкнулись с чем-то принципиально иным, что этот р53 сложнее, чем мы о нем думали. Поскольку р53 прочно соединялся с белком вируса SV40, который вызывал рак, мы решили, что его функция – взаимодействовать с белками-продуктами онкогенов – генов, которые вызывают рак».
Я выдыхаю. Мне кажется, такой каскад нанизанных одна на другую историй ни один человек не способен выдержать и переварить за раз. Но Левин, кажется, не закончил. «Еще кофе?» – спрашивает он.
На самом деле в ходе исследований команда Левина выделила не один, а три разных вируса, белки которых связывались с р53. (Потом окажется, что один из них – человеческий папилломавирус, который может вызывать рак шейки матки у женщин.) У Левина возникло предположение: р53 может играть важную роль в пусковом механизме, который провоцирует рак. Впоследствии выяснится, что именно в этот момент, в этом умозаключении Левин совершил роковую ошибку, но его первоначальные выводы о p53 звучали слишком заманчиво и слишком убедительно. Он повторяет их слово в слово: «Мы начали поиск и расшифровку гена, который кодирует р53. Ради подогрева научного азарта мы объявили соревнование между четырьмя лабораториями: кто первый найдет ген. О, это была настоящая большая научная гонка! Она длилась целых три года, пожалуй, это самое захватывающее и романтическое время в моей жизни. И с какими результатами мы пришли к финишу: лаборатория Петра Чумакова в России (тогда это был СССР) выделила ген; моя лаборатория в Принстоне выделила ген; еще одна лаборатория – в Лондоне – выделила ген, и одна – в Израиле – о чудо, тоже выделила ген. И все мы были уверены, что это был правильный ген, потому что все четыре лаборатории нашли одно и то же. Но дальше начались разногласия: мы стали проверять, вызывает этот ген рак или препятствует ему. Результат, который получила моя лаборатория, принципиально отличался от других трех. Мы были убеждены, что р53 не вызывает рак, а, наоборот, препятствует его развитию. У трех остальных получалось, что р53 как раз-таки вызывает рак. Трое против одного, понимаете?»
Иногда в науке, как на партсобрании, кого больше, тот и прав. Три лаборатории, участвовавшие в большой научной гонке, почти одновременно опубликовали результаты, благодаря которым аж до 1979 года р53 оскорбительно считался онкогеном, из-за которого все беды. Тогда Арнольд Левин промолчал. Он не был согласен с коллегами, но не мог привести строгое доказательство своей правоты. Друзья и недруги хлопали профессора по плечу, уговаривая признать поражение и закончить, наконец, это долгое соревнование. Левин упорствовал. В 1980-м он попросил коллег из Израиля предоставить ему копию гена, на основе которого была доказана вредоносность р53. Израильский ген сравнили напрямую с принстонским, вводя тот и другой в клетки и наблюдая за результатом. И произошло непонятное: израильский ген вызывал рак, а американский – нет. Когда гены смешали в одной клетке, ген из США «одолел» ген из Израиля и… предотвратил рак. Это было настолько парадоксально, что даже Левин не поверил собственным глазам: перед профессором был ген, предотвративший злокачественное перерождение клеток. Причем не просто ген, а тот самый, который во всем мире уже вполне официально считался возбудителем рака.
На полную реабилитацию гена р53 у профессора Левина ушло еще 10 долгих лет. Только в 1989 году будет доказано, что p53 не вызывает, а подавляет опухоли.
Мне показалось, что в тот момент, когда мы добрались до рассказа о минутах торжества, глаза профессора заблестели. Правда, Левин поправит меня: «Это не минута моего торжества, но минута торжества правды». Минута торжества правды случилась на научной конференции в Лонг-Айленде осенью 1989 года. И эта минута была, пожалуй, самой важной в его жизни. Мало того, она стала невероятно важной и для всего человечества, с тех самых пор обязанного профессору грандиозным шагом вперед в понимании того, что такое рак и каким именно образом ему удается поработить наш организм. «Я никогда не забуду этот день, который доказал мне и им всем, что я не старый дурак, что моя жизнь прожита не напрасно, что 10 лет я боролся не впустую, что я – ученый».
Это была рядовая научная конференция на Лонг-Айленде, в Колд-Спринг-Харбор Лаборатории. Спикер, выступавший перед Арнольдом Левиным – тогда считавшимся среди серьезных ученых, мягко говоря, чудаком – рассказал, что выделил и прочел ген р53 человека, имеющего рак прямой кишки, и что обе копии гена рака р53 в клетках прямой кишки мутировали, что доказывает, что р53 – это ген-возбудитель опухоли. Потом была очередь Левина. «Они встретили меня позевывая, – вспоминает профессор. – Но я взял себя в руки и сухо рассказал о том, что, когда мы совместили нормальный, немутантный р53 с онкогеном, р53 предотвратил превращение нормальной клетки в опухолевую. То есть я предоставил доказательства того, что р53 подавляет развитие опухоли. Это были неоспоримые доказательства, и они слушали конец моего выступления раскрыв рот. А когда я закончил, все встали и стоя аплодировали». Одумавшиеся ученые в итоге так и назвали ген р53: «страж генома».
P53 – сторожевой пес клетки, который следит за тем, чтобы мы жили без рака. Едва почувствовав, что ДНК в клетке повреждена, р53 подает ей сигнал – совершить самоубийство (апоптоз) или навечно лишиться права на деление. Вот почему в клетках всех видов рака р53 оказывается выключен тем или иным способом: при живом и нормально действующем р53 раку не возникнуть.
«Самоубийство, или самокастрация клетки, оказавшейся «плохой» (с поврежденной ДНК), – альтруистический акт заботы о безопасности клеточного социума. Клетка гибнет, чтобы ее потомки не навредили обществу здоровых клеток. А решение принимает как раз р53, который тем самым выполняет роль клеточной совести. Понятно, что совесть и преступление несовместимы, и чтобы стать преступником, надо потерять совесть», – заключает Левин.
С момента понимания настоящей функции р53 у ученых-онкологов всего мира появился новый Священный Грааль – нечто, способное сохранить или воссоздать р53. Если бы это было возможно, то мы, как персонажи компьютерной игры, стали бы неуязвимы. По крайней мере, с точки зрения рака. Беда в том, что до сих пор, спустя 25 лет со дня триумфа профессора Левина, такое универсальное средство всё еще не найдено. Воссоздание потерянной функции р53 – трудная задача. Поэтому первые противораковые лекарства, созданные на основании точного знания свойств раковой клетки (а не путем эмпирического перебора, как создавались лекарства в прошлом), бьют по более простым и доступным мишеням. Такими «легкими» мишенями стали онкогены: ведь их-то надо не воссоздавать, а подавлять, что гораздо проще: ломать – не строить!
И то, что теперь, в XXI веке, стали появляться и уже используются в повседневной медицинской практике лекарства, разработанные и созданные на основе знания о специфических раковых генах, это триумф технологий, основанных на научных открытиях. После феноменального гена, выявленного 50 лет назад, появился и был описан маркерный признак заболевания. Ген был исследован, с помощью сложнейшего компьютерного дизайна придумали лекарства, которые должны точно подходить к продукту этого гена, к той части белка, которая обуславливает его активность. И получили желаемый результат: раковые клетки погибли. Такого не было никогда. До этих пор фармацевтическая наука работала совершенно иначе. Именно так, впервые в онкологии, на примере одного вида рака – хронического миелолейкоза – был создан новым «таргетным» способом (от английского target – «мишень») революционный препарат, действующий на продукт онкогена опухолевой клетки. Официальное фармацевтическое название «Иматиниб».
Профессор Левин, разумеется, совершенно счастлив. «Открытие р53, онкогенов и последовавший за этим прорыв в области молекулярной фармакологии – это настоящее чудо, именно тот случай, когда в онкологической области уместно говорить о чудесах. Чудесах рукотворных, – с гордостью рассказывает он. – Судите сами, когда создали «Иматиниб», то 90 процентов больных, шансы которых раньше были неутешительными, стали жить, жить, жить и жить. Фактически люди перестали умирать от хронического миелолейкоза. Он стал излечим в одно мгновение, как по мановению волшебной палочки».
Доктора и больные хроническим миелолейкозом всего мира знают это спасительное лекарство под торговым именем «Гливек». Он праотец новой антираковой терапии XXI века, главный принцип которой: если знаешь, какой белок поломался и толкает клетку в злокачественную сторону, назови его мишенью и стреляй в нее. Отныне ученые будут подбирать конкретное лекарство к конкретному раку. Первые кандидаты на излечение – те виды онкологии, о которых достоверно известно, какая именно поломка гена их провоцирует.
Идея таргетной терапии рака и нахождения мишеней состоит в точном определении того, от чего опухолевая клетка стала зависимой, без чего она не может жить. Это «что-то» ей было необходимо для бесконтрольного деления, вся ее физиология подстроилась под то, чтобы жить с этим. Это «что-то» надо найти и отнять, сделав ее жизнь несносной. Как, например, запретив спиртное, мы не сильно повредим непьющим и малопьющим людям, а вот алкоголика можем довести до самоубийства. Поэтому мишенью является то, от чего опухолевая клетка зависима, а нормальная – нет. Впрочем, нельзя слишком обольщаться: редко когда удается вылечить рак одним ударом – лекарством против одной мишени. Почти всегда рак сначала поддается, но потом в его недрах возникают клетки, устойчивые к применяемой терапии, и рост опухоли продолжается на фоне таргетного препарата. Не давай алкоголику водки – будет пить тормозную жидкость или научится варить самогон. Что же делать? Создавать лекарства против разнообразных мишеней и применять их в комбинации, чтобы лишить опухолевую клетку возможности маневра.
Об этих лекарствах не меньше пациентов мечтают их доктора. «Можно провести аналогию с плодами, которые висят низко и высоко. Вот одна мутация, против нее нашли лекарство, ее заблокировали, болезнь прошла, – рассуждает Михаил Ласков. – Мы сорвали плоды, которые висят низко. Самый хороший пример – хронический миелолейкоз, от которого все умирали, а потом придумали «Гливек», и большинство теперь живут. Но таких низко висящих плодов мало, осталось то, что висит высоко, их просто не сорвешь. Хотя по отдельным заболеваниям случаются прорывы, в последнее время, например, по меланоме: раньше была иммунотерапия, на которой жили пять месяцев, а сейчас три года. Мы не знаем, может, и больше будут жить. Но мне кажется, мы все ближе к пониманию, что одного универсального средства победы над раком нет и быть не может. Чудо-таблетка невозможна, как это ни печально».
Но реальные успехи в области поисков, создания и, главное, воплощения и массового производства лекарств нового принципа действия есть. Для посвященных людей они ощутимы. Мы с вами пока лишь с трудом можем вообразить грядущую фармацевтическую революцию в мире онкологии. И главный вопрос, который тревожит всех: сколько ждать? Год? Два? Десять? Или пятьдесят лет?
По словам профессора Алексея Масчана, победа над раком не может быть осуществлена с помощью одного лекарства, с помощью какого-то класса лекарств, с помощью одного воздействия. «Я могу совершенно точно сказать, что победа будет. Но это будет не тотальная разовая победа, а будет выигрыш у рака одной партии за другой, – говорит Масчан. – Ведь посмотрите, каким образом идет наше сражение с раком (которое, хочу заметить, мы на самом деле выигрываем, пусть вам и не кажется это таким уж очевидным): это случается такими, я бы сказал, кластерами событий. Происходит накапливание информации, затем следует открытие, и медики с помощью новых методов закрепляют успехи на отвоеванном участке. Потом опять долгое ожидание. Так, например, больным, которые заболели 40 лет назад, нужно было продержаться 20 лет. Тем больным, которые заболели, допустим, хроническим миелолейкозом 15 лет назад, нужно было продержаться три года. А некоторым из тех, кто заболел недавно, нужно было подождать всего пять лет, чтобы получить доступ к тому же «Гливеку» и жить дальше, сколько угодно долго. Заболей они десять лет назад – шансов бы не было».
Профессор Масчан, тонкий, внимательный и принимающий близко к сердцу каждого пациента детский доктор, сам очень хотел бы верить в то, что даже эти его слова приближают счастливый момент появления на свет всех тех препаратов, которых ждут и боятся не дождаться его маленькие пациенты, их родители, бабушки и дедушки. Он ведь тоже человек. У него есть пожилые родители и маленькие дети. Он за них боится. И для себя лично едва ли не ежедневно отвечает на вопрос о том, сколько надо будет продержаться пациентам сегодняшним до того дня, когда каждый столкнувшийся с раком человек будет уверен: у медицины есть что ему предложить. И это «что-то» – со стопроцентной гарантией. «Есть лекарства, которые уже кому-то подходят и могут продлить жизнь, дать время на ожидание, – говорит он. – Есть такое лекарство, которое еще совсем далеко, в лаборатории. И сколько лет, сколько усилий и сколько денег будет потрачено на его создание, никому не известно». Алексей Александрович замолчит на полуслове. И несколько секунд будет безмолвно разводить руками, пытаясь найти еще немного аргументов, чтобы убедить и себя и меня: надо ждать, надо верить. Я много лет дружу с профессором Масчаном и со многими другими прекрасными российскими докторами. Я, конечно, точно не знаю, но могу себе представить, каково это: понимать, что ты не можешь кому-то помочь только потому, что наука не всегда поспевает за болезнями. И каково это, спустя годы осознавать: а вот этого пациента сейчас я бы спас. А вот у этого был бы шанс.
Но ни сократить время исследований, ни отмотать годы назад не под силу ни одному доктору. Однако каждый хороший врач помнит всех тех, кого мог бы вылечить. Сейчас. А раньше не сумел.
Об этом мне как-то рассказала профессор Рашида Орлова. Случайная история, пришедшаяся к слову, показалась мне достаточно важной иллюстрацией к тому, как болезненно врачи-онкологи воспринимают ограниченность своих ресурсов в условном «вчера» и как переживают о том, что все сегодняшние знания в этом «вчера» не были применимы. Итак, рассказ Рашиды Орловой.
У меня была такая пациентка: муж алкоголик, замуж вышла очень поздно, двое детей, мальчику три года и девочке пять лет. И она мне всё время говорила: «Сделайте что-нибудь, чтобы я подольше пожила, мне надо поднять детей. Мне не на кого их оставить…» И мы все что могли, делали, у нее и опухоль была не очень большая, но это было 15 лет назад. Не было еще тех препаратов, которые есть сегодня, и не было тех методик, которые теперь – обычное дело. Я больше скажу, она у нас умерла от токсичности существовавших в то время химиопрепаратов, а не от опухоли. Пока она лечилась, к ней приходила ее тетя. Я не знаю точно, но, кажется, она была ее единственной неравнодушной родственницей. Эту пациентку мы потеряли. Прошло два года. И как-то в магазине я случайно встретила эту тетю. Она меня тоже увидела, узнала: «Ой, здравствуйте». Я говорю: «Как у вас дела? Как дети?» А она: «Вы знаете, мы с дочкой смогли взять только девочку. А мальчика отдали в детский дом». И вот прошло уже 15 лет, а я до сих пор вспоминаю этот случай. Это просто ужасно. Вы, наверное, не можете себе представить, что я чувствую. Но я понимаю, что сейчас, если бы она заболела в том же возрасте, тем же раком, она бы жила. То, что можно сделать сейчас, тогда нельзя было сделать. Умом я это понимаю, а сердцем принять не могу. Той девочке сейчас, наверное, лет 20, мальчику лет 18. Я не знаю, как сложилась их судьба. Но не могу с тех пор перестать думать о них, винить себя, винить медленный наш прогресс. Я даже не знаю, нашли ли они потом друг друга.
Эта сослагательность профессии онколога и безысходные переживания свойственны любому хорошему доктору, любому неравнодушному человеку. Тем больнее врачам слушать полуупреки-полудомыслы о том, что отсутствие спасительных лекарств в онкологии – результат заговора докторов и фармацевтических боссов. Мол, пока и те и другие не заработают достаточно денег, чтобы «отбить» усилия и средства, потраченные на создание лекарства предыдущего поколения, новая чудо-таблетка не будет выпущена на рынок. Но Рашида Орлова уверена: «Фармацевтическим боссам гораздо выгоднее эту чудо-таблетку, если бы она существовала, выпустить на рынок, я вас уверяю. Все средства, которые хотя бы минимально активны от рака, очень быстро попадают на рынок. И, более того, сейчас ведется огромная дискуссия в Западной Европе и в Соединенных Штатах о том, чтобы лекарства, которые показали свою хотя бы минимальную эффективность, как можно быстрее выводить на рынок. Поэтому ситуация является обратной. Никто не скрывает, напротив: сейчас путь, который раньше проделывали эти лекарства от лаборатории до выхода на рынок, сокращен в два-три раза».
«Если бы эта таблетка существовала, то стоила бы очень дорого, но ее обязательно применяли бы в онкологии. Для тех, кто верит в алчность фармкомпаний и корыстную сговорчивость врачей, наверное, это будет убедительным аргументом: чудо-таблетка, существуй она, стоила бы баснословных денег. Но сколько стоит жизнь? Эту таблетку продавали бы, покупатели нашлись бы. И фармацевтические боссы, если уж вы так дурно о них думаете, обогащались бы. Но это просто нехорошая фантазия. На самом деле, как это ни горько, такой таблетки не существует», – говорит профессор Ольга Желудкова. А профессор Александр Карачунский добавляет: «Фармацевтические компании, несмотря на то, что они все заинтересованы в получении прибыли, контролируются государством. На Западе этот контроль осуществляется по законам не жестким, а очень жестоким: фармацевтические компании не способны создать и ввести в клинику ни один препарат без предварительных клинических исследований. Причем эти исследования должны быть проведены в мультицентрах. С другой стороны, фармацевтические компании настолько серьезно контролируются и врачами, и государством, что не могут тайком создать и где-то в тайных подвалах прятать нечто спасительное. Такого просто не может быть – и точка. Любые инсинуации на эту тему безнравственны».
Мы меряем шагами короткий двор, заставленный машинами, куда выходят окна клиники Ласкова Hemonc. На улице холодно. Но мы ходим и ходим кругами. Доктор пытается объяснить мне, как и откуда берутся цены на лекарства и почему никакого заговора фармкомпаний не существует: «Первая понятная аналогия, которая приходит в голову обывателю, это нефть. Мы своими глазами видели, каким безумным, неоправданным и даже безнравственным был рост цен на природные ресурсы. Ситуация с лекарствами во многом схожая: технологии позволяют разрабатывать всё больше и больше интересных молекул в препаратах для онкологии, но цена разработки и вывода на рынок такова, что уже практически никто в мире не может себе это позволить. Мировые фармкомпании пользуются выкладками, говорящими о том, что для того, чтобы новый, инновационный препарат появился в аптеке, нужно двадцать лет и миллиард долларов. Это совершенно не значит, что изобретение и производство препарата действительно обошлось компании в миллиард долларов. Дело в том, что из десяти проектов, которые были изначально запущены, девять не состоялись потому, что были ошибочны или не эффективны. Но тот один, который оказался эффективен, тоже вполне может не дойти в итоге до аптеки, просто не выйти на рынок, потому что схема вывода на рынок новых препаратов очень сложная, трудоемкая и дорогая. Она, надо прямо сказать, устарела. И новый вызов времени: как удешевить исследования и упростить путь, по которому новые препараты попадают непосредственно к пациентам. Причем сделать это надо так, чтобы не нанести пациентам вред. Нацпроект «Онкология», например, который сейчас анонсировали США, это путь. Но от руководителей страны, кем бы они ни были и где бы ни находились, не всё зависит: никто, ни одна страна мира не может себе позволить затраты, которые нужны для того, чтобы кардинально улучшить выживаемость и результаты лечения. И это не заговор фармкомпаний, это некоторый тупик, из которого надо выбираться, если мы хотим двигаться вперед».
Несколько месяцев назад в сквере Института онкологии имени Розвелла Парка в Баффало я разговаривала с профессором Андреем Гудковым. Он пытался мне объяснить, почему никто и никогда не стал бы скрывать от врачей лекарство от рака, если бы оно существовало. «Никакого заговора нет. Заговоров вообще очень мало на свете, чаще всего они придумываются задним числом беллетристами, когда нужно что-то объяснить. Обычно в жизни всё происходит только одним способом: стечение обстоятельств, а потом вдруг это оказывается разумным, или можно разглядеть коварство. Никакого коварства в деятельности фармкомпаний и в цепочке «лаборатория – исследования – фармкомпания – клиника» нет. Есть наука и чистая экономика. В этой связке сегодня действительно так всё построено, что блокбастером, то есть лекарством с гигантским рынком, могут стать препараты, которые продлевают жизнь всего на три-четыре месяца, что ничто с точки зрения продолжительности жизни в целом, но очень много значит с точки зрения жизни каждого конкретного больного. И поскольку ничего более эффективного нет, то лекарство, которое лучше, чем предыдущий способ лечения, уже кое-что. В среднем оно дает больным шанс прожить не полгода, а девять месяцев. Для больного, получившего три дополнительных месяца жизни, это гигантский шаг, но хотелось бы большего. И поэтому не в том дело, что тебе пытаются «впарить что-то на три месяца», просто ничего лучше нет. Всё, что появляется, оно из разряда: «О, потрясающе, у меня что-то есть, что всех мышей вылечило, теперь оно и всех людей вылечит!» Не забывайте, что этими озарениями делятся, как правило, те ученые, которые занимаются самыми ранними исследованиями, «разведчики». Бывают разведчики доброкачественные – это ученые, и недоброкачественные – это знахари, но они тоже разведчики. Не хочу сказать, что любой разведчик может найти что-то замечательное, но нельзя отмахиваться от знахарей совсем, они иногда, в силу того, что ставят эксперименты на людях, могут что-то интересное найти.
И мы, ученые, болеющие за дело, мы тоже люди. И мы прекрасно знаем, какое это жестокое чувство разочарования, когда ты берешь и проверяешь вроде бы феерически гениальную догадку, и – «Эх, опять не получилось», – говорит Гудков. Отворачивается. И смотрит куда-то вдаль. То ли на черное небо с гирляндами звезд, то ли на темные окна палат, где в каждой спит кто-то, кто надеется, то ли на подсвеченный безжизненным дневным светом коридор клиники, ведущий в реанимацию, по которому, вполне может быть, этой ночью проедет кто-то, кто никакого научного прорыва так и не дождался.
Глава 27
Каждую секунду в мире происходят десятки тысяч догадок, озарений и организованных по их следам проверок и связанных с этим триумфов и разочарований. Во многом это обусловлено принципами того, каким образом ищутся, находятся и создаются лекарства. В некоторых странах, таких как, например, США, поиск спасительных препаратов в значительной степени финансируется и контролируется государством и считается одним из приоритетных направлений науки и медицины. Именно поэтому львиная доля в миллиарде долларов, который ежегодно человечество тратит на поиск средств против рака, принадлежит Соединенным Штатам Америки.
Организация, которая, без всякого сомнения, совершила переворот в мировом здравоохранении, – это Национальный институт здоровья США. Именно с его помощью через Национальный институт рака, который является частью Нацинститута здоровья, финансируется большая часть исследований, связанных с поиском лекарства от онкологических болезней. Многолетняя политика Национального ракового института устроена таким образом, что любое вещество, которое имеет хотя бы какие-то намеки на противораковое действие, проверяется бесплатно. На это уходят сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков. Но результат, который однажды обязательно появится, стоит этих денег.
За полвека существования государственная программа финансирования поиска средств от рака позволила огромному числу ученых со всего мира работать не просто в стол, для будущего, а надеяться на то, что их лекарство будет немедленно проверено, апробировано, получит компетентную оценку и, возможно, путевку в жизнь.
Справедливости ради надо сказать, что ни одно из появившихся сегодня на рынке современных лекарств не обязано своим существованием госпрограмме США. Любая из наработок вполне может «выстрелить» в ближайшем будущем.
Стандартный путь лекарства от идеи до воплощения был сформулирован и прописан одновременно в нескольких развитых странах и везде работает примерно одинаково. В Соединенных Штатах, например, этим ведает организация, которая называется FDA, Food and Drug Administration (Организация по контролю за производством и безопасностью продуктов и лекарственных препаратов). Незадолго до моего знакомства с Андреем Гудковым несколько препаратов, созданных в его лаборатории, как раз были приняты на изучение и возможное одобрение FDA. Так что профессор для меня – поставщик «вестей с фронта», тот, кто на собственном опыте может рассказать о том, как наука входит в повседневную жизнь. «Чтобы некий препарат, придуманный и созданный какими бы то ни было учеными, был, даже экспериментально, применен для лечения людей, необходимо принести в FDA огромный файл, в котором четко прописаны не только противоопухолевая активность в каких-то биологических моделях, но и технология производства лекарства, его чистота и детальная характеристика профиля токсичности на животных. Причем, как ни удивительно, для FDA совершенно не важна демонстрация эффективности препарата на большом числе экспериментальных моделей. В этом, кстати, отличие российских регуляторных установок от американских, – рассказывает Гудков. – В России есть довольно четкие указания, на какой модели какого уровня торможения роста опухоли нужно достичь. Ничего подобного FDA не требует: если хотя бы на одной модели работает, нас это устраивает, о’кей; иди в люди, всё равно предсказательная способность лабораторных моделей ограничена. Более того, «считаются» даже те данные, которые сделаны только в твоей лаборатории и другими не воспроизведены. Потому что FDA знает: сработает или не сработает предлагаемый кандидат в противоопухолевые агенты, можно определить только в опытах на людях».
Разрешая испытания на больных, которым современная медицина бессильна помочь, FDA ставит планку собственных ожиданий очень низко: если есть хоть какая-то надежда, что сработает, – надо пробовать. Но только после определения безопасности. Именно поэтому главная задача FDA в момент разрешения испытаний – оценить не столько пользу (действенность), сколько безвредность препарата. Авторы должны убедительно продемонстрировать, что те дозы, которые предполагается вводить людям, были проверены и признаны безопасными на двух видах животных, маленьких и больших (мыши и собаки, или крысы и собаки, или крысы и обезьяны, важно, чтобы два разных вида принадлежали двум разным семействам млекопитающих).
Вот для этого при лабораториях, разрабатывающих лекарства, всегда существуют виварии. В них содержатся разные животные: и «обычные», и лишенные иммунитета белые, лысые мыши, крысы, специальные собаки и даже обезьяны. Такой виварий есть и в Институте онкологии имени Розвелла Парка в Баффало, где испытываются препараты из лаборатории Андрея Гудкова и других сотрудников института. Но в ответ на просьбу показать, как именно всё это устроено, как работает, профессор Гудков удрученно качает головой: «Даже если вы поклянетесь кровью, что не будете снимать и фотографировать, я не имею права показать вам виварий. Эти жесткие меры применяются из-за проблем с борцами за права животных. Еженедельно по всей Америке они громят виварии в стремлении выпустить на волю, строго говоря, не приспособленных к воле животных, где они, естественно, сразу и погибают. Поэтому институты вынуждены защищаться, в том числе и стараясь не привлекать к себе внимания. Хотя, интересно, а как без этого развивалась бы наука?»
В России, где всё еще есть масса нерешенных вопросов с правами людей, за права животных борются менее активно. И факт наличия вивариев никто не скрывает. И съемки в них более-менее разрешены. В одном из базовых вивариев страны работает заведующая лабораторией комбинированной терапии опухолей Научного онкологического центра профессор Елена Трещалина.
Но, предваряя ее рассказ, мне хотелось бы сказать немного о животных, помогающих ученым всего мира искать и находить столь ожидаемое всеми нами лекарство от рака. И многие другие лекарства, конечно, тоже.
И профессор Трещалина, и профессор Гудков, и другие ученые, как и вы, читатели этой книги, как и я, ее автор, любим животных. И не любим, не хотим думать о той боли, которая причиняется им во время научных и медицинских экспериментов (хотя на самом деле ученые делают всё возможное, чтобы минимизировать эту боль и не причинять ее без действительно научной необходимости). Но на сегодняшний день ни борцы за права животных, ни ученые, беспокоящиеся об их состоянии, не нашли другого решения для качественного проведения экспериментов.
Огромное количество животных так же, как и мы, часто страдают от рака. Разрешив мне смотреть, записывать и снимать в виварии, профессор Трещалина оговорилась: «Мы, конечно, шляпу должны снимать перед нашими лабораторными животными. Мы великие их должники. Поставлены же физиологами памятники собаке и лягушке, думаю, пора биоинженерам и онкологам ставить памятник мыши, крысе, кролику».
Пока мы идем с Еленой Трещалиной к виварию с мышами, становится известно, что в хирургическом отделении ветеринарной клиники Российского онкологического научного центра только что была проведена успешная операция по пересадке искусственно выращенной трахеи собаке, больной раком трахеи. Если у пса всё пойдет хорошо, это послужит надеждой на то, что однажды подобные операции и подобная терапия станут возможны и в мире людей. И спустя два года после выхода первого издания этой книги такая операция действительно происходит в Онкоцентре имени Н. Н. Блохина. «Собственно, ради этого, а не из какого-то умозрительного научного любопытства ученые всего мира работают в вивариях. Ради этого эти самые виварии и существуют, – говорит Елена Трещалина и с нежностью и гордостью показывает подведомственные территории: виварий научного онкоцентра, один из лучших в мире. – У нас есть так называемые генно-нокаутированные мыши, иммунодефицитные, у которых нет трансплантационного иммунитета. Называются они «голые мыши». Мы остались почти последними в стране, кто по старинке разводит этих самых, как говорят в народе, подопытных мышей. Они необходимы для доклинической и специфической химиотерапии и даже для доклинического изучения безвредности на этапе оценки онкогенных потенций. Только они могут позволить расти опухоли, потому что у них нет защитного иммунитета. Испытывать это в клинике, на людях, категорически невозможно, и надо уже закончить непрофессиональные разговоры об этом!»
Трещалина спрашивает как бы себя, но выходит, что меня, а в моем лице широкую общественность: «Ну кто согласится испытывать на себе яды, например? Если речь идет о новых лекарствах. Ведь опухолевые клетки нельзя остановить или нельзя заставить их какое-то время не размножаться. Их нужно убить. Если вы их не убьете, то даже одна оставшаяся в живых опухолевая клетка убьет вас. Задача лекарственной терапии рака весьма проста: нужно убить все без исключения опухолевые клетки, используя для этого различные методы или средства, сочетая их так, чтобы человек при этом выжил, чтобы погибла только опухоль со всеми опухолевыми клетками. Чтобы она не имела больше возможностей ни восстановить свой рост в том месте, где она возникла, ни отсеять своих детей, метастазы, куда бы то ни было и повредить тем самым органы. И через эти органы убить человека».
Вообще-то я с этой удивительно красивой женщиной небольшого роста, с хрипловатым голосом, обворожительной улыбкой и каким-то феноменальным умением говорить так, чтобы у собеседника не оставалось шанса сомневаться в сказанном, не хотела спорить с самого начала. Это она подняла эту тему. Это она, как и профессор Гудков, первой заговорила о чувстве вины, которое ученые испытывают перед подопытными животными, отдавая себе при этом отчет в том, что цена жизни мышей и крыс, кроликов, мартышек и собак – возможное спасение человека от рака. И без испытаний на животных в развитии «человеческой» онкологии далеко не уедешь. Химиотерапия – это ведь не шампунь от перхоти. Тем временем профессор Трещалина, надев резиновые перчатки и бережно поглаживая лысую мышку, продолжает: «Простите меня, конечно, за нотацию, но вы же понимаете, что убить опухолевую клетку, не убив нормальные клетки и вообще человека, – это чрезвычайно трудная задача. Надо найти те условия, при которых это состоится. Вы же не будете подвергать, как это делали в концентрационных лагерях, живых людей экзекуциям? Нет. Это безнравственно. Это преступление. Поэтому, с нравственной точки зрения, с точки зрения огромной моральной ответственности, которая лежит на плечах докторов и ученых, прежде чем что-то новое вводить первому человеку, надо провести все мыслимые и немыслимые проверки на животных».
Так проверяются и средства, и субстанции, и методы, и дозы, словом, весь арсенал возможного будущего лечения. Когда будет доказана 1) эффективность, 2) безвредность и 3) установлены границы, в которых это средство или метод могут быть применены, ученые рассматривают возможность перехода к использованию нового средства на первом человеке, том самом, безнадежном, который скажет: «Да, давайте, у меня нет выхода, я обречен и я даю вам добро. Попробуйте, а вдруг мне это поможет?»
«Мы будем благодарны этому человеку. И возможно, даже его спасем, – говорит Трещалина, все еще поглаживая притихшую мышку. – И будет создано новое революционное лекарство. Но вначале надо пройти огромный путь. Потому что задача доклинической медицины, доклинической онкологии – доказать эффективность, полезность того, что может быть применено. К великому сожалению, всё, что позволяет достичь этой эффективности, небезразлично для организма здорового человека, а уж тем более человека, больного злокачественным новообразованием. Вот в такие узкие рамки мы втиснуты».
Испытывая лекарства, ученые всего мира находятся в условиях значительных ограничений: они ищут лекарство для людей, но до самой последней секунды дела с этими самыми живыми людьми – больными или здоровыми – не имеют. До сих пор никому, ни в одном научном центре ни одной страны мира не удалось создать или смоделировать человека. Появление «гомункулуса», разумеется, совершило бы переворот в экспериментальной науке. Для этого следовало бы не только создать что-то похожее, но выдумать, изобрести биологическую систему, способную, с одной стороны, более или менее доказательно выявить полезный эффект предполагаемого лекарства (гибель опухолей и опухолевых клеток), смоделировать способность опухоли распространяться по организму, а с другой – обнаружить возможные побочные эффекты и полностью исключить лекарства или методы, которые вызывают необратимые последствия для организма.
Профессор Трещалина тем временем курсирует по виварию, открывая и закрывая боксы с мышками, показывая камере то одну, то другую, отдавая короткие и точные указания ассистентке-лаборантке. Работа идет, ни на секунду не останавливаясь: одним мышам делают инъекции, других осматривают, внося показатели и параметры в специальные таблицы, с помощью которых ведется мониторинг исследования. Свои действия она поясняет одной короткой фразой: «За всем этим я вижу будущие поколения людей, которым служат эти животные. Они мои соратники, сподвижники, они моя команда». Позже, когда мы уже сядем пить чай, Елена Михайловна продолжит: «Вы представьте, что у человека, которому применят какое-либо новое средство, разовьется паралич конечности, например. И он только в ожидании полезного эффекта уже будет инвалидизирован. Разве можно такое допустить? Ни один врач на это не пойдет. Для того чтобы установить рамки безвредности, к сожалению, недостаточно только одного вида животных. Ни один из видов животных не приближается к человеку по типам реакций органов и систем на вредное воздействие. Поэтому мы используем грызунов и негрызунов, они по-разному устроены. Наши первые пациенты – это мышки или крысы, вторые – крупные животные: кролики, собаки, обезьяны. Это этап оценки безвредности. После него мы уже можем давать голову на отсечение, что в 100 процентах случаев результат воспроизведется в клинике. Что касается положительного эффекта, то на самом деле до того, как препарат, средство или метод придет в клинику, стопроцентной уверенности ни у кого нет. Как много людей, так много и ответов.
Людей одинаковых нет, все разные. Есть одинаковые заболевания, но они имеют разные течения. И наслоенный на индивидуальные особенности пациента один и тот же рак приобретает такое разнообразие, вариабельность, которая абсолютно исключает стопроцентный перенос положительного эффекта из доклиники в клинику. Поэтому мы только ожидаем. Но ученые, которые во всем мире этим занимаются, знают, какие модели опухолевого процесса на каких животных позволяют в большем проценте прогнозировать положительный эффект, какие – нет. А особенно те, которые изучают безвредность, делают это на животных здоровых, потому что, если опухоль погибнет, – ладно, но весь остальной организм должен быть здоров, поэтому для моделирования берут несколько видов здоровых животных и выявляют у них самые опасные ожидаемые эффекты, причем, знаете, каким страшным способом?»
Поразительно, но именно в этот момент я и собиралась спросить о способах. Ведь даже в обусловленном гуманистическими идеями научном процессе должны быть какие-то рамки разумного. И, по идее, они тоже должны быть прописаны в правилах доклинических исследований на животных. «Животным, участвующим в исследовании, дают очень большие дозы или очень длительно применяют препарат, который находится в стадии исследования. Никогда не понятен предел этого «очень долго» и «очень много», – говорит Трещалина. – Но, сами понимаете, чувствительный пациент ответит на небольшую дозу или на недлительное применение лекарства, а другой, менее чувствительный, не ответит. И в зависимости от ответа пациента нужно будет изменять условия применения: и дозы, и этих методов может быть несколько. Для того чтобы спрогнозировать самый крайний случай: вдруг попадется такой чувствительный человек, у которого самое минимальное воздействие вызовет тяжелый эффект, о котором мы с вами говорили, – мы и ищем этот «крайний предел». Это нервная и ювелирная работа».
Забегаю вперед и спрашиваю, правильно ли понимаю, что в любой доклинической медицине, в любом доклиническом опыте участвуют здоровые животные. «Конечно, нет. Сначала мы должны победить рак. А что прикажете побеждать, если животное здорово?» – отвечает Елена Михайловна.
Настаиваю: «Но разве невозможно подобрать животных с идентичными опухолями для какого-то эксперимента?»
Трещалина вздыхает: надо было слушать от начала до конца и не перебивать. Ее желание во всех деталях рассказать о том, как устроена эта экспериментальная часть науки, совершенно понятно. Дело в том, что даже те пытливые обыватели, которые желают постичь алгоритм появления и внедрения новых противоопухолевых (или любых других спасительных) препаратов, редко интересуются тем, что стоит в самом начале пути. Обыкновенная психология пациента: нам не важно знать до мелочей, кто и как подбирал слагаемые этого гениально сошедшегося уравнения, нам важен результат, которым мы смогли бы пользоваться немедленно. И это так похоже на расхожие претензии пациентов (реальных и мнимых): отчего всё так долго, неужели эти ученые не могут быть порасторопнее, быть может, это козни их боссов или даже фармкомпаний. Однако в таком результате, как лекарство от рака, мелочи действительно очень важны.
«Дело в том, что возбудителей опухоли нет. Опухоль возникает не как инфекционный процесс, а в силу некоторой цепочки спонтанных событий, ход и взаимосвязь которых еще до конца не понятна никому в мире, – объясняет Трещалина. – Конечно же, у животных опухоль может возникнуть самостоятельно, без наших дополнительных усилий. Но такие опухоли возникают в разное время, достигают разного размера, количество этих опухолей всегда разное, и времени у исследователей, и особенно у ожидающих пациентов, не хватит, чтобы на них что-либо изучить. Ну, дадите ли вы, Катя, моей лаборатории каких-нибудь 50 лет, если лекарства ждут близкие вам люди? Конечно, нет. И будете правы. Врач идет за пациентом – онкологический больной от него убегает по скорости развития болезни, поэтому мы должны опередить болезнь. И вся доклиническая онкология методически сформирована так, что самые краткосрочные и самые информативные тесты туда включены. Среди краткосрочных тестов опухолевого роста – так называемые прививаемые опухоли. Исходно вы правы, они получены от самопроизвольно возникших опухолей, чаще всего у человека. Забираем операционный материал и консервируем его соответствующим образом. В XXI веке это не проблема, сейчас криоконсервацией занимается вся трансплантология. То же самое и у нас. Законсервированные опухолевые ткани и клетки живут сотнями лет: в атмосфере жидкого азота при температуре минус 190 градусов они могут жить всегда. Но быстро размороженные и пересаженные животному в соответствующем количестве, они его убьют, и убьют так быстро, как определила до этого огромная армия доклинических онкологов, живших в XX веке. Вторая половина XX века – время, подарившее онкологии возможность доклинического изучения, быстрого создания противораковых методов и средств лечения. Потому что количество и разнообразие опухолей, которые прививаются от животного к животному и могут быть сохранены в хранилищах, имеют почти все варианты, характерные для человека. Это не значит, что соответствующий вариант опухоли даст точную рекомендацию по лечению аналогичного варианта рака у человека, но это значит, что сформированный пласт опухолей, их панель, даст возможность спрогнозировать эффект: если на моделях ученые получили эффект определенной высоты, длительности и воспроизводимости, значит, есть все основания ожидать его в клинике. Всё это касается опухолей трансплантируемых, то есть искусственно подсаженных подопытному животному.
Но есть еще опухоли, рост которых спровоцирован различными воздействиями (они называются индуцированными). Вызвать опухоль чем-то полезным нельзя. Она возникает в ответ на жесткое рентгеновское излучение, гамма-излучение или канцерогены. С ними труднее, поскольку количество опухолей, которые появятся при воздействии канцерогенов, невозможно спрогнозировать, и нельзя предсказать срок, в течение которого на каждое отдельное животное следует воздействовать для образования опухоли.
Поэтому из материалов, полученных после изучения огромного количества опухолей, – поясняет Трещалина, – созданы специальные панели. В них есть характеристики по чувствительности ко всем существующим средствам. Эти панели обладают большой прогностической ценностью для клиники: с такой-то степенью вероятности при таких-то условиях применения вы можете выполнить то, что даст вам в конце вот такой результат. Если средство на моделях показало эффективность и мы точно знаем, что в определенной дозе (например, пять раз вводить внутримышечно или внутривенно, ведь на животном можно испытать любой метод введения) эффективность доказана, значит, мы передаем средство в руки токсикологов, которые на здоровых животных выявляют степень безвредности этого вещества. После этого данные совмещаются и оцениваются».
Получается, что профессор Трещалина, как и ее коллеги по всему миру, имеет дело с живыми организмами, но не с теми, для блага которых этот процесс осуществляется. И во многом успех или неуспех будущего препарата зависит от интуиции ученого. А такие вещи совершенно невозможно регламентировать.
Например, эксперимент завершен, ученые выяснили, как препарат распределяется по организму, как выводится, что происходит, если вещества накапливается много. Вроде бы всё учтено. Но! Ведь может быть такое, что уже после завершения эксперимента выяснится, что какое-то мизерное, несущественное количество препарата осталось в организме? И продолжало там действовать? И это действие оказалось важным, кардинально меняющим ход вещей? Так, по логике, не должно было быть. Но именно так и получилось. И это неучтенное минимальное количество вещества в будущем дало непрогнозируемый положительный или отрицательный эффект. Знания о распределении, накоплении и выведении лекарственных препаратов из организма называются фармакокинетикой. Еще важны биодоступность и фармакодинамика. Эти биологические аспекты порой оказываются важнейшими в эксперименте.
«Физики и химики, вы не поверите, оказали неимоверную услугу онкологии. Многие другие, казалось бы, не связанные науки поработали на благое дело борьбы с раком, – говорит воодушевленно профессор Трещалина. – Вот, например, непосредственно в нашем институте, в моей лаборатории, мой учитель Михаил Алексеевич Преснов, один из инициаторов развития платинового направления (некоторые ученые-онкологи и микробиологи были сторонниками использования различных платиновых сплавов в лечении онкозаболеваний, такая терапия используется и сейчас) в СССР, в экспериментальной и клинической онкологии был одним из первых, кто изучал отечественный алкилирующий препарат «Сарколизин».
«САРКОЛИЗИН» – торговое название препарата «Мелфалан» (также встречается «Алкеран»). Это цитостатический, то есть нарушающий процессы роста, развития и деления злокачественных клеток препарат алкилирующего (разрушающего структуру ДНК) действия. Один из первых отечественных химиопрепаратов.
Изучая «Сарколизин», Преснов лечил саркому у крыс. Не прерывая лабораторных исследований, ученый уехал на съезд онкологов и последующую учебу в Англию. Вернулся через шесть месяцев. Сотрудница вивария спрашивает: «А сколько еще у нас тут будут сидеть крысы с опухолями?» Михаил Алексеевич пошел в виварий, увидел животных с большим количеством опухолей и понял, что у крыс не саркома. Преснов провел гистологическое исследование и увидел, что это лимфома – совершенно другая опухоль. Так была открыта канцерогенность «Сарколизина». То есть получилось, что спасительный препарат имел неожиданный побочный эффект, ничуть, впрочем, не умалявший его положительных качеств. Но в те времена – речь о 60-х годах прошлого века – еще никто не изучал канцерогенность препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний! Дело в том, что, поскольку в организме онкобольных уже были раковые клетки, срок появления вторичных опухолей, как правило, превышал продолжительность жизни пациентов. Так вот, после открытия Михаила Преснова стали изучать. И теперь препараты, имеющие канцерогенность, вряд ли выйдут на рынок. Однако «Сарколизин» по-прежнему используется, только строго в тех дозах, которые не вызывают канцерогенного эффекта.
«Казус Преснова» оказался необходим для понимания того, какого вредного воздействия на организм можно ожидать от нового и вроде бы перспективного препарата. Иногда другим путем, кроме случайности (кто-то, конечно, хотел бы сказать – чуда), это обнаружить невозможно. Ждут ли в таких лабораториях, как лаборатория комбинированной терапии опухолей профессора Трещалиной, неожиданных «фокусов» от каждого исследуемого препарата? И да, и нет. По сравнению с серединой 1960-х годов, когда произошел этот примечательный случай с «Сарколизином» и крысами Михаила Преснова, препараты, которые проходят исследования в нашем веке, имеют меньшую «поражающую» способность, более точны, тонки и направленны. Но и они должны пройти все необходимые стадии исследования. После чего наступает, пожалуй, самый важный и волнительный момент в каждой конкретной истории. Препарат попадает к людям.
Глава 28
В залитом светом фойе американского Института онкологии имени Розвелла Парка по черно-белым клавишам рояля мечутся руки в синих наколках: кресты, купола, точки. Так я понимаю, что музыкант наверняка говорит по-русски. Почти угадала. Дядя Миша – из Одессы. Его язык – это изумительный винегрет из русского, украинского, суржика и какого-то фантастического американского английского, который, кажется, невозможно понять. Но все здесь понимают. Дядя Миша – волонтер. Для пациентов и родственников пациентов онкологического корпуса клиники он уже 15 лет играет дважды в неделю. Потом оказывается, что многие излечившиеся от рака люди годами не могут избавиться от привычки напевать себе под нос непонятные окружающим американцам «Мурку», «Маруську», которая «вдруг решила», «Голуби летят над нашей зоной», «Гоп-стоп», «Столыпин». Еще дядя Миша под настроение играет ноктюрны Шопена, «Детский альбом» Чайковского, кое-что из Генделя и, конечно, «Русский вальс» (вальс № 2 из «Джазовой сюиты») Шостаковича. До эмиграции дядя Миша работал тапером в одном из одесских кинотеатров.
Моя новая знакомая Сюзан Кэро гладит дядю Мишу по плечу, как родного. А он фамильярно бросает через плечо: «Хай, мэм, опять приехала на ремонт?» Грубость шутки «мэм» ничуть не смущает. Сюзан смеется. И это хорошо. Это то, что надо. Поэтому Миша здесь один из самых популярных волонтеров.
Продолжая гладить Мишу по плечу, Сюзан поднимает свои небесно-голубые глаза к пронзительно голубому небу над Баффало, мечтательно улыбается и говорит: «А что, не решись я на клинические испытания 12 лет назад, может, и не узнала бы никогда, как прогрессировал талант моего любимого артиста за это время». Миша смеется.
Это, конечно, не было решающим аргументом. Но что-то похожее – обыкновенные житейские радости и возможность ими наслаждаться – заставили ее рискнуть 12 лет назад. В тот момент Сюзан Кэро было пятьдесят три года. Дочь заканчивала школу. Сын – первокурсник. А рак – как всегда, не вовремя. И, что самое обидное, никакой реакции на стандартное лечение. «Тогда доктор впервые заговорил со мной о возможности принять участие в клинических испытаниях, – рассказывает Сюзан. – Я всё внимательно выслушала. Стало, если честно, очень страшно. Я тогда еще подумала: а как же люди решаются вдруг первыми полететь в космос или даже просто прыгнуть с парашютом? Ведь там неизвестность. Но другого выбора у меня, увы, не было. И я решила посоревноваться с моей лейкемией! Я составила короткий список желаний: увидеть выпускной дочери, ее свадьбу и свадьбу сына. А еще – внуков… Хотя внуки – это было, конечно, уже слишком».
Она показала доктору свой виш-лист и спросила: «Как думаете, оно того стоит?» Он пожал плечами. В общем, решение Сюзан Кэро принимала сама, хотя слово «испытания» звучало жутковато. Да и до сих пор оно ей не нравится. Но претензий и страхов больше нет – свои 12 лет нормальной жизни Сюзан уже получила, решившись на то, что на научном языке так и называется: клинические испытания.
Клинические испытания лекарств – научные исследования с участием людей. Их проводят по всему миру для того, чтобы оценить эффективность и безопасность новых, прежде испытанных лишь на биологических моделях и животных препаратов. Онкологические лекарства могут проходить клинические испытания только на больных раком людях, в том числе и детях. Без клинических испытаний ни одно противораковое средство ни в одной стране мира не может быть зарегистрировано и выпущено на рынок.
Профессор Гудков теперь стоит в своем кабинете у пластиковой доски и поясняет рассказ, рисуя синим маркером. Клинические испытания – важнейший момент, когда всё, что ученый придумал, о чем мечтал и на что надеялся, окажется применимо к тому, ради кого и было придумано, – к больному человеку. И поможет. Или не поможет. «Это предельно важный момент в истории создания любого противоракового препарата, – говорит Гудков. – Мы выходим из лаборатории, мы прошли все стадии изучения всех возможных действий и побочных действий в виварии… И вот мы идем к людям. Это момент истины и для ученого, и для пациентов. Безусловно, в самом начале речь идет о больных, которые уже исчерпали все возможности существующей на сегодняшний день противоопухолевой терапии. Например, у человека есть рак молочной железы, его лечили сначала стандартными курсами химиотерапии – опять начались метастазы; потом стали лечить «Герцептином» – снова пошли метастазы. В конце концов, человек «набит» метастазами, печень уже вся в узлах, и больше нет ни одного способа, который был бы допустим в качестве стандартной терапии. Тогда этому пациенту говорят: «Вы знаете, мы больше ничего не можем сделать, но у нас есть вот такой набор веществ, которые сейчас находятся в клинических испытаниях. Прочтите пять брошюр, подумайте, потому что некоторые из этих препаратов ученые позиционируют как препараты вроде бы успешные против рака молочной железы». Человек читает, советуется с врачом, тот высказывает свое мнение очень аккуратно, потому что врач категорически не может ни получать деньги от компании, которая производит этот препарат, ни рекламировать его, после чего человек принимает сам конечное решение. По опыту могу вам сказать, что здесь, в Америке, люди, как правило, «отдаются» на испытания. Почему как правило? Потому что выбора у такого человека почти нет: или попытаться, или опустить руки».
Клинические испытания в современной онкологии проходят четыре фазы. Первая – это когда лекарство впервые оказывается в человеке и нужно понять, может ли человек переносить его в принципе. Конечным итогом первой фазы должна быть информация о токсикологической границе его применения на человеке и возможных токсических последствиях. В первой фазе необходимо получить базовые фармакокинетические и фармакодинамические характеристики препарата, определить его безопасную дозу. Именно об этом вы потом будете читать в описании лекарства, которое получите в клинике или приобретете в аптеке. Для того чтобы было понятно, о чем идет речь, приведу короткие определения обоих терминов.
Фармакокинетика – это наука о химических превращениях лекарства в организме. Иными словами, это то, как организм влияет на лекарство, как он его перерабатыает, чем он его из себя выводит.
Фармакодинамика – это наука о механизме действия лекарства на организм, она изучает то, что происходит с организмом после действия лекарственного вещества (механизм действия и эффекты).
В первой фазе клинических испытаний шансов на терапевтический эффект, как правило, мало. И не только потому, что фаза начинается с очень низких доз, а увеличение идет постепенно, крохотными шагами. Но еще и потому, что в первую фазу, по этическим соображениям, набираются больные, для лечения которых исчерпан весь имеющийся резерв средств и подходов, а значит, люди с запущенными раками, да еще и ослабленные предшествующим лечением. И больным об этом честно говорят. Тем не менее хоть и редко, но бывает противоопухолевый эффект и в первой фазе: в этом случае ответивший на экспериментальное лечение больной продолжает принимать препарат, пока он действует.
Цель второй фазы – выявить терапевтический эффект, используя выбранную в первой фазе дозировку и длительность лечения. Вторая фаза обычно строится уже вокруг определенного контингента больных, которых выбирают исходя из результатов первой фазы и на основании знаний об особенностях определенных раков (например, наличие в них желанной «мишени»), чтобы увеличить вероятность выявления противоопухолевого эффекта препарата. Как и первая, вторая фаза проводится обычно на небольшом числе пациентов: важно получить принципиальное впечатление – действует или не действует. Именно впечатление, потому что для убедительного доказательства делается третья фаза.
Если первая и вторая фазы стоят миллионы долларов, то третья стоит десятки и сотни миллионов: это уже мультицентровое исследование, которое делается в большом количестве больниц и научно-исследовательских институтов большим количеством разных врачей большому количеству пациентов максимально беспристрастно.
«Беспристрастность, – рассказывает мне стоящий у доски профессор Андрей Гудков, – определяется не только честностью людей (на что рассчитывать не всегда правильно, не потому, что люди лгут, а потому, что уж больно хочется долгожданного успеха и больному, и врачу), но и применением двойного слепого метода, когда ни врач, ни больной не знают, что он проглотил или ввел: лекарство или плацебо». Как это не знает? А вот так: лекарство и плацебо выглядят одинаково и принимаются в одинаковом количестве, но при любом серьезном осложнении так называемое ослепление снимается и врач получает полную информацию о том, что получал пациент. Правда, такие случаи сопровождаются выходом пациента из клинического исследования.
В этой, самой трудной и дорогостоящей, фазе, по мнению многих врачей, работающих в исследовании, людей отличает от лабораторных животных лишь тот факт, что они дают свое добровольное согласие на участие именно на этом этапе исследования, именно по этим правилам.
Мне несколько раз доводилось общаться с пациентами, давшими такое согласие, и докторами, допущенными вести исследования. И те и другие невероятно мужественные люди, двигающие науку вперед.
Условия, на которые соглашаются доктор и пациент, одновременно простые и пугающие: ни врач, ни больной не знают, какой именно препарат человек получает – плацебо, прежнее лекарство (если пациент попал в группу клинических исследований третьей фазы, значит, это прежнее лекарство ему не помогало) или как раз новое лекарство, проходящее исследование. Это непременное условие участия в клинической группе.
Кому из пациентов какой препарат достанется – научно обоснованная лотерея, участвовать в которой все соглашаются добровольно. Как правило, в клиники, которые участвуют в исследованиях третьей фазы, из офиса разработчика лекарства приходят пронумерованные боксы с препаратом. Номер на боксе соответствует номеру, присвоенному пациенту. Анализы, взятые у пациента после применения препарата, промаркированные точно таким образом, отправляются обратно в лабораторию, ведущую исследования. Оттуда вновь приходит безымянный бокс с номером – очередная порция препарата. И всё повторяется заново. Ни повлиять на ход исследования, ни подтасовать его данные, ни «продвинуть» кого-то из пациентов в очереди на «тот самый» препарат ни у кого нет никакой возможности. Папки с результатами исследований строго засекречены. Такие правила действуют во всем мире именно для того, чтобы обеспечить максимально точный результат этого самого дорогого и сложного этапа клинических исследований новых лекарств.
«Бывают ситуации, – говорит Гудков, – когда лекарство делает человека зеленым, в коже откладывается. Как сделать плацебо? Ведь ты же знаешь, что ты съел лекарство – стал зеленым, а он зеленым не стал. Для этого делают специальные плацебо, которые тоже делают человека зеленым. Это всё важно, потому что если исследование не двойное слепое, не верят люди в результат. Люди также не верят в результаты, полученные в странах, в которых слишком велика вероятность обмана».
Поэтому испытания обязательно проводятся одновременно в нескольких странах с разным уровнем жизни и соответственно медицины: например, Китай и любая из стран Европы, Индия и Япония.
Часто бывает, что онкологические больные получают бесплатную химиотерапию в рамках клинических испытаний четвертой фазы. Препараты, которыми этих пациентов лечат, появятся на общедоступном рынке через несколько лет. Моя новая знакомая Сюзан Кэро, по мнению ученых и лечащих врачей, счастливица. Она 12 лет принимает участие в клиническом исследовании препарата, который явно ей помогает, пройдя вместе со своим «спасителем» долгий путь от первой до третьей фазы клинических исследований.
У лекарства, которое Сюзан испытывает на себе, сейчас как раз заканчивается вторая фаза и начинается третья. Заходя в отделение экспериментальной химиотерапии, Сюзан Кэро подписывает несколько документов: «О добровольном информированном согласии на введение препарата», «О добровольном информированном согласии на участие в третьей фазе исследования». И еще один – продление разрешения на использование фото- и видеоизображения Сюзан в рекламе клинических исследований. Тут уже удивляюсь я. Оказывается, наряду с борцами за права животных, участников опытов по созданию революционных противораковых препаратов XXI века, в Америке есть борцы за права пациентов, участвующих в клинических исследованиях. Эти борцы протестуют против «испытаний препаратов на людях», но как иначе их испытывать, борцы не предлагают. Просто протестуют и всё. Именно поэтому Сюзан Кэро вместе с несколькими десятками других пациентов снялась в социальной рекламе, призывающей людей доброжелательнее и терпимее относиться к тому, что происходит в науке. В рамках этой рекламной кампании пациенты сфотографировались для билбордов, развешанных теперь по всей Америке. На билбордах под портретами смертельно больных людей, получивших пусть и призрачный, но всё равно шанс на спасение, написано: «Я не мышь, не свинья и не кролик. Я – человек. Но я тоже помогаю ученым найти лекарство, которое, возможно, спасет меня, а возможно – вас».
Стоит ли говорить, что участница клинических испытаний в Институте онкологии имени Розвелла Парка Сюзан Кэро посещает группу поддержки подобных пациентов – таких групп несколько сотен по всей Америке. Конечно, и Сюзан, и другие «испытуемые» волнуются, конечно, у них есть сомнения. Примечательно, что 12 подаренных экспериментальной терапией лет – не единственный для Сюзан аргумент «за» участие в клинических исследованиях. И этому ее научили психологи в группе поддержки. «Во-первых, я испытываю невероятную благодарность своему лечащему врачу, доктору O’Хайо, за то, что он 12 лет назад предложил мне этот, оказавшийся спасительным выход из положения. Во-вторых, я хотела бы обнять и расцеловать каждого из ученых, работающих над лекарством, которое подарило мне эти незабываемые годы. Всё получилось: была свадьба дочери, женился сын. Вы не поверите, – тут сентиментальная Сюзан, разумеется, смахивает слезу, – я нянчу своего первого внука! У меня даже есть на это силы! Я не знаю, как пойдет дальше, но уже сейчас можно поставить точку: я только выиграла, решившись участвовать в этом исследовании.
Никто не уполномочен жить вечно. Если честно, еще от десятка лет я не откажусь, хотя, конечно, это очень самонадеянно. Но я считаю себя пионером. И я очень горжусь тем, что помогла ученым лучше понять суть лекарства, которое они изобрели. А значит, в будущем у людей с моей болезнью будет больше шансов поправиться и вернуться в полноценную здоровую жизнь. Я очень рада, что так получилось, и я, моя жизнь, моя болезнь смогли стать полезными для других».
История болезни Сюзан Каро, вполне возможно, в недалеком будущем станет главой в истории создания нового препарата против рака, поможет тысячам других людей победить болезнь. Это что касается глобальных перспектив. А в жизни Сюзан попросту произошло чудо. Именно так я воспринимаю ежегодные рождественские открытки, приходящие мне в декабре от Сюзан. В них она сообщает, что чувствует себя прекрасно и шлет приветы от дяди Мишы, которому каждое Рождество самолично печет яблочный пирог «в благодарность за незабываемые эмоции».
Довольно важная часть истории Сюзан заключается еще и в том, что всё передовое лечение, которое пациентка получила, она получила бесплатно. По правилам, принятым во всем мире, всё лечение, которое больные получают в рамках клинических исследований (от первой фазы до третьей, проходящей в онкологических центрах в разных точках земного шара), должно быть бесплатным. В России, когда международные исследования кончаются, а препарат оказывается действительно лучшим из существующих, пациенты оказываются, мягко говоря, в затруднительной ситуации: средство от болезни есть, но денег на него нет. По словам административного директора петербургского фонда AdVita Елены Грачевой, не так давно закончилось интернациональное клиническое исследование по ниволумабу («Опдиво»), в котором принимали участие 132 пациента, наблюдавшиеся в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Поскольку Россия принимала участие в исследовании лишь в качестве партнера, предоставившего пациентов и врачей нужной компетенции, то все 132 человека в одночасье, едва исследование окончилось, перестали получать от производителя бесплатное лекарство, которое им помогало. Денег, чтобы купить необходимый препарат всем нуждающимся, у самих пациентов и у фонда AdVita нет: в некоторых случаях показан пожизненный прием, в некоторых – несколько курсов, стоимость каждого сотни тысяч рублей.
«Скольким сможете помочь?» – спрашиваю я Грачеву. «Тридцати пациентам», – отвечает она, опустив глаза. – «Что сказали остальным?» – «Сказали как есть. Долго разбирались с каждым случаем. Сначала врачи написали, кого можно вовсе снять с препарата, так как эффект получен, кого перевести на другую терапию, кому-то дозировку снизить. Потом мы со своей стороны смотрели, у кого какие родственники работают, кто хотя бы кредит взять сможет, кому помогут работодатели. Но необходимость такого выбора – абсолютно разрушительная вещь и для врачей, и для нас».
Как правило, после того как безвредность и эффективность препарата доказана у взрослых, исследования проводятся среди пациентов-детей. В этом случае информированное согласие подписывают родители (до 9 лет) или и дети, и родители – после 9 лет. В России таких исследований единицы. Профессор Ольга Желудкова – одна из немногих российских врачей, регулярно и активно участвующих в международных клинических программах.
Одним из первых пациентов Желудковой был Сережа Ч., с которым я была знакома, его история болезни пришлась на историю моего волонтерства в детской больнице. Сереже 13 лет. А это значит, что для участия в клиническом исследовании он должен сам подписать специально разработанную для детей форму информированного согласия. Она начинается словами: «Дорогой друг! Тебе предлагается принять участие в научном исследовании…» Более подробную, взрослую форму подписывает Сережина мама Татьяна. Она рассказывает о Сереже, о болезни, о последнем шансе – вот этом клиническом исследовании. Татьяна принимает единственно возможное в их жизни решение, но принимает его не за себя – за сына. Опухоль, которая у Сережи в голове, такая большая, что очень давит на зрительный нерв. Эту опухоль оперировали, потом дважды облучали, потом – несколько курсов химиотерапии. Но победить до конца, выкарабкаться из болезни Сереже так и не удалось. Таня говорит еле слышно: «В других клиниках нам просто сказали: «Вашему ребенку уже ничего не поможет. То есть мы вам никакого лечения предложить не можем. Езжайте домой… умирать». Как я должна это рассказать Сереже? Как я могу это объяснить себе?»
В то, что в биографии ее сына может быть поставлена такая точка, Татьяна не верит. Старается не верить. Эта хрупкая женщина отчетливо понимает: у нее нет другого выхода – если есть хотя бы один шанс на спасение, он должен быть у Сережи. Так Таня с сыном оказались на приеме у профессора Желудковой. Так мы познакомились.
«Когда есть два варианта: либо не лечиться, либо лечиться препаратом, который в России пока не апробирован, но уже достаточно широко применяется в исследованиях, например, в Германии, какой может быть выбор у мамы? Какой у меня есть выбор? Только один: решаться и пробовать. Ольга Григорьевна ни к чему нас не подталкивала, не заставляла. Она сказала: есть призрачная возможность, что это поможет. Я несколько раз говорила с Сережей. Мы решили попробовать», – тихо говорит Таня.
На медицинском языке это значит: принять участие в исследовании. Мне требовалось врачебное объяснение этой решимости Сережиной мамы, я попросила Ольгу Григорьевну об интервью. Она сказала: «Только не по телефону, приезжайте, поговорим у меня в кабинете».
В коридоре к профессору Желудковой огромная очередь из мам и детей. В их глазах сразу и страх, и усталость от страха, и надежда, что там, за дверью кабинета, Ольга Григорьевна предложит им что-то необыкновенное, спасительное, что убьет этот страх и позволит жить без страха и без болезни. Жду в этой очереди больше часа: как она справляется с таким грузом возложенных надежд и ожиданий, как она потом выходит с работы, идет, например, в магазин, едет в метро, приходит домой, смотрит телевизор, спит? Мне кажется, что спать после того, как посмотришь в глаза каждому из этой очереди, очень трудно.
Но этот вопрос я профессору Желудковой так и не задала. Я спросила, как мы и договаривались, о том, каким маленьким пациентам может быть предложено экспериментальное лечение. Этот вопрос тоже оказался из разряда тяжелых. И Ольга Григорьевна, врач с сорокалетним стажем, долго и аккуратно выбирает слова: «Клинические исследования предусматривают проведения исследований… у тех пациентов, которые не могут быть излечены с помощью других… стандартных программ. Катя, я не знаю, как вам по-другому сказать, скажу как есть: такие исследования… они проводятся, наверное, у самых смертельно больных пациентов. У тех, для которых другого шанса нет, ну не придумано еще вообще никакого лечения. Речь идет об инкурабильных больных, в общем-то, в терминальной стадии».
В кабинете становится очень тихо. Я жду, что она продолжит, скажет что-то бодрое, обнадеживающее, подводящее под разговором позитивную черту. Но она просто встает и показывает стеллаж, в котором целая секция посвящена идущему сейчас клиническому исследованию. На центральном месте – объемный чемодан. В нем за семью замками результаты исследования только одного препарата. Чемодан весит восемь килограммов. Где-то в этом чемодане папка с данными о том, как идет исследование с участием Сережи Ч. Но ни рассказывать о том, что там написано, ни называть сам препарат доктор не имеет права. «Детская популяция всегда считалась крайне закрытой для клинических исследований, я бы даже сказала, запрещенной, – говорит Желудкова. – Всегда говорили так: эксперименты на детях проводить нельзя. И лечащий врач пациента всегда вступал в конфликт с исследователем, который предлагал те или иные новые препараты. Лечащий врач раньше всегда был противником чего-то нового и опасался, что это новое может принести какие-то серьезные проблемы в лечении этого пациента. Вот изучена какая-то стандартная схема, ты ее применяешь, и ты изучил ее, тебе это легко проводить. А новое может повлечь за собой какие-то дополнительные осложнения, дополнительные вопросы. По законодательству, исследования у детей могут проводиться только после исследований у взрослых. Но прекрасно известно, что есть ряд заболеваний, которыми не болеют взрослые. И это касается, конечно, онкологии. Есть отдельные виды рака, которые встречаются только в детской популяции. Более того, встречаются только у детей младшего возраста. В этом случае, я считаю, оправдано проведение клинических исследований у детей. А что еще делать? Сколько ждать? Чего ждать?»
Когда-то профессор Желудкова была в числе первых врачей из России, боровшихся за право проводить клинические испытания второй фазы с участием маленьких россиян. Теперь перед ней сидят мама Сережи Татьяна и сам Сережа. И Ольга Григорьевна объясняет им все возможные плюсы и минусы их положительного решения об участии в клиническом исследовании нового противоракового препарата.
В течение нескольких недель у Сережи появятся улучшения. Я стану приезжать в больницу, спрашивать: «Как ты себя чувствуешь?» Сережа будет смущенно пожимать плечами: «То лучше, то хуже, но в целом не очень. Вы же знаете, я болею». В глазах мамы появится надежда. Ей захочется подмечать все положительное, что происходит с Сережиным самочувствием. А все отрицательное – не замечать. Врачи по-прежнему не возьмутся ничего гарантировать, отмечая то положительную, то отрицательную динамику. И наблюдать за всем этим будет очень неспокойно: какое же мужество надо иметь, чтобы составлять все эти многотомные сухие отчеты, когда речь идет об этой одной, Сережиной жизни! Но лекарство, которым врачи пытаются лечить Сережу сейчас, возможно, в будущем (и уже наверняка безо всякой сослагательности) спасет кого-то другого.
«Конечно, мы преследуем, в первую очередь, научную цель, – говорит Желудкова, когда мы идем с ней по больничному коридору от Сережиной палаты к кабинету. – И она касается как улучшения результатов для пациента, который получает это лечение, но также и для будущего поколения, для будущих пациентов. Да, конечно, первые исследования всегда проводятся у пациентов, прошедших первичную стандартную клиническую терапию, которая оказалась неуспешной. Первый клинический опыт всегда связан с лечением больных в рецидиве заболевания. И когда у таких «безнадежных» больных достигнут эффект, положительный результат, тогда стоит вопрос о применении этого препарата у тех, кто только что заболел впервые. Взрослые всегда являются первыми, на ком проводят клинические исследования. И дети уже проходят клинические испытания, как правило, с известным эффектом этого препарата. Чрезвычайно редко, только при тех заболеваниях, которые касаются только детей, испытания начинаются в детской популяции. Обычно все-таки начинают со взрослых. И потом уже мы проводим исследования с теми препаратами, в которых наблюдался положительный эффект, у взрослых, у терминальной группы детей. А значит, в следующей группе мы тоже имеем шанс на положительный ответ. Но не во всех 100 процентах, разумеется». Она останавливается, смотрит на меня: понимаю ли я, о чем она говорит? Я стою, окаменев, не в состоянии произнести ни звука. По больничному коридору бегают или ходят привязанные тонкой трубкой к капельнице дети. Вдоль коридора сидят, ходят, маются их мамы. На стене висит и что-то рапортует телевизор. На стеллаже в кабинете у Желудковой чемодан, в котором, возможно, спрятано средство, могущее спасти всех этих детей. А может, это совсем не оно. Или оно, но никакое не спасительное. Как с этим всем знанием жить? Как продолжать верить, работать, спасать, как отыскать слова, которые сказать Сережиной маме? Мы ведь сегодня будем говорить с Сережиной мамой по телефону.
Ольга Григорьевна трогает меня за рукав: «Могу вам сказать, Катя, почему с одним и тем же заболеванием у больных на один и тот же препарат разный эффект. Значит, разная опухоль. Значит, несмотря на то, что она имеет один гистологический вариант, в ней есть какие-то другие молекулярные маркеры, которые определяют ее чувствительность к химиотерапии. С одним и тем же диагнозом не все 100 процентов положительно отвечают на лечение… Но это мы с вами уже заглядываем в далекое будущее. Пока же речь идет о конкретном исследовании конкретного пациента. И я уже сейчас могу сказать – оно принесет пользу не только этому конкретному больному. Но и для других пациентов это тоже возможная польза в лечении, шансы на которую одновременно и большие, и маленькие».
Мы опять шагаем по коридору. Из одного конца в другой. Мимо детей, мам, медсестер, игрушек, капельниц и инфузоматов. И профессор Желудкова рассказывает мне о том, что по статистике 5 % клинических исследований оказываются успешными от первой до последней фазы испытаний. И я пытаюсь сообразить, много это или мало? И застреваю на этой цифре: пять процентов.
Желудкова говорит сама: «Это шанс, Катя. Определенный шанс на то, что терапия, которая считалась неизвестной или экспериментальной, в будущем будет широко применяться. И я уже сейчас благодарна Сереже и его маме за их решимость и за их помощь во всем. Благодарна. И еще я вместе с ними, конечно, верю в этот шанс. Верю, да».
Я в конце концов собираюсь с силами и спрашиваю ее о том, как она умеет разделять в своей голове этого конкретного черноглазого тринадцатилетнего Сережу и Сережу-пациента, который в будущем, возможно, поможет как-то там по-другому лечить детей. Желудкова сжимает губы. Да ничего, конечно, она не разделяет. Ей тяжело не меньше моего. А, может, даже и больше: ведь я пришла, ушла, написала книгу, а потом взялась за другую. А она завтра опять придет в это отделение и будет принимать пациентов. И смотреть в их глаза, и делать хотя бы что-то, чтобы у них появилась надежда.
«Когда ты, врач, участвуешь в том, что человек переживает рак, а тем более безнадежный рак, тот, от которого до сих пор не было спасения, ты как бы вместе с ним всё это переживаешь, проживаешь, несмотря на то, что вроде бы это он болеет, а ты лечишь, – медленно и очень спокойно говорит Ольга Григорьевна. – И если есть хоть какой-то малюсенький, постороннему взгляду незаметный, положительный эффект – это невероятный психологический подъем, это взрыв эмоций. В первую очередь для пациента, конечно. Но и для врача. Для врача еще и доказательство того, что это заболевание лечится. Если бы вы знали, как это поддерживает меня как доктора. А еще, как это поддерживает других пациентов, которые, как вы говорите, ждут очереди. Когда ты им показываешь пациентов, которые излечены с помощью метода, который еще год, полгода назад считался экспериментальным, вы бы видели, что с ними происходит. А надежда в нашей болезни и ходе ее лечения – великое дело! Вы можете себе представить, Катя, пациенты просят телефоны тех, других пациентов, которые уже излечились. Они им звонят и проверяют: правда, что у вас был такой-то рак? Правда, что вы вот тем-то лечились у Желудковой и у вас теперь всё хорошо? Отвлекаясь от клинических исследований, хочу сказать, насколько это важно, когда те, кто болеет сейчас, знают об историях тех, кто болел до них: о тех, кто выздоровел, кто победил, отрастил волосы, завел семью, родил детей. Это такая же важная часть лечения, как и терапия. Это такое счастье, когда они становятся полноценными, но и могут другим сказать, для нас это очень важно. Я бы добавила вот эти звонки и эту обратную связь к третьей фазе доклинических испытаний. Но вы можете подумать, что я слишком эмоциональна».
Конечно, я так не буду думать. Потому что верю, что именно эти врачи вместе со страстными, влюбленными в свое дело учеными с каждой минутой, днем, с каждым придуманным и воплощенным в жизнь лекарством приближают нас к решению вопроса о том, как и какими средствами будет одержана победа над раком. Я верю в то, что такой день однажды обязательно наступит. И мне кажется, что они тоже в это верят. Иначе зачем всё?
«Иначе зачем всё?» – как будто эхом произносит прямо мне в ухо профессор Андрей Гудков. Я спрашиваю: как так вышло, что весь этаж, который занимает его отдел биологии клеточного стресса, – это таблички с высокими докторскими степенями с русскими именами и фамилиями. Это резервация для русских эмигрантов или совпадение? Разумеется, профессор не верит в совпадения. Говорит, что специальной установки работать с русскими у него не было, но так само сложилось, что единомышленников легче и быстрее чувствовать и находить среди людей общей культуры.
«Никакой заведомой избирательности: в лаборатории есть ученые из Индии, Китая, Турции, Ямайки, ну и, конечно, Америки, – говорит Гудков. – К тому же профессиональное взаимопонимание – великая ценность, которой долго добиваться и жалко терять. И работа становится всё интереснее с каждым годом – непросто найти такую. Вот мы и не разбегаемся, а вместе строим. С некоторыми, например, я работаю с конца 1970-х… Конечно, это необычно по американским стандартам, где люди в одной лаборатории больше пяти лет не задерживаются. Но, с другой стороны, только в Америке такое и возможно: анклав русской культуры в старейшем американском раковом институте. И никто не удивляется, никто не стыдится, никто не прячет свою этническую идентичность, скорее гордится. И все же главное, что держит нас вместе, – ощущение, уверенность, что мы делаем нечто настоящее, на что стоит потратить жизнь».
«Не жалеете, что уехали?» – спрашиваю.
«Нет, иначе у нас не было бы возможности работать так, как мы работаем здесь, создавать то, ради чего мы стали учеными».
«Не скучаете по России?» – пытаюсь выбить его из колеи. Гудков улыбается: за ним сюда, в Баффало, с предыдущего места работы (Кливлендская клиника, Огайо) переехали около 50 семей ученых, две трети из них из России. И потому он уверенно отвечает: «Думаю, что в России я был бы окружен примерно теми же людьми, так что можно сказать, что и не уезжал. Все эти люди – профессора, у каждого своя лаборатория, они уже состоялись, имеют профессиональное имя, статьи, гранты. И хотя часть из них – мои ученики, все были приняты на работу на конкурсной основе. Маркс говорил, а мы все, конечно, напичканы марксизмом-ленинизмом, что у пролетариев нет отечества. У ученых тоже нет отечества в том смысле, что наука абсолютно интернациональна, более того, в отличие от литературы, кино, любой культуры, наука – вненациональна. Люди приезжают работать туда, где они в единицу времени успевают сделать больше в своей профессии, чем будут делать в другом месте, а сделав это, будут уверены в том, что именно отсюда это будет лучше увидено, услышано и сыграет большую роль в той области, которую человек пытается развивать.
Потому что в нормальных обществах во главу угла ставится не феодальный патриотизм (ты родился за колючей проволокой и теперь, когда проволоки нет, в силу каких-то моральных обязательств ты должен продолжать здесь работать), а творческая свобода. Особенно если ты делаешь то, что вненационально. Я убежден, что попытка привязать науку к культуре бессмысленна и в конечном итоге вредна. Давайте осудим Ломоносова, что он ушел в Москву из Холмогор, там бы, на родине, и творил. Есть социальная ответственность и у ученых. И дело не только в том, какому режиму ты служишь и не станет ли твое знание средством порабощения, – это экстремальные варианты. Но ведь наука тесно примыкает к образованию, которое остается национальным, в науке есть преемственность. И в этом единственном есть огромное давление на меня моей совести: я получил прекрасное образование, у меня были необыкновенные учителя, а я уехал, не отдал долг и не выучил студентов на родине, нарушил преемственность. То, что я всё равно учу молодых ученых из самых разных стран, в том числе и из России, до конца не утешает. И все же для ученого приоритетом является научный результат, количество и качество этого результата, скорость его получения в единицу времени. Это и есть главный критерий в выборе того места, где он должен работать, должен жить».
Ни у кого из уехавших из России ученых я не заметила ностальгии: «Обычно говорят про рябины и березки – вот они, Катя, посмотрите по сторонам». Вдоль берега действительно шуршат слабыми желтеющими осенними листочками и березки, и рябины, и вообще, если бы не гигантский водопад и возвышающееся над ним гигантское же казино, – пейзаж очень и очень среднероссийский. «А Чехов, Достоевский, Пушкин, Есенин, Мандельштам и Цветаева – они в каждом доме, да и здесь тоже (профессор стучит по виску), от этого уже никуда не денешься».
Мне так и не удалось спровоцировать его на сравнение «здесь» и «там». Профессор Гудков из благородной породы знакомых по книгам русских исследователей «золотого века» науки: открытых миру и любящих Родину. Главная движущая сила его и его соратников – желание работать и создавать лекарства, двигаться вперед. Если по какой-то причине в США для этого больше возможностей, значит, надо работать в США. И хорошо делать свое дело. «Иначе зачем всё?» – повторяет Андрей Гудков.
Грохочет Ниагарский водопад, я пытаюсь перекричать грохот: «Мне о вас говорил Чубайс!» Профессор не слышит. Кивает из вежливости. Мы бредем к кафе, где еще успеем поговорить о третьей фазе клинических испытаний, которую проходит перед выходом на рынок любое противораковое лекарство. И которую именно сейчас проходят сразу несколько препаратов, созданных в лаборатории профессора Андрея Гудкова, русского американца, не чувствующего себя беглецом. Русского ученого, не потерявшего свою национальную идентичность, но ставшего ученым с мировым именем. И с открытыми миру возможностями.
«После второй фазы, – сообщает Гудков, – происходит наибольшее количество продаж, то есть лекарство из биотехнологической компании, от первичных разработчиков переходит к фармацевтическим гигантам. Они внимательно, как парящие орлы, смотрят на клинические испытания во всем мире и, когда видят, что в этом месте проклюнулась эффективная вторая фаза, пикируют и хватают, и тащат в гнездо, расплачиваясь с родителями этого лекарства, оставляя бизнесменов-организаторов счастливыми и довольными. Потому что только у них есть средства для масштабной третьей фазы, только они потом смогут обеспечить полномасштабное производство и маркетинг. Третья фаза – это фаза, после которой FDA может принять решение дать этому лекарству разрешение на клиническое использование, а значит, и на продажу. Потому третья фаза с точки зрения пациентов – самая главная».
«Тут надо понимать, что FDA со всем его огромным и довольно неповоротливым механизмом сильно пытается не отстать от темпа, в котором сегодня развивается наука», – говорит мне онколог Михаил Ласков. Мы с ним идем, точнее, я бегу рысцой за быстро шагающим от метро «Молодежная» доктором. Через три с половиной минуты в клинике амбулаторной онкологии и гематологии, основанной Ласковым, начнется Tumor board. Ласков и его двое молодых коллег пишут фломастером на стене перечень всех важных научных и медицинских публикаций, касающихся клинических испытаний онкологических препаратов, которые случились за прошедшую неделю. Какие исследования по каким препаратам стартовали? Какие объявили о промежуточных результатах? Какие были закрыты как неуспешные? О каких в профессиональной среде говорят как о перспективных? О том, как быстро результат научных исследований может коснуться пациентов, Ласков говорит: «Формально от такого монстра, как FDA, зависит не только возможность продажи лекарства на рынке, но и то, как скоро оно там появится. Но FDA принимает решения медленно, а мир ускоряется. Все (в том числе и в FDA) довольно давно это поняли и стали думать, что делать, потому что делать что-то действительно надо. В связи с этим появились новые статусы исследований, которыми оперирует FDA. Например, статус Breakthrough therapy designation (прорывная терапия) означает, что лекарство, которое поступило на рассмотрение, многообещающе настолько, что ждать 10 лет, пока его испытают на 10 000 пациентов в разных странах, мы не можем. Поэтому мы прямо сейчас его временно допустим к применению.
Делается это не только из человеколюбивых соображений, но еще и для того, чтобы заинтересовать фармкомпании, которые вкладываются в создание препаратов. FDA им как бы говорит: «Хорошо, ребята, мы вам даем вот такой срок, в течение которого вы должны получить данные больших исследований, но уже сейчас можете продавать препарат и, следовательно, получать прибыль. Только имейте в виду: если, к примеру, за пять ближайших лет вы нам не дадите большого рандомизированного исследования, мы вас закроем с этим препаратом раз и навсегда».
Это один способ упрощения процедуры. Другой – новые типы клинических исследований: если раньше нужно было собрать свою команду, разработать протокол, набрать по двадцати центрам пять тысяч человек, вести исследования не менее пяти лет, то сейчас появляются новые одобренные типы исследований, которые позволяют резко укоротить процесс. Например, с помощью медицинского регистра. В этом случае к рассмотрению принимаются попавшие в регистр результаты применения определенных препаратов или медицинских изделий офф-лейбл (то есть без регистрации и одобрения FDA). Выводы, сделанные с помощью регистра, если данные собраны надежно и проверены, также могут стать поводом для принятия решений FDA. Это тоже новшество. Раньше такие типы исследований просто не принимались к рассмотрению».
Едва успев это произнести, доктор Ласков в прыжке преодолевает шесть ступеней, ведущих в созданную им клинику. На бегу здоровается с девушками в регистратуре, уточняет время прихода ближайших пациентов и заходит в кабинет. Прием начнется только через час. А пока это площадка для еженедельного мозгового штурма, который Ласков сделал правилом в своей клинике. Сегодня докладывает доктор Аболмасов, оппонируют доктор Ласков и доктор Блощиненко. На экране компьютера таблица, в которую сведены результаты всех громких исследований, опубликованных на этой неделе. Иммунотерапия, химиотерапия, разные сочетания, разные комбинации, экспериментальные протоколы. Аболмасов пишет буквы и цифры, рисует безжизненные проценты, Ласков и Блощиненко задают вопросы, спорят, потом каждый что-то записывает себе в ноутбук. На моих глазах далекая и безжизненная «высокая» наука становится частью повседневной практики, потому что за всем этим чьи-то истории болезни, борьбы, надежды и, возможно, спасения. Через слово всплывают реальные клинические случаи пациентов, проходящих лечение здесь и сейчас, в клинике амбулаторной онкологии и гематологии. Про кого-то врачи говорят: «а мы как раз думали применить такой протокол, хорошо, что теперь знаем, что результаты – не очень», про кого-то: «смотрите, какое отличное исследование, может быть, попробуем?» Через час пластиковую панель на стене кабинета, сверху донизу исписанную черным маркером, вытрут, стулья уберут. И площадка мозгового штурма снова станет приемным кабинетом – за дверью уже очередь из людей, которые надеются, что лекарства, только что изобретенные лучшими умами планеты, не просто будут им доступны, но и спасут.
Я рассматриваю лица. Пожилая пара, мужчина с шейным платком и в игривом кепи старается держаться, женщина гладит его руку, провожает до двери кабинета, но мужчина жестом просит ее остаться. Мама с подростком, мальчик – лысый, в маске, мама смотрит в одну точку и не переставая треплет краешек цветного платка. Красивая женщина с прямой спиной, губы накрашены, а в глазах – страх новой жизни, которая, видимо, только что на нее обрушилась… Я понимаю, что жизнь каждого из этих людей бесценна, но каждому придется еще принять решение о том, где и как лечиться и чем за это платить. И вопрос об этике ценообразования на спасительные лекарства – один из тех, на которые у меня нет ответа.
«Если говорить об ученых, то мы редко становимся богатыми от выхода на рынок новых лекарств, – напишет мне уже в письме, в ответ на вопрос, профессор Андрей Гудков. – Слишком большой разрыв между созданием концепции и первичного препарата и тем лекарством, которое выйдет на рынок. Чтобы его преодолеть, привлекаются огромные средства, доля ученых-родоначальников разбавляется до ничтожной – ведь это не их средства. Да и не движет учеными стремление к богатству: для этого есть другие профессии. Есть и еще одно, и очень важное, соображение. Я буду стремиться как можно дольше не «сдавать» фармацевтическим компаниям наши изобретения. Но не потому, что я такой хитрый и хочу, чтобы оно выросло в цене. А потому что каждое лекарство, как ребенок. Представьте, что вы торгуете детьми: вы плодите хороших, здоровых детей, потому что у вас хорошая генетика. Но если вы сдадите их в плохую школу или в плохие руки, то всё пойдет насмарку.
Пока лекарство в твоих руках – ты его создал, ты в него веришь, ты его чувствуешь, ты знаешь про него все нюансы, у тебя с ним персональная связь и есть глубочайшее его понимание. Если ты сдашь его «дяде» слишком рано, то оно умрет. Потому что люди, которые им будут заниматься, о нем массу вещей не знают. У них есть выбор из десятка других, как им кажется, похожих, лекарств. Если не получился с ним какой-то один опыт, они немедленно решат: «А я буду заниматься чем-нибудь другим». И в этом огромная проблема академической науки. Потому что в академии, типа нашего института, рождается очень много новых идей и наметок. И возникает то, что потенциально могло бы превратиться в лекарство. Но финансирование науки, даже очень щедрое в западных странах, заканчивается моментом, когда ты определил механизм действия, показал, что оно работает в принципе, – и всё. Дальше – это не твоя профессия, пусть этим занимаются другие. Ты кладешь патент, и институт начинает твой патент пристраивать кому-нибудь.
И вот этот момент очень плохой. Именно поэтому я стал заниматься судьбой своих лекарств. Не один, конечно. А с партнерами, которые хоть и бизнесмены, но разделяют мой взгляд на мир. И делаю это вовсе не потому, что мне нравится ездить, торговаться, конечно, нет. Мне нравится открывать что-то новое, мое призвание – наука. Но вот эта ответственность перед «ребенком», когда ты хочешь хотя бы до конца института его довести, чтобы потом он уже сам встал на ноги. И лекарство дойдет до пациентов. И будет им доступно. Ваш друг А. Гудков».
Глава 29
Профессор Александр Карачунский сидит перед компьютером с включенным скайпом. У него в руках две телефонные трубки. И еще один стационарный телефон с громкой связью на столе. В трубках у профессора сразу и Курск, и Берлин, и Москва. Консультируют трехлетнюю пациентку Н. из онкологического отделения Курской областной больницы. Профессор спрашивает у курских врачей про цифры в анализах, дозировки лекарств и динамику состояния больной. Тут же переводит это на немецкий коллегам в телефонных трубках. Слушает мнения. Дает сложные врачебные инструкции в Курск по скайпу. Подумав, просит: «Перечислите мне, пожалуйста, все препараты, которые пациентка принимает. Абсолютно все». Завотделением и лечащий врач пациентки из Курска в окошке скайпа долго сверяются со всеми бумагами в истории болезни девочки. Потом следует длинный список. Карачунский командует: «Стоп. Минуточку. Остановитесь». И по-немецки в трубку спрашивает о чем-то коллегу из Берлина. Возвращается к скайпу: «Я всё понял. Тут есть один нюанс. Сейчас попробуем составить вам план жизни. И, я думаю, через день-два будет виден результат».
Это медицина XXI века. В курской больнице уже есть все те новые препараты, о которых врачи-онкологи могут только мечтать, но профессор Карачунский – один из немногих в стране, кто знает, как именно их следует применять. Таких врачей, как Александр Исаакович, на все клиники 140-миллионной страны пока, увы, катастрофически не хватает. Но это не повод не вести клинические исследования и не внедрять новые препараты и передовые технологии в отличных от Москвы и Питера городах. Или лечить, например, курских пациентов менее эффективно. Такое отношение противоречило бы элементарным нормам, принятым во всем мире. Потому что во всем мире всех онкологических пациентов лечат по единым международно принятым протоколам. Создание таких протоколов – последний этап выхода того или иного нового лекарства на массовый международный рынок. Этот этап называется «мультицентровое исследование».
«Протоколы лечения в медицине XXI века создаются не на основе опыта одного врача или даже одной клиники, это невозможно. Они создаются только путем объединения клиник в единую структуру, – объясняет профессор Карачунский. – И очень важно, что уровень клиник в таком объединении (мультицентре) со временем становится сопоставимым. Приведу пример. В начале 1990-х годов в России выживаемость с острой лимфобластной лейкемией (ОЛЛ) – это самая злокачественная опухоль у детей – была очень низкой, не больше 10 процентов. Мы, врачи, конечно, хотели резко улучшить эту ситуацию. И совершенно, казалось бы, логичным образом стали копировать в России западные протоколы лечения ОЛЛ, те самые, которые показали блестящие результаты: 70 процентов выживаемости. Но у нас ничего не получалось. То есть получалось, но гораздо хуже. В первые годы применения западных протоколов у наших пациентов была очень высокая токсичность и вследствие нее – очень высокая летальность. Это было связано с тем, что западные протоколы были созданы под инфраструктуру западных клиник, под их системы жизнеобеспечения. Кроме того, в наших клиниках не было опыта проведения сложной высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга. Тогда в совершенном отчаянии я приехал в Берлин к моему коллеге, а теперь другу, доктору Гюнтеру Хенце, руководителю отделения детской гематологии и онкологии в клинике Шарите. И Гюнтер сказал: «Саша, а ты знаешь, мы можем здесь поступить совершенно по-другому. Мы с вами можем создать мультицентр и вместе внедрять в России новые технологии»«.
Тогда, в 1990 году, и доктор Карачунский, и его коллеги в Москве, честно говоря, опешили: совместный медицинский проект с европейцами. С точки зрения научного и профессионального роста идея блестящая. Но технологическая база, но устаревшее оборудование, но плесень в коридорах отечественных клиник – как быть с этим? Как быть с тем, что добрая половина иностранной литературы в те годы не была переведена на русский, а добрая половина докторов, выращенных в условиях железного занавеса, не знали ни одного иностранного языка? В общем, начали с простого: на деньги немецких благотворителей при горячем участии доктора Карачунского, его товарища Гюнтера Хенце и неравнодушного немецкого коллеги Эберхарда Рудзвайта во всех клиниках, готовых к участию в мультицентровом исследовании, поставили компьютеры и со временем завели адреса электронной почты. В начале 1990-х это было сродни подвигу. И в значительной степени спасло от провала тяжелое начало исследований.
Помимо этого, потихоньку становилось понятным: успешное лечение – это не только золотые руки и головы специалистов. «Онкология – это горшки, – говорит профессор Карачунский, выключив скайп с Курском. – Да, горшки. И горшки, и швабры, и тряпки для этих швабр, и стены, и то, чем они окрашены. Успешное лечение онкологического заболевания – это и само лечение, и выхаживание пациента, лечение перенесшего. На понимание этой, казалось бы, очевидной системы взаимосвязей ушли годы. Теперь мы их важно называем годами становления мультицентра. Но вообще это было такое время, когда мы должны были всему научиться. В том числе совсем элементарным вещам». Тот первый международный опыт позволил детским онкологам 1990-х прийти к довольно важному для тех лет умозаключению: лечение – это и врачи, и препараты, и исследования, и обстановка, в которой всё это происходит. В первое время о важности так называемой «сопроводительной» (проводящейся в дополнение и в помощь к основной) терапии Карачунскому приходилось так часто беседовать и с медицинскими начальниками, и с коллегами, что в итоге профессор составил небольшую памятку о том, что должна обеспечить клиника, чтобы лечение было максимально эффективным.
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯСостояние отделения:
– «правильный» ремонт (моющиеся стены, пол «корытом», вентиляция…);
– загруженность, наличие отделения амбулаторной помощи внутри стационара;
– питание детей;
– прачечная, частота смены белья, жидкое мыло, одноразовые полотенца;
– гигиенические навыки родителей.
Оснащенность отделения:
– инфузионные насосы/перфузоры и расходные материалы к ним;
– мониторы (пульс, сатурация, давление).
Оснащенность клиники:
– диагностика осложнений (доступность УЗИ, рентгена, КТ/МРТ, микробиологическая лаборатория);
– доступность наркоза;
– пункт переливания крови.
Катетеры:
– «советский»/иностранный, способ и частота переклейки, навыки персонала в уходе за катетером.
Техника внутривенных уколов:
– периферические катетеры или бабочки, забор крови иглой от шприца и т. д.;
Расходные материалы.
«И ведь заработало, Катя! – радуется как ребенок Карачунский. – Врачи стали общаться между собой и, быть может, впервые в истории своих профессиональных карьер – с иностранными коллегами. Стали обмениваться данными, перестали стесняться спрашивать совета! Врачи поняли, что одному врачу – без команды из ординаторов, медицинских сестер, нянечек – не справиться. Это тоже очень важная часть, которая в Европе и Америке подразумевается как бы сама собой, а у нас такого просто никогда не было. Мы работали в тех же больницах, в которых родились и лечились сами. Эти больницы на нашей памяти всегда были такими. И надо было перейти на какую-то новую ступень развития, чтобы понять, что их тоже надо менять.
Когда мы проанализировали опыт, накопленный разными мультицентровыми группами в разных странах, мы поняли, что есть возможность создать свой протокол, адаптированный к условиям России. Так появился протокол «Москва – Берлин». Сначала мы его сравнивали со стандартным немецким протоколом «БФМ» в своем отделении Российской детской клинической больницы в Москве. А с 1995 года к нам присоединились клиники Екатеринбурга, Морозовская больница в Москве, отделение в Сочи, которое сейчас переехало в Краснодар, отделение из Нижнего Новгорода, Ульяновск, Новокузнецк, и с 2000 года – Курск, разговор с которым вы сейчас слушали».
Сообщество клиник назвали мультицентром «Москва – Берлин». Первые же результаты его деятельности позволили добиться того, что протокол, адаптированный для России, стал работать. Затем было организовано мультицентровое исследование «Москва – Берлин, 2002», вслед за ним «Москва – Берлин, 2008», «Москва – Берлин, 2014» и готовящееся к публикации «Москва – Берлин, 2020», включающее в себя на сегодняшний день несколько тысяч пациентов из клиник разных городов двух стран.
Благодаря тому, что у врачей была возможность работать с большим количеством пациентов и сравнивать результат, были пересмотрены распределения на группы риска, изменены дизайны химиотерапии, дизайны программ лечения. «Как врач, как ученый, я могу с гордостью заявить: мы отныне полностью соответствуем европейским стандартам, – говорит Карачунский. И видно, что он действительно этим гордится. – Есть, разумеется, необходимость подождать еще несколько лет, чтобы максимально корректно оценить ситуацию с поздними рецидивами, например. Но я могу сказать, что за последнее время, в том числе благодаря тому, что была построена клиника имени Дмитрия Рогачева, нам удалось преодолеть прежде непреодолимую препону: вплоть до 2012 года главной проблемой, от которой погибали наши пациенты, была токсичность – до 4–5 процентов больных. При современном уровне мировой медицины это очень большой процент. До сих пор по стране главной проблемой является потеря больных от инфекционно-токсического шока, потому что клиники не соответствуют требованиям. Но мы четко понимаем, к чему идти. И сейчас уже не такой огромный перепад в результатах лечения. Сейчас сражение идет за каждый процент, о чем всего 20 лет назад и речи быть не могло. Теперь для 50 процентов больных стандартной группы риска в России выживаемость составляет выше 90 процентов, практически так же, как на Западе».
Карачунский одним из первых в России постарался разъяснить коллегам и в Москве, и в регионах одну, казалось бы, несложную вещь: в мире лечение всех онкологических больных уже давным-давно идет по стандартным протоколам, но уровень клиник в маленьких и крупных городах, в столице или на периферии примерно одинаковый. А у нас, увы, не так. Профессор Карачунский одним из первых отправился в многодневные командировки по российским регионам, чтобы подключать к мультицентровой программе, образовывать и учить врачей.
Спрашиваю: «Чему вы хотели бы научить участкового доктора из небольшого российского города?» – «Как минимум тому, что вылечившийся пациент тоже заслуживает внимания. Вы не удивлены? А долгое время только клиники, входившие в «Москва – Берлин», в России отслеживали детей, которые лечились и уехали домой. Да, я понимаю, что врачи работают в самых разных и не всегда идеальных условиях. У этих врачей возникают проблемы самого разного свойства: от чисто бытовых до когнитивных. Мы стараемся с этими врачами быть постоянно на связи. Того, кого надо, подтягивать, доучивать, помогать. Мы постоянно собираемся в Москве, проводим детальный анализ всех ошибок, детальный анализ всех проблем. Это такое глобальное обучение, глобальное повышение уровня, глобальный скачок квалификации. Доктор, который испокон веков лечил пациентов препаратом А только потому, что не знал, что вместо этого или вместе с этим можно применять препарат Б, или не знал, как его применить, как получить право на его клинические испытания, да, в конце концов, просто не знал, что он существует, теперь полноправный участник исследования. И если в чем-то он сомневается, если требуется совет, какие-то дополнительные знания, то 24 часа в сутки все коллеги на связи. Это пять, десять, а то и больше звонков и видеоконференций со всей России. И возникает фантастическая история – все врачи со всей страны работают как одна команда. И в этом большое социальное значение исследования для России. Ведь оказалось, что уровень лечения, уровень сопроводительной терапии повышается не только для больных с острой лимфобластной лейкемией, а вообще для всех больных с другими злокачественными заболеваниями в этих клиниках. На мой взгляд, наше исследование, этот эксперимент (который только для России является экспериментом, а во всем мире проза жизни) является скелетом того, как система организации здравоохранения в нашей стране может выйти на единый мировой уровень».
А мировой уровень – то, к чему стремится медицина во всем мире, – это максимальное сокращение шага между изобретением препарата и реальной пользой от него реальным пациентам. На сегодняшний день этот шаг для России – 10–15 лет между первой фазой клинических испытаний и применением, согласно стандартному протоколу лечения. Но в США, например, согласно данным Национального института рака, за последние 10 лет шаг «из науки в люди» сократился до 6–7 лет. Это произошло во многом благодаря тому, что клиника и наука в буквальном смысле работают бок о бок.
Вот, например, клиника Института онкологии имени Розвелла Парка, Баффало, США. Холл, наполненный нежными арпеджио американца русского происхождения Миши, пересекает молодая женщина Люси M. Она первая в числе тех, кому предложено испытать на себе лекарство, придуманное в лабораториях этого института.
Через дорогу от клиники, в лаборатории, день и ночь сидят то у микроскопов, то перед пробирками, то с калькуляторами, то перед компьютером ученые Андрей Гудков и Катя Гурова, крестные родители «кураксинов», нового класса противораковых лекарств, которые обладают свойствами, позволяющими не только убивать опухолевую клетку, но и уничтожать клетки, находящиеся в предопухолевом состоянии, по крайней мере, определенный их класс.
Катя родом из Архангельска. Андрей из Москвы. Случаю было угодно их познакомить и привести сюда, в Институт онкологии имени Розвелла Парка, по всей видимости, для того, чтобы еще на один шаг приблизить человечество к мечте: возможности полной и окончательной победы над раком. Пока и для простого обывателя, и для пациентки-добровольца Люси М. эта мечта – набор сложных биологических терминов. Но ученые Гурова и Гудков умеют рассказывать о своем «ребенке» – кураксинах – так, что скучные и непонятные аббревиатуры оживают, превращаясь в инструментарий захватывающей борьбы против рака. «Еще до эмиграции, когда я работала в российском онкоцентре, меня поразило, что в нашем организме есть ген, который следит за тем, чтобы у нас не возникал рак (речь о гене р53. – К. Г.), – говорит Гурова. – И отчасти мое стремление попасть в лабораторию Гудкова объяснялось желанием работать именно в этом направлении. К этому моменту стало уже известно, что ген р53 мутирован в половине опухолей, но в другой половине он по-прежнему не мутирован и, казалось бы, должен работать вполне нормально. Вопрос, который стоял за всем этим: как же возникают опухоли, в которых p53 сохранился нетронутым? В самом ли деле могут быть опухоли, развивающиеся невзирая на р53, или он там все же сломан каким-то хитрым образом, но не вследствие мутации? Мы начали с этого вопроса, посмотрели разные виды опухолей и поняли, что он-таки там сломан, но по-другому, иначе. То есть р53 в принципе и готов к работе, но ему что-то мешает, он как будто спит. Возникла идея: не попытаться ли нам попробовать разбудить его. И для этого отвлечь того, кто ему мешает».
Как и многие первоклассные ученые, чья научная карьера развивалась на Западе (что подразумевает умение презентовать свои научные воззрения самой широкой аудитории), профессор Катя Гурова умеет переводить сложные узкопрофессиональные понятия на язык понятных простому человеку метафор. Рассказывая о том, каким образом ей удалось нащупать свое удивительное открытие, нетронутый ген р53 в опухоли Катя уподобляет в принципе хорошему, но безответственному полицейскому, который уснул и не уследил за преступлениями на своем участке – за мутациями. Следующий шаг этой метафоры: а не найти ли способ этого полицейского-соню разбудить? Чтобы, проснувшись, он поразился, насколько всё вокруг запущено, и начал действовать. Проблема, по словам Кати, заключалась в основном в том, что ученые понятия не имели, а почему он, собственно, спит. Поэтому-то и подход к поиску «разбудителя» должен был не зависеть от этого знания. Задача была решена технологией перебора вполне случайных органических молекул небольшого размера, которые были организованы в «библиотеку», содержавшую сотни тысяч таких молекул, покрывавших широкое разнообразие структур.
«Мы начали с того, что наливали на клетки все те классы химикатов, от которых можно было ожидать, что они активируют р53. Увы, ни один из кандидатов не сработал. Тогда мы сделали некую систему (сконструировали специальные клетки), которая позволяла нам следить, проснулся p53 или не проснулся. Когда он просыпался, у клеток менялся цвет, мы понимали, что этот химикат будит p53.
Мы в итоге нашли молекулы, которые это делают, но имели крайне малое представление о том, как именно они это делают: мы же не видим, что происходит внутри клетки. И потом несколько лет разбирались с механизмом действия этих еще не лекарств, а экспериментальных молекул, прежде чем выяснили, что они будят p53 не напрямую, а через другой очень важный фактор опухоли, NF-kappaB, который полная противоположность p53 и до тех пор не был замечен в «дружбе» с р53», – рассказывает Гурова.
Транскрипционный фактор NF-кappaB (ядерный фактор «каппа-би», от английского nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NF-kB) – фактор транскрипции, контролирующий экспрессию генов иммунного ответа, блокаторов апоптоза и стимуляторов клеточного роста. Нарушение регуляции NF-kappaB вызывает воспаление, аутоиммунные заболевания, провоцирует развитие рака. Если в нормальных клетках NF-kарраВ включается только при проявлении инфекционного агента, то в подавляющем большинстве опухолевых клеток он работает всегда.
Если попытаться объяснить разницу простыми словами, то выйдет примерно следующее: р53, если видит что-то плохое, убивает клетки, руководствуясь тем, что если есть какие-то проблемы, то лучше избавиться от одной клетки «со странностями», но спасти организм. Это типично для стража многоклеточного организма, заточенного на выживание. NF-kappaB – это фактор, ответственный за воспаление. Как правило, он активизируется на участках воспаления, провоцируя битву между нашими клетками и микробами. Как и в любой войне, в этой битве есть масса факторов, из-за которых могут погибнуть случайные жертвы, оказавшиеся в заварушке. NF-kappaB призван защищать наши собственные клетки в участках этого сражения, то есть он позволяет включать кучу механизмов, которые делают клетку устойчивой к смерти, апоптозу, к разным другим факторам, имеющимся в участке воспаления. Поэтому раковые клетки так любят держать NF-карраВ активным.
«Оказалось, что опухоли в этом смысле очень хитрые: они используют NF-kappaB, чтобы себя защищать от организма, от лечения, от всего, что против них. Они «вербуют» NF-kappaB на свою сторону, представляете! И в результате этого возникает новая, гораздо более живучая популяция клеток с NF-kappaB. К тому же у NF-kappaB, как выяснилось, есть способность ингибировать p53: мол, в военное время не до самоубийств. Если в мирное время p53 убивает преступников (поврежденные клетки), то активированный внешним врагом NF-kappaB лишает p53 этих полномочий, потому что во время войны с внешним врагом нет смысла отстреливать собственных граждан, даже тех, которые и не очень добропорядочные».
Я сижу на подоконнике лабораторной комнаты Кати Гуровой в исследовательском корпусе Института онкологии имени Розвелла Парка. В спину мне бьет предзакатное солнце, освещающее заодно и увлеченно говорящую Катю. Мне кажется, она рассказывает не о чем-то, что, по ее представлениям, происходит внутри нашего организма, но о какой-то фантастической истории битв и предательств, произошедших в выдуманной стране. В какой-то момент все же успеваю опомниться и спрашиваю ее: «Простите, но каким образом всё это относится к новому лекарству?»
«Не думайте, что все это какие-то отвлеченные биологические наблюдения! У этих наблюдений оказалось огромное практическое значение. Выяснилось, что мы можем с помощью одной небольшой органической молекулы одновременно ингибировать NF-kappaB и активизировать p53. То есть бить одной молекулой по двум раковым мишеням: блокировать источник «жизненной силы» (NF-kappaB) и разбудить систему самоубийственного самоконтроля (р53). И это дало дополнительный импульс к тому, чтобы работать с этим классом молекул. Собственно, с тех самых пор мы с ним и возимся. Мы сначала выяснили, что известный препарат, использовавшийся в прошлом для лечения малярии, «Квинакрин» (в России больше известный под названием «Акрихин». – К. Г.), обладает нужными нам свойствами. Мы пытались сделать свое первое новое противоопухолевое лекарство из «Акрихина» и до сих пор не оставили эту идею. У него оказалось странное свойство: при распределении в организме он в основном накапливается в печени без вреда для нее. Вот мы сейчас и пытаемся им лечить опухоли, растущие в печени. Именно с таким прицелом ведут клинические испытания наши коллеги в Москве и Ярославле. А мы пошли дальше и стали искать соединения поактивнее и поуниверсальнее».
И нашли. Найденные соединения были пространственно похожи на «Акрихин», хотя и относились к другому химическому классу – карбазолов. С помощью команды химиков Гурова и Гудков смогли пройти длинный путь улучшения свойств карбазолов и прийти к пониманию, какие их структурные элементы важны для противораковой активности. В результате они получили молекулы, которые не только проявляли нужную молекулярную активность, но и отвечали другим важным требованиям к лекарству: были хорошо растворимыми и стабильными. Молекулы этой группы назвали кураксинами, от английского cure – излечивать. Ученые проверили их активность на самых разнообразных моделях опухолей, подобрали оптимальные режимы введения, оценили токсичность на животных. И двинулись с ними в клинику, надеясь, что совершают революционный переворот в том, каким образом принято бороться с опухолями, ведь они впервые применяют соединения, бьющие сразу по двум мишеням. И это еще не всё: применение кураксинов оказалось не ограничено борьбой с уже возникшими раками.
«С помощью кураксинов – веществ, которые могут одновременно будить в опухолевой клетке спящий p53 и усыплять «разболтавшийся» NF-kappaB, – говорит Гурова, и у меня уже есть полное ощущение того, что мы переместились в область научной фантастики, – мы можем не только лечить, но и предотвращать раки, можем устраивать серьезную «чистку» нашего организма от потенциально опасных клеток, которые уже приобрели зависимость от молчания р53 и нелегальной активации NF-kappaB, но еще не превратились в опухолеродные: ждут еще пары мутаций. Вряд ли эта профилактика будет применима ко всей популяции, но о ней стоит серьезно подумать тем, у кого в силу врожденных генетических дефектов повышен риск, например, рака груди: для них такая «чистка» может стать спасением. Кстати, и показали мы профилактические свойства кураксина на мышах, генетически предрасположенных к раку груди, просто добавляя его в питьевую воду!»
В мире средняя стоимость перевода любого нового онкологического препарата из лаборатории к людям оценивается, по словам Гудкова, в сто миллионов долларов после первой фазы клиники и свыше миллиарда долларов – после второй. Очевидно, что привлечение средств зависит не только от перспектив кандидата стать лекарством, но и от финансовых возможностей тех, кто в эти перспективы поверит.
Первым российским соинвестором разработок американской лаборатории Андрея Гудкова была госкомпания РОСНАНО во главе с Анатолием Чубайсом. Объясняя партнерство, Чубайс говорил о том, что «готов вкладывать деньги в перспективные мировые стартапы, учитывая все риски будущих клинических испытаний. Наша задача – найти тех, кто понимает, помочь, развить, довести до готового бизнеса работающее производство или завод, выпускающий продукцию, увидеть своими глазами новый лекарственный препарат, доказавший свою эффективность. А после этого, возможно, уйти. Мы морально готовы даже к тому, чтобы продать свою долю. Речь идет о будущих лекарствах для лечения рака, то есть о вложении в будущее».
Результатом партнерства Гудкова и Чубайса стали проведенные в 2017 году в России клинические испытания кураксинов для пациентов, страдающих раком предстательной железы.
Однако затем РОСНАНО из проекта Гудкова вышел. И теперь исследования Андрея Гудкова – и те, что касаются кураксинов, и некоторые другие – финансирует миллиардер Роман Абрамович. Последние новости из лаборатории Гудкова оптимистичны: удалось достичь эффективности кураксинов в комбинации с другими препаратами при некоторых, прежде считавшихся неизлечимыми, опухолях. Например, детской нейробластомы.
По словам доктора медицинских наук, адъюнкт-профессора Института онкологии имени Розвелла Парка Игоря Комана, под патронажем Абрамовича на сегодняшний день построены и успешно работают сразу несколько инновационных медицинских проектов. Самые важные из них – научно-исследовательская лаборатория в Институте онкологии имени Розвелла Парка и Институт персонализированной медицины в Израиле – практическая реализация инициативы международной научно-исследовательской группы, изучающей новые гипотезы, касающиеся механизма развития рака. «Современная персонализированная медицина ориентирована на определение известных мутаций, ассоциированных с типом опухоли. В случае выявления таких мутаций врачи применяют так называемую таргетную терапию», – говорит Игорь Коман.
Он сразу и теоретик и практик, успешный ученый, успевший поработать в ведущих научных центрах Израиля, США, России. Именно он консультирует Абрамовича по медицинским и медико-биологическим инвестициям. «К сожалению, даже после того как идентифицирована мутация, с высокой вероятностью спровоцировавшая рак, и определена таргетная терапия, невозможно гарантировать, что удастся полностью и навсегда остановить рост новообразования. Зачастую опухоль рецидивирует (возвращается), то есть опять появляется, растет и развивается, но теперь становится хитрее и обходит расставленные ранее ловушки, – говорит Коман. – Причина этого в нестабильности генома, его способности развивать новые непредсказуемые мутации, которые невозможно просчитать. Наша задача – создать для них новые непроходимые ловушки. До сегодняшнего дня это не представлялось возможным. Но именно этим занимается лаборатория профессора Гудкова, деятельность которой с большим интересом и надеждой финансирует Роман Абрамович».
Мы не знаем, что именно испытывает на себе входящая сейчас в стеклянные двери Института онкологии имени Розвелла Парка Люси М. Залитый светом коридор отделения экспериментальной химиотерапии, вежливая доктор: «Здравствуйте, подпишите, пожалуйста, информированное согласие о том, что вы готовы принять участие в испытаниях нового препарата». Люси подписывает и, немного смущаясь камеры, проходит в палату, где ее переодевают и готовят к капельнице.
Люси М. 22 года. И она первый пациент на свете, которому сейчас будут вводить новый препарат, придуманный учеными Розвелла Парка. Пока Люси ждет, я спрашиваю, что именно она знает о препарате. Оказывается, почти всё, кроме имен его создателей и того, что они здесь, рядом, через дорогу. В реальной жизни пациенты и ученые, скорее всего, никогда не увидятся и не смогут сказать друг другу ни слова, не говоря уже о каких-то самых важных вещах. Но если повезет, если всё совпадет, если расчеты окажутся верными, то рак пойдет на попятный. И Люси получит шанс побороться. И даже победить. Как Сюзан Кэро, чей спасительный препарат проходил испытания в этой же клинике, в этом же отделении, на этом же этаже. А потом всем тем, что они испытали на себе, начнут лечить нас.
Через дорогу у окна стоит профессор Катя Гурова. Она, конечно, не знает, что именно сейчас и именно Люси М. будет помогать ей искать ответ на вопрос, над которым она работала последние полтора десятка лет. О том, как Катя представляет себе свою работу и о чем думает в лаборатории, она написала мне письмо, вдогонку, уже после нашего знакомства и моего отъезда из Баффало.
Когда я сижу в лаборатории, я, конечно, про это не думаю, потому что для меня наша работа довольно увлекательная, в нее погружаешься и мыслишь совершенно другими, не личными, категориями. Но когда я смотрю телевизор, встречаюсь с людьми и слышу, как кто-то заболел, кто-то мучается, кто-то надеется, а кто-то умер от рака, я тут же вспоминаю, чем я тут занимаюсь, и мне иногда бывает жутко обидно, что мы до сих пор ничего не сделали. Я не вижу пациентов, когда смотрю в микроскоп, но эта мысль у меня таким бэкграундом проходит, что сидим, деньги тратим, время тратим, а процесс не так уж быстро развивается. Не быстро. Но быстрее пока мы, видимо, не можем.
В ординаторской отделения экспериментальной химиотерапии Института онкологии имени Розвелла Парка висит портрет Сюзан Кэро. Под ним цитата: «Я более чем везучая, я благословенна. Я отвоевала у рака 12 лет жизни, да какой!» Портрет маленький. И цитата на нем поместилась небольшая. Я улыбаюсь, вспоминая, что список желаний у Сюзан со временем увеличился: попасть в детский сад на утренник к внукам, съездить летом всей семьей в Майами, к океану.
Как когда-то Сюзан, теперь и Люси мечтает о чем-то своем под стремительные дядьмишины вальсы, что разносятся на весь огромный холл онкологической клиники, делая мечты и светлее, и радостнее, лишая сложный больничный мир всей этой раковой безнадеги. А когда видишь, как из стеклянных дверей навстречу выходит малыш с копной цветных воздушных шаров над головой, жить и вовсе становится сильно веселее. Я спрашиваю родителей: «Вашего сына можно поздравить с днем рождения?» Пара улыбается: «В каком-то смысле да. У нас сегодня кончился третий курс химиотерапии. Здесь, в больнице, принято по такому случаю дарить подарки и устраивать праздник. В кафе при отделении нам устроили большое праздничное чаепитие с пирожными».
Еще одно помещение вовсе не медицинского характера, которое занимает в клинике территорию размером с хорошую медицинскую лабораторию, – библиотека. Для тех, кто болеет раком. Научные, популярные, познавательные книги, истории невероятных побед, поэмы о том, какое мужество требуется для того, чтобы принять участие в клинических испытаниях, подростковая и детская литература. Например, тонкий сборник стихов с картинками о том, как объяснить ребенку, что у него рак, и как встречать дома того, кто вернулся лысым после химиотерапии. Безусловно, изюминкой этой библиотеки была бы книга Давида Серван-Шрейбера «Антирак». Но она такая популярная, что в наличии ее нет. Библиотекарь разводит руками: «Было десять экземпляров, но все разобрали пациенты. Есть только видео, хотите?»
«Правда, Давид здесь чудо как хорош?» – гордо спрашивает мадам Сабин Серван-Шрейбер. Мы сидим на диване в нормандском доме Шрейберов и в сотый для нее и десятый для меня раз пересматриваем видеофильм «Антирак», созданный ее сыном. Высокий подтянутый мужчина с легкой сединой на висках говорит: «Я отвоевал у рака целую жизнь. Мне кажется, опыт, который я приобрел, может быть полезен и вам». На кадрах Давид то катается на велосипеде, то стоит на фоне прилавков с овощами и фруктами, рассказывая о пользе крестоцветных, об антираковых возможностях томатов и о волшебной силе куркумы, то встречается с поклонниками книги, подробно и без устали отвечая на множество вопросов. Вот он в голубом халате на встрече с учеными-онкологами, а здесь – с учеными-онкопсихологами обсуждает тонкую взаимосвязь течения болезни с психологическим состоянием пациента…
«…А поехали к морю?» – вдруг предлагает Сабин, ставя видеозапись на паузу. Собираемся, рассаживаемся по машинам, едем. По пути – крошечная церковь XII века. Когда-то здесь хранили свои секреты тамплиеры, а теперь глубокая и пронзительная тишина. Внутри холодок и переливы света, преломленного цветными витражами. Потрескивают свечи. Наверху долго возится и наконец с чувством берет первый аккорд невидимый органист. Выходим, щурясь на утреннее солнце, насилу выбравшееся из грузных дождевых туч, нависших над Ла-Маншем.
«Отсюда лучший вид на море, – тихо говорит Сабин на пороге церкви. – У моего мальчика – лучший вид на лучшее море на свете», – шепчет она, гладя белую мраморную плиту в нескольких метрах от церкви. На плите написано: «Давид Серван-Шрейбер. 21 апреля 1961–24 июля 2011. Спасибо».
Сабин ведет меня на пляж. Пустой, рыжий от засохших водорослей, с пролысинами серых, сумевших удрать от моря камней. Пляж обнимает набережная, упирающаяся одним концом в хмурую гору, другим – в маяк. По набережной, укрываясь макинтошами от прорывающегося сквозь свинец облаков дождя, мужественно гуляют туристы. Они оставили надежду бороться с дождем с помощью зонтов, ветер выламывает зонтам спицы, делая их совершенно бесполезными. Море цвета рассерженной лазури с переходом в зеленое вылизывает пляж пенящимися волнами. Из ресторанчиков на берегу с порывами ветра доносится запах вареных, топленых в луковом, томатном и сырном соусе мидий с чесночными гренками. Сабин отвлекается на этот запах и, ухватившись за повод, сбегает: «Я займу столик и закажу всё, что вы обязательно должны попробовать. Погуляй еще минут пятнадцать. Подыши!» Ей надо побыть одной, она устала от воспоминаний. Я сажусь на камень, смотрю на море и думаю о том, как, каким и почему сюда приехал Давид Серван-Шрейбер ранним летом 2011 года. Версий в голове слишком много. Оглядываюсь на уют прибрежного ресторана, где уже потягивает белое вино Сабин. Мне придется еще долго ее обо всем расспрашивать, пусть наберется сил.
В конце второго издания своей книги «Антирак», подарившей надежду очень многим, Давид Серван-Шрейбер горько пишет: «Последний раз, когда я видел своего нейроонколога во время обычной регулярной проверки, он высказал мне любопытную мысль: «Не знаю, должен ли я вам это говорить… – начал он, немного смущаясь, – но мне всегда действительно приятно, когда вы приходите ко мне. Вы один из моих редких пациентов, которые чувствуют себя хорошо!» Я внутренне содрогнулся. Несмотря на вежливость, он напомнил тень, которая давила мне на голову, – тень, которую мне теперь часто удается забыть… Говоря о своем случае в этой книге, я подставляюсь тому, чтобы получать такого рода напоминания чаще, чем я бы этого хотел. Я не могу не знать, что моя история вызывает, как правило, странную реакцию у людей, не желающих признавать то, что уходит с проторенных дорог. Они говорят: «Если сегодня он чувствует себя хорошо, то это значит, что его рак не был уж таким тяжелым». Как бы я хотел, несмотря на рецидив и вторую операцию, которая последовала за ним, чтобы это было правдой!.. Мой нейроонколог сказал мне также: «Любопытно, что ваша опухоль по биологическим анализам имеет агрессивный характер, но она ведет себя с вами очень цивилизованно!» Может быть, это дело случая. А может быть, это результат того, что я делаю каждый день, чтобы жить по-другому. Всё, о чем я рассказал здесь. Как бы то ни было, мой случай не является научным опытом. Он не может позволить разрешить этот спор. Только исследования, которые продолжают проводиться, смогут изменить наши коллективные методы профилактики и лечения рака».
В третьем издании «Антирака», которое было подготовлено летом 2010 года, к этому прибавится еще один пассаж: «Существует «типичная» реакция на рассказ о моем случае, которая может проявиться, – реакция, которая в большей степени посягает на жизнь: прежде чем следовать его советам, подождите, будет ли он живым в следующем году…»
В этот момент доктора уже сообщили Шрейберу: «Рак догнал вас. И ничего больше сделать нельзя». Пытаясь понять и принять эту новость, профессор первым делом позвонил сыну Саше в Америку. Саша, рожденный в браке с переводчицей из России Анной, прекрасно говорит по-русски. Именно этот язык он выбирает для того, чтобы давать интервью. Я спрашиваю: «Почему?» – «Чтобы вам легче было понять нюансы. В этой истории они очень важны. Отец позвонил мне и сказал, что ему осталось меньше года. Я понял, что так оно и есть. Потому что мой папа такой человек, что не стал бы преувеличивать только для того, чтобы его пожалели. Я не стал с ним спорить. Я лишь хотел сделать так, чтобы этот год стал лучшим годом в его жизни. И он тоже этого хотел. Положив трубку, я спросил маму, могу ли я поехать к отцу, он тогда еще был в Американском госпитале, в Париже. Мама помогла мне купить билет. И я полетел. Мне приходилось несколько раз возвращаться домой, но большую часть этого года я провел с папой. Мы не делали ничего необычного. Мы просто были отцом и сыном. Мы ходили в кино и рестораны, мы валялись на диване и играли в компьютерные игры, мы катались по Парижу на велосипедах, пока у папы были силы, потом просто гуляли, а потом сидели у него на террасе в госпитале и просто смотрели на город и болтали. Мы знали, что это всё в последний раз, всё, что мы делаем, – в последний раз. И другого времени у нас не будет. Каждый раз, когда я уезжал, я говорил, что я его люблю, и он то же самое мне говорил. Я знал, что следующей встречи может и не быть, но об этом мы не говорили. Я не плакал при нем. Я плакал в самолете. Но несколько раз я успел вернуться, чтобы еще и еще иметь возможность с ним поговорить. Он так и говорил: «Давай постараемся успеть поговорить обо всем, что потом может тебе пригодиться».
В этих разговорах «обо всем» отец и сын молчали только об одном: система «Антирак», образ жизни, мировоззрение, которое проповедовал Сашин папа, неужели все это не смогло его спасти? Неужели не помогло? Или где-то была допущена ошибка? Я спрашиваю сейчас об этом девятнадцатилетнего Сашу, потерявшего отца. И спокойствие, с которым он отвечает, удивительно. Это спокойствие уверенного в положении вещей человека: «Может быть, всё это его не спасло до конца, но дало ему гораздо больше жизни, чем было бы, если бы он ничего не делал. Как минимум это его дисциплинировало, а значит – не давало тратить себя на пустяки. И это нам дало время сказать «до свидания» друг другу. Вы не представляете, что для меня значил этот последний год папиной жизни. Он был очень деятельным человеком, торопился многое успеть. Очень многим людям он был нужен. Это понимал и он, и мы, кто его окружал. Таких людей, как мой папа, нельзя запереть в четырех стенах. Они нужны – деятельные, активные. Но в этой активности порой не хватает времени на человеческое общение с близкими. Последний год папиной жизни вернул мне папу. Дал мне то, что необходимо в отношениях. Мы прощались навсегда, но глубина наших отношений никогда не была такой осознанной. И еще одна важная деталь: рак дал папе время завершить дела. В том числе дела, касающиеся личных отношений».
В разговорах с сыном Давид придет к необходимости написать на прощание еще одну книгу. Саша передаст мне ее рукопись на французском. Перевести название можно так: «Об умении сказать «до свидания»«.
Глава 30
Швеция. Январь 2012 года. Главный рок-клуб Стокгольма, Debaser. Его сцена такая огромная, что хрупкая блондинка на ней кажется еще меньше, еще беззащитней. Она выходит вперед, к зрительному залу, берется рукой за микрофон, как будто опасаясь, что волна человеческого обожания из зала сметет ее с ног. Опускает голову. Толпа выдыхает. И вдруг наступает полная тишина. Блондинка еле слышно благодарит в микрофон: «Спасибо». Улыбается. Прикрывает глаза. Запрокидывает голову. И вдруг, совершенно внезапно, обрушивает на зал невероятно мощное: «Listen to your heart… When he’s calling for you…» (Первые строчки припева самой известной песни группы «Роксетт» – Listen to your heart («Слушай свое сердце»), 1989 г.)
В этот момент происходит нечто, не поддающееся объяснению, кажется, что небо над Debaser становится ближе, а свежего воздуха в зале слишком много, так много, что трудно дышать. И все задыхаются от эмоций. В первую очередь задыхается она – маленькая, худая, коротко стриженная блондинка на огромной сцене. Мари Фредрикссон. Солистка группы «Роксетт», инопланетянка в обтягивающем черном костюме, на огромных шпильках, которой теперь весь многотысячный зал помогает допеть эту песню, помогает дышать, помогает стоять на ногах. Она допоет и скажет: «Спасибо, что ждали меня». И следом споет совершенно новую The Change, о том, что с ней произошло в эти последние несколько лет. Правда, в тексте песни «Перемена» на случившееся – ни малейшего намека. А на экране за спиной Мари – странные наивные картины ангелов с большими глазами или просто цветные всполохи. Казалось бы, ничего не понятно. Но весь зал знает, о чем она поет, и весь зал ее поддерживает. Так последние семь лет начинается каждый концерт Мари Фредрикссон на родине, в крупнейшем рок-клубе Швеции Debaser.
Я встречаюсь с ней за сценой в тот же вечер, а потом еще раз, утром, у нее дома. Я спрашиваю Мари: «Песня «Перемена» – она о раке? Она о том, что вы пережили?» Она только закрывает глаза в знак согласия. И молчит.
Маленькая женщина, умеющая держать в напряжении стотысячные залы, до сих пор чувствует себя неуверенно, пытаясь произнести слово «рак»: «Это очень конкретный вопрос. Слишком «в лоб» для меня, простите, – говорит Фредрикссон. – Я, честно говоря, так и не научилась об этом говорить спокойно. Вообще говорить. Так малодушно и обхожу эту тему стороной. Конечно, поклонники всё знают: были пресс-релизы, статьи в газетах. Я чувствовала поддержку людей, и когда мне делали операцию, и когда после операции я заново училась и ходить, и говорить, и даже держать ложку с кашей… Я ведь только петь не разучилась, в остальном же была – чистый лист. Зато, правда, научилась рисовать. Вот это было совершенно неожиданно…»
«То есть вы вообще не хотите говорить о болезни?»
«Нет-нет, подождите, не так. Давайте просто не так резво переходить к этой теме. Хорошо? Все в курсе, что я болела, но ваша съемочная группа первая, для которой это основная тема интервью. Я согласилась, чтобы проверить себя: смогу ли? И теперь мне надо как-то попытаться подобрать слова. Так что давайте попробуем начать аккуратно».
Она улыбается, прося ее извинить. Мы прерываем интервью. Она ходит по дому, полному цветов, свечей и фотографий: её, мужа, детей. Она гладит рояль, как будто он может помочь ей отыскать слова, с помощью которых можно было бы говорить о произошедших с ней переменах. И это вроде бы помогает. Опять улыбаясь, она вдруг говорит: «Я так боялась самого этого словосочетания: «У меня рак». И теперь боюсь сказать: «У меня был рак». Я не могу себя победить, понимаете? Всё, что я чувствую, о чем переживаю, я доверяю только музыке. Так появилась песня «Перемена»«. Она замолкает и, отвлекшись на взлетевшую с припорошенной ветки сойку за окном, забывает о том, что дает интервью. Она вообще забывает о том, кто я и что еще пять минут назад она со мной разговаривала. Я жду. Я боюсь всё разрушить, сломать, лишить себя самой возможности этого интервью, которого так долго добивалась. Продюсер Мари заметно нервничает, а присутствие на всех интервью продюсера было непременным условием. Потом мне объяснят: продюсер нужен как раз на случай этих «провалов». Она до сих пор довольно часто «отключается» от реальности. Неловкая пауза. Никто не решается потревожить ее «отсутствие». Она «возвращается» сама, без посторонней помощи: «Хотите, я покажу вам картины? Так мне будет проще говорить…»
У огромного, от потолка до пола, окна – мольберт. На холсте глаза. Я их узнаю. Это те же глаза, что были в видеоинсталляции за ее спиной во время вчерашнего концерта. Она по-птичьи наклоняет голову набок: «Это, кстати, Мадонна… Не певица, нет. Это такая Мадонна, как я ее себе представляю, которая спасла меня от болезни, вытащила». Сказав это, Мари опять оживает, несется от одной стены к другой: «А вот еще – это ангел, а вот здесь – опять Мадонна. А это – мои дети». Из полумрака, царящего в ее огромном белом доме, посреди сказочного леса, святящегося огнями свечей, проступают глаза и крылья, тонкие руки и неземные улыбки. Она носится между картинами, включает и выключает электрический свет. И наконец, как будто освободившись от какого-то неведомого обета молчания, вполне спокойно говорит: «Знаете, просто иногда у меня возникает чувство, что всё это было не со мной. И сильнее этого чувства только понимание того, что всё было неспроста. Я имею в виду то, что однажды я встретила рак, или рак встретил меня, так, наверное, будет правильнее говорить». Она вздыхает и улыбается как человек, только что одержавший победу над собой. Она победила: она сама произнесла это вслух.
Королева шведской и мировой поп-сцены Мари Фредрикссон исчезла из теленовостей, расписания мировых гастрольных туров и с обложек глянцевых журналов в 2003-м. Просто исчезла и всё: у прессы не было ни единого предположения о том, что случилось с прежде жизнерадостной и общительной солисткой «Роксетт». Только спустя несколько лет появится официальное заявление пресс-службы группы: «11 сентября 2002 года Мари вернулась домой с утренней пробежки и, будучи в ванной, почувствовала себя плохо. Упала в обморок, ударившись головой о раковину. Через несколько часов ее привезли в стокгольмский Karolinska Hospital, где у певицы была обнаружена опухоль мозга. Проведенная операция по ее удалению прошла успешно». За бесстрастными строчками пресс-релиза не разглядеть, что на самом деле произошло с хрупкой блондинкой, научившей весь мир «слушать свое сердце».
В 2003-м во время курса химиотерапии, предшествовавшей операции, врачи сказали Мари: «Шансы на то, что опухоль может оказаться смертельной, 1:2. Но мы поборемся. Вы-то сами будете бороться?» Она ничего не ответила, только кивнула. И несколько месяцев молчала, мужественно выполняя все указания медиков. Потом была операция, а потом…
Потом обладательница трех «Грэмми» и нескольких платиновых дисков, многократная лучшая певица Швеции и мира, автор бессмертной песни It Must Have Been Love, на которой взросло не одно поколение романтических девушек… превратилась в младенца.
Она вертит в руках свой новый диск. Он называется The Change, «Перемена». И хитро улыбается: «Между прочим, я смогу вам даже его подписать». Продюсер пытается возразить: «Но, Мари…» Она просит фломастер и размашисто подписывает MARY, ROXETTE. Потом объясняет: «Если честно, я так и не выучилась заново ни писать, ни как следует читать. Но я научилась рисовать. И эту свою подпись я нарисовала. Смешно, правда?»
21 октября 2005 года в Швеции было официально заявлено, что Мари Фредрикссон выздоровела и больше не нуждается в лечении. Отныне вся ее жизнь – это реабилитация. Лечащие врачи до сих пор удивленно разводят руками: «Она сумела пройти совершенно фантастический путь, она победила рак. Но что еще более удивительно, она как будто бы заранее решила не становиться такой, какой была прежде, до болезни. Она научилась жить в новой реальности».
«Я никогда не возвращаюсь в свое прошлое, не оплакиваю себя, – рассказывает Фредрикссон. – Если что-то представляется мне трудным, я иду к мольберту и рисую. Я стала меньше гастролировать, но мои картины хорошо продаются, так что даже в этом смысле всё как бы переменилось, а с другой стороны, оказалось даже интереснее, чем было раньше. Я больше времени могу проводить дома, я не получаю лишней информации, я не трачу себя понапрасну. Я стала жить «вглубь». Мне нравится. Так о чем мы, простите, говорили?»
Она сама поймала себя на том, что «отключилась». Но ей смешно. И улыбаемся все мы, вокруг. В этой паузе больше нет неловкости.
«Я спросила, как вы стали рисовать».
«Первые рисунки я сделала от страха, просто пытаясь понять, что со мной происходит… А потом я как-то поплыла по течению. И оказалось, что это движение кисти и есть моя терапия, моя новая реальность. Но самое поразительное, что я поняла… Только не смейтесь, потому что то, что я сейчас скажу, не слишком-то совпадает с официальной точкой зрения на болезнь. Я стала думать, что рак – это какая-то новая форма жизни внутри нас. Что люди с этими клетками, которые потом превратятся в раковые, рождаются, живут, а потом клетки просыпаются. И может быть, люди будущего сумеют научиться с такими клетками жить? Может быть, то, как живу я, – первый шаг к этой новой форме существования?»
Несмотря на всю кажущуюся невероятность истории, с точки зрения науки солистка «Роксетт» во многом права. Превратить рак в хроническую болезнь, не прерывающую жизнь, а сопутствующую ей, – одно из главных направлений современной научной мысли: в XXI веке относиться к диагнозу рак как к приговору уже нельзя – несовременно.
Героиня (Одна из) этой книги Евгения Панина как-то в разговоре со мной со смехом вспомнит пассаж, с которым ее лечащий доктор Капитолина Мелкова часто обращалась к пациентам: «Она заходила в палату, ставила руки в боки и говорила: «У нас на планете смертность стопроцентная – умрут все, все 100 % людей. По крайней мере, мне неизвестно о ком-то, кто уверен, что будет жить вечно. Так вот, весь вопрос для современного человека заключается в том, как и когда он умрет, – да, это важно! Но важнее, мне кажется, как вы будете жить до своей смерти. Мы тут боремся за качество жизни, вот в чем смысл сражения». Помню, – рассказывает Панина, – я не слишком ее понимала и даже сердилась за этот тон, такой уверенный». Спрашиваю Капитолину Николаевну: «Вы так говорили, чтобы мобилизовать раскисших пациентов, или действительно так считаете?» Отвечает: «Катя, дорогая, рак – это не откровение и не какой-то там эксклюзив, мало с кем случающийся! Это просто некоторое напоминание о смертности человека. Но, к счастью, это не болезнь, от которой умирают назавтра, это не инфаркт миокарда, не инсульт, не дорожная травма, в конце концов. Это болезнь, от которой потенциально можно вылечиться, либо иметь длительную ремиссию, либо – и это главная наша цель – перевести этот рак в форму хронического заболевания, сопутствующего жизни, но не отнимающего ее. Так что популярная в XX веке поговорка о том, что человек неисправим, а рак неизлечим, больше не действует».
В XXI веке точка зрения на рак действительно поменялась: врачи и ученые добились того, чтобы кладбище перестало наконец ассоциироваться с единственно возможным исходом болезни. «Наиболее вероятный исход рака сегодня – это ремиссия», – уверена Капитолина Мелкова. Ее уверенность зиждется на сотнях пациентов, которые проходят перед глазами еженедельно, на статистике и общем практическом представлении о том, что происходит сегодня в России и в мире с людьми, столкнувшимися с онкологическим диагнозом.
«Да-да, наиболее вероятный исход – это ремиссия, – говорит Мелкова. – Это возможность жить долго, годами, вести нормальный образ жизни и в конце концов умереть от другой причины, не связанной с раком. В возможности достичь ремиссии, по моему мнению, заключается тот факт, что рак в XXI веке – это гораздо более оптимистичная болезнь, чем ряд других, отнимающих возможность полноценно жить, патологий и страхов».
Страхи, которые продолжают испытывать пациенты, – от недостаточной информированности. «Я глубоко убеждена, если и дальше держать пациентов в неведении, то, скорее всего, вместо рака нам в значительно большей степени придется лечить серьезные психологические симптомы, составляющие трудность как для больных, так и для врачей, – считает Мелкова. – Человека вначале надо привести в адекватное состояние понимания происходящего. Потому что больной, который не просто в ужасе от диагноза и от перспективы, а элементарно не верит, в то, что его болезнь – это не самое худшее, что может случиться, поддается лечению очень тяжело. Он убежден: «Всё, моя жизнь кончена, я не буду жить полноценной жизнью, пока не вылечусь, а я, скорее всего, не вылечусь…» – и так далее. Это тупик.
Как только человек понимает, что у него есть выбор, у него есть перспектива, и, в конце концов, люди с язвой желудка живут годами, они лечатся, наблюдаются, но они продолжают активную жизнь, получают удовольствие от жизни, они растят детей, они работают. И рак сейчас относится к такой категории заболеваний, когда диагноз не подразумевает конец жизни, – это совершенно другой разговор. Надо очень четко понимать, что конец жизни – это определение, которое может дать только сам человек. Именно поэтому сейчас все медицинские стандарты в современной онкологии очень серьезно ориентированы на качество жизни, которое будет у больного раком человека, находящегося в ремиссии, у человека, излеченного в конце концов. Ведь, научившись побеждать рак, надо еще научиться жить с раком. Или, по крайней мере, верить в то, что эта жизнь возможна».
Капитолина Николаевна говорит со мной уставшим голосом человека, вынужденного по сотне раз в день повторять одно и то же. Львиную долю своего рабочего и нерабочего времени Мелкова тратит на то, чтобы научить людей верить в то, что можно жить, если у тебя рак. Прямо сейчас в Онкоцентре имени Н. Н. Блохина оперируют больше 20 пациентов. По всей стране – несколько сотен, по всему миру – тысячи человек. Если верить Капитолине Николаевне, то после операции перед каждым из пациентов встанет вопрос: хочет ли он жить, как он хочет жить? Готов ли он начать эту новую жизнь с раком?
«Бывает так, пришел человек, и по его глазам сразу видно, он решил, что умирает, – рассказывает Мелкова. – И вытащить такого человека «в жизнь» очень сложно. И тогда медицински благоприятная форма заболевания и хорошие прогностические перспективы оказываются просто пшиком, пустым звуком. Мы, врачи, как правило, знаем процент успеха и неуспеха по лечению того или иного онкологического заболевания. Мы знаем, какая летальность при этом заболевании, какой процент осложнений, тяжелых или нетяжелых, и какой процент излечения. Безусловно, человек, позитивно настроенный, который продолжает вести активную жизнь, сотрудничает с врачами, выполняет все необходимые процедуры, имеет больший шанс вылечиться, чем человек, который себе сказал, что всё это бесполезно, я буду болеть и умру – и он умрет».
«Именно это вы ТОГДА сказали Евгении Паниной?» – не выдерживаю я. Капитолина Николаевна с изумлением отворачивается от окна и смотрит на меня так, будто увидела впервые: «Да, кажется, почти так и сказала, слово в слово. А она что, запомнила?»
Для доктора Мелковой это будет радостным откровением. Обычно пациенты не помнят таких трудных разговоров с врачами. Стараются забыть. Но пациентка Евгения Панина запомнила и рассказала мне, добавив: «Меня ошеломило, с каким чувством надежды Капитолина Николаевна тогда сказала: «Мы лечим вас для того, чтобы жить, не подведите»«.
Четыре химии позади. Даже не верю, что я… я такая слабая, такая напуганная и такая одинокая в самом начале этого трудного пути, я – доктор Евгения Панина, ставшая пациентом, всё это выдержала. Мне почему-то кажется, что теперь-то уже всего ничего до победы. Всего какая-то трансплантация. Подумаешь! Стараюсь не слушать и не слышать всего того, что говорят вокруг. А вокруг говорят, что химиотерапия – это семечки, что главное – это как раз трансплантация. Пересадка стволовых клеток. И что это настоящее испытание. Ну что же, значит, для того чтобы победить, мне надо пройти через это. Пока идет подготовка. Какие-то технические вещи, обсуждения всего того, что будет со мной происходить буквально завтра. Я как будто участвую в этом обсуждении, а с другой стороны, веду себя так, как будто меня это совершенно не касается. Я просто должна это выдержать. Я так решила. А потом… Потом мы поедем на море.
При диагнозе Евгении Паниной – миеломная болезнь – возможен один из двух видов трансплантации: аллогенная трансплантация от родных или аутотрансплантация. Панина решает рискнуть, у нее есть родная сестра.
Рискнуть раз и навсегда, а потом быть уверенной в завтрашнем дне – мне кажется, это лучше. Надо рискнуть. Решаю поступить именно так…
…Рискнуть не вышло. После обследования выяснилось, что моя сестра не подходит в качестве донора. Ну что же. Значит, выбора у меня нет. Остается только один путь – аутотрансплантация. Со всеми вытекающими. Значит, так надо. Как мне объяснили, у меня возьмут мои собственные стволовые клетки и после специальной обработки их снова мне пересадят.
В какой-то момент становится страшно: если рак всё равно вернется, зачем все эти мучения? Но не бросать же всё на полпути. Капитолина говорит: «Мы вас лечим для того, чтобы вы жили». Если честно, пока не очень понимаю, о чем она говорит, в чем меня пытается убедить. Но вот сегодня она спросила, есть ли у меня планы на «после больницы». Ну конечно, есть, что за вопрос! Я так соскучилась по семье, я хочу собрать всех дома, за большим столом, я хочу повезти всех своих на море, я хочу наслаждаться каждой минутой, я хочу еще английский выучить! Кажется, я ей про всё это и рассказала. Она, по-моему, впервые с момента нашего знакомства улыбнулась. И говорит: «Вот видите, это и значит жить. Чтобы хоть сколько-нибудь вот так, как вы говорите, пожить, надо попробовать всё, что только есть в арсенале у медицины. Мы попробуем. И будете жить, сколько Бог даст». Почему-то это меня успокоило: мы попробуем, а там – как Бог даст.
Ей сказали: пересадка – ваш единственный шанс пробиться в жизнь. И она за него уцепилась. Ей сказали: поскольку донор клеток – вы сами, то больше их взять будет неоткуда. Но болезнь, возможно, вернется. И она сумела научиться с этим жить. Ей показали стерильный бокс отделения трансплантации: стеклянный аквариум без возможности выйти наружу, обнять или даже потрогать кого-то из родных. И она приняла это как данность. Надо попытаться сделать всё, что возможно. А там – как Бог даст. Так в конце ноября 2010-го Евгения Панина стала готовиться к аутотрансплантации, которая, по прогнозам врачей, не избавит ее до конца жизни от рака, от риска возвращения болезни, но даст некоторую отсрочку, шанс.
Теперь, когда я почти вплотную подошла к этой решающей черте в своей болезни, мне опять не по себе. Я уже, конечно, ученая. Я всё понимаю, и мне не нужны лишние доводы, которые могли бы меня убедить в том, что бороться надо. И что борьба – это такая же часть лечения, как и лекарства. Мало того, эту борьбу за себя, за свою жизнь я вижу повсюду: дочь ищет для меня доноров крови (переливания нужны каждый день, помногу, а доноров нет или есть, но только за деньги, хотя даже за деньги – не хватает), врачи пытаются подобрать тот самый единственно верный вариант посттрансплантационной терапии, который снизит вероятность рецидива, я им очень благодарна. Мне стыдно перед всеми за то, что у меня самой не хватает мужества смотреть всему тому, что меня ждет, в глаза. Мне страшно.
Опять хватаюсь за ту самую спасительную соломинку, что вытащила меня из сумрака сомнений всего несколько месяцев назад. Хватаюсь за мою прикроватную Библию – «Антирак».
В декабре 2010-го самая важная для Паниной глава «Антирака» Давида Серван-Шрейбера – о казуистических случаях, когда вера и надежда пациентов, их родственников, врачей буквально «вытаскивали с того света». В главе о том, как не поддаться влиянию статистики, профессор Шрейбер рассказывает историю профессора зоологии Стивена Джей Гулда. В июле 1982 года в возрасте сорока лет он узнал, что страдает мезотелиомой брюшной полости – редким и опасным раком, который приписывают воздействию асбеста. После операции он попросил своего врача указать ему лучшие статьи, посвященные мезотелиоме. Онколог, хотя до этого она всегда была очень откровенной, уклончиво ответила, что медицинская литература не содержит ничего действительно достойного на эту тему. Но помешать преподавателю университета рыться в документации на тему, которая его занимает, это всё равно что, как писал сам Гулд, «рекомендовать целомудрие Homo sapiens, примату, который более всех других озабочен сексом». По выходе из госпиталя он направился прямо в медицинскую библиотеку университетского городка и устроился за столом со стопкой недавно вышедших журналов. Часом позже он понял причину поведения своего врача. Научные исследования не оставляли никакого сомнения: мезотелиома была неизлечимой, со средним сроком выживания в восемь месяцев после постановки диагноза! Гулд почувствовал, как паника охватила его, а тело и сознание замерли на добрых 15 минут. Но увлеченность преподавателя университета взяла верх и спасла его от отчаяния. Действительно, он провел свою жизнь за изучением природных явлений и представлением их в цифрах. Если из этого можно было сделать какой-либо вывод, то он заключался в том, что в природе не существует никакого незыблемого правила, которое бы применялось одинаково ко всем. Изменение является самой сущностью природы. В природе среднее значение является абстракцией, «законом», который человеческое сознание старается применить к изобилию индивидуальных случаев. Для Гулда вопрос заключался в том, чтобы знать, каково его личное место, отличное от всех остальных, в диапазоне вариаций вокруг среднего значения. Если среднее значение выживания составляет восемь месяцев, то это означает, что половина людей, пораженных мезотелиомой, прожило менее восьми месяцев. А к какой половине принадлежит он сам? Поскольку он был молод, не курил, был в добром здравии (помимо этого рака), а его опухоль была диагностирована на ранней стадии, и он мог рассчитывать на наилучшие методы лечения, то были все основания полагать, что он находится в «хорошей» половине, с облегчением заключил Гулд. Уже это было небольшой победой. Затем он осознал еще кое-что: все кривые выживания имеют одну и ту же асимметричную форму: по определению, половина случаев сконцентрирована в левой части кривой, от 0 до 8 месяцев. Но другая половина, справа, – «распределение», как это называется в статистике, – всегда имеет «длинное крыло», которое может даже длиться достаточно долго. Гулд стал лихорадочно искать в статьях кривую выживаемости при мезотелиоме. Когда он ее наконец нашел, то смог констатировать: действительно, правое крыло распределения длится многие годы. Таким образом, даже если среднее значение составляло всего восемь месяцев, на самом краю правого крыла небольшое число людей прожили годы при этой болезни. Гулд не видел никакой причины, почему ему также не находиться в самом конце этого длинного правого крыла, и вздохнул с облегчением.
Взбодренное этими открытиями сознание биолога поставило Гулда перед третьей очевидностью, такой же важной, как и две первых: кривая выживания, которая находилась перед его глазами, касалась людей, которых лечили 10 или 20 лет до этого. В онкологии два явления эволюционируют постоянно: обычные курсы лечения, с одной стороны, и, с другой, наши знания о том, что может сделать каждый для усиления воздействия этих курсов лечения. Если обстоятельства меняются, кривая выживаемости также меняется. Возможно, с новым курсом лечения, который он получит, и при небольшом везении он станет частью новой кривой, с более высоким средним значением и с более длинным правым крылом, которое уйдет далеко, очень далеко, до естественной смерти в позднем возрасте.
Стивен Джей Гулд умер через 20 лет от другой болезни. Ему хватило времени, чтобы завершить одну из замечательных научных карьер эпохи. За два месяца до смерти Гулду довелось присутствовать при публикации своей основной работы «Структура теории эволюции». А продолжительностью своей жизни он превзошел в 30 раз предсказания онкологов.
Урок, который преподает, по мнению Серван-Шрейбера, великий биолог Гулд, ясен: статистика является информацией, а не приговором. Цель онкологического пациента, который хочет бороться против неизбежности, заключается в том, чтобы дать себе все шансы оказаться в конце правого крыла кривой. Серван-Шрейбер пишет: «На самом деле никто сейчас, ни один врач, ни один ученый, не может предсказать с точностью течение рака ни для одного пациента. Слишком много составляющих в этом уравнении с неизвестным результатом. Но важно другое. На мой взгляд, нет ни одной области современной науки, которая бы развивалась так стремительно, как онкология. И лично у меня есть надежда дожить до какого-нибудь решительного прорыва».
Этой надеждой наполнены книги Серван-Шрейбера. Во многом ради этого он их и писал: продлить жизнь, дождаться нового, еще более действенного препарата, который сейчас, может быть, изобретут. Вот-вот… Еще немного подождать.
В Американском госпитале в Париже профессор Давид Серван-Шрейбер стал исключительным пациентом. К нему врачи приходили не по служебной надобности, а из душевного порыва пожать руку, из профессионального интереса – поговорить, обсудить, поспорить.
Лечащий врач Давида доктор Ален Толедано, щурясь на яркое парижское солнце, что беззастенчиво бьет прямо в окна этой ставшей знаменитой палаты Давида Серван-Шрейбера, вспоминает: «К нам попал уже не просто «пациент Серван-Шрейбер», к нам попал автор книги «Антирак», человек, который знает о раке едва ли не больше своих лечащих врачей, но при этом демонстрирует поразительное мужество и готовность сражаться. Для меня было огромной честью быть доктором Давида. Мы подолгу сидели с ним на террасе его палаты, вот здесь, мы много разговаривали. И после каждого разговора я выходил ошеломленным. Вы только вдумайтесь, какой путь проделал этот человек! Какую жизнь он отвоевал у рака! Мы все обязаны ему тем, что его пример нас вдохновлял, давал нам силы идти вперед. В трудную минуту я вспоминаю Давида и часто рассказываю о нем своим пациентам».
Ретроспективно жизнь Серван-Шрейбера оказалась не просто совместимой с диагнозом рак, а счастливой: женитьба, дети, карьера. Разумеется, были моменты отчаяния, но Давид Серван-Шрейбер старался сделать каждый день своей жизни полноценным. Он много работал, «Антирак» переиздавался каждый год, автор бесконечно вносил правки, продиктованные временем и постоянно происходящими научными открытиями. Читатели и зрители во всем мире следили за его историей так, как если бы это была их история, для многих именно так оно и было. Почта Шрейбера, по свидетельству его мамы Сабин, была завалена письмами искренней благодарности «за веру и силы, которую дали книги, за новый образ жизни», который им подарил «Антирак».
Несколько последних редактур книги профессор делает во Франции, как раз в Американском госпитале. Сюда он перебрался в расчете на передовые европейские технологии. Доктор Ален Толедано рассказывает, что профессор Шрейбер очень рассчитывал на возможность принять участие в одном из клинических испытаний препаратов, способных приостановить развитие опухоли головного мозга. Осенью 2009-го сразу несколько авторитетных лабораторий заявили о начале второй фазы исследований новых противораковых лекарств, изобретенных учеными. «Ему не хватило года, всего года, вдумайтесь! – сокрушается Толедано. – Сейчас мы как раз приступили ко второй фазе клинических исследований того самого лекарства, на которое так рассчитывал Давид. По стечению обстоятельств пациентка, подписавшая добровольное информированное согласие на участие в этих исследованиях, сегодня как раз будет переведена в палату, в которой лежал Давид Серван-Шрейбер».
Палату с видом на Эйфелеву башню, где несколько месяцев находился пациент и ученый Давид Серван-Шрейбер, теперь занимает Элен К., светловолосая француженка лет сорока. Чуть позже к ней зайдут онкопсихолог, психотерапевт, химиотерапевт и косметолог с консультацией о том, как с помощью косметики выглядеть привлекательно даже во время химии. Но пока с Элен беседует Ален Толедано. Сидя на залитой солнцем террасе, доктор пьет с пациенткой чай, мешая врачебную историю с личными воспоминаниями: «Препарат, который мы хотели бы попробовать в вашем лечении, новый. Еще год назад пациенты и мечтать не могли о такой терапии. Даже профессору Серван-Шрейберу он еще не был доступен».
Ален Толедано опустит глаза. Но никто ни в чем не виноват. Таков порядок вещей. Медицина гонится за раком. А рак все еще оказывается проворнее, унося чью-то дорогую жизнь. Ту, что еще год назад спасти было никак нельзя, а теперь можно попробовать. А завтра, возможно, станет совсем просто. Это одновременно и грандиозно: мы воочию наблюдаем великий прогресс в области онкологии, и до скрежета зубов обидно: ну почему всё так медленно? Я смотрю на доктора Толедано и вижу, как врач-профессионал и человек, обыкновенный ранимый человек, в нем не то чтобы борются друг с другом – не могут найти общего языка.
Я в огромном кабинете академика Давыдова, бывшего директора РОНЦ имени Н. Н. Блохина. Человек, обычно сдерживающий свои эмоции, во время этой встречи Михаил Иванович шумно выдохнул и со всей силы треснул дубовый стол ладонями: «Я ничего, Катя, ничего не мог сделать. Ну не было 12 лет назад никакой возможности ей помочь, понимаете вы меня? Она страдала раком толстой кишки, были метастазы в позвоночник, а комбинированного лечения еще не было. Мы не владели огромным количеством технологий, которые сейчас для нас обычное дело. Мы тогда до них не доросли. Я как врач тогда не был компетентен ей помочь. Сейчас вот смог бы, а тогда – нет. Никак. И я Эммочке это объяснял. Мы говорили об этом совсем недавно, вспоминали…»
Эммочка. Эммануил Виторган, любимый и любящий муж Аллы Балтер. Той самой пациентки академика Давыдова, которую на рубеже веков в короткой борьбе с раком в 1999–2000 годах академик Давыдов не смог отвоевать у болезни.
Через неделю мы говорим об этом с Эммануилом Гедеоновичем Виторганом. И я долго путаюсь в словах, пытаясь сформулировать простой на самом деле вопрос. Виторган сам мне помогает: «Не обидно ли мне, что всё могло сложиться иначе, потерпи Алла еще чуть-чуть, найди она в себе силы жить? Я, Катя, ни одной секунды не верю в сослагательность. Во все эти «бы», «если», «может быть». Меня этому научила моя жизнь. У судьбы, судя по всему, есть какой-то рисунок, задуманный лично для тебя, какая-то тропа, по которой тебе идти и идти, пока отпущено время. И остановиться, исчезнуть, когда время кончилось. Но… И это «но», конечно, такая горькая заноза в моем сердце, что говорить о ней трудно. Больно говорить, понимаете? Как жить, зная, что в перспективе, через энное количество лет болезни, которая унесла твоего любимого человека, смысл твоей жизни, уже как бы не существует? Тьфу на нее, бороться с ней очень легко. Сейчас. А тогда этого не было, и ни за какие деньги нельзя было купить ни единой лишней секунды ее жизни. Ни одного вздоха. Ни одного вздоха Аллочки».
Он часто моргает. Больше всего на свете хочется провалиться сквозь пол. Больше не спрашивать. Не делать ему больно. Виторган трогает меня за руку: «Катя, всё в порядке, я в порядке. Я уже прошел эту дорогу, я смогу говорить». И, сильно облегчая мне жизнь, сам рассказывает всю эту историю с самого начала.
«Иногда мне кажется, что ничего этого не было. Был какой-то сон: прекрасный, ужасный, невероятный. Вы не поверите, но я часто забываю, что всё началось с меня. Я забываю, что это я вначале болел. В обычной жизни я не думаю, не помню об этом. И если бы не наше интервью сейчас, если бы просто кто-то остановил меня и спросил: «Эмма, у тебя был рак?» – я бы в первой реакции ответил: «Нет, что ты». Я забыл о том, что я болел. Точно так же, как я не знал, что я заболел. Тогда всю мою болезнь взяла на себя Аллочка. Да-да, Аллочка. Она знала об этой болезни на уровне врачей. Думаю, что даже больше. Она перелопатила всю литературу по этому поводу. Она всё знала про это. Это она вытащила меня в жизнь тогда, 30 лет назад. А я и не знал ничего, для меня всё это прошло как-то, вы не поверите, незаметно».
Звучит совершенно неправдоподобно, но 33 года назад, в 1986 году, свой рак легкого артист Эммануил Виторган действительно почти не заметил. По крайней мере не воспринял как попытку Провидения покуситься на свою жизнь. Не знал он, чем болеет. И не сразу понял, с какого того света она его вытащила: он счастлив, любит и любим, подрастают дети, в театре и кино большие роли. Ну и… какое-то легкое недомогание непонятного свойства. Обо всем заботится Аллочка, Алла Балтер: ищет и находит лучших в стране врачей, укладывает неугомонного мужа на обследование, договаривается об операции. И все это так легко, тонко и деликатно, что ему и в голову не приходит, насколько серьезно его положение.
«Аллочка умудрилась окутать меня такой заботой, таким уютным коконом, что казалось, будто что-то незначительное происходит, какая-то суета, но ничего страшного, – рассказывает Виторган. – Все кругом улыбались и шутили. Я так и думал, как все говорят: легкая форма туберкулеза. Ведь меня и отвезли в Институт туберкулеза. Потом перевели на Каширку. Тут бы мне всё понять, но все опять смеются-улыбаются, а Аллочка хлопочет рядом, значит, всё в порядке, всё хорошо, всё своим чередом. Там, на Каширке, работали два профессора, два брата, Евгений и Григорий Матятины, старые знакомые нашей семьи. Вот их Аллочка как раз и подговорила, чтобы они сказали: «А давай мы тебя по старой памяти перевезем на Каширку, там мы рядышком, будем встречаться, будем к тебе приходить, ты же свободно ходишь, всё нормально. Выпьем, покурим, все будет хорошо»«.
И они переехали на Каширку. Аллочка отремонтировала даже палату, в которой лежал ее Эммочка. Тогда никому, в том числе ему самому, это не показалось каким-то удивительным шагом. Виторган до последнего был уверен: у него туберкулез. Когда дело дошло до операции, удивился тому, какое огромное количество людей присутствует в операционной, причем бригаду врачей возглавлял основатель РОНЦ Блохин.
«Еще была целая куча студентов, целая толпа разного народу, – вспоминает Виторган. – Когда меня ввезли в операционный зал, естественно, совершенно обнаженным, я еще сказал: «О! Один на всех и все на одного?» Они говорят: «Да». И маску с наркозом мне на лицо. И только после операции, да и то случайно, когда уже стало понятно, что всё хорошо, они расслабились и проговорились: это был рак. Я обалдел».
Спустя пару недель его выпустят из больницы. Всё вернется на круги своя: любимая и любящая жена, подрастающие дети, большие роли в театре и кино. Счастье.
Через 10 лет рак вернется. Не к нему. К ней. Поздно замеченный, стремительный, вцепившийся в Аллу Балтер мертвой хваткой. Поверить в это не мог никто. Он часто спрашивал ее: «Всё хорошо, всё в порядке? Как ты себя чувствуешь?» А она только запрокинет голову назад и улыбается: «Всё хорошо, Эммочка, всё замечательно! Просто легкое недомогание. Чувствую себя замечательно». А потом так говорить и так улыбаться у Аллы Балтер перестанет хватать сил. Он успеет ее подхватить. Понесется по врачам, попробует лечить за границей, обратится за помощью к людям, читателям популярной газеты «Комсомольская правда», отыщет лучших врачей во всем мире, повезет ее на консультации.
«Три года мы боролись. И каждый год заканчивался победой. И Аллочка опять возвращалась в профессию, играла спектакли. Три года…» – говорит он. Достает сигарету. Закуривает. Отпивает воды. Молчит. Затягивается. Еще молчит. И как будто ощупывает себя изнутри: удалось ли не заплакать? Удалось. Не заплакал. Продолжает: «Три года мы боролись, а потом не смогли. Я хорошо помню, как наступила катастрофа. Это был спектакль по пьесе Горина «Чума на оба ваших дома». Мы играли с Аллочкой. Должны были танцевать с ней: по пьесе я возглавлял семью Монтекки, она – Капулетти. И вот была такая сцена: танец глав семейств. Танец плавный, там не было никаких резких движений. Но вдруг в какой-то момент я почувствовал, что просто держу ее на руках, она не может стоять. Отказали ноги. Но она доиграла спектакль. Вызвали врачей во время антракта, они вкололи ей обезболивающее. И всё следующее действие ребята просто держали ее под руки. Делали вид, что как будто ведут госпожу. Больше на сцену она не вернулась. Из театра в одну больницу, потом в другую».
Потом Аллочка попала на Каширку. 21-й этаж. Она говорила ему, что ей нравилось видеть небо из окон палаты. А он отремонтировал палату, в которой она лежала. Такое было время. «Да, такое было время, – повторяет Виторган. – Время, время. Палату отремонтировал. Как она для меня. Только спасти ее, как она меня, не смог».
Я благодарю Бога, что он в очках. Не хочу видеть слез. Он говорит: «Простите». Вытирает очки. Надевает. Беззвучно взмахивает рукой. И продолжает говорить так, словно в этой комнате уже нет никого. Словно он остался один, наедине с кем-то, кому непременно надо все объяснить: «Я готов был отдать свою жизнь за то, чтобы Аллочка жила. Готов, готов… Но так нельзя. Так не бывает. Поменяться не выходит. Она угасала, а мне оставалось жить, жить, жить».
Вспомнит, что человек, который его оперировал, который пытался помочь Аллочке, академик Давыдов, потом возглавил Каширку. Что они часто встречаются до сих пор, и что именно он, Михаил Иванович, оперировал Ирину. Ту, что 15 лет назад стала спутницей жизни Эммануила Виторгана: в этой причудливой логике случайностей и совпадений рака запутается кто угодно.
Спустя несколько дней я беру интервью у Ирины Виторган. И не успею даже задать вопрос, как она начнет с той же точки, на которой мы закончили разговор с Эммануилом Гедеоновичем. «Я помню, мы с ним приехали в реабилитационный центр, к Аллочке, – говорит она. – Эммануил вышел, я сидела в машине, ждала. Прошло больше часа. Он вышел из центра. Подошел к машине, со всей силы ударил по капоту и закричал: «Я не могу больше так!» И заплакал».
Плачет теперь и она. Такие воспоминания люди обычно стараются не ворошить. Но согласие – их обоих согласие – на интервью заключалось в том, чтобы по возможности полно рассказать свою историю.
«Когда Аллочке было совсем трудно, то забота о ней требовалась постоянная, а у меня съемки и репетиции, которые нельзя было отменить, – говорит Виторган. – Но я готовил Аллочке обеды, да-да, всё готовил и привозил. И вдруг позвонила Ирина, она была старинной подругой нашей семьи. Мы с Аллочкой познакомились с ней много лет назад в Сочи, на «Кинотавре». Так вот, Ириша вдруг неожиданно – года четыре мы не виделись – звонит и говорит: «Давай я тебе машину дам». У нее была машина с водителем, у нее было свое агентство по визам. Я говорю: ну, если сможешь, давай. Потому что ездить в общественном транспорте было сложно и долго, и зритель уже узнавал, доставали ужасно: «А что это вы такой мрачный? А что это вы уставились в стекло, на нас не смотрите?» Я думал: какое ваше собачье дело до моей кошачьей жизни?! Или наоборот. А на такси мне бы не хватило никаких денег туда-сюда мотаться каждый день. В общем, я воспользовался этим предложением».
Ирина помогала Виторгану ухаживать за Аллой: машина, горячие бульоны, другие важные мелочи. Сама прооперированная онкобольная, она понимала: в палате у Аллочки он старается, держится молодцом, а здесь, снаружи, ему самому совсем не за что держаться. «Когда Аллочка ушла из жизни, то для меня лично, я так думал, нет никакого смысла продолжать эту чертову жизнь. И я замкнулся в доме. Я вырвал телефонный провод, чтобы не отвечать на звонки, не открывал дверь, не выходил на улицу. Я решил, что ни в чем больше нет никакого смысла. Максимка (сын Эммануила и Аллы Максим Виторган. – К. Г.) вырос, Аллочка ушла – больше ничего нет. И не будет. И… пора уже заканчивать с этим моим пребыванием на свете…» – говорит Виторган.
Появляется Ирина: «Эмма очень сильный мужчина, он очень достойный человек, и то, что он пережил, находясь рядом с Аллочкой, и то, что он делал, чтобы она осталась жива, вы не знаете. И никто не имеет права осуждать его, судить его, говорить что-то за его спиной».
Теперь они говорят вдвоем. Не друг с другом, а со мной. Но это – очевидно – двойное интервью. Им не нужны вопросы. Им давно требовалось рассказать свою историю.
«Ирочка все-таки пробилась сквозь всё и вся. И благодаря ей я понял, что человек не имеет права распоряжаться так своей жизнью. Он должен уходить из нее тогда, когда человек должен уходить из жизни. Это она вытащила меня. Ирочка, сама пережившая рак, смогла вытащить меня, почти не пережившего рак Аллочки. Знаете, Катя, давайте, пожалуйста, на этом и закончим. Очень трудно».
Мы, конечно, закончим. Я встану и, поблагодарив, уйду как можно скорее. Случайно пройду пешком почти всё Садовое кольцо, пытаясь уместить в голове всю эту полную случайностей и совпадений жизнь. И не смогу. Объяснить это спустя пару дней мне попытается Ирина Виторган, по телефону, в полуночном звонке: «Так сложилась жизнь, Катя. Это такая жизнь, которая была уготована нам, такая линия судьбы. Знаете, Эммочка говорит часто: «Аллочка меня вытащила, а я не смог». Я всегда молчу в ответ. Ну что тут скажешь? Хотя, поверьте, я как никто другой знаю: он делал больше, чем мог. Он делал больше, чем мог бы кто-либо другой. Он был готов умереть. Но я стараюсь с ним об этом не говорить. Мы, два бывших раковых больных, вообще, если честно, очень редко говорим об этом. Просто не говорим. Если начать говорить, можно чокнуться, сойти с ума и захлебнуться в слезах. Но ведь надо жить? Надо? Я себя всё время убеждаю: надо. Да, был рак. У него, у меня. Прошло и прошло, как и другие болезни, как и другие ситуации в жизни. Когда ты встречаешься с этой болезнью, ты переосмысливаешь свою жизнь. Ты как будто выучиваешься смотреть на нее со стороны. И тогда кажется, что ты с этой стороны, а все остальные совершенно с другой. И они никогда тебя не сумеют понять. Они этого никогда не переживали».
Эти три истории болезни, соединившиеся в судьбу, молчаливыми тенями живут рядом с ними. Две жизни из трех они выиграли. С точки зрения статистики, не так уж и плохо. Но статистика никого и никогда не умела утешить. Просто жизнь, как они говорят, разбилась на две половины: до и после. И никогда не угадаешь, на какой из этих половин остался страх. Страх в отличие от рака не лечится.
Глава 31
Ну вот, собственно, и все. Я в трансплантационном аквариуме. За стеклом. Как рыба. В полнейшей тишине. Ко мне вовнутрь не проникают ни запахи, ни звуки. Я лежу привязанная капельницами к бутылочкам с жидкостью, которую вливают в меня. Бутылочки меняют медсестры. Они входят в мой аквариум полностью экипированными: шапочка, маска, резиновые перчатки, стерильный халат поверх обыкновенного.
В такой же экипировке на осмотры приходит доктор Капитолина Николаевна. Шутит. Старается держать меня в тонусе. Я стараюсь соответствовать. По-моему, у меня не очень получается. Я не соответствую. Я боюсь. Самый главный и самый неуютный страх – полное ощущение оторванности от жизни.
Жизнь идет где-то там, люди ходят, смеются, любят друг друга, строят планы, а ты на другом берегу. Ты ни в чем не участвуешь. Ты можешь только смотреть. Жуткое ощущение того, что время замедляется. Гнетет еще и бытовой дискомфорт: нельзя мыться, только протирать себя, постоянная тошнота, боли в животе, в пояснице. Если честно, то болит вообще всё. Хватаюсь за свой «Антирак», а читать не могу. Всё плывет перед глазами. Там, на воле, я бы попросила почитать дочь. А сюда, в аквариум, ей нельзя. К тому же, как это ни странно, при жутком, сосущем под ложечкой одиночестве раздражают любые звуки. Да, собственно, всё раздражает. Но главное – страх. И этот страх тоже раздражает. Боюсь и злюсь на себя, что боюсь.
Выйдя на финишную прямую своего сражения с раком, Панина словно бы опять оказалась в самом начале пути. Только вопросы теперь были конкретнее и жестче: а если ничего не получится? Если всё пойдет насмарку? Если случится сбой?
Первый сбой случается за два дня до запланированной пересадки. Женя уже в отделении трансплантации, подготовка идет полным ходом, вдруг – обыкновенная простуда. Но это только так звучит «обыкновенная». В ее ситуации простуда – это чрезвычайное происшествие, грозящее нарушить все стройные планы, которые только и удерживают ее в состоянии равновесия, позволяют надеяться. Планы короткие и понятные. Точнее, план пока один: встретить Новый год дома. Для этого надо всего ничего: перенести трансплантацию не позднее середины декабря и восстановиться за две недели. Вместе с доктором Капитолиной Мелковой пациентка Панина рассчитывает этот декабрь 2010-го по неделям, дням и даже часам, заставляя себя усилием воли поверить: надо просто пережить этот декабрь.
Вдруг просыпаюсь – насморк. Первое желание почти детское: никому ничего не говорить. Но приходит Капитолина Николаевна: «Это что? Сопли?!» Сопли. Сопли, черт возьми. Неужели они разрушат все мои планы? Капитолина подливает масла в огонь: «Ну что, сопливая, или перенесем всё на после Нового года. Или у тебя есть два дня. Поговори со своим организмом, пусть он тебе поможет уехать домой на праздники».
Я говорю, я заклинаю: «Господи, пожалуйста, пусть сопли уйдут». И горько и смешно: просить Всевышнего про сопли. Но для меня сейчас нет ничего на свете важнее этих соплей. Так интенсивно от простуды я не лечилась никогда.
Простуда отступила. Она выдохнула: организм слушается, слышит, значит, всё в порядке, он с ней заодно. Доктор подтвердила пересадку. Накануне трансплантации Евгению переводят в отделение реанимации – высокодозная химиотерапия. Во время процедуры надо всё время держать во рту лед. Медсестра спрашивает: «Хотите, заменим лед на что-то вкусненькое? Например, мороженое или сорбет?» Женя просит мороженое. Медсестра приносит, подбадривает: «А вы смакуйте и думайте, что это такой специальный десерт, что у вас сегодня праздник. Ну, какой может быть праздник 11 декабря, придумайте себе что-нибудь, а?» И тут ее осеняет: сегодня же 11 декабря. День рождения старшей дочери Софьи. Она совсем заблудилась в этом медленном заколдованном времени своей болезни.
11 декабря. Сонин день рождения. Полтора часа во время высокодозки ем мороженое. Думала ли я когда-нибудь, что так отмечу день рождения своей первой доченьки? Нет. Конечно, нет. О чем я думаю? Думаю о том, что со временем в жизни каждой мамы дни рождения детей становятся главнее собственного дня рождения. И это, наверное, нормально. Думаю, как выйду и расскажу Соне о том, как я отметила ее праздник. Посмеемся… Может быть, даже мороженого поедим вместе.
О! Я начинаю опять думать о будущем! Здорово. С той секунды, как я это осознала, всё как будто бы идет легче.
Справедливости ради надо сказать, что именно этот ее план – поесть мороженого с дочерью – не осуществится. С того памятного 11 декабря 2010 года в реанимации Женя не ест мороженое, просто видеть его не может. Пожимает плечами: «С другой стороны, не такая уж высокая цена, правда?» Правда. Я спрашиваю: «А как сама трансплантация прошла?» Она растерянно улыбается. Об этом нет ни слова в ее дневнике. И мы никогда, встречаясь, не говорили с ней об этом. Застигнутая врасплох прямым вопросом, она почти прошепчет: «Катя, я не помню, представляете? Сама трансплантация прошла в тысячу раз легче и незаметнее, чем ее ожидание. И я ничего не помню. Помню только до и после. Парадокс, но это именно так».
С точки зрения технологии, пересадка костного мозга действительно не запоминающееся событие: похоже на простое переливание крови. Важно только то, что было до, и то, что будет после.
Через две недели после трансплантации, 27 декабря, пациентку Евгению Панину выписывают домой. Правда, не с первого раза: обмороки, головокружение, повторная госпитализация на два дня. Но вечером 30 декабря строго в соответствии с собственным планом Женя возвращается домой. По дороге домой, по пути из машины в подъезд, в лифте и, наконец, открывая ключом дверь в собственную квартиру, твердит себе: «Я дома. И это уже навсегда. Главное – не бояться».
30 декабря. Я дома. Поверить не могу. Я дома. Сама себе повторяю: всё самое страшное позади. Господи, я дома. Не может быть, но я дома. Врачи сказали: на Новый год никаких посторонних. Только муж. Даже детей нельзя, не говоря уже о внуках: опасна любая инфекция, простой вирус может меня убить и перечеркнуть весь этот длинный путь. Я соглашаюсь. С изумлением понимаю, что я как раз мечтала о таком Новом годе. Миша и я. Боже мой, неужели столько всего должно было произойти, чтобы я захотела этого простого уютного счастья? Этого огромного счастья. Настоящую елку нельзя. Наряжаем искусственную. Но Миша принес домой веточку, для запаха. Я вдыхаю этот сладко-горький запах так, как будто это еда. Я сижу рядом с этой еловой веточкой и не могу на нее налюбоваться.
В полночь Миша наливает нам два бокала шампанского. Мы чокаемся и, не говоря друг другу ни слова, просто глядя в глаза, отпиваем. Я счастлива. Боже мой, я никогда не была так счастлива.
Эти первые десять дней наступившего 2011 года она, кажется, летает по квартире, совершенно забыв думать о том, сколько всего ей и ее близким пришлось пройти и пережить, чтобы эти десять дней оказались возможными, случились в ее жизни. Заглядывать в будущее она не торопится: потом, потом, пусть пройдет хоть немного времени. Жене хочется, чтобы наступившая, дарованная ей жизнь остановилась теперь, как стоп-кадр, сделалась герметичной, не пропускающей ненужные мысли, проблемы, необходимость узнавать новости и принимать решения.
Ей нравится открывать воду в кране, наполнять чайник, смотреть в окно, просыпаться по утрам и надевать халат и тапочки. Ей нравится смотреть в зеркало: она даже, кажется, подобрала удачный платок на голову, да и волосы стали отрастать смешным светлым ежиком. Ей нравится запах зимы из форточки и еловой веточки в комнате. Ей нравится читать книги, перебирать и примерять платья (о, как прекрасно, что за время болезни она похудела!), пробовать на вкус не больничную еду, болтать по телефону. Единственный вопрос, на который ей не нравится отвечать: «что дальше?»
11 января 2011 года Евгении Паниной надо снова ехать в Онкоцентр на Каширском шоссе. Назначено первое после трансплантации обследование. После него скажут: подействовала пересадка или нет, прижились ли клетки, как прижились? Какие шансы на будущее?
Однако новая, забаррикадировавшаяся в своем доме Панина не хочет теперь даже слышать ни про какие шансы. Она хочет просто и спокойно жить без лишней информации. Зачем всё это? Зачем опять туда возвращаться, когда сейчас, казалось бы, всё так прозрачно, легко и хорошо?
Утром 11 января она откроет глаза и поймет: герметичного счастья не бывает. Остановить время не получится. С этим раком, который был, с этим страхом, который есть, с этим будущим, которое не угадаешь, ей теперь надо научиться жить.
Отвечая на извечный вопрос онкологических пациентов: «Как долго продлится мое лечение?», ни один доктор не понимает до конца, что имеют в виду больные. Как правило, пациенты хотят знать: когда наступит (и наступит ли) тот момент, когда раку больше не останется места в жизни? Когда уйдет страх, когда перестанут тревожить воспоминания? Когда не просто в лечении, а в ощущении себя человеком, который лечится, может быть поставлена точка?
Жене до этой точки далеко. Мало того, в ее случае, как говорят врачи, никакой окончательной точки поставлено быть не может: до сих пор от миеломной болезни не придумано никакого окончательного лечения. Значит ли это, что она теперь всю жизнь будет ходить под угрозой возвращения рака, или однажды болезнь «отпустит» ее, позволив жить беззаботно? Как это произойдет? Можно ли такой момент почувствовать, запомнить? Я спрашиваю об этом Лайму Вайкуле, пациентку с двадцатилетним стажем. Честно говоря, спрашиваю дежурно, не сильно рассчитывая на полезный для Евгении Паниной ответ. Хотя спрашиваю по просьбе Жени, которой очень нужны примеры из жизни. «Необходимы примеры от тех, кто прошел этот путь до конца», – говорю я Лайме Вайкуле в ответ на вопросительно поднявшиеся брови. «Это очень странный вопрос, потому что он очень точный, – говорит она. – Этот вопрос задал человек, который знает, что значит болеть. Я поняла, что это БЫЛО и ПРОШЛО, совсем недавно, пару лет назад. Раньше всё было как будто бы на живую нитку нанизано. Стоит устать, выпить, расслабиться, и вот оно – мой рак. Он здесь. Он непременно вернется. Он караулит меня где-то рядышком, за углом. Дышит в затылок».
Она сглатывает. И я почти физически ощущаю этот страх. Страх человека, за которым по пятам идет его рок – его рак. И, глядя на Лайму Вайкуле, ёжащуюся от воспоминаний об этом страхе, вспоминаю кадры из программы «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. В начале 2000-х Пушкиной впервые удалось уговорить Лайму Вайкуле на всю страну рассказать о болезни. В той программе Лайма практически выжимала из себя каждое слово. И ощущение от просмотра было странное. Страшное. Я тогда не поняла, что именно произошло на съемках. И была удивлена, когда на следующий день после выхода этой телепрограммы люди, не следящие за карьерой певицы, обсуждали со мной и между собой: «Надо же, какая Лайма отчаянная. Не побоялась». Теперь я лучше понимаю, что тогда так потрясло незнакомых с ней лично людей: во-первых, сильная и неуязвимая Лайма Вайкуле может быть слабой. А во-вторых, рак – это не ее личный прокол. Это просто факт в биографии. Кажется, это и ей было важно понять. И принять.
Я спрашиваю Лайму: «На откровение Пушкиной вы решились для того, чтобы вернуться к себе, прежней?» Она улыбается: «Катя, вы меня поймали. Я сама никак не могла понять, как Оксане удалось меня уговорить. Теперь думаю, что да, от страха того, что я больше никогда не смогу быть самой собой. Я никак не могла поставить точку в этой истории. Мне нужно, видимо, было сделать это как-то заметно. И для себя. И для всех. Чтобы некуда было отступать».
В той программе она не вдавалась ни в какие подробности, просто ровно и хронологически точно рассказала историю болезни, в основном объясняя поклонникам, куда она так надолго исчезала, почему, казалось бы, блестящая карьера в Америке оборвалась. Теперь удивляется: «Я даже не могла себе представить, какое это впечатление произведет на людей. Я была потрясена. Когда вышла передача, я была как раз в Москве. И вот меня останавливает швейцар в гостинице. Швейцар, представляете? И говорит: «Лайма! Я ничего не знал! Разрешите пожать вам руку. Спасибо, что вы рассказали». И звонило огромное количество людей. Они все говорили, что это придало им сил. Поверить не могу, мой пример кого-то вдохновил. А я ведь считала себя просто частным случаем. Я сама искала сил хоть каких-то, хоть где-то, может быть, даже в этом телевизионном эфире».
Она не рассказала об этом в передаче. И, конечно, не рассказывала на бегу людям, благодарившим ее на улице или на концерте за смелый поступок. А теперь вспоминает: «Страх ожидания того, что болезнь вернется, что от нее теперь никогда не избавишься, что это с тобой на всю оставшуюся жизнь, вот этот страх едва ли не больше страха смерти, страха самой болезни. Я никак не могла рассказать дома о том, что со мной произошло в Америке. Просто вернулась. Просто попыталась начать жизнь с чистого листа. По возможности тихо. Домашние тоже запуганно молчали. Им ничего не было понятно. Они, мама и сестра, узнали только через год, да и то случайно. Рига город маленький. Я просто пошла на проверку в наш онкологический центр, а моей сестре через третьи руки кто-то передал: «Ты знаешь, а ведь Лайма была у онколога. Наверное, у нее рак…» Помню, как сестра пришла домой в слезах, спрашивает: «Лайма, это правда, что ты болеешь?» И вот тут я впервые сказала о своей болезни в прошедшем времени: «Болела. Но теперь – всё». Мы обнялись и рыдали, кажется, несколько дней напролет. Это было первым шагом к освобождению. Передача была уже потом».
Я понимаю, что этот ее ответ – всё равно не ответ. Один шаг, другой – это всё равно не окончательное решение вопроса, не точка. Мне приходится вернуть ее к началу разговора: «Так когда же стало понятно, что всё, что рака в вашей жизни больше нет, что вам больше не страшно?» Отвечать ей не хочется. И она уточнит: «Вы уверены, что эта информация точно нужна пациентам, что им это будет в помощь?» – «Конечно, уверена, они всегда об этом спрашивают». – «Да, наверное, я бы тоже хотела услышать что-то в этом роде лет 15 назад. Это помогло бы составить план. Всё могло бы пройти легче». И она заставляет себя вспомнить всё заново: «Лечение длилось, наверное, лет десять. Вначале само лечение: операция, радиация, химия – это, наверное, полгода. А потом страх. Каждые три месяца проверки, потом каждые полгода проверки, потом – каждый год. И так примерно семь лет постоянного, держащего за горло страха. А потом он ушел. Вот так взял и ушел. Это, наверное, совпало с той передачей у Оксаны. Но до сих пор, а прошло уже почти 20 лет, перед каждой проверкой обязательно надо помолиться: «Господи, не допусти». Сходил, проверился, убедился. И отпускает. Но до сих пор, Катя, до сих пор, знаете, если вдруг что-то где-то идет не так, что-то болит, какое-то недомогание, встать с утра тяжело – все воспоминания немедленно встают перед глазами. В общем, я теперь понимаю, что это на всю жизнь. Это как удар током, который легко вспомнить по ощущениям и который всегда вспоминаешь при схожих обстоятельствах. Наверное, это похоже на то, как маленьких щенков учат: если они что-то не то делают, их – по попе ремешком. А потом чуть что: просто бросаешь рядом с собакой этот ремень, и собачка шелковая. Вот так меня жизнь надрессировала. Я свое «фу» запомнила на всю жизнь. Навсегда».
Договорив это, она почти сразу встает, не глядя ссыпает в сумку всё, что успела разложить на столе, смотрит на часы, театрально ужасается и на пути к выходу из ресторана сообщает: «Невероятно, мы тут четыре часа почти сидим и говорим о моей жизни! Я на концерт сейчас опоздаю». Я не хочу так заканчивать. Это неправильная точка. Я хватаюсь за соломинку: «У вас новая концертная программа? Вы знаете, к вам наша Женя сегодня придет на концерт». Она улыбается, разумеется, раскусив хитрость: «Мы поговорим после концерта. Просто попьем чаю?» – «Да». – «В каком ряду будет сидеть Женя?»
Иду по коридору с опущенной головой. Не хочу ни на кого смотреть. Боюсь вернуться в ЭТУ реальность. Уговариваю себя дойти до кабинета, узнать про анализы, поговорить с врачом и сразу домой. Что бы она мне ни сказала. Домой, домой.
Доктор скажет: «Всё хорошо. Трансплантация прошла успешно». И совершенно неожиданно для себя Женя спросит: «А что дальше?» И неожиданно для всех в этом кабинете добавит: «А когда мне можно выйти на работу?» Ее дочь, вместе с мамой пришедшая на этот важный в истории болезни прием, остановит Панину: «Что значит на работу? Ты же собиралась сидеть дома и никуда не ходить! Мама, не ходи, побереги себя, пожалуйста». Но Евгению уже не остановить. Сама возможность полноценной жизни, ее дыхание и ее очевидная перспектива кажутся ей истинным смыслом всего этого лечения. И она прямо спросила доктора: «А что меня ждет?» Большое счастье, что доктором, отвечающим Паниной, была Капитолина Мелкова.
«Возврат болезни, в частности рака, такое событие, которое может случиться, а может – нет. Если человек живет, постоянно думая о том, что может заболеть и от этого умереть, то фактически он сам себе сокращает полноценную жизнь, он ее портит, – полагает Мелкова. – Человеку в период ремиссии (я специально говорю «человеку», не «пациенту», он ведь перестал быть «пациентом»; навсегда или на время, покажет жизнь), даже если доктор еще не сказал: «Вы окончательно излечились», но он хорошо себя чувствует, у него нет признаков заболевания, надо понимать – это и есть жизнь. Это не жизнь после или во время рака, это просто жизнь. Надо быть бойцом. Поднять голову и вернуться в эту жизнь, окунуться в нее с головой. Вести абсолютно полноценный образ жизни. Инвалидность после рака – это недоразумение. Но страшна не формальная инвалидность, а инвалидизация, которую пациент сам себе приписывает. У меня был больной, ему было 39 лет, он пережил очень тяжелую пересадку, был 2002 год, и он при выписке сказал: «Ну вот, теперь мне нельзя есть, пить, отдыхать, с женой общаться…» И так далее. Чушь собачья! Мы лечим для того, чтобы человек всё это мог делать, чтобы он жил максимально полноценной жизнью. Он должен жить нормальной жизнью. Он не может – он должен. Есть ряд заболеваний, когда человек может вылечиться, и ряд заболеваний, когда может наступить рецидив, то есть болезнь вернется, но никто не знает когда. И это так же, как мы с вами не знаем, когда мы умрем. Но мы же не думаем каждую минуту о том, что вот будете переходить дорогу и что-то случится».
Я слушала Капитолину, и внутри меня росло доселе неведомое мне чувство: в споре поставлена точка. В моем споре с теми, кто говорил, что надо уволиться, убежать, исчезнуть, если у тебя рак. В моем споре с самой болезнью. Я не считаю себя победителем. Просто пока по очкам я выигрываю этот спор. Я, конечно, понимаю, все зыбко. Доктор говорит, что рак, возможно, вернется. В этом случае мне предстоит еще одна пересадка. Но только одна-единственная, потому что моих клеток осталось только на одну трансплантацию. Это, конечно, угнетает. Но. И это «но» очень важное. Я твердо знаю, что излечиваемость от моей болезни 0–3 %. В самом начале мне казалось, что это невероятно мало. В рамках казуистической погрешности. Теперь я твердо верю, что этого достаточно. По крайней мере, для того, чтобы я сама стала этим самым «казуистическим» случаем.
Из кабинета своего лечащего доктора она выйдет уверенной походкой, с высоко поднятой головой. Пойдет по коридору и как будто новыми глазами увидит отделение, где лежала, Онкоцентр, которого боялась, московскую зиму, которую никогда не любила. Перешагнув порог дома, тут же бросится к телефону. Наберет номер своей приемной, она ведь главный врач, чтобы сказать секретарю: «Через три недели я выхожу на работу». Изумленная помощница взволнованно уточнит: «Правда?» И тут же добавит: «Приходите скорее. Мы очень, очень вас ждем».
«Ты представляешь, он сказал записаться в спортзал, сходить к косметологу и где-нибудь обязательно вкусно поесть», – почти кричит в телефон только что вышедшая от доктора Ласкова пациентка. «Нет, Лен, он не сказал, что я здорова. Но он сказал, что всё можно. В хороший ресторан, да. Ну, он название не сказал, но сказал, что бокал-другой мне не повредит», – говорит она. Прием у Ласкова произвел на нее явно ошеломляющее впечатление. Она пересказывает его во всех подробностях подруге, сидя прямо на ступеньках клиники и размахивая руками: «Сказал, что ерунда, что я тебе рассказала. Вообще могу всем рассказывать, это нормально. Только не надо себя жалеть. И менять образ жизни не надо. Сказал, что могу работать столько, сколько смогу». Пауза. «Да не чувствую я, что у меня нет сил, Лена, я сколько раз тебе уже говорила, не чувствую!» В сердцах бросает трубку. Упирается в меня взглядом: «Ну, вы представляете, не верит. Все кругом думают, если у меня рак, значит я сразу должна лечь пластом и лежать, дожидаясь конца. А у меня сил как у коня, между прочим. А у вас?» Честно признаюсь незнакомке, что устаю. Но я не пациентка Ласкова. Просто жду встречи с доктором. Собеседница понимающе: «Дождитесь! Не пожалеете! Мировой мужик. Он первый, после приема у которого я действительно поверила, что буду жить, а не зачахну под грузом килограммов лекарств».
Уже темнеет, когда у доктора клиники амбулаторной онкологии и онкогематологии заканчивается прием. И у Михаила Ласкова наконец находится время поговорить.
Прежде всего спрашиваю: зачем ему, успешному доктору, стажировавшемуся в Royal Marsden Hospital (Лондон), отделении детской онкологии Children Hospital Los Angeles, паллиативной службе госпиталя «Хадасса» (Иерусалим), прежде работавшему в крупнейшем онкоцентре страны (РОНЦ им. Н. Н. Блохина), ведущему постоянный прием в одной из самых успешных российских коммерческих клиник EMC, вдруг понадобилось открывать собственную клинику, да еще такую, где нет ни операционных, ни стационара – три врачебных кабинета, регистратура, минимум персонала. Отвечает обстоятельно: «Понимаешь, мы не можем изменить существующую систему здравоохранения в стране. То есть могли бы, наверное, но тут нужно кое-что много большее, чем мое или твое желание. Однако мы можем создавать вокруг себя мир, в том числе и профессиональный, системный, отвечающий нашей системе координат. Что такое работа онколога? Это всегда работа в команде. Если передо мной сидит пациент, то на меня работают еще 100 человек. Я ничего не смогу сделать без рентгенолога, который посмотрит КТ, и лучше, чтобы рентгенолог был хороший. Частенько я никуда не могу двигаться дальше без опытного квалифицированного хирурга, который в нужное время правильно и технологично сделает операцию. Я как без рук, если нет эксперта в молекулярной генетике, я не обойдусь без эксперта в патоморфологии. Я перечислил только самые важные пункты. Без команды любой онколог бессилен. На сегодняшний день наличие такой команды в любом отечественном учреждении здравоохранения – мечта прекрасная и недостижимая. Не реальность, а именно несбыточная мечта. У нас часто диагноз ставят в одном месте, химиотерапию проводят в другом, оперируют в третьем. При этом несколько десятков специалистов, имеющих отношение к одному конкретному пациенту, довольно часто не знакомы между собой и не имеют никакой связи друг с другом, то есть не обсуждают ни динамику, ни стратегию. Пациент на ватных ногах перемещается по огромному городу и слушает разрозненные рекомендации. Разумеется, идеальным решением проблемы было бы создание единой структуры, объединившей всех этих врачей в одном месте. Так выглядит стандартная университетская онкологическая клиника в прогрессивном государстве. У нас такого, за редчайшим исключением, нет. Увы, я не могу назвать ни одной клиники в России, где представлены все хорошие или хотя бы неплохого, среднего уровня специалисты западного масштаба. Но лично я, врач Михаил Ласков, знаю большое количество специалистов, хороших специалистов, вызывающих у меня доверие, в тех областях, с которыми мне приходится взаимодействовать во время лечения каждого конкретного пациента. К сожалению, они работают в самых разных медицинских учреждениях. Я долгое время жил с бесчисленными звонками в телефоне, когда друзья и знакомые, знакомые знакомых спрашивали: «А найди мне хорошего пульмонолога? А посоветуй лучшего хирурга? А кто, по-твоему, самый грамотный гематолог?» И так далее. В какой-то момент я понял, что представляю собой уже не просто врача, но какой-то колл-центр. И этот ресурс надо использовать».
Так была создана клиника, в которой прием действительно ведут три уже знакомых нам с вами доктора. Каждый ведет прием или оперирует в каких-то других больницах. А еще постоянно и много читает, стараясь быть в курсе последних достижений медицины. Все вместе это, если можно так выразиться, сетевой экспертный центр: принимая пациента, начиная его лечение, Ласков со товарищи берутся за его экспертное сопровождение. «Мой пациент пойдет только к тому хирургу, с которым я предварительно поговорю, КТ ему будет делать специалист, которому я много лет доверяю, – говорит Ласков. – И даже если, не дай Бог, мой пациент сломает ногу, то со мной как с онкологом в первую очередь будут советоваться о том, как и что с ним делать».
Так на самом деле должна быть устроена медицина в XXI веке. Знания, командный принцип работы и доверительные отношения с пациентом без жесткой привязки к стенам, бренду, организационно-правовой форме.
За окном уже почти ночь. Мы подходим к метро, пьем кофе из пластиковых стаканов. И я вдруг начинаю хохотать, вспомнив о воодушевленной пациентке на крыльце клиники. Спрашиваю Ласкова: его совет девушке заняться собой – это действительно из области медицины или просто фигура речи?
Ласков довольно улыбается: «А ты как думаешь? Посмотри на нее: она полна сил, она не парализована, она любит жизнь, она хочет жить. Было бы непрофессионально и даже безнравственно сейчас зажать ее в угол весом и неотвратимостью диагноза. Это ее сломает. И мы получим очередного пациента с вытянутым бледным лицом и безжизненными глазами, в которых нет надежды. Пациент без надежды – самый тяжелый случай. Такого пациента очень тяжело «перетянуть» на сторону жизни. Даже в том случае, если диагноз подразумевает и полное излечение, и полноценную жизнь».
По мнению Ласкова, основная беда современной отечественной (и не только отечественной, настаивает доктор) медицины в том, что рост научно-технического прогресса и возможностей медицины сильно опережает возможности любой государственной системы. Проще говоря: увеличение продолжительности жизни онкологических больных и вылечиваемость всё большего числа онкологических заболеваний ставят систему государственного обеспечения в тупик. Прежде все были уверены в том, что пациент, победивший рак, – это чудо, единичный случай, большинство таких пациентов стремительно уходят из жизни. Теперь всё иначе. И государство не успевает перестроиться. Кем считать пациента с онкологическим заболеванием: полноценным гражданином, способным работать, платить налоги, приносить пользу семье и обществу, или полностью зависимым, нетрудоспособным, до конца дней нуждающимся в материальной и медицинской помощи? «Вот тут государство оказывается в тупике, который в английском языке называется opportunity cost (цена упущенной возможности), – хмуро говорит Ласков. – В русском языке термина такого нет, потому что наше государство еще не осознало эту проблему как таковую и даже не попыталось подступиться к ее решению. Смысл термина в том, сколько стоит лечение онкологического больного и каким образом можно сделать эти траты эффективней».
Для того чтобы лечение, страдание, выздоровление и надежду можно было перевести на понятный чиновникам язык цифр, потребуется создать медицинский регистр, точно и явно показывающий, что и как улучшает результаты лечения и выживаемости за определенный промежуток времени, и определенное количество денег, потраченных на это лечение. Если речь идет о выгоде государства, полагает Ласков, то результаты лечения онкологических пациентов можно считать в трудоспособных днях пациента, который получил диагноз, проходит лечение и, наконец, закончил его. В английском языке эта область знаний называется Public Health – здоровье общества.
«Если чиновник системы здравоохранения задается вопросами Public Health, значит, он думает не о том, как ему «заткнуть дырку» в области «онкология», а о том, что происходит со здоровьем популяции. И тут предстоит ответить на следующий вопрос: чего хочет от своих граждан государство? Чтобы люди больше работали? Или оно хочет меньше денег тратить, но чтобы они меньше умирали? Или чтобы они меньше умирали, но и меньше жили, не работая?» – загибает пальцы Ласков, допрашивая непредставимое в его крошечном кабинете государство. Но это его не останавливает: Ласков все равно дает этому государству советы: «Все эти вопросы обсуждаются с социальными службами, потому что забота о тех, кто не оправился от болезни настолько, чтобы вернуться к работе, ложится именно на социальный сектор. Когда ответы на эти вопросы будут получены, станет понятной государственная стратегия не просто в отношении нацпроекта «Онкология», а в отношении конкретных людей – онкологических больных. Готово ли общество принять их? Готово ли государство помогать им вернуться? Готовы ли мы все тратить невероятное количество денег на лечение, становящееся с каждым годом дороже, но качественнее и действеннее?»
Доктор не может произнести вслух, но становится очевидным: возможности медицины теперь сильно превосходят возможности государства. Люди, которые прежде умирали в первые полгода – пять лет после постановки диагноза, теперь могут жить несоизмеримо больше. Но на их лечение придется потратить значительно больше тех средств, что государство готово тратить. А значит, качественное лечение онкологических больных, возможно, убыточная статья, объясняющаяся только степенью гуманистической ориентированности государства. Или все же инвестиция? Так вопрос распределения финансов становится этическим: долгая жизнь неработающего человека обходится дорого.
Мы спускаемся в полупустое метро. Пережидая шум поезда, спрашиваю: «Действительно ли современная онкология движется в сторону индивидуально подобранного лечения, которое, возможно, понадобится пациенту всю жизнь?» Ласков отвечает: «Современная противоопухолевая терапия движется от органа в сторону гена. То есть сегодня важно, что рак не в легком, а в печени, а будущее за тем, чтобы понять, что за мутация случилась, как и почему что-то в организме пошло не так. В этой связи нас ожидает всё больше и больше вариантов лечения, которые будут подбираться под пациента. Приведу пример: если раньше, например, рак легких лечился вариантами А, Б и В, то в течение 10 лет будет А, Б, В, Г, Д, Ж, З и еще, возможно, И. Сами пациенты и их заболевания будут делиться на всё более мелкие подгруппы, для каждой будут придуманы свои фишечки, дробление болезней будет связано с молекулярными признаками. Но это совершенно не значит, что мы каким-то образом приблизились к вопросу, который все хотят задать: «А когда-нибудь мы вылечим рак?» Черт его знает. Думаю, что скорее всего нет. Но будет лучше. С этим действительно можно будет жить, работать, любить, возможно, рожать, и уж точно – воспитывать детей и внуков».
Приходит поезд. «Мне пора, – говорит Ласков, – а то пропущу электричку». Каждый день на дорогу от дома до работы и обратно Ласков тратит не меньше четырех часов. «Это мое личное время на размышления», – любит отшучиваться доктор.
Глава 32
Как быстро наступил этот март. Я так привыкла считать недели и дни до выписки, что почти разучилась жить на воле, в обычном режиме. Какое здесь, оказывается, быстрое время. Как бежит, убегает. Никак не могу подстроиться, научиться идти с ним в ногу: всё мелькает. Но это, несомненно, лучше, чем глядеть в белый потолок и бесконечно гнать себя по кругу одних и тех же невеселых мыслей.
Итак, март. После трансплантации прошло два месяца. Я больше месяца работаю. Тяжело, трудно, очень тяжело, очень трудно. Иногда ловлю себя на том, что начинаю говорить и забываю, что только что сказала. Страшно. И внутри себя страшно. И страшно кому-то сказать об этом. Стараюсь не показывать виду. Но всё время тайком щупаю свой пульс, проверяю: не мокрый ли лоб, украдкой смотрю на себя в зеркало – всё ли на своих местах. А дома не могу по нескольку часов уснуть, мысленно исследую организм. Всё ли в порядке. Не вернулся ли… Черт, не могу написать, даже рука не поворачивается. Нет, я смогу. Я всё время боюсь, что мой рак вернется. Проверяю себя, ощупываю, прислушиваюсь. А потом опять не могу уснуть, считаю барашков, считаю волны. Появляются новые вопросы, не имеющие моментального ответа: мне отпущено еще время, еще немного времени. Зачем? Что я должна успеть сделать? Что из этого самое важное?
Когда вопросов становится совсем много, так много, что нечем дышать, Женя сама себя одергивает: так вот же она, жизнь после рака. Та самая жизнь, в возможность которой она еще полгода назад верила не до конца. Но теперь другая проблема: теперь в этой жизни «после-всего-того-что-было» надо научиться нормально, то есть по возможности комфортно, себя чувствовать. Она учится. Пока медленно, без особого плана, аккуратно: самоучитель по английскому, заканчивающийся ремонт на даче и связанные с этим уютные покупки, переезд, ожидание лета, которое, как ни крути, всё равно рано или поздно наступит. Значит, будет дачный сезон и даже, возможно, поездка на море, не случившаяся год назад из-за болезни.
Всё это, безусловно, важно. Но Евгении кажется, что должно быть что-то еще глобально важное, что-то помимо простых бытовых человеческих радостей. Ей почему-то не верится в простоту случившегося: не верится, что эта как будто дополнительная жизнь – после рака – была ей отпущена просто так, не в обмен на что-то, не под процент и не за дополнительную плату. А просто так. Для того, например, чтобы радоваться веселому первому весеннему солнцу.
Солнце, находившееся в начале нашего интервью с Лаймой Вайкуле в зените и свалившееся в самый трудный момент разговора за горизонт, теперь сменилось большой, похожей на спелый абрикос, луной. Круглая луна отражается в темной осенней воде Москвы-реки, рассыпается тысячами осколков, отсвечивает в большом окне ресторанной веранды, падает в чашки с чаем, тает на кончиках ложек. За четыре с половиной часа, кажется, проговорена целая жизнь. «Как вы думаете, людям это действительно будет полезно?» – спрашивает она. Ответить я не успеваю. У нее звонит телефон. Лайма слушает внимательно, кивает. Говорит собеседнику: «Сейчас, минутку, я достану тетрадь и буду записывать». Спрашивает в трубку: «Какая стадия? А где лечились до этого? Какая была химия? Почему отказали в госпитализации?» Потом опять слушает. Наконец говорит: «Я понимаю, в каком вы сейчас состоянии. Но постарайтесь держать себя в руках. Вы нужны вашему мальчику. Больше ему сейчас опереться не на кого. Как только я пойму, что смогу вам помочь, перезвоню». Положив трубку, читает мне по записям в тетрадке короткую историю болезни трехлетнего малыша: нейробластома, третья стадия, врачи в России сказали, что не берутся ни лечить, ни оперировать. Нужна экспертная консультация, то есть второе мнение. Мы снова возвращаемся за стол: она так и не ушла, хотя уже пару раз собиралась. Она почти критично опаздывает на какую-то важную репетицию, с площадки то и дело звонят обеспокоенные люди. Оказывается, что незнакомый мальчик важнее. В четыре руки обзваниваем приходящие на ум благотворительные фонды, пытаясь устроить ребенка на консультацию, а значит, понять: есть ли какой-то шанс. В России или за границей. И сколько это может стоить. «Катя, если у вас быстрее, чем у меня, появится какая-то информация, как ему помочь, дайте знать, хорошо? Если понадобится моя помощь: звонить, просить, требовать – тоже звоните. И надо будет понять, сколько всё это будет стоить. В общем, держите меня в курсе». Я киваю и спрашиваю: «А откуда у папы мальчика ваш телефон?» Она пожимает плечами: «Не знаю. Очень у многих мой телефон. Почти каждый день звонят люди, которым нужна помощь. Как им не ответить? Я же понимаю, в каком они состоянии. И я прекрасно понимаю, что такое рак, я через это прошла. В каком-то смысле я могу быть проводником и помощником для этих людей. Насколько могу, я помогаю».
Уже по пути к машине она скажет: «Знаешь, мне иногда кажется, что рак был послан мне для того, чтобы открыть мое сердце. Я была очень черствой, я никого, кроме себя, не чувствовала, не понимала чужой боли. Рак вылечил эту болезнь. За это я ему благодарна».
Машина паркуется. Она уезжает. А я остаюсь, не до конца понимая: мы договорили или нет? Или до самого главного так и не добрались? Потом окажется, что мы еще будем и созваниваться, и переписываться, и дважды встретимся, чтобы договорить. Ее почта и вправду переполнена историями чужих болезней, которые теперь уже, конечно, никакие не чужие. Они – часть ее жизни. Жизни после рака.
«Мне недавно рассказали несколько историй о детях, скорее даже подростках, которые, пережив рак, выздоровев, бросаются во все тяжкие, словно проверяя на прочность жизнь. Никак не могу понять, с чем это связано?» – вдруг посреди увязшего в московской пробке разговора спрашивает Людмила Улицкая. В этот момент мы наконец вырываемся из затора на трассу. И, перестраиваясь из ряда в ряд, я прячу отсутствие ответа за водительской сосредоточенностью. Но мне кажется, он у нее должен быть. Она же вроде знает ответы на все трудные вопросы.
Ухватившись за возможность еще одного разговора, я вызвалась воскресным утром подвезти писателя Людмилу Улицкую в Кораллово, в лицей для детей-сирот, который еще до ареста построил бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Улицкая – попечитель лицея.
Мы обе знаем дорогу, но за разговором все время пропускаем нужные повороты. Хотя теперь кажется, что это не я ее, а она меня интервьюирует. Приходит в голову: ей это надо для будущей книги. Историй о том, как повзрослевшие за время болезни дети, выздоровев, испытывают жизнь на прочность, действительно много. И объяснений этому почти нет. С трудом нащупываем одно из возможных: подростки, проведшие месяцы и даже годы в больничных стенах и пережившие большие страдания, не верят в реальность того, что болезнь кончилась, а жизнь началась, не понимают смысла этой отвоеванной жизни. «Может быть, так», – соглашаюсь я. «Нет, должно быть что-то еще, что заставляет их вдруг начать себя вести безобразно, делать больно близким, рисковать собой, – качает головой Люся. – Может быть, нехватка того невероятного внимания и заботы, что были во время болезни? Ты как думаешь? Я думаю, что там, за горизонтом, нас ждет нечто совершенно необыкновенное, отсюда непредставимое. Во многом благодаря тому, что первая смерть, которую я видела в своей жизни, была прекрасна, я и нахожусь в том непоколебимом убеждении, что человеку дан шанс умереть осмысленно. Не во тьме страдания, не в ярости раздражения, не в гневе и ненависти к живым, а уйти очень хорошо. Поэтому у меня есть над чем работать».
На этих словах – умирать надо не во тьме страдания, не в ярости раздражения и гневе – у меня возник эффект дежавю. Это я, кажется, уже слышала. Господи, совершенно точно слышала. Воспоминание, как вспышка. Перед глазами залитый солнечным светом и до потолка, до невозможности дышать, заполненный дымом сигарет кабинет главного врача Первого Московского хосписа, основательницы фонда помощи хосписам «Вера» Веры Миллионщиковой. Кабинет, в который я так долго мечтала попасть, но меня не пускали: я ведь телевизионный журналист, а телевизионных журналистов Вера Васильевна не любит. «Пропуск» мне выбил друг, журналист Валерий Панюшкин: по-товарищески поручился. Вера поверила не сразу, я тогда работала на телеканале НТВ. «А о чем вы хотите снимать? А зачем вам это? А ваше начальство согласится это показывать? А где гарантия, что вы не наврете и не навредите хоспису и, главное, людям в хосписе?» – засыпала меня вопросами Миллионщикова на первой же встрече. Мы еще встретились, кажется, раз пять, прежде чем Вера Васильевна позволила мне прийти в хоспис с телекамерой. Однако, позволив, доверилась раз и навсегда. До сих пор не представляю, как она (с таким-то характером, с такой-то страстью контролировавшая всё, что касается хосписа и его людей) себя сдерживала, чтобы не руководить, не управлять и не визировать эти съемки.
Фильм о Первом Московском хосписе, первым главным врачом которого была Вера Миллионщикова, вышел на НТВ в рубрике «Профессия репортер» в апреле 2009-го. Вера Васильевна не требовала ни предварительного сценария, ни предварительного просмотра. Просто не спала всю ночь накануне эфира. Об этом я узнаю потом. Посмотрев фильм, она позвонит и скажет: «Будем дружить, вы меня не подвели».
А потом будет одно из самых странных и завораживающих интервью в моей жизни. В комнате, залитой солнечным светом и заполненной дымом сигарет, мы говорим с Верой Миллионщиковой о смерти, которая случается с теми, кому не удалось победить болезнь.
«Когда тебя побеждает такая изматывающая болезнь, как рак, главное, чтобы этому не сопутствовали три вещи: грязь, боль и унижение, – говорит Миллионщикова. – Да, дальше, скорее всего, будет смерть. Момент такой таинственный, такой непонятный, такой непростой и торжественный. Но какой он на самом деле? В то, что пишут в книжках, я не верю, ни единому слову не верю. Всем этим коридорам, свету и воспарениям. Будем умирать, узнаем, Катя, узнаем… Но совершенно ясно, что всё это – за пределами человеческого понимания. Другое дело, в силах человека сделать так, чтобы пусть даже неотвратимая смерть была достойной».
Я провела в хосписе рядом с Миллионщиковой несколько месяцев. Мне важно было понять, как это устроено, как работает. Я хотела удостовериться в том, что слова о возможности помогать тем, кого нельзя вылечить, реализуемый, а не просто красивый, рекламный слоган. В эти несколько месяцев я приходила в хоспис, как на работу, несколько раз в неделю. Иногда часами сидела на стуле в большом центральном холле под часами с боем. Иногда заходила с медсестрами в палаты, иногда торчала в предбаннике кабинета Миллионщиковой. Но чаще просто следовала размеренному ритму ежедневной хосписной жизни, которая находится в той точке, где важна каждая минута, каждая секунда. Некоторых пациентов хосписа я хорошо запомнила: одинокого доктора Владимира В., проработавшего тридцать пять лет участковым терапевтом в Перми и по воле случая оказавшегося в Москве под конец жизни. За время наших съемок его несколько раз привозили в хоспис и несколько раз выхаживали. Вера Васильевна из раза в раз встречала В. как родного: «Ну что, миленький, сейчас поднаберемся силенок и домой?» А когда она выходила из палаты, В. бормотал со счастливой улыбкой: «Я никогда никому так не был нужен в жизни». У В. была мечта: встретить Новый год в хосписе. Ну, нравились ему, одинокому, эти душевные хосписные елочки с огоньками, что в конце декабря медсестры расставляли на тумбочках рядом с кроватями пациентов. Мечта сбылась: он ушел в ночь с 31 декабря 2008-го на 1 января 2009-го. На утренней конференции Вера Васильевна удовлетворенно покачала головой: «Хорошо ушел Володя, легко и светло». И добавила про еще одну ушедшую в эти дни пациентку: «Успела дочь ее приехать. И они с дочерью успели друг у друга попросить прощения. Как это важно, да? Какая красивая смерть».
Когда мы потом оказались с ней вдвоем в кабинете, я спросила, почему она придает всем этим деталям такое значение. Ведь смерть – это окончательная точка. Она все отменяет, обнуляет, а значит – какая разница.
«Мы, Катя, ничего о смерти не знаем. Никто не знает. И в обычной жизни мы о смерти не думаем. Никто не думает, ни вы, ни я. Так нас воспитали, – сказала Миллионщикова. – Я сейчас не говорю о ежедневной погруженности в тему смерти, что, конечно, ненормально и противоестественно. Но говорю о факте принятия смерти, факте допущения смерти в обычную жизнь. Для нас, выросших в СССР, это было неприемлемо. О, какую злую шутку с нами сыграла эта фигура умолчания. Потому что жизнь, в которой не признается существование смерти, неполноценна. И глубокое заблуждение, когда умирает кто-нибудь из родителей, бабушка или дедушка, а ребенка не берут на похороны. От этого потом получается масса перекосов. Мы смерти боимся, чураемся, а ведь ее не избежать. Вопрос только в том, какой она будет. И всегда надо спрашивать себя: как я хочу умереть? Как мы хотим умереть? Если дома, то окруженные любовью, заботой, без боли, без грязи. Самое важное – с достоинством уйти из жизни, легкой походкой. Этого нет в больницах. Хотя не надо бросать камень в лечебные заведения, у них другие задачи и другие, что уж говорить, возможности. Но в случае выздоровления все обиды, которые нанесены больницей, легко забываются, ведь человек излечивается и выписывается. А когда человек оказывается у последней черты, то ничего никогда не забывается. Больной уходит, а родственники остаются, помнят, и если были обиды, чувство вины у них только растет. Это огромная проблема: работать с родственниками так, чтобы у них не осталось кровоточащей раны. Вот именно этим хоспис отличается от любого другого лечебного учреждения».
При Миллионщиковой ежедневная жизнь Первого Московского хосписа начиналась ранним утром: в холле звенел колокольчик, прикрепленный к потолку: направляясь на утреннюю конференцию, Вера Васильевна нарочно каждый раз задевала его рукой. Такой ритуал. Потом проходила в угол к своему креслу у аквариума и говорила: «Всем доброе утро! Ну, как у нас дела?» И со всех сторон начинали сыпаться истории. Например, Виктора и Татьяны, супружеской пары, чья любовь началась в классе седьмом и спустя несколько десятков лет не растеряла ни трепета, ни накала: страсть, ревность, ссоры, примирения, свидания и побеги «ото всех, куда-нибудь в глушь, чтобы остаться только вдвоем». Кажется, эти двое за всю жизнь не сумели бы насытиться друг другом. А тут рак. Его рак. Тяжелый, болезненный, непобедимый, не оставляющий шансов. Уход за ним, лежащим, беспомощным, не оставляет для них времени побыть наедине в море любви, а не в сонме бытовых проблем. Просто побыть вдвоем, наговориться напоследок. В их маленькой, почти без условий квартире выходило так: или кухня, лекарства и суета, или отыскать на свете место, где можно спокойно попрощаться.
Хосписа боялись и Татьяна, и Виктор. Татьяна, кажется, больше. Но первым человеком, который в хосписе зашел в его палату, была Вера Миллионщикова. «Курите?» – спросила. Он кивнул: «Курю, но какое это теперь имеет значение…» Она предложила: «Давайте покурим?» Он даже привстал на кровати от неожиданности предложения. Они курили, болтали, он рассказывал Вере Васильевне, как был инженером и строил дороги и мосты на Кубе, она расспрашивала про Гавану и тамошний Малекон, между делом уточняя: «Вам не больно? Как с болевым синдромом справляетесь?» Он кивал и благодарно говорил громким голосом: «Как сюда привезли, как обезболили, так прямо другим человеком себя чувствую». А потом полушепотом тайком просил ее: «Сделайте, пожалуйста, так, чтобы Танечка меньше плакала». Она кивала и обещала: «Вы не волнуйтесь, за Татьяной мы проследим. Вам точно не больно?»
Выйдя в коридор, Миллионщикова вполголоса дает четкую инструкцию персоналу: «Больной уходящий. Жене – внимание и присмотр. И валокордин. Она всё тоже понимает, но не может пока… осмыслить. Это естественно. Что еще. Он не пьет, и это ее беспокоит. Поставьте пол-литровую капельницу. Для нее больше, чем для него. И дайте им время попрощаться».
Через несколько дней Виктор ушел, держа руку Татьяны в своей. В последние, очень важные дни, часы и минуты его жизни никто из них не отвлекался на пеленки, бульоны, судна и, главное, – боль. «Ему до самого конца не было больно», – расскажет мне Татьяна. И невозможно описать, насколько для нее это было важно.
Эти три слова «не было больно» оказываются самыми важными в жизни любого, чей рак не удается победить. Именно боль, как правило, делает существование человека и его близких невыносимой, мешает осмыслить и принять происходящее, не дает возможности понять и принять неизбежное. Победа над болью – это борьба за достоинство, с тем, как победить боль, у онкологов и докторов, работающих в паллиативной системе нашей страны, как правило, самые большие, порой неразрешимые проблемы. Впрочем, до 2011 года самого понятия «паллиативная помощь» в России не существовало. Хоспис, основанный Верой Миллионщиковой, почти 20 лет существовал, а государство отказывалось официально признавать само понятие «паллиативная помощь».
Паллиативная медицина (от слова pallium – плащ, покров) занимается не болезнью, а человеком в целом, личностью.
Когда мы с Верой Миллионщиковой попробовали сформулировать, чем паллиативная медицина отличается от всякой другой, Вера Васильевна сказала: «Хирург видит в пациенте органы, история жизни пациента не нужна хирургу для того, чтобы он мог сделать свою работу. То же самое и стоматолог, и гинеколог. А вот врач из сферы паллиативной помощи не может сказать: у меня пациент с раком поджелудочной железы, потому что такая фраза убьет всю философию паллиативной помощи. Уход за тяжелобольными не так уж сильно отличается в зависимости от заболевания. Будь то рак в последней стадии или тяжелая форма сердечно-сосудистой недостаточности – симптомы приблизительно одинаковы. В хосписе ищут подход к человеку, а не изучают диагноз».
Тогда же мы с Миллионщиковой попытались сформулировать определение хосписа на русском языке. Вышло так:
Хоспис – это дом, где не спасают жизнь, но берегут ее. Главное, что должен бесплатно гарантировать хоспис оказавшемуся там человеку, – это полноценный уход, присутствие близких, обезболивание и максимальную самостоятельность до конца жизни.
Представляется важным еще раз подчеркнуть, что весь уход, который человек получает в хосписе, должен быть бесплатным. Учреждение, в котором за паллиативную помощь берут деньги, не имеет права называться хосписом. «За смерть нельзя брать деньги», – говорила Вера Миллионщикова.
По методике расчета нуждающихся в паллиативной помощи, используемой Всемирной организацией здравоохранения, ежегодно количество нуждающихся в ней в России оценочно равно 1 300 000 человек, и с прогнозируемым ростом продолжительности жизни россиян эта цифра будет увеличиваться. На сегодняшний день в России еще не работают, но уже разрабатываются профстандарты для паллиативной помощи, а еще через 10 лет появятся дипломированные выпускники вузов, обученные работать с неизлечимыми пациентами. Если считать вместе с родственниками, а с ними нужно считать, потому что в тяжелую болезнь и смерть вовлечена вся семья, то выходит, что в паллиативной помощи нуждаются 18 миллионов человек. Получают же ее меньше четверти, около 350 тысяч россиян ежегодно. О родственниках речи не идет. Что происходит с остальными? Остаются дома без помощи, в реанимации или в больницах – в общем, не там, где можно рассчитывать на полноценный уход, отсутствие боли и сохранение достоинства. В 29 российских регионах среднее количество паллиативных коек для взрослых меньше 30, в половине из них отсутствуют выездные патронажные службы хосписа. В 15 регионах не организовано оказание паллиативной помощи дома для взрослых, а в 52 – для детей. В 11 регионах вообще отсутствуют паллиативные койки для детей. К несчастью, сейчас паллиативную помощь в России оказывают не более чем 15 % из тех, кому она нужна. Неизлечимо больной человек в конце жизни почти никогда не может сам получить медицинские и социальные услуги, в которых он нуждается и на которые он имеет право. Учреждения соцобслуживания и медицинские организации оказывают паллиативную помощь на дому только в Москве. Помощь до пациента «не доходит», а сам он дойти до нее физически не может.
На сайте pro-palliative.ru опубликован список, в котором 143 хосписа и паллиативных отделений страны. С адресами, телефонами и контактами руководителей. К сожалению, уровень паллиативной помощи в этих отделениях неодинаков, неодинаковое и финансирование. Паллиативная помощь в России только начинает развиваться и становиться такой, какая принята в Европе, США, Израиле и Японии – прогрессивных, с точки зрения медицины и уважения к пациентам, странах. Это развитие потребует не только сил и средств государства, но и усилий со стороны общества: уважения к правам человека до самого последнего момента, признания за пациентом права на полноценную жизнь, желания, капризы, общение с близкими, любовь до самого конца.
В одном из столичных хосписов я как-то видела женщину, державшую руки в тазике со снегом. Спросила: «Что вы делаете?» И она очень спокойно ответила: «Я захотела потрогать снег в последний раз в своей жизни. И волонтеры мне его принесли. Представляете, какое счастье?» Через день ее не стало. «Красивая смерть», – наверное, сказала бы Вера Миллионщикова.
В 2019 году в Москве качественную паллиативную помощь можно получить:
– в государственном бюджетном учреждении «Центр паллиативной помощи», рассчитанном на 200 мест, и девяти его филиалах – восемь хосписов (включая Первый Московский хоспис) для взрослых и один детский. Во всех этих учреждениях помощь оказывается абсолютно бесплатно, за счет средств госбюджета.
Прямо сейчас в нескольких паллиативных отделениях Москвы предпринимаются попытки выстроить новый уровень помощи. Возможно, к моменту, когда эта книга выйдет, мест, где оказывают качественную паллиативную помощь, будет больше.
– помимо стационара, у упомянутых выше паллиативных учреждений есть выездные службы, врачи и медсестры которые в ежедневном режиме приезжают домой к пациентам;
– в бесплатном некоммерческом детском хосписе «Дом с маяком», при котором также работает выездная служба. Ежегодно в «Доме с маяком» помогают примерно 700 семьям.
В Москве приемлемое финансирование медицинских учреждений, соотношение государственных и благотворительных денег в паллиативе примерно такое, как в развитых странах: 80 % – государственные деньги, 20 % – благотворительные. Собранные средства, как правило, идут на то, что невозможно купить или осуществить за счет госбюджета. В первую очередь это организация немедицинской помощи пацентам хосписов – создание уютной обстановки для того, чтобы у человека была возможность ощущать себя дома, а не в больничных стенах; это возможность организовать индивидуальный подход к каждому пациенту – исполнить желание, помочь родственникам принять ситуацию, организовать для них возможность круглосуточного пребывания с родным человеком; еще это привлечение волонтеров, без которых качественная паллиативная помощь невозможна. Также за счет благотворительных средств возможна закупка необходимого оборудования и расходных материалов, которые из-за сложностей системы госзакупок нельзя купить за государственный счет.
В 2019 году в России работает круглосуточная служба поддержки, ее телефон 8–800–700–84–36. Позвонив по нему, родственник или сам пациент может получить всю необходимую информацию: обезболивание, уход, проблемы.
В 2019-м уже мало кто помнит, что в самом начале 1990-х одним из первых, кто услышал Веру Миллионщикову с ее идеей создания Первого Московского хосписа, был Анатолий Чубайс. Мне до сих пор странно, что пресса, знающая и обсуждающая почти все подробности карьеры и личной жизни Чубайса, об этой странице его биографии помалкивает. Мне кажется, его интервью для первого издания «Победить рак», данное мне в 2012 году, едва ли не единственное, в котором он говорит о своей причастности к Первому Московскому хоспису. Причем вопроса о хосписе не было в нашей предварительной договоренности. В списке, утвержденном для беседы, – научные разработки в области онкологии, которые финансирует РОСНАНО.
Если честно, я боялась, что он не захочет говорить о хосписе и откажется встречаться. В середине разговора, когда список оговоренного уже был исчерпан, я решилась: «Вы были первым, кто поверил Вере Васильевне еще в 1993 году. Что вы тогда знали о хосписах? Почему дали деньги? Почему не перестаете давать до сих пор?» От внезапности вопроса он начинает ерзать на стуле, краснеет. Не понимаю: разозлился или смущен. С минуту собирается с мыслями. А потом говорит вдруг так страстно и с таким волнением, что поверить невозможно, что это говорит тот самый Чубайс: «Это очень большая история, я уж не знаю, для романа или для драмы. Эта история и для меня лично, и для нашей страны немножко не типичная. Мы все-таки живем в довольно жестоком мире. Но тем не менее у нас всегда находятся люди абсолютно бескорыстные, готовые в сложнейших условиях поставить перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи. И всех вокруг заразить верой в то, что они выполнимы. Вера Васильевна Миллионщикова, человек, который создал первый хоспис в России и создал хосписное движение в России, – это человек, которому мне хочется поклониться в ноги.
Я прекрасно помню, как это хосписное движение, сама идея хосписа возникала. Это было на моих глазах, но я не верил своим глазам. Это были девяностые, дикое позднесоветское время, когда любые идеи милосердия казались полным абсурдом, а жесткая государственная мораль была особенно беспощадной: ну болен человек и болен, пусть умирает. И тут появилась Вера Васильевна и сказала: «Как же так? Это ведь человек!»
Говорить о таком – непривычное для чиновника его уровня упражнение. Но он не просто посторонний чиновник, он не просто дает деньги, а действительно интересуется, болеет этим делом, знает, как на самом деле всё устроено и в хосписном движении, и в Первом Московском хосписе: «Люди, которые работают в хосписе, – это просто герои наших дней, незаметные, но совершенно незаменимые. Они ежедневно совершают скромные подвиги за, как правило, не очень большую зарплату, ежедневно, ежечасно помогают людям, ежедневно сталкиваются со смертями как с частью своей работы… Девчонки молодые – сестры, врачи, молодые, но опытные. Эта, на мой взгляд, сверхблагородная миссия заключается в том, что даже если человека нельзя вылечить, ему можно создать условия для полноценной, насколько это возможно, жизни до конца, столько, сколько отведено…»
На государственном уровне понятие паллиативной помощи было сформулировано в 2011 году. В 2019-м Госдума приняла новый Закон «О паллиативной помощи», согласно которому: паллиативная медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленный «на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания». Закон предусматривает лечение «методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами».
Паллиативная помощь, согласно документу, может оказываться как в стационаре, так и на дому. Кроме того, паллиативная помощь может быть оказана, даже «если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель». Решение об этом будет «приниматься врачебной комиссией либо, если собрать врачебную комиссию невозможно, консилиумом врачей или непосредственно лечащим (дежурным) врачом». К сожалению, этот закон, его номер 323-ФЗ, сводит паллиативную помощь только к медицинской, там нет ни слова о том, что это помощь всей семье, и помощь комплексная.
Закрепление в документе права на обезболивание – это хорошо. Но это право и так в законе было прописано. А вот о помощи дома, о праве пациента на лечение боли лекарствами, соответствующими интенсивности боли, нет ни слова. Не уточнен порядок оказания помощи пациентам, которые в силу своего состояния не могут подписать информированное добровольное согласие, то есть настолько плохо себя чувствуют, что ручку держать не могут. Во взрослой паллиативной помощи таких большинство. В новом проекте закона не написано, что в помощи нуждаются члены семьи, родители маленьких пациентов. Всё это предстоит сделать.
Обществу придется уяснить простую разницу: для обычной больницы пациент – это механизм, который главным образом необходимо починить, а для хосписа, если мы договариваемся, что хоспис – это дом, пациент – личность, человек. В хосписе чинить «шестеренки» уже поздно, они уже сломаны, тут лечат симптомы: обезболивают, уменьшают тошноту и рвоту, помогают справиться с нарастающей одышкой, прогрессирующей депрессией. Помогают наладить отношения с семьей, учат близких правильно ухаживать за человеком, не унижая при этом его достоинство. «Справедливости ради, в хорошей и правильной больнице всё это тоже должны делать, – уверен доктор Михаил Ласков. – В некоторых крупных больницах могут и должны быть и паллиативные учреждения».
Фундаментально главное отличие хосписа от больницы: в хосписе не реанимируют, не проводят терапию, направленную на борьбу с болезнью, не пытаются мешать болезни развиваться, работают только с симптомами.
Так минута за минутой идет жизнь, в которой уже не будет химиотерапии, инъекций, борьбы, принудительного подключения к аппарату ИВЛ, которое часто продлевает дни, часы и минуты жизни.
Хоспис – это дом, где не врут. Здесь считают, что нельзя давать человеку и его близким ложную надежду, в конце жизни – не обманывают.
Зато здесь скрупулезно налаживают схему обезболивания и не будут говорить: «Надо терпеть». Над кроватью в хосписе повесят (должны повесить) рисунки ребенка или внука. Медсестры в хосписе называют (должны называть) человека по имени, знать его. В хосписе белье должно быть цветным, как дома. Здесь всегда спросят: что ты сейчас хочешь: тишину или гостей, мороженое или бургеры, книгу, фильм, разговор по душам. Потому что времени на неправильный выбор уже не осталось.
Идеально, если хоспис находится рядом с твоим домом, еще лучше, если хоспис приходит домой в лице врача выездной службы. Хорошо, когда медсестра хосписа может приехать днем, ночью, на выходных – тогда, когда нужно. А социальный работник хосписа поможет получить удобную инвалидную коляску от государства.
В маркетинге есть выражение «кампания 360 градусов», то есть та, что включает все каналы коммуникации. То же самое можно сказать о хосписной помощи: помощь нужна не только медицинская, но и социальная, психологическая, не только пациенту, но и его семье. И еще очень важно иметь право получать эту помощь дома.
В конце 2017 года правительство РФ выделило 4,3 миллиарда рублей на развитие помощи в конце жизни. Вот только средства были потрачены крайне неэффективно. По правилам, их можно тратить исключительно на закупку обезболивающих препаратов, оборудование для паллиативных отделений, хосписов и на аппараты ИВЛ. А на обучение и привлечение врачей нельзя, на покупку автомобилей для выездных служб нельзя, на психологическую и другую помощь семье нельзя. На это тратятся благотворительные деньги.
Государственные средства позволяют выплачивать врачам зарплату и закупать обезболивающие. Паллиативная помощь не заработает так, как нужно, пока нет понимания, что хоспис – не больница. Пока мы сами не начнем требовать человеческого отношения к своим близким.
Мы говорим об этом с Нютой Федермессер, младшей дочерью Веры Миллионщиковой, учредителем Фонда помощи хосписам «Вера», руководителем Московского Центра паллиативной помощи, главным мотором борьбы за права тех, «кому уже нельзя помочь», но прежде всего – моей подругой. Это важно. Мы говорим на «птичьем» языке людей, давно и хорошо знающих друг друга и проблему, которой занимаемся. Мы знаем, как должно быть, мы обе уверены, что хоспис – не точка невозврата. Это этап. Это дом по пути из жизни – дальше. Этот этап должен сохранить проходящему его достоинство и наполнить любовью.
Глава 33
«Ты уверена, что в книге мне стоит рассказать историю хосписного движения подробно?» – спрашиваю Нюту. Энергично кивает: «Если не рассказать, как всё начиналось, никто не поймет, какой огромный был проделан путь». И я еду в Петербург. Чтобы рассказать, надо начинать отсюда.
Я сижу в квартире на Васильевском острове. Напротив меня – изящная женщина, кутающаяся в тонкий шерстяной платок. В комнате от пола до потолка большие видеокассеты из прошлого века. Она берет одну из них: «Хотите, я вам покажу?» Старый видеоплеер заглатывает кассету, на экране монитора появляется изображение: бодрый, коротко стриженный мужчина несоветского вида заходит в деревянный дом, жмет руку сухонькому доктору с бородой и светлыми, почти прозрачными глазами, которые бывают у очень добрых, долго живущих на свете людей. Доктор и гость проходят в комнату, где на кроватях с необычным для советского медучреждения – цветным! – бельем лежат умирающие люди. Доктор подробно представляет всех пациентов. Один из них рассказывает, что теперь чаще всего вспоминает, как в детстве гонял голубей на площади у дома: «Надо было присесть на корточки, разогнаться, не вставая и так руками взмахнуть: ууууух! Каждую ночь про это сон вижу. И наш двор вспоминаю». Другая пациентка, женщина, сидит в шезлонге в саду у деревянного дома. Она улыбается доктору и гостю. И вдруг поет протяжную казацкую песню про цветное покрывало, которым мама бережно укрывает сына, а потом им же жена укрывает мужа. Долго смотрит прямо в камеру и неожиданно рассказывает, что помнит, какие фасоны шляпок были в ее юности.
«Будете еще смотреть?» – спрашивает меня женщина, ее зовут Наталия Шадхан. Она вдова одного из лучших петербургских режиссеров документального кино Игоря Шадхана. Конечно, конечно, буду! Мне важно увидеть, кажется, вообще всё, что успел снять ее муж. Игорь Шадхан единственный, кто снимал первый приезд в Россию основателя мирового хосписного движения Виктора Зорзы – американского советолога, колумниста The Washington Post, отца, у которого рак отнял дочь. Зорза одним из первых в мире осознал, насколько важно сделать так, чтобы конец жизни был таким же полным уважения, любви и достоинства, каким обыкновенно бывает ее начало. Вышло так, что у дочери Виктора, Джейн, обнаружили рак, когда ей было 25 лет. Через 5 месяцев девушки не стало. Болезнь протекала в чрезвычайно острой форме. Когда дело стало совсем непоправимым, родители Джейн – девушка переехала из Америки в Великобританию, жила и работала в Лондоне – обратились за помощью в один из первых хосписов в Англии. И вся семья была поражена заботой и отношением сотрудников хосписа. «Я умираю счастливой», – сказала Джейн и просила родителей в память о ней создавать хосписы для больных раком по всему миру. Именно поэтому через два года после смерти Джейн Виктор Зорза вместе с женой Розмари написали книгу о своей дочери «Путь к смерти. Жить до конца». Виктор Зорза занялся организацией хосписов, подобных английскому, по всему миру, и спустя несколько лет, в конце 1980-х, приехал в Россию и стал искать единомышленников. В начале 1990 года вместе с Андреем Гнездиловым Зорза открыл первый в России хоспис, а на пленке Игоря Шадхана, которую я теперь смотрю, одна из их первых встреч. Шадхан снимал практически безостановочно встречи, перемещения, разговоры с пациентами, чаепития с теми, кто искал встречи с Гнездиловым и Зорзой, кто уже тогда, в самом начале 1990-х, пытался понять, как и в России сделать так, чтобы смерть больше не была связана с унижением, болью и бесправием.
На следующей кассете, которую вставляет в плеер Наталия Шадхан, за красивым деревянным столом с низко нависающей лампой в питерской гостиной доктора Андрея Гнездилова сидят уже знакомые нам Зорза, сам Гнездилов, медсестры, медбратья и молодые, совсем дети, волонтеры первого в России Петербургского хосписа. Во время съемки к ним присоединяется улыбчивая сорокалетняя женщина с короткой стрижкой. В какой-то момент начинает рассказывать собеседникам о том, как накануне впервые поехала в петербургский поселок Лахта искать этот самый «первый в России хоспис»: «Вышла из электрички и встретила каких-то женщин. Долго думала, как правильно спросить, не скажешь же так, с бухты-барахты: «Хоспис». Я говорю: «А где у вас тут такая специальная больница, где не лечат, но как бы вот лежат такие люди, которых уже не вылечить…» И тут они мне: «А? Хоспис? Так это вам через пути и направо по тропинке». И я, конечно, остолбенела», – хохочет женщина. Это Вера Миллионщикова. Такая, какой она была в 1989 году. Врач-радиолог из Москвы, постепенно отошедшая от профессии, но так и не сумевшая оставить пациентов. Ежедневно она навещает тех, кого раньше лечила, но кому медицина в итоге помочь не смогла. Она пока не знает, что работает «выездной хосписной службой», она просто облегчает боли, моет, переворачивает, исполняет желания, утешает родственников, подолгу разговаривает с теми, чья тоска по живому неравнодушному человеческому слову причиняет страдания едва ли не большие, чем те, которые причиняет болезнь. Таких пациентов всё больше. И о том, как справляться, как не выгореть и как умудриться помочь как можно большему числу нуждающихся, Вера приезжает узнать у доктора Гнездилова. И у него дома знакомится с пионером мирового хосписного движения Виктором Зорзой. Она подробно и внимательно расспрашивает Гнездилова с Зорзе о том, как устроен хоспис, почему так важны этим умирающим людям живые и веселые собеседники, как вообще устроено обезболивание, чем хоспис отличается от стационара, откуда на всё это берутся деньги. На следующей пленке, которую показывает мне Наталия Шадхан, дата – декабрь 1993 года. По сугробам вокруг кирпичного недостроя бегает черная собака. За ней в шапке набекрень идет Виктор Зорза, за ним – Вера Миллионщикова. Размахивая руками, они рассказывают друг другу о том, что здесь, на этом самом месте, около московского метро «Спортивная» вот-вот появится первый московский хоспис. Тут будет большой и просторный вход, тут – гостиная с часами (они так и говорят: «с часами», хотя даже стены еще не доведены под крышу), вот тут – палаты, из которых можно будет прямиком выезжать во двор. «Во дворе посадим розы», – невозмутимо говорит Миллионщикова, указывая пальцем куда-то в центр метрового сугроба. А потом они заходят внутрь недостроя. И уставшая Вера усаживается на строительные козлы. Изящная дамская шляпка съезжает у нее куда-то за ухо. Глядя прямо в работающую камеру, Миллионщикова говорит: «Я такая голодная, я бы поела». Голос из-за кадра, голос режиссера Шадхана, спорит: «Давайте вначале запишем интервью…» Тут вклинивается Зорза: «Запишем интервью, как ты, Вера, станешь главным врачом первого московского хосписа». – «Я? Я не хочу становиться главным врачом! Это совершенно не мое!» – возмущается Вера. И потом, минут, наверное, 30 рассказывает о том, как это совершенно противоречит ее духу, ее натуре – руководить. Как она бы с гораздо большей радостью и готовностью взялась быть простой нянечкой, санитаркой в этом возводимом ею хосписе. Зорза настаивает: «Вера, кроме тебя, больше некому. Я годами искал человека, который был бы способен тащить на себе всё хосписное движение. Это ты». – «Это я? – растерянно переспрашивает Вера. – Ну, может быть, я год-два поруковожу, чтобы тут всё наладилось, а потом уйду в то, что я люблю: в обычную сестринскую работу. Хорошо?» Кассета заканчивается.
Шадхан идет за новой, а я, смеясь в голос, роюсь в своем диктофоне. И, найдя, наконец, нужную запись, ставлю ее Наталии. Это фрагмент интервью Нюты Федермессер, записанного на четверть века позже этой съемки: Веры Васильевны уже нет в живых, хоспис работает, как часы, а Нюта получила предложение стать директором Центра паллиативной помощи, то есть перейти из благотворителей в медицинские чиновники. «Ты понимаешь, у меня есть полная уверенность, что я не справлюсь, что меня переоценили. У меня нет никакого опыта работы в бюджете, я не врач. Да и вообще я терпеть не могу руководящую работу», – говорит она.
«А что ты любишь?» – «Я люблю с пациентами разговаривать, переворачивать их, гладить, облегчать им жизнь. Мне нравится руками работать, понимаешь?» – «Но ты согласишься. Почему?» – «Знаешь, достало ныть. Надоело быть просто общественником и орать: «Там плохо, здесь плохо…» А тут всё вроде предельно ясно: есть полномочия, делай. И если отказаться, то грош цена всей твоей критике. А соглашаться всё равно страшно: непонятно, осилишь или нет». Она действительно согласилась. С внутренней оговоркой: это ненадолго, просто поставить на ноги Центр паллиативной помощи, где прежде, с точки зрения защиты прав пациентов, обессиленных болезнью, в основном немолодых людей, творилось что-то неописуемое, а про нормальные схемы обезболивания никто не слышал. Так у нее появились права, полномочия и ответственность.
Разумеется, одним-двумя годами ничего не ограничилось. Как когда-то у ее мамы, Веры Миллионщиковой, ставшей в 1994-м главным врачом Первого Московского хосписа и проработавшей им до самого последнего дня своей жизни, до последнего вздоха.
16 апреля 2015 года во время прямой линии президент Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сумела задать президенту России вопрос о доступности обезболивающих. Владимир Путин ответил, что не в курсе проблемы, но пообещал разобраться. 1 июля 2015 года обновленный Закон вступит в силу. В 2018-м Нюта станет доверенным лицом мэра Москвы Собянина, затем вступит в ОНФ. В самом начале 2019 года будет принят Закон «О паллиативной помощи», а Федермессер объедет все имеющиеся в России учреждения паллиативного ухода, будет записывать, фотографировать, скандалить и всё больше и больше убеждаться: масштаб работы, которую предстоит сделать, несопоставим с той, что сделана. Возможно, на то, чтобы изменить отношение к беспомощному человеку в России, уйдет целая жизнь, а возможно – жизнь не одного человека, не одного поколения. Но это не значит, что не надо пытаться.
На следующей пленке, сохранившейся у вдовы документалиста Шадхана, Вера Миллионщикова ведет по свежевыкрашенным коридорам хосписа начальника Департамента здравоохранения Москвы. Рядом с Верой, сосредоточенный и внимательный, идет Виктор Зорза. Он тоже что-то поясняет специалистам Горздрава. Начальник понимающе кивает и ободряюще улыбается. Потом спрашивает: «А где реанимация?» И Зорза взрывается: «Вы так и не поняли философию хосписа! Никакого хосписа с таким отношением не получится, вы ничего не поняли!» Миллионщикова останавливает его. И очень терпеливо и тихо объясняет: «Это хоспис. Здесь не спасают, не реанимируют, не вставляют трубку аппарата искусственной вентиляции легких. Здесь берегут жизнь до самого конца, позволяя прожить ее достойно». Тогдашний начальник Горздрава Сельцовский, несколько его замов, группа сопровождающих лиц и несколько десятков человек, оказавшихся в этом коридоре в день открытия Первого Московского хосписа, замирают. И слушают тихий и уверенный голос Веры Миллионщиковой. Голос, которым она, кажется, впервые формулирует «Заповеди хосписа». Теперь они висят при входе. А Первый Московский хоспис носит ее имя.
ЗАПОВЕДИ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ХОСПИСА1. Хоспис – это комфортные условия и достойная жизнь до конца.
2. Мы работаем с живыми людьми. Только они, скорее всего, умрут раньше нас.
3. Нельзя торопить смерть, но и нельзя искусственно продлевать жизнь. Каждый живет свою жизнь. Время ее не знает никто. Мы лишь попутчики на последнем этапе жизни пациента.
4. Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может быть только бескорыстной.
5. Мы не можем облегчить боль и душевные страдания пациента в одиночку, только вместе с ним и его близкими мы обретаем огромные силы.
6. Пациент и его близкие – единое целое. Будь деликатен, входя в семью. Не суди, а помогай.
7. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека, для пациента имеет огромный смысл.
8. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему.
9. Принимай от пациента всё, вплоть до агрессии. Прежде чем что-нибудь делать – пойми человека, прежде чем понять – прими его.
10. Будь всегда готов к правде и искренности. Говори правду, если пациент этого желает и если он готов к этому… Но не спеши.
11. «Незапланированный» визит не менее ценен, чем визит «по графику». Чаще заходи к пациенту. Не можешь зайти – позвони; не можешь позвонить – вспомни и всё-таки… позвони.
12. Не спеши, находясь у пациента. Не стой над пациентом – посиди рядом. Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать всё возможное. Если думаешь, что не всё успел, то общение с близкими ушедшего успокоит тебя.
13. Хоспис – дом для пациентов. Мы – хозяева этого дома, поэтому: переобуйся и вымой за собой чашку.
14. Репутация хосписа – это твоя репутация.
15. Главное, что ты должен знать: ты знаешь очень мало.
О высшем порядке, который любила и умела устанавливать и которого придерживалась в своей жизни Вера Миллионщикова, мы теперь говорим с ее младшей дочерью Нютой Федермессер. И вдруг хохочем, вспоминая одну выдающуюся пациентку хосписа, Ирину Михайловну Леонтьеву. Ее, 90-летнюю, в хоспис принимала еще Вера Васильевна.
Пациентка Леонтьева поступила в хоспис слабенькой, но сильной духом. Помню, как с интересом изучала она хосписное меню: «О! Груши! Не может быть! Курочка на гриле – обожаю». За те полгода, что я часто бывала в хосписе, Ирина Михайловна дважды выписывалась и дважды снова возвращалась, а всего ее «заездов» в хоспис оказалось больше десятка. Ей же принадлежало совершенно гениальное определение хосписа, однажды страшно рассмешившее Миллионщикову. «Вера Васильевна, ваш хоспис – это наш пионерский лагерь», – как-то сказала она, в очередной раз «заехав поднабраться сил». Через год пациентка Леонтьева и главврач Миллионщикова ненадолго окажутся соседками по хоспису. Еще одно из поразительных совпадений рака.
«Честно говоря, всё вышло во многом неожиданно, хотя, казалось бы, именно мы должны были быть готовы, – рассказывает Нюта. – Когда диагноз маме только-только был поставлен, мы находились на лечении в Германии. И тогда еще ее самочувствие позволяло говорить о смерти, о конце с пониманием, что это не вот-вот, не совсем близко. Она позволяла себе такие пионерские высказывания, что, вот, Нюта, нужно сделать так, чтобы я умерла в хосписе, чтобы это было уроком и стало примером. Но это всё было как-то не по-настоящему. А когда появилась нужда в хосписе, с точки зрения ее состояния, необходимости обеспечить качественный уход, помощи семье, тогда было очень сложно принять это решение». – «Почему?» – «Мама – человек феерически авторитарный, она привыкла гонять, строить и муштровать персонал. Все знали, что Вера может появиться ночью, в выходные, под любой плинтус залезть и показать, что там пыль, взобраться на чердак, обнаружить там какие-то завалы, углядеть не сбитые сосульки, не должным образом расчищенный снег и так далее. Все эти годы хоспис жил и работал под ее жутким неусыпным контролем. И вот она должна оказаться в ситуации, когда эти люди будут ею командовать, говорить ей: попу подними, повернись… Она с большим трудом отбирала, кого из медсестер до себя допустит. Кому это будет позволено сделать. Но в то же время она понимала, что, во-первых, это качественный уход, а во-вторых, она оставалась руководителем до самой последней секунды. И она очень хотела проверить на себе качество их работы, качество ухода. И сколько она пересмотрела, находясь на хосписной койке! Как она потом описывала это всё на своих утренних конференциях!»
Каждую из 15 заповедей хосписа, написанных собственной рукой, Вере Миллионщиковой доведется испытать на себе. Ее в ее хосписе выходили. Выкарабкалась. И вернулась на работу с четким пониманием того, как «с той стороны» устроена жизнь после рака и что еще надо сделать для того, чтобы она была полегче.
«Как она потом на конференциях говорила нам: «Девочки, какие мы дураки, я вам сейчас скажу: вот этого делать нельзя и вот этого делать нельзя, какой ужас, когда вы к спящему пациенту подходите и начинаете его тормошить и переворачивать, нельзя этого делать. Это кошмар!» – рассказывает Нюта. И это такой момент, про который пишут в книжках: она смеется сквозь слезы или плачет, смеясь: «Даже ее пребывание в шкуре хосписного пациента оказалось полезным для дела. Она там побывала и поняла, сколько всего неправильного, недостаточно осмысленного. Мы переставили тумбочки после того, как она полежала на кровати и поняла, что тумбочкой неудобно пользоваться, когда она у изголовья, она должна быть по центру кровати. У нас в палатах были переставлены цветы. И это всё оказалось гораздо удобнее для пациентов. Она настояла на том, чтобы у уходящих больных не делать эту бесконечную фанатичную уборку, не надо их переворачивать, тормошить, отвлекать, их надо оставить в покое. Еще очень важная вещь: она говорила про то, как устаешь от визитов родственников. Она шпыняла нас, заставляла выстроить строгий график и приходить не больше чем на 15 минут. И всё это потом передавалось на конференции: вот от этого люди устают, вот это важно, это не важно. Комментировала еду, яркость освещения, запахи, шумы – всё. Этот опыт был для персонала и для нее как для руководителя очень ценный».
Вера Миллионщикова пробыла в хосписе несколько недель, доказывая собственной судьбой: рак, хоспис – это не всегда билет в один конец, а просто остановка, передышка. Ее болезнь оказалась победима, как будто бы еще одно доказательство – победима именно хосписом. Спустя несколько месяцев жизнь Веры Миллионщиковой оборвет другая, быстротечная и никак не связанная с онкологией болезнь. Но урок, ею преподанный, останется. И останутся люди, обязанные ежедневно его помнить.
Летом 2017 года Международное агентство по изучению рака в Лионе опубликовало исследования, согласно которым грамотно и вовремя оказанная паллиативная помощь – обезболивание, поддержка и уход – продлевает жизнь пациента на срок от семи месяцев до семи лет. Ни про одну из этих цифр нельзя сказать, много это или мало. Но это же не просто цифры, это жизнь.
Один важный момент из моего интервью с Верой Миллионщиковой я хотела бы привести в этой книге. Смысл слов, сказанных ею тогда, мне кажется, я поняла только спустя годы: «Многие думают, что скоропостижная смерть лучше. Как там поется: «если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой». Я так не считаю. Хорошо, наверное, тому, кто уйдет, но мы и этого не знаем наверняка. Но то, что плохо всем тем, кто остался, это очевидно, – говорила мне Вера Васильевна. – Вы поссорились с мужем, вышли, а он домой не вернулся. И вы эту ссору будете всю жизнь вспоминать, с этой виной вы будете жить всю жизнь. И исправить вы ничего не сможете. И чувство вины от скоропостижной смерти – а мы всегда ведем себя неидеально, как бы мы ни любили, мы люди и подвержены эмоциям – очень сокращает жизнь остающимся. Вот я уезжала в пионерский лагерь и пошутила над папой: он садился, а я отодвинула стул. Через месяц папа умер от инфаркта. И вот мне уже 65 лет, и я всё это время думаю о том, что я спровоцировала папин инфаркт. И когда кто-нибудь отодвигает стул, я лечу, в каком бы краю комнаты ни находилась: только не отодвигайте, только так не шутите! А умирание длительное, желательно без мучений – это совсем другое дело. В онкологии всегда есть время. Даже две недели – это огромный срок, когда люди могут сказать друг другу последнее «прости», повиниться, покаяться, признаться в любви, извиниться за что-то, то есть искупить, дать то, что недодал. Это вносит много гармонии в отношения уходящего и того, кто остается, и смягчает чувство вины перед тем, кто ушел. Да и вообще, послушайте, никто и никогда в этой жизни ничего не знает наверняка. И если вас так страшит момент констатации: хоспис – значит, точка, думайте о том, что у нас есть десятки пациентов, которые приезжают сюда и уезжают вот уже несколько лет. И живут, да еще как живут!»
Конечно, живут! И еще как живут! Пациентка Леонтьева, кстати, пережила доктора Милионщикову на два года. И на вечере памяти Веры Васильевны, подъехав к сцене на инвалидной коляске, поблагодарила персонал хосписа за «подаренное второе дыхание», за реализованное право достоинства и жизнь без боли – такое же фундаментальное, как право на еду или воду. Человек в XXI веке имеет право жить без боли.
Осенью 2017 года онколог Михаил Ласков назовет событием десятилетия в области обезболивания отмену приказа № 785 об отпуске лекарств (от 2005 года). «В новом приказе нет «крепостных» аптек, то есть таких, в которые обязательно должен идти пациент за выписанным ему препаратом, – поясняет Ласков. – Это значит, что человек с рецептом на опиатное обезболивающее отныне может получить его в любой аптеке, а не только в той, к которой его прикрепили местные чиновники и в которой, как часто бывает, нет необходимого препарата».
Схематически процесс получения обезболивания в России в 2019 году выглядит так:
1. Рецепт на обезболивание выписывает врач, фельдшер или акушер.
2. Если рецепт выдается впервые, то на нем должна быть подпись того, кто его выдает, и подпись руководителя медицинской организации, в которой его выдают. Например, главного врача или, если его нет на месте, любого уполномоченного заместителя. Две печати – личная печать врача и «для рецептов» медицинского учреждения.
3. Если рецепт выдается повторно, то требуется одна подпись – врача (фельдшера, акушера) и одна печать («для рецептов»). В углу такого рецепта обязательно должна стоять пометка «повторно».
4. Наркотическое обезболивающее отныне можно получить в любой аптеке, у которой есть лицензия на оборот лекарств с содержанием наркотических или психотропных веществ. Если такой аптеки рядом с местом жительства пациента нет, лицензию могут выдать медицинским организациям. Список аптек и клиник, где можно приобрести препараты для обезболивания, должны устанавливать региональные власти.
5. Рецепт действителен 15 дней.
6. Упаковку от использованных препаратов теперь нет нужды возвращать.
7. Если какой-то из этих пунктов в случае вашей болезни или болезни близкого вам человека будет нарушен, вы можете позвонить на горячую линию Росздравнадзора по обезболиванию, она работает круглосуточно:
8–800–500–18–35.
8. Если по какой-то причине вы не знаете или сомневаетесь в том, нужны ли вам обезболивающие, или у вас есть вопросы, связанные с болью или с применением обезболивающих, вы можете позвонить на горячую линию Первого Московского хосписа: 8–800–700–84–36.
Все эти годы слоганом Первого Московского хосписа, фонда «Вера» и всего паллиативного движения страны были слова, однажды произнесенные Верой Васильевной Миллионщиковой: «Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь». В 2017 году этот слоган поменялся и звучал так: «Хоспис – это про жизнь». А в 2019-м: «Жизнь – на всю оставшуюся жизнь». Хоспис всегда был местом, где главной была жизнь. Такая, в которой много света и любви. И еще случаются чудеса.
О такой чудесной истории в свойственной ей сказочной манере мне рассказала Галина Чаликова, директор фонда «Подари жизнь»: «Катечка, а ты слушала уже историю про мальчика, который ожил в хосписе?» – «То есть как?» – «Тебе разве Вера Васильевна никогда не рассказывала о Цолаке?» Я переспросила Веру. Та рассмеялась: «Катя, этому никто не поверит!» Но попросила секретаря хосписа Анну Серафимовну отыскать для меня видео Цолака Мнацакяна. Через неделю видео, перевернувшее мое представление о возможном и невероятном в жизни, было найдено.
На первых кадрах в палату хосписа в инвалидной коляске ввозят лысого тринадцатилетнего мальчика. Это Цолак. Его рак не лечится. Его старший брат, мама и папа – с ним в хосписе. Снимают на память, держа в уме, что совсем скоро эти кадры станут последним воспоминанием об угасающем ребенке.
Черное поле. Пауза. Следующее видео: зажигательная армянская музыка, камеру болтает, слышен детский смех, переговоры, камеру наконец ставят на стол, и в кадре… В это невозможно поверить, если не увидеть своими глазами: Цолак с братом танцуют! Обрыв пленки, черное поле. Пауза. В кадре обросший веселый Цолак чокается яблочным соком с волонтером Светланой и говорит так проникновенно и так важно, как умеют только кавказские мужчины: «Я тебя люблю». А Светлана, еле сдерживая слезы, отвечает: «Спасибо, мой родной, будь здоров!» Они чокаются и говорят одновременно: «За тебя!»
Вместо обещанных ему нескольких дней Цолак прожил в хосписе целую неделю, потом месяц, а потом… Потом случилось чудо. Цолак пошел на поправку.
«Как они его мыли, как они его переворачивали, какие массажи тела они ему делали, как они стучали его по спине, чтобы дышал, как они верили в него – этого не описать словами! Они помогли Цолаку. Они вытащили его и спасли. Они руками своими, понимаете, руками и любовью сделали настоящее чудо! Хоспис дал нам жизнь, хоспис вернул нам веру в жизнь», – рассказывает папа Цолака, жизнерадостный крупный армянский мужчина Вардан Мнацакян.
В новой жизни, которая после рака и после хосписа, в той, в которую трудно поверить, Цолак с братом и родителями уехали во Францию. Всё хорошо. Мальчик здоров, учится в школе, вот только французский идет с трудом. Спустя два года после невероятного исхода этой болезни, летом 2009-го, папа Цолака приедет в Москву, привезет в хоспис шашлык, перецелует руки всем врачам и медсестрам и, конечно, Вере. Ни он, ни сын теперь не боятся слова «хоспис», потому что знают – это просто гостевой дом. В котором погостят – и уходят. По одной из двух возможных в жизни дорог.
«Когда мы болели, скажу честно, через такое прошли, такого натерпелись! И сам диагноз, и страх, что сын умрет. И чиновники, которые говорили: «армяне едут умирать в Армению». И отсутствие денег на лечение. Но потом всё встало вдруг на свои места. В хоспис мы попали, как будто на волне любви человеческой приехали. О нас заботились столько людей, столько людей молились за нас, желали нам добра, деньги собирали для Цолака. А когда он выздоровел, такое счастье вокруг было, – вспоминает Вардан. – И я теперь не нахожу себе места только по одному вопросу: что я должен сделать, что сын мой должен сделать, чтобы не подвести? Такое чудо ведь не падает на голову случайно. Это шанс как-то отблагодарить всех. Я об этом Цолаку всё время говорю. Живи обычно, но знай, эта жизнь тебе дважды дана неспроста. Ты должен быть очень хорошим человеком. С огромным сердцем, чтобы на всех хватило».
В этом опять есть странное совпадение: в Париже Цолак Мнацакян как бывший онкологический больной встал на учет в Американском госпитале. Том самом, где ждал, но не дождался клинических испытаний какого-нибудь нового и революционного препарата профессор Давид Серван-Шрейбер.
Весной 2011 года профессор Серван-Шрейбер перебирается в провинциальную клинику Фекам. Это в Нормандии, ближе к дому, каких-то 40 километров до родового гнезда, где живет его мама Сабин, где вырос он и трое его братьев.
Французская система здравоохранения не предусматривает хосписов, но позволяет оставшимся без надежды больным получать лечение наравне с более «перспективными» пациентами. Десять палат с восхитительным видом на последнем этаже обыкновенного нормандского областного госпиталя Фекам – «Отделение медицины 2». Так, чтобы никого не смущать, во Франции принято называть отделение для людей, которым обыкновенная медицина уже не может помочь выздороветь, а значит, им нужно больше заботы, больше комфорта и больше тепла. Здесь никто никого не гонит, а пациенты не пугают друг друга: по закону, принятому во Франции, угасающие от рака люди лежат в одноместных палатах.
К Давиду часто приезжают мама, братья и сын Саша. И разговорам, по которым все соскучились за годы бурной просветительской деятельности профессора Серван-Шрейбера, кажется, нет конца. Точку ставит сам Давид: поздней весной 2011-го он принимает решение перебраться из «Отделения медицины 2» Фекама домой. По пути просит семью сделать остановку на том самом пляже, где теперь сижу в растерянности я, не зная, с чего начать рассказ о последних днях автора «Антирака». Давид знал совершенно точно. Он рассказал маме и братьям о том, что хотел бы успеть написать книгу о невероятно важном умении проститься с близкими навсегда. И попросил у них помощи, зная, что собственных сил может не хватить. «Я вначале опешила, – рассказывает мне Сабин Серван-Шрейбер. – Да, он профессор, ученый, просветитель. Но он же мой сын. Я спросила: «Давид, ты уверен, что у тебя хватит сил?» А в голове, конечно, звучал другой вопрос: должен ли мой сын потратить последние свои силы на эту книгу? Но я не стала спорить. «Сынок, – сказала я, – если ты считаешь, что это именно то, что тебе нужно, мы все в твоем распоряжении». И сразу с пляжа мы поехали домой. И он начал писать. Длилось это недолго: недели две. Потом сил писать не стало. Он диктовал. Он был невероятно работоспособен в эти дни. Приехали все его братья, сын Саша. Сменяясь через каждые два часа, они записывали за ним главу за главой».
Брат Давида, Эдуард, теперь гордится: «Мы успели записать за ним книгу, пока он мог говорить, а когда голос пропал, он правил написанное. Я не верил своим глазам. До последнего дня, до последней секунды своей жизни он хотел приносить пользу. В этом было его предназначение: извлечь все, какие только могут быть, уроки из посланной ему болезни. И он старался использовать все свои возможности для того, чтобы его опыт мог послужить другим людям. Слушайте, да он каждую главу правил по три раза! Вы можете себе это представить?! Человек уже ни писать, ни говорить не может, мы читаем ему вслух, а он то кивает, то качает головой. И мы за ним всё это переписываем. Он успел закончить книгу. Я помню, мы согласовали последнюю главу, и он выдохнул: «Слава Богу, я успел». Через несколько дней его не стало».
Завершая дела, профессор Серван-Шрейбер даст последнее интервью для журнала Psychologies, колумнистом которого был долгие годы. На диктофонной записи звучит тихий голос человека, отдавшего половину жизни поискам всех мыслимых способов победить рак.
«Я ухожу совершенно счастливым. Рядом со мной – мои любимые люди. Я украл у рака двадцать лет. За это время в науке, увы, не случилось переворота, и болезнь по-прежнему загадочна. Но рак сдается. Человек учится его побеждать. Мои трое малышей, рожденные вопреки раку, моя семья, которую рак сплотил, мои книги – тому подтверждение».
В мою предпоследнюю встречу со Львом Бруни я передала ему рукопись тогда еще неизданной книги Давида Серван-Шрейбера «Об умении сказать «до свидания»«.
Лев Иванович, блестяще знавший французский, начал читать. Я не спрашивала об этом прямо, Бруни сам заговорил о смерти Давида Серван-Шрейбера. О смерти, которая была отсрочена, но не побеждена – Серван-Шрейберу не удалось обмануть рак. «Не вздумайте воспринимать жизнь как беллетристику средней руки: все концы не обязаны сходиться с концами, герои не должны в финале целоваться на фоне заката, никто не уполномочен жить вечно», – сказал мне Бруни. И продолжил: «Давиду посчастливилось завершить главное дело своей жизни и увидеть результат: он вдохнул надежду в людей. И даже теперь, после того как он умер, вы приносите мне его новую книгу, которая, я уверен, поможет мне сделать эти несколько предначертанных шагов в деле победы над раком. Ведь победа – это не обязательно полное и окончательное выздоровление. Могут быть очень разные победы. И каждая очень важна».
Лев Бруни, пожалуй, один из лучших учеников Давида Серван-Шрейбера. Последняя запись в Facebook Бруни, адресованная друзьям, полна любви и благодарности: «Дорогие мои! Я так чувствую вашу любовь. С ее помощью я уже как минимум пятикратно превысил срок, отпущенный мне Минздравом. Не оставляйте стараний, маэстры. Я не оставляю надежды».
Что еще? Лев Бруни горячо надеялся, что его «Динамо» обязательно станет чемпионом, он еще разок-другой сыграет в бридж, съездит в горы и попытается снова встать на лыжи. Надеялся. И мечтал. Не злился ни на судьбу, ни на болезнь, ни на тех, кто рядом, понимая, что всего этого в его жизни уже не будет. Горевал, конечно, видя, как бьются, пытаясь еще хоть чем-то ему помочь, близкие. Но не скрывал тихой радости: теперь они лучше понимают механику этой трудной болезни. Его история будет им и уроком, и примером, и облегчением в будущем. Я видела и слышала, как на прощании с Бруни дорогие ему люди, еще несколько лет назад не приемлющие разговоров о болезни, а особенно о раке, спокойно рассуждали о том, кому и какая еще помощь в этом аспекте может понадобиться. Говорили и о хосписе, и о благотворительных фондах, и некоторых общих знакомых. Без надрыва и всплескивания руками. Вспоминали Льва Ивановича, беседы с ним, его шутки, его такой короткий по времени, но такой длинный в мировоззренческом смысле путь.
Болезни больше никто не боялся. Это стало фактом жизни, пусть не до конца понятным, но уже более-менее осознанным. Вот в этом, на мой взгляд, и была такая важная и нужная близким и друзьям Льва Бруни победа над раком. В этот момент его болезнь и его смерть обрели гораздо более глубокий смысл.
Я поймала себя на том, что всё время думаю: как же действительно жаль, что он не успел встретиться с Серван-Шрейбером. Какой нужной могла бы оказаться эта встреча: и чтобы поблагодарить, и чтобы рассказать о себе.
Спустя месяц рассказываю о том, как Лев Бруни читал последнюю книгу Давида Сабин Серван-Шрейбер. Она, почти не дыша, слушает. Благодарит: «Мне очень важно, что книга Давида и сама его жизнь помогают людям. Кому-то уже помогла, кому-то поможет в будущем. Я же мама, я очень горжусь своим сыном. Я глубоко убеждена, что тот путь, который вслед за Давидом проделывают его последователи, – это история победы над раком, которая происходит на наших глазах. И однажды станет окончательной. Об одной своей маленькой победе Давид, к сожалению, не успел узнать. После его смерти я все же решилась и бросила курить. На восьмом десятке. Мальчик мой…»
На прощание она скажет: «Я теперь осталась за него. Постараюсь издать книгу как можно скорее. Хоть это и не научное открытие, но, мне кажется, понимание психологии болезни тоже приближает нас к победе над ней. Эх, как я хотела дожить до окончательной победы и увидеть всё своими глазами, раз уж Давид не увидел».
Глава 34
Я иду по коридору и смотрю на лица таких же, как и я. Людей, столкнувшихся с раком. Кто-то едва передвигает ноги, кто-то идет, опустив голову, кто-то озирается по сторонам – этот, видимо, из только вошедших сюда, огорошенный диагнозом. Еще я сразу вижу тех, кому не оставили никакой надежды. Их лица бросаются в глаза глубиной и безмерностью своего отчаяния. Я вижу много лиц. Я всматриваюсь в них. Где-то надежда, где-то апатия, где-то все еще жажда жизни. Я смотрю на нас, сраженных болезнью и сражающихся с ней.
Я смотрю в глаза своих товарищей по раку, и мне кажется, у нас – другие глаза. Глаза людей, которые знают нечто особенное: важен каждый миг, каждое мгновение. Жизнь важнее боли, важнее тошноты от химии, важнее страха умереть. Жизнь важнее.
Женя уже больше месяца почти без страха ходит на работу. И без страха раз в две недели – на проверки в Онкоцентр. Скоро проверки будут реже. А работа войдет в привычное русло. Она по-прежнему коротко стрижет волосы. А красить не стала. Ей идет седина. Она уже почти смирилась с мыслью о том, что в ее жизни был рак. Но пока так и не смогла ответить себе на вопрос: зачем.
Прошел целый год. Боже мой, я даже не заметила, что прошел целый год. Как я живу спустя этот самый важный год в моей жизни? Можно сказать, живу обыкновенно: работаю, достраиваю с мужем дом, радуюсь внукам, хожу в Онкоцентр на регулярные обследования. Но есть что-то еще. Что-то очень и очень важное, что я пока не могу нащупать внутри себя. Не понимаю. Думаю, думаю, складываю слова в стройные предложения, вроде бы отвечающие на вопрос, как прошел этот год, зачем он мне был. Но всё не то. Не так. Надо будет еще подумать. Надо будет сформулировать.
Примерно через год после начала болезни и через несколько недель после возвращения на работу доктора Панину как уважаемого специалиста пригласят на медицинскую конференцию в Прагу. Вначале она обрадуется: вот оно, жизнь возвращается. А потом вдруг испугается: а вообще, можно ли после рака летать на самолетах? Панина звонит своему доктору Капитолине Мелковой, а та строго отвечает: «Вы забыли, что мы вас лечим для того, чтобы жить? Летите на здоровье!» На такие странные вопросы бывших пациентов онкологам приходится отвечать довольно часто. В обществе, куда после болезни вернулась бывшая онкологическая пациентка Евгения Панина, нет готового сценария того, как жить после рака.
«Люди не готовы к тому, что могут выйти из этой истории живыми и полными сил. Это страшнейшая психологическая проблема. И вот приходится из раза в раз доказывать: можно летать на самолетах, можно ездить в командировки, читать лекции, можно абсолютно всё! – говорит Капитолина Мелкова. – Причем нашему пациенту это не просто можно, но и нужно. Как правило, у онкологов нет времени разъяснять всё это. В очереди к врачу уже стоят другие пациенты, которым нужна срочная помощь. Есть и еще один момент: если скажешь «всё можно», то это еще ведь и ответственность. И если что-то потом произойдет с этим пациентом, он спросит: «А как же так, доктор, вы же мне разрешили?» Доктору придется отвечать за это. Но, я убеждена, это святая обязанность врача – консультировать и после окончания лечения, вести пациента, помогать ему «встроиться в жизнь». Для этого, конечно, нужны и врачебные знания, чтобы объяснить: женщине, перенесшей рак, можно рожать. Не сразу после химиотерапии, конечно, но можно. Можно кормить ребенка и во время химиотерапии, если уж так всё произошло. Можно человеку, даже находящемуся на лечении, выпить бокал шампанского, можно пойти в гости. Можно ЖИТЬ. Жить как все обычные люди. Главное – не бояться этой жизни. Главное – понять ее ценность и себя в ней. Наверное, это единственное, что отличает людей, перенесших рак, от тех, кто с ним еще не столкнулся: понимание ценности жизни».
«В общем, Капитолина Николаевна со мной так строго поговорила, что я решила лететь. И даже сама теперь удивляюсь, как это можно было подумать, что после рака вредно летать», – со смехом говорит Евгения Панина в нашу первую встречу, с ходу рассказавшая о том, как отпрашивалась у доктора на конференцию. В эту же встречу я предлагаю Евгении стать главной героиней книги «Победить рак». Она удивляется: «Я не публичный человек». Но обещает подумать.
Договорились встретиться сразу после ее возвращения из Праги. «Я буду лететь в самолете и всё время думать о вашем предложении, Катя. Это гораздо продуктивнее, чем думать о том, не вредно ли мне летать на самолетах», – смеется на прощание Евгения.
Самолет, кресло, куча людей вокруг. Как будто я лечу в первый раз в своей жизни. Все ощущения удивительно новые. Командир что-то говорит. Вокруг щелкают ремни безопасности. Мы, наконец, взлетаем. Я смотрю на удаляющуюся землю. И точно так же, как будто бы издалека, с высоты, смотрю на себя в этом самолете, на свою жизнь спустя год небытия: кто я теперь? Что со мной будет? Что значит вся эта история?
По салону самолета разносят газеты. Соседи шелестят страницами, отвлекая ее от мыслей. Взгляд цепляется за строчку «Неизлечимый рак – миелома – чума XXI века». Стоп. Это же ее болезнь.
Меня как током ударило: стоп, это же моя болезнь! Соседи торопливо перелистывают страницу, стараясь даже не задерживаться взглядом на заметке про рак. Прошу у мужчины рядом газету. Разворачиваю именно на этой полосе. Нарочно, чтобы сосед видел, внимательно читаю заметку про свою миелому, он смотрит на меня с изумлением и страхом. А я читаю, и ничего во мне не шевелится, я читаю журналистские ужасы про хорошо знакомую мне болезнь с удивительным даже для себя спокойствием. Разве что ноет внутри какое-то странное, навязчивое желание сказать каждому из тех, кто, зажмурившись, не стал это читать: «Это я, это было со мной, прочтите, это не заразно!» Забираю газету с заметкой из самолета. Ношу ее в сумочке всю командировку, беру с собой назад, в Москву. Всё это время не покидает мысль: может ли так быть, что одна из причин, по которой мне был послан этот рак, – возможность рассказать о нем? Может, моя болезнь и этот страшный год моей жизни – повод говорить о раке так, чтобы помочь другим не бояться? Ведь на самом деле это и есть моя обязанность как врача. Или как бывшего пациента. Мысли путаются. Одно понятно: мне хочется об этом говорить. Неужели я дам интервью? Ну, нет, это смешно. Какой из меня герой романа.
Вернувшись, Евгения будет откладывать нашу встречу несколько раз, ссылаясь на самые разные причины: занятость, семейные выходные, усталость. Я не тороплю ее с ответом. Понимаю, что, согласившись на интервью, она впустит в свою жизнь огромное количество чужих, незнакомых людей, и ее личная история перестанет быть чем-то сокровенным.
Мне казалось, если я пойму, почему это случилось со мной, то смогу исправиться, и всё будет хорошо. Если говорить с собой честно, то я так ничего ПРО ЭТО и не поняла. Но со временем поняла другое. Болезнь – это испытание, которое должны были пройти я и моя семья. Не ПОЧЕМУ, а ЗАЧЕМ. Чтобы стать семьей. Ведь до моей болезни мы как семья были почти на грани катастрофы: дети выросли, у всех своя жизнь, свои проблемы, я полностью растворилась в работе, муж тоже. Мы отдалились друг от друга, ниточка между нами становилась всё тоньше. Нашей крепкой семьи больше не было. Мой РАК вновь всё поставил на место. Я снова стала каждой клеточкой своего тела ощущать, что счастлива. Что я не одна, что рядом со мной МОИ – самые родные, самые близкие: любимый муж, умные, талантливые, чуткие и любящие дети.
Выходит, болезнь пошла во благо моей семье. Этот год позволил остановиться, оглядеться, понять важное и отмести все несущественное. Оказалось, нет необходимости куда-то бежать без оглядки. Оказалось, на бегу я упускаю то самое, ради чего только и стоит жить. Оказалось, что я перестала быть самой собой, перестала воспринимать тех, кто рядом, ценить их, любить, жалеть, обнимать. Из жизни ушел смысл. За этот год он вернулся, став более глубоким, более пронзительным. Моя жизнь сделалась по-настоящему дорогой мне. Я не знаю, сколько мне еще осталось жить. Но сколько бы ни осталось, я хочу прожить эти дни, месяцы и годы в этом обретенном понимании собственного счастья.
Это последняя запись в дневнике пациентки Евгении Паниной.
«Ты знаешь, Катька, никогда я не жила с такой интенсивностью, как сейчас! Я как будто получила какой-то неведомый подарок! И тороплюсь им воспользоваться, пока щедрость посылающего не закончилась. И я радуюсь. Я стала так радоваться жизни, как никогда прежде не умела!» Мы стоим с писателем Людмилой Улицкой на высоченной горе Беука. Здесь у нее, как она говорит, нора. Крошечная квартира с террасой, вид с которой невозможно охватить взглядом: пинии, опираясь на ольховник, спускаются вниз бесконечным зеленым ковром, перебитым в одном месте смелой акацией, выросшей за те семь лет, что Улицкая сюда приезжает. «А море видишь?» – пихает она меня в бок. «Где, Люся?» – спрашиваю я, всё еще балдея от того, что могу называть ее Люся. Всё еще до конца не веря, что мы по-настоящему стали подругами. Именно за эти семь лет. Семь лет, то ли подаренных ей, то ли вырванных ею у болезни. «Вон там, смотри, ровно там, где кончается небо, есть небольшой темно-синий клочок», – обнимает меня она. И я бережно утыкаюсь носом ей, моей большой подруге маленького роста, в макушку. И обнимаю ее в ответ. Может, чуть сильнее, чем надо, чем было бы правильно в этой обычной утренней болтовне. Я страшно благодарна жизни и судьбе, что она у меня есть. И почти физически ощущаю хрупкость этого подарка, недолговечность жизни, ее ценность. «Давай пробежимся вниз, выпьем на набережной кофе?» – предлагает Люся. И бежит впереди меня, перечисляя свои планы на неделю, которую проведет здесь, в итальянской деревне Коголето. «Я называю это третьей попыткой», – говорит она, когда мы сидим на пустой зимней набережной и пьем кофе. Сейчас январь. «Эта моя часть жизни, пожалуй, оказалась самой прекрасной, чего я не ожидала, не ждала. Но мне в ней интересно жить. И я ее воспринимаю как что-то данное мне сверх договора и потому особенно ценное», – говорит Улицкая. Я знаю, что «третьей попыткой» она называет и эту часть жизни, и книгу, про которую еще не уверена, что она выйдет: дневники, записки, выдержки из писательских блокнотов. «Сперва я жила свою жизнь, как все живут, думая, что будет шанс переписать набело; потом мне действительно повезло, посчастливилось прожить ее в своих книгах, – говорит Люся. – А теперь новый шанс: я перечитываю свои дневники и вижу всё, что со мной случилось, ретроспективно, как бы сверху, на известном отдалении. Это невероятный кайф! Никогда не могла себе представить. Кроме того, всё это еще и подготовка к смерти. Мне выпала счастливая возможность иметь на это много времени. При этом я активна, мне всё интересно. И больше всего мне интересен момент ученичества, когда я учусь у вас, моих молодых друзей, и вижу, что вы умнее, сообразительней меня, но у нас общие интересы, общие этические и эстетические представления об окружающем мире». Я спрашиваю, часто ли она думает о болезни, с которой пришлось столкнуться. Отвечает почти без промедления: «Нет, что ты! А если и думаю, то только с благодарностью. Это великолепный факт моей биографии. Звоночек, который прозвенел. И нечто важное, что помогло мне иметь силы на то, чтобы запретить себе уныние. Я всё время говорю себе: как хорошо! Ну хорошо же! Жива, люблю, любима, радуюсь, столько всего вижу, столькому всему становлюсь свидетелем». И я опять ее обнимаю.
Именно Улицкая настояла на том, чтобы я переписала книгу «Победить рак» для второго издания. Именно она интересовалась всеми возможными продолжениями историй. Именно она сказала: книгу надо переписывать, потому что одно только это – важнейшее доказательство того, как стремительно и очевидно медицина движется вперед. «Дописала, Катька?» – спрашивает она меня за этим утренним кофе на безлюдной набережной. «Осталось несколько глав». – «Отлично! Я очень жду. Я знаю очень многих, кому такая книга пригодится». Она гладит меня по плечу. И это, пожалуй, самая большая поддержка в моей жизни.
Глава 35
Вдоль широкой песчаной береговой линии Балтики расставлены старомодные голубые скамейки. Отдыхающие, сворачивая с прямолинейного променада, присаживаются и замирают.
Жанна всё дольше может оставаться на ногах, у нее хватает сил играть с Платоном, гулять по белому песчаному променаду с Димой, принимать гостей и самой ходить в гости. Тем же летом в Юрмале Платона покрестят: семья сумела дождаться восстановления Жанны.
«Я боялся дышать, – рассказывает Шепелев, – я боялся утвердительно ответить себе на вопрос: ушел ли рак, победили ли мы его? Это было странное ощущение: с одной стороны, наконец, произошло то, чего мы так долго ждали, – Жанна пошла на поправку. С другой – мы боялись произнести это вслух. Нам предстояло заново научиться жить, научиться верить, что для нас действительно возможна жизнь без рака».
Тем летом Жанна и Платон двигались параллельными курсами: мальчик сделал первые шаги в те же дни, когда мама впервые за долгое время встала с инвалидного кресла и смогла преодолеть пару метров на своих ногах. Жанна проходила курс реабилитации, Платон учился жить с мамой, говорить, играть. Летом 2014-го в Юрмале Жанна впервые после болезни садится за руль машины, хотя ее зрение всё еще позволяет желать лучшего. В автомобиль Жанна села вместе с мамой, поехала в неправильную сторону, чудом не врезалась в грузовик и не разглядела ни одного дорожного знака, встретившегося по пути. Но была счастлива!
«Тем летом Жанне исполнилось 40 лет. В саду нашего летнего дома мы накрыли столы, и впервые за долгое время, празднуя, подняли бокалы каждый за свое, но всё равно за одно – за здоровье любимого нами человека. Это был действительно грустный праздник с улыбками и надрывным смехом. Чувство тревоги неизменно отравляло сладость торжества. Жанна произнесла тост: «Если бы не вы, меня бы уже не было в живых. Спасибо. Я люблю вас», – вспоминает Дима. Мы смотрим на стальное Балтийское море. Теперь осень. И широкие пляжи пустуют. Ни детского смеха, ни взрослой болтовни. Тихо.
Шепелев вспоминает, летом 2014-го он обменялся с Жанной кольцами: «Мы были бы не мы, если бы я не замямлил что-то сбивчивое и путаное, мы не засмеялись, и я не попросил разрешения начать еще раз, сначала. Жанна не была бы собой, если бы не ответила кокетливо: «Я должна подумать», что, конечно же, означало «да». Потом она пришлет ему сообщение: «Я буду твоей женой». А кольца, сделанные другом-ювелиром за символический один доллар, прибудут из Америки в бархатной коробочке. И они, смущаясь и улыбаясь, наденут их друг другу без свидетелей. Это была не свадьба в привычном понимании слова, а жизнь, которую два взрослых человека, вместе переживших очень тяжелую болезнь, решили теперь связать навеки. «Болезнь научила нас главному: завтра может и не быть. Поэтому мы не загадывали на будущее, мы просто верили, что всё плохое и страшное останется позади, а мы будем жить так и столько, сколько нам будет отпущено, – говорит Дима. – Наверное, все же мы счастливы. Однако это какое-то обостренное, раненое, затравленное счастье. Всегда с опаской. Счастье, которое не расслабляет, а скорее напоминает о зыбкости происходящего. На рассвете, стоя босиком на крыльце, глядя, как серое море сливается с серым небом – такое бывает только в Юрмале, – мы с Жанной чаще молчим: боимся спугнуть то, что есть».
Осенью 2014 года они вернутся в Москву и даже смогут улучать мгновения, чтобы побыть в своей любимой квартире наедине: просто сидеть часами, обнявшись, смотреть черно-белое кино, пить чай, хохотать и примерять на себя обыкновенную жизнь. В какой-то момент им покажется, всё вернулось на круги своя: обед с друзьями в кафе, долгий поход Жанны по салонам красоты, вечер наедине, гости, запланированные на завтра, и билеты на детский спектакль, куда они пойдут втроем с Платоном в ближайшие выходные. «Поразительно было, как люди в разных местах встречали Жанну, – рассказывает Шепелев. – Совершенно незнакомые, наплевав на правила поведения и этикет, они подходили, обнимали ее, говорили слова поддержки и иногда даже плакали. Вначале это было странно и даже дико, но я видел, какими ободряющими эти слова были для Жанны, как ей важно было знать, что людям небезразлично ее возвращение, ее борьба и ее победа над болезнью. Да-да, к Новому году мы внутренне уже стали считать эту историю историей со счастливым финалом».
Вернувшись в Москву, в канун нового 2015-го года он впервые за долгое время пригласил ее в театр. Почему-то она собиралась дольше обычного. Нервничая, Шепелев вышел из машины, чтобы встретить ее, и остолбенел: ему навстречу чуть неуверенно, но практически прежней легкой походкой шла Жанна на каблуках. Это было потрясающе. «Ты прекрасна», – только и смог выговорить он. Поднял на руки, поцеловал и понес к машине.
Он назовет это лето и эту осень моментом наивысшего успеха в борьбе. «Дальше болезнь одну за одной, медленно и уже безвозвратно, начала прибирать к рукам все наши маленькие победы, – медленно говорит Шепелев. – Внешне всё выглядит неплохо: раз в три недели контрольное МРТ, результаты которого отправляются в Лос-Анджелес доктору Блэку. Если тот отвечает, что опухоль не прогрессирует, значит, можно расслабиться на следующие три недели. Внешне всё выглядит неплохо», – повторяет Дима. А потом скороговоркой рассказывает, как еще в декабре стал замечать, что Жанна теряет волю к жизни. Появляются апатия, бессилие, ей всё реже хочется вставать, что-то делать, двигаться, заниматься с тренером, быть красивой, соблюдать диету. «Я твердил ей, что она мне нужна, я даже злился, я рассказывал ей о нашей затее с фильмом, но это не работало. Тогда я убеждал себя, что она просто устала, что это просто такой предновогодний момент, что всё идет хорошо, лекарство работает, а мы двигаемся в правильном направлении. А потом срывался: пил, бил посуду о стену, плакал. У меня не было сил. Я боялся возвращения болезни». – «А она?» – «А она улыбалась. И только говорила: «Счастье любит тишину. Мы же счастливы? Давай помолчим, чтобы не спугнуть свое счастье». Теперь я понимаю, что я – человек, который не сумел ни с кем поделиться страхом, когда Жанна заболела, а потом ни с кем не смог разделить ужас того, что болезнь вернется. Я миллион раз прокручивал в голове свой разговор с доктором. Я пытался вспомнить, что он говорил о шансах, о времени, когда препарат будет действовать, о прогнозе. В какой-то момент я понял, что сам себе подкидываю новые и новые зацепки, чтобы не переставать надеяться, чтобы верить».
В онкопсихологии принято считать, что вместе с самим онкологическим пациентом болеет минимум 10 человек, находящихся рядом, это те, кто входит в ближний круг. Тому, кто совсем близко, достается больше других: те же стадии принятия болезни, те же силы на преодоление признания диагноза, силы, потраченные на борьбу и страх рецидива. И, как следствие, нежелание признавать возвращение болезни в том случае, если оно случилось.
С 2016 года в России существует бесплатный круглосуточный телефон помощи тем, кто столкнулся с болезнью: 8–800–100–0191. Эта горячая линия организована проектом «Со-Действие» при поддержке Минздрава России. Телефон рассчитан не только на тех, кто непосредственно болеет, но и на близких, друзей, родственников онкологических пациентов. Каждому из этих людей в любой момент может потребоваться психологическая помощь. Не надо стесняться просить о помощи, потому что человек, отодвигающий свои страхи, оставшись без поддержки, становится нересурсным. То есть не может помочь ни себе, ни тому, кто болеет.
Сразу после нового года из Лос-Анджелеса от лечащего врача Жанны приходит сообщение: «Мне жаль, но вам пора возвращаться». Перелет Москва – Лос-Анджелес. Взлетно-посадочная полоса, на которой знакома каждая трещина, паспортный контроль; прежде казавшаяся такой кинематографичной, но теперь примелькавшаяся дорога из аэропорта, гостиница, парковка у клиники, рецепшн, лифт, кабинет врача. Впервые за всё время лечения у этого пути нет надежды. Только обреченность. В кабинете врача на экране снимки последнего МРТ Жанны. Это рецидив. Появились новые очаги опухоли, возобновился рост старой. Короткий разговор:
– Что нам делать?
– Мы испробовали все доступные методы. Ничего более нового в мире в принципе на сегодняшний момент не существует.
– А если повторить лечение?
– Если ты настаиваешь, мы попробуем. Но нет никаких гарантий. И к тому же надо помнить: возможности организма не безграничны. Иногда наступает момент, когда надо просто остановиться.
Кто уполномочен произнести эти страшные и окончательные для семьи слова: «Мы исчерпали для лечения всё, что предлагала и предлагает мировая медицина на сегодняшний день. Альтернатив нет». И Дмитрий Шепелев, и лечащий доктор Жанны Фриске Джереми из Лос-Анджелеса, и профессор Коновалов из Москвы, и академик Личиницер из Онкоцентра имени Н. Н. Блохина, с которыми Шепелев продолжал консультироваться, и многие другие врачи понимали, что зона передовой исследовательской медицины для Жанны закончилась. За ней начиналась пустота, которую следовало наполнить смирением. Кажется, к этому никто не был готов. Формально слова произносил доктор Али, наблюдавший Жанну с самого первого дня болезни. Но какая разница, кто произносит эти слова формально? Важно, способен ли их услышать тот, к кому они обращены. Способен ли понять?
Я задаю Михаилу Ласкову самый сложный вопрос, касающийся взаимоотношений онкологического пациента (его семьи) с лечащим доктором: «Кто имеет право принимать решение относительно окончания лечения? Кто произносит фразу: «Все доступные методы уже исчерпаны?» Каким тоном ее произносить, чтобы близкие пациента услышали? И чтобы невозможность лечить не выглядела нежеланием?»
Ласков приводит в порядок бумаги на столе, укладывает их ровными стопками. Что-то смотрит в телефоне, в компьютере. Несколько раз меняет положение в кресле.
«Этот вопрос из разряда новых этических вызовов, которые встают перед медициной XXI века, – говорит Ласков. – Понятно, что сейчас в арсенале врачей значительно больше средств для поддержания жизни пациента. В некоторых случаях медицина достаточно развита даже для того, чтобы просто элементарно поддерживать жизнь: дыхание, пульс, сердцебиение. Но встает вопрос о качестве жизни. И еще встает вопрос, который, как правило, близкие не хотят ставить перед собой: сопоставимость качества жизни и затраченных ресурсов; сопоставимость надежды и реальных шансов на улучшение состояния или хотя бы на не ухудшение. Понятно, что эмоциональная составляющая тут огромна. Родители, мужья и жены, дети, словом, близкие люди не могут смириться с тем, что ничего больше нельзя сделать, и единственный оставшийся вариант – прекратить мучения, остановить лечение и дать человеку уйти.
И если раньше большинство судебных процессов, связанных с медиками, были посвящены врачебным ошибкам, то теперь врачи всё чаще отвечают в суде на вопросы родственников: почему вы остановили лечение, если там-то такие-то светила говорили, что можно попробовать еще то-то и то-то. Обилие таких судебных процессов кардинально изменило систему судопроизводства в той ее части, которая касается медицинских дел».
По словам Ласкова, первые судебные процессы, касающиеся правильности принятия решения об окончании лечения, состоялись в Англии и США, странах, находящихся на передовой развития медицинских технологий: родственники упрекали врачей и органы здравоохранения в отказе от лечения в то время, как, по их мнению, исчерпаны были далеко не все средства. Стороны зашли в тупик: с одной стороны, ни один суд не может обязать врача предоставить пациенту лекарство, не прошедшее клиническое исследование, только лишь потому, что «это дает надежду». С другой – ни один врач еще не был осужден за применение экспериментального, но находящегося в стадии активных клинических исследований лекарства, даже если результат его действия не привел к выздоровлению пациента. Выходит, психологическое состояние больного, его близких, врача, общества никаким образом не может быть регламентировано судом. Однако, из года в год отрабатывая практику рассмотрения подобного рода дел, общество пришло к следующему консенсусу: лечение может быть признано адекватным и приемлемым, если применялось с учетом существующего на сегодняшний день общепризнанного протокола, основанного на верифицированных публикациях в научных журналах, клинических исследованиях. Психологическое давление, этические и моральные привходящие не могут обязать врача действовать против интересов пациента, как он их понимает. Главным из них не всегда является поддержание его жизни, но качество этой жизни, а также сопоставимость предпринимаемых усилий с ожидаемым результатом.
Надо признать – решение о продолжении лечения будет в бо́льшей степени за врачом. И тут уже вопрос взаимоотношений семьи и лечащего доктора: сумеет ли он убедить родственников перестать «спасать» того, кого в медицинском смысле спасти уже, увы, невозможно.
«Я говорил, что можно отпустить. Хотя, знаешь… Я не уверен, что я это произносил вслух. Может быть, я это думал?» – говорит отец Алексей Уминский. Он вспоминает о семье своего товарища, хорошо мне знакомого человека, где один за другим от тяжелой болезни ушли двое детей. И семья сражалась за третьего. Силы были неравны: болезнь брала верх. В какой-то момент пришло время решать: оставить ребенка в больнице на аппаратах, создавая иллюзию борьбы, или остановиться, забрать пятилетнего мальчика домой и больше ничего не делать, просто любить и прощаться?
– Что вы сказали?
– Ничего не сказал. Обнял просто. Мальчика, маму, отца. Нет таких слов, чтобы убеждать, нет такого права, чтобы настаивать.
– Где был Бог?
– Бог был с нами, с ними. Им было очень тяжело. А Господь всегда с теми, кому тяжелее.
– У вас возникало ощущение несправедливости?
– Возникало ощущение не всесильности, невозможности чем-то управлять, что-то дать взамен, чтобы этот ребенок жил, чтобы имел шанс, чтобы всем было как-то – я не знаю, не проще и не легче – естественнее принять это решение.
– Вы понимали, что надо принимать именно такое решение?
– Нет. Я просто понимал, что принимать решение придется.
Я зачем-то рассказываю отцу Алексею историю, которую он и так знает. Но он слушает, как слушает обычно человек, привыкший к чужим историям. А я рассказываю о Разуевых, которые живут в высотке на Речном вокзале. Это в Москве. Их дом стоит на холме, а квартира – на высоком шестнадцатом этаже. В окно разуевской кухни можно, как в телевизор, смотреть бесконечно долго: там едет Ленинградское шоссе, взлетают и садятся самолеты аэропорта Шереметьево и, никуда не торопясь, поблескивает то на солнце, то под звездами вода в канале имени Москвы. Эту воду из окна видно лучше всего.
«А до канала тут минуты три пешком, – глядя на водоем, говорит Андрей Разуев, Лешин папа. – И Лешка в своем репертуаре, предлагает: «А давай кататься на катере! Хочу порулить!» И мы потихоньку рано утром, пока никого нет, выходим, садимся в катер. И он как погонит, я только зажмуриться от страха успел». В компьютере у Андрея Разуева есть видео: над каналом имени Москвы встает солнце, 16-летний Лешка мчится по водной глади и улюлюкает. Папа за кадром хохочет и улюлюкает вместе с ним.
Через неделю в квартире Разуевых уже было не протолкнуться: школьные друзья, волонтеры Первого Московского хосписа, врачи, отец Алексей Уминский, ставший Алешиным духовником, поэтому он и знает эту историю.
23 августа 2014 года после 27 химиотерапий, трех лет лечения (половина этого времени – в Германии) и трудного решения вернуться домой Алеша Разуев умер. Не дожив двух дней до своего семнадцатилетия. Он умер дома в окружении тех, кто любил его и кого любил он. Он умер, потому что ни одно из существующих на свете лечений не могло ему помочь. Но поверить в это было почти невозможно.
«А в Шваббинге, в немецкой клинике, где Алешка лечился, на каждом этаже теперь повесили его фотографию», – рассказывает Лешина мама Елена. И видно, что она очень гордится сыном. О том, как стойко Леша принял диагноз, как помогал медсестрам на Каширке «считать химию», как сам ходил на консультации к немецким врачам и по-взрослому участвовал в обсуждении хода лечения, его родители рассказывают с восхищением. За три года болезни эти трое, кажется, не расставались ни на минуту. Леша был самым сильным в тройке.
«Мы были командой, но мы с папой иногда выдыхались: то плакали, то выходили и «нашагивали» по десять километров по городу, только бы не плакать. А Леша… Он же не мог выйти. Он оставался в палате. И он не ныл. Он боролся. Он невероятно хотел жить», – говорит мама Лена, а папа Андрей добавляет: «Я не знаю, как он всё это терпел. Я иногда спрашивал его: «Сынок, а как ты это выносишь?» А он улыбался и говорил: «Господь дает мне силы». И докторам, изумлявшимся, как он переносит одну тяжелейшую химию за другой, всё время повторял: «Вы делайте свою работу, лечите. Я потерплю».
Про немецкую часть Лешиного лечения Разуевы в один голос говорят: «Это было самое счастливое время в нашей жизни». Потому что все были вместе. Потому что была надежда. И даже когда надежды почти не осталось, была вера в то, что Лешка выкарабкается, что он-то сможет, у него получится. Но летом 2014-го стало ясно, что возможности даже самой лучшей в мире медицины исчерпаны. «Нас могли оставить в клинике, Лешку очень любили и врачи, и сестры, он в каком-то смысле для них был уникальным пациентом: столько всего выдержал и никогда ни на что не жаловался. Но мы собрались на семейный совет и решили, что надо ехать домой», – говорит Андрей Разуев. А Елена добавляет: «И вот тут я впервые увидела, что Леше страшно».
В берлинском аэропорту Шёнефельд самолет «Аэрофлота» сделал разворот, разогнался и начал набор высоты. А Лена увидела, как ее сильный и смелый мальчик машет уменьшающемуся в иллюминаторе Берлину рукой. Прощается. И рука у Леши дрожит. Потому что он боится. Она вспомнила, как накануне он то ли спросил, то ли предположил: «Мама, а если мне будет очень больно?»
В июле 2014 года Разуевы летели в Москву, толком не веря в возможность того, что в их жизни еще будет свет, смех и счастье. И что эта жизнь будет какая-то человеческая, без боли и страха этой самой боли. Немецкие врачи, конечно, дали Разуевым столько обезболивающих, сколько смогли. Но сколько можно увезти лекарств в одной сумке? Все в семье боялись даже думать о том, что будет, если препараты кончатся. И если новые негде будет взять.
Говорят, на свете нет ничего непереносимее онкологической боли. И сильнее страха ее возвращения. Представить себе это невозможно. Но ни одному человеку на свете, не терявшему детей, невозможно представить то, что чувствовали Лешины мама и папа, возвращаясь в Москву для того, чтобы их сын имел возможность умереть дома.
Дома Лешу ждали бабушка, дедушка, друзья и еще, конечно, «стены, которые помогают». Перед самым отлетом кто-то дал Елене телефон совершенно незнакомой ей женщины. Нюта Федермессер, так ее звали. «Я вообще не очень понимала, кто она. Но позвонила, – рассказывает Елена. – Она сказала, что это очень хорошо, что я звоню, что она рада мне помочь всем, чем сможет. Но сейчас улетает в отпуск, вот прямо садится в самолет. И поэтому мне перезвонит Лида Мониава, координатор детской программы фонда помощи хосписам «Вера»«.
Елена не успела подумать, что будет, если Лида не перезвонит, как телефон зазвонил. На том конце провода тонкий, почти детский голос настойчиво задавал вопросы. К концу разговора набрался целый список того, что нужно было за сутки подготовить к Лешиному возвращению домой. Если честно, в июле 2014-го, вылетая из Германии, Елена ни на одну секунду не поверила в то, что у этого разговора могут быть последствия в Москве.
«Когда самолет приземлился, мы обнаружили, что у трапа нас встречает «скорая помощь», в которой есть все необходимые обезболивающие, дома ждет обалденная кровать, именно такая, как нужна Лешке, а в 14:00, ровно так, как и говорила Лида, раздался звонок в дверь – пришел доктор Антон.
«Знаете, вот тут у меня почему-то наступило облегчение, – рассказывает Елена. – Я вдруг совершенно отчетливо поняла: мы больше не одни. И один на один с тем, что нас ждет, уже не останемся. Нас не оставят».
Весь июль в квартире на 16-м этаже дома с самым красивым на Речном вокзале видом из кухонного окна было полным-полно людей: соскучившиеся за время Лешиной болезни одноклассники, взахлеб обсуждавшие что-то из школьной жизни; волонтеры из Первого Московского хосписа с невероятными затеями то по кулинарной, то по культурной части. «Я помню, что всё время накрывала на стол, мыла посуду, смеялась с Лешкой и с теми, кто к нему пришел, потом провожала гостей. И тут же встречала новых. В общем, у нас была жизнь, представляете?» – говорит Елена. Почему-то ей кажется, что я не верю. И она добавляет: «Дом был полон народу, в нем была живая, человеческая речь. И моему сыну было не одиноко. А мне почти всё время некогда присесть, поплакать, некогда лезть от безысходности на стену. Иногда было столько народу, что я их партиями к Леше запускала. И минут через десять, когда у него кончались силы, говорила: «Так, всё, его величество устало, прием окончен». Часто в том июле, а потом и в августе к Разуевым приезжал отец Алексей Уминский. И то ли он Алеше, то ли Алеша ему всё отвечал и отвечал на, пожалуй, самый безответный вопрос на свете: «Почему болеют дети?» Но этих разговоров никто толком не слышал: подросток и священник разговаривали с глазу на глаз.
Из Первого Московского хосписа на машине выездной службы к Леше ездили доктор Антон и доктор Ирина. Потом доктор Ирина стала оставаться у Разуевых на ночь, потому что Алеше всё чаще становилось нехорошо и обезболивание требовалось 24 часа в сутки. Мама Лена иногда на одну секунду представляла себе, что бы было, если бы всех этих людей не было рядом. Но дальше мысли о том, что разрешение на обезболивание для сына пришлось бы выбивать недели три-четыре, Елена не шла: думать об этом ей было до тошноты страшно.
Для того чтобы состояние и болевой синдром Леши были под постоянным контролем, доктора Ирины было бы, наверное, достаточно, но доктор Антон всё равно выбирался к Разуевым на Речной вокзал. Потому что скучал по Леше. И еще потому, что они вдвоем любили поболтать о футболе. Именно из этих разговоров доктор Антон узнал о том, что, вопреки московской прописке, 16-летний молодой человек Алексей Разуев болеет за петербуржский «Зенит». А в «Зените» больше всех любит футболиста Александра Кержакова. Доктор рассказал об этом в Первом Московском хосписе, а Лида Мониава из хосписа – всему свету. И через пару дней в Лешкином скайпе возник самый настоящий Александр Кержаков. Леша с папой, отталкивая друг друга, болтали с Кержаковым почти час. «Нет, ну я-то за «Спартак», конечно, – оправдывается теперь Андрей. – Мы с друзьями всегда Лешку поддевали по поводу его «Зенита». Но тут, смотрю, настоящий Кержаков. Разговаривает! Шутит! Что-то про игру говорит, которая на завтра назначена, и обещает передать Лешке форму. Ох, как он был счастлив! Глаза горели!»
«Мы и представить себе не могли, что произойдет на следующий день, – говорит Елена. – У нас тут как обычно: полно народу, шум, гам, вдруг звонок. Какая-то девушка. Говорит: «Откройте дверь!» Думаю, волонтеры что-то опять придумали. Но слышно плохо, потому что кругом все галдят. Иду к двери, открываю. Действительно: высокая красивая девушка. С букетом цветов. И тут… Она делает шаг в сторону, а за ней Кержаков. Я как закричу: «Леша, Леша, Саша Кержаков приехал!» И вы бы видели Лешку в этот момент. Он чуть не лопнул от восторга! И я была самая счастливая: мой сын был счастлив!»
А еще через неделю Леша с папой катались на катере. А 23 августа Леши не стало. 25-го ему могло бы исполниться 17 лет.
И вопрос о том, как они, Елена и Андрей Разуевы, сумели это пережить, застрянет у меня где-то внутри, так и оставшись незаданным. Как и вопрос о том, как им удается находить в себе силы так светло и живо рассказывать о последних днях сына.
Как принять, что смерть нельзя отменить, даже если очень сильно любишь кого-то и не готов расставаться; даже если умирающий – твой единственный сын, как это было у Лены и Андрея Разуевых.
Такое не примеришь на себя, об этом просто страшно подумать. Наверное, поэтому тем, кто никогда не терял ребенка, почти невозможно объяснить, насколько важно родителям знать, что смерть была легкой, что не было больно и страшно. И что для этого было сделано всё возможное. Андрей и Лена часто бывают в Германии. Приезжают в клинику Шваббинг, где на каждом этаже висят портреты их улыбающегося сына, встречаются с родителями детей, которые лечились вместе с Лешей, друзьями и волонтерами, которые теперь тоже друзья.
Елена Разуева стала волонтером первого детского хосписа «Дом с маяком». Помогает детям-подопечным ходить на службы в храме Святой Троицы в Хохлах, где настоятель – отец Алексей Уминский. Он теперь тоже – как будто волонтер.
– Смерть сына для Лены и Андрея – потеря, которую невозможно пережить. Но боль от этой потери – светлая. Мне важно так думать, я хочу в это верить. Я не знаю, каких сил стоило им принять решение больше не бороться.
– Каких? – спрашиваю Уминского.
– Не знаю. Никто не знает. Господь, может, знает.
«Когда ты понял, что всё? Что больше ничего нельзя сделать?» – спрашиваю я Дмитрия Шепелева ранним апрельским утром 2015 года. «Знаешь, мне кажется, я не понял этого до сих пор. Но я понимаю, что Жанну надо, наконец, оставить в покое. Единственное, что я сейчас хочу, чтобы ей не было больно, не было страшно. Я могу найти в себе силы бороться дальше, но я не могу заставить ее бороться, я вижу, что у нее нет сил. Болезнь сожрала мою любимую». В этом разговоре мы впервые произносим слово «хоспис». Дима внимательно слушает мой рассказ, соглашается записать адрес и телефон. Собирается съездить и посмотреть. Но решиться ему тяжело. Он несколько раз говорит о том, что согласиться на хоспис для него будет означать сдаться. А сдаваться он не хочет. Он любит Жанну.
Несколько месяцев назад, в декабре, в Лос-Анджелесе вместе с лечащим доктором Жанны они приняли решение попробовать продолжить инъекции в надежде, что лекарство подействует. Потому что больше никакой надежды ни на что не было. «Распорядок был прежний – один укол каждые три недели. Есть ли результат, станет известно не раньше чем через 12–18 недель, – рассказывает Шепелев. – Никаких гарантий. Только надежда. И я надеялся. Оставаться в Лос-Анджелесе больше не имело смысла. И в феврале мы полетели домой».
Пожалуй, это был самый трудный перелет за всё время их любви и ее болезни. Жанна почти не приходит в сознание, а если приходит, не вполне понимает, где она и что с ней происходит. Он всё время повторяет: «Я рядом. Всё хорошо. Мы летим домой. Там нас ждет наш сын Платон. Всё наладится, всё будет хорошо. Я рядом».
Прямо из аэропорта Жанна Фриске отправилась в родительский дом. Болезнь, истощившая силы всех находящихся рядом, совершенно разладила и без того сложные отношения в семье. Родители Жанны упрекают Шепелева в том, что это не опухоль, а именно лекарства убивают их дочь, он пытается доказать им, что, судя по всему, на свете больше нет ничего, что могло бы остановить рост опухоли. Никаких других вариантов у семьи нет. Споры о продолжении или отказе от лечения ведутся день за днем и длятся неделями. Эмоции не решают проблему, так или иначе о Жанне нужно заботиться, пытаться ей помочь. Так и лечат, споря, ссорясь, не примиряясь ни друг с другом, ни с болезнью.
«Ты всегда уверяла меня, что болезнь сплачивает семью, но в нашем случае всё было иначе: болезнь разорвала неловко натянутые ниточки отношений между безмерно далекими друг от друга людьми. Я не знаю, как мне разговаривать с ними о хосписе. Потому что всё, что я говорю, они воспринимают в штыки. А любую попытку облегчить состояние Жанны, смириться и попробовать не бороться за спасение, но дать возможность уйти легко, они воспринимают как саботаж в лечении. Домой приглашают целителей и специалистов по здоровому питанию, китайских экспертов и деревенских экстрасенсов. Я на грани. Я не могу больше жить и видеть, как она уходит и как я ничего не могу с этим сделать. Ни с болезнью, ни с качеством жизни той, кого я люблю больше всех на свете».
В апреле 2015-го Дмитрий Шепелев поедет в Первый Московский хоспис и встретится с докторами и сестрами. Он даже посмотрит палату, которую руководство хосписа согласится, имея в виду статус пациентки, втайне от всех выделить Жанне Фриске. Будут достигнуты договоренности об особом режиме конфиденциальности и мерах безопасности по отношению к журналистам. Внутренне Дима примет решение: здесь и Жанне, и близким было бы полегче. Круглосуточные посещения, возможность для Платона видеться с мамой. Но родители Жанны с переездом дочери в хоспис категорически не согласятся, а против их воли ни Дима, ни врачи хосписа не смогут пойти. Президент Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер скажет Шепелеву: «Это ваше право и наша готовность попытаться сделать жизнь Жанны достойной до самого конца. Но у родителей есть свое право. И мы не можем его нарушить».
В начале июня 2015 года мы в последний раз поговорим с Димой. По телефону: «Ты знаешь, я понимаю, что ничего не могу сделать для Жанны. Но я вижу, как сложно Платону. Сейчас всё внимание семьи приковано к его маме. А он же ребенок. Ему хочется простых радостей. Я хочу на пару недель свозить его на море, но не понимаю, как это можно сделать, ведь Жанна может уйти в любой момент».
14 июня 2015 года Дима и Платон сели в самолет. За несколько часов до этого мальчик, улыбаясь, целовал мамины щеки, прикоснулся к ноге, ненадолго замер и выбежал в открытую дверь. Дима имел возможность проститься с Жанной наедине.
«Как это было?» – спрошу я его по телефону несколько дней спустя.
«Я держал ее за руку и просил для нее только одного: спокойствия. Что-то шептал, какие-то слова, не помню. Но помню, как с упорством и надеждой краем глаза всё время поглядывал на экран датчика кислорода и пульса: вдруг цифры вздрогнут, побегут вверх или вниз?! Это могло значить, что она меня слышит. Алые цифры не изменились. Жанна была неподвижна».
Он расскажет, больше всего на свете ему в тот момент хотелось, чтобы она хотя бы одними губами прошептала: «Прощай». Хотя бы как-то дала понять, что чувствует рядом его присутствие, что жива. Именно жива.
В автомобиле сидел Платон, ел землянику и требовал включить его любимую песню Бруно Марса. Через несколько часов их самолет приземлится в курортном местечке Болгарии. А еще через несколько часов Жанны не станет.
«Я мучился чувством вины, я клял науку, которая не поспела за нашей болезнью, я не находил себе места в мире, в котором больше нет ни Жанны, ни хотя бы одного способа за нее бороться», – говорит Шепелев. Мы вышагиваем по московским бульварам уже второй час. Кругом веселые, как будто по-праздничному одетые люди: едят мороженное, катают на качелях детей, наслаждаются жизнью. Москве очень идет весна. «Если бы на свете не было Платона, мне совсем не за что было бы уцепиться. Но потом я открыл свою почту: тысячи сообщений поддержки и тысячи просьб о помощи. Я понял, что мой, точнее наш с Жанной, опыт нужен людям».
В 2016 году Дмитрий Шепелев выпустит книгу «Жанна» об истории борьбы и любви. Он примет участие в создании сайта, помогающего онкологическим больным ориентироваться в медицинских и бытовых вопросах, неизменно возникающих во время лечения. Станет помогать онкопациентам и их родственникам: связывать с врачам и клиниками, переводить документы, искать места, где планируются или уже ведутся клинические исследования новых препаратов. «Я понял, что наша история борьбы – это не еще одна «анонимная история победы рака». Это история борьбы, которая может и должна быть полезной», – говорит он.
И я киваю. Будучи много лет вовлеченной в онкологические истории самых разных людей, я вижу, как тесно они связаны с развитием науки и медицины, как не в сказке и не в научно-фантастическом кино мечты становятся реальностью.
Идея «еще одной неанонимной жизни, отвоеванной у болезни» довольно популярна у тех, кто ищет средство борьбы против рака. Как, например, эксцентричный миллионер с офисом в стеклянной высотке на Манхэттене, Гаро Армэн. У него, кажется, есть всё – яхты, небоскребы, машины, красотки, даже команда по регби. Но главное сокровище коллекции Армэна – групповой выцветший снимок 9х12, сделанный дешевой мыльницей. На снимке красивая черноволосая женщина и мальчик лет восьми с глазами в пол-лица. Это Гаро Армэн, а с ним – его мама. Она умерла, когда сыну исполнилось шестнадцать. Рак груди.
«Это была просто еще одна анонимная жизнь, которую унес рак. Для каких-то там медицинских статистиков – пшик, ерунда», – рассказывает Армэн, сидя в роскошном кресле «умного» кабинета. Здесь жалюзи открываются одним движением пальца, температура воздуха подстраивается под температуру тела, освещение – под настроение. Армэн во всей этой роскоши смотрится беззащитным ребенком. «Но ведь это была жизнь моей мамы, одной-единственной! Она умерла только потому, что у нее не было никакого шанса поправиться. Мы жили в беднейшем районе Стамбула. Отец нас бросил. Мама тащила нас с братьями и сестрами одна. Денег даже на еду не хватало. Она работала и работала, только бы мы могли что-то есть и как-то учиться. Впрочем, она всегда говорила, что хорошо учиться важнее, чем хорошо питаться. О себе она почти не заботилась. Рак пришел незаметно. И сжег ее жизнь всего за несколько месяцев. И тогда я подумал: должно же после нее хоть что-то остаться? Не могила, не память, а реальное дело, хотя бы каким-то образом перевернувшее эту историю, придавшее ей смысл. На ее могиле я поклялся, чего бы мне это ни стоило, положить жизнь на то, чтобы дать людям шанс не умирать от рака. Малюсенький какой-нибудь шанс, ведь этого уже достаточно, правда?»
Я киваю: «Да, наверное». Да что это со мной: «Конечно, да!» Мне не верится, что его история до сих пор не вошла в учебники по бизнес-мотивациям. Может быть, потому, что мотивацией этого сверхуспешного бизнесмена, рассказывающего жуткую историю нищего детства, был совсем не бизнес? Армэн продолжает: «Похоронив маму, я перебрался в Америку. Каким образом – не буду рассказывать, но думаю, вы и без меня понимаете, что легальных возможностей у нищего подростка из Турции было немного. Я приехал, как и все нищеброды, прямиком в Нью-Йорк. Устроился посыльным на биржу. Стал изучать механизмы работы рынка, потом понемногу стал играть на бирже. Так я заработал себе на учебу. Образование мне было необходимо для того, чтобы войти в высший свет американского бизнеса. Без этого, увы, никак не сделаешь состояние. Я учился и работал – это было трудное время. Но я совершенно точно понимал, зачем, для чего я это делаю. И моей целью были никакие не деньги. Каждый вечер, точнее, это была поздняя ночь, вернувшись домой, я штудировал медицинские журналы. Я внимательно следил за тем, как идут исследования противоопухолевых препаратов во всем мире. В 1993 году я наткнулся на работу одного ученого, американца, которая меня очень заинтересовала, поскольку была крайне экстравагантной для того времени. Ученый утверждал, что лечение рака в основном состоит из химиотерапевтических веществ, которые очень ядовиты и токсичны, а польза от них не так уж велика. Дальше делалось предположение о том, что может быть создана вакцина от рака, которая, воздействуя на структуру опухоли, сможет останавливать развитие заболевания и даже предотвращать его. Помню, меня тогда поразила сама возможность такого поворота событий. Но денег у меня не было. Я просто навел справки об этом ученом, а еще съездил на Уолл-стрит и разузнал, какие именно компании занимаются инвестициями в фармацевтическую отрасль».
В Америке многие истории выглядят, как готовый сценарий для голливудского фильма. И если бы я лично не встречалась с Гаро Армэном, а например, прочла о нем в книге, то наверняка бы подумала: это красивая выдумка, это не жизнь. Но вот передо мной посреди офиса в стиле хай-тек в дизайнерском именном кресле от Филиппа Старка на фоне манхэттенских небоскребов сидит настоящий миллионер Гаро Армэн. Еще несколько лет назад он даже входил в списки Forbes. Впрочем, 20 миллионов долларов для Америки – не самое большое состояние.
«За 20 лет я заработал больше 20 миллионов долларов. Но деньги были не главным. Я следил за развитием истории своей мечты, истории с вакцинами от рака. В 2006-м я решил: хватит ждать. Тогда я встретился с авторами этой теории и сказал им: ребята, вот мои деньги, они теперь ваши. У меня есть мечта: подарить людям лекарство от рака. Постарайтесь меня не обмануть».
За шесть следующих лет Гаро Армэн потратил на создание антираковой вакцины «Онкофаг» больше 20 миллионов личных сбережений. Он с маниакальным упорством участвует во всех рабочих совещаниях группы ученых. Поговаривают, раньше биоинженеры разрешали ему лезть в свои дела из вежливости. Но теперь то ли привыкли, то ли поверили: он действительно в этом что-то смыслит. По крайней мере, по единодушному решению команды именно Гаро Армэн собственной персоной занимается идеологией продвижения на фармацевтическом рынке этого, во многом действительно революционного лекарства от рака, индивидуальной вакцины. Ее делают на основе собственных антител пациента к опухоли. Клинические испытания первой и второй фазы уже прошли в США, препарат получил одобрение. С лета 2012 года клинические исследований вакцины «Онкофаг» идут и в России. Пока однозначно подтверждена адъювантная, то есть профилактическая, польза препарата. На очереди возможность доказать терапевтический эффект, прежде всего для пациентов, страдающих раком почки на ранней стадии заболевания.
Особенность вакцины состоит в том, что препарат изготавливается в каждом случае индивидуально, с расчетом на конкретного пациента. Из клеток реально существующей опухоли больного получают «антигенный отпечаток» именно его раковых клеток. Принцип действия вакцины основан на технологии белков теплового шока, которые индуцируют противоопухолевый иммунитет. Клетки каждой опухоли содержат индивидуальные белки теплового шока. Если их выделить из удаленной опухоли и на их основе приготовить вакцину, то можно попытаться выработать специфический иммунитет у пациента с раком почки, то есть перепрограммировать иммунную систему. И это еще один шаг в сторону медицины будущего, идеология которой состоит в том, что каждого пациента лечат тонко подобранным именно к его организму лекарством. И в этом направлении, судя по всему, двигаются теперь все лучшие умы мировой науки. Россия – не исключение.
НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей РОНЦ им. Н. Н. Блохина, лаборатория Елены Трещалиной. Здесь раковые клетки, взятые у реальных пациентов-людей, выращивают до состояния огромных опухолей у мышей, чтобы затем подобрать антитела, действующие в каждом конкретном случае для конкретного больного. Выращенные на мышиной опухоли антитела – и есть вакцина для человека. Ее помещают в металлический бокс, усаживают в специальную машину и перевозят на противоположную сторону Каширского шоссе, в клинику Онкоцентра. Там ждут пациенты-добровольцы, мечтающие пусть не себя, но своих детей и внуков навсегда избавить от страха перед болезнью по имени рак.
У кабинета, где идет экспериментальное вакцинирование, – очередь из полутора десятков человек.
«Меня не покидает чувство вины за смерть Раисы. Я стараюсь всё восстановить в памяти: как так могло случиться, что я не мог ее спасти? Ответа не нахожу. Наверное, не в прошлом ответ, а в будущем. Наверное, так: что смогу я для этого будущего без рака или с таким раком, который сдался, сделать? Я же Раисе обещал, – Михаил Сергеевич сжимает руки в замок и опускает голову. – Я ей обещал – будет клиника, буду помогать, что смогу – сделаю».
Я недавно была в клинике имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. Спрашиваю Михаила Сергеевича: «А вы рисунки видели в детском отделении?» Отрицательно мотает головой: «Всё никак не доеду. Жаль. Хочу посмотреть. Эти картинки внучки собирали. Они недавно были в клинике с Иришкой (дочерью Горбачевых – К. Г.), развешивали по отделениям эти триста рисунков, хотели что-то приятное сделать пациентам. Вернулись довольные. Говорят, как будто это какая-то резиденция Раисы, как будто ее второй дом». И опять опускает голову.
На входе в этот второй дом – белоснежный барельеф первой леди СССР. Вполоборота, с устремленным куда-то вдаль и вверх взглядом.
В самом маленьком из кабинетов – кабинете главного врача клиники академика Бориса Афанасьева – огромный портрет Раисы Максимовны. Очень похожий на тот, что висит за спиной Горбачева. Спрашиваю: «Один и тот же?» Горбачев удивлен: «Нет, просто так совпало». Через мгновение, смутившись, спросит: «Хорошая клиника, правда?» Конечно, хорошая, нужная. Кивает: «Это ей как будто памятник. Ее упорству, ее целеустремленности. Ох, как она меня тогда с этой онкологией достала, даже рассказать не могу». – «Почему она стала этим заниматься?» – «Всё началось с того, что однажды она оказалась в Российской детской клинической больнице и зашла в онкологическое отделение, к ребятишкам. Ее тут же окружили женщины с детьми на руках, молодые матери, только что родившие, оказавшиеся в такой дикой, тяжелой ситуации: рак. Дети их болели, а лечить их было почти невозможно. Чудовищная смертность была: препаратов не хватало, знаний не хватало, умений никаких не было, а оборудование вообще как из каменного века. И эти женщины с детьми в нее прямо вцепились. Начались мольбы, рыдания, плач, она оттуда вернулась больная, еле выдержала, человек впечатлительный. А меня в тот день не было, я, кажется, в отъезде был. Приезжаю дня через два, идем с ней вечером гулять, а она говорит и говорит об этих детях, о том безвыходном положении, в которое они попали, говорит, плачет, остановиться не может. Я даже вспылил: «Раиса! Зачем ты это рассказываешь?! Что ты себя изводишь?! Это болезнь, тут уж ничего нельзя сделать». А она за свое: ты должен помочь, помоги! И говорит про благотворительность. Это, Катя, в конце восьмидесятых было, какая благотворительность! Ну я ей и говорю: что ты такое выдумываешь, у нас в стране медицина бесплатная! Подумать только, тут социализм – и вдруг какая-то благотворительность».
Она убеждала его: даже в самых богатых государствах существует благотворительность. Даже самым богатым системам здравоохранения самых развитых стран рак не по плечу. «Ты понимаешь, что нам надо немедленно включиться в эту работу, надо помогать!» Наконец Горбачев сдается: «Давай, начинай, я помогу. Я буду рядом».
Главврач Клиники имени Раисы Горбачевой, академик Борис Афанасьев вспоминает: «Ситуация в области детской онкологии в те годы была не просто сложная – вопиющая. Достаточно сказать, что в то время только 10 процентов детей избавлялись от злокачественных заболеваний, выздоравливали. Остальных мы теряли. Представляете, огромная страна, в которой всегда пропагандировалась бесплатная, как будто бы самая лучшая в мире медицина, а такая первобытная статистика. Мы, врачи, поверить своим глазам не могли, как Раиса Горбачева во всё это вникла. Как ее это задело, как она пыталась помочь. В конце концов это стало делом всей ее жизни.
Свой первый гонорар, который она, будучи первой леди, получила за выступление с лекциями, кажется, в Японии, Раиса Горбачева полностью направила в Российскую детскую клиническую больницу – на закупку оборудования. Потом она стала одним из попечителей Международной ассоциации «Гематологи – детям мира». Это как будто распахнуло окно для наших врачей в Европу, в мир: стали приходить технологии, врачи получили возможность учиться, средства стали поступать на закупку лекарств и оборудования. Кого-то из детей даже удавалось отправить лечиться за рубеж: у нас многое тогда было невозможно сделать. Потом уже вышло так, что движение, начатое Раисой Максимовной, было не остановить. Да и сама она не хотела останавливаться. Только один факт вам приведу: в 1994 году усилиями Горбачевой было открыто первое отделение детской гематологии и трансплантологии в России, а сегодня таких отделений уже 84. Она на это положила свою жизнь».
«Я очень ценил в Раисе поразительное умение воспринимать чужую боль как свою. Оно в ней было с самого начала и до самого конца. Это касалось и наших личных отношений. Видя, какую боль мне принесла политика, она очень не хотела, чтобы я в нее возвращался, но знала, что без политики я жить не могу. И она была рядом, всегда становилась опорой, хотя это ей было тяжело, уставала очень.
Узнав, в каком тяжелом положении находятся ребятишки из республиканской больницы, она не закрыла глаза, не зажмурилась – меня это не касается. Впряглась. Стала этим заниматься. Вы себе не представляете, какую огромную часть ее жизни стала занимать онкологическая тема. До самой последней минуты своей жизни». Горбачев опять тяжело вздыхает. По совершенно логичной трагической спирали любой его рассказ о ней приводит к этим последним дням в Мюнстере. Он и не пытается их забыть. Но вопреки любым житейским мудростям о лечебных свойствах времени воспоминания не стираются, не становятся бледнее и никуда не уходят. «Она, – и он кивает через плечо на огромный смеющийся портрет, – всё время меня переспрашивала: ты ведь не оставишь клинику, она ведь будет построена?»
Те, кто был в эти тяжелые для семьи Горбачевых недели рядом, однажды расскажут мне: каждый день в стерильной палате Университетской клиники Мюнстера он носил ее, таящую, на руках. Надевал поддерживающий спину пояс под медицинский халат и носил, укачивая, как ребенка: «Захарка, всё еще будет, построим клинику, будешь ее открывать, потом поедим твоих любимых пельменей, всё еще будет, ты держись только, Захарка».
Захаркой он называл ее чуть ли не с первых дней их романа. Ему казалось, его Раиса так похожа на Захарку с картины Венецианова. Когда после химиотерапии у нее выпали волосы, Горбачев даже воскликнул: «Вот теперь ты настоящий Захарка!» Так и подшучивал до самого последнего часа, стоя у изголовья постели своей любимой, как заклинание шептал: «Не уходи, Захарка, ты меня слышишь? Не оставляй меня». Брал ее руки в свои, надеясь, что она хотя бы рукопожатием ответит на эту мольбу. Не ответила. Война против болезни, помощь тем, кто болен, – ничто не дает индульгенцию от рака.
С уходом Раисы в жизнь Михаила Горбачева пришла ясность: этот крест помощи онкологическим больным ему теперь придется нести одному, он ведь ей пообещал. В 2004 году в Санкт-Петербурге был заложен первый камень в основание клиники, начавшей строиться на средства, собранные Фондом имени Раисы Горбачевой, и при поддержке банкира Александра Лебедева. Спустя три года эта клиника – на тот момент одна из самых современных в стране – была открыта. Врачи попросили у Михаила Сергеевича разрешения дать ей имя Раисы Горбачевой.
«Я думаю, любой человек на моем месте, зная эту историю, возвращаясь к этим мыслям, испытывал бы только одно – чувство уважения и благодарности. Эта клиника, построенная фактически ее именем, на мой взгляд, лучший памятник Раисе Максимовне. А благодарность врачей и пациентов не может быть выражена ни в каких словах. Нет таких слов, по крайней мере, я их не знаю», – говорит академик Афанасьев.
Каждый год на бал, устраиваемый Фондом имени Раисы Горбачевой, приходят самые известные люди мира и приносят деньги. Около миллиона долларов в год для того, чтобы Клиника имени Раисы Горбачевой могла по-человечески работать: чтобы хватало лекарств, чтобы не устаревало оборудование, чтобы учились за границей врачи. Во многом благодаря этому трансплантация костного мозга пациенту старше 40 лет, та самая трансплантация, которой в Мюнстере не дождалась Раиса Максимовна, теперь в нашей стране обычное дело. Ведь именно такая трансплантация подарила жизнь Евгении Паниной.
Глава 36
«Вот – моя жизнь», – сияющая Евгения Панина обводит взглядом просторную гостиную в стиле прованс. На большой семейный стол внуки расставляют столовые приборы, из кухни доносится запах домашних хачапури, дочь Соня дорезает зеленый салат с брокколи и листьями шпината, Женин муж Миша подбрасывает поленья в камин. Стою, завороженная: «Женя, ради этого действительно стоило жить». Она широко улыбается: «Я это ощущаю каждой клеточкой своего тела. Я не знаю, сколько мне отведено, дни, месяцы или годы, но я очень хорошо знаю, что я буду бороться за свою жизнь».
На секунду она замолчит, смутившись: «А можно я теперь скажу о личном?» – «Ну, конечно, можно, ведь теперь у нас с вами – никаких интервью. Вы – аноним, наслаждающийся жизнью. И каждый читатель представит себе вас на свой лад».
Панина угловато пожимает плечами: ей кажется, что просьба изменить в книге имя – малодушие. С одной стороны, возможно, и так, с другой – анонимность делает ее до самого последнего предела откровенной. И, стоя на летней веранде, она рассказывает: «Я стала мечтать об этом в больнице, что, когда мне исполнится пятьдесят пять лет, на мой юбилей я возьму самых дорогих, самых близких для меня людей, свою семью, и мы поедем в небольшой отпуск, наверное, на море. И проведем эти дни очень счастливо. Вы не поверите, но я вижу пейзаж, я вижу море, я вижу одежду, в которой я буду, еду, которую мы будем есть, даже запахи и эмоциональные ощущения – они тоже присутствуют в моих мечтах, моих фантазиях, но я верю, что так будет. Я живу надеждой на то, что эта мечта исполнится. И на то, что мне перестанет наконец быть страшно, вернутся беззаботность и счастье, которое никуда не торопит. Как думаете, это действительно возможно?»
Именно так, как она мечтала, всё и вышло: и одежда, и море, и запахи, и тепло счастливо бьющихся рядом родных сердец. Всё случилось ровно так, как она задумала. Я это точно знаю, я видела фотографии. Описывая эти несколько самых наполненных дней в ее жизни, она скажет: «Поверить не могу, я больше не боюсь, я живу. И моя жизнь никогда до сих пор не была такой счастливой и полной. Я всегда помню, что у меня в запасе есть еще одна пробирка на одну пересадку. Если понадобится. Кто-то скажет: «Только одна?» И опустит глаза. А я отвечу: «Ну что вы! Целая одна!» Это огромный шанс. И я буду жить, каждую секунду своей жизни помня, что этот шанс мне был дан».
Затем она выйдет на работу. И станет вместе с Департаментом здравоохранения Москвы разрабатывать стратегию помощи онкологическим пациентам и их семьям. Это ее стараниями сперва для москвичей, а потом для всех жителей страны появится телефон неотложной психологической помощи онкобольным. Она станет собирать у себя детей и внуков по выходным, следить за их успехами и делить несчастья, она научится ценить каждую секунду, данную ей «сверх» болезни. Через год я спрошу ее дочь Софью: «Мама все еще помнит, что она бывшая пациентка?» – «Конечно. Мы все об этом помним. Но мы живем сегодняшним днем. Единственное, что отличает нас нынешних от тех, какими мы были до маминой болезни, так это то, что теперь мы точно знаем: жизнь не бесконечна и не стоит отравлять ее невниманием, равнодушием или ссорами. И еще: как минимум раз в неделю и я, и мама читаем медицинские и научные новости, касающиеся ее болезни». Я удивилась: зачем? В ответ удивилась Соня: «Есть большой шанс, что наука обгонит мамину болезнь. Нам хорошо бы знать об этом заранее».
Пришло время привести заключительную часть рекомендаций, составленных Евгенией Паниной и Андреем Павленко для онкологических пациентов и их родственников о том, как вести себя и что делать, если рядом кто-то лечится от рака.
– Лечение прошло успешно. Вы возвращаетесь домой. Надо быть готовым к тому, что всё увидится не таким, каким, как вам кажется, было прежде. Не таким, как вы мечтали, грезили, лежа на больничной койке. Возвращение, скорее всего, не пройдет безболезненно. Будут боли, раздражение, усталость, повышенная утомляемость, новый облик, которого вы стесняетесь. Пытаясь убежать от этого, пациент стремится обратно в больницу. Родственники должны помочь ему захотеть вернуться в больницу для того, чтобы он смог вернуться домой уже окончательно, в лучшей форме. Надо набраться терпения и дождаться того момента, когда окончательное возвращение станет возможным.
– Дома. Возвращение в привычную жизнь. Вернувшегося домой пациента необязательно ограждать от домашних дел. Нагружать тоже не стоит, но и изолировать нельзя. Можно исподволь сделать часть работы самим, незаметно. Но это не самое важное. Важнее всего – атмосфера дома. Это не должна быть гнетущая, мрачная атмосфера ожидания чего-то плохого. Это должна быть радостная и легкая атмосфера начала новой жизни. Эту атмосферу должны создать, конечно, близкие люди: фильмы, прогулки, театры, выставки и просто вечер в обнимку перед телевизором, словом, всё, что входит в обыкновенную жизнь. Но всё это должно быть необременительно. Надо понимать, что человек еще ослаблен, он нуждается в длительном отдыхе, иногда даже в одиночестве.
– Что делать, чтобы дома бывшему пациенту было хорошо? На комфортное возвращение домой крайне положительно действуют простые, но удивительные радости: совместно затеянная перестановка мебели, обновки, новая мебель, цветы, какой-то позабытый семейный праздник. Или просто новый кухонный комбайн. Важны и шалости, те, которых так не хватало в больнице, например, шампанское. Польза от бокала шампанского сильно больше, чем от всех выписанных на реабилитационный период лекарств, помните об этом.
– Самое важное правило жизни после рака: жизнь продолжается, качество ее утеряно лишь временно. Жить в ожидании возвращения болезни категорически нельзя. Нужно жить каждый день, ничего не откладывать. Мы все смертные, а время бежит очень быстро. Конечно, бывшему пациенту временами тяжело, а временами страшно. Надо найти форму, чтобы говорить об этом легко, с точки зрения позитива, ни в коем случае не допуская уныния и страха. Но запрещать бояться тоже ни в коем случае нельзя. Тут важно отыскать баланс. Ведь страх – главная зажатая эмоция в постонкологическом периоде. Близкие должны дать понять: «Если ты тревожишься, давай пойдем и проверимся, сделаем рентген, проведем биохимию». Не позволять неопределенности завладевать эмоциями. Надо не лениться и не откладывать все необходимые шаги, чтобы исчерпать страх. Жизнь должна быть полноценной. То, как это выглядит, человек решает сам. Безусловно, тот образ жизни, который человек вел до болезни, претерпит какие-то изменения, но надо просто заставить себя поверить в то, что это новая жизнь. И отныне она будет вот такой. Категорически нельзя уходить в себя, жалеть себя, снова и снова переживать болезнь. Если вы видите, что такая ситуация затягивается, надо обязательно как можно скорее обратиться к специалисту-психологу.
– Не торопите события. Родственники и близкие должны понимать: если лечение закончилось, то это автоматически не означает, что человек стал веселым, счастливым, прежним. Это далеко не так. Должно пройти время, возможно, довольно долгое, прежде чем сам человек поверит в то, что он победил рак.
– Попробуйте рассказать о том, что с вами произошло. Когда вы сами поверите в то, что всё позади, надо научиться говорить свободно о своей болезни, делать выводы, извлекать опыт. Не стесняться себя. Всё, что случилось, случилось именно с вами. Это ваша история.
– Самое главное: верьте, что победить рак возможно. Чтобы вам было легче в это поверить, мы принимали участие в написании книги, название которой говорит само за себя: «Победить рак».
После выхода издания «Победить рак» мы не часто созванивались с Женей и Соней: поздравления с днем рождения и праздниками. И за прошедшие со дня выхода книги года немного потеряли друг друга: и я, и Соня счастливо вышли замуж, росли и требовали всё большего внимания дети, появлялись новые проекты.
В апреле 2014 года я увидела короткое, без эмоций Сонино сообщение в Facebook: ее маме Евгении срочно требуются доноры крови; болезнь вернулась; Паниной будут делать повторную пересадку костного мозга. Я сидела перед телефоном и тупо перечитывала эти несколько строк, не в силах поверить в прочитанное: рецидив; это происходит на самом деле. В голове крутилась единственная фраза: у Паниной есть всего лишь одна пробирка, означающая только один шанс, только еще одну пересадку. Это было странное чувство: я не могла решить, кому позвонить, Евгении или Соне. Обеим страшно. Что сказать? Спросить, были ли готовы? Спросить, как себя чувствуете? Спросить, что будете делать? Я позвонила каждой из них. И каждую спросила: чем помочь. Обе ответили вопросом на вопрос: «Знаешь ли ты что-то, что произошло в науке за время Жениной ремиссии и о чем, возможно, не знаем мы?»
Но за три года отсрочки маминой болезни Соня успела приобрести существенный багаж опыта и знаний в области онкологических болезней и новейших способов их лечения: всё это время она находилась в интенсивной переписке и с консультантом издания «Победить рак» профессором Андреем Гудковым, и со всеми рекомендованными им специалистами. Мне кажется правильным полностью привести здесь письмо Софьи, описывающее действия семьи Евгении Паниной после того, как было получено известие о рецидиве ее миеломной болезни.
Услышать «у вас рак» – это всегда ужасно. Об этом много написано. И ты сама, Катя, об этом много писала. Когда ты слышишь эти три слова про себя или про кого-то, кто тебе дорог, пол уходит из-под ног, а в голове только одна мысль: этого не может быть, это чудовищная ошибка, это происходит не с нами. Но, знаешь, со временем я поняла, что есть вещи и пострашнее самой постановки диагноза. Теперь я знаю это точно. Знаешь, что страшнее? Страшнее, пройдя все круги ада, химии, трансплантации, бесконечных слез и постоянной боли, добившись – о чудо! – долгожданной ремиссии, услышать от врача фразу: «Я бы хотел, чтобы вы понимали, ваша ремиссия – это ненадолго. Болезнь неизлечима, она снова вернется, и больше сделать ничего нельзя, другого лечения для вас у нас нет, и нигде в мире нет». Вот эти слова – это действительно конец. За которым пустота. Никогда не думала, что нам с мамой придется и через это пройти.
Всё произошло весной 2014 года. Анализы показали, что мамин рак возвращается. И мне стало жутко. Хотя я всё время себя одергивала: когда три года назад маме впервые был поставлен диагноз, то говорили, что у нас в запасе есть от трех до пяти лет. А когда маме сделали первую пересадку, то я думала, что даже три года насыщенной полноценной жизни стали бы успехом. К весне 2014-го мы боролись с болезнью уже четыре года. И как никогда хотели победить.
В апреле, сразу после повторной маминой трансплантации, я пришла на прием к лечащему врачу Капитолине Мелковой и стала спрашивать ее о том, что нас ждет дальше. Капитолина Николаевна сказала: «Никто не знает. Надо просто надеяться, что рецидива не будет. А если будет, то тогда будем думать, смотреть, но клеток больше нет, поэтому если рак будет прогрессировать, то, скорее всего, мы больше ничего сделать не сможем».
Я не могу описать тебе, что я чувствовала, когда доктор произносила эти слова. Как поверить в то, что никаких средств нет, если вот она, мама, она улыбается, ей так идет новая стрижка, она планирует свою жизнь дальше. А я только что с неимоверным трудом преодолела ежедневный страх ее болезни и начала, наконец, жить своей жизнью. Какой конец? Что значит всё? Как сказать это маме, когда она чувствует себя абсолютно здоровой, когда все анализы в норме, когда она полна сил: «Мам, ты не рассчитывай сильно, болезнь за углом, просто ждет, когда нанести удар?!» В этот момент так страшно, что даже невозможно плакать. Это называется ужас неизвестности.
В принципе ситуация подходит под сценарий, при котором все опускают руки и смиряются с судьбой: ждут рецидива. Но мне повезло. В самый трудный момент рядом со мной находился мой муж Сергей, который, не тратя времени на охи и вздохи, спросил: «Послушай, а ты сама, лично, проверила, что в мире больше никто не может помочь? Тебе лично ответили из других стран, что не существует никакого варианта?» Он сказал это тоном, не терпящим возражений и требующим немедленного действия. И это вывело меня из состояния паралича. Как я могла так легко поверить словам о том, что шансов для моей мамы больше нет? Как я могла смириться с окончательностью приговора? Разумеется, я поверила врачам, которых уважаю и которые действительно вытянули маму с того света. Безусловно, в их словах я не должна, не хотела сомневаться. Но вот эта мысль о том, что всё сказанное я сама не проверила, подтолкнула меня к решительным действиям.
Я вспомнила саму себя в самом начале маминой болезни: как искала клинику, как читала, звонила, лично ходила и разговаривала с врачами, как в какой-то момент стала разбираться в проблеме не хуже студента медицинского вуза. А сейчас я расслабилась. Так нельзя!
Сразу после майских праздников я вернулась к Капитолине Мелковой и спросила: «Если вы не можете помочь, кто в мире самый лучший?» Знаешь, что отличает хорошего врача от посредственного? Хороший врач всегда знает тех, кто по каким-то причинам лучше него. И никогда не стесняется это признать. Капитолина Николаевна ответила: «профессор Барт Барлоги. Клиника множественной миеломы, Литтл Рок, Арканзас. Это в США, Соня». Мелкова рассказала, что доктор Барлоги одним из первых стал заниматься миеломной болезнью, разработал собственный способ лечения, дающий очень убедительные результаты. Единственное, чего не знала Капитолина Николаевна, работает ли все еще доктор Барлоги. «Он очень пожилой человек, Соня», – сказала она. Дрожащими руками я набрала имя в поисковике Google: http://myeloma.uams.edu/our-staff-multiple-myeloma-uams-myeloma-institute-2/clinical-faculty/bart-barlogie-m-d-ph-d/. Он существует! Он жив и он работает! Сейчас, когда села писать тебе письмо, открыла закладку, там сохранилась дата: 28 мая 2014 года. Наверное, с этого момента я и буду теперь вести новый отсчет нашей борьбы.
28 мая 2014 года я зашла на сайт Клиники множественной миеломы (Литтл Рок, США), прочитала всё о враче, клинике, методах лечения и написала письмо на адрес, который был указан на сайте. Я написала о маме, о том, что мы из России, и о том, что дома нам сказали, что больше ничего не могут нам предложить, но я все-таки хочу удостовериться в окончательности этого приговора. Через три часа пришел ответ: «Добрый день! Мы будем рады помочь. Пришлите все результаты обследований и последние анализы». А еще через пять дней мне написали, что доктор Барлоги готов встретиться с нами через три недели.
Надо сказать, в письме было не только приглашение для визы, но и информация о гостиницах, где мы можем остановиться, а также полное расписание всех обследований и консультаций, которые предстояли маме.
Дома мы решили, что мама полетит с папой, а я буду с ними в качестве сопровождающего и переводчика. Мой муж Сергей взял отпуск, чтобы быть рядом с нами и, как он шутил, «поближе познакомиться с тещей». По плану, предложенному клиникой, мы летели на неделю, чтобы увидеть клинику своими глазами, рассказать о своей болезни и услышать, что нам может предложить знаменитый профессор Барлоги взамен отсутствия надежды, предложенного на Каширке.
Хотя, знаешь, наверное, я могу теперь рассказать тебе правду: перед поездкой я соврала маме, я не сказала, зачем на самом деле мы летим в Америку. Я убедила ее, что это просто подарок, отпуск всей семьей, во время которого мы заодно посмотрим, как лечат в США. До сих пор не знаю, действительно ли мама мне поверила или сделала вид. Но дальше всё как в тумане: визы, поиск денег, билеты, гостиницы, аэропорт, самолет. И наконец – жаркий штат Арканзас.
Клиника, которую возглавляет профессор Барлоги, – это огромный раковый центр, такой город в городе. По сути, весь город – это и есть клиника миеломной болезни: исследовательский корпус, консультационный, стационар, куча зданий медицинского и немедицинского назначения, всё выглядит как в кино. А мы сами как будто попадаем в учебник по идеальной организации медицинской помощи онкобольным: везде назначены консультации, всё четко по времени, никаких проволочек. Пространство клиники можно условно разделить на медицинское и немедицинское. И там, где не идут консультации или не проводится лечение (однако же это тоже под крышей ракового центра), обыкновенная жизнь: люди улыбаются, едят мороженое, обсуждают распродажи в магазинах, всё идет своим чередом. Система лечения международных пациентов в клинике устроена очень просто: есть менеджер, который ведет всех иностранных больных; мы были первыми из России. Нам сразу же объяснили, что в клинике никто не лежит, только в крайнем случае, если что-то случилось и пациенту нужна реанимация. Если нет, всё в режиме пришел – ушел. Сразу по приезде составляется расписание всех необходимых обследований: всё, включая ПЭТ, КТ, МРТ и биопсию, занимает три дня. В перерыве мы гуляем по городу, заглядывая в кафе и музеи, – мы же в отпуске. Задним числом вспоминаю, как старательно в те дни все мы соблюдали негласное правило: не говорить ни слова о болезни, вести себя так, словно бы это действительно просто долгожданные семейные каникулы. В принципе ничего из того, что происходило с нами в Литтл Роке, не нарушало этой легенды. В один из первых дней мы встретились с доктором, который по-английски называется physician (терапевт. – К. Г.). Это довольно интересный момент, которого нет в России: это как бы предприем. Этот врач спрашивает об общем состоянии, интересуется, какие есть вопросы, на большую часть отвечает, про специфические вещи говорит: «это вам нужно уточнить у онколога», меряет давление, выписывает успокоительные или другие препараты, связанные с поддержкой органов, не связанных с основной болезнью, дает направления на дополнительные обследования, если есть необходимость. Потом, уже очутившись на приеме у онколога, вы узнаете, что он видит все ответы и заключения physician в своем компьютере, то есть не тратит время на те многочисленные вопросы пациентов, на которые может ответить менее квалифицированный врач.
Долгожданная встреча с онкологом-легендой состоялась ровно через пять дней с того момента, как мы прибыли в Литтл Рок. Доктор Барлоги, маленький плутоватого вида лысый старичок в очках с красной оправой, паркуется у клиники на красном же мотоцикле. На нем рубашка с черепами и кожаные штаны. Он улыбается и балагурит. Как и все иностранцы, сначала спрашивает, как там Путин, а потом смотрит анализы и спрашивает: «Что вам сказали ваши врачи?» В этот момент он опустил голову к бумагам и, кажется, не видел, как я чуть не задохнулась от слез, впервые вслух произнося набор страшных слов: «Сказали, что дальше ничего сделать нельзя, лечения не существует, они сделали всё, что могли, надо просто ждать – когда, и думать, как сделать уход менее болезненным». В этот момент я вижу себя как бы со стороны: я говорю это и стараюсь не смотреть на маму. Она тоже, как и доктор Барлоги, слышит все эти слова впервые. И мне везет, что ее английский слабый, она почти ничего не понимает. Но папа, который сидит с мамой рядом и держит ее за руку, понимает всё. Секундная тишина кажется вечностью. И голос Барта: «Софья, у вас есть с собой телефон? Вы можете позвонить врачам в Россию?» – «Да, конечно. Нужно что-то уточнить?» – «Нет, просто наберите и скажите им: «К черту отчаяние, у нас есть шанс!» Эта его великая фраза в итоге спасла нас всех. Мы послали к черту отчаяние и страхи. Врачам я не стала, конечно же, звонить. Мы стали лечиться. Потому что у доктора Барта Барлоги были для нас варианты.
Оказалось, что после многочисленных химий можно собирать стволовые клетки, что трансплантаций может быть много, что химии можно получать в виде постоянной капельницы, которая выглядит, как дамская сумка, и ты носишь ее не снимая, продолжая ходить в музеи, рестораны, разумеется, не забывая и о распродажах. Оказалось, что всё, что происходит в кабинете онколога во время приема, записывается на диктофон для пациента, чтобы потом в спокойной обстановке он мог прослушать запись еще раз. Кроме того, всё, что говорит онколог, записывается на микрофон, установленный в его компьютере. И система делает расшифровку его голоса для того, чтобы в любой момент под своим паролем ты смог зайти на сайт клиники и распечатать необходимую информацию. Оказалось, что когда маме снова понадобились тромбоциты, мне не пришлось собирать кровь через своих знакомых и биться в очередях: тромбоциты в нужном объеме в нужный момент просто принесли из холодильной камеры клиники.
Помню, в конце нашего первого разговора с профессором Барлоги я спросила, что нам нужно делать, чтобы победить. Он ответил: «Вытереть слезы и бороться. Необходимо остаться на 21 день». И мы остались.
Конечно – это же рак! Были и слезы, и страхи, и неуверенность. Но в бытовом смысле казалось, что всё продумано на шаг, даже на два вперед. Вот, например, представь, если твой близкий в операционной, а сил сидеть под дверью и ждать, когда все закончится, нет. Тебе вручают специальный пейджер, с которым ты ходишь по клинике или вокруг нее, но в тот момент, когда необходимо вернуться, пейджер издает специальный звуковой сигнал. Это вроде такая мелочь, пустяк, но это делает тебя чуть более свободным, так же как и возможность проводить свободное от медицинских манипуляций время вне больничных стен, о котором я писала в самом начале.
С точки зрения медицины, наш план выглядел так: вначале курс иммунопрепарата «мозобил», который заставляет расти собственные стволовые клетки, потом сбор стволовых клеток для последующих трансплантаций, потом – сеанс химиотерапии по протоколу профессора Барлоги.
Химиотерапия в клинике множественной миеломы вводится пациенту круглосуточно в течение 21 дня, пакет с лекарством находится в маленькой сумочке, из которой идет незаметная трубочка с катетером. Раз в сутки необходимо приезжать в клинику и менять батарейку в системе подачи химиотерапии. «Если вдруг лекарство перестанет поступать, – объяснял доктор Барлоги, – вы звоните на телефон горячей линии и приятный голос на другом конце света объяснит, что нужно сделать».
Самая подробная часть инструктажа касалась боли. Профессор Барлоги неустанно повторял: «Если в любой момент времени ваша мама почувствует дискомфорт, сразу звоните в клинику; боль терпеть нельзя». В кабинете любого врача клиники в Литтл Рок висит специальная таблица со шкалой боли, а в конце любой процедуры пациента просят оценить свои ощущения по шкале боли от одного до десяти…
В практическим руководстве по обезболиванию в паллиативной помощи, написанном врачами Дианой Невзоровой и Гузелью Абузаровой, сказано: «Только сам пациент может оценить уровень боли, которую испытывает. При каждом осмотре пациента спрашивайте его о наличии боли и прислушивайтесь к его жалобам». Обычно пациентам предлагают оценить свою боль по 10-балльной шкале. Из этого врач должен сделать выводы о том, какое обезболивание было бы подходящим (адъювантным), и немедленно назначить его.
Комплексная шкала оценки боли
СЛАБАЯ БОЛЬ
1. Едва ощутимая боль почти не мешает заниматься обычными делами. Ночной сон не нарушен из-за боли. Обычные анальгетики действуют не менее 4 часов.
2. Доставляет легкий дискомфорт.
3. Терпимая.
УМЕРЕННАЯ БОЛЬ
4. Боль беспокоит, мешает обычной жизни и не дает забыть о себе. Ночной сон нарушен из-за боли. Обычные анальгетики действуют менее 4 часов.
5. Очень беспокоит.
6. Сильная.
СИЛЬНАЯ БОЛЬ
Очень сильная боль затмевает все и делает человека зависимым от помощи других. Ночной сон нарушен из-за боли. Слабые опиоидные анальгетики (трамадол) действуют менее 3–4 часов.
7. Ужасная.
8. Мучительная.
9. Невыносимая.
Важно помнить: практически любую боль можно контролировать, а терпеть нельзя. Боль причиняет страдания и сокращает время жизни. Качественное обезболивание должно назначаться «навстречу» боли, чтобы ее купировать, а не на пике, когда уже невозможно терпеть.
…В общем, прилетев на неделю, мы остались в Литтл Рок на целых шесть. В обещания профессора Барта Барлоги мама поначалу не верила. Боялась верить. После рецидива ни про развитие болезни, ни про ее перспективы ни читать, ни разговаривать не хотела. Первое время в Литтл Рок она исключительно хотела удостовериться, что лечение в России было проведено на должном уровне и всё хорошо. Весь драматизм ситуации мама поняла где-то спустя две недели после начала лечения в Клинике множественной миеломы, когда стала вникать в смысл моих разговоров с врачами. Ей было нелегко. Помогло, думаю, то, что в воздухе не висела атмосфера страха, смерти или обычной для российских онкологических учреждений безнадеги. Например, если пациенту требуется какая-то длительная стационарная процедура (переливание крови, капельница), то ее проводят не в палатах, а в специальных отсеках, где ты можешь попросить закрыть себя шторками со всех сторон и дремать в уютном кресле, можешь накрыться мягким пледом и смотреть телевизор, который вмонтирован в кресло. А если хочешь общения, можешь открыть шторы и болтать с родственниками, которые тут же уплетают вкусные сэндвичи с чаем, или с другими пациентами, которым в этот момент переливают кровь или капают препараты. Ты не поверишь, Катя, но именно из такой пациентской болтовни можно было узнать, где начались очередные распродажи или какое кино будут показывать в местном открытом кинотеатре.
Надо ли говорить, что после Каширки у нас было ощущение, что мы оказались на другой планете или в другом веке.
В первый же день маминого лечения мой муж составил гид по местным ресторанам, и каждый вечер после клиники мы ходили в новое место. Много разговаривали о жизни и по-прежнему не говорили о болезни. Так хотела мама, а мы ее поддерживали. В какой-то из дней мама гуляла по магазинам Литтл Рок и на витрине увидела ковер, который, по ее мнению, идеально подходил для ее дачи. Мой муж подарил ей этот ковер тем же вечером, а мама была счастлива, как ребенок. Зачем я это рассказываю? Для того, чтобы еще раз подтвердить мысль: если вы планируете победить рак, сначала надо победить страх и унынье. Да, болезнь становится частью жизни, но сама жизнь при этом не останавливается.
Не думай, что всё у нас шло гладко и безоблачно, конечно, нет. Когда началась химия, маме было физически тяжело, и мы с папой не попадали в мамино настроение. Начались обиды и истерики. Умом мы понимали, это не мама виновата, это болезнь сделала ее такой. Эту мысль надо постараться донести до всех тех, кто находится рядом с онкологическим пациентом: не относиться к обидным словам в свой адрес серьезно, но очень серьезно относиться к своим словам – ранить вашего родственника в такой момент может всё.
В Америке пациенту, проходящему химиотерапию, нередко выписывают препараты, которые поддерживают его психоэмоциональное состояние. Иногда к работе с пациентом и его родственниками подключаются психологи. С нами психологи не общались. Всё было сделано намного тоньше: после того как через неделю после обследований стало известно, что маму будут лечить и нам необходимо остаться на шесть недель, врачи предложили мне и папе пройти полное медицинское обследование, мол, вы всё равно здесь сидите, а у нас отличные профессионалы. Мы согласились, и это было очень правильное решение: у всех было ощущение занятости, а мама не чувствовала себя одинокой больной, мы все стали пациентами. Ты не поверишь, но это действительно объединяет. Когда в разгар маминой химиотерапии эмоции и нервы у всех были на пределе, папе выписали таблетки для нормализации сна и поддержки эмоционального состояния; у меня участились мои обычные мигрени, и мне предложили поддерживающую терапию. Но самая интересная история произошла с моим мужем: после разговора с прекрасным врачом с красивым именем Изумруд он бросил курить.
Ты понимаешь, что во всем этом мне кажется самым главным? Человечность. Да, если бы нам был нужен психолог, то, безусловно, такая услуга нам была бы оказана, но в нашем случае все врачи, которые общались с нами, были психологами, а может, это называется просто – относились по-человечески и очень профессионально. Каждый без устали повторял нам, что рак – это не приговор, и еще, что это – наша жизнь и другой не будет. От нас зависит, как эта жизнь или этот этап жизни будут прожиты и какие у нас останутся воспоминания.
Через шесть недель, проведенных в Арканзасе, мы вернулись домой. Маме собрали клетки на три последующие трансплантации, и улетала она в Москву с диагнозом «практически здорова, нет следовых реакций». Теперь моя мама один раз в месяц сдает все необходимые анализы в Москве, а их результаты я отправляю в США. Если всё нормально, то нам даже не приходит никакого ответа, если что-то не так, нам будут звонить. Пока, Катя, не звонили ни разу.
Раз в полгода мама должна летать на проверку в Литтл Рок. Возможно, со временем проверки станут менее частыми.
Знаешь, я часто думаю, что нам повезло, и то, что рак относительно новая болезнь – это большая удача. Ведь прямо сейчас могут быть сделаны такие открытия, которые позволят говорить о полной и окончательной победе. И наша задача до этих открытий дожить. А значит, для начала надо выиграть время. Именно поэтому я продолжаю читать все научные и медицинские журналы, в которых выходят публикации о маминой болезни. Теперь информацию стало легче добывать: кое-какие ссылки мне пересылает профессор Барт Барлоги.
Он, кстати, окончил медицинскую практику в Литтл Рок, переехал в Нью-Йорк и получает тут новые водительские права. На позавчерашней встрече Барт снова спросил у нас: «Как там Путин?» Мы ответили: без перемен. Как и наша болезнь. Пока всё без перемен. У нас ремиссия. Пока я пишу, мама побежала на распродажу за новыми туфлями. На днях исполнится семь лет с того момента, как слово «рак» вошло в нашу жизнь».
С профессором Бартом Барлоги мы договорились об интервью по скайпу. Он выходил на связь с веранды открытого кафе, располагающегося неподалеку от клиники Маунт-Синай, где Барт Барлоги теперь иногда консультирует. Во время интервью, постоянно отступая от темы, Барлоги призывал меня полюбоваться нью-йоркскими красотами. Профессору действительно ужасно нравится Нью-Йорк: «Я мечтал об этом полжизни и теперь по-настоящему кайфую. Вы не были в Нью-Йорке? Были! Наверное, теперь тоже мечтаете переехать? Неужели нет?»
Я спрашиваю профессора о том, как так вышло, что болезнь, не предполагающая лечения в одной части света, оказывается вполне контролируемой в другой, и что нужно сделать для того, чтобы приблизить всё человечество к полному контролю над развитием онкологических болезней?
Но Барт Барлоги начинает совершенно с другого конца: «Вы вообще понимаете, о каком препарате идет речь?»
Да, конечно. Евгения Панина рассказывала, что химиотерапия, назначенная ей доктором Барлоги, была связана с талидомидом. Тогда я вздрогнула: до сих пор название этого препарата я слышала только в сочетании со словом «трагедия». «Трагедия талидомида» – хрестоматийная медицинская история. Самое популярное снотворное 1950–1960 годов стало причиной появления целого поколения (по разным подсчетам, от 8000 до 12 000 детей) с врожденными уродствами. Спустя годы судебных разбирательств и научных исследований выяснилось, что молекула талидомида может существовать в виде двух оптических изомеров: того, что вращается вправо и того, что – влево. Один из них обеспечивает терапевтический эффект препарата, другой же является причиной его тератогенного воздействия: изомер вклинивается в клеточную ДНК и нарушает систему нормального деления клеток и развития зародыша. Выходит, препарат категорически противопоказан беременным женщинам. Но выяснилось это лишь спустя годы активного применения талидомида повсеместно и безо всяких ограничений. Масштабные судебные разбирательства по всему миру – от Японии и Италии до Великобритании, Израиля и США – привели к тому, что годы применения препарата и последствия этого применения были названы «талидомидной трагедией». ВОЗ на долгие годы запретила его использовать, а случившееся заставило многие страны серьезно пересмотреть лицензионную политику и требования, применяемые к препаратам, выпускаемым на рынок.
Мировое табу на талидомид длилось почти 30 лет. Но в 1992-м Роберт Д’Амато, профессор-офтальмолог Гарвардского университета, опираясь на предположение своего научного руководителя Джуда Фолкмана о том, что «для остановки развития злокачественной опухоли в организме необходимо прежде всего подавить ее кровоснабжение», подумал о том, что тератогенность талидомида может быть связана с его антиангиогенными, то есть останавливающими кровоснабжение, свойствами. В ходе испытаний на цыплятах и кроликах талидомид именно так себя и проявил. А Роберт Д’Амато опубликовал в университетском научном журнале большую статью, в каком-то смысле реабилитирующую талидомид. Главным читателем этой статьи стал американский профессор Барлоги, убедивший в 1997 году руководство Арканзасской клиники миеломной болезни дать добро на экспериментальное применение талидомида у пациентов, которым не помогла ни стандартная химиотерапия, ни пересадка костного мозга. «У меня было 169 пациентов, – рассказывает профессор Барлоги. – И представьте себе, через 18 месяцев большинство из них не просто были живы, но узнали о том, что их опухоли существенно уменьшились».
В 1999 году в интервью японскому телевидению профессор Барт Барлоги сделал официальное заявление о том, что после двухлетнего изучения препарата можно констатировать: «Талидомид способен помочь даже тем больным множественной миеломой, на которых не действуют стандартные методы лечения». С тех пор в Арканзассе, где работал профессор, такая химиотерапия была признана одним из допустимых и действенных способов лечения миеломной болезни: именно по такому протоколу лечилась Евгения Панина. Ответить на вопрос о том, почему разработанный им метод не пользуется популярностью у коллег в других странах, профессор затруднился: «Вообще говоря, никаких ограничений в получении знаний в XXI веке нет и быть не может. Едва что-то мало-мальски похожее на крошечный шажок вперед случилось в какой-нибудь лаборатории на Северном полюсе, у всех заинтересованных лиц на Южном полюсе уже будет вся доступная информация: что открыли, кто открыл, кто собирается это развивать, а кто в итоге уже нацелился выкупить формулу и заработать деньги на новом лекарстве. Ну, конечно, проблем в получении и распространении информации нет! Есть другая проблема: желание и возможность применять новые препараты, новые протоколы в повседневной устоявшейся практике. Понимаете, ведь дело не в том, что какой-то хороший, добрый и умный врач прочел заметку в журнале Science, что-то там вычитал, прибежал к себе в отделение и немедленно стал выписывать то, о чем прочел, своим пациентам. Так не получится! Медицина – это системная командная работа. Для того чтобы какой-то новый препарат или новый протокол был действительно внедрен и применялся с успехом, необходима кооперация всех врачей направления в одной клинике, кооперация нескольких клиник, кооперация, наконец, научно-исследовательской жизни клиники с практической. Будущее лечения онкологических пациентов, в том смысле, как я его себе представляю, будет связано с узкой специализацией больших клиник. Вот у нас в Литтл Рок была клиника, где лечили исключительно множественную миелому. То есть все лучшие специалисты мира были там собраны, там же велись исследования, результаты которых были легко доступны практикующим докторам и их пациентам, там велся регистр, благодаря которому можно было соображать, как долго, как полноценно и вообще как живут наши пациенты после лечения. И делать из этого соответствующие выводы. Мне кажется, будущее онкологии не в клиниках, которые будут лечить абстрактный рак, а именно в клиниках, специализирующихся на определенных видах рака. Эти клиники, вне зависимости от языка и географии, должны быть связаны между собой. Должны делиться информаций: результатами лечения, медианой выживаемости, любыми сведениями о качестве жизни излеченных пациентов. В идеальном мире, о котором я мечтаю, всё должно быть устроено таким образом, чтобы человек, столкнувшийся с болезнью, выбирал, до какой профильной клиники ему просто-напросто легче и быстрее добраться, а качество лечения и его результативность везде были бы одинаковыми. Я не слишком размечтался, как думаете?»
В реальном мире ситуация обстоит следующим образом: еженедельно в профессиональной медицинской литературе выходит порядка 45 000 статей, претендующих на то, чтобы обнаружить и описать новые подходы, новые методы или новые препараты в медицине. По оценкам NCI, некий идеальный (то есть в реальности невозможный) врач-онколог может прочесть и осмыслить в неделю только шесть научных статей. То есть все остальные останутся непрочитанными, а информация в них для данного конкретного врача – бесполезной, а значит – неприменимой к его пациенту.
У этого избытка информации есть еще одна сторона: на сегодняшний день в мире зарегистрированы около 16 000 различных препаратов для самых разных болезней, у каждого есть описанный спектр действия и список заболеваний, при которых препарат рекомендовано применять. Дальнейшая судьба препарата зависит от страны, в которой происходит дело: например, в США любой врач может использовать любое лекарство для лечения заболеваний, не описанных в инструкции по применению, однако в дозе, не превышающей разрешенную, то есть существует некоторая свобода решений. В других странах – строже. Но это не отменяет исходной идеи о том, что мы не до конца представляем себе возможности использования уже существующих лекарств, отличные от их основного назначения. Область изучения неизвестных или дополнительных возможностей известных лекарств называется репозиционированием. Ее адепты убеждены: человечество уже потратило достаточно много денег и изобрело в избытке лекарств, но мало знает о них – например, о талидомиде. Кроме того, создание и вывод на рынок нового лекарственного препарата оценивается сегодня примерно в миллиард долларов, траты на репозиционирование в десять раз меньше. Одна из теорий развития медицины будущего, страстным сторонником которой является профессор Барлоги, заключается как раз в том, чтобы расширить спектр применения уже существующих препаратов и попробовать применять их индивидуально. Но этот разговор пока всерьез нигде и никем не ведется. Репозиционирование, как и многое другое, остается одной из нескольких десятков, если не тысяч, возможных линий развития онкологической мысли. Какая из этих линий станет магистральной, предположить трудно, почти невозможно. Возможно, никакая из тех, про которые нам известно, а возможно – сразу несколько. Наша задача до этого торжества над раком – дожить.
Глава 37
Вместо послесловия
Готовясь к новому изданию книги, я думала поправить и дополнить некоторые истории. В итоге пришлось практически заново переписывать всю книгу. Всего – или целых! – шесть лет, что разделяют первое и второе издания, оказались огромным промежутком для науки и медицины, сражающихся со страшной болезнью.
Да, какие-то надежды, о которых я с энтузиазмом писала в предыдущем издании, оказались ложными. Возможно, та же участь постигнет некоторые методы, принципы, предположения из описанных в этой книге.
Но перемены, происходящие в количестве и качестве знаний о природе и свойствах онкологических болезней, очевидны. А научный прогресс неумолим.
Я уверена, что медицина – это новая религия. И если спор о возможности и способах спасения души будет длиться бесконечно, то вопрос о спасении, сохранении и поддержании в рабочем состоянии тела кажется гораздо более решаемым. Мы верим в медицину потому, что своими глазами видим ее развитие. Очевидно, что какие-то прежде непобедимые болезни поддались, перестали быть смертельной угрозой, уступили место новым, раздвинув границы человеческого возраста и продуктивности на десятки лет.
В последней главе этой книги я бы хотела поговорить о том, какие из новейших научных открытий кажутся мне наиболее перспективными, а также суммировать советы уважаемых экспертов #победитьрак, касающиеся использования всех накопленных человечеством знаний для того, чтобы по возможности предупредить или победить болезнь.
Одно из важнейших на сегодняшний момент знаний состоит в том, что человечество в состоянии секвенировать, то есть разобрать на составные части и вычислить последовательность генов, которые отвечают за развитие многих из существующих сегодня опухолей. Это дает шанс когда-нибудь найти то, что именно у конкретного человека стало его индивидуальным «несчастным случаем» и спровоцировало рак: то есть возможно, еще один, пока неизвестный, ген, который и запустил «злополучную» последовательность.
Возможно, в недалеком будущем будет найден механизм определения пусковой точки будущей болезни. Вслед за этим открытием логически может последовать появление соответствующей терапии, позволяющей упредить болезнь: воздействовать на сигнальные пути в молекулах и процесс «запуска несчастного случая» остановить.
Другое направление развития научной антираковой мысли балансирует на грани между «очень впечатляющим» и «научно-фантастическим» и касается стимуляции выработки собственного иммунитета человека против рака. Речь не только об иммунотерапии во время болезни, о которой в этой книге было рассказано довольно подробно и которая совершила революцию в снижении токсичности и травматичности лечения от рака. Речь о возможном появлении превентивной иммунотерапии, той, которая позволит организму самостоятельно предупредить фатальную поломку. Это очень ожидаемые шаги на пути к победе над раком.
Вопрос в том, какого размера будут эти шаги, а также, сколько шагов в ошибочном направлении успеет сделать человечество до тех пор, пока не поймет ошибку и не начнет шагать в другую сторону, сколько сил и средств решат потратить страны-лидеры на противоопухолевую борьбу и насколько упорными будут фармгиганты в своем желании сохранять статус-кво по всем позициям. Всё это – вопросы.
Уверенность же состоит в следующем: вся новая противоопухолевая терапия основана на том, что врачи стараются бить точно в цель – в пораженную клетку. Именно это направление будет развиваться.
Кроме того, для врачей и ученых – и чем дальше, тем больше – борьба против рака становится личной войной: у каждого из нас в этой войне есть свои потери и свои поводы победить.
Об этом история латвийского академика Ивара Калвиньша, изобретателя противоопухолевых препаратов «Фторафур» и «Белиностат», считающихся важнейшими в современной химиотерапии. «Фторафур» – препарат еще советского времени, «Белиностат», иначе говоря, ингибитор гистондеацетилазы, благодаря которому выздоравливают около 10 % пациентов с 4B стадией периферической Т-лимфомы, был зарегистрирован в США в 2014 году. Инвесторы из США, Англии и Дании вложили в его создание больше 200 миллионов долларов. Препарат был разработан в латвийском институте органического синтеза группой академика Калвиньша по очень личной причине. «У меня заболел и скоропостижно умер от рака брат. Я разозлился, – рассказывает академик. – Потом стал напряженно думать, что я могу сделать для спасения людей, столкнувшихся с тем же. И когда, казалось, решение почти родилось, рак добрался до моей жены. Это были два разных рака. Лекарство, которое я придумал задним числом для спасения брата, – это известный вам «Белиностат». Лекарство, которое я придумал для своей жены, носит ее имя – «Леакадин». Мою любимую звали Леакадия. Благодаря тому, что я изобрел его и мы втихаря им пользовались 15 лет, она прожила на 18 лет больше отпущенного ей врачами срока. Но фармкомпании оно пока не заинтересовало».
В создании «Леакадина» академик Калвиньш пользуется принципом таргетной терапии. «Я придумал способ метить пораженную опухолью клетку, давая шанс иммунной системе точно по ней бить, – рассказывает академик. – Действие «Леакадина» основано на знании о том, что опухоль вытягивает из организма глюкозу и лактаты, закисляя пространство вокруг себя. И этим себя выдает. Мы «пришиваем» фальшивую аминокислоту, и белок становится антигенным, распознается как чужеродный. Но лежит он на опухолевой клетке. Иммунная система синхронизируется и сенсибилизируется против «меченых» опухолевых клеток, заодно и против немеченых. И так это работает».
Все клинические испытания «Леакадин» прошел еще в СССР. В оставшихся с того времени документах есть сведения о том, что препарат был признан перспективным даже для опухолей головного мозга, глиобластом, астроцитом четвертой стадии. По словам академика Калвиньша, после курса применения «Леакадина» опухоль сокращалась примерно на 35–40 %, исчезали метастазы в ствол головного мозга. Но самое главное, не отмечалось роста опухоли около трех месяцев. Но в середине клинических исследований внутренние связи в СССР распались, а в новое время «Леакадин» не тестировали и нигде не пытались сертифицировать. Калвиньш не оставляет идеи дать жизнь препарату имени свой жены: «Если вы меня спросите, зачем мне все это, я вам отвечу: это моя личная битва. Моя личная месть раку за мою Леакадию. Я должен, просто обязан придумать и воплотить в жизнь что-то, что принесло бы пользу людям, что могло бы спасти кого-то, раз уж я не спас самого дорогого мне человека». И такую историю может теперь рассказать почти каждый ученый в мире, почти каждый врач.
Рак – это каждодневная ситуация, с которой мы сталкиваемся. И в которой надеемся победить.
На одном из первых аукционов фонда «Подари жизнь» продавали ангелов, сделанных известными российскими артистами вместе с болеющими раком детьми. Одну из композиций – битву черного и белого ангелов – купил неизвестный благотворитель и передал в больницу, где в маленькой комнатке «Подари жизнь» ангелы и жили. Когда фонд переезжал, я выпросила их и забрала к себе домой. Пока писала эту книгу, я посматривала на черного и белого воинов из папье-маше: черный на многих языках обещает убить, завоевать, захватить, белый – надеется, борется, любит. Исход этой битвы неизвестен. Сражение в самом разгаре. Однако кажется, что белый ангел, пускай самую малость, но сильнее. Его меч немного выше, совсем чуть-чуть и он – победит. По-моему, точнее метафоры происходящего сейчас в битве людей против рака не придумаешь.
Приложение
Вот несколько советов, которые повысят шансы каждого из читающих эту книгу.
Заведите правило ежедневно заниматься спортом – до мокрой майки, то есть час-полтора в день интенсивных физических нагрузок.
Постарайтесь соблюдать сбалансированный режим питания: меньше употреблять сахар, соль, ограничить жирное, острое, избыточное количество алкоголя. К сожалению, согласно совсем недавно опубликованным исследованиям, любой алкоголь в любых количествах является фактором онкологического риска. Поэтому врачи рекомендуют вовсе не пить.
Если вы действительно намерены дать бой раку – бросьте курить прямо сейчас.
Если вы действительно хотите не дать раку ни одного шанса, немедленно перестаньте загорать в солярии и больше никогда не выходите на открытое солнце без солнцезащитного крема. И, даже намазавшись кремом, не загорайте на активном солнце и не давайте загорать на активном солнце своим детям.
Постарайтесь не жить и не работать «на износ». Чтобы у организма оставались силы на ежедневную борьбу с раком, ведь такая борьба идет, это не пустые слова. Очень важно перестать работать по ночам. Доказано, что работа в ночное время повышает риск возникновения некоторых онкологических заболеваний. Ночью надо высыпаться и восстанавливать силы.
Не пытайтесь отыскать причину возникновения болезни в прошлом, в будущем, в хороших или плохих поступках. Ни в коем случае не пробуйте установить причинно-следственную связь между своим поведением (поведением кого-то, кто заболел, например, родителей заболевшего ребенка) и возникновением болезни.
Примите на веру (хотя в книге было приведено достаточное количество доказательств), что рак – это стечение обстоятельств, с которым может столкнуться каждый. Сломался регуляторный механизм в организме, человек заболел. Другое дело, в каком возрасте это произошло и почему.
Помните, что так или иначе стандартного набора факторов, которые стопроцентно приводили бы к раку или, наоборот, стопроцентно страховали бы от болезни, вероятнее всего, не существует. Рак – это несчастный случай.
Не запускайте свои болезни. Заведите себе постоянного хорошего врача общей практики. К сожалению, я не могу дать универсальный совет о том, где его взять, и понимаю, что это сложно. Но другого выхода нет. Надо найти. Любите себя.
Существуют определенные стандарты проверок по возрасту для мужчин и женщин – вы их найдете в приложении к этой книге. Старайтесь им следовать.
Найдите контакт хорошего семейного (участкового) врача. Иначе этот доктор называется «специалист общей практики». Установите с ним контакт. Убедитесь, что этот врач знает все и даже больше о вас, об истории вашей болезни, о том, чем вы и ваши близкие болели, чем болеете – если речь о хронических заболеваниях, знает об аллергиях, непереносимостях, операциях. Задайте все интересующие вас вопросы. Задавайте вопросы до тех пор, пока не получите все ответы и не будете удовлетворены. Наметьте план регулярных обследований, если они нужны. И живите спокойно. Не думайте о раке каждый день, это непродуктивно.
Это самая трудновыполнимая рекомендация, но всё равно: постарайтесь в повседневной жизни не загонять себя в угол. Давайте эмоциям выход, не поддавайтесь депрессии. Если она пришла – обратитесь к специалисту.
Не увлекайтесь прогнозами и предположениями, не посвящайте мыслям о возможном раке и поискам его у себя теми или иными способами всё свободное время – это непродуктивно. В конце концов, жизнь нам дана для радости.
Да-да, радуйтесь, любите себя и дарите эту любовь окружающим. Так победим.
Алгоритм скринингов, которые следует проходить человеку, принявшему решение держать состояние своего онкологического здоровья под максимальным контролем. Таблица была составлена онкоэпидемиологом Антоном Барчуком. Вместе с доктором мы сделали и пояснения к ней.
Прежде чем вырезать таблицу и прикрепить ее магнитом к холодильнику, следует запомнить: речь идет о скрининге – то есть профилактическом осмотре, позволяющем выявить возможные заболевания (предзаболевания) на сверхранней стадии. Скрининг – это не ранняя диагностика. Это то, что ей предшествует. Если вас что-то беспокоит, надо идти к врачу. Врач может назначить самые разные методы диагностики. И это никак не связано со скринингом.
Если у вас есть любые наследственные опухолевые синдромы, в этом случае также оправданы любые методы, которые обычно используются в скрининге. Регулярность и способ исследования лучше корректировать с вашим постоянным врачом.
Вторая важная вещь заключается в том, что в скрининге чрезвычайно многое (почти все!) зависит от качества диагностики. То, каким образом врачи будут интерпретировать разные находки в исследовании, связано, к сожалению, не только с тем, какого качества оборудование закупила клиника, но и с тем, где, как и насколько качественно учился специалист, который проводит и интерпретирует результаты, каков у него опыт работы, кто оценивает и корректирует его действия. Это ключевой момент. Это даже важнее интервалов, возрастов, регулярности и последовательности скрининга. Это почти невозможно субъективно оценить и требует большой работы и вложений. К несчастью, в этой книге (скорее всего, в любой другой тоже) невозможно дать универсальных рекомендаций, как правильно искать клинику или конкретного врача для проведения скрининга. Единственное, о чем я не имею права не сообщить: скрининг, проведенный непрофессиональным (слабым, невнимательным, недостаточно обученным) специалистом, не имеет смысла: в этом случае возможна как гипердиагностика – обнаружение несуществующих заболеваний и последующее их лечение с нанесением вреда организму, так и недодиагностика – необнаружение заболевания или его симптомов, ведущее к обнаружению на более поздней стадии и соответственно к более долгому и травматичному для организма лечению.
Теперь, когда мы оговорили эти, самые важные, моменты, можно смело сказать: если вас ничего не беспокоит, то скринингов, которые вам необходимо делать, не так много.
Женщины – PAP-тест после 25 лет раз в 3–5 лет, ВПЧ-тест (скрининг рака шейки матки) после 30 лет раз в 5–10 лет; маммография – раз в два года после 50 лет.
Мужчины после 40 лет – PSA-тест, однако эта процедура наносит вред организму и малоприятна, так что прежде чем проходить подобный скрининг, надо как следует взвесить все за и против.
После 50 лет людям обоих полов рекомендовано раз в два года сдавать кал на скрытую кровь, если больше по душе колоноскопия, ее можно делать раз в 10–15 лет.
После 50 лет для курильщиков существует особый вид скрининга – с помощью низкодозной КТ, но пока он в России не слишком развит. И в связи с тем, что требует хорошего профессионального исполнения, имеет смысл только в том случае, если вам удалось найти действительно грамотного специалиста.
И, наконец, вопрос, который мало кем и когда поднимается: когда заканчивать со скринингами, в каком возрасте?
Надо понимать, что скрининг, как правило, снижает риск смерти через 5–10 лет после его начала. То есть 50-летнего вовремя и качественно проведенный скрининг с высокой долей вероятности убережет от смерти в 60–65 лет. Так вот, скрининг не имеет смысла делать тогда, когда ожидаемая продолжительность жизни условно меньше 5–10 лет, когда появились (или уже есть) другие заболевания и время и силы, потраченные на скрининг, несопоставимы с возможной пользой от него.
Ну а теперь можете вырезать и прикреплять магнитом к холодильнику таблицу. Хотя лучше на этом месте повесить просто красивую картинку: достаточно просто иметь в виду, что на свете есть рак и он победим, а в остальном жить и радоваться каждому прожитому дню. Это и есть главное правило ведения боя, о котором мне хотелось вам рассказать.