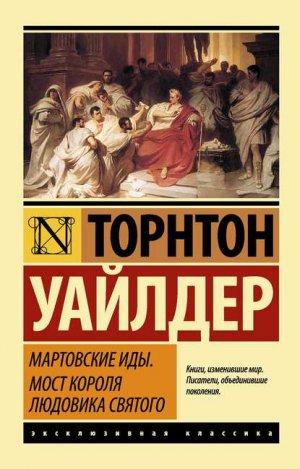
© Wilder Family LLC, 1927, 1948
© Перевод. В. Голышев, 2014
© Перевод. Е. Голышева, наследники, 2014
© Послесловие. З. Панфиль, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 201
Мартовские иды
Это произведение посвящается двум друзьям. Лауро де Бозису – римскому поэту, который погиб, оказывая сопротивление безраздельной власти Муссолини: его самолет, преследуемый самолетами дуче, упал в Тирренское море, и Эдуарду Шелдону, который, несмотря на свою слепоту и полную неподвижность в течение двадцати лет, дарил множеству людей мудрость, мужество и веселье.
Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil; Wie auch die Welt ihm das Gefühl ver teure…
Goethe. Faust[1]
Глосса:
«Когда человек с благоговейным трепетом начинает ощущать, что в мире есть Непознаваемое, в его познающем разуме пробуждаются высшие силы, хотя чувство это часто оборачивается суеверием, духовным рабством и чрезмерной самоуверенностью».
Воссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения. Его можно назвать фантазией о некоторых событиях и персонажах последних дней Римской республики.
Главная вольность была допущена в переносе события, случившегося в 62 году до Р. X., – осквернения Таинств Доброй Богини Клодией Пульхрой и ее братом, – на семнадцать лет вперед, то есть на празднование тех же Таинств 11 декабря 45 года.
К 45 году многие из моих персонажей давно уже были мертвы: Клодия убили наемные бандиты на проселочной дороге; Катулл, если верить свидетельству св. Иеронима, умер в возрасте тридцати лет; Катон Младший погиб за несколько месяцев до описываемых событий в Африке, восстав против абсолютной власти Цезаря; тетка Цезаря, вдова великого Мария, скончалась еще до 62 года. Более того, вторую жену Цезаря, Помпею, давно сменила третья жена, Кальпурния.
Кое-какие подробности этого рассказа, которые скорее всего могут показаться вымышленными, исторически верны: Клеопатра приехала в Рим в 46 году, и Цезарь отвел ей свою виллу по другую сторону реки; она жила там вплоть до его гибели, а потом бежала на родину. Возможность того, что Марк Юний Брут был сыном Цезаря, изучалась и была отвергнута почти всеми историками, вникавшими в личную жизнь Цезаря. То, что Цезарь подарил Сервилии жемчужину неслыханной ценности, – исторический факт. История с подметными письмами против Цезаря, которые передавались по цепочке, была подсказана автору событиями наших дней. Такие письма против фашистского режима распространял в Италии Лауро де Бозис – как говорят, по совету Бернарда Шоу.
Обращаю внимание читателя на порядок изложения материала.
В каждой из четырех книг документы следуют почти в хронологическом порядке. Книга первая охватывает сентябрь 45 года до Р. X. Действие книги второй, содержащей исследование Цезарем природы любви, начинается раньше и захватывает весь сентябрь и октябрь. В книге третьей, где речь идет главным образом о религии, события начинаются еще раньше и длятся всю осень, заканчиваясь декабрьскими церемониями в честь Доброй Богини. Книга четвертая, где вновь приводятся самые разные соображения Цезаря, в частности о себе самом как о возможном орудии «судьбы», открывается наиболее ранним из приведенных здесь документов и завершается его убийством.
Все документы – плод авторского воображения, за исключением стихотворений Катулла и заключительного абзаца из «Жизнеописания двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла.
Источники, свидетельствующие о Цицероне, обильны, о Клеопатре – скудны, о Цезаре – богаты, но часто туманны и искажены политическими пристрастиями. Мною сделана попытка предположить, как протекали события, по-разному отраженные в дошедших до нас свидетельствах.
Торнтон Уайлдер
Книга первая
Высокочтимому верховному понтифику.
Шестое донесение от сего числа.
Предсказание по жертвоприношениям в полдень.
Гусь: пятнистость сердца и печени; грыжа диафрагмы.
Второй гусь и петух: ничего примечательного.
Голубь: зловещие предзнаменования – почка смещена, печень увеличена и желтой окраски; в помете – розовый кварц. Приказано произвести более подробное исследование.
Второй голубь: ничего из ряда вон выходящего.
Наблюдались полеты орла – в трех милях к северу от горы Соракт на всем доступном обозрению пространстве над Тиволи. Птица проявляла какую-то неуверенность, приближаясь к городу.
Грома не было слышно со времени последнего сообщения двенадцать дней назад. Долгой жизни и здравия верховному понтифику!
Пункт I. Сообщить главе коллегии, что нет нужды посылать мне от десяти до пятнадцати донесений в день. Достаточно составить сводный отчет о знамениях за истекшие сутки.
Пункт II. Выбрать из сводок за предыдущие четыре дня три явно благоприятных предзнаменования и три неблагоприятных. Мне они могут понадобиться сегодня в сенате.
Пункт III. Составить и раздать следующее оповещение: с учреждением нового календаря памятная дата основания Рима семнадцатого дня каждого месяца будет считаться гражданским праздником особой важности.
Присутствие верховного понтифика, если он в городе, на этой церемонии обязательно.
Ритуал будет выполняться со следующими добавлениями и поправками: в ритуале принимают участие двести солдат, которые отслужат молебствие Марсу, как принято на военных постах; хвала Рее воздается весталками. Верховная жрица коллегии лично отвечает за присутствие весталок, за высокое качество декламации и поведение участниц церемонии. Непристойные выражения, попавшие в ритуал, должны быть немедленно устранены; весталки не могут показываться присутствующим до заключительного шествия; запрещается прибегать к миксолидийскому ладу; завещание Ромула читать, обращаясь в сторону мест, закрепленных за аристократией; жрецы должны произносить текст слово в слово с верховным понтификом. Жрецы, допустившие малейшее упущение, после тридцатидневной переподготовки будут посланы служить в новые храмы Африки и Британии.
968. (О религиозных обрядах.)
К своему еженедельному посланию я прилагаю полдюжины докладов из груды, которую я как верховный понтифик получаю от авгуров, предсказателей, толкователей небесных знамений и хранителей кур.
Прилагаю также изданное мной постановление о ежемесячном празднестве в память основания Рима.
Что поделаешь?
Я получил в наследство это бремя суеверий и предрассудков. Я правлю несчетным числом людей, но должен признать, что мной правят птицы и раскаты грома.
Это часто мешает государственным делам, на целые дни и недели закрывает двери сената и суда. Этим заняты тысячи людей. Всякий, имеющий к ним какое-либо отношение, включая и верховного понтифика, использует знамения в своих личных интересах.
Однажды в долине Рейна авгуры ставки командующего запретили мне вступать в битву с врагом. Дело в том, что наши священные куры стали чересчур разборчивы в еде. Почтенные хохлатки скрещивали ноги при ходьбе, часто поглядывали на небо, озирались, и не зря. Я сам, вступив в долину, был обескуражен тем, что попал в гнездилище орлов. Нам, полководцам, положено взирать на небо куриными глазами. Я смирился с запретом, хотя мое умение захватить врага врасплох является одним из немногих моих талантов, но я боялся, что и наутро мне снова будут чинить препятствия. Однако в тот вечер мы с Азинием Поллионом пошли погулять в лес, собрали десяток гусениц, мелко изрубили их ножами и раскидали в священной кормушке. Наутро вся армия с трепетом дожидалась известия о воле богов. Вещих птиц вывели, чтобы дать им корм. Они сразу оглядели небо, издавая тревожное кудахтанье, которого достаточно, чтобы приковать к месту десять тысяч воинов, а потом обратили свои взоры на пищу. Клянусь Геркулесом, вылупив глаза и сладострастно кудахтая, они накинулись на корм – так мне было разрешено выиграть Кёльнскую битву.
Но главное, вера в знамения отнимает у людей духовную энергию. Она вселяет в наших римлян – от подметальщиков улиц до консулов – смутное чувство уверенности там, где уверенности быть не должно, и в то же время навязчивый страх, который не порождает поступков и не пробуждает изобретательности, а парализует волю. Она снимает с них непременную обязанность мало-помалу самим создавать римское государство. Она приходит к нам, освященная обычаями предков, дыша безмятежностью детства, она поощряет бездеятельных и утешает бездарных.
Я могу справиться с другими врагами порядка: со стихийным мятежом и буйством какого-нибудь Клодия; с ворчливым недовольством Цицерона и Брута, порожденным завистью и питаемым хитроумными толкованиями древнегреческих текстов; с преступлениями и алчностью моих проконсулов и магистратов; но что мне делать с равнодушием, которое охотно рядится в тогу набожности и либо твердит, что гибели Рима не допустят недремлющие боги, либо смиряется с тем, что Рим погибнет по злокозненности богов?
Я не склонен к унынию, но часто ловлю себя на том, что эта мысль наводит на меня уныние.
Что делать?
Порою в полночь я пытаюсь вообразить, что будет, если я все это отменю; если как диктатор и верховный понтифик я запрещу соблюдение счастливых и несчастливых дней, гадание по внутренностям и полету птиц, молниям и грому; если я закрою все святилища, кроме храмов Юпитера Капитолийского?
И как быть с Юпитером?
Я еще буду об этом писать.
Собери свои мысли, чтобы меня направить.
На другой вечер.
(Письмо дописано по-гречески.)
Снова полночь, милый друг. Я сижу у окна и жалею, что оно выходит не на спящий город, а на Трастеверинские сады богачей. Вокруг моей лампы пляшут мошки. Река едва отражает рассеянный свет звезд. На дальнем берегу пьяные горожане ссорятся в винной лавке, и время от времени ветер доносит мое имя. Жена уснула, а я пытался успокоить мысли чтением Лукреция.
С каждым днем я все больше ощущаю, к чему меня обязывает мое положение. Я все яснее и яснее сознаю, что оно позволяет мне совершить и к каким свершениям меня призывает.
Но что оно мне говорит? Чего от меня ждет? Я принес на землю мир, я распространил блага римского законодательства на бессчетное число мужчин и женщин; несмотря на огромное сопротивление, я распространяю на них также и гражданские права. Я усовершенствовал календарь, и теперь счет наших дней подчинен практичной системе движения солнца и луны. Я пытаюсь наладить дело так, чтобы люди во всех концах мира имели пищу. Мои законы и корабли обеспечат взаимообмен избытками урожая в соответствии с народными нуждами. В будущем месяце из уголовного кодекса будет изъята пытка.
Но этого мало. Все эти меры – лишь труд полководца и правителя. Тут я делаю для мира то же, что староста для своей деревни. Теперь надо совершить что-то иное, но что? По-моему, теперь и только теперь я готов начать. В песне, которая у всех на устах, меня зовут отцом.
Впервые за мою общественную жизнь я чувствую неуверенность. До сей поры все мои поступки подчинялись правилу, которое можно было бы назвать моим суеверием; я не экспериментирую. Я не начинаю дела для того, чтобы чему-то научиться на его результатах. Ни в искусстве войны, ни в политике я не делаю ни шага без точно намеченной цели. Если возникает препятствие, я тотчас же вырабатываю новый план, и его возможные последствия для меня ясны. В ту минуту, когда я увидел, что в каждом своем начинании Помпей отчасти полагается на волю случая, я понял, что буду властелином мира.
Но в моих сегодняшних замыслах есть такие стороны, относительно которых я не уверен, что я прав. Для того чтобы их осуществить, мне надо ясно знать, каковы жизненные цели рядового человека и каковы его возможности.
Человек – что это такое? Что мы о нем знаем? Его боги, свобода, разум, любовь, судьба и смерть – что они означают? Помнишь, как еще мальчишками в Афинах и позднее, возле наших палаток в Галлии, мы без конца обо всем этом рассуждали? И вот я снова подросток и снова философствую. Как сказал этот опасный искуситель Платон: лучшие философы на свете – мальчишки, у которых только пробивается борода; я снова мальчишка.
Но погляди, что я покуда успел сделать в отношении государственной религии. Я укрепил ее, возобновив ежемесячные празднества в память основания Рима.
Сделал я это, быть может, затем, чтобы уяснить для себя: какие последние следы благочестия еще живут в моей душе. Мне также льстит, что я, как прежде моя мать, больше всех римлян сведущ в старых поверьях.
Признаюсь, когда я декламирую нескладные молитвы и делаю телодвижения в сложном ритуале, меня обуревает искреннее чувство, но чувство это не имеет ничего общего с потусторонним миром; я вспоминаю, как в девятнадцать лет, будучи жрецом Юпитера, я поднимался на Капитолий, а рядом шла моя Корнелия, неся под туникой еще не рожденную Юлию. И разве с тех пор жизнь одарила меня чем-нибудь подобным?
Но тише! У дверей только что сменился караул. Стража со звоном скрестила мечи и обменялась паролем. Пароль на сегодня: Цезарь бдит.
Мы с братом в последний день месяца даем званый обед. Если и на этот раз ты допустишь промахи, я тебя сменю и продам.
Приглашения посланы диктатору, его жене и тетке, Цицерону, Азинию Поллиону и Гаю Валерию Катуллу. Обед будет происходить по старинному обычаю, а именно: женщины присутствуют только на второй его половине и не возлежат. Если диктатор примет приглашение, необходимо строжайше соблюсти этикет. Начни сразу же обучать слуг: встрече гостей перед домом, подношению кресла, обходу комнат и церемонии прощания. Позаботься нанять двенадцать трубачей. Оповести жрецов храма, что им предстоит совершить молебствие, достойное верховного понтифика.
Не только ты, но и мой брат будете пробовать блюда, подаваемые диктатору, в его присутствии, как было принято в прежнее время.
Меню будет зависеть от новых поправок к закону против роскоши. Если они будут утверждены, гостям может быть подана только одна закуска. Это египетское рагу из морских продуктов, которое диктатор тебе описывал. Я о нем ничего не знаю, ступай немедленно к повару Цезаря и разузнай, как его готовить. Когда ты заучишь рецепт, приготовь блюдо не менее трех раз, чтобы в день обеда оно получилось как следует.
Если новый закон не пройдет, должны быть поданы разнообразные блюда.
Диктатор, брат и я будем есть рагу. Цицерону подашь ягненка на вертеле по-гречески. Жене диктатора – овечью голову с печеными яблоками, которую она так расхваливала. Послал ли ты ей рецепт, как она просила? Если да, то слегка измени приправу; советую добавить три-четыре персика, моченных в альбанском вине. Госпоже Юлии Марции и Валерию Катуллу будет предложено выбрать любое из этих блюд. Азиний Поллион, по своему обыкновению, не будет есть ничего, но имей наготове горячее козье молоко и ломбардскую кашу. В выборе вин полагаюсь на тебя, но не забудь о законах на этот счет.
Я распорядилась, чтобы в Лотию приволокли морем в сетях двадцать – тридцать дюжин устриц. В день званого обеда часть их можно будет доставить в Рим.
Сходи сейчас же к греческому миму Эроту и найми его на вечер. Он, наверное, будет, по своему обыкновению, артачиться; можешь ему намекнуть, каких знатных гостей я жду. В конце скажи, что, кроме обычного вознаграждения, я дам ему зеркало Клеопатры. Скажи, что я хотела бы, чтобы он со своей труппой исполнил «Афродиту и Гефеста» и «Шествие Озириса» Герода. А сам он пусть прочтет цикл «Плетущим гирлянды» Сафо.
Завтра я выезжаю из Неаполя. Неделю погощу в семье Квинта Лентула Спинтера в Капуе. Сообщи мне туда, чем занимается мой брат. В Риме жди меня числа десятого.
Я желаю знать, как обстоит дело с очисткой общественных мест от оскорбительных надписей о нашей семье. Требую, чтобы это было сделано как можно тщательнее.
(О чем идет речь в этом абзаце, ясно из письма Цицерона и образцов нацарапанных надписей.)
Не считая нашего всеобщего главы, больше всего в Риме сплетничают о Клодии. На стенах и на каменных полах бань и общественных уборных нацарапаны посвященные ей стихи крайне непристойного содержания. Мне говорили, что ей посвящена пространная сатира во фригидарии Помпеевых терм; к ней уже приложили руку семнадцать стихотворцев, и каждый день туда что-нибудь добавляют. По слухам, все вертится главным образом вокруг того, что она вдова, дочь, племянница, внучка и правнучка консулов и ту дорогу, на которой она теперь ищет приятных, хоть и малоприбыльных утех, проложил ее предок Аппий.
Дама, говорят, узнала об оказанных ей почестях. Наняты трое чистильщиков, которые по ночам украдкой стирают эти надписи. Они просто надрываются, не успевая выполнять свою работу.
Наш владыка (Цезарь) не нанимает рабочих, чтобы стирать поносные надписи. Издевательских стишков и о нем предостаточно, но на каждого хулителя у него находится по три защитника. Его ветераны снова вооружились, но на этот раз губками.
Весь город захворал стихоплетством. Мне говорили, что стихи этого новоявленного поэта Катулла – тоже посвященные Клодии, хоть и совсем в другом духе, – выцарапывают на стенах общественных зданий. Даже сирийцы, торгующие пирожками, знают их наизусть. Что ты на это скажешь? Под неограниченной властью одного лица мы либо лишены своего дела, либо теряем к нему всякий вкус. Мы уже не граждане, а рабы, и поэзия – выход из вынужденного безделья.
Клодий Пульхр говорит Цицерону в сенате: сестра моя упряма, она не уступит мне ни на мизинец, говорит он.
Ах, отвечает Цицерон, а мы-то думали, что она покладиста. Мы-то думали, что она уступает тебе все, даже выше колен.
Предки ее проложили Аппиеву дорогу. Цезарь взял эту Аппию и положил другим манером.
Ха-ха-ха!
Четырехгрошовая девка – миллионерша, но зато скупа и устали не знает;
С какой гордостью приносит она на рассвете свои медяки.
Каждый месяц Цезарь празднует основание города. Каждый час – гибель республики.
(Популярная песенка, в разных вариантах была нацарапана в общественных местах по всему Риму.)
(Нижеследующие строчки Катулла были, как видно, сразу же подхвачены народом; не прошло и года, как они достигли самых отдаленных краев республики и стали пословицей, имя же автора забылось.)
(Дневник в письмах писался с 51 года, когда получатель был взят в плен и покалечен белгами, вплоть до смерти диктатора. Записи весьма разнообразны по форме: некоторые набросаны на обороте ненужных писем и документов; одни сделаны наспех, другие – тщательно; многие продиктованы Цезарем и записаны рукой секретаря. И хотя все они пронумерованы, даты на них проставлены лишь изредка.)
958. (О предполагаемой этимологии трех архаизмов в завещании Ромула.)
959–963. (О некоторых тенденциях и событиях в политической жизни.)
964. (Высказывает невысокое мнение о метрических ухищрениях в речах Цицерона.)
965–967. (О политике.)
968. (О религии римлян. Эта запись уже приведена в разделе I-Б.)
969. (О Клодии Пульхре и ее воспитании.) Клодия с братом пригласили нас на обед. Я, кажется, подробно описывал тебе положение этой парочки, но, как и все в Риме, невольно возвращаюсь к этой теме.
Я уже не способен на живое сострадание при встрече с кем-нибудь из бесчисленных людей, влачащих загубленную жизнь. И еще менее стараюсь их оправдать, когда вижу, как легко они находят себе оправдание сами, когда наблюдаю, как высоко они вознесены в собственном мнении, прощены и оправданы сами собой и яростно обвиняют загадочную судьбу, которая якобы их обездолила и чьей невинной жертвой они себя выставляют. Такова и Клодия.
Но перед своими многочисленными знакомыми она эту роль не играет; при них Клодия прикидывается счастливейшей из женщин. Однако для самой себя и для меня она играет эту роль, ибо я, пожалуй, единственный из смертных, кто знает, что в одном случае она, быть может, и была жертвой, на чем вот уже более двадцати пяти лет основано ее притязание каждый день сызнова быть жертвой.
Но и для нее, и для других подобных ей женщин, чьи бесчинства привлекают к себе всеобщий интерес, есть еще одно оправдание. Все они родились в знатных семьях, среди роскоши, облеченные привилегиями, были воспитаны в атмосфере возвышенных чувств и бесконечных нравоучений, что теперь почитается за «истинно римский образ жизни». Матери этих девиц зачастую бывали великими женщинами, но не сумели передать детям те качества, которые воспитали в себе. Материнская любовь, семейная гордыня и богатство, вместе взятые, превратили их в ханжей, и дочери их росли в отгороженном мирке успокоительной лжи и недомолвок. Разговоры дома были полны выразительных пауз, то есть умолчаний о том, о чем не принято говорить. Более умные из дочерей, подрастая, это поняли; они почувствовали, что им лгут, и очертя голову кинулись доказывать обществу свою свободу от лицемерия. Тюрьма для тела горька, но для духа она еще горше. Мысли и поступки тех, кто осознает, как их надули, мучительны для них самих и опасны для всех прочих. Клодия была самой умной из них, а теперь ведет себя еще более вызывающе, чем остальные. Все эти девицы испытывают или изображают страсть к отребью общества: их нарочитая вульгарность превратилась в политическое явление, от которого не отмахнешься. Сам по себе плебс поддается перевоспитанию, но что делать с плебейской аристократией?
Даже молодые женщины безупречного поведения – такие, как сестра Клодии или моя жена, – явно сердятся, что их водили за нос. Их воспитывали в уверенности, что семейные добродетели самоочевидны и свойственны всем; от них скрывали, что высшее счастье в жизни – свобода выбора, а это больше всего влечет молодой ум.
В поведении Клодии отражается и та особенность, которую я часто с тобой обсуждал, может, даже слишком часто, – нормы и структура нашего языка сами по себе подразумевают и внушают веру в то, что мы бессильны перед жизнью, связаны, подчинены и беспомощны. Язык наш утверждает, что нам даны такие-то и такие-то качества от рождения. Иначе говоря, есть великий Благодетель, даровавший Клодии красоту, здоровье, богатство, знатное происхождение и выдающийся ум, а кому-то другому – рабство, болезнь и глупость. Она часто слышала, что одарена красотой (кто же ее одарил?), а что другой несет проклятие своего злоязычия – разве бог может проклясть? Даже если предположить существование бога, который, по выражению Гомера, изливает из своих сосудов добрые и злые дары, меня поражают верующие, которые оскорбляют своего бога, отказываясь признать, что в мире многое не управляется божественным провидением и что, по-видимому, бог так это и задумал.
Но вернемся к нашей Клодии. Клодии никогда не довольствуются полученными дарами: они отравлены злобой на скаредного Благодетеля, который наделил их всего лишь красотой, здоровьем, богатством, знатностью и умом; он утаивает от них миллион других даров, например полнейшее блаженство в каждое мгновение каждого дня. Нет жадности более ненасытной, чем жадность избранных, верящих в то, что их привилегии были дарованы им некой высшей мудростью, и нет обиды более злой, чем у обездоленных, которым кажется, что их намеренно обошли.
Ах, друг мой, друг мой, самое лучшее, что я мог бы сделать для Рима, – это вернуть птиц в их птичье царство, гром – стихиям природы, а богов – воспоминаниям детства.
Нет нужды говорить, что мы не пойдем на обед к Клодии.
Клодий Пульхр с сестрой пригласили меня на обед в последний день месяца; они говорят, дорогой мальчик, что ты тоже там будешь. Я не собираюсь ехать в город до декабря, когда мне придется приступить к своим обязанностям, связанным с Таинствами (Доброй Богини). Конечно, я вряд ли туда пойду, если не буду уверена, что ты и твоя милая жена там будете. Пожалуйста, передай мне с моим посланным, действительно ли ты собираешься у них быть?
Должна признаться, что после стольких лет деревенской жизни мне любопытно было бы взглянуть, как живут на Палатинском холме. Письма Семпронии Метеллы, Сервилии, Эмилии Цимбры и Фульвии Мансон дышат оскорбленной добродетелью, но мало что мне говорят. Эти дамы так усердно щеголяют своей праведностью, что я в сомнении: чего больше в нем, в этом круговороте дней на вершине мира, – блеска или пошлости?
У меня есть и другая причина хотеть встречи с Клодией Пульхрой. Может статься, что рано или поздно я буду вынуждена с ней серьезно поговорить – хотя бы ради ее матери и ее бабушки, которые были моими любимыми подругами в юности и в зрелые годы. Можешь догадаться, о чем идет речь? (Как выяснится, Цезарь не понял намека. Тетка была одной из руководительниц Таинств Доброй Богини. Если возник вопрос о том, чтобы запретить Клодии участвовать в Таинствах, решение его в основном зависело от светской комиссии, а не от представительниц коллегии девственных весталок. Последнее слово принадлежало Юлию Цезарю как верховному понтифику.)
Мы, деревенщина, готовы точно выполнять твои законы против роскоши. В наших маленьких общинах любят тебя и каждодневно благодарят богов, что ты правишь нашим великим государством. У меня в поместье работают шесть твоих ветеранов. Я знаю, что их трудолюбие, веселый нрав и преданность – свидетельство того, как они боготворят тебя. И я стараюсь их не разочаровывать.
Передай самый нежный привет Помпее.
(Второе письмо той же почтой.)
Дорогой племянник, пишу тебе на другое утро. Прости, что я злоупотребляю временем владыки мира, но мне хочется задать тебе еще один вопрос, на который тоже жду ответа с моим посыльным.
Жив ли еще Луций Мамилий Туррин? Может ли он получать письма? И можешь ли ты сообщить мне его адрес?
Я задавала эти вопросы ряду моих друзей, но никто не мог дать мне точного ответа. Мы знаем, что он был тяжело ранен, когда сражался рядом с тобой в Галлии. Одни говорят, что он живет отшельником в озерном краю на Крите или в Сицилии. По словам других, он уже несколько лет как умер.
На днях мне приснился сон – прости уж меня, старуху, – будто я стою возле бассейна на нашей вилле в Таренте, рядом с моим дорогим разбойником-мужем. В бассейне плавают двое мальчишек: ты и Луций. Потом вы вышли из воды, и, обняв вас за плечи, муж обменялся со мной долгим взглядом и, улыбаясь, сказал: «Поросль нашего могучего римского дуба».
Как часто оба вы приезжали к нам. И целые дни проводили на охоте. А сколько съедали за обедом! Помнишь, как лет в двенадцать ты читал мне Гомера и как горели у тебя глаза! Потом вы с Луцием уехали в Грецию учиться, и ты писал мне оттуда длинные письма о поэзии и философии. Луций – он был сиротой – писал твоей матери.
Ах, все это было, было, Кай…
Я проснулась после этого сна и оплакивала все свои утраты: мужа, твою мать, отца и мать Клодии и Луция.
Прости, дорогой, что отнимаю у тебя время.
Жду ответа на два вопроса: обед у Клодии и адрес Луция, если он жив.
Я не намерен, дорогая тетушка, идти на обед к Клодии. Если бы я считал, что тебе будет там интересно, я, конечно, пошел бы в угоду тебе. Однако же Помпея и я убедительно просим тебя провести вечер у нас. Может статься, что у Клодии хватило наглости пригласить Цицерона, а у него не хватило мужества отказаться; если так, я его оттуда сманю и предоставлю в твое распоряжение. Думаю, что тебе будет приятно с ним встретиться: он стал еще остроумнее и может все тебе рассказать о светском обществе на Палатинском холме. Кроме того, не трудись открывать свой дом; флигель в саду в твоем полном распоряжении, и Аль-Нара будет счастлива тебе прислуживать. А пока ты будешь жить у нас, дорогая, я распоряжусь, чтобы часовые по ночам не бряцали мечами и произносили пароль шепотом.
Ты вдосталь наглядишься на Клодию, когда приедешь в город на торжества. Думая о ней, я не нахожу в душе ни капли сострадания, которое, по мнению Эпикура, следует питать к заблудшим. Надеюсь, что ты и в самом деле серьезно с ней поговоришь; надеюсь также, что ты научишь меня, как пробудить в себе хоть какое-то сочувствие к ней. Мне самому неприятно ощущать такое равнодушие к человеку, с которым меня связывает столько самых разных воспоминаний.
(Далее рукою Цезаря.)
Ты говоришь о прошлом.
Я не позволяю своим мыслям надолго в него погружаться. Все, все в нем кажется прекрасным и – увы! – неповторимым. Те, что ушли, – как я могу о них думать? Вспомнишь один только шепот, только глаза – и перо падает из рук и беседа, которую я веду, обрывается немотой. Рим и все его дела кажутся чиновной суетой, пустой и нудной, которая будет заполнять мои дни, пока смерть не даст мне избавления. И разве я в этом смысле одинок? Не знаю. Неужели другие умеют вплетать былую радость в свои мысли о настоящем и в свои планы на будущее? Может быть, на это способны одни поэты: только они отдают себя целиком каждой минуте своей работы.
По-моему, у нас появился такой поэт, который займет место Лукреция. Посылаю тебе его стихи. Мне хочется знать, что ты о них думаешь. Правление миром, которое ты мне приписываешь, стало казаться мне более стоящим делом с тех пор, как я увидел, на что способен наш латинский язык. Я не посылаю стихов, где речь идет обо мне: этот Катулл так же красноречив в ненависти, как и в любви.
В Риме тебя ждет подарок, хотя моя доля в нем потребует, чтобы я еще больше погряз в моих сегодняшних обязанностях: как я и говорил, мне приходится платить за всякое обращение к прошлому. (В ежемесячное празднование дня основания Рима Цезарь включил приветствие от города ее покойному мужу Марию.)
Что касается твоего второго вопроса, дорогая тетя, на него я ответить тебе не могу.
Помпея шлет нежный привет. Мы с радостью ждем твоего приезда.
Не могу выразить, дорогая Юлия, как я рада услышать, что ты приезжаешь в город. Не трудись открывать свой дом. Ты должна погостить у меня. Прислуживать тебе будет Зосима, она боготворит землю, по которой ты ступаешь, а я обойдусь Родопой, она оказалась просто сокровищем.
Ну а теперь садись поудобнее, дорогая; я собираюсь всласть поболтать.
Во-первых, послушайся совета старой-престарой подруги – не ходи к этой женщине. Можно сколько угодно твердить, что не любишь сплетен, что те, о ком говорят за глаза, не могут защититься от клеветы, и т. д., но разве служить предметом таких сплетен уже само по себе не предосудительно? Лично я не верю, что она отравила мужа и состояла в преступной связи со своими братьями, но тысячи людей в это верят. Мой внук рассказывает, что о ней поют песни во всех гарнизонах и кабаках, а стены терм исписаны стишками про нее. У нее есть прозвище, которое я даже не решаюсь повторить, и оно у всех на устах.
В сущности, самое худшее, что мы о ней знаем, – это ее влияние на палатинский высший свет. Она первая стала одеваться по-простонародному и якшаться с городским отребьем. Она водит своих друзей в таверны гладиаторов, пьет с ними ночи напролет и пляшет для них – прочее можешь представить себе сама. Юлия, она устраивает пикники, пирует в деревенских тавернах с пастухами и солдатами с военных постов. Все это факты. Одно из последствий ее поведения очевидно для всех: что стало с нашей речью? – теперь считается шиком разговаривать на языке плебса. И я не сомневаюсь, что тут виновата она, одна она. Ее положение в свете, ее происхождение, богатство, красота и – нельзя же этого отрицать – обаяние и ум увлекли общество в грязь.
Но она испугалась наконец. И пригласила тебя на обед потому, что испугалась.
А теперь слушай: тут назревает одно серьезное дело, в котором окончательное решение будешь принимать ты.
(В последующих абзацах письма употребляется ряд условных имен: Волоокой (по-гречески) называют Клодию; Диким Кабаном – ее брата Клодия Пульхра; Перепелкой еще задолго до брака называли жену Цезаря Помпею; Фессалийкой (сокращенное от «Ведьма из Фессалии») – Сервилию, мать Марка Юния Брута; Школой тканья – Таинства Доброй Богини и комитет, руководящий этим празднеством; Хозяином Погоды, разумеется, называли Цезаря.)
Хотя эта женщина и распутница, по-моему, ее не стоит отстранять от участия в собраниях, но не сомневаюсь, что такое предложение будет сделано. Они с Перепелкой присутствовали на последнем собрании Исполнительного совета, которое было созвано как раз перед ее отъездом на юг, в Байи. Они попросили председательницу – твое место занимала Фессалийка – отпустить их и вскоре ушли; и тут во всех концах зала стали о ней судачить. Эмилия Цимбра закричала, что, если в Школе тканья Волоокая окажется где-нибудь рядом, она даст ей пощечину, Фульвия Мансон сказала, что бить ее во время церемонии не станет, но тут же уйдет и подаст жалобу верховному понтифику. А Фессалийка заявила – хотя, занимая председательское место, она вообще не должна была высказывать своего мнения, – что прежде всего надо поставить вопрос перед тобой и верховной жрицей коллегии девственных весталок. Ее возмущенный тон, по правде говоря, показался мне чуточку смешным – ведь все мы знаем, что она не всегда была такой почтенной матроной, какой себя выставляет.
Вот такие-то дела! Полагаю, что ни ты, ни твой племянник не позволите ее исключить, но надо же такое придумать! Какой бы поднялся скандал! Знаешь, по-моему, даже пожилые женщины уже не помнят, что такое настоящий скандал. А я вдруг ночью припомнила, что за всю мою жизнь исключили только троих, и все трое тут же покончили самоубийством.
И все же, с другой стороны, страшно подумать, что в Школе тканья, в этом самом прекрасном, святом, необыкновенном таинстве, может участвовать такая личность, как Волоокая. Юлия, я никогда не забуду, как по этому поводу выразился твой великий супруг: «Эти таинства, когда собираются наши женщины и проводят вместе двадцать часов, подобны столпу, подпирающему Рим».
Мы все никак не можем понять: почему Хозяин Погоды (пойми, дорогая, я не хочу быть непочтительной) разрешает Перепелке так часто с ней встречаться? Нас всех это просто поражает. Ведь встречи с Волоокой неизбежно влекут за собой и встречи с Диким Кабаном, а ни одна уважающая себя женщина не захочет с ним знаться.
Но давай поговорим о другом.
Вчера я удостоилась большой чести, о чем хочу тебе рассказать. Он сам пожелал со мной побеседовать.
Я, как и весь Рим, отправилась к Катону в день поминовения его великого предка. Улицу запрудила тысячная толпа с трубачами, флейтистами и жрецами. В доме для диктатора поставили кресло, и все, естественно, были в большом волнении. Наконец он появился. Ты сама, дорогая, знаешь, насколько трудно предсказать, как он себя поведет. По словам моего племянника, он держится официально, когда ждешь от него простоты, и ведет себя просто, когда должен бы держаться официально. Он прошел через Форум и вверх по холму безо всякой свиты, вместе с Марком Антонием и Октавианом, словно прогуливаясь. Я дрожу за него: ведь это так опасно; но именно за такое пренебрежение к опасности его обожает народ; это в нравах старого Рима, и ты, наверное, могла слышать восторженные крики толпы даже у себя в имении! Он вошел в дом, кланяясь и улыбаясь, и подошел прямо к Катону и его родным. Можно было услышать, как пролетит муха! Впрочем, для тебя не секрет, что племянник твой просто совершенство! До нас доносилось каждое его слово. Сначала он был величав, почтителен – Катон даже прослезился и низко опустил голову. Потом Цезарь заговорил интимнее – он обращался ко всем членам семьи, – а затем стал шутить, и очень остроумно, так что скоро весь зал покатывался со смеху.
Катон отвечал ему хорошо, но очень кратко. Казалось, забыты все мучительные политические распри. Цезарь взял пирожок (ими обносили гостей), а потом стал заговаривать то с одним, то с другим из присутствующих. Он отказался сесть в кресло диктатора, но вел себя так мило, что никто из домашних не счел это обидным! И тут, дорогая, он приметил меня и, попросив у слуги стул, сел со мной рядом. Можешь себе представить мое состояние!
Случалось ли ему хоть раз забыть какой-нибудь факт или чье-то имя? Он вспомнил, что двадцать лет назад провел у нас в Анцио четыре дня, а также всю мою родню и всех тогдашних гостей. Он очень деликатно предостерег меня насчет политической деятельности моего внука (но помилуй, дорогая, что я могу с ним поделать!). Потом стал спрашивать мое мнение о ежемесячном празднестве в память основания Рима. Как видно, он меня там заметил – нет, ты только подумай! – хотя был от меня далеко и шагал взад-вперед, выполняя этот сложный ритуал! Какую часть я считаю самой волнующей, какие фразы показались мне чересчур длинными или непонятными для народа? Потом он заговорил о самой религии, о знамениях и о счастливых и несчастливых днях.
Ах, дорогая, он самый обаятельный человек на свете, и все же – я вынуждена это сказать – в нем есть что-то пугающее! Он слушает с неотрывным вниманием все, что ты неуклюже пытаешься выразить. И хотя его большие глаза глядят на тебя с таким лестным для тебя интересом, ты все равно пугаешься.
Они словно внушают: мы с вами здесь единственные искренние люди; мы говорим то, что думаем; мы говорим правду. Надеюсь, я не вы глядела круглой дурой, однако жаль, что никто меня не предупредил, что верховный понтифик будет меня выспрашивать, что, как, где и когда я думаю о религии, ибо в конечном счете все свелось к этому. Наконец он отбыл, и все мы смогли разойтись по домам. Я сразу же легла спать.
Скажи мне, Юлия, по секрету, каково, по-твоему, быть его женой?
Ты меня спрашиваешь насчет Луция Мамилия Туррина.
Я, как и ты, вдруг сообразила, что ничего о нем не знаю. Почему-то я вбила себе в голову, что он либо умер, либо настолько поправился, что занимает какую-то должность в отдаленных краях республики. Но если хочешь что-то выведать, по опыту знаю, лучше всего обратиться к одному из старых доверенных слуг. Они составляют своего рода тайное общество, знают о нас все и этим гордятся. Поэтому я спросила нашего старого вольноотпущенника Руфия Тела и, как и надо было ожидать, выяснила следующее: во второй битве с белгами, когда Цезаря чуть не схватили враги, Туррин попал в плен. Прошло тридцать часов, прежде чем Цезарь догадался, что он пропал. И тогда, дорогая, твой племянник бросил полк на вражеский лагерь. Полк был почти целиком уничтожен, но отбил Туррина – в самом жалком состоянии. Враги, чтобы заставить его говорить, постепенно отрубали ему конечности и лишили возможности видеть и слышать. Они отрубили у него руку, ногу, а может, и что-то еще, выкололи глаза, обрезали уши и собирались проткнуть барабанные перепонки. Цезарь позаботился о том, чтобы ему был обеспечен самый лучший уход, и с тех пор Туррин, согласно его собственному желанию, окружен полнейшей тайной. Но Руфию, как видно, известно, что он живет в прекрасной вилле на Капри, вдали от чужих глаз. Он, конечно, по-прежнему очень богат и окружен целой свитой секретарей, служителей и прочей челяди.
Ну разве это не душераздирающая история? Подумай, как ужасна бывает жизнь! Я ведь хорошо помню, как он был красив, богат, талантлив и явно предназначен занять самые высокие посты в государстве. А до чего же он был мил! Он чуть было не женился на моей Аврункулее, но и его отец, и все остальные Мамилии были чересчур старозаветны для меня, а уж для моего мужа и подавно. Как видно, он по-прежнему интересуется политикой, историей и литературой. У него здесь, в Риме, есть какой-то поверенный, который сообщает ему все новости, посылает книги, передает сплетни. Но ни одна душа не знает, кто это такой. А сам Туррин, как видно, хочет, чтобы его забыли все, кроме нескольких друзей. Я, конечно, спросила Руфия, кто его навещает. Руфий уверяет, будто он не принимает почти никого, что актриса Киферида иногда ездит ему почитать и что раз в год весной у него по нескольку дней гостит диктатор, но, как видно, никому ни слова не говорит об этих посещениях!..
Руфий – золото, а не человек – молил никому, кроме тебя, всего этого не рассказывать. Он поразительное существо, этот старый африканец, и видно, он чтит желание калеки, чтобы о нем забыли. Я поступаю, как он просит, и уверена, что и ты последуешь моему примеру. Меня просто ужас берет, до чего длинно мое письмо.
Приезжай как можно скорее.
Пустоголовый! S. Т. Е. Q. V. М. Е.! (Клодия в насмешку пользуется эпистолярным обычаем того времени сокращенно обозначать заглавными буквами род приветствия: «Если ты и войско здоровы, то хорошо». Заменив две буквы, она пишет: «Если ты и твой сброд здоровы, то плохо».)
Нас опять пощипали. (Тайная полиция Цезаря опять завладела одним из их писем. Однако брат и сестра сговорились, что невинная переписка будет пересылаться ими почти открыто, через посыльных, в качестве маскировки для настоящих писем, которые будут припрятывать куда тщательнее.)
Письмо твое – бессмысленная чушь. Ты пишешь: когда-нибудь и они умрут! Почем ты знаешь? Ни ты, ни он и никто на свете не знает, когда он умрет. Тебе надо строить свои планы с таким расчетом, что он может умереть завтра, а может прожить еще лет тридцать. Только дети, политические краснобаи и поэты разговаривают о будущем так, словно о нем что-то можно знать, – к счастью, мы не имеем о нем ровно никакого понятия. Ты пишешь: каждую неделю у него падучая. (Припадки эпилепсии у Цезаря.) Поверь, это неправда, и ты знаешь, от кого я получаю сведения. (Служанка жены Цезаря Абра была рекомендована ей Клодией и за плату осведомляла ее обо всем, что творится в доме Цезаря.) Ты пишешь: под взглядом этого Циклопа мы бессильны что-либо сделать. Послушай, ты уже не мальчик. Тебе сорок лет. Когда ты научишься не ждать счастливого случая, а опираться на то, что у тебя есть, используя каждый день, чтобы укрепить свое положение? Почему ты так и не пошел дальше трибуна? Потому что всегда откладываешь свои планы на будущий месяц. А пропасть между сегодняшним днем и будущим месяцем пытаешься перейти, полагаясь на грубую силу и банду своих громил. Корабельный Нос (по-гречески; имеется в виду Цезарь) правит миром и будет им править, может быть, один день, а может быть, тридцать лет. Ты ничего не достигнешь и останешься никем, если не смиришься с этим фактом и не будешь из него исходить. Говорю тебе очень серьезно: всякая попытка не считаться с ним приведет тебя к гибели.
Тебе надо вернуть его расположение. Не позволяй ему забывать, что однажды ты оказал ему большую помощь. Я знаю, ты его ненавидишь, но это не играет никакой роли. Ведь и он прекрасно знает, что ни любовь, ни ненависть не решают ничего. Где бы он сейчас был, если бы ненавидел Помпея?
Присматривайся к нему, Пустоголовый. Ты многому научишься.
Ты знаешь его слабость – то равнодушие, ту отрешенность, которую люди зовут добротой. Ручаюсь, что в душе ты ему нравишься; он любит непосредственность и простодушие, к тому же он, по существу, забыл, какие дурацкие смуты ты затевал. И ручаюсь также – его втайне забавляет, что ты уже двадцать лет заставляешь Цицерона трястись от страха.
Присматривайся к нему. Начни хотя бы подражать его трудолюбию. Я верю тому, что он пишет по семьдесят писем и прочих бумаг в день. Они каждый день сыплются на Италию как снег – да что я! – они засыпают весь мир – от Британии до Ливана. Даже в сенате, даже на званых обедах за спиной его стоит секретарь; в тот миг, когда в голове его рождается мысль написать письмо, он отворачивается и шепотом его диктует. То он пишет какой-нибудь деревне в Бельгии, что они могут взять своим названием его имя, и шлет им флейту для местного оркестра, то придумывает, как сочетать еврейские законы о наследстве с римскими обычаями. Он подарил водяные часы городу в Алжире и написал им увлекательное письмо в арабском духе. Трудись, Публий, трудись!
И помни: этот год мы к нему приспосабливаемся.
Все, что я у тебя прошу, – это один год.
Я собираюсь стать самой старозаветной дамой в Риме. К будущему лету я добьюсь звания почетной жрицы Весты и руководительницы Таинств Доброй Богини.
А ты можешь получить в управление провинцию.
Отныне мы будем называть себя Клавдиями. Дед заработал несколько лишних голосов, пойдя на плебейское произношение нашего имени. Неприятно, но необходимо.
Наша затея с обедом провалилась. И Корабельный Нос, и Чечевичка (тоже по-гречески; жена Цезаря) отказались прийти. Гекуба не ответила на приглашение. Услышав об этом, вероятно, откажется в последнюю минуту и Цицерон. Будет Азиний Поллион, а я кем-нибудь заполню пустые места за столом.
Катулл. Я хочу, чтобы ты был с ним мил. Я постепенно от него избавлюсь. Дай мне это сделать так, как я считаю нужным. Ты не поверишь, что с ним творится! Я не более дурного мнения о себе, чем любая другая, но никогда не претендовала на роль всех богинь в едином лице, да вдобавок еще и Пенелопы! Публий, я ничего на свете не боюсь, кроме этих его жутких эпиграмм. Вспомни, как он пригвоздил ими Цезаря; все их повторяют, они прилипли к нему навсегда, как лишай. Я не хочу, чтобы со мной случилось то же самое, и потому дай мне самой все уладить.
Ты понял, что наш званый обед провалился? Заруби это себе на носу. Никто не придет в наш дом, кроме твоих Зеленых Усов и дикого козла Катилины. И все же мы – это мы. Наши предки вымостили город, и я не позволю об этом забыть. Еще один вопрос, Пустоголовый.
Чечевичка – не для тебя. Я это запрещаю. И думать забудь. Запрещаю. Вот в таких делах мы с тобой и совершали грубейшие ошибки. Подумай, о чем я говорю. (Клодия намекает на то, что ее брат соблазнил девственную весталку, а может, и на непристойное судебное преследование блистательного Марка Целия Руфа, бывшего своего любовника, которого она обвинила, будто он украл у нее драгоценности. Его успешно защищал Цицерон в речи, где он вскрыл всю малопочтенную биографию брата и сестры, ославив их и сделав посмешищем всего Рима.)
Поэтому затверди накрепко: весь этот год мы будем соблюдать приличия.
Я, твоя Волоокая, тебя обожаю. Сообщи, что ты обо всем этом думаешь, с обратной почтой. Я пробуду здесь еще дня четыре-пять, хотя стоило мне сюда приехать и взглянуть на Кассию и Квинта, как мне тут же захотелось уехать на север. Но я поубавлю их самодовольство, не бойся. Со мной Вер и Мела. А послезавтра ко мне приедет и Катулл.
Ответь мне с этим же посланным.
Душечка!
Твой муж – великий человек, но к тому же он еще и большой грубиян. Он очень сухо сообщил мне, что не сможет прийти на обед. Я знаю, ты сумеешь его переубедить. Не падай духом, если первые три или четыре попытки не увенчаются успехом.
Будут Азиний Поллион и наш новый поэт Гай Валерий Катулл. Напомни диктатору, что я послала ему все стихи этого молодого человека, какие у меня были, а он мне не вернул ни подлинника, ни даже копий. Ты меня спрашиваешь, как я отношусь к культу Изиды и Озириса. Расскажу об этом при встрече. Конечно, он очень живописен, но по существу – чепуха. Для служанок и носильщиков. Я очень раскаиваюсь, что стала водить туда людей нашего круга. В Байях такая скука, что египетские обряды помогают скоротать время. На твоем месте я не стала бы просить у мужа разрешения их посещать: его это только рассердит и причинит вам обоим огорчения.
У меня есть для тебя подарок. В Сорренто я нашла поразительного ткача. Он ткет такую вуаль, что стоит дунуть – и целый кусок улетит к потолку; ты поседеешь прежде, чем эта воздушность снова спустится на землю. И соткана она не из рыбьих жабр, как та блестящая ткань, которую носят танцовщицы. Мы с тобой наденем эти наряды на мой званый обед и будем как близнецы! Я нарисовала фасон, и Мопса сразу же начнет шить, когда я вернусь в город.
Черкни мне словечко с этим же посланным.
И смотри притащи этого невежу на мой обед.
Целую тебя крепко в уголок каждого из твоих прекрасных глазок. Как близнецы! Но насколько ты моложе меня!
Дорогой Мышоночек!
Я не могу тебя дождаться! Я такая несчастная. Больше так жить невозможно. Дай мне совет. Он говорит, что мы не можем пойти к тебе на обед. О чем бы я его ни попросила, он на все говорит «нет». Нельзя поехать в Байи. Нельзя пойти в театр. Нельзя ходить в храм Изиды и Озириса.
Мне надо с тобой подробно, подробно поговорить. Как мне стать хоть чуточку посвободнее? Каждое утро мы ссоримся, и каждую ночь он просит прощенья; но не уступает мне ни на йоту, и я никогда не получаю того, что хочу.
Конечно, я его очень, очень люблю, потому что он мой муж, но, понимаешь, мне так хотелось бы иногда получать от жизни хоть маленькое удовольствие. Я так часто плачу, что стала страшной уродиной, тебе даже будет противно на меня смотреть.
Можешь не сомневаться, что я снова буду просить его пойти к тебе на обед, но – увы – ведь я его знаю! Вуаль, должно быть, просто чудо. Приезжай поскорей.
970. (О законах на право первородства и отрывке из Геродота.)
971. (О поэзии Катулла.) Большое спасибо за шесть комедий Менандра. Я еще не успел их прочесть. Дал переписать. Скоро верну подлинник, а может, и какие-нибудь свои заметки по их поводу.
Да, у тебя, видно, богатая библиотека. Нет ли в ней каких-нибудь пробелов, которые я смог бы заполнить? Сейчас я шарю по всему свету в поисках подлинного текста Эсхиловой «Ликургии». Мне понадобилось шесть лет, чтобы напасть на «Пирующих» и «Вавилонян» Аристофана, их я послал тебе прошлой весной. Последняя пьеса, как ты, наверное, заметил, в плохом списке, таможенники в Александрии записывали на нем перечень грузов.
Я вложил в пакет, который отправляю на этой неделе, пачку стихов. Старые шедевры пропадают, новые, по воле Аполлона, появляются на смену. Стихи написаны молодым человеком Гаем Валерием Катуллом, сыном моего старого знакомого, живущего недалеко от Вероны. По дороге на север (в 50 году) я провел ночь в их доме и помню его сыновей и дочь. Вернее, я помню, что брат поэта – он уже умер – понравился мне гораздо больше.
Тебя удивит, что Лесбия, к которой обращены стихи, не кто иная, как Клодия Пульхра – та самая, которой когда-то и мы с тобой писали стихи. Клодия Пульхра! Какая странная игра закономерностей виновна в том, что женщина, которая перестала находить в своей жизни какой-либо смысл и живет лишь тем, чтобы сообщать всему, что ее окружает, разброд, царящий в ее душе, становится в воображении поэта предметом обожания и вдохновляет его на такие блистательные стихи? Говорю тебе совершенно серьезно: больше всего на свете я завидую дару высокой поэзии. Я приписываю великим поэтам способность напряженно вглядываться в мир и создавать гармонию между тем, что таится внутри нас и вовне. А Катулл вполне может быть причислен к таким поэтам. Но неужели и высшие натуры способны так же обманываться, как простые смертные? Меня огорчает не его ненависть ко мне, а его любовь к Клодии. Не могу поверить, что он увлечен только ее красотой и что красоты телесной достаточно, чтобы произвести на свет такое совершенство речи и мысли. Может, он сумел разглядеть в ней достоинства, скрытые от нас? Или видит в ней душевное величие, которым она, безусловно, обладала, прежде чем погубила себя и сделалась предметом ненависти и посмешищем всего города?
Для меня эти вопросы связаны с первоосновами самого бытия. Я буду и дальше в них разбираться и сообщу тебе, что мне удалось понять.
972. (О политике и назначениях на должности.)
973. (Касательно некоторых нововведений в Таинствах Доброй Богини. См. документ XLIII-A.)
976. (Рекомендация слуге.)
977. (О вражде к нему Катона, Брута и Катулла.)
Я посетил Катона в день поминовения его великого предка.
Как я тебе уже говорил, переписка с тобой оказывает на меня странное действие: я вдруг начинаю вдумываться в явления, которых раньше не замечал. Мысль, которую я в тот миг поймал на кончике пера и хотел сразу же отбросить, такова: из четырех людей, которых я больше всего уважаю в Риме, трое питают ко мне смертельную вражду. Я имею в виду Марка Юния Брута, Катона и Катулла. Вероятно, и Цицерон был бы рад от меня избавиться. Сомнений тут быть не может: до меня доходит множество писем, не предназначенных для моих глаз.
Я привык к тому, что меня ненавидят. Еще в ранней юности я понял, что не нуждаюсь в добром мнении даже лучших из людей, чтобы утвердиться в своих поступках. По-моему, только поэт более одинок, чем военачальник или глава государства, ибо кто может дать ему совет в том беспрерывном процессе отбора, каковым является стихосложение? В этом смысле ответственность и есть свобода; чем больше решений ты вынужден сам принимать, тем больше ты ощущаешь свободу выбора. Я полагаю, что мы не имеем права говорить о своем самосознании, если не испытываем чувства ответственности, и сильнейшая опасность моему чувству ответственности будет грозить тогда, когда мне, хотя бы чуть-чуть, захочется завоевать чье-то одобрение, будь то Брут или Катон. Я должен принимать свои решения так, словно они неподвластны оценке других, словно за мной никто не следит.
И однако же, я политик: мне приходится изображать, что я почтительнейше внимаю мнению других. Политик – это человек, который притворяется, будто так же жаждет почета, как и все остальные, но успешно притворяться он может, только если в душе свободен от этой жажды. Вот в чем основное лицемерие политики, и вождь достигает конечной победы только тогда, когда люди испытывают страх, ибо подозревают, хоть и не знают наверняка, что ему безразлично их одобрение, что он к нему равнодушен и что он лицемер. Как? – говорят они себе, – как? Неужели в этом человеке не копошится тот клубок змей, который таится в каждом из нас, причиняет нам муки, но и дает наслаждение: жажда похвалы, потребность в самооправдании, утверждение своего «я», жестокость и зависть? Дни и ночи я провожу под шипение этих змей. Когда-то я слышал его и в собственной утробе. Как я заставил их замолчать – сам не знаю, хотя интереснее всего было бы знать, что на подобный вопрос ответил бы Сократ.
Не думаю, что ненависть Марка Брута, Катона и этого поэта рождена таким клубком змей. В сущности, их ненависть идет от ума, от их взглядов на правление государством и свободу. Даже если бы я поставил их на то место, которое занимаю сам, и показал распростертый внизу мир таким, каким его видно только отсюда; даже если бы я рассек свой череп и открыл им опыт всей своей жизни – а я был во сто крат ближе к людям и власти, чем они, – даже если бы я смог перечесть строка за строкой писания тех философов, к которым они привержены, историю тех стран, где они ищут себе образец, – и тогда я не мог бы надеяться, что заставлю их прозреть. Первый и последний учитель жизни – это сама жизнь, и надо отдавать себя этой жизни безбоязненно и безраздельно; людей, которые это понимают, Аристотель и Платон могут многому научить, а вот тех, кто ставит себе всяческие рогатки и разлагает свой дух умствованиями, даже самые высокие учителя могут привести только к ошибкам. Брут и Катон твердят «свобода», «свобода» и живут, чтобы навязать другим ту свободу, которой не дают себе сами, – суровые, не знающие радости люди, они кричат своим ближним: будьте так же веселы, как веселы мы, и так же свободны, как свободны мы.
Катона ничему не научишь. Брута я послал губернатором в Ближнюю Галлию для обучения. Октавиана я держу рядом с собой, чтобы он пригляделся к государственной службе: скоро я выпущу его на арену.
Но за что меня ненавидит Катулл? Неужели и великие поэты могут пылать негодованием, заимствованным из старых учебников? Неужели великие поэты – дураки во всем, кроме своей поэзии? Неужели их взгляды формируются застольной беседой в Эмилиевом клубе для плавания и игры в шашки?
Признаюсь, дорогой друг, я был сам поражен, почувствовав в себе слабость, головокружительную слабость; ох, как мне захотелось, чтобы меня понял такой человек, как Катулл, и прославил в стихах, которые не скоро будут забыты.
978. (Об основах банковского дела.)
979. (О подпольной деятельности в Италии неких лиц, подстрекающих к его убийству. См. ниже LXI.)
980. Помнишь, куда приглашал нас охотиться Рыжий Сцевола в то лето, когда мы вернулись из Греции? Второй урожай пшеницы обещает быть в тех местах очень хорошим. (Цезарь дает обиняком деловой совет, чтобы не привлечь внимание своих секретарей.)
981. (О бедности прилагательных в греческом языке, мешающей определять цвета.)
982. (О возможном упразднении всех религиозных обрядов.)
Вчера ночью, мой благородный друг, я сделал то, чего не делал уже много лет: написал эдикт, перечел его и порвал. Я позволил себе нерешительность.