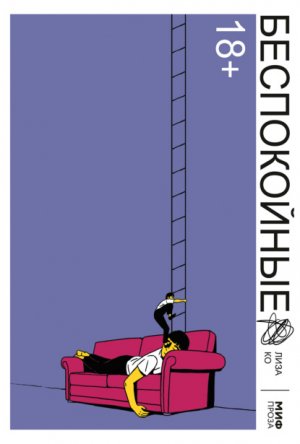
Информация от издательства
Lisa Ko
THE LEAVERS
Copyright © 2017 by Lisa Ko
Li-Young Lee, excerpt from “The City in Which I Love You” from The City in
Which I Love You. Copyright © 1990 by Li-Young Lee
Reprinted with the permission of The Permissions Company, Inc., on behalf of BOA Editions, Ltd., www.boaeditions.org
Published by arrangement with Algonquin Books of Chapel Hill, a division of Workman Publishing Company, Inc., New York
Russian language edition copyright © 2020 by Mann, Ivanov and Ferber
All rights reserved
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2020
I. Другой мальчик, другая планета
За день до того, как Деминь Гуо в последний раз увидел мать, она застала его врасплох у школы. Темно-синяя шапка низко сползла на лоб, на ее шее был шарф, похожий на большую коричневую змею.
– Чего ждешь, малыш? Здесь холодно.
Он стоял в дверях общественной школы № 33, пока она дергала молнию на его куртке, а потом так резко потянула, что прищемила подбородок.
– Ты ушла с работы пораньше?
Было полпятого, уже темно, но обычно она не заканчивала в маникюрном салоне до шести.
Говорили они, как всегда, на фучжоуском диалекте.
– Короткая смена. Майкл сказал, ты задержался после уроков, чтобы тебе помогли с домашней работой.
Ее глаза за очками прищурились, и он не понял, купилась она или нет. Когда учителя оставляли после уроков, они не звонили маме, а только давали бланк ей на подпись, и Деминь ее подделывал. Майкл, которого никогда не оставляли после уроков, уже ушел. Деминю хотелось с ним – домой, к телевизору, где в уюте закадрового смеха можно не волноваться, что он кого-то подводит.
Снег шлепался комками мокрого белья. Деминь с матерью шел по Джером-авеню. В конце забетонированного двора три парня постарше пускали по кругу косяк. В расстегнутых куртках, без рюкзаков и шапок парни грелись в разреженном февральском воздухе сладким дымом и вялым смехом.
– Я не хочу, чтобы ты был таким же, – сказала она. – Не хочу, чтобы ты был как я. Я даже восьмой класс не закончила.
Какая клевая идея – не закончить восьмой класс. Он с трудом справлялся и с пятым. Учителя говорили, что Деминь невнимательный, не старается, но, когда он подставил подножку Трэвису Бхопе в классе математики, поразился сам себе не меньше Трэвиса.
– Я приду завтра в школу, – сказала мать, – поговорю с учителем про это твое задание.
Он шел вплотную к рукаву матери, наслаждался шуршанием курток. Она не была похожа на мамочек из телевизора, которые вечно обнимают своих детей или наблюдают за ними с мечтательными улыбками, но всегда держала Деминя за руку, когда они переходили оживленную улицу. Под перчатками мамины руки были красными и загрубелыми, а раздраженная кожа шелушилась. Каждый вечер перед сном она натирала пальцы густым кремом и морщилась. Однажды он спросил, лечит ли крем руки. Она ответила, что ненадолго, и Деминь пожалел, что не бывает специального крема, чтобы вырастала новая кожа – как супермощные перчатки.
Низкая и коренастая, она носила свободные джинсы – он ни разу не видел ее в платье, – а голос у нее был до того громкий, что лаяли собаки и оглядывались другие дети, когда она звала Деминя по имени. Когда мать увидела его последний табель успеваемости, он уже думал, что от ее крика сработают сигнализации машин на улице четырьмя этажами ниже. Смеялась она так же громко, как и кричала. И когда хохотала над какой-нибудь глупостью, то шлепала себя по коленям – для Деминя не было звука приятнее. Она смеялась над несмешным: над теледрамами и их раздутыми оркестровыми саундтреками, а еще громче над Деминем. Например, когда он пародировал машинальный ответ соседа Томми «неплохо-неплохо-неплохо» на еще не прозвучавшее «здравствуйте, как дела» при встрече на лестнице. Или когда она спросила, щелкая каналы телевизора: «“Танцы со звездами” еще не начались?» – а Деминь, раскопавший старую бумажную модель Солнечной системы Майкла, стал вальсировать по комнате. Это было почти так же здорово, как дурачиться с друзьями.
Когда Деминь жил с дедушкой в Минцзяне, его мать исследовала Нью-Йорк в одиночку. Она всегда была неусидчивой: дрыгала ногой, качала коленями, хрустела костяшками, играла с пальцами. В солнечный день она ненавидела сидеть в квартире и мерила шагами комнаты туда-сюда, туда-сюда, с болтающейся между губами сигаретой. «Кто хочет гулять?» – спрашивала она. Ее парень Леон просил ее расслабиться, присесть. «Присесть? Мы и так сидим целый день!» Деминю хотелось остаться на диване с Майклом, но ей он отказать не мог. Тогда они шли на улицу вдвоем. Мать принадлежала только ему во время прогулки по парку или вдоль реки, когда они выдумывали истории про тех, кто жил в квартирах за окнами. «Смиты, пятеро детей, отец умер, у матери зависимость от бейглов», – фантазировал он, когда они гуляли по Верхнему Ист-Сайду.
– Бейглы? – спросила она. – С каким вкусом?
– Со-всем, – ответил Деминь, и она прыснула еще громче. Потом на Мэдисон-авеню они уже хватались за животы, смеялись так сильно, беззвучно, до коликов, но не могли остановиться, а белые пожилые люди поглядывали на них косо из-за того, что они встали посреди тротуара. Деминь с матерью обожали «бейглы-со-всем» – саму их наглость, нью-йоркскую дерзость, заявлявшую, что бейгл может быть «каким-угодно». Хотя на самом деле этим «со-всем» были всего лишь кунжут, мак и соль.
Мимо пропыхтел автобус, разбрызгивая грязь. На светофоре загорелся зеленый.
– Знаешь, чем я сегодня занималась? – спросила мама. – У одной женщины на пятке была мозоль размером с твой нос. Пришлось отскребать. Я трудилась целую вечность. В итоге не чаевые получила, а говно на палочке. Если будешь умным, тебе не придется таким заниматься.
Он привык сдерживаться, но всё равно боялся. Матери ругаться было можно, но единственный раз, когда он ляпнул перед ней «жопа», с восторгом перекатывая мясистые слоги во рту, она шлепнула его по руке и сказала, что он слишком приличный мальчик для таких выражений. Теперь он молча повторял это слово про себя на ходу, по слогу на шаг.
– Думаешь, когда я была девочкой твоего возраста, я думала: «Эй, а поеду я в тот самый Нью-Йорк чистить гао-гао с чужих ног?» Не это я планировала.
«Всегда будь готов, – любила говорить она. – Никогда не полагайся на других в том, что можешь сделать сам». Она презирала лень, мягкость, слабых людей. Друзей у нее было мало, но тем, какие были, она всегда была верна. Она могла быть и очень злопамятной: проходила три лишних квартала до другой бакалеи, потому что два года назад кассир из той, что на углу, фыркнул из-за ее плохого английского. А он действительно был плохим, тут Деминь не спорил.
– Взять, например, Леона. Как он тебе?
– Леон классный.
– У него спина не в порядке. Плечи болят. Мужчины работают не в маникюрных салонах. Не закончишь школу – будешь рубить мясо, как Леон, заработаешь артрит к тридцати пяти.
Было нехорошо обсуждать йи ба Леона, такого сильного – перед Деминем, Майклом и их друзьями он отжимался на одной руке и разрешал бить его в живот, хотя Деминь всегда сдерживался от удара в полную силу. «Еще разок, – говорил Леон. – И это удар? Рукопожатие». Деминь гордился Леоном, хоть тот и не был ему настоящим отцом, – на эту тему из матери слова не вытянешь, он знал об отце только то, что того никогда не было с семьей. Если бы Деминь мог выбрать, кем станет, когда вырастет, он бы хотел быть как Леон или как тот парень, который играл в метро на саксофоне, в окружении людей, пока танцуют пальцы, надувается грудь и туннель заполняется лиловыми и оранжевыми всполохами. О, вот бы и Деминя так любили!
Под снегом Фордем-роуд была необычно тихой. Тротуар перед заброшенным зданием покрыл гололед, к нему прилипла красная жвачка, как одинокая пеперони к замороженной пицце.
– Какая-то бесконечная зима, – сказала мама, они держались за руки на ходу. – Не хочешь уехать отсюда? Туда, где тепло?
– Дома тепло.
У них в квартире – если только они когда-нибудь до нее доберутся – отопление жарило. Иногда они даже ходили в одних футболках.
Мать нахмурилась.
– Я была первой девочкой в деревне, которая поехала в столицу провинции. Добралась до самого Нью-Йорка. Хотела объехать весь мир.
– А потом?
– Потом у меня родился ты. Потом я встретила Леона. Теперь ты – мой дом, – они начали подъем на холмистую Юниверсити-авеню. – И мы переезжаем.
Он встал посреди обледенелой лужи.
– Что? Куда?
– Во Флориду. Я нашла новую работу в ресторане. Рядом с «Дисней-Уорлдом». Свожу тебя туда, – она улыбнулась так, словно ждала улыбку в ответ.
– Йи ба Леон поедет с нами?
Она вытащила Деминя из лужи.
– Ну конечно.
– А Майкл и Вивиан?
– Они присоединятся потом.
– Когда?
– Работа скоро начнется. Через неделю-две.
– Неделя? А как же школа?
– С каких пор ты так полюбил школу?
– Но у меня же здесь друзья.
Трэвис Бхопа уже несколько месяцев обзывал Майкла и Деминя тараканами. Порыв подставить ему подножку в проходе между партами был спонтанным, а выражение на лице Трэвиса – изумленным, звук падения – хлипким шлепком. Майкл с друзьями потом давали ему пять. «Зашибись, Деминь!» За это стоило остаться после уроков.
Они стояли перед продуктовым магазином.
– Пойдешь в новую хорошую школу. На новой работе много платят. Будем жить в тихом городке.
Ее голос выл трубой, а слова звонко били треугольником. Деминь вспомнил годы без матери, проведенные с йи гонгом в молчаливом доме на 3-й улице, и увидел такую тишину, в которой слышно, как моргаешь.
– Я не поеду.
– Я же твоя мать. Мы поедем вместе.
Хлопнула дверь продуктового. Вышла с двумя целлофановыми сумками миссис Джонсон – соседка.
– Когда я жил в Китае, тебя со мной не было, – сказал Деминь.
– Тогда с тобой был йи гонг. Я зарабатывала, чтобы привезти тебя сюда. Теперь все по-другому.
Он отнял от матери руку.
– Что по-другому?
– Тебе понравится во Флориде. Будешь жить в большом доме, в собственной комнате.
– Не хочу комнату. Хочу жить с Майклом.
– Ты ведь уже переезжал. Было не так трудно, правда?
Цвет на светофоре сменился, но миссис Джонсон оставалась на их стороне улицы и следила за ними. Юниверсити-авеню не похожа на Чайна-таун, где они жили до переезда к Леону в Бронкс. В этом квартале не было других семей из Фучжоу, и люди иногда смотрели на эмигрантов так, будто их язык взялся из какой-то дыры.
Деминь ответил на английском:
– Я не поеду. Отстань.
Она замахнулась. Он отскочил, когда она бросилась на него. Потом мама его обняла – он терся щекой о снег на ее куртке, прижимался носом к груди. Слышал, как под одеждой бьется сердце, громкое и решительное, и, пока не растаял, заставил себя вывернуться из ее рук и побежал по кварталу с хлопающим по спине рюкзаком. Она топала за ним в резиновых сапогах, вскрикивая, когда поскальзывалась на тротуаре.
Они жили в маленькой квартирке в многоэтажном здании, и мать Деминя мечтала о доме, в котором будет больше комнат. Мечтала о тишине. Но Деминь был не против шума, ему нравилось слышать, как соседи ссорятся на английском, испанском и других языках, которых он не знал. Нравились топот ног и скрежет стульев, сальса, меренга и хип-хоп, футбольные матчи и «Колесо фортуны», мигающие из-под дверей и в щели в потолке, звенящие батареи и смыв туалетов. Он слышал, как другие матери кричат на других детей. В этом здании обитал целый город.
За ужином о Флориде не говорили. Деминь с Майклом посмотрели на Джорджа Лопеза и Веронику Марс, пока мать Деминя складывала выстиранное белье с прошлой недели. Леон работал на бойне в ночную смену. Сестра Леона, Вивиан, – мать Майкла – еще не пришла. Деминь лежал на одной стороне дивана, вытянув ноги на середину, а Майкл – на другой, как зеркальное отражение, и всё еще вспоминал Трэвиса Бхопу.
– Как он брякнулся! – Пятки Майкла стучали по подушкам. – Он это заслужил!
А что, если во Флориде будут такие большие комнаты, что они друг друга не услышат?
Мать натирала руки кремом. «Теперь ты – мой дом», – сказала она. Ранее Деминь вызвался купить ей в продуктовом сигареты и украл там «Милки Уэй». Он поделился половиной с Майклом, пока мать не видела. «Зашибись, Деминь!»
– Майкл слопал свою часть в один присест и смотрел на Деминя с таким восхищением, что тот понял: всё будет хорошо. Если с ними будет Майкл, если он не останется один, можно и переезжать. Мать не узнает о его наказании в школе, а они с Майклом найдут новых друзей. Деминь представил себе пляжи, песок, океан, как будет ходить в шортах на Рождество.
Поздно ночью или рано утром Деминь проснулся от удара по матрасу в другом конце спальни: мать шепталась с Леоном, пока Майкл дрых на спине. «Иди в жопу», – сказала мать. По улице прокатились снегоуборщики, отскребая асфальт.
Несмотря на все усилия, Деминь опять уснул, а когда прозвенел будильник, Леон всё еще спал, Майкл был в душе, а мать – на кухне, в рабочей форме: черных штанах и черной юбке; недокуренная сигарета тлела на краю пустой банки. Длинный и мягкий пепел постепенно опадал.
– Когда переезжаем?
Батарея звенела черными точками. Волосы матери были завиты неподвижным нимбом, очки казались заляпанными и жирными.
– Не переезжаем, – сказала она. – Торопись, а то опоздаешь в школу.
День всё же сохранил особенное свечение после отмены Флориды, хотя за пляжи и было обидно, даже когда Трэвис Бхопа сказал возле столовой этим своим вампирским акцентом «Я тебя убью». Понятно, что он говорил глупости и другим детям вроде «Я сожгу твой дом и сожру твои уши». На самом деле Трэвису не хватало союзников и подмоги. После школы Деминь и Майкл пришли домой вместе, открыли квартиру ключами, которые выдали им мамы, раскопали в холодильнике пачку риса и нарезку – влажные розовые кружки ветчины. Они наловчились готовить еду, которую даже их друзья считали отвратительной. Позже по такой еде Деминь будет скучать больше всего: жареный рис и салями, присыпанные чесночным порошком из большой пластиковой бутылки, лапша быстрого приготовления в кетчупе с американским чеддером и табаско.
Они поели на диване, занимавшем большую часть гостиной, – скользком монстре с оранжевыми и красными цветочками, которые скрипели, когда ты хотел сесть, но съезжал. Еще на нем спала Вивиан. Мать ненавидела этот диван, но Деминь угадывал в его узорах целые миры: таращился, пока не косел и цветы не принимали разные формы – аквариума, конфет, деревьев в конце октября, и представлял себя под водой плавающим у поверхности ткани. «Когда у меня будет свой салон, первым делом избавлюсь от этой штуки, – говорила мать. – Однажды придешь домой – и нет его».
С четырех до восьми по телевизору показывали ток-шоу и местные новости. Короче говоря, мертвая зона. Завтра ожидалась контрольная по геометрии. Майклу готовиться к ней было не надо, а Деминь не собирался этого делать, пока не заставит мать. Его тянуло в сон от одной мысли о задачах на сегодняшнем уроке, когда он рядом с треугольниками и другими фигурами корябал ответы от балды.
– Сколько градусов составляет угол С?
– Пятьдесят хот-догов.
В семь, когда мама не вернулась, Деминь решил, что она работает допоздна и что он официально освобожден от геометрии.
Вивиан пришла домой к концу «Джеопарди» и принесла с собой запах аммиака. Она шила на кухне сдельные заказы для фабрики, но в последнее время еще убирала квартиры в Ривердейле.
– Полли нет? Никто не приготовил ужин?
– Мы ели ветчину, – сказал Майкл.
– Это не ужин. Деминь, твоя мама должна была купить продукты по дороге домой.
– Она на работе, – ответил Деминь.
Вивиан открыла холодильник и тут же закрыла.
– Ладно, тогда я в душ.
В восемь вернулся Леон.
– Твоя мама должна уже быть дома. Видать, новая начальница задержала допоздна. – Он купил на ужин замороженные пиццы и тефтели, которые напоминали фурункулы, но оказались масляными и вкусными. Деминь съел три кусочка пиццы. Мама никогда ее не покупала.
Зазвонил мобильный Леона. Он ответил в коридоре, Деминь убрал тарелки и подождал, пока отчим договорит.
– Это мама? Можно с ней поговорить?
– Это ее подруга Диди. – Леон стискивал телефон в руке так, будто выжимал мокрое полотенце.
– А где мама? Мы едем во Флориду?
– Она уехала на несколько дней. В гости к друзьям.
– Каким друзьям?
– Ты их не знаешь.
– Где они живут?
– Уже поздно. Ложись спать.
На кровати сидел Майкл.
– Где твоя мама? – Без очков он казался старше, каким-то худым, его глаза – широкими и рассеянными.
– Леон сказал, что ее не будет несколько дней. – Залезая под одеяло, Деминь не мог избавиться от дурного предчувствия.
Прошла неделя, и за это время он только один раз ходил в школу. Когда мать с Леоном уезжали с ночевкой в Атлантик-Сити, она звонила и напоминала ему лечь вовремя. Теперь Деминь сидел до ночи, ел M&M’s на завтрак, прогуливал занятия с другом Хунгом, у которого месяц назад умер отец. Однажды они так долго смотрели DVD в квартире Хунга на Валентин-авеню, что заснули и проснулись. Потом опять засыпали, включая звук громче, пока автомобильные погони и перестрелки не заглушили холодный ужас, мечущийся внутри Деминя. Где мама? У нее не было никаких друзей. Теперь некому врать про то, за что его оставили после школы, некому его отчитывать и напоминать о том, что в жизни должен быть план. Вивиан не проверяла домашнюю работу; Майкл свою всегда делал сам.
И снова суббота. Тюбик с кремом для рук лежал в ванной в шкафчике рядом с ее зубной щеткой. В щетине пряталась зеленая крошка – кусочек овоща с коренных зубов. Деминь открыл крем, выдавил каплю. В нос ударил знакомый аромат, антисептический и цветочный, и он полоскал руки с мылом и c горячей водой, пока запах не пропал. Он нашел один ее носок в изножье кровати, а второй – на другой стороне комнаты, у комода, и скомкал их в шарик, как ей нравилось. Сидел в углу спальни с коробкой маминых вещей. Синие джинсы; пластмассовая кошка – украшение для антенны мобильника, всё еще в упаковке; желтый свитер, который она ни разу не надевала, с точками твердых катышков на рукавах. Синяя пуговица, твердая и круглая, которую он сунул в карман.
Ее кроссовки, зубная щетка, фиолетовая кружка со сколом, из которой она пила чай, – всё еще в квартире; но не ее ключи, кошелек или сумочка. Деминь открыл шкаф. Куртки, зимней шапки и сапог не было – их она надела на работу в тот четверг, но остальная одежда на месте. Он закрыл дверцу. Она не собрала вещи. Может, мама стала жертвой преступления, как в сериале CSI, а может, умерла.
Майкл пил из фиолетовой кружки воду, и Деминю хотелось выбить ее из рук друга. Он не желал, чтобы мама умирала, никогда-никогда, но это в каком-то извращенном смысле казалось лучше того, что она ушла от него, не попрощавшись. Последнее, что он сказал матери, – «Когда переезжаем?». Если бы его не оставили после уроков, если бы он ушел из школы в обычное время, если бы не спорил из-за Флориды, если бы вмешался в ссору с Леоном, она бы всё еще была здесь. Как детектив, изучающий одни и те же пять секунд с камеры видеонаблюдения, он пересматривал в голове прошлую среду, когда они вместе шли домой из школы. Снова и снова Деминь с мамой переходили Фордем-роуд, ждали на светофоре, поскальзывались на льду, обнимались под привычным присмотром миссис Джонсон. Он делал наезды, прокручивал в замедленном действии подъем по Юниверсити, потом отматывал назад, и они спускались задом наперед, проносились в обратную сторону машины и автобусы. Деминь разбирал слова матери, искал намеки, почти так же, как учителя английского заставляли читать стихи и двадцать минут рассуждали об одном предложении, о смысле, спрятанном в нем. Деминь разбирал смысл ее рассказов о своей жизни. Смысл Флориды. Смысл того, что она не вернулась домой.
Он услышал поворот ключа в двери и надеялся, это она, войдет и скажет: «Что, думал, я тебя бросила? За кого ты меня принимаешь, малыш, за героиню из “Возвращения домой”?» Они смотрели по телевизору фильм, где мама бросила детей в торговом центре и не вернулась. Тогда его больше заворожил сам торговый центр, его просторная пригородная пустота. Если мать вернется домой, Деминь не будет играть с едой или говорить по-английски так быстро, ей больше не придется переспрашивать. Он будет делать домашнюю работу, мыть посуду, поддастся ей в «Кротобое». Пусть она надерет сыну задницу так же, как прошлым летом на церковном карнавале в Бельмонте, когда Майкла стошнило сладкой ватой после карусели «Осьминог».
Но пришла не мама, а Вивиан, стряхивающая грязь с туфлей. Деминь подбежал к ней и закричал:
– Ты должна ее найти, она в беде!
Вивиан, с лицом круглым и широким, как у Леона, обняла его за плечи.
– Она не в беде.
Вивиан была теплой и знакомой, но неправильной мамой, и вместо лака для ногтей и крема для рук от нее пахло потом и чистящим средством с лимоном.
– Мама во Флориде?
Вивиан прикусила губу.
– Мы не знаем точно. Пытаемся узнать. Уверена, с Полли все в порядке.
Таял снег, на деревьях распускались розовые почки. Однажды вечером Леон и Вивиан сидели на диване и разговаривали, но, когда вошел Деминь, тут же замолчали и переглянулись. На той неделе Деминь и Майкл убрали зимние куртки и достали футболки. Деминь увидел в шкафу мамину весеннюю куртку, которую та называла рождественской, ассоциируя зеленый с цветом сосновых игл, – и быстро отвернулся. Он извинился перед Трэвисом Бхопой, надеясь, что этим все исправит, что, пожертвовав своей гордостью, обеспечит безопасность матери. «Ты что, псих?» – спросил Хунг, а у Майкла был такой вид, словно Деминь подставил подножку ему. Трэвис буркнул: «Мне пофиг». Мать не вернулась.
Чем хуже он себя чувствует, тем скорее она вернется. Деминь решил не есть целый день, это оказалось несложно. Вивиан и Леона часто не было дома, а на ужин оставались лишь пачка картофельных чипсов да чашка рамена быстрого приготовления. Четыре раза в неделю – пицца из продуктового. Теперь-то уж мама вернется домой. Он засыпал в школе, чувствуя слабость от голода. Мама сводит его в ресторан и угостит энчиладой, и он только радовался, что похудел, потому что теперь ей не придется покупать ему новую одежду. Она не вернулась.
Если он получит пятерку по геометрии, она вернется. На контрольной он получил четверку с минусом, на следующей поднял планку – четверка с плюсом. Она не вернулась. Вивиан была права. Она уехала во Флориду и бросила его.
Десять лет спустя Дэниэл Уилкинсон стоял в углу, надеясь, что никто не посмотрит на его ноги. На нем были утепленные трекинговые ботинки с полосками зеленого цвета – необходимая защита от зимы на севере штата, но в городе – оскорбление эстетических вкусов. С гортексовой курткой, шерстяной шапкой и пухлыми перчатками, лежащими в гримерке вместе с гитарой – сливочным «Стратом», который он прикупил на «Крейгслисте», его джинсы и черная футболка не казались откровенно пригородными, но на ногах у остальных парней были снежно-белые кроссовки или темные кожаные туфли, и в нем проснулся старый страх, что его заметят, разоблачат, выгонят. Ты фальшивка. Как тебя зовут по-настоящему? Откуда ты на самом деле?
Он зарылся руками в карманы и потер ткань между большими и указательными пальцами. Как вообще шьют внутри карманов? Он представил себе целый цех швейных машин, женщин, подводящих деним под прыгающие иглы, и вспомнил мать.
Концерт проходил в лофте последнего оставшегося промышленного квартала на Нижнем Манхэттене. Вдоль одной стены шли окна, обрамленные февральской изморозью; ноги липли к бетонному полу из-за пролитых напитков. Ближе к сцене, где выступали группы, было жарко, как в июле. Нынешний состав – мат-рокеры, у которых весь сет казался длинной получасовой песней, сплошь темно-серые цвета и хилые углы. Виски солиста были выбриты, зато на макушке волосы торчали, как пригоршня лакричных палочек. Группа напомнила Дэниэлу, как он целыми днями угашивался в общаге Потсдамского отделения Университета Нью-Йорка – SUNY – и крутил одну и ту же песню на повторе, пока ноты не расслаивались и не распускались.
Слава богу, он больше не в Потсдаме. Он пил водку из пластикового стаканчика, чувствовал, как по животу разливается тепло, стачивая нервы, пока музыка не пропитала с головы до пят. Когда на сцену выйдут они с Роландом, публика будет в шоке. Дэниэл вспомнил момент, когда чувак по имени Нейт говорил про Вика Сирро, а он ляпнул: «А, это ты про парня с синим рюкзаком?» Нейт скривился так, будто увидел у него пятно на штанах.
«А, это ты про парня с синим рюкзаком?». Дэниэл мысленно отвесил себе пинка. Нейт был настолько высоким и тощим, что преждевременно отрастил горб, а из-за вытянутого сухощавого лица казался родственником жирафа, но даже он считал Дэниэла лузером. После сегодняшнего дня никто не отвернется от него посреди разговора и не будет смотреть сквозь него так, будто он невидимый. Группа будет играть при солд-аутах, обозреваться в музыкальных блогах, с его фоткой на самом видном месте. Роланд всем рассказывал, что новый проект пока лучший – воссоединение с первым соавтором, с безумной гитарой Дэниэла. Из-за этих разговоров Дэниэл нервничал, словно они искушали судьбу. Всю неделю он ждал, что кто-нибудь пошлет Роланда и скажет не выпендриваться. Но здесь ради Роланда собралось ползала, и Дэниэл изо всех сил пытался впитать возбуждение толпы.
Он налил себе водки, опрокинул стакан, еще налил. Вылез на крышу – город раскинулся широко, словно подношение Дэниэлу, хотя он ни за что бы не признался вслух перед остальными, что его впечатляет вид. На севере всюду лежал снег – сезон глубокой комы. Но в городе выпало мало, на крыше горели лампы-обогреватели, а далекие мосты освещались, как на рентгеновском снимке. Доносилась долбящая инструменталка. Золотыми и зелеными лампочками как в замедленной съемке освещались руки и ноги, танцующие казались зверями, выслеживающими добычу. Были девчонки с геометрическими татуировками на внутренней стороне рук, с волосами, заплетенными как змеи, с глазами, будто подведенными фломастерами. Какая-то из девиц тоже сегодня выступала – жуткие завывания и грохочущие клавишные, скрипка, терменвокс[1], мелодика – один инструмент страшнее другого. Дэниэл взглянул на свои ботинки и двинулся в гущу танцев, где музыка казалась подводным сном.
За годы до того, как понаехавшие осмелились показать нос из своих пригородов, Дэниэл был городским пацаном, к четвертому классу наизусть выучившим карту метро, но по-прежнему чувствовал себя чужаком. После Риджборо Дэниэл потерял уверенность, в отличие от Роланда, который задавал курс вечеринки, просто появившись на ней. Когда Роланд спрашивал, кто хочет в «Тако Белл», – что вызвало бы молчание или даже насмешки, предложи это кто-то другой, – все говорили «конечно, норм, идем». Если Роланд объявлял концерт унылым, все соглашались свалить. Дэниэл же был гибким – как все и никто, приемник настроений, осторожный наблюдатель. Он следил за чужими реакциями, прежде чем определялся со своей. Дэниэл мог быть прикольным, или серьезным, или каким требовала стратегия. Он мог быть каким угодно. Иногда это выходило ему боком.
Однажды он услышал разговор про группу под названием Crudites и сказал: «Да, слышал о таких, поп-панк из девяностых, да?» Другой парень ответил: «Это несуществующая группа. Прикол». Как быстро Дэниэл тогда выпалил, что, видимо, ослышался. Недавно вечером, когда они с Роландом тусили с друзьями, которые расхваливали «Бутылочную ракету», Дэниэл все время кивал. «Ты же вроде ненавидишь Уэса Андерсона», – сказал потом Роланд. «Что, мне нельзя передумать?» – ответил Дэниэл. И спросил себя: «А что, если меня зря раздражает статус фильмов Уэса Андерсона? Вдруг я проглядел скрытую гениальность, очевидную более образованным людям?»
Если бы у него была правильная одежда, если бы он знал правильные вещи, Дэниэл наконец стал бы тем, кем должен. Уверенным в себе, с идеальным вкусом, только не таким самовлюбленным, как Роланд. Заслуживающим любви, безупречным. Но сколько альбомов ни покупай и сколько плейлистов ни составляй, настоящий он упрямо оставался у всех на виду. Похожий на жирный круизный лайнер на горизонте – видимый, но недосягаемый; и каждый раз, когда Дэниэл к нему подбирался, тот уплывал еще дальше. Он вечно ждал, когда его пустят в тайные двери за бархатной веревкой, а когда пускали – не мог до конца поверить, что вошел. Возникала другая дверь, другая веревка, обещая что-то еще лучше.
Дэниэл сжимал пустой стаканчик. Медленно рвал, гнул края, пока пластик не разошелся по линии. Мат-рокеры играли уже сорок минут. Вокруг он не видел знакомых лиц, так что взял новый стаканчик и долил последнюю водку. Стриженного почти под ноль Роланда в черном блейзере он нашел у стены. Вороватыми чертами лица и обезоруживающей улыбкой Роланд напоминал Дэниэлу гангстера из девятнадцатого века. В старшей школе оба парня слишком отличались, чтобы привлекать внимание девушек или других парней, с которыми Роланд тоже встречался. Хотя Дэниэлу нравилось думать, что теперь это не имеет значения. Роланд по-прежнему был низким, компактным, но жестким, с орлиным лицом, с отрывистыми и резкими движениями. Его маниакальная энергия больше не казалась странной, как раньше в Риджборо, как и его глубокий хрип, слегка пугающий в исполнении двенадцатилетки.
– Мы всех уделаем, – сказал Роланд. – Эти ребята такие вторичные.
Дэниэл рассмеялся и позволил залу расплыться по углам. Как же здорово снова вернуться в город, снова играть с Роландом. Вместе они играли почти полжизни. Дэниэл – гитара и вокал, Роланд – вокал, ударные, сведение и иногда бас. Они играли на квартирниках в Карлоу-колледже, или на концертах в Риджборо-Элкс-Лодж, или в амбаре в Литтлтауне. В старшей школе у них был (к счастью, недолгий) эксперимент с электроклэшем, пауэр-трио с их другом Шоном на барабанах и еще арт-панк-дуэт под названием «Уилкинсон Фуэнтес». Он запомнился зрелищным провалом Дэниэла при попытке сыграть на своем белом «Сквайре» зубами в стиле Хендрикса.
– У этих ребят такой звук, будто они дрочат на папочкины альбомы Yes, – сказал Дэниэл.
– Слишком много вторичных групп, – сказал Роланд. – Не то что тот сет с терменвоксом.
Сказать по правде, их Psychic Hearts тоже были вторичными – ночной кошмар в ритме ню-диско, будто Роланд замиксовал волосатый металл и «Дракулу» с разреженным звучанием нойз-попа, подрезав название у малоизвестного альбома Терстона Мура. Всё это позерство и детали нужны были только для того, чтобы намеренно свести их на нет. Навороченный лоу-фай – не его музыка, не та музыка, которую бы хотелось играть. Дэниэлу драм-машина Роланда казалась предсказуемой, тексты – расплывчатыми и мутными, стилизация под восьмидесятые – слишком нарочитой. В походке Роланда на сцене, в том, как парню легко давалось выступление, с какой неразборчивостью это пожирала толпа, всегда ощущалось что-то безвкусное. Но если Роланд хочет делать такую музыку, Дэниэл его не подведет.
Роланд позвонил в прошлом месяце и сказал, что ему нужен гитарист для нового проекта. «Наш диван – твой диван, если надо. Чего сидеть в глуши под боком у Канады?» Роланд переехал в город сразу после выпуска, работал, пока не смог позволить себе вечернее обучение в колледже. Дэниэл уже больше года не видел друга, они почти не общались. «Никто не может играть со мной так, как ты», – сказал Роланд. На следующий день Дэниэл взял билет в одну сторону и приехал в город на автобусе, провонявшем памперсами. Не то чтобы у него были какие-то особые планы на жизнь после отчисления из Потсдама. Как говорили родители и как напомнят завтра снова, он выкинул свое будущее на помойку.
Серые шторы, криво пристеплеренные к стенам, граффити, намалеванные маркерами на двери туалета, – это была вечеринка «Только по приглашениям». Сюда приходили искать новые группы агенты таких клубов, как «Юпитер», где мечтал играть Роланд. У Роланда была знакомая, которая занималась секретной рассылкой и забукировала его выступление по старой памяти. Если парень из «Юпитера» оценит Psychic Hearts, однажды он сможет взять и сольный проект Дэниэла.
Дэниэл осмотрел толпу. Сзади отдельно от всех стоял человек с усами в белой бейсболке, в огромных коричневых походных ботинках с оранжевыми шнурками. Дэниэл снова посмотрел на свои.
– Это он? Агент «Юпитера»?
Роланд закатил глаза. Мат-рокеры доиграли. Перед сценой прошелестели анемичные аплодисменты, и один из друзей Роланда обернулся, показал большие пальцы.
– Ты готов?
– Всегда, – ответил Дэниэл.
Четвертая водка точно была лишней. Когда они закончили чёкаться, Дэниэлу уже казалось, будто он смотрит на зал в чужих очках. Парень проморгался, глядя на напыленный рисунок кошки на противоположной стене, и продолжил настраивать гитару, без конца теребя одну и ту же струну. Дэниэлу хотелось, чтобы люди уставились в телефоны, а не пялились на сцену в ожидании, когда гитарист слажает. Роланд сыграл первые ноты, завел бит на своем Akai MPC60. Дэниэл извлек аккорд – стильный и уверенный, и песня засочилась красками – темно-синей и светло-коричневой, как нутряные ноты, выжатые из духовых. В глазах плыл сет-лист из шести песен, лежащий у ног. Он сыграл до, ми-минор, Роланд пропел первую строчку. Ноты казались грустными и нестройными, совершенно неправильными. Как в тот раз, когда Дэниэл откусил от желтого квадратика, который принял за ананасовый пирог, а он оказался очень острым сыром.
Роланд продолжал. Они часто лажали на концертах, и виноватый всегда в итоге исправлялся. Это был их негласный договор, как родители говорят однажды детям: если потеряешься, стой на месте, мы за тобой вернемся. Но в этот раз ноты не вернулись. Они репетировали всего пару раз, самоуверенные из-за своего долгого совместного прошлого, но, когда Дэниэл прищурился на сет-лист, не узнал ни одно название. Дело оказалось не столько в нервах – несмотря на возраст, он уже не слыл любителем, – сколько в самовнушении. «Ты обязательно всё запорешь». Он рванул аккорд, еще один. Вспомнился рифф, Дэниэл сыграл. Это была его Мелодия, и ему захотелось играть громче. Он так и сделал. Вокруг закрутилось ярко-оранжевое. Завизжал фидбек. Дэниэл видел, как люди кривятся, закрывают уши.
Роланд закончил петь и сказал: «Эта песня называлась “Пожалуйста, покажи свои клыки”». Он начал следующую, но Дэниэл не узнал и ее. Он как будто проснулся в чужой стране, где все говорили на незнакомом языке, и должен был толкать речь. «Играть поучись», – крикнул кто-то. Дэниэл нигде не видел человека из «Юпитера». Стало еще душнее, уже, и он больше ничего не слышал, кроме быстрого ускорения взбудораженных барабанов, топота конских копыт, диких мазков серого на черном. Опасность – бил барабан. Ему нужно было исправиться – прийти в себя, – он так быстро скатывался, что не мог поделать ничего, кроме как ускориться: это как жать на кнопку ставки в безлимитном холдеме, когда знаешь, что у тебя хреновая рука[2], снова жать, смотреть, как уходят деньги, снова жать – не в силах сделать ничего, кроме как следовать этому единственному импульсу – саморазрушению. Он знал, что не мог подвести Роланда. Тот никогда его не простит, и сам он себя никогда не простит, но больше на сцене Дэниэл оставаться не мог.
Он отключил гитару. Бит продолжался. «Ты чего делаешь?» – прошептал Роланд. Дэниэл соскочил со сцены, протолкался через зрителей. Он слышал, как Роланд зовет его по имени, слышал смех, когда выбегал из зала.
Он вывалился на улицу, и холодный воздух врезал по лицу. Он забыл куртку наверху. На Бауэри перед «Юпитером» на тротуаре выстроилась очередь. Он представил свое имя на афише и отвернулся, потом перешел первый попавшийся светофор, побрел на юг. Надо бросить музыку, вернуться в колледж, порадовать родителей. Заложив резкий вираж влево, он спустился по Мотт к Канал-стрит, прошел лапшичные и продуктовые магазины, где все вывески были на китайском. Он мог разбирать их символ за символом: «Лицензированная акупунктура», «Международные визитки». Расшифровка китайского занимала и отвлекала, он пошел быстрее, поскальзывался под падающим снегом, вытирал сопливый нос кулаком. На севере штата он время от времени начинал составлять губами очертание слова на фучжоуском, чувствовал, как оно обретает форму во рту, вспоминал «Ш» или «Цз», но искать правильное слово было как бороться с воздухом. Смысл помнился, а звуки давно забылись. Да и поговорить было не с кем, даже если бы он смог.
После стольких лет вне города он поразился тому, как много людей в Чайна-тауне, поразился улицам, которых не помнил, сплошным витринам на витринах. Теперь оказаться в окружении других китайцев было так странно. В старшей школе ребята говорили, что никогда не считали его азиатом, а Роланда – мексиканцем, будто это комплимент. Он был не китайцем-японцем-корейцем-или-кто-он-там с родителями-профессорами, а парнем, который играл на гитаре, который участвовал в куче групп, который морщил лоб на задних рядах классов для отличников, но всегда набирал проходной балл (несмотря на оценки, все верили, что ему дается математика). В Потсдаме на лекциях были и другие азиаты – студенты по обмену, сбившиеся в кучку, или одинокие волки, кого на вечеринках он видел в окружении белых друзей. Он их избегал; это было взаимно. Но он больше не в Потсдаме. Теперь у него есть только город и долгий «Потерянный уик-энд»: танцы на концерте на барже; поездка на такси через Уильямсбургский мост с сияющим в отдалении Манхэттеном, куда они влезли на заднее сиденье впятером – у него на коленях случайная девчонка, Роланд впереди трепется с водителем о кишечной флоре или грибничестве; поздний киносеанс «Заводного апельсина», после которого выходишь навстречу субботнему рассвету. Такие ночи были как прошлое, настоящее и будущее, слившиеся в одной сахарной волне, где все, кого он знал, катаются вместе с ним на карусели под музыку свистящей каллиопы.
Он споткнулся о собственный шнурок и присел его завязать. Неужели после сегодняшней ночи всё кончится? Может, он немного потеряет. Были и утра, когда он просыпался на диване Роланда, и перед ним расстилался очередной одинокий день, и Дэниэл часами бродил по холоду, не торопясь возвращаться в пустую квартиру, уверенный, что совершил роковую ошибку. А теперь действительно совершил. Слажал перед людьми, которых мечтал впечатлить.
Со стучащими зубами он потер мурашки, выскочившие на руках, прошел мимо магазина мобильных телефонов с расклеенными на витринах объявлениями на китайском. В первый год старшей школы он увидел в торговом центре Литтлтауна китаянку. Худая, волосы с химической завивкой, вцепилась в гроздья сумок со связанными ручками. Она приблизилась; лицо уже было не спрятать, и, когда она заговорила, он понял ее мандаринский. Она заблудилась. Не мог бы он помочь? Ей нужно позвонить, найти автобус. Лицо у нее было испуганное и нервное. Два подростка в стороне – бледных и нескладных – наблюдали и пародировали ее акцент, и Дэниэл ответил на английском: «Я не говорю по-китайски». После он пытался забыть эту женщину, потому что, когда о ней думал, чувствовал глубокое, гулкое одиночество.
Он вспомнил о ней и сейчас, жалея, что не взял наушники, что его не утешит песня, что шум и дым не затмят ночь. К нему с любопытством пригляделся мужчина в блестящей дутой куртке, какие Дэниэл помнил по вешалкам в магазинах на Фордем-роуд. «На что уставился?» – крикнул Дэниэл ему в спину.
Зажужжал телефон. Сообщение от Роланда: «Ты как??» Он проверил почту. Музыкальные рассылки, статья об уровне безработицы и высшем образовании, которую переслали родители и которую он удалил, не читая. Сообщение от Майкла Чена, пришедшее больше двух месяцев назад, на которое он до сих пор не ответил, но и не удалил:
Привет, Дэниэл!
Я ищу Дэниэла Уилкинсона, которого раньше звали Деминь Гуо. Это ты?
ПРИВЕТ!! Это Майкл. Ты с мамой жил в Бронксе со мной, моей мамой и дядей Леоном. Моя мать несколько лет назад вышла замуж, и теперь я живу с ней и отчимом в Бруклине. Я учусь на втором курсе в Колумбийском университете.
Я знаю, мы много лет не общались. Если ты тот самый Дэниэл, то можешь мне написать или позвонить по номеру 646-795-34-60? Это важно. Это насчет твоей мамы.
Если это не тот Дэниэл Уилкинсон, можешь об этом сообщить, чтобы я больше тебя не беспокоил?
Надеюсь на ответ!
Майкл Чен
Теперь Дэниэл его перечитал и снова закрыл, не высказав слова, кипевшие внутри почти постоянно.
– Блин, – сказал Дэниэл. – Жопа.
Неужели Майкл, Леон и Вивиан запросто вернутся спустя десять лет. Можно подумать, он внезапно стал нужен этим людям. Они отпустили Деминя, отдали. Что такого расскажет о матери Майкл? И хотел ли он знать? Где бы мама ни находилась, это дела давно минувших дней.
Дэниэл выключил телефон и пошел на север. Ботинки громыхали по тротуару. Переходя Канал, он наступил в лужу и почувствовал, как сзади на джинсы плеснула вода. Дэниэл никогда не предаст другого человека. Никогда не бросит и не исчезнет, в отличие от матери или Леона. Он вернется в квартиру и извинится перед Роландом, выучит все песни, будет играть, пока не сотрет пальцы, репетировать, пока не искупит грехи и не вернется в форму. Пока не станет идеальным.
– Не пойму, почему они выбрали такой нечитаемый шрифт. – Питер прищурился на зазубренные буквы, подражавшие рукописному тексту. Он случайно задел снизу ногами стол, и посуда подпрыгнула. – И стул этот. Какой-то детский размер.
Официантка со здоровым кольцом в носу уже и так кричала громче джазовых стандартов, но Питер просил ее повторить, что подают на бранч, а Кэй спрашивала про каждое блюдо. Лимонный курд кислый? Я не люблю кислое. Что значит «пепитас»? Что такое говядина «Лафрида», почему корову называют по имени? Мягкая бархатная подушка на стуле Дэниэла постоянно съезжала, и он скомкал ткань, зажав коленями.
Родители Дэниэла приехали в той же одежде, которую носили, сколько он их помнил: Питер – в мятых джинсах цвета хаки и кардигане земляных тонов, Кэй – в пастельной водолазке и юбке из вельвета в широкий рубчик. За десять лет он перестал замечать, как отличается от родителей. Два месяца Дэниэл их не видел, работал, ездил в метро и ходил по улицам с самыми разными людьми. Теперь же родители отличались от всех: тихие, скромные, не от мира сего. Смена ролей неожиданно принесла удовлетворение.
– В колледже заваривается скандал, – сказала Кэй. – Прошу прощения за каламбур про кофе.
Дэниэл допил чашку.
– В Карлоу?
– Студенты из меньшинств вышли на протесты. – Питер сделал резкое ударение на слове «меньшинства». – Хотят, чтобы администрация учредила факультет этнографии.
– И что здесь плохого?
– Ну, не то чтобы мы с ними не согласны, – сказала Кэй. – В смысле, мы ведь тоже ценим разнообразие.
– Но уровень язвительности, – сказал Питер. – Откровенно говоря, он совсем не на пользу делу. С моих лекций уходили студенты. Это попросту срыв учебного процесса.
– Белые студенты, разумеется, тоже участвуют, – добавила Кэй. – Постоянные требования политкорректности, предупреждений о шокирующем содержании учебной программы. Боюсь, мы воспитали поколение неженок. Мне бы хотелось думать, что тебя мы вырастили без мысли, что тебе все должны.
– Конечно, мам.
Официантка вернулась с заказом, и Питер попросил еще кофе. Кэй достала из своей чашки пакетик и выжала ложечкой. По пятницам они не преподавали, встали в шесть утра, чтобы пять часов ехать в город. Родители планировали вернуться домой сразу после обеда, отказавшись от возможности переночевать в квартире Роланда. «Мы не будем спать на диване Роланда Фуэнтеса», – ответил Питер так, словно само предложение было абсурдным.
– Мне тоже еще кофе, пожалуйста. И воды. – С утра Дэниэл выхлебал уже два стакана, но во рту по-прежнему было сухо.
Кэй пригляделась к нему.
– Гулял вчера допоздна? Ты только проснулся?
Он покачал головой.
– Понимаю. Я помню, как ты просыпался спозаранку на летних каникулах.
– Вы меня знаете, – сказал Дэниэл. – Люблю вставать с первыми лучами.
– Кто рано встает, верно?
Питер размешал сахар в кофе.
– Как нынче поживает Роланд?
Когда Дэниэл проснулся сорок минут назад после нескольких часов рваного сна, его куртка лежала сложенной у изножья дивана, а дверь в спальню Роланда была закрыта. С тех пор как он сбежал с концерта, они еще не виделись.
Дэниэл цедил сквозь зубы, выдавливая предложения.
– Отлично! Вчера мы отыграли на концерте. – Когда он резал омлет, задел локтем Кэй.
– Вчера. В баре?
– Мам, я же понимаю. Только пиво время от времени.
– Ты знаешь, как говорят: искушение ведет к рецидивам. Тебе лучше быть с нами дома, ходить на собрания. Ты же ходишь здесь на собрания?
Каждый раз, когда они разговаривали, мама спрашивала одно и то же, и каждый раз Дэниэл врал.
– Одно постоянно проходит рядом с Роландом. Я тебе рассказывал.
Дэниэл видел письмо от декана, которое пришло в конце прошлого семестра, где жирным шрифтом извещалось об отчислении. После того как за весенний семестр его средний балл упал до 1,9, университет назначил ему испытательный срок, а в октябре он перестал ходить на пары. Питер установил на ноутбук Дэниэла программу блокировки, хотя покерные сайты и так уже забанили его за превышенное число аккаунтов с долгами.
Он стукнулся коленом о стол, расплескав чай Кэй. Питер наблюдал, как он промокает лужу салфеткой.
– У меня все хорошо. Нормально зарабатываю, не пользуюсь кредиткой, и сосед Роланда съезжает в мае, так что я займу его спальню. Это не Потсдам, где нечего делать. Здесь я слишком занят, чтобы отвлекаться на остальное.
– Говорит, в Потсдаме нечего делать, – фыркнул Питер. – Это колледж. Там полагается учиться, вот что там делают. А не это твое… остальное.
– Не знаю, – сказала Кэй. – Я почитала о зависимостях, и они порой выходят из-под контроля, а Нью-Йорк полон искушений.
– Мам, доверься мне.
– Дурная компания есть везде, да, но в Нью-Йорке больше людей, больше и шансов столкнуться с плохой компанией.
– Трудишься в мексиканском ресторане, как чернорабочий, – сказал Питер.
– Не будь расистом, – ответил Дэниэл.
– Что, теперь сказать «мексиканский» тоже расизм? Ну, ты подаешь тако и жареные бобы. Если это не мексиканское, то я уж и не знаю какое. Просто называю вещи своими именами.
– Ты серьезно? Владельцы белые и богатые, так что можешь не переживать. Там работают люди всех рас и возрастов. У меня есть коллега-индиец из Технологического института и черный коллега, который учится в Нью-Йоркском. А владельцы вообще не ходили в колледж – и пожалуйста, гребаные миллионеры. Я их ни разу не видел, потому что они даже не появляются в Нью-Йорке. Один живет в доме на дереве в штате Вашингтон, его брат серфит в Коста-Рике, а еще один перебрался в Берлин.
Питер промолчал, подцепив вилкой яйцо бенедикт.
– Дэниэл, – сказала Кэй. – Не разговаривай с отцом в таком тоне.
– Довольно, – сказал Питер. – Будет ходить вокруг да около. Мы ехали пять часов не для того, чтобы выслушивать его сарказм.
– У нас хорошие новости, – сказала Кэй. – Отличные новости. Карлоу-колледж готов принять тебя начиная с этого лета. Сдашь все пропущенные зачеты. Конечно, на испытательной основе.
Питер и Кэй давно хотели, чтобы Дэниэл поступил в Карлоу, где могли добиться скидок на оплату обучения, но уступили его выбору SUNY в Потсдаме при условии, что он не станет брать курс по музыке. Финансовой поддержки от университета и доходов с работы во время обучения хватало на оплату, пока оценки оставались на уровне. Потсдам был достаточно далеко, на севере, чтобы Дэниэл мог спрятаться.
– Но я уже здесь. Мне есть где жить.
– Диван Роланда – это не жилье, – сказал Питер.
Дэниэл сделал долгий глоток воды.
– Я не хочу в Карлоу.
– Надо было подумать об этом до того, как тебя исключили из Потсдама.
– Я никуда не хочу. Я хочу остаться здесь.
– Мы с матерью за тебя поручились. Мы записали тебя в Карлоу вопреки опасениям декана, если честно, вполне обоснованным. Она видела документы об отчислении, твою академсправку. Пришлось из кожи вон лезть, чтобы убедить ее, что ты заслуживаешь второй шанс. Твоя неблагодарность потрясает.
Кэй положила ладонь на запястье Дэниэла.
– Я знаю, что у тебя был трудный период. Но нельзя бросать учебу после двух лет вуза. Что ты будешь делать без диплома?
– Займусь музыкой.
– Музыкой! – у Питера раскраснелся лоб. – Не глупи. Музыка оплатит тебе жилье, купит продукты?
Питер твердил одно и то же с тех пор, как Дэниэлу исполнилось двенадцать лет.
– Роланд не заканчивал колледж и неплохо поживает, – сказал Дэниэл, обойдя вниманием то, что Роланд учится бизнесу на вечерке. – Его сосед Эдриан на третьем курсе колледжа – и уже в студенческих долгах как в шелках.
– Это безумие. – Кэй покопалась в экосумке, достала пачку бумаг и вручила Дэниэлу.
– Пятнадцатое марта, – сказал Питер. – Через три недели. Это срок, когда тебе надо подать документы, чтобы поступить в Карлоу на лето. Веб-сайт с онлайн-анкетой там указан. Я бы сам написал за тебя заявление о целях обучения, если бы это не было нарушением этических норм. Представь, я об этом думал. И не считай это свободным выбором.
Питер уже заполнил первую страницу с именем Дэниэла и адресом в Риджборо. Дэниэл сложил бланки и убрал в карман.
– А если я запишусь в Карлоу осенью или переведусь в вуз в городе? Здесь больше работы и связей. Мне нужно несколько месяцев для себя. Вернусь на учебу с новой энергией. Сфокусированным.
– Не пойдет, – сказала Кэй.
– Один семестр безделья и так уже много, – сказал Питер. – Ты рискуешь отстать. Будь моя воля, после обеда ты бы уже ехал с нами домой. Но твоя мать, похоже, верит, что ты сознательный человек.
– Ну… – начала Кэй.
– Сознательный. Вам не о чем беспокоиться.
– Ждем от тебя анкету в следующие выходные и копию заявления, а после этого ты пришлешь подтверждение, что подал документы.
– В следующие выходные?
– Мы снова будем в городе, – сказала Кэй. – Джиму Хеннингсу исполняется шестьдесят, и он отмечает в субботу вечером. Там будет Энджел. Ты, конечно же, присоединишься.
У Дэниэла одеревенели мышцы. Значит, Энджел не уехала в Непал. Если бы они еще оставались друзьями, если бы они еще общались, он рассказал бы ей о письме Майкла, об обвинениях Питера в неблагодарности, о том, как его разрывают чувства гнева и признательности. Если бы только Питер и Кэй знали, как Дэниэл хотел одобрения родителей и как боялся их разочаровать. Так же, как уже разочаровал свою мать.
Однажды Энджел рассказала Дэниэлу, что чувствует себя обязанной родителям. «Но мы же не можем портить себе жизнь, только чтобы их осчастливить, – говорила она. – Так нельзя». Дэниэл знал ее с самого детства, но долгие ночные телефонные звонки начались прошлой весной. Большую часть того года только Энджел и была для него утешением. Ее искренность заражала, и ему нравилось слушать о ее друзьях и влюбленностях, о планах на лето, о том, какие ей предметы нравятся и какие нет, о том, что жизнь на Среднем Западе намного спокойнее и тише, чем на Манхэттене, – тишина ее до сих пор иногда пугала, – но боже, она бы убила за приличную пиццу, за шаурму с бараниной в пите.
Кэй жестом попросила счет.
– Мы тебя любим. Мы хотим для тебя лучшего. Я знаю, сейчас так не кажется, но это правда.
– Однажды он поймет, – Питер отодвинулся на стуле от стола. – Где здесь уборная?
Дэниэл смотрел, как Питер идет по ресторану, как у него с трудом гнутся ноги, чего он раньше не замечал. Его охватывало чувство вины: они хотели, чтобы Дэниэл преуспел в важных для них областях, потому что тогда это будет значить, что преуспели и они. Роланд целый год был слишком занят, чтобы поговорить, но Кэй и Питер звонили каждую неделю. Разве мог он ранить их еще больше, чем уже ранил? Он никогда не ответит на письмо Майкла.
Он обернулся к Кэй.
– Я пошлю заявку, мам.
После семичасовой смены в «Трес Локос» руки Дэниэла ныли от накладывания бобов, нарезания перца, заворачивания буррито. На кухонном столе Роланда стояла пустая коробка из-под микрофона Neumann. Дэниэл взял чек и тихонько присвистнул. Микрофон стоил две тысячи долларов. Он достал из кармана бланки для Карлоу-колледжа, уже помятые, и оставил на стойке.
Диван раскладывался в кровать, где Дэниэл спал, сунув в ноги рюкзак и чехол от гитары. Сосед Роланда Эдриан либо работал, либо учился, либо был у девушки. Роланд тоже дома появлялся редко: ходил на курсы, перевозил картины, работал в бригаде монтажников галерейных выставок, позировал для друга-дизайнера, помогал друзьям в других группах. Дэниэл рухнул на диван и достал гитару. Несмотря на нывшие запястья, ему хотелось поработать над песней.
Дэниэл услышал звон ключей и не успел убрать гитару перед тем, как вошел Роланд.
– Что играешь?
– Просто дурачусь, – сказал Дэниэл. Они посмотрели друг на друга.
– Слушай. – Роланд переместил вес на другую ногу. – Я хочу, чтобы ты знал: я не злюсь, ничего такого.
– Да я и не говорю ничего.
– Мы почти не репетировали.
– Прости.
– Пошли послушаешь, что я сегодня сочинил.
Дэниэл сел на кровать Роланда, пока тот включал на компьютере Pro Tools. Побежала линия – голос Роланда, песня Psychic Hearts. Роланд нажал на кнопку. Та же самая линия, но с эффектами от плагинов – расцарапанная, зашумленная. Дэниэл этого не понимал. Это как дешевый сиджиай в историческом фильме, как плохой винтажный фильтр для фотки.
– Хатч, агент «Юпитера», фанатеет от этой темы, – сказал Роланд. – Когда ты вчера ушел, я поболтал с ним о группах, с которыми он работал. Ты же знаешь, что Хатч помог подняться Джейн Раст? И «Террарии». Брутальные ударные, перегруженные гитары. Они теперь звезды. Мне кажется, Psychic Hearts должны пойти в этом направлении.
– Хочешь изменить группу ради Хатча?
– Я хочу выступить в «Юпитере». Я хочу на лейбл.
– А как же твоя собственная музыка? Вообще плевать?
Роланд пожал плечами.
– Искусство эволюционирует.
– Ой, не трынди.
– Это необязательно. – Роланд нажал на паузу. – Но надо.
– Будто Хатч возьмет нас после вчерашней ночи.
– Да не, я с ним все уладил. И через несколько недель у Хавьера будет концерт. Ничего особенного, но можно выйти на разогреве.
– С новым звуком. Как нравится Хатчу.
– Ну да, конечно.
И все-таки лучшей возможности Дэниэлу еще не представлялось. Самому старому специалисту по буррито в «Трес Локос», рыжему парню по имени Эван, который часто вспоминал, что в девяностые Нью-Йорк был куда круче и опаснее, стукнуло тридцать шесть, а он все пытался раскрутить свою группу. Дэниэл ходил во вторник вечером смотреть, как Эван выступает на разогреве четырех других групп, и оказалось, что он и петь не умеет. Сегодня на работе Дэниэл упомянул про выступление в лофте, опустив момент побега. Эван сказал: «Выбирайся уже отсюда» – и шлепнул порцию фасоли пинто с такой силой, что весь забрызгался. Если Psychic Hearts сыграют в «Юпитере», он обязательно пригласит Эвана. В школе Роланд любил всем говорить: «Вы бы видели, как играет Дэниэл». Если Дэниэла не хвалили после выступления, то он впадал в хандру, задумывался о том, что пора бы выкинуть гитару на помойку. Но когда люди называли его великолепным, он упивался, не мог уснуть, снова и снова переслушивал комплименты в голове.
Ему хотелось опять слышать комплименты, слышать, как его называют великолепным.
– Ладно, – сказал он. – Значит, новый звук.
– Запишемся в студии Тэда, где делают демки на кассетах. Этим летом, когда наберем побольше песен, а то и раньше, – Роланд привез из Риджборо коробку старых родительских кассет из восьмидесятых. Тех, которые они с Дэниэлом когда-то изучали так, будто раскопали в пещере времен палеолита, и которые теперь были для них такими же безумно ценными, как самый редкий и чистый винил. Дэниэл признавал в заезженном, умирающем звучании записей имелось что-то уютное – какая-то искренность, глубина, недостижимая для цифры.
– Конечно, – сказал он.
Этим летом Дэниэл пойдет учиться в Карлоу, вернется в свою бывшую комнату в Риджборо. Никакой музыки не будет.
– Где ночуют твои родители, в отеле?
– Поехали домой.
К этому времени они, скорее всего, вернулись в тот большой холодный дом и читают в постели. Дэниэл потеребил толстовку.
– А я тут недавно получил странное письмо от парня, с которым рос, когда жил с мамой – родной. До того, как переехал в Риджборо.
– И что там?
– Говорит, ему есть что рассказать о маме. Я ему не написал, но мне немного интересно.
Дэниэл знал ответ Роланда до того, как тот заговорил.
– Не надо. Сам пожалеешь.
В теме родительских призраков Роланд отличался предсказуемостью и непоколебимостью. Его отец умер, когда он был совсем маленьким, и Роланд ни разу не проявлял к нему интереса. Дэниэл завидовал решительности Роланда. Он всегда мечтал так же ни в чем не сомневаться.
Он взял анкету Карлоу и положил обратно. Вернулся к гитаре, наиграл припев, с которым возился раньше, переделал, набросал несколько строк, потом представил себе лицо Кэй, в слезах, когда он скажет, что узнал о случившемся с его настоящей мамой. Больше песня не шла. От мыслей о матери начиналась низкая неутихающая боль в месте, до которого он не мог дотянуться. Он отложил гитару и взял ноутбук. Быстрый поиск – Питер и Кэй никогда не узнают. В средней школе он искал каждые несколько месяцев, пока желание узнать не отпало. Он бросил поиски, когда осознал, что отводит глаза, прокручивая страницу, и чувствует облегчение от того, что ничего не находит. Незнание освобождало его от необходимости изменить жизнь, к которой он привык, так что прошли уже годы с тех пор, как он искал Майкла Чена – имя Майкл всегда было слишком популярным, почти полмиллиона результатов, – и Полли Гуо, или Гуо Пейлан, латиницей или даже китайскими иероглифами. Ему не удалось увидеть никого похожего на мать. Он так и не нашел Леона или Вивиан Чжен.
Но сегодня он ввел «Майкл Чен» и «Колумбийский университет» и вышел на сайт университетской биологической лаборатории, прокрутил страницу и увидел имя Майкла и снимок долговязого парня в темной рубашке, самодовольного и счастливого. Лицо Майкла вытянулось еще больше, и он уже не носил очки, но Дэниэл видел в нем детскую версию – широкоглазого десятилетку, который готов был пойти с ним куда угодно; почти что брата. Того, кто знал Деминя.
Он захлопнул ноутбук так, будто тот загорелся. Даже если у Майкла есть сведения о матери Дэниэла, это всё равно не изменит того факта, что она его бросила. Роланд прав. Не стоит ворошить прошлое.
Он прошелся по гостиной, по кухне, повертел в руках коробку от микрофона, представляя Роланда на сцене «Юпитера», пока сам он сидит в лектории. Он не мог осчастливить одновременно и Роланда, и Питера с Кэй, но попытка не пытка.
Она обещала, что никогда его не оставит, в день, когда они встретили доппельгангеров[3]. Тогда шестилетний Деминь и мать всё еще оставались друг для друга незнакомцами, но казались славной парочкой. Одинаковые широкие носы и изогнутые улыбки, большие темные зрачки на подложке из белых осколков, с ленцой во взгляде. Рука матери казалась чужой. Он привык к теплой хватке деда и более решительной походке. Мать была слишком быстрой, слишком громкой, похожей на американский город, в который его закинули. А Деминь скучал по деревне, по приглушенным оттенкам травы, воды, зелени и синевы, по бордовому и серому. Нью-Йорк предстал перед ним блестящим, резким, с буйными красками и нечленораздельной трескотней английского языка повсюду. Глаза ныли. Рот заполнялся шумом. Холодный воздух было больно вдыхать, а небо душили небоскребы.
Деминь искал утешения в чем-нибудь знакомом. Он во всем слышал мелодии, а с ними видел цвета, и его тело тянулось к ритму так же, как растение выгибается к свету. Когда они шли по Бауэри, его успокаивало однообразие шагов по тротуару. Его левая рука – в правой руке матери, на каждый ее шаг – два его. Деминь изучал мусор на тротуарах: сигаретные окурки, грязные салфетки и – между кусками льда – столько пятен жвачки. Кто жевал все эти серо-розовые комки? Он ни разу не жевал жвачку, как и, насколько он знал, его мать, и все ее шестеро соседок по квартире на Рутгерс-стрит. Это было еще до того, как они переехали к Леону, до квартиры на Юниверсити-авеню в Бронксе.
Они стояли перед картой метро с длинными тощими линиями, похожими на лапшу. «Ну, какой цвет хочешь сегодня?» – спросила она. Деминь пригляделся к словам, которые не мог читать, местам, в которых еще не был, и показал на фиолетовый.
Деминь родился здесь, в манхэттенском Чайна-тауне, но, когда ему исполнился год, мать отослала его жить к дедушке, в деревню, где выросла сама. И в самых ранних воспоминаниях главное место занимал йи гонг – он звал его малышом-толстышом и научил ходить на лодке, собирать куриные яйца, потрошить рыбу кончиком ржавого ножа. В Минцзяне были и другие дети вроде него, родившиеся в Америке, на попечении у дедушек и бабушек. Своих родителей они знали только по телефону. «Я за тобой пошлю», – говорил голос в трубке, но зачем ему жить с голосом, зачем уезжать ради человека, которого он не помнил? Все, что было у Деминя, – фотография, где сам он был хмурым ребенком, а лицо матери скрывалось в тени. Каждое утро он просыпался под «шт-шт-шт». (Йи гонг подметал их дом на 3-й улице, пока серебряные кольца дыма растворялись в небесах.) Однажды утром дедушка не проснулся. Потом Деминь уже сидел в самолете рядом с дядей, которого больше никогда не увидит. И вот уже в холодной квартире, обставленной двухэтажными койками, его обнимала женщина, знакомая только потому, что ее лицо напоминало его собственное. Ему хотелось домой, а мать говорила, что койка – это и есть дом. Он не хотел слушать, но больше у Деминя никого не осталось. Это было две недели назад. Теперь он каждый день сидел в классе школы на Генри-стрит, не понимая, что говорят учителя, пока мать шила рубашки на фабрике.
Два перехода – и они на фиолетовой линии, которая шла над землей. Деминь с матерью глядели в окна на вывески, написанные на незнакомых им языках. «Это значит “носки”, – говорил он, притворяясь, что читает. – Это значит “собаки”». Ближе к последней вывеске переходили на китайский, и мать читала их смешным голосом – глубоким и низким, как у радиоведущего: «Магазин закрывается!», «Проблемы с иммиграцией?», «Мы лечим мозоли!». Такая она нравилась Деминю. Он верил, что мама принадлежит ему. Деминь вскидывал в воздух ножки, пока женщина шлепала по ноге в веселом ритме.
Мать с сыном доехали до Квинса – из одного китайского квартала в другой. Когда вышли из метро, здания стали ниже, а улицы – шире, но люди и языки остались теми же. Несмотря на холод зимнего дня, Деминь чувствовал знакомые ароматы овощей и рыбы. Остановившись на углу, женщина предложила новую игру. «Вдруг здесь тоже живут мама и Деминь – другая версия нас». Как лучший друг, только еще лучше, как брат, рассеченное «я». Они выбрали здание, где будут жить эти мама и Деминь. Оно было низенькое, с плоским фасадом, как у них на Рутгерс-стрит. Потом смотрели на матерей с детьми на тротуаре, пока не нашли мальчишку возраста Деминя и женщину роста его матери с такой же стрижкой, чтобы волосы завивались у подбородка. Как и мать Деминя, она шла в темно-синей куртке, и ее можно было спутать со старшей сестрой сына.
– Можно пригласить их к себе?
– Не будем их беспокоить, у них дела. Но давай за ними последим?
Мать завела Деминя в кондитерскую, и он выклянчивал яичный тарт. В те дни за доллар можно было купить три штуки. Мама сказала, что это пустая трата денег. Они сели за столом, ничего не купив, присматриваясь к своим доппельгангерам за витриной. Пока двойники переходили улицу, мальчик тянулся к маме, а она наклонялась и что-то говорила ему. В руке мальчика было что-то глазированное и пышное. Желтая слоеная сдоба.
– Ну, можно яичный тарт? Пожалуйста?
– Нет, Деминь.
Он надулся. Йи гонг иногда разрешал ему пить колу на завтрак, но мать ему никогда ничего не покупала.
– Я хочу с ними подружиться. – Он топнул ножкой по полу. И снова она сказала «нет». Деминь бросился за ними по тротуару.
– Стойте! – кричал он.
Двойники обернулись – они знали фучжоуский. Другая мама была старше, стройнее, а другой Деминь – восьми-девяти лет, а не пяти-шести, с квадратным лицом и прищуренными глазками. Он походил на мальчика, который поджигает жуков для веселья. К его нижней губе прилипла жирная крошка. За миг до того, как его утащила собственная мама, Деминь встретился взглядами с другим Деминем, который сказал на английском: «Привет?» Потом доппельгангеры развернулись и растворились в море зимних курток.
– Они ушли, – сказал Деминь. – Их нет. – Перепуганный, он затосковал по йи гонгу. – Ты меня тоже когда-нибудь бросишь?
– Никогда. – Мать повела Деминя, болтая его рукой. – Обещаю, что никогда тебя не брошу.
Но все-таки бросила.
К июлю матери Деминя не было уже пять месяцев. С того февральского дня, когда она пропала, он ждал знака, что мама вернется, или хотя бы знака, что не вернется никогда.
Лето стало одним большим знаком вопроса. В городе неделями стояла жара, обивка софы потела под ляжками Деминя в долгие душные дни. Они с Майклом подставляли лица дребезжащему пластмассовому вентилятору и пели «ла-ле-ла-ле-ла». Вибрации подхватывали их слоги и выплевывали разжиженным бурым хрипом. Они растапливали кубики льда в стаканах и клали за щеку, закапывались в подушки в поисках забытой мелочи, чтобы сбегать за «Мистером Софти». Мороженое всегда разочаровывало, становилось влажным оранжевым сахаром, пропитывающим картонную оболочку, еще до того, как Деминь успевал лизнуть.
Оставшийся школьный год пошел под откос. Директор Скотт сказал, что Деминь сможет перейти в шестой класс, только если будет учиться в летней школе и нагонит по несданным предметам. Его это не прельщало.
– Если не пойдешь, тебя оставят на второй год, – сказал Майкл.
Мальчишки сидели на металлическом поручне с рядом скамеек под ногами. Даже бассейн «Кротона», куда они ходили прошлым летом с друзьями, потерял былую привлекательность.
– Это лето идет в жопу, – сказал Деминь, смакуя приятную тяжесть слов. – И ты иди в жопу.
– И ты иди в жопу. – Согласные Майкла были звонкими от слюны. – Ты что, не хочешь закончить школу?
«Не это я планировала», – услышал Деминь голос матери. В жопу планы. Он подумал о том, чтобы спрыгнуть на улицу. Вонь гнили смешалась с более знакомыми запахами: метеорическими выхлопами машин и сладковатым мусором, плавящимся асфальтом и травой, дурью и парфюмом, барбекю.
– Слабо прыгнуть? – спросил он. Майкл беззвучно рассмеялся.
– Тут низко. Сам прыгай.
Деминь сел на корточки, выпятив подбородок, как Леон, когда тот знал, что ты врешь.
– Я сам решаю, что делать.
– Мы все будем в шестом классе, а ты застрянешь в пятом.
– Заткнись. – Деминь соскользнул с поручня.
На Западной 148-й, пока Майкл трусил рядом, они прошли дом Сопхипа. Такой же, как все остальные в квартале – низкие и коричневые или немного повыше и серые, где в окнах были другие семьи, где на тротуарах шумели другие дети. Они остановились и посмотрели в окно, где висели пластмассовые жалюзи, которые они столько раз видели изнутри квартиры Сопхипа. Но этим летом казалось, будто их друзей не существовало и они, как мать Деминя, испарились и больше не вернутся.
Элрой уехал в гости к тете в Мэриленд, Хунг – на север штата к родственникам, а Сопхип – этот предатель – обещал, что всё лето будет дома. В итоге сам при первой же возможности слинял на окраины Квинса, где его кузен якобы жил в доме с кучей классных телок и телевизором с большим экраном. Майкл и Деминь видели Сопхипа в последний раз четыре дня назад, или шесть недель, или сколько там. Тогда друг расписывал выглянувшую бретельку лифчика на плече самой-самой классной телки. Она так близко к нему сидела во время просмотра телика. От телки, рассказывал мальчишка, пахло жвачкой и пиццей пеперони. Майкл с Деминем фыркали и говорили, что Сопхип врет, как дышит. Почему же он тогда ни разу не приглашал их на окраину Квинса? Вместо знойных телок Сопхип, небось, весь день сидит со своей бабкой с бородавчатыми руками и длинным желтым зубом. Из-за него бабка плевалась слюной, когда рявкала на мальчишек на кхмерском, шлепая их по лопаткам своими чешками, чтобы они сидели ровно.
Подозрительным было всё. Жила ли здесь вообще семья Сопхипа? Вернутся ли Элрой и Хунг в школу осенью? Что случилось с его мамой? Ничему и никому больше нельзя было доверять.
Майкл с Деминем стояли под рельсами метро и кричали матом под грохот поезда. Мимо проскочила машина и проревела партию баса роскошного глянцевого бордового цвета, и в груди Деминя разлилась медленная боль. До исчезновения матери их с Майклом объединяли секреты от мам. Например, они стянули банку пива из упаковки Леона. Майкл тогда скривился и отрыгнул, а Деминь выпил еще. Они хихикали и пошатывались. В другой раз мальчишки украли трусики из тележки в ландромате[4] через улицу от дома Элроя. В комнате Элроя они трогали хлопковую вставку, когда-то соприкасавшуюся с настоящей промежностью девушки. Прижимали к носам, преувеличенно вдыхали полной грудью с печалью, но в то же время и облегчением из-за того, что чувствовали только запах стирального порошка. Хунг разложил трусики на кровати, и мальчишки таращились на лоскуток розоватой ткани, пока Элрой не забрал его и не спрятал в шкаф. «Пусть там полежат, – сказал он, – для сохранности». Деминь сказал, что трусы вообще могли принадлежать не красивой девчонке, а тетке, которая сидела перед домом Элроя. Она вытирала пальцы о свой хвост на затылке после того, как чесала волосатые подмышки. Остальные мальчишки взвизгнули от ужаса, Майкл – громче и пронзительнее всех.
Теперь единственной матерью в квартире осталась Вивиан, и то, что мать Деминя пропала, ни для кого не было секретом. Это было как автосигнализация, прорезающая пустую улицу посреди ночи. Теперь он мог ругаться, сколько хотел, но слова казались гнилыми на языке. Он пытался вспомнить о матери всё. Как мало времени она принадлежала только Деминю. Мама дважды подворачивала джинсы, чтобы они не шаркали по земле. Она стягивала вниз рукава свитеров, как митенки. Вспоминал ее смех невпопад, и как она щипала Деминя за жирок на руках и называла тефтелькой, и деликатную красоту ее черт. Неуловимую прелесть матери надо было искать. Нежность рта – уголки губ были слегка приподняты, придавали ей выражение легкой смешливости, а брови изогнуты, так что глаза казались оживленными – на грани восторга.
Он отвернулся, чтобы Майкл не увидел слез, которые выступили так быстро, что он их чуть не упустил.
Они свернули за угол.
– Деминь? – Майкл колебался, словно разговаривал с учителем или маминой подругой. – А ты слышал? Трэвис Бхопа переезжает в Пенсильванию.
– И что? – Деминь даже не знал, где эта Пенсильвания.
– Его мама ушла от его папы к другому, и теперь он будет жить с бабушкой.
– Какому другому?
– Какому-то соседу.
Деминь впился ногтями в свою руку – десять острых полумесяцев искрящейся боли. Но что, если она жива?
– Фигово, – сказал Деминь. – Для Трэвиса.
Они поужинали за раскладным столом на кухне, где на пластиковой столешнице был рисунок под дерево, а углы обдирались и обнажали пенистый слой. Деминь выхватил кусочек курицы с тарелки Вивиан. Она попыталась отнять.
– Хватит. Плохой мальчик.
Толщина Вивиан меняла форму. Живот и руки стали худыми, зато под подбородком и вокруг рта обвисло больше кожи, словно штукатурка, наспех налепленная поверх существующей основы. Она пыхтела, когда поднималась по лестнице, больше не танцевала под музыку с радио, засыпала за столом, отдавала мальчикам свою порцию и говорила, что не голодная. Деминь видел, как она заглядывает в кошелек и ругается. Когда однажды он открыл холодильник, Вивиан крикнула, чтобы закрыл. Деминь слышал, как они с Леоном ссорятся из-за квартплаты, из-за того, кто будет присматривать за детьми.
Он облизнул курятину, пока она не успела ее отнять, вверх-вниз языком по соленой кожице. Леон обжег Деминя взглядом и пододвинул сестре свою тарелку.
Леон выглядел паршиво. Он напоминал Деминю картинки с пещерными людьми из школьного учебника, которые распрямляются, лысеют и превращаются в хомо сапиенс. После мамы Леон проходил обратную эволюцию: ссутулился, отрастил брюшко, клочковатую бороду с прожилками седины. Это пугало Деминя. Леон словно постарел на сотню лет, пока все вокруг оставались прежними.
Когда Деминь однажды ехал на пароме Стейтен-Айленда с матерью и Леоном, ветер обжег его лицо. Ему всё равно было тепло, будто ничего плохого не могло случиться. Мать тогда сказала: «Нравится плавать, малыш? Разве это не лучше, чем на рыбацкой лодке йи гонга?» И Леон рассмеялся смехом от живота, из-за которого Деминь ощущал, будто он обогнал всех детей на площадке. Теперь он уже не помнил, когда в последний раз слышал смех Леона. Может быть, мама отказалась выходить за отчима и ушла, потому что он стал страшным? Деминь жевал курицу. Соседей у них хватало. Миссис Джонсон, Томми «неплохо-неплохо-неплохо», мисс Мэри с малышкой, владелец продуктового магазина Эдуардо, который спрашивал: «Давно не видел твою маму, как она?» Деминь отвечал, что хорошо, очень занята.
– Эдуардо всегда спрашивает, как мама. – Деминь следил за реакцией Леона.
– Кто?
– Дядька из магазина. – Лицо Леона не изменилось. Деминь попробовал еще раз. – Видел тут недавно Томми. – Без ответа. – Йи ба? А можно нам во Флориду?
За всю жизнь Деминь не называл отцом никого, кроме Леона. Хотя, когда мать впервые предложила называть его «йи ба», это казалось неправильным. В школе Деминь уходил в себя, пока учитель выписывал мелом таблицу умножения, и пытался не обращать внимания на остальных детей, непоседливых из-за переизбытка сахара, качавшихся взад-вперед и выкрикивающих ругательства в стиле Туретта. Один особенно неуемный ребенок любил целый день скандировать: «Яйца, сиськи, яйца-яйца-сиськи». Деминь шептал одними губами свое: «Йи ба, можешь подойти? Йи ба, можно посмотреть телевизор?»
Леон поднял взгляд.
– Во Флориду? Почему?
– Если мама там, мы плохо ее ищем. А вдруг она в беде?
– Она не в беде.
– Но откуда ты знаешь?
– Знаю. Она скоро позвонит.
– Мам? – спросил Майкл. – Можно нам во Флориду?
– Нет, – ответила Вивиан.
– Я хочу в «Дисней-Уорлд», – сказал Майкл.
– Нет, нет, нет, нет.
Когда Деминь зачерпнул еще рис из кастрюли, часть упала на стол.
– Не разбрасывайся едой! – Вивиан смахнула рис к себе в тарелку и забрала у него миску. – Может, твоя мама ушла, потому что устала кормить такого неблагодарного мальчика.
Она отнесла посуду Деминя в раковину.
– Не слушай ее, – сказал Леон. – Она ушла не из-за тебя. Мы все будем жить вместе: ты, я и твоя мама. Надо только подождать.
– Я в магазин, – сказала Вивиан.
Леон ушел на работу. Майкл упал на диван так, будто тот его пожирал. Деминь не знал, что он здесь делает. Леон ему не настоящий йи ба, Майкл и Вивиан ненастоящие двоюродные брат и тетя. Если мать сбежала с другим, надо дать ей понять, что от сына она так просто не отделается. Он похватал одежду и сунул в целлофановую сумку.
– Хватит загораживать телик, – сказал Майкл.
– Я еду во Флориду искать маму.
Протрещал смех от публики в студии. Майкл уставился на Деминя огромными из-за очков глазами.
– Тогда я с тобой.
– Ты серьезно?
– Конечно. Мы же братья, да? Как братья.
– Ладно, тогда надо торопиться. – Деминь кинул в сумку комок одежды Майкла. – Ехать надо сейчас. – Он забрал свои ключи, кинул Майклу его обувь, и они вышли за дверь.
– Как поедем? – прокричал Майкл, пока Деминь бежал по Юниверсити, свернул на 192-ю. Он не знал, в какой магазин пошла Вивиан, каким кварталом вернется в квартиру. – У меня шнурки развязались!
– У меня есть план, – сказал Деминь, хотя никакого плана у него не было. Подбегая к станции метро, они услышали, как отъезжает поезд, и, хватая ртом воздух, нырнули на лестницу.
– У меня нет карточки для метро, – сказал Майкл. Деминь мотнул сумкой с одеждой. Она оказалась тяжелее, чем он ожидал.
– У меня тоже.
– Я пока завяжу шнурок. – Майкл нагнулся, завязал один узел, второй.
– У меня нет денег, – прошептал Деминь.
– Может, попросить у моей мамы.
– Она тебя не отпустит, если попросишь. – Майкл казался таким серьезным, таким доверчивым. Деминь не мог просить Майкла бросить Вивиан. Тогда они оба останутся без матерей. – Пойдем домой.
– А как же Флорида?
– В другой раз.
Они развернулись.
– Есть хочу, – сказал Майкл. В магазине Деминь слонялся по проходам, приглядываясь к шоколадке, но в глазах то и дело маячила пышная белая борода Эдуардо.
– Фух, – присвистнул Эдуардо из-за кассы. Большой металлический вентилятор разгонял вокруг теплый воздух. – Ну и жарища.
– Это все антициклон, – сказал Майкл.
– Как дела у твоей мамы? Здорова?
– У нее всё отлично, – сказал Деминь. – А мы опаздываем на ужин.
Они ушли ни с чем. Когда они добрались до дома, Деминю резало руку сумкой. Он спросил Майкла:
– Видел в последнее время Томми?
– Давно уже не видел.
Они помедлили у двери Томми. Деминю хотелось ее пнуть, казалось, что внутри никого нет.
– А где вообще Пенсильвания?
– Очень далеко.
Деминь видел облегчение на лице Майкла, когда они вернулись. Он отнес сумку с одеждой в спальню, распаковал как можно тише и слышал, как Майкл говорил: «Мы гуляли, мам».
«Мам». Деминь уснул на диване, проснулся со слюной, засохшей на щеке. Намного позже, когда вернулся Леон, небо с грохотом раскололось, и пролился дождь. Капли шлепали по пожарным лестницам, сбегали по крышам, устроили бесплатную помывку кондиционерам. В спальню проник медленный и сырой сквозняк, Майкл заметался в глубоком сне. Деминь смотрел на спящего Леона, как поднимается и опускается его грудь, прижимал руку к спине йи ба. Леон должен остаться.
Но они были в безопасности, пока что, подавленные и не находящие себе места. Два мужчины без нее.
Леон бодрился – мол, это ерунда, что его женщина сбежала непонятно куда. Посмеивался: «Бросила меня! С ума сойти!» Но Деминь видел, как обвисала и морщинилась кожа на его шее, как расцветают под глазами темно-коричневые круги, словно на бумажной тарелке от мокрой чашки. «Найду себе другую женщину, слышите?» – говорил Леон, сидя в темноте за кухонным столом.
Лето тащилось без конца. Деминь подслушал, как разговаривали Леон и Вивиан, – спрятался в соседней комнате, чтобы взрослые его не видели. На работе на Леона упала туша свиньи, и он проехался по скользкому полу. Пришел в себя, лежа на спине, и получил испытательный срок. Задел ножом не те вены, туша уплыла по конвейеру, как грациозный океанский лайнер, с большими кривыми порезами на мякине. Он нарвался на второе из трех возможных нарушений, и Леону сократили часы работы. Домовладелец давал уже вторую отсрочку по квартплате, но коллекторы ростовщика не проявляли такого же понимания.
После исчезновения звонила Диди – коллега мамы, жена Квана, приятеля Леона. Она кричала про маникюрный салон, что начальница замешана в каких-то темных делах. «Думаешь, она уехала во Флориду?» – спросила Вивиан. Диди нашла телефон того ресторана. Когда Леон туда позвонил, хозяева сказали, что мама так и не появлялась.
Диди звонила в полицию, в иммиграционную службу. И везде говорили, что о Полли нет данных. Значит, мама в порядке, не в беде, как боялся Деминь. Она просто уехала одна. Леон говорил Вивиан, что ходил к адвокату, которого нашел Кван. И Кван же помогал переводить в разговоре с ним. Дома Кван считался бы посмешищем – вьетнамо-китаец американского происхождения, который по-китайски и пару слов связывал с трудом. Здесь Кван был большой шишкой из-за знания английского, а Леон из-за своего китайского – пустым местом. Леон бесился, что не мог обойтись без Квана – коротышки с громким голосом, зализывавшего волосы в виде маленьких шипов.
Леону захотелось выпороть юриста, когда тот спросил: «Она с кем-нибудь общалась? С другими мужчинами? Иногда думаешь, что знаешь женщину, а на самом деле нет». Когда Кван это перевел, Леон ответил: «Скажи ему, пусть отсосет».
Вивиан говорила, что нельзя беспокоить полицию без документов. Всё, что им оставалось, – ждать. Деминь слышал ответ Леона насчет оплаты ростовщику за маму. Он внес почти вдвое больше, чем она могла себе позволить. За ужином Леон сорвался на Демине: «Опять играешь с едой, никакого уважения». Но на следующий день повел его есть пончики во вьетнамской кофейне, угощал разными – с кленовым сиропом, сахарной пудрой, бостонскими сливками. «Я плыл сюда на корабле из Фуцзяна три месяца, – сказал отчим. – Мылся морской водой. Спал на мокрых картонках. Вспомни свою кровать. Вспомни свою ванну. Ты можешь спать». Деминь сосредоточился на пончике. Сливки – а где вообще находится Бостон? – вытекали, как что-то неприличное. На корабле, говорил Леон, охранники чуть не забили человека насмерть за то, что он украл из каюты капитана пачку лапши быстрого приготовления. Другой попытался вступиться за женщину, с которой команда хотела сделать что-то плохое. Охранники ударили его в лицо и выкинули в океан. Леон до сих пор слышал крики той женщины.
Деминь слизнул сливки с пальцев. «Мама прилетела на самолете, а не приплыла на корабле».
Той ночью Леон не возвращался домой до утра. Деминю не спалось. Он просыпался каждые несколько часов, но на другой стороне матраса по-прежнему было пусто. Когда он услышал в коридоре голос Леона, то вскочил.
– Йи ба, где ты был?
– С дороги. Я ложусь.
– От тебя пахнет баром, – сказала Вивиан. – Хорошо, наверно, гулять всю ночь и ни о чем не переживать. Жаль, я так не могу.
– Да делай что хочешь, – сказал Леон. – Мне плевать.
– Тебе плевать? А кто тебе готовит? Кто за тобой убирает? Кто тебе стирает? Кто заботится о сыне твоей Полли, пока ты всю ночь пропиваешь деньги? – Вивиан бросила в Леона его трусы. – Сам за собой стирай! Найди себе другую девку, чтобы следила за ребенком!
– Ты помолчишь, нет?
Вивиан хлопнула дверью в ванную и открыла, чтобы хлопнуть еще раз. Леон оттолкнул Деминя и упал в кровать, на подушку мамы.
Через десять дней Леон пропал. Уехал посреди ночи. Вивиан сказала, что в Китай.
Майкл заплакал.
– Он вернется?
– Нескоро. Он нашел там работу у нашего двоюродного брата. Сейчас многие возвращаются.
– Но мы же не поедем? – спросил Майкл, и Вивиан покачала головой.
Прямо как в тот раз, когда он упал с качелей и из него вышибло дух: бум. Деминю хотелось плакать, но он терпел, не давал себе измениться в лице. На душе лежал валун.
– Он бы попрощался, – сказала Вивиан, – но вы с Деминем спали.
Деминь знал, что это вранье. Леон трус, вот и уехал. Не попрощался, потому что знал: он поступает неправильно, уехал, потому что стыдно. Пока Деминь смотрел, как Вивиан утешает Майкла, вокруг него росла стена.
Через три недели Вивиан объявила, что они с Деминем пойдут в магазин вдвоем. Надо купить новую одежду для школы.
– А мне почему нельзя? – спросил Майкл. – Я тоже хочу новую одежду.
После отъезда Леона Майкл с Деминем больше не гуляли мимо квартиры Сопхипа и не искали мелочь на «Мистер Софти». Они сидели дома, несмотря на жару. Под душем Деминь сжимал кулаки и бил себя по ногам. Нужно было притворяться, что всё нормально.
– Нам надо побыть с Деминем, – сказала Вивиан. – А то мы никогда не бываем вдвоем, правда, Деминь?
– Пусть Майкл тоже идет.
– Я пойду, мам.
Вивиан велела Майклу оставаться дома.
– Я скоро вернусь.
– Нет, не уходи.
– Тут же запри дверь на задвижку. Сегодня приготовлю тебе вкусный ужин.
Майкл опять расплакался.
– Пожалуйста, не уходи.
– Я очень скоро вернусь.
– «Я»? А как же Деминь?
– Мы вернемся.
Майкл перестал плакать. Вивиан и Деминь ждали в коридоре. Вивиан стояла с сумкой, пока не щелкнул замок. Деминь услышал из квартиры громкий всхлип и хотел немедленно вернуться, но Вивиан уже спускалась по лестнице.
Они сели на автобус Б-12, на места впереди. Деминь гадал, в какой магазин они поедут.
– Давай говорить начистоту, – сказала Вивиан. – Твоя мать не вернется, а тебе нужна хорошая семья. Сейчас я не могу обеспечивать вас вдвоем с Майклом. Прости, Деминь. У меня нет денег. Придется переехать в квартиру поменьше, искать соседей. За тобой присмотрят, пока Леон не заработает в Китае и не вернется в Нью-Йорк. Ты будешь в порядке, и, когда Леон вернется, мы снова будем вместе.
Стена сомкнулась. Он не мог вздохнуть.
– Когда?
– Скоро, – сказала Вивиан.
– Когда скоро?
Вивиан не ответила.
– Я найду работу! В ноябре мне будет двенадцать.
Они вышли на «Гранд-Конкорс» и направились в офисное здание. Деминь сидел в кресле рядом с дверью, пока Вивиан говорила с женщиной на ломаном английском. Куда мягче, чем говорила обычно. Он слышал, как она сказала: «У меня есть его свидетельство о рождении».
Женщина подошла к Деминю. Она была высокой и черной, в очках с золотой оправой. «Деминь? Давай ты подождешь здесь, пока я поговорю с твоей тетей». Она отвела его в кабинет поменьше, со складным столиком и вентилятором на потолке, дала мелки и стопку раскрасок. Потом она выдвинула ящик и угостила пачкой яблочного сока и чипсами. «Перекуси пока. Можешь порисовать, если хочешь, – улыбка у женщины была слабой, но доброй. – Я скоро вернусь».
Деминь открыл раскраску. Она была для малышей, с большими контурами животных, многие страницы уже оказались раскрашенными. Все мелки были сломаны пополам. Он выцарапывал большие крестики на мордочках животных и говорил себе, что Вивиан спросит адрес, куда его отправят. Потом она с Майклом заберет его через несколько дней. Может, он попадет в какое-нибудь интересное место с видеоиграми.
Сок и чипсы давно закончились, когда вернулась женщина с целлофановой сумкой Вивиан. «Теперь ты пойдешь со мной. Мы нашли, где тебе сегодня переночевать, – в Бруклине».
Деминь поехал с женщиной в фургоне, впереди, с сумкой на коленях. В ней лежали его одежда и зубная щетка. Они проехали шоссе и мост, и женщина расспрашивала его о школе и друзьях. Дала еще сока и спросила про мать. Деминь ответил, что не видел ее с февраля.
Они приехали в район, где жили китайцы и стояли китайские магазины и рестораны, но не в манхэттенский Чайна-таун. Здесь было больше деревьев и домов с алюминиевым сайдингом. По тротуарам на велосипедах ездили дети.
Женщина остановилась на боковой улочке. Они вышли, подошли к трехэтажному дому, позвонили. Дверь открыла пара – китайцы с седеющими волосами. Вчетвером поднялись по лестнице с ковром в квартиру. Черная женщина разговаривала с китаянкой на кухне, но Деминь не разобрал, о чем. Мужчина сидел с ним на диване в холодной гостиной и говорил: «Расслабься, веди себя хорошо». Потом Деминь заснул на подушках, изможденный жарой и переездом. Когда он проснулся, черной женщины уже не было.
– Я здесь надолго? – спросил он.
– На какое-то время, – ответил мужчина.
Деминя обильно кормили овощами и тушеной говядиной. Он спросил: «Можно ли позвонить Майклу?» – и ему сказали, что не сейчас, потом. Включили кондиционер и не мешали смотреть телевизор или спать.
Шли дни. Деминь потерял счет времени. Он спал на диване и смотрел телевизор. Днем, пребывая в одиночестве, он бродил по маленьким комнаткам, открывал пустые ящики и шкафы, ел макароны, которые разогревал в микроволновке. Спальня пары оставалась запертой. Телефона не было. Ему хотелось выйти на улицу, но входная дверь была заперта.
Однажды утром, когда зазвонили в дверь, пришли не Вивиан с Майклом, а белые мужчина и женщина, которые говорили с китаянкой по-английски. Белая женщина первая назвала Деминя по имени: «Ди-иминь, Ди-иминь». Она растягивала слоги так, что слово было неузнаваемым. Китаянка сказала «Деминь», и он сел, всё еще спросонья. Белая женщина попробовала еще раз – теперь лучше.
Они подошли на цыпочках. «Здравствуй, Деминь», – у мужчины голос был пронзительным, чуть гнусавым. Волосы вяло лежали светло-желтыми прядями, а глаза были размытого голубого цвета, окруженные морщинами. У белой женщины волосы были короткие, светлые, местами каштановые. Щеки – бледно-розовые.
– Здравствуй, Деминь, – сказала она. Взрослые сели по бокам от него. Его ладоней коснулись руки женщины. К его ногам прижались ноги мужчины. Раньше так близко к белым Деминь сидел только в метро.
– Кто это? – спросил он у китаянки на мандаринском.
– Это твои новые родители, – ответила она на английском. – Питер и Кэй Уилкинсон.
Деминь вскочил. Питер и Кэй были высокими, но он – быстрым. Он уже пробежал половину лестницы, когда почувствовал на себе руки.
– Стой, Деминь, – сказала китаянка. – Американцы о тебе хорошо позаботятся. У них большой дом и много денег.
– У меня уже есть семья.
– Твоей прошлой семьи больше нет. Это твоя новая семья. Расслабься. Всё будет хорошо.
Уилкинсоны присели на ступеньках.
– Деминь, – сказала Кэй. – Мы о тебе позаботимся. Всё будет хорошо, – Она обняла его. От ее рубашки пахло стиральным порошком. Матери не было уже полгода, а теперь и Леон с Вивиан исчезли. Он никому не нужен.
Деминь прислонился к Кэй, и она пригладила его волосы.
– Ну вот, – сказала она с триумфом и рассмеялась – радостно, словно на солнце развернули флаг. – Все будет хорошо.
Деминь вышел из дома с Уилкинсонами. По дороге на север он уснул и пропустил момент, когда город остался позади, проснулся в машине уже перед большим белым домом с загибающейся верандой, нависающими деревьями. В городе стоял очередной августовский день, как в парилке, когда хочется умереть, но здесь, в тени, было прохладно.
Питер заглушил двигатель.
– Добро пожаловать.
Спустя неделю, в двуспальной кровати под одеялом из красной фланели, Деминь Гуо проснулся с крошками диалекта на языке, пятнами и кляксами растворяющихся слогов, унесенных морем существительных и глаголов. Один язык разжижал другой. Нью-Йорк уже предоставил ему арсенал новых слов. Там он истекал английскими гласными и видел, как при этом улыбка спадает с лица матери.
Деминь плотнее завернулся в одеяло – здесь было холодно даже в августе. Белому дощатому дому в Риджборо (штат Нью-Йорк, население – 6 525, в пяти часах на северо-запад от города) исполнилось почти двести лет. Питер назвал его древним. В пять раз больше квартиры в Бронксе, в семь раз больше дома на 3-й улице. Три просторные спальни: одна – для Кэй и Питера, другая – для Деминя, еще одна – для гостей, с пухлой от одеял и подушек кроватью, в которой никто никогда не спал. Две ванные, два этажа, отдельная комната для приема пищи и другая – для учебы и работы на компьютере.
Через огромные окна змейкой проскользнул ветерок. От этого сквозняка не спасали кресла-мешки, лежавшие впритык к щели под дверями.
Я – Дэниэл Уилкинсон.
Его передернуло. Раньше он не спал один и никогда не жил в собственной комнате – таком обширном пустом пространстве.
Деминь услышал свист. В двери стоял Питер, руки в боки. Он любил немузыкально свистеть.
– Доброе утро, Дэниэл.
Он осознал только спустя секунду, что обращаются именно к нему. Когда начнется школа, говорили взрослые, с американским именем будет проще, хотя оно и неофициальное. В свидетельстве о рождении, объясняла Кэй, по-прежнему написано «Деминь Гуо».
– Пора вставать. Мы собираемся в церковь через полтора часа.
Снизу пахнуло вкусным: яйца и сосиска в соленой подливке. В животе у Деминя заурчало.
В первые дни он никак не называл их, обходился без слов «Кэй» и «Питер» или «мама» и «папа». Когда Кэй наклонялась, чтобы обнять, Деминь потихоньку вырывался. Слишком тугая хватка, и пахло от Уилкинсонов сыром и цветами, горько и приторно-сладко. Иногда Деминь покорно терпел. «Мы рады, что ты с нами, Дэниэл», – говорила Кэй на английском, а потом произносила бесформенные подобия слов на мандаринском. Она выучила несколько китайских фраз, ходила на курсы мандаринского и купила китайско-английский словарь. Интонации Кэй всегда были невпопад, так что Деминь не понимал ни слова.
– Я не знаю, кто вы, – отвечал он ей на фучжоуском.
Когда Деминь говорил на китайском, у Питера дрыгалась нога, а у Кэй еще сильнее поджимались губы. Они всасывались в лицо, будто рот поедал сам себя. «На английском», – предупреждал Питер, переживая, что Деминь приобретет недостаточно беглую речь для школы, словно его английский был какой-то испорченный. Когда он с матерью слишком много говорил на английском и слишком мало на китайском, она шлепала его по плечам – игриво с виду, но на самом деле всерьез; его излюбленным оружием был английский язык, из-за которого она зависела от Деминя. Кто теперь для нее переводит?
Гигантские окна. Двор снаружи, с огромными корявыми деревьями. На Оук-стрит – никаких тротуаров. Могли ходить часами, прежде чем мимо проедет машина: отсутствие шума – как шелест газовой ткани персикового цвета. Деминь выглядывал в окно и прислушивался к вальяжному щебету птиц, к отдаленному глухому реву газонокосилки. В воздухе стоял ровный, почти неразличимый гул. Персиково-коричневый газ падал на ресницы.
В углу новой комнаты Деминя лежала куча из пластмассовых солдатиков, фигурок мускулистых мужчин с мечами, прочных пожарных и полицейских машин с миниатюрными сиренами. Эти игрушки, как сказали Питер и Кэй, теперь его. Игры в копов Деминя не интересовали. В завывающих сиренах не было ничего интересного. На полке у кровати выстроились книжки из серии «Классика для детей в сжатом изложении»: «Граф Монте-Кристо», «Последний из могикан» и «Оливер Твист» в мягких обложках. От слова «сжатый» Деминю почему-то вспоминалось сгущенное молоко, банки с которым мать покупала как лакомство – капли из сахарного клея на утренней овсянке. Как и Деминь, она тоже была сластеной, но поддавалась своей слабости нечасто. Эдуардо предлагал влажные маффины в пластиковой обертке, чернику, напоминающую голубиные какашки, но она покупала бананы, изредка сгущенку, леденцы «Тутси Ролл», мармелад «Твизлерс».
Объевшись омлетом, Деминь ерзал на скамьях церкви Святой Анны. Из-за воротничка полосатой рубашки, доставшейся от племянника Кэй, чесалась шея. Встать, сесть, молиться. Священник нудел, а Деминь сжимал в руке голубую пуговицу из маминой коробки. Он нашел ее в шортах, которые упаковала Вивиан. Теперь он спал с пуговицей под подушкой.
Деминь потер твердый приподнятый край пуговицы, закругленный центр. Он вспомнил поезд метро, вылетевший из туннеля на 125-й улице. Тогда он обнял мать, сказав: «Гляди!» Деминю снилось, что он взбегает с Майклом по Юниверсити, где улица заворачивала и здания давали пять небу. Ноги мельтешили, рюкзаки скакали. Он видел, как они делят пачку луковых чипсов с Элроем и Хунгом, как толкают Сопхипа в парке. Пиццерия, пончиковая, китайский ресторанчик с едой навынос, магазин с рядами твердых синих джинсов и платьев за 4,99. В городе – далеко-далеко от церкви Святой Анны в таком маленьком поселении, что можно плюнуть на карту да растереть, – всегда были теплая толчея тел, болтовня телевизора, пока Вивиан разливала суп по мискам, газировка большими глотками и соревнования по отрыжке с Майклом, разговор матери по мобильному. Все спали вместе в одной постели. И становилось так тепло, что не нужны были ни фланелевые одеяла, ни шерстяные носки.
Деминь пытался утаить Бронкс, сохранить по осколочкам и кусочкам. Как-то он прочитал в древнем учебнике по окружающему миру, который еще сходил за приемлемый в общественной школе № 33 (однажды человек ступит на Луну, говорилось там спустя четверть века после высадки), что люди могут годами жить с опухолью в организме – безобидной кистой, и эти кисты способны отращивать зубы и волосы, даже ногти. Бывает, человек носит в себе чужеродное тело и не подозревает об этом. Чудовищный близнец. Двойник в виде комка шерсти. Сколько всего может расти внутри Дэниэла, внутри каждого человека. Он носил в себе маму и Леона, Майкла и Вивиан, город. Образы, сжавшиеся до волосинки, обрезка ногтя и одного выросшего не на своем месте зуба. Коллекция тайных опухолей.
Деминь пнул скамью. Девочка в следующем ряду повернулась и смотрела на его лицо, пока ее не толкнула локтем мать.
Священник бормотал молитву. Деминь никогда раньше не был в церкви, так что просто повторял за всеми. Вставал. Садился. Читал вслух увесистую книгу и подавлял зевки. Слава тебе, Господи, аминь. Пока он шел с Уилкинсонами к машине, пытался не обращать внимания на людей вокруг.
Средняя школа Риджборо была в двух кварталах от центра городка. Центром здесь считались одна главная улица и парк с большим американским флагом. Деминь сидел на переднем сиденье серебряного «приуса» Кэй. Они ехали по Оук-стрит, потом по Хиллсайд-роуд, через железную дорогу и на запад города, где дома жались ближе друг к другу и дворы становились меньше.
– В интересах Дэниэла еще раз отучиться в пятом классе вместо того, чтобы переходить в шестой. Его оценки в среднем очень низкие, – ткнул в бумаги на столе директор Честер – с клочками белых волос, торчащими из носа, как травяные бивни. – Также, похоже, школа в Бронксе рекомендовала перевести его на специальное обучение.
– Я ходил в летнюю школу, – сказал Деминь.
– Тогда нам понадобится справка на этот счет. – Директор Честер просмотрел бумаги. – У нас разнятся учебные программы. Каким математике и окружающему миру вы обучались в прежней школе, молодой человек?
Деминь удивлялся, как директор Честер умудряется дышать с волосами в носу, и жалел, что рядом нет Майкла и их друзей, чтобы прикалываться над ним.
– Просто математика.
– Геометрия? И как насчет английского, чему именно вы обучались? – Честер посмотрел на Кэй. – Откуда он? По происхождению?
– Я уже говорила, – ответила Кэй. – Из Нью-Йорка.
– Но по происхождению?
– Его мать, кажется, была китаянкой.
– Китай. Интересно. А вы и ваш муж его приемные родители?
– Патронатные.
Директор Честер зашуршал бумагами.
– Английский понадобится освежить. Но, боюсь, в нашем школьном округе недостаточно иммигрантов для создания курса английского языка как иностранного.
– У Дэниэла отличный английский. Он родился в Америке.
– Ему пойдет на пользу побыть с пятиклассниками. Дети легко теряют настрой. Мы не хотим, чтобы у него сразу же не заладилась жизнь в новой стране.
– Как я уже упомянула, он родился в Соединенных Штатах, – сказала Кэй. – И вы сами слышали, как Дэниэл разговаривает. Он вполне владеет языком. Я не согласна, что ребенка нужно сдерживать. Это только внушит, что по отношению к нему существуют заниженные ожидания. Дети гибкие, быстро учатся. Его место со сверстниками, в шестом классе.
– А ваш муж? Он с этим согласен?
– Прошу прощения?
– Ведь у вашего мужа тоже должно быть мнение, – сказал директор Честер.
– В плане академического развития Дэниэл находится выше требуемого уровня знаний. Если вспомните Выготского – а вам как преподавателю это наверняка не составит труда, – то поймете, что социальная интеракция неразрывно связана с процессом когнитивного развития ребенка. Даже если ваша школа следует трансмиссионной модели, можно принять в расчет то, что сама поддерживающая образовательная стратегия в среде сверстников Дэниэла послужит его процветанию в надлежащем социокультурном контексте. Другими словами, в шестом классе.
Директор Честер снова посмотрел на бумаги.
– Ну, не будем усложнять, – директор посмеялся. – Все эти речи о моделях. Я не уверен, что подкован в них так же хорошо, как вы, миссис Уилкинсон.
– Доктор Уилкинсон. Я преподаю в Карлоу.
В конце концов директор Честер записал Деминя в шестой класс.
– Этот человек – полный идиот, – сказала Кэй, когда они вышли из школы.
Первые недели в Риджборо Деминь провел как во сне. Дни были мутными и нереальными, казалось, он вот-вот мог проснуться по щелчку и оказаться опять в Бронксе. Единственное, что у него осталось от города, – сумка с одеждой, которую собрала Вивиан. Вещи Кэй постирала, сложила и убрала в комод в его комнате. Чтобы приобрести, как выразилась Кэй, «достойный школьный гардероб», новая мама повезла Деминя в торговый центр. Парковка там оказалась просторной асфальтовой площадью шире любой другой парковки в его жизни. Ее размеры еще больше бросались в глаза из-за пустоты – всего несколько машин на множестве мест. Они шли мимо магазинов под сопрано саксофона из громкоговорителей. Как прихожане в церкви, так и редкие пешеходы на Оук-стрит – здесь все были белыми.
Они проходили мимо киосков с ювелирными украшениями, часами, бейсболками.
– Посмотрим, – сказала Кэй. – Что бы стал носить одиннадцатилетний мальчик? – Она остановилась перед «Холлистером», «Аберкромби и Фитч». – Нравятся эти магазины?
– Не знаю, – ответил Деминь. В «Аберкромби и Фитч» на пляже резвились картонные подростки: смеялись девушки в бикини с выгоревшими на солнце волосами и держали доски для серфинга парни с мускулистыми торсами. Мать покупала ему одежду на Фордем-роуд – им с Майклом доставались рубашки одного фасона, только разных размеров и цветов.
– Смотри, – Кэй показала на картонные фигуры. – От такой улыбки, наверно, лицу больно. – Она оголила зубы и приняла ту же позу, что и одна из девочек в бикини, подбросив ногу, подняв руки. Деминь смотрел на нее, не зная, смеяться ему или нет.
«Брюки карго». «Шорты для мальчиков». «Классика для подростков». «Чинос», «Поло», «Худи». Кэй выбирала какую-то одежду, и Деминь говорил: «Ладно». В примерочной он снял зеленые шорты и серую футболку, кепку «Янкис», которую подарил Леон. У Майкла были такие же шорты, только синего цвета, и полосатая версия серой футболки. Скучает ли по нему Майкл или рад, что теперь вся кровать досталась ему? Может быть, звонил из Китая Леон. Если Вивиан переехала, мама уже никак не сможет с ней связаться, чтобы передать Деминю, где ее искать.
Он со стучащим сердцем застегнул брюки карго. Посмотрел в зеркало и почувствовал себя странно, бесформенно.
– Можешь выйти и показаться? – Кэй окинула его взглядом. – Нравятся? Подходят?
– Ага.
– Ну, хочешь такие? И эти рубашки, наверно, тоже?
– Ладно.
Кэй дала кассиру какую-то бумажку и сказала, что это талон на одежду для приемных детей.
– Мы их не принимаем, – сказала женщина. – Обратитесь в «Волмарт» или «Таргет».
– А, – Кэй рассмеялась. – Это ничего. – Она убрала бумажку обратно в сумочку и достала кредитку. Расписавшись на чеке, сложив рубашки и штаны в сумку, она спросила Деминя:
– Нужно что-нибудь еще?
Деминя озадачил ее вопрос.
– Может, кроссовки? – наконец сказал он. Кэй вскинула руку ко лбу.
– Ну что ты, Кэй, приди в себя. Обувь, как я могла забыть про обувь? Босым в школу не пойдешь, директор Честер не одобрит.
В «Этлетс Фут» Деминь выбрал самые дорогие «найки» на полке – с пухлыми языками и красно-черными полосками. Кэй передала кредитку и расписалась. Что еще она может ему купить – мотоцикл, компьютер? Они прогулялись наверх, в фуд-корт. Кэй несла сумки с одеждой, Деминь – обувную коробку с новенькими кроссовками. Они вместе съели тарелку картошки фри с сыром. Он слизывал горячий желтый соус из впадин каждой картофелины. Это называлось «волнистая нарезка».
– Ты ходил в торговые центры в Нью-Йорке? – Кожа Кэй порозовела, может быть, из-за горячей картошки. Деминь смотрел на семьи за другими столиками, на прогуливающиеся рука об руку пожилые пары, на подростков, отсчитывающих мелочь и наливающих себе газировку.
– Почему я здесь?
Кэй взяла картофелину.
– Потому что… в нашей семье есть место для ребенка. А тебе нужна была семья. – Она розовела на глазах. – Нервничаешь из-за школы?
– Не очень.
За ближайшим столиком сидела мама с двумя мальчиками его возраста – оба были рыхлыми переростками, даже их зубы казались большими, и оба старательно уничтожали пиццу. Он случайно встретился глазами с одним мальчиком, и тот бросил взгляд на брата и хихикнул. Их мать уставилась на Кэй и Деминя так, будто они стояли на улице с голыми попами.
Он схватил еще картошку и попытался не обращать внимания на семью за соседним столиком. Ему хотелось полюбить смех Кэй – это взрывающееся крещендо – и то, как легко она ему все покупала.
Она продолжала говорить.
– Знаю, в школе страшно быть новеньким. Когда я училась в седьмом классе, моя семья переехала всего через два города, но школа была новой, и мне казалось, что это конец света, буквально, что на этом для меня всё кончится. Не то чтобы я обожала старую школу, вовсе нет, но я боялась, что будет еще хуже. Но знаешь что? Я завела друзей. Что само по себе казалось чудом. В смысле, я была очень необщительным ребенком, книжным червем в очках. Я настолько обожала читать, что сидела с книжкой ночь напролет, а потом засыпала на уроках. Даже на переменах читала. Как можешь представить, популярности мне это не прибавило. Но у тебя всё будет хорошо, Дэниэл. У тебя всё будет замечательно.
В первый день пятого класса в школе № 33 мама и Вивиан проводили Деминя и Майкла на улицу. Из остальных домов по всему кварталу струились дети – большие и маленькие, сестры и братья, – а на светофоре стояла регулировщица-пуэрториканка, которая всегда говорила сахарным альтом «Доброе утро, хорошие мои». Средняя школа Риджборо была как будто во многих милях от дома Кэй и Питера.
Он слышал, как они переговаривались за стенкой спальни.
– Это прозвучит ужасно, но, может быть, с ребенком помладше было бы легче, – сказала Кэй. – Когда ребенок – чистый лист.
– Мы ждали ребенка помладше много лет, – ответил Питер. – Даже когда еще сомневались насчет Китая.
– Знаю. Но иногда мне сложно понять, как себя с ним вести.
– Будь собой. Разве дети не чувствуют, когда ты ведешь себя неестественно?
– Ты весь день в колледже. Уверен, что не можешь хотя бы иногда работать дома? У нас есть кабинет, можешь писать здесь.
– Давай не будем опять об этом, – сказал Питер. – Ты же знаешь, у меня очень важный семестр.
– Вряд ли тебя не сделают завкафедрой только потому, что время от времени ты пораньше уходишь домой. Это же баланс работы и личной жизни. Ты там уже целую вечность, они знают и тебя, и то, как ты работаешь. Это ничто не изменит.
– На должность баллотируется Валери. У нее нет детей и на одну книгу больше, чем у меня. Прямо сейчас мне надо работать больше, а не меньше.
– Милый. Ну правда.
– В науке нет баланса работы и личной жизни. Уж ты-то должна это знать, хотя у женщин все может быть по-другому. Нет тех же ожиданий, того же драйва.
– Ну да, – рассмеялась Кэй. – Драйва у нас нет! Мы должны воспитывать детей, готовить, работать, преподавать, проводить исследования и писать собственные книги. Мы должны поддерживать мужей, следить, чтобы ничего-ничего не мешало им заниматься их очень важной работой. И мне невероятно повезло – я навсегда останусь адъюнктом.
– Ну, ты же сама этого хотела. Вот и пожалуйста.
– Слушай, так нечестно. Ты тоже этого хотел.
Тишина. Если Кэй уйдет от Питера к другому, Деминя придется отправить обратно в город?
– Хотел же, – сказала Кэй, – правильно?
– Конечно.
– Как думаешь, мы справимся?
– Конечно, – ответил Питер. – В этом преимущество патронатной семьи. Можно примерить роль родителей на себя, посмотреть, что будет.
– Я боюсь слишком привязаться. Тетя или мать может прийти за ним в любой момент.
– Не думай о завтрашнем дне.
– И не то чтобы я считаю, будто хорошими могут быть только биологические родители, но это тяжело. Это не приходит само собой, естественным образом, хоть мне и не нравится пользоваться таким эссенциалистским термином.
– Не всё сразу. Когда он пойдет в школу, станет проще. Он найдет друзей. Сама увидишь.
– Я хочу, чтобы он раскрылся. Рассказал о матери, о городе, о чем угодно.
– Он многое пережил. Не дави на него.
Снова тишина, и Деминь уже отходил от стены, когда услышал Питера:
– Может быть, это культурное, что он такой сдержанный?
– Может. Может. Ох, ну что мы наделали? Заставляем его жить в городке, где нет ни одного азиата? Я вполне пойму, если он нас возненавидит.
– Не скажу, что нам будет легко, – сказал Питер. – Но детям любой расы – белым, черным, фиолетовым, зеленым – трудно найти свое место. А также толстым и тем, у чьих родителей мало денег.
– Это правда, – сказала Кэй. – Я вот была книжным червем в очках. Никогда не чувствовала себя на своем месте.
– Психологические проблемы – по сути дальтоники.
– Если всё получится, нужно обязательно проследить, чтобы он не отрывался от корней. Поговорю с Элейн насчет того летнего лагеря.
– Мы о нем позаботимся. Это самое главное, и он это знает.
Деминь прижался ухом к стене, но слова Питера становились тише, превращались в кашу.
Он шмыгнул в кровать. Его мать была низенькой, круглой и ничем не похожей на Кэй. Не думай о ней. Его мать разговаривала руками и разрешала смотреть телевизор сколько захочется. Не думай об этом. Кэй и Питер разрешали только три часа телевизора в неделю. Они предпочитали канал PBS.
На кухне пахло молочным пердёжем и мясом. Кэй навалила на тарелку Деминю мясной рулет с подливкой, брюссельскую капусту и налила стакан холодного обезжиренного молока. От молока у Деминя крутило живот, но Питер говорил, что это полезно, так что он пил по стакану за каждым приемом пищи.
Он постарался сервировать стол, как его учила Кэй: вилки и ножи в правильном порядке, без ложек, салфетки и подложки выровнены, стаканы – в правильных углах. Однажды вечером он видел, как Кэй передвинула стакан, который он поставил для нее, слева направо. Право, не лево! Больше не тупи.
– Еще один день лета – и мы все вернемся на учебу, – сказал Питер. Завтра начнутся уроки в школе Риджборо и Карлоу-колледже, где Питер преподает экономику, а Кэй – политологию.
Деминь сунул кусок мясного рулета за щеку. Если он уступит Уилкинсонам, то застрянет с ними навсегда, лишится своей настоящей семьи.
К нему повернулась Кэй.
– Дэниэл?
К ее взгляду присоединился взгляд Питера.
– Ждешь первый учебный день?
– Наверно.
– Дэниэл, пожалуйста, смотри на нас, когда мы с тобой разговариваем, – сказал Питер. У Кэй сжались и сморщились губы.
– Мы тебя любим, Дэниэл.
Он подцепил еще кусок мяса. Его мать говорила, что запланировала для себя многое, но потом родился он. Если он полюбит Питера и Кэй, они тоже могут рано или поздно его бросить. Они ждали ребенка младше, с которым будет проще, которого хотели больше.
Поздно ночью Деминь прокрался вниз к кухонному телефону. Он помнил мобильный номер матери, хотя так и не выучил телефоны Леона или Вивиан, а в квартире в Бронксе не было домашнего. Он поднял трубку, набрал и услышал автоматическое сообщение о том, что набирать нужно через единицу. Он попробовал еще раз с единицей. Пауза, новое сообщение. «В настоящее время ваш звонок не может быть осуществлен». Он позвонил опять, поменяв местами две последние цифры, и звонок прошел, но Деминь попал на автоответчик незнакомого мужчины. Он набрал правильно сразу, он не забыл, – просто мамы на том конце не было.
Наверху в углу спальни отбрасывали тени его игрушки. Деминь различал силуэты пожарной и полицейской машин и поставил одну перед другой, прокатил по ковру. Врезался пожарной машиной в полицейскую и шепотом изобразил сирену.
В первый школьный день Кэй приготовила особенный завтрак – блинчики с голубикой и кленовым сиропом. Она подвезла Деминя по дороге в Карлоу, и он нацепил свое лучшее выражение лица в стиле «только-попробуйте-наехать», вошел в класс миссис Лампкин и нашел место. Кабинет был больше, чем в школе № 33, и вместо парт на четыре человека в Риджборо у каждого ребенка были свои стул и стол.
Миссис Лампкин начала перекличку и объявила Дэниэла Уилкинсона последним. «Здесь», – сказал он. Обернулись тридцать четыре пары глаз. Миссис Лампкин – худая, хоть Деминь и знал, что слово «lumpy» означает «толстушка», – перепроверила журнал.
В школе № 33 в его классе было тридцать два ребенка, но в школе Риджборо во всем потоке шестого класса училось пятьдесят человек. Деминь просидел историю, окружающий мир и английский. В столовой он в одиночестве съел сэндвич с индейкой, сельдерей и твердое хрустящее яблоко – ланч собрала ему Кэй. Все, кого он видел, были одного цвета, и их молчание пропитывало воздух, как угроза.
Дома после школы Деминь глазел на безмолвную улицу, слышал все тот же пустой гул и чувствовал какую-то тошную утрату. Он изо всех сил бил по стене – «И это удар? Рукопожатие!» – пока не горели от боли костяшки, пока не кричал он. Дома никого не было; Питер и Кэй еще работали. Когда они вернулись, он старался выглядеть спокойным, но чувствовал себя так, будто его свежуют заживо.
Во второй школьный день Деминь решил, что его отправили с другой планеты на планету Риджборо. Он не знал, на какой срок, а знал только то, что однажды его вернут домой. Это помогало выносить уроки. Он рассматривал Эмбер Битбургер, сидевшую перед ним в классе, – блондинку с желто-русыми прядями ближе к корням и светлеющими к кончикам, сквозь которые проглядывала кожа – розовая и мягкая, как у какого-нибудь звереныша перед тем, как тот обрастает мехом. Глаза у нее были серо-зеленые, а лицо – как ландшафт: холмы носа, подбородка, скул.
Все одноклассники казались большими. Деминь тоже был большим – одним из самых крупных азиатов в школе № 33, – но эти дети отличались; они никогда не замечали, как на них смотрят другие, потому что никаких других здесь не было. Здесь на него обращали слишком много внимания (сперва), а потом не обращали внимания вообще. С ума можно сойти: броский и одновременно невидимый, причем и в том и в другом случае в самом плохом смысле этих слов. Слишком заметный для парней, которым нравилось его задирать, а девчонки обращали внимание на него, только когда он приходил с расстегнутой ширинкой.
Он изучал их носы. У кого-то – острые, у кого-то – обвисшие, как перезрелые фрукты. У некоторых ноздри широкие, у других – поджатые и узкие. На переменах мальчики и девочки делились на отдельные группки, и оставались крошки, рассыпавшиеся по краям двора. Деминь понимал, что он крошка. Крошки не хотят бросаться в глаза, но при этом всегда на виду, как открытая рана. Они прятались от людных мест: игрового городка, уголков площадки, где собирались девчонки, баскетбольной площадки и футбольного поля – дома мальчишек, которые любили спорт.
Даже если крошки успешно прятались от остальных, друг друга им было не обмануть. Они задирали кого угодно, кто под руку подвернется, лишь бы их самих не трогали. Но Деминь не хотел прятаться. Его подготовили 3-я улица и Бронкс, планета Риджборо просто финальное испытание. Незримые наблюдатели специально подобрали для него миссию, чтобы проверить силу и терпение. Когда Деминь пройдет испытание, он воссоединится с настоящей семьей. Кем были эти наблюдатели? Он тоже понял. Те, кто посылал ему телепатические сообщения на фучжоуском – этот язык всегда звучал у него в голове, никогда не приходилось напрягаться, чтобы понять. Миссия придала ему смелости. Так что на перемене он выходил на середину площадки, стоял на виду, брал остальных на слабо.
На третий день у стола Деминя в столовой остановилась девочка с пачкой яблочного сока, из которого торчала тощая трубочка с примятым зубами кончиком. Ее темные волосы были затянуты в короткий хвост. У очков была ярко-красная оправа.
– Ты откуда?
Деминь откашлялся.
– Из Бронкса. А ты?
– Отсюда, – сказала она и ушла.
На четвертый день была физкультура. В Риджборо дети играли в спортивные игры: футбол, американский футбол, баскетбол, плавание, бейсбол, теннис, волейбол, хоккей. Мальчишкам Риджборо полагалось разгоняться и таранить. В мужской раздевалке Деминь наблюдал за молодым населением планеты Риджборо, пока переодевался в спортивную одежду: замечал все – от несформировавшихся детских конечностей коротышек вроде Шона Уэкера, самой крохотной крошки, до упитанных лапищ и франкенштейновской башки Коди Кэмпбелла. Деминь приглядывался к пухлым рукам Коди, его бедрам, похожим на буженину, трясущемуся потеющему подбородку.
Деминь разулся, снял спортивные шорты, которые купила Кэй. Крошки оставались на краю скамеек, переодевались второпях, но остальные шутили и перекрикивались с друзьями.
Шон Уэкер запутался в шортах, врезался в шкафчик. Это был маленький мальчик со сморщенным личиком – такой бледный, что его прозвали Призраком.
– Педик, – сказал один из мальчишек. – Призрак – педик.
– Пошел ты! – заорал Шон. – Пошел! Ты! – коллективным ответом раздевалки стал смех – намного хуже, чем гнев, и Шон улизнул. Тут Деминь почувствовал, как его толкнули, удар между лопаток. Покачнулся вперед.
Это был Коди.
– На что уставился? Китайский даун. – На его щеке было родимое пятно в форме летающей тарелки. Он снова толкнул Деминя, но в этот раз Деминь сам налетел на Коди и отбросил его назад. Тот пошатнулся, издал звук вроде «уф-фа». Он оказался еще более неуклюжим, чем Трэвис Бхопа; здоровый, но без равновесия. Это показалось Деминю и комичным, и предсказуемым.
На него кто-то навалился, в бок ударили. Деминь ответил одним локтем, другим. Вскрикнул и освободился. Коди оправился. Деминь встал.
– Какого хрена?
Навалившимся оказался Шон Уэкер, с перекошенным лицом.
Деминь ушел.
– Даун, – повторил Коди. – Китайский даун, – это было похоже на рев, мясистый и грубый, как будто что-то звериное, вывернутое наизнанку.
В спортзале они играли в кикбол – игру, про которую Деминь раньше не слышал. Когда пришла его очередь бить, он услышал, как кто-то усмехнулся и сказал: «Отличные ботинки». Он опустил глаза на свои новые «найки», и мячик ударил ему прямо в живот. Когда он развернулся, увидел ряд мальчишек, сдерживающих смех.
После школы он шел домой один. Было не так уж далеко, всего полчаса ходьбы, но пейзаж упорно не менялся – дом за домом, дерево за деревом. Узкие улицы выходили на мини-поля – такие широкие, что у Деминя кружилась голова от одного их вида, он пугался их бесконечности. Чем дальше от школы, тем чаще промежутки между домами становились больше самых огромных домов. Деминь так отвык от шума машин, что, когда одна проехала мимо, он подскочил.
Проходя мимо железной дороги, он услышал позади шаги и напрягся, ожидая увидеть Коди с приятелями.
– Эй, – сказал мальчишеский голос. Деминь встал в стойку. Но это оказался не Коди, а паренек, за которым Деминь наблюдал с любопытством, – Роланд Фуэнтес. Он отличался от остальных детей – тоже не был одним из них. Деминь слышал, как фамилию Роланда произносили с преувеличенным акцентом, растягивая слоги в насмешку, но Роланд никогда на это не реагировал. – Эй, – говорил он теперь Деминю. – Я Роланд. А ты Дэниэл, да?
Роланд Фуэнтес учился в матклассе для умных, вместе с девочкой из столовой – Эмили Нидлс. В городе он бы легко сошел за своего, но в Риджборо из-за своей резкости и целеустремленности он вызывал подозрения. Он выставлял подбородок, его глаза метались, как пугливые птички. Его кожа была намного смуглее белизны Шона Уэкера и Эмбер Битбургер – белизны, как у дорогой бумаги, а темные волосы были тонкие, как у младенца, и редели или, возможно, такими и росли, ведь не может мальчик облысеть еще до перехода в старшую школу.
Вместе они перешли пути, пиная гравий. Насколько знал Деминь, поезда здесь не ходили никогда.
– Ты из класса Хлампкин?
– Ага.
– А я у Мур.
Деминь это знал, но не сказал.
– Ты где живешь? Я на Сикамор-стрит.
– Я рядом, – ответил Деминь. – На Оук.
– А ты откуда?
От Роланда этот вопрос почему-то не раздражал.
– Из Бронкса.
– Круто.
– А ты? – спросил он.
– С Марса! – Роланд был маленьким, но голос у него звучал ниже, чем у остальных мальчишек, – серьезный скрипучий баритон. – Шучу. Отсюда. Риджборо, – с деланой отчетливостью выговорил он.
Роланд сказал, что они с мамой живут на углу Сикамор, а папа умер.
– Но я его не помню. Он умер, когда мне было три с половиной. Погиб в аварии.
– Мой папа тоже умер, – сказал Деминь. Ему вдруг захотелось подружиться с Роландом – на самом деле с кем угодно. – В Китае.
– А мама тоже умерла? Которая настоящая.
Ответ выскочил раньше, чем он смог его остановить.
– Да.
За ужином Питер спросил Деминя, как прошел его день в школе, и Деминь сказал, что хорошо, что он нашел друга. Кэй спросила, нравятся ли ему учителя, и он сказал, что они ничего, только скучные. Она рассмеялась и выговорила: «Ламп-кин!»
– Ну и имечко, – сказал Питер. – Дети наверняка наслаждаются вовсю.
После ужина Питер и Кэй научили Деминя правилам джин рамми, и они сидели вместе за кухонным столом и играли в карты до темноты.
Наверху, в тишине комнаты, Деминь говорил по-фучжоуски с матерью и извинялся за то, что сказал, будто она умерла.
У Роланда и Деминя не было общих уроков, не считая физкультуры, но на переменах они вместе уплетали сэндвичи и вместо двора зависали в компьютерной комнате, где играли крошки и ботаники из всех классов. Иногда они видели там тех, кого не ожидали увидеть, например Эмили Нидлс и один раз даже Коди Кэмпбелла.
Две недели они занимали первые строчки в рейтингах всех игр, били собственные рекорды. Что не включишь, везде было только два имени: ДУИЛ и РФУЭ. Сперва Деминь писал ДГУО, но Роланд спросил: «Что это за Дэ-гу-о?» – а объяснять было слишком сложно. (В первый день школы он подписал листок с задачами «Деминь Гуо», и миссис Лампкин вызвала его к столу и спросила: «В чем дело? Это какая-то шутка?») Каждый раз, когда Деминь выигрывал, Роланд поднимал руку и говорил: «Кто крутой? Д-У-И-Л крутой!» Деминь давал ему пять и озирался, жалея о несдержанности Роланда. В Риджборо было небезопасно вот так хвастаться, и ему не нравилось, как скакал и бил кулаком по воздуху Роланд, когда вводил свое «РФУЭ». Но между играми Деминь включал таблицу лидеров и смотрел на повторение имени, которое вроде как должно было принадлежать ему.
На математике мистер Мур рисовал тупые углы, а Эмбер Битбургер жевала кончики бело-желтых волос. «Не спать, – говорил себе Деминь. – Быть начеку». Самый простой способ не расслабляться – помнить, что у него миссия, что джин рамми, мясной рулет и фланелевые одеяла только часть испытания. Если держаться на дистанции, будет не так больно, когда это всё исчезнет.
Через несколько недель деревянные полы дома Уилкинсонов больше не казались скользкими, а когда кто-нибудь говорил «Дэниэл», он откликался и не думал, что обращаются к кому-то другому. Питер и Кэй больше не казались необычными, оттенок их кожи и форма носов стали такими же нормальными, как низкий гул пустых улиц, и он не всегда вспоминал набирать по ночам мамин номер. Когда же набирал, слышал одно и то же сообщение: «В настоящее время ваш звонок не может быть осуществлен». Теперь уже его лицо казалось странным, когда он смотрелся в зеркало.
Он говорил себе, что незримые наблюдатели придут в любой момент, заберут из класса, вытащат с кикбола, подойдут в столовой, пока он ест сэндвич с арахисовым маслом и желе, как будто ничего не подозревая. Потому что выдавать себя нельзя. Всегда оставалась возможность, что однажды днем в столовой появится его мама, или Леон, или даже Вивиан, готовые забрать и вернуть домой, или раздастся стук в дверь класса и Дэниэла Уилкинсона попросят выйти, и класс пробормочет «О-о-о-о», словно он влип в неприятности, но в кабинете директора будет сидеть мама, и лицо ее будет светиться теплом, и она извинится, что пропадала так долго, закатит глаза за спиной директора Честера. Они сядут на ближайший автобус в город, и Деминь наконец прочистит пыль из горла, расслабит сомлевший в молоке язык.
Однажды в пятницу домой к Уилкинсонам пришла не его мать и не Вивиан, а белая женщина с веснушками, носом-пуговкой и аккуратным подбородком, с пружинками волос цвета тоста.
– Я мисс Берри, – сказала она, – но ты можешь звать меня Джейми.
– Джейми – соцработница из агентства по опеке, – сказал Питер. Женщина обернулась к Деминю.
– Не покажешь мне свою комнату?
– Можно, Дэниэл, – сказала Кэй.
Джейми поднялась за Деминем наверх и села на полу рядом с его кроватью. Посмотрела на пластмассовые машинки.
– Это твои игрушки?
– Да.
– Не хочешь показать, как они работают?
– Не очень.
– Ну и ладно, ничего. – Джейми улыбнулась. – Как дела в школе? Нашел друзей?
– Да, Роланда.
– Не хочешь мне о нем рассказать?
– Он… Ну, мальчик.
– Я знаю, в последнее время у тебя было немало перемен в жизни. Но всё, что ты мне расскажешь, останется между нами. А если не хочешь, можешь ничего не говорить.
– Ладно.
– Какой у тебя любимый предмет в школе?
– Не знаю.
– Тогда какой самый нелюбимый? Все?
– Наверно, математика.
На пустой детской площадке скрипели усталые качели, на которых сидела мама Деминя. Это было в прошлом ноябре, за три месяца до ее ухода. «Скрип-скрип-скрип, – говорили качели, – скрип-скрип-скрип». Деминь наклонялся, упираясь ладонями ей в спину, но никак не мог раскачать ее высоко. Вверх, вниз, поднимаясь мимо него и проносясь вперед, ее куртка – серебряный доллар на фоне серого неба, пока сама она взвизгивала в облаках. «Ха! Ха». Он раскачивал, пока она не сказала: «Хватит. Твоя очередь». Она подняла одну ногу, потом другую, похлопала по провисшей букве U резинового сиденья.
Он сел, болтая ногами. «Готов?» И он взлетал всё выше, качели визжали над рябым асфальтом, шелушащейся ржавыми хлопьями горкой. Внутри бултыхался горячий комок обеда, и вдруг он уже не держался за цепочки, а летел, как кирпич, и перед тем, как врезаться в асфальт, увидел, как кренится земля, заслоняя все, – твердое затмение.
Он очнулся в странной комнате с самой жуткой головной болью в жизни, лежа на койке по соседству с другой, где был старик в памперсах и с капельницей, под потолочными плитками, по которым ползли пятна плесени. Он слышал плач детей и видел белый шум. На знаке на стене было написано «Травмпункт».
Мать листала журнал. Заметив, что он зашевелился, она подскочила, схватила его за руку.
– Очнулся.
– Что случилось?
– Ты соскользнул, малыш. – Она сжала его руку сильнее.
– Правда?
– Я так напугалась. На минуту ты потерял сознание. А казалось, что на целую вечность. Как ты себя чувствуешь? Голодный?
Медсестра говорила о восстановлении, о том, что Деминю нужен покой. Вот белые таблетки, их надо запить водой.
Он посмотрел на опухшее и уставшее лицо матери, коричневую кляксу родимого пятна на шее, и его глаза заполнил яркий режущий свет. Когда он их закрыл, то увидел темные звезды и спросил себя, что он помнит. Может, она слишком сильно толкнула, а может, он прыгнул сам, поддавшись желанию сорваться и полететь. Супергеройские мечты.
Леон говорил, что это несчастный случай. Деминь большой мальчик, а больших мальчиков так просто не поранить. «В следующий раз надо быть осторожней. Мальчишки – непоседы. Тебя ведь не утихомиришь».
Деминь снова проснулся уже в квартире и увидел мать – она сидела на краю его кровати, наблюдала за ним в темноте. «Мама?» В желтоватых тенях уличных фонарей, просачивающихся сквозь шторы, он видел очертания ее носа и подбородка, свалявшиеся и всклокоченные ото сна волосы.
Она провела ногтями по его затылку, слегка царапая. Он услышал ее шепот: «Очень важно быть сильным».
Деминь и Кэй смотрели на других мам на парковке средней школы Риджборо – на их мешковатые штаны по щиколотку, грибовидные прически и пастельные кардиганы. Другие мамы были одинаковые; их дети – тоже. Другие мамы ходили на собрания родительского комитета и друг к другу на бэби шауэры, радовались, когда узнавали, что их сыновья и дочери однажды будут одноклассниками. Родители Риджборо работали в больнице или тюрьме, и ни у одного ребенка ни мать, ни отец не преподавали в колледже.
Другие мамы стояли в плотном кружке у своих машин, их голоса ветвились по асфальту. Они разговаривали о мужьях и детях, строили совместные планы на выходные, и Деминь заметил голодное выражение лица Кэй, когда она тряхнула ключами. «Наверняка обсуждают скрапбукинг и рецепты печенья, – сказала она. – И голосование за республиканцев, а то за кого еще голосуют их мужья».
Кэй, как и он, – крошка и, как и он, не хотела дружить с материнскими эквивалентами Коди Кэмпбелла и Эмбер Битбугер. Но, в отличие от Деминя, у Кэй не было друзей, не считая коллег из Карлоу. У него хотя бы был Роланд.
Вместо друзей у Кэй и Питера были книги, которые они читали в постели перед сном. Они оставляли друг другу на подушках статьи, вырезанные из новостных журналов, с подчеркнутыми абзацами и заметками на полях: «Думаю, тебе понравится»; «Сразу вспомнился наш разговор!»; «Представляешь?!» Высокие шкафы в гостиной были забиты книжками в твердых обложках на такие темы, как война, экономика и избирательная коллегия. Самым интригующим во всем доме был музыкальный центр из недолгих холостяцких дней Питера – с горчично-желтыми динамиками, серебряным Hi-Fi-тюнером и предметом особой гордости – граммофоном, завернутым в мягкую ткань. В шкафчике под граммофоном хранилась скромная коллекция пластинок, а также штучка, похожая на ластик, для очистки пластинок.
Однажды днем Деминь был дома один. Он присел перед центром и, взяв себя на слабо, открыл дверцу шкафчика. Обложки альбомов встретили пульсирующими красками – названиями групп, которые он никогда не слышал, а в картонных конвертах лежали твердые черные диски, гладкие и скользкие, с кольцами, как у деревьев с другой планеты, если распилить их ствол.
Увидев, как на подъездной дорожке показалась машина Питера, Деминь закрыл шкафчик.
Питер сложил сумку на диван.
– Как сегодня школа, Дэниэл?
Деминь встал с пола.
– Нормально.
– Хочешь выбрать пластинку, послушаем?
Чувствуя на себе взгляд Питера, Деминь снова открыл шкафчик. Достал альбом, который только что держал в руках, – Are You Experienced Джими Хендрикса: слова глядели с психоделической усмешкой, у букв будто бы выросли пальцы и ноги. На обложке был черный человек с двумя белыми.
– Держи за края. Поверхность царапать нельзя. – Питер поднял крышку граммофона, Деминь положил диск, тот медленно закрутился, и с решительным треском опустилась игла.
Питер одним круговым движением выкрутил звук. Потом раздались вступительные ноты. Музыка заполнила комнату цветом, вдарила с улыбкой. Деминь завис над динамиком. Питер повернул ручку громкости еще, и они замерли, упиваясь звуком.
– Что… – Кэй стояла с ключами от машины в открытой двери, и Деминь почувствовал, как по дому струится сквозняк, словно его обдували гитары. – Ну очень громко, – сказала она.
Питер сделал потише и, когда Кэй вышла, сказал Деминю: «Твоя мама не ценит музыку, как мы с тобой».
Деминь слушал Are You Experienced после школы в старых наушниках Питера – пухлых, серебряных, с завивающимся черным проводом, лежа на полу гостиной. Он считал удары сердца в короткие паузы между песнями, смаковал сладкий зуд, когда игла падала и из-за занавески выглядывала мелодия. Пластинка была солиднее, но в то же время более хрупкой, чем компакт-диски. Пластинку полагалось беречь, ее круговые царапины были таинственным языком, необъяснимой татуировкой. Деминь ходил по коридорам школы Риджборо, пока в голове кружили бешеными петлями тексты: «Hey Joe, where you going with that gun in your hand?» Он переводил слова на фучжоуский и посмеивался, когда на него глазели одноклассники. Он повторил строчку на мандаринском, когда мимо прошли восьмиклассники, и те переглянулись и сказали: «Что за?» Наушники поставляли образы и ноты прямиком в кровеносную систему. От натянутого напора барабанов привставал член.
Как же он скучал без музыки, как по ней изнывал! Город был одной сплошной песней – яркой, бесконечно переливающейся, неохватным танцевальным миксом из бита автобусов, барабанов поездов и стереодвижения, а в Риджборо ее отсутствие било по ушам; пока он не нашел пластинки, он включал в комнате маленькие радиочасы и подставлял к окну, чтобы поймать слабый сигнал со станции, где играли трескучую техно-музыку, или с той, откуда раздавалась испанская музыка, но прием был пунктирным, песни то и дело обрывались. В Риджборо не хватало звука на яркие цвета – только на слабые, самые расплывчатые.
Питер подарил ему маленькие наушники-капельки и записал пару дисков. Кэй отдала свой старый дискман и пачку батареек. Деминь предпочитал старые наушники Питера, потому что они надежнее отгораживали от мира. В паре с саундтреком безликие улицы и огромные деревья становились смехотворными, а сам он – экшен-героем, а не брошенным мальчиком, и планета Риджборо взрывалась. Платиновые цветы морфировали в скачущие линии и танцующие треугольники, электрически-синие барабаны перемежали шоколадные басы, приправленные липкой оранжевой гитарой, бирюзовым вокалом, взбитым в густую маслянистую глазурь. Он слушал и переслушивал, слушал и переслушивал. Шагая по Оук-стрит, он закрывал глаза и представлял, что он в городе с матерью. Она была похожа на него, он – на нее, они – на всех остальных, кого видели на улицах и в поездах. В городе он был просто еще одним ребенком. Он даже не подозревал, как это изматывает – бросаться в глаза.
На следующий день он вернулся домой, думая, что там, как обычно, никого не будет, но, открыв дверь, услышал голоса. Перед телевизором в гостиной сидела Кэй, макала яблочные дольки в банку арахисового масла. По телевизору шла мыльная опера – женщина бранила девушку перед окном, выходившим на пляж.
– Телевизор препятствует умственному развитию, – сказал Деминь. Это он подцепил от Питера и Кэй.
– Хоть кто-то меня слушает. Я сегодня не выдержала и сбежала пораньше. Только никому не говори. – Кэй похлопала по дивану. – Сейчас узнают, что они замужем за одним и тем же человеком. Посмотри со мной. Поешь яблоко с арахисовым маслом. Вместе замедлим умственное развитие и побудем безмозглыми идиотами.
Деминь пристроился рядом, наслаждаясь шумом. Лихие клавишные в рекламе чистящих средств омывали его радужными волнами. Диван был клетчатым, лесного зеленого цвета, его подушки – гладкими и блестящими.
– Как в школе?
– Хорошо.
– Хочу поговорить с миссис Лампкин, чтобы тебя подтянули по математике. Давай после ужина вместе сделаем твою домашнюю работу.
– Ненавижу математику, – сказал Деминь.
– Она не такая уж сложная. Я знаю, что ты можешь справиться. Надо просто перешагнуть мысленный барьер, который говорит: «Ненавижу математику. У меня ничего не получится».
– Но я ее ненавижу и у меня ничего не получается.
Кэй просунула в банку яблоко, соскребая арахисовое масло с пластмассовых стенок.
– Моя мама верила, что девочкам математика не дается от природы. И вообще учеба. Она до сих пор не понимает, чем я занимаюсь. А отец меня поддерживал, но все думали, что это твой дядя Гэри поступит в колледж и найдет уважаемую работу – в бухгалтерии или фармацевтике. Но Гэри и школу с грехом пополам закончил. Теперь трудится в «Хоум Депо» под Сиракузами. В этом городе я выросла – еще съездим туда на День благодарения. Он разводился два раза.
– А что такое «Хоум Депо»?
– Большой магазин, где продают инструменты и доски. – Она хрустнула яблоком. – Родители давили на Гэри. На нас обоих. Знаешь, и на отца твоего в детстве давили его родители. С самого раннего возраста. Его отец был уважаемым адвокатом, который хотел передать свое дело наследнику. А твой отец хотел больше путешествовать, повидать мир. Он получил стипендию в Университете Беркли, в Калифорнии. Но родители его не пустили. Сказали, что он должен поступить в Дартмут, потому что там учился его отец. И бунтом Питера было уйти в науку, а не в право. Твой дед его за это так и не простил. – Кэй скрестила ноги по-другому – правая поверх левой. – В общем, наверно, я хочу сказать, что это может быть внутренней проблемой. То есть тебе когда-то сказали, что тебе не дается математика или даже что тебе вообще не дается учеба. Так что надо сказать себе: «Слушай внимательно, это неправда».
Деминь зачерпнул арахисовое масло указательным пальцем. Мыльная опера сменилась рекламой с яркой извилистой музыкой: два ребенка с родителями бежали к замку, пока рядом с ними скакали большие животные и взрослые в костюмах ростовых кукол. Появилась надпись «Дисней-Уорлд – волшебное королевство. Орландо, Флорида».
Арахисовое масло повисло на пальце, пока он таращился на экран. Мать хотела свозить его в «Дисней-Уорлд».
– Хочешь туда? – спросила Кэй.
Может, она прямо сейчас смотрит на замок, вместе с Томми.
– Нет, – сказал он. – Это фигня.
– Ну и слава богу.
К октябрю Деминь был на полсантиметра выше, чем в августе, согласно отметкам, которые Кэй оставляла карандашом на стене столовой. Когда он смотрелся в зеркало, его подбородок казался более волевым, брови – пушистее. Он не знал, можно ли еще в его лице узнать мамино. Не осталось никаких фотографий, никаких свидетельств.
Мать Роланда, мисс Лизио, тоже работала в Карлоу, в отделе кадров – Деминя постоянно сбивало с толку это выражение. Она оставляла для них с Роландом печенье из магазина «Фуд Лайон» и бутылки с соком. Дома у Роланда они могли смотреть триста кабельных каналов, но вместо этого играли в GTA 2.
Когда Деминь показал Роланду свой дискман и поставил ему Хендрикса, GTA тут же было забыто. Целый месяц они по воскресеньям слушали кассеты из обувной коробки, которую оставил покойный Роланд Фуэнтес-старший. В комнате Роланда они перематывали жизнь его отца на старом кассетнике, спорили, что лучше: петь или играть на гитаре, Оззи в одиночку или с Sabbath (Деминь, приверженец классики, обеими руками был за Black Sabbath). Когда Роланд родился, его маме с папой было по двадцать лет, – они встретились в колледже, переезжали в округ Колумбия и в Монреаль, пока их как-то не занесло в Риджборо, – и Роланд с Деминем слушали записи Адама Анта, Ramones, Clash, AC/DC, Ван Халена, Pixies, New Order, Jane’s Addiction. Оттуда всего несколько часов поисков в интернете до похожих групп. Каждая песня становилась открытием; у них не было никакой подготовки в музыке и к музыке.
– Какая зеленая, – сказал Деминь, когда они слушали микстейп, который мать Роланда записала для его отца еще до рождения Роланда, с коллажем из журнальных вырезок вместо обложки и подписью «Красивая жизнь».
– Ага, – сказал Роланд. – Вообще крутизна.
– Нет, зеленая. Здесь гитара цвета травы.
Не было времени, когда звук, цвет и чувства не переплетались, когда грязные напористые басы не пронизывали его насыщенным удовлетворением, когда оттенки некоторых переходящих друг в друга аккордов не распыляли перед глазами пастель, от которой казалось, будто он держит в пригоршне крошечную золотую птичку. Не только музыка, но и грохочущие поезда и грозы, случайные голоса, всеобщий шум. Перед ним появлялись краски и текстуры, скакали под ритм, или в голове мелькал цвет – инстинктивное ощущение тона, естественное, как дыхание. От конфетно-красного органа «Вурлитцер» его подташнивало, но ему было противно даже представить, что тот может быть какого-то другого цвета. Особенно жуткий джингл из рекламы салона подержанных автомобилей вызывал злющее столкновение зеленых оттенков, и было одно лето, когда он вообще не мог включить телевизор – так боялся, что его подстерегает этот джингл. Двустрочный припев, который он слышал из бумбокса на Фордем-роуд, в такой полноте воссоздавал плещущую синеву реки в Минцзяне, что песня мучила его годами, пока он не нашел ее и не заслушал до тошноты. Он узнает, как творить музыку, подбирать тона под оттенки и переводить обратно в мелодию. Самый чистый и беспомощный способ общения. Он создаст песни, которые передадут ровно то, что он хотел сказать, но при этом только он один их будет понимать. Весь мир услышит просто звук. Все его усилия вечно будут тщетны; этот дар будет принадлежать ему одному.
Деминь охотился за музыкой с голодом, перераставшим в отчаяние. Почему у остальных нет той же потребности? Как Кэй могла предпочитать слушать в машине низкие модулированные голоса NPR, когда легко могла включить ревущий мир Хендрикса, или острые углы Принса, или солнечный луч Боуи (вода – вот что видел Деминь, когда слушал Sound and Vision: вода-вода-вода)? Когда он вырастет и станет ездить на собственной машине, ни за что не будет таким скучным. Слушать запоем хорошую песню даже лучше, чем слопать целую пачку маленьких «Херши» с шоколадом «Мистера Гудбара», молочным, карамельным и особым темным (был один славный денек в Бронксе, когда мам не было дома и они с Майклом сделали именно это). Музыка была сама по себе языком, и она скоро станет его третьим: от малого септаккорда к большому мажорному и малому минорному – также щемяще сладко, как сменять китайские тона. Американский английский – разболтанные большие квинты; фучжоуский – гнутые септы и нонаккорды.
По дороге домой он выдумывал названия групп, набрасывал обложки альбомов и тексты песен: «Борись со сливом» от «Туалетных вантузов». «Я подстрелил “Фуд Лайон”» от «Дампкина и Мура», «Мозги на колу» от «Некромании». Роланд пришел в восторг, когда Деминь показал ему свой список, потом разрисовал названиями несуществующих групп тетрадки и, когда другие об этом спрашивали, изображал шок и говорил: «Вы что, не слышали про эту группу?» Все качали головой. «Эй, Дэниэл, у тебя уже есть новый альбом “Некромании”? Мне нравится их первый трек “Мозги на колу”. Посреди коридора, за углом от кабинета директора Честера, Роланд вопил текст Деминя: «Мозги на колу / Ням-ням-ням / Сердце на колу / Эта чертова боль». Деминю хотелось поправить Роланда. Сердце на ноже, а не на колу. «Слышал, в следующем месяце они играют в “Данкин Донатс”, – говорил вслух Роланд, не обращаясь ни к кому конкретному. – “Некромания”! Пора брать билеты. Скорее, а то раскупят».
Коди Кэмпбелл, который играл с Роландом в футбол, подошел в классе к Деминю и сказал:
– Я слышал, ты играешь в группе. Группе Роланда. «Некро… мания».
– Это моя группа, а не Роланда, – ответил Деминь. – Это я ее придумал.
В ноябре Питер и Кэй спросили у Деминя, что он хочет в подарок. «Электрогитару», – сказал он. На утро двенадцатого дня рождения он проснулся и нашел на прикроватном столике каталожную карточку с подписью почерком Питера: «Пора сыграть Хендрикса».
– Это поиск сокровищ, – сказал Питер, хлопнув в ладоши. – Идешь в место, на которое, как тебе кажется, намекает карточка, чтобы найти следующую подсказку, и т. д. Подсказки приведут тебя к подарку.
– Это традиция Уилкинсонов, – сказала Кэй. – Каждый год на наши дни рождения мы устраиваем друг для друга поиск сокровищ. В мой последний день рождения твой отец привел меня по подсказкам в ресторан рядом с Сиракузами. Теперь твоя очередь.
Деминь спустился на первый этаж и поднял крышку граммофона. На нем была еще одна карточка, с надписью: «Какое слово идет по алфавиту после “сюрприз”?» Он достал с полки словарь и пролистал страницы, пока не выпала следующая карточка.
Обойдя бельевой шкаф, сервант и посудомойку, он дошел по подсказке «Убери носки» до корзины с бельем для стирки и открыл ее, где и нашел коробку в серебряной обертке с бантиком. Большую, но не размером с гитару.
Он принес ее в свою спальню.
– Открывай! – воскликнул Питер.
Это был новенький ноутбук, белый, блестящий.
– Весь твой. – Кэй поцеловала его в щеку. – С днем рождения, Дэниэл.
Деминь прорвал обертку ногтем. Пленка липла к картонке, потом медленно развернулась. Он открыл коробку, поднял крышку компьютера и включил, жалея о том, что рядом нет Майкла, чтобы посмотреть вместе видюшки, чтобы вообще увидеть всё: ноутбук, пластинки, кассеты, дискман, город белых людей. Где Майкл, почему его нет? На праздничный ужин с Питером и Кэй он пригласил Роланда в «Каса Маргариту» в торговом центре на шоссе, где они ели фахитас и пили безалкогольные маргариты с бумажными зонтиками, торчавшими из ледяной каши. Официанты им спели, и Деминь задул свечи на торте-мороженом. Увидев ноутбук, Роланд прошептал с благоговением, от которого Деминь почувствовал гордость: «Какие у тебя крутые родители».
Когда Деминь не вспоминал о матери, он был вполне счастлив в Риджборо. Но его никогда не оставлял гложущий, скользкий холодок, напоминание, что нужно быть начеку. Временами страх уходил так далеко, что он забывал о его существовании; в другие времена так креп, что Деминь еле сдерживался, чтобы не завопить. Все эти люди были незнакомцами. Он не мог им доверять. Как в тот раз, когда в телесериале появилась китаянка-горничная – женщина в узком платье с аляповатым макияжем, с исковерканной версией мандаринского, – и Кэй замолкла, и тишина в комнате была такой громкой, что казалась ему темно-красным занавесом. Кэй покраснела и быстро переключила канал, болтая о зиме и лыжах, пока по телевизору играла реклама с блондинкой, которая ставила в микроволновку тарелку с рыбными палочками. Если бы здесь были Леон, мама и Вивиан, они бы все вместе посмеялись над китайской горничной, пошутили про то, из какой она провинции, как нашла такую работу. Или еще был случай, когда Кэй попросила его сбегать в «Фуд Лайон» за литром молока, пока сама ждала в машине, и Деминь мог поклясться, что кто-то рядом изобразил звук из фильмов про кунг-фу: «Ки-йя!» Он рассказал об этом Кэй, она ответила: «Может, тебе послышалось? Может, кто-нибудь что-нибудь пел или рассказывал другу про фильм?» Или когда они ели паршивую китайскую еду навынос дома у Роланда – мокрую курицу в термоядерном красном соусе – и Роланд тыкал в кусочки мяса и спрашивал, что это, а его мать шутила, что это кошатина или собачатина, что она видела там хвост, а Деминь чувствовал испуг, чувство вины. «Осторожней. Они не на твоей стороне. Очень важно быть сильным».
– Можно в следующем году гитару? – Они ехали домой из «Каса Маргариты» после того, как подвезли Роланда. Если бы у него была гитара, они с Роландом могли бы организовать настоящую группу.
– Не будем увлекаться, – сказал Питер. – Музыку хорошо слушать как хобби, но тебе нужно сосредоточиться на учебе.
– А если оценки станут лучше?
– Тебе нужно быть ответственнее, Дэниэл. Не проси большего, если не умеешь быть благодарным за то, что уже имеешь.
– Я благодарен.
Кэй обернулась.
– Сперва насладись ноутбуком. Живи моментом.
Они снова говорили в постели.
– Он получает двойки и тройки, – сказал Питер. – Надо поискать репетитора. Студента из Карлоу.
– Хорошая идея, – ответила Кэй.
– Ему нужно больше стараться.
– О боже, иногда я смотрю на него и думаю: что мы делаем с двенадцатилетним китайским мальчиком? В Риджборо? Джим и Элейн – они хотя бы живут в Нью-Йорке. Как нам в голову взбрело привезти сюда ребенка из Китая? Недавно Дэниэл сказал, что слышал в «Фуд Лайоне» что-то, не знаю, расистское. Я пришла в ужас. И теперь каждый раз, когда мы выходим из дома, я вся в подозрениях. Люди смотрят на нас потому, что я блондинка, а он – брюнет? Или из-за чего-то другого? Впадаю в паранойю.
– Мы учимся, мы учимся.
– То есть, может, надо готовить китайскую еду? Или снова взяться за мандаринский? Не хочу быть такой, знаешь, белой до мозга костей…
– Ты всё делаешь правильно. Воспитывать приемного ребенка непросто. Это большая перемена в нашей жизни, ко многому нужно приспособиться.
– Не то слово. Иногда мне хочется, как в былые времена, засесть и писать целый день, но мы нужны мальчику и мне надо ему готовить, покупать одежду, оставаться любящей, заботливой и терпеливой, чтобы ему не стало еще хуже, чем сейчас. Боюсь, я уже старовата, чтобы учиться быть матерью, которая посвящает ребенку себя без остатка. Пусть даже приемной матерью.
– Ну, если ты старовата, то я совсем старик, – ответил Питер. – Знаешь, недавно на собрании Уилл Панов сказал, что Дэниэлу с нами повезло, а мы с тобой смелые, что взяли взрослого мальчика. Я ему ответил: «Это нам повезло, что он нас терпит».
Кэй вздохнула.
– Знаю, ты хочешь подбодрить, но у мужчин все по-другому. Сколько я перечитала книг об этом завышенном американском ожидании к матерям, о настоящем мученичестве, но в жизни всё оказывается еще хуже, чем я думала. Ты-то работаешь, сколько хочешь, и не чувствуешь угрызений совести. Тебя по-другому воспитывали.
– Думаешь? Мне кажется, уж я-то разбираюсь в семейных ожиданиях.
Настала продолжительная пауза. Наконец Питер сказал:
– Может, это прозвучит черство, но серьезно: что бы мы ни делали – это всяко лучше того, как он жил раньше. Помнишь, что нам сказали в агентстве? И его мать, и отчим уехали обратно в Китай. Мы его первый стабильный дом.
– Знаю, но мне всё кажется, будто я живу, не чувствуя под собой почвы. Тетя всё еще может вернуться. Какое будет облегчение, когда ситуация наконец решится, так или иначе.
– Мы всё узнаем в следующем месяце, на слушании.
– Я хочу относиться к нему как к собственному сыну, а не просто приемному, но всегда есть риск, что его заберут.
– Помни, Джейми сказала, что вероятность апелляции очень мала – его семья не дает о себе знать. И через шесть месяцев мы можем начать оформление.
Обратно в Китай? Оформление? Кто такие Джим и Элейн? Если его мать куда-то и уехала, то во Флориду, а не в Китай. В спальне, в темноте, Деминь не дышал, прислушивался, скажут они про нее или нет, знают ли они про нее то, чего не знает он. Они от него что-то скрывали. Хорошо, что он им не доверял.
– Ты читал сегодня ту статью в газете? – спросила Кэй. – О брошенном ребенке на автовокзале в Буффало? Уверена, у его матери были на это причины – психические проблемы, финансовые трудности.
– Важно только то, что сейчас мы заботимся о Дэниэле, – сказал Питер. – А не то, что мы не азиаты, не китайцы или кто там.
– Но тебе не кажется, что мы к этому не готовы? Хоть и планировали уже много лет.
– О да, можно прочитать хоть все книжки до единой и всё равно не быть готовым.
– Я постоянно думаю о его матери, хотя, наверно, зря, – сказала Кэй. – Как она выглядела? Как ее звали? Я же не могу спросить Дэниэла. Он и слова не скажет. Уверена, это что-то культурное, но все-таки кажется, что он нас боится.
– Так будет не всегда.
– Надеюсь. Мы будем любить его так сильно, что всё станет хорошо.
– Задавишь заботой, что ли?
– Давить никого не будем, – сказала Кэй. – Я ответственный водитель.
Деминь ждал, что они скажут что-нибудь еще, но они замолчали.
Кэй ошибалась. Он ее не боялся. Он боялся узнать, что на самом деле случилось с его матерью.
Роланд спросил прямо – произнес слово, которое не произносил больше никто.
– Странно быть приемным? Уилкинсоны собираются усыновить тебя совсем?
Они шли домой из школы по Хиллсайд-роуд, мимо библиотеки Риджборо и методистской церкви, по ухабистому от древесных корней тротуару.
«Усыновить». На китайском было похожее слово, но Деминь всегда думал о своей жизни с Питером и Кэй как о чем-то расплывчато временном, как он расплывчато временно оставался с йи гонгом. Даже имя «Дэниэл Уилкинсон» казалось костюмом, который он проносит неопределенный период, пока не вернется к настоящему имени, на родную планету. Но где его родной дом, уже было неизвестно.
– Странно, – ответил он.
– Скучаешь по настоящей маме?
– Ага.
– Я как бы скучаю по папе, хоть его и не помню, – они остановились на углу. – Зайдешь?
– Я вспомнил, что обещал помочь маме кое с чем.
Деминь пробежал три квартала обратно до Оук-стрит. Он знал, что у него оставалось добрых полтора часа до возвращения Питера и Кэй. Он принес ноутбук в кабинет и включил онлайн-словарь:
Патронатный ребенок – ребенок под временной опекой людей, не являющихся его биологическими или приемными родителями.
Усыновление – процесс, благодаря которому человек становится родителем ребенка и перманентно принимает все права и обязанности биологического родителя или родителей. Усыновление создано для перманентного изменения статуса с юридическим обоснованием.
Он не сразу разобрался в терминах, но когда разобрался, казалось, что компьютер начал расширяться на глазах.
Временно. Перманентно.
Он выдвинул ящик картотеки рядом со столом – длинную металлическую полку с папками для документов по налогам, на собственность и исследованиями для книги Питера про что-то под названием «свободная торговля». Между «Работой Кэй» и «Страховкой жизни» была толстая папка «Усыновление/Патронат». Деминь тянул, пока папка не подалась и не просыпала содержимое на пол.
Этого не может быть. Он сел на коврик и взял цветную брошюру под названием «Дар жизни: ваш ребенок ждет вас». Всюду были размытые фотографии детей с большими влажными глазами и взрослых, которые держали в руках младенца с другим цветом кожи. Эти дети, гласили подписи, родом из Эфиопии, Румынии и Китая. Брошюра рассказывала о том, как международное усыновление нежеланному ребенку дарило дом, а приемных родителей благословляло собственным ребенком.
Он высыпал остальную папку, прислушиваясь к первому этажу – шагам или хлопающей входной двери. Пробежал глазами по распечатке имейла больше чем четырехлетней давности:
Дорогая Шэрон,
В прошлую субботу я с мужем Питером посетила международный семинар «Дар жизни». После многолетних попыток решить проблему бесплодия нас весьма заинтересовала возможность стать родителями – и как можно скорее! Мы женаты больше двадцати лет и более чем готовы к созданию полноценной семьи. Наш любящий дом в Риджборо готов принять ребенка.
У нас есть хорошие друзья, воспитывающие китайского ребенка, так что нам знаком процесс и мы бы тоже хотели усыновить ребенка из Китая. Я знаю, что некоторые страны пренебрежительно смотрят на «старших» родителей без опыта (нам с Питером обоим по сорок шесть лет). Мы не против усыновления ребенка старшего возраста, поскольку знаем, что их тоже трудно «пристроить» (всё как с нами, «старшими» родителями»). Мы с Питером много путешествовали и оба преподаем в вузе, так что имеем опыт работы с молодыми людьми. Нам кажется, что международное усыновление нам подходит.
С нетерпением жду ответа.
Искренне ваша,
Кэтрин С. Уилкинсон
Он видел медицинские справки, справки из полиции об отсутствии криминального прошлого, о проверке биографии, о том, что дом Уилкинсонов безопасен для ребенка, и имейл от директора «Дара жизни», где говорилось, что из-за новых ограничений стран-отправителей на международное усыновление Кэй и Питеру лучше задуматься об отечественном усыновлении или переходе к усыновлению после патронатной опеки. Он листал характеристики от соцработников, заявлявших, что Уилкинсоны – профессионалы с многолетним стажем, финансово и эмоционально готовые стать любящими родителями, и бумаги, где говорилось, что они прошли обязательные обучающие курсы и получили сертификат на усыновление. Увидев пачку с подписью «Отчет о первом слушании по оформлению перманентной опеки: дело Деминя Гуо», он остановился. Отчет был датирован двумя месяцами ранее. Некоторые предложения ему пришлось перечитывать, но в конце концов он всё понял, хоть уже и жалел об этом:
Биологическая мать и предположительный отец бросили ребенка шесть месяцев назад и вернулись в Китай. Опекун В. Чжен подписала заявление об отказе от прав.
После промежуточного попечения в Бруклине ребенка передали под патронатный уход Уилкинсонов ввиду заявления К. Уилкинсон о навыках общения на мандаринском языке.
Патронатные родители планируют подать заявление на лишение матери родительских прав на основании оставления ребенка и уклонения от выполнения обязанностей.
Возможности воссоединения с биологической семьей на данный момент не существует.
Ожидаемая цель текущего этапа – устройство ребенка в семью на перманентной основе.
Было еще множество и-мейлов и документов, стопок справок и непонятных анкет, но Деминь не мог заставить себя их читать, да еще Питер и Кэй должны были вернуться домой с минуты на минуту. Он сунул бумаги обратно в папку, потом впихнул папку в картотеку и задвинул ящик.
Лишение прав. Перманентно. Мать его бросила. Она вернулась в Китай. Его тошнило. Он закрыл браузер. Ноутбук казался гротескным – слишком большим и новым.
За ужином он спросил, усыновлен ли он.
– Ну, прямо сейчас мы считаемся твоими патронатными родителями, – ответила Кэй. – Это значит, что ты живешь с нами, как любой ребенок живет со своей семьей, потому что тебе где-то нужно быть. И нам бы хотелось, чтобы ты и дальше оставался с нами сколько пожелаешь. Мы бы хотели тебя усыновить. А ты хочешь?
Деминь пожал плечами.
– Это произойдет не сразу, – сказал Питер. – Может занять много времени.
– Но что случилось с моей настоящей семьей? – спросил Деминь.
– Мы твоя настоящая семья, – ответил Питер.
– Твоя мама хотела тебя воспитывать, но не может, – нахмурилась Кэй.
Стол затуманился, еда потеряла вкус.
– Значит, она меня бросила. – После того как он услышал разговор Питера и Кэй в спальне, он ждал, что они скажут ему что-нибудь о матери. Но они по-прежнему вели себя так, словно всё хорошо.
– Она тебя любила. – Кэй сложила салфетку по-новому.
– И мы тоже тебя любим. – Питер встревоженно переглянулся с Кэй.
– Я видел, – сказал Деминь.
– Что видел? – спросил Питер.
– Неважно.
Мама ушла перманентово. Вивиан врала, что скоро за ним вернется. Лицо горело, свет на кухне был слишком ярким, а паркет – слишком широким и деревянным. Саундтреком ДУИЛ стала одна песня на повторе – микс из «оставление» и «перманентно». Голова закружилась, он почувствовал себя в аммиачном запахе коридоров, сине-серых полов и мятых металлических шкафчиков школы № 33.
– Дэниэл, ты какой-то усталый, – сказала Кэй. – Тебе нехорошо? Не хочешь отдохнуть?
Деминь уперся рукой в стол, чтобы сохранить равновесие. Кэй прижала пальцы к его лбу.
– Питер, у него жар. Наверное, грипп. Сейчас в Карлоу эпидемия, у меня половина студентов болеет.
Питер укусил кусочек курицы.
– Дэниэл, иди к себе и ложись.
– Он не может встать, – сказала Кэй. – Отнеси его.
Питер отложил вилку и нож. Встал и поднял Деминя – сперва одну ногу, потом вторую, – и отнес вверх по лестнице, кряхтя от усилий. Деминь обнимал Питера руками за шею, ногами – за талию. Поступь Питера была медленной и неуверенной, каждый шаг – безмолвная борьба.
Одиннадцать утра, а они в дороге уже почти пять часов. Питер ударил руками по рулю, когда машина резко встала на магистрали ФДР, застряв за грузовиком с чипсами и желтым такси. Деминь на заднем сиденье считал съезды. Ни одно шоссе по пути из Риджборо не показалось знакомым, и он искал глазами среди билбордов рекламу мебельного, которую они с Роландом особенно любили, – магазина под названием «Король Диванов».
Уилкинсоны отправились в первую семейную поездку в Нью-Йорк, в гости к семье Хеннингсов, у которых была дочь возраста Деминя. Кэй сказала, что он с ней подружится. «Поездка сейчас твоему отцу на пользу, – говорила Кэй. – Ему нужно взбодриться». Заведующей кафедрой экономики в Карлоу после осеннего ухода в отставку Уилла Панова предложили стать Валери Маклеллан. В день, когда Питер об этом узнал, Деминь видел, как он с красным лицом катил с тротуара пластмассовый бак для мусора. «Твою мать!» – заорал он, когда колеса уперлись в ветку на подъездной дорожке.
Деминь пытался вспомнить ту первую поездку на север с Кэй и Питером одиннадцать месяцев назад, когда они еще были незнакомцами. Сперва он выглядывал в окно, пытался запомнить дорогу, чтобы вернуться. Потом заснул. Теперь они уже не незнакомцы – они Кэй и Питер, мама и папа, и это последний день, когда он их увидит. Он уже привык, что взрослые разговаривают с ним громко и медленно, как будто он глухой, и уже не испытывал ужаса от того, что он такой один: ужас стал нормой. Он больше не фантазировал, что за ним вернется мама, но, углубляясь в город, на нависающие высотки он смотрел с комком в горле. Скользкий тротуар, свирепые сигналы машин, брызжущие пожарные гидранты, угрожающие зловонные лужи, влажный пар из решеток на тротуарах, будто у Земли одышка, твердый стук резины о бетон на баскетбольных дворах. Отвесный провал, когда проходишь у лежачей металлической двери подвального ресторана.
Стоял июль. Питер и Кэй подали заявление на усыновление, и, когда его одобрит судья, они все отправятся в суд подписывать документы. В прошлом месяце они купили Деминю желтый велосипед-внедорожник и шлем в тон, и они с Роландом катались по городу, исследовали улочки на окраинах Риджборо – до сих пор гравийные, без покрытия, с названиями вроде Бэйджор-лейн и Микер-роуд – улочки, которые он больше никогда не увидит. Деминь освоил езду на заднем колесе. Они с Роландом устроили себе сцену из пенька и по очереди прыгали с нее в невидимую толпу фанатов.
Он отвернулся от окна, но снова повернулся, когда они проезжали мимо знаков скоростной магистрали Кросс-Бронкс. Когда Кэй сказала, что они едут в гости к Хеннингсам, он впервые больше чем за месяц набрал номер мамы и услышал всё то же сообщение «Ваш звонок не может быть осуществлен». Но он собрал с собой лишнюю одежду.
Грузовик с чипсами сдвинулся с места. «Наконец-то», – сказал Питер. Деминь смотрел, как позади пропадают коричневые здания, выдохнул на стекло маленький кружок и стер влагу пальцем.
Перед серым многоквартирным зданием на Восточной 21-й улице звуки и краски вернулись. Кряхтенье спускающегося со склона автобуса. Саундтреки проезжающих машин. Хаус; старый трек с виляющими клавишными и словами о том, что пора оторваться от стены; песня на испанском с блестящими рожками и жирнющим басом тубы. Небо быстро заполнили яркие смазанные пастельные пятна. Здесь было жарче, чем в Риджборо, и Деминь медленно крутился по часовой стрелке, пораженный звенящими нотами ближайшего фургончика с мороженым, нерешительными и жалобными, напомнившими о радужных шербетных пуш-попсах, которые он ел с Майклом, – сладкой жидкости, от которой синели языки. Он так и слышал, как заходился от смеха Майкл, отрывистую фучжоускую речь мамы и Вивиан.
В него врезалась женщина, погруженная в телефон, и Деминь потер плечо. «Прошу прощения», – сказал мужчина, едва-едва их обойдя. Кэй попятилась.
Из входных дверей здания выкатился белый мужчина с зычным голосом и залысинами. Они с Питером шлепали друг друга по спинам так, будто пытались выбить еду, застрявшую в горле. Деминь никогда не видел Питера с другом, и ему зрелище понравилось.
– А это, стало быть, Дэниэл, – мужчина поцеловал Кэй в щечку и протянул Деминю руку. – Джим Хеннингс.
– Мы с мистером Хеннингсом вместе учились, – сказал Питер. – Соседи с первого курса.
– Уж мы-то с твоим отцом только и делали, что учились, – подмигнул Джим.
Швейцар придержал стеклянные двери вестибюля. Деминь вошел за Кэй в лифт, пока Питер и Джим поехали парковать машину.
– Двадцатый этаж, – сказал швейцар.
Деминь нажал на кнопку. Лифт прошел свой путь наверх и наконец открылся, пропуская их в большое, залитое солнцем помещение, где пахло свежим кофе. На столе теснились пустые винные бутылки, а между стенами был натянут баннер с буквами в блестках: «С днем попадания!»
Он осмотрел комнату. Единственным выходом, который он видел, был лифт, и он пищал, когда открывался. Придется дождаться, пока все не уснут.
В комнату заскочила девочка возраста Деминя – с волосами ниже плеч, с выглядывающими из-под ровной кудрявой челки глазами.
– Мама сейчас подойдет.
– Энджел, как ты подросла, – сказала Кэй и обняла девочку.
– Я Энджел Хеннингс, – сказала девочка Деминю. Она была первым человеком из Китая, которого он увидел за год.
– Представься Энджел, – сказала Кэй.
– Дэниэл, – сказал Деминь.
В комнату мягко прошлепала женщина в футболке и джинсах.
– Кэ-эй, – у нее были темные волнистые локоны, в которые вплетались жесткие белые волосинки, а голос казался закругленным и бархатным. Она напомнила Деминю корову из рекламы молока.
– Элейн, так рада тебя видеть, – обняла ее Кэй. – А это Дэниэл.
Элейн обвила Деминя руками. От ее волос пахло яблочным шампунем.
– Дэниэл, зови меня Элейн. В каком ты классе? В шестом, как Энджел?
– В седьмом, – сказал Деминь.
– В седьмом классе?
– Переходит в седьмой осенью, – ответила Кэй. – Средняя школа Риджборо.
Элейн выпустила его из объятий и пригляделась, отстранившись.
– Уже в средней школе?
Во рту у Деминя пересохло. В сентябре они с Роландом должны были попасть в один класс, но теперь он сомневался, что когда-нибудь пойдет в школу.
Динькнул лифт. Деминь услышал Джима:
– Английский у него, кажется, ничего такой.
– Как у обычного нью-йо-о-оркца, – сказал Питер, протянув по-нью-йоркски.
– Питер! – Энджел бросилась к нему с объятьями.
– Кто будет кофе? Я после вчерашнего на ногах не стою. Мамочке срочно нужна доза кофеина. – Элейн ушла на кухню, разговаривая на ходу. – Энджел всегда так рада своему Дню попадания. Ну и мы, конечно, с таким-то количеством вина. Жалко, что вы не успели.
– Знаю, знаю, мы очень хотели, – сказала Кэй. – Вчера мы бы не доехали – в выходные такие пробки. Но мы можем устроить День попадания для Дэниэла, и вы приедете к нам.
– Ой, обязательно устройте, – сказала Элейн, – просто обязательно.
– Ой, устроим, – сказала Кэй, разговаривая, как Элейн.
Деминь бросил взгляд на Энджел, но она скакала с ноги на ногу и смотрела на свою растяжку «С Днем попадания».
– Где я буду сегодня спать? – спросил он. Здесь был диван, от которого ближе всего до лифта.
– А, потом решим, – сказала Элейн. – Или устал? Хочешь прилечь? – он покачал головой.
– Элейн, – Энджел дернула мать за футболку. – Можно покажу Дэниэлу мою комнату?
Ее комната была куда меньше, чем у него, со светло-розовыми стенами, кроватью с розовым постельным бельем и изголовьем в виде сердечка, с разбросанной по незастеленным простыням одеждой и усеивавшими пол игрушками, плюшевыми животными в четыре ряда. Деминь проложил через футболки и носки путь до середины комнаты.
Энджел показала маленький розовый айпод с белыми наушниками.
– Хочешь послушать?
Они взяли по наушнику и сели на полу. В правое ухо Деминю вплыла музыка – тихие электронные ударные и скрипящий, обработанный женский вокал.
Энджел качала в такт подбородком.
– Когда твой день рождения?
– Восьмого ноября.
– А у меня нет настоящего дня рождения, потому что меня удочерили, но мы решили, что пусть будет пятнадцатое марта. А когда твой День попадания?
– Что такое День попадания?
– Не знаешь? Он есть у всех приемышей. Это как день рождения, но не день рождения. Это день, когда ты поселился у своей семьи навсегда.
«Попадание» звучало совсем не так весело, как «день рождения», как будто он кому-то попался или во что-то влип.
– Я еще не усыновлен. Я патронатный.
– Что это?
– Это как усыновленный, но более временно. – Деминь посмотрел на Энджел. Ее кожа была светло-коричневая, нос – широкий и приплюснутый. У нее не хватало одного зуба, который острый. – Тебе нравится Хендрикс?
– Кто?
– Джими Хендрикс. У него есть песня с названием, как твое имя. – Деминь отключил наушники и заменил ее айпод на свой дискман. Промотал до «Энджел» и завел. В ушах стали переливаться гитара и цимбалы, и он подпевал. «Завтра я буду с тобой». Потом он испугался, что Энджел подумает, будто он поет ей, будто она ему нравится. Нажал на «стоп».
– Нравится?
– Ничего так.
– Всего лишь, типа, величайший гитарист в истории вселенной.
Она открыла коробку, где лежала пожелтевшая пластиковая буква U.
– Хочешь посмотреть на мою капу? Приходится надевать на ночь, чтобы зубы были ровными. А то мне больно. У меня слишком много зубов. Один пришлось вырвать. – Он боялся, что она сунет пластиковую U в рот или – что еще более ужасно – заставит примерить его, но она закрыла коробочку и бросила на пол, где та приземлилась на плюшевого попугая.
Деминю хотелось рассказать Роланду, как он болтал с девчонкой, выставить все круче, чем было. Он записал телефон Роланда на бумажке; позже он позвонит и всё объяснит. То же самое придется сделать с Питером и Кэй.
– Когда тебя усыновят, спроси у своих родителей про День попадания, – сказала Энджел. – Тогда получишь кучу подарков. Подруга Лили мне подарила диск, а другая подруга Лили – футболку. У меня три подруги по имени Лили и еще одна по имени Джейд. Мы все из Китая.
Деминь поднялся. Из окна было видно крыши зданий пониже, женщину, поливающую цветы, загорающую парочку.
– Там север, – сказала Энджел. – Где Эмпайр-Стейт-Билдинг. Видишь, высокая?
– Я знаю, что такое Эмпайр-Стейт-Билдинг. И Бронкс тоже на севере. – Он не видел отсюда Бронкс, но подтверждение направления от Энджел помогло сориентироваться. У него был план.
– Бронкс далеко.
– Я там раньше жил.
– С Питером и Кэй?
– До того, как попал к ним.
– Я думала, ты родился в Китае, как я.
– Я родился на Манхэттене. Я отсюда.
Брови у Энджел сидели слишком близко – редкие, темные и подвижные. Деминь нашарил в памяти пропавшие мандаринские слова и рискнул:
– Когда ты приезжала, то думала, что это навсегда?
– Я не знаю китайский, – сморщилась она.
– А, – сказал он, раздавленный.
Кэй настаивала, чтобы он держал ее за руку. Это его работа – вести ее по городу, следить, чтобы с ней ничего не случилось. Их обогнала старушка с палочкой, и Деминь попытался ускорить Кэй. Питер плелся позади. «Давай, пап», – позвал он.
Деминь шел вперед, в кислую вонь от мусорных мешков на обочине, и, когда отвернулся, наступил в размазанную собачью какашку. Поскреб кроссовкой по тротуару. На угле улицы блондин с хвостом на затылке не мешал своему псу писать прямо на тротуар.
Они шли на обед в Чайна-таун, проходя мимо китайцев, чьи глаза поднимались от его лица к руке Кэй и к лицам Кэй с Питером, от лица Энджел – к лицам Джима и Элейн. Энджел не понимала по-китайски.
– Кэй, вот тут самые лучшие пирожки, – она показала на незнакомую Деминю витрину. Они явно были не очень далеко от Рутгерс-стрит.
– Тут раньше был киоск с бабл-ти, – сказал он.
– А здесь я занимаюсь танцем льва, – сказала Энджел. – Моего сифу зовут Стив, а наша труппа называется «Цветы Лотоса».
– Они нечто, – сказала Элейн. – Танец льва и танец с веерами – столько всяких танцев, все не упомнишь. Детям та-ак полезно воссоединяться со своей культурой. Благодаря этому они не забывают, что значит быть китайцами.
– Да, это та-ак важно, – сказала Кэй.
– Еще не поздно записать Деминя в лагерь, – сказала Элейн. – Это на последней неделе августа. Ему очень понравится. Там самые разные культурные активности для детей.
– Скинь мне про лагерь. Я как раз хотела тебя спросить.
Они прошли рыбный рынок с пластмассовыми аквариумами с крабами. В витрине висели две утки, поджаренные до коричневой корочки и липкие от соуса. Питер достал фотоаппарат и повозился с настройками. Навел объектив, потом нахмурился на экранчик.
– Эй, как насчет семейного снимка? – спросил Джим, забирая фотоаппарат у Питера. Энджел побежала к витрине, выставила ногу в позе.
– Красотка моя, Энджел, красотка! – сказала Элейн. – Давайте, Уилкинсоны!
Они собрались на тротуаре под жареной уткой и вспотевшей витриной, за которой человек в белом фартуке рубил мясо, пока Элейн обнимала сзади Энджел, а Питер и Кэй – Деминя.
– Как пользоваться этой штуковиной? – крикнул Джим, и Питер оторвался от них, чтобы помочь. Они передавали фотоаппарат из рук в руки. – Ладно. Всем улыбочку. Раз, два, три…
Деминь стоял рядом с Питером. На них глазели. Джим нажал на очередную кнопку.
– Еще разок. Дэниэл, хоть на этой улыбнись. Давай-давай, ты же в отпуске. Отпуск – это хорошо.
– Улы-ыбочку, – сказала Элейн.
Деминь выдавил улыбку.
– Сы-ыр! – пропела Энджел.
Кэй притянула его поближе.
– Всё хорошо, – прошептала она. – Можешь не улыбаться.
Но он улыбнулся, радостный, что она на его стороне.
В ресторане на Мотт-стрит официант дал им меню на английском, бросая взгляды на Деминя и Энджел. Начал раскладывать палочки, потом помедлил и достал вместо них приборы. Положил на стол перед Деминем блестящую металлическую вилку с водяным знаком на рукоятке.
– Мне, пожалуйста, палочки, – сказала Элейн.
– Мне тоже, – сказала Кэй.
– Палочки на всех, – объявил Джим.
Официант разложил палочки и принял заказы, а когда уходил, Деминь услышал, как он говорит с другим официантом на фучжоуском насчет того, чтобы сдвинуть вместе столы для большой компании. Слова били разрядами по спящему уголку его мозга. Скоро он всё время будет говорить на фучжоуском.
Блюда принесли быстро, и они оказались вялыми, разогретыми. Турнепсовый пирог, брокколи, дамплинги с креветками. Энджел натыкала дырок в своем дамплинге, одинокий завиток дыма показался безжизненным.
– Вкуснятина, – промурлыкала Кэй, накладывая в тарелку Деминю. Мясо на вкус казалось старым. Его мать ни за что бы не стала есть там, где так плохо готовят.
– Это нетуристическое местечко, – сказала Элейн. – Мы сюда ходим много лет.
Джим повернулся к Деминю.
– Ты, Деминь, небось, скучаешь по этому – по национальной китайской еде.
– Мы однажды ездили на Великую стену, – сказал Питер.
Деминь вспоминал темпуру и пад-тай, которые ковырял во время визита в ресторан со шведским столом в торговом центре. Владельцы даже не были китайцами.
– Да ладно, Великая стена не считается, – сказала Кэй. – Дэниэл это знает.
– Ну ладно, ладно, Риджборо не то чтобы Манхэттен, если речь об этнической еде, – ответил Питер. – Скорее уж культурная пустыня.
– Посмотри с другой стороны, – сказала Элейн. – Считай это культурным ритритом.
– Культурной сиестой, – сказал Джим.
– Но мы пробовали великолепную китайскую еду в гастропутешествиях по Ванкуверу и Лондону, – сказала Кэй. – Избаловались на всю жизнь.
Питер пережевал турнепсовый пирог.
– Вот ради чего мы приехали в Нью-Йорк.
– И ради нас! – сказала Энджел.
– С языка сняла. Это самое главное. Почти как дамплинги.
– Почти? – спросила Энджел. Элейн всплеснула руками.
– Ребят, а десерт? Будем сладкий фасолевый суп?
У их столика остановился официант.
– Что бы вы хотели? – спросил он на английском.
Не успела Элейн ответить, как Деминь сбивчиво выпалил на фучжоуском:
– Она говорит, что хочет хундоутан, у вас есть? – Он уже забыл удовольствие от метания гласных, восторженные выплески. Он знал, что сейчас его тона – чистейшая 3-я улица.
– Да-да, конечно, – сказал официант.
– Отлично, несите. Эти американские коровы хотят пару мисок.
– Будет.
Элейн опустила палочки.
– Он знает мандаринский!
Деминь ненавидел расплывшиеся улыбки и преувеличенные восторги Джима и Элейн; как они разговаривают с ним и Энджел, будто они маленькие детишки, и как Питер и Кэй словно ничего не замечают. У него было ощущение, что над ним издеваются, что в нем и Энджел видят развлечение.
– Это не мандаринский, – ответил он. – Это фучжоуский.
– Ну знаете, местный сленг, – сказал Питер.
– Дэниэл, – сказала Кэй. – Пожалуйста, не говори в таком тоне с миссис Хеннингс.
– Но она говорит глупости, – сказал Деминь. – Она глупая.
– Дэниэл! – воскликнул Питер.
– Но это не местный сленг. Это язык, называется фучжоуский.
Джим рассмеялся.
– Для нас, дурачков, все одно – китайский.
– Вы не знаете, – сказал Деминь. – Вам даже всё равно!
– Мне та-ак жаль, Дэниэл, – сказала Элейн. – Это я виновата, вечно путаю. Приняла за мандаринский, потому что учила его в колледже.
– Дэниэл, извинись перед миссис Хеннингс, – попросила Кэй.
– Извините.
– Он та-акой чувствительный, – сказала Кэй Элейн.
– Это ничего. Очевидно, учила я в доисторические времена, когда была молодой студенткой, – сказала Элейн. – Но моя основная специальность – Восточная Азия, так что надо было знать.
– Ой, – сказала Кэй, – ты как раз напомнила, я хотела попросить тебя поднатаскать меня с моим ужасным мандаринским. Дэниэл только и делает, что смеется, когда я пытаюсь говорить с ним по-китайски.
– Не смеюсь!
– Ну конечно, – Элейн улыбнулась Кэй. – Потом обсудим.
– Я в колледже учился на международных финансах, – сказал Джим. – Мы оба всегда очень интересовались Азией, так что казалось логичным взять нашу девочку оттуда.
– Мы ее не взяли, – сказала Элейн. – Мы уже были связаны красной нитью, – это она произнесла чересчур театрально. – Ты наверняка знаешь историю о красной нити, Дэниэл. Это древнее китайское поверье.
– Никогда не слышал.
– Поверье о красной нити! В нем говорится, что люди, которым суждено жить вместе, связаны невидимой красной нитью. Вот так и мы с Джимом и Энджел связаны красной нитью, так и нашли друг друга в нашей семье навсегда.
– Ты не знаешь про красную нить? – спросила Энджел.
– Я же сказал: «Никогда не слышал». – Его поражало, что Питер и Кэй то и дело поддакивают Элейн и Джиму. – Можно отойти на минутку?
В туалете он вымыл руки грязным мылом и посмотрелся в затуманенное зеркало. Он видел кожу как у Энджел, глаза и нос как у Энджел, волосы как у Энджел.
Он мог бы улизнуть прямо сейчас. Недалеко отсюда метро, а в кармане у него лежала пятидолларовая банкнота – более чем достаточно для билета. Он мог пробежать от Фордем по Юниверсити, проскользнуть в вестибюль и взлететь по лестнице, стучать как бешеный, пока дверь не откроют. Кто бы ни открыл, он так и завизжит при виде Деминя, начнутся сплошные крики и слезы. Там всё еще могут быть Вивиан и Майкл. Уже могли вернуться домой Леон и его мать.
Он выскользнул с семьей, собиравшейся уходить, – три поколения: дети, родители и йи гонг, – подстроился под их шаг и вышел на тротуар.
Услышал, как Кэй говорит: «Он расстроился, чувствует себя забытым».
И неестественный шепот Питера, который Деминь узнал благодаря тому, что прислушивался к нему из-за стены спальни: «Он привык, что получает все наше внимание».
Должно быть, они вышли из ресторана, пока он был в туалете. Питер заметил его первым.
– Дэниэл, вот ты где. Нас ищешь?
Игра окончена – сломленный, он подошел к Уилкинсонам, позволил Кэй взять его за руку и оказался между ней и Питером.
– Элейн с Джимом еще внутри, ждут сдачу, – сказала она.
Вышла Энджел, показала на него.
– Ты исчез.
Не будет никакого Бронкса, никаких звонков с объяснениями.
– Я ходил в туалет.
Энджел и Деминь сидели в спальне Энджел, пока взрослые пили вино в гостиной.
– Что случилось с твоей биомамой? – спросила она.
– Она собиралась во Флориду, и я должен был поехать с ней. Наверно, она вернулась в Китай.
– Элейн и Джим сказали, что нашли меня в приюте в Китае. Заплатили и получили меня, а я получила Барби и свою семью навсегда.
Деминь уже заметил Барби из серии «Возвращение домой» – неулыбчивую бежевую куклу с длинными светлыми волосами и пустыми синими глазами в пластиковой упаковке на полке рядом с кроватью Энджел. Она держала куклу-младенца в вытянутых руках так, будто он чем-то болен. У младенца были черная челка и прямоугольные черные глаза – по задумке, видимо, китайские, – а на коробке были рисунок с белым домиком и заборчиком и надпись: «Добро пожаловать домой!»
– Она коллекционная. У моей подруги Лили такой нет, потому что ее родители жили в другом отеле, когда ездили в Китай. Ее мама так злилась.
Деминь толкнул ногой плюшевого тигра.
– Ты правда в это веришь? В красную нить и всё такое?
– Не знаю. Наверно.
– Это фигня.
– Да? – не торопилась с ответом Энджел.
– Фиг-ня, – он поерзал под мертвым взглядом Барби.
– Тебе жарко? Я попрошу Элейн сделать кондиционер посильнее.
– Может быть, моя настоящая мама живет в Бронксе.
– В смысле, прямо сейчас?
– И, может быть, мой йи ба тоже. Или тетя, или брат – двоюродный.
– Поехали.
– Как?
– Я знаю как.
Он залез в карман.
– У меня есть пять баксов.
– Погоди. – Энджел стала пробираться через комнату, и Деминь пристально за ней следил. Если она собиралась на него наябедничать, позвать Питера и Кэй, он на нее набросится. Это несложно – он крупнее ее. Он пружинил на ногах, наготове, пока она копалась в шкафу и наконец достала розовые чулки.
– Дэниэл, – сказала она. – Смотри. – Внутри чулок оказалась пачка двадцатидолларовых банкнот. Деминь со смехом опустился на пятки. – Я их сперла у Джима, – сказала Энджел. – Ему всё равно.
В квартире Хеннингсов не было ни комнаты для гостей, ни кабинета, так что Кэй и Питеру пришлось умещаться на надувном матрасе в комнате Энджел, а Энджел и Деминь переехали на пол большой комнаты, поджидая, пока Элейн и Джима одолеет похмелье после Дня попадания, а Питера и Кэй – ранний подъем. Когда из обеих спален послышался храп, они напихали под одеяла полотенца и отправились на выход. Энджел – со своими ключами в розовой пластиковой сумочке – ввела код, чтобы отключить сигнализацию, а Деминь с рюкзаком в руке закрыл за ней. Он подавил желание шепотом попрощаться с Питером и Кэй. Они спустились не на лифте, а по лестнице, все двадцать этажей, и выскочили в служебный выход. На углу Энджел поймала такси. Деминь предполагал, что они поедут на метро, но Энджел сказала, что у нее всё схвачено.
– Мы едем в Бронкс, – сказала водителю Энджел. – Родители дали нам деньги.
– Угол Юниверсити и Западной 190-ой, – сказал Деминь. – Там моя семья, – стоило это произнести, как он почувствовал, что внутри растет холодный комок. «Ваш звонок не может быть осуществлен», – шептал этот комок. Но она бы его не бросила. Таксист возился с радио. – Сделаете музыку погромче? – попросил Деминь, и машину наполнили барабаны. Деминь твердил про себя «мама, мама, мама» и говорил водителю, куда ехать, когда они свернули с шоссе и попали в Бронкс, – и вот вечный светящийся знак «Кентукки Фрайд Чикен», тени от путей метро и щемящий вид тротуаров, поднимающихся за угол. Магазины обуви, алкоголя, продуктов. Всё было точно таким же. Эти одиннадцать месяцев здесь всё жило без него. Забыть Питера и Кэй, забыть Роланда и Риджборо. Он дома.
– Мне подождать? – спросил таксист, но Деминь уже выскочил за дверь.
– Подождите пять минут, – Энджел расстегнула кошелек и дала водителю две двадцатки Джима.
Деминь не мог ждать ни секунды. По тротуару к зассанному собаками пятачку сорняков, через двор – вот заклеенная скотчем трещина в нижнем окне. Он дернул дверь подъезда – и та открылась. Энджел следовала за ним, по первому лестничному пролету, – под ногами стонал линолеум, – по второму, быстрее, – мимо болтливых телевизоров, теперь всё ближе, – и, когда они очутились на последней клетке, он увидел.
Коврик перед дверью. Зеленый клочковатый коврик, напоминавший чахлую траву. Холодный комок оказался прав. У Леона и мамы никогда не было коврика.
– Это здесь? Здесь? – Энджел скакала от возбуждения, предвкушая великое воссоединение. – Давай, – сказала она, и он наступил на коврик, который не мог принадлежать маме, и постучал. Те же слои коричневой краски, те же вмятины. Он постучал еще.
– Эй? – сказал он.
Под дверью, за ковриком, появился просвет. Он слышал шаги и бормотание и, хоть и знал, что все безнадежно, представил, как в этом свете стоят его мать, Леон и Вивиан с Майклом за спиной.
Он поправил рюкзак. Дверь открылась.
– Да? – в щелку, не снимая цепочки, выглянула низенькая морщинистая женщина.
Энджел охнула.
– Я Деминь, – сказал он.
– Да? И что? – Дверь начала прикрываться.
– Я здесь раньше жил. Моя семья – вы не знаете, куда они уехали?
– Не знаю, – сказала женщина. Позади появился молодой человек с эспаньолкой.
– Кто там, ма? – Женщина ответила на испанском. Он сменил ее за цепочкой. – Что такое?
Деминь с трудом сглотнул.
– Я ищу свою семью. Они здесь раньше жили. Вы их знаете?
– Не, когда мы переехали, тут уже никто не жил.
– А когда вы переехали?
– В сентябре. Всё нормально? – Мужчина уже закрывал дверь. – Ну ладно, пацан. Поздно уже.
– А Томми? – спросил Деминь. – Он еще здесь?
Дверь приоткрылась на дюйм.
– Да, Томми женился. На польке.
«Польке?» Дверь закрылась, щелкнули замки.
– Мне жаль, – прошептала Энджел.
Деминь спустился к ожидающему такси и заполз внутрь, Энджел – за ним.
– Двадцать четвертая и Мэдисон, – сказала она водителю. – Можете выключить музыку?
Прошло десять зим. На Рутгерс-стрит в Чайна-тауне, где до Бронкса жили мама и Деминь, на углу выросла новая высотка, перед которой белая пара разговаривала со швейцаром в форме, но дальше квартал казался неизменившимся – те же здания с красновато-коричневыми фасадами, пожарные лестницы и висящее на веревках белье. Старая квартира в доме 27 по Рутгерс была меньше, чем у Роланда, но служила домом маме, Деминю и шести соседкам.
Дэниэл Уилкинсон был на две трети метра выше и на семьдесят килограммов тяжелее Деминя Гуо, лучше говорил по-английски и хреново – по-китайски. В Риджборо Дэниэл наловчился жонглировать личностями; он привык видеть Деминя и представлять себя Дэниэлом – слайд-шоу с одними и теми же двумя кадрами. Ему хотелось, чтобы из этого дома вышел Деминь, чтобы они вдвоем вступили в тот короткий танец, когда два человека сталкиваются на тротуаре и мешают друг другу пройти, предугадывая движения друг друга.
У Деминя не будет шрама на правой руке, который остался у Дэниэла после катания на скейтбордах с Роландом в восьмом классе. Пока Деминь рос в Чайна-тауне и Бронксе, где был Дэниэл? В спячке на планете Риджборо? Или они росли вместе, но расстались после города? Дэниэл выжидал в Демине своего момента до подросткового возраста, и теперь уже Деминь был волосатой опухолью, засевшей в нутре Дэниэла. Или Деминь так и не покинул Рутгерс-стрит; все это время был здесь.
Скрипнула входная дверь дома 27 по Рутгерс, и вышла женщина с букетом продуктовых сумок. Беспокоясь, что его примут за какого-нибудь маньяка, Дэниэл достал телефон и притворился, что кому-то пишет. Он знал, что выйдет не Деминь – он не мог выйти, – и все же его раздавило разочарование.
Под Манхэттенским мостом вокруг сгустились звуки. Продавцы фруктов и овощей говорили на фучжоуском, и он понимал, что они говорят, – слова были не тарабарщиной, а предложениями с формой и смыслом. Слова зарывались в него, находили бывшее жилье и решали остаться. Он повторял их, пока не был уверен, что они – те самые, потом подошел к продавцам.
– Эй, ты, – окликнул взвешивающий овощи мужчина в мешковатой синей куртке, вязаной шапке и джинсах. У него были пятнистые от табака зубы, седая борода и золотая коронка. – Что будешь? – спросил он по-фучжоуски.
– Привет, – сказал Дэниэл.
– Ты откуда?
– Нью-Йорк.
– Китаец?
– Конечно, китаец.
Он нашарил кошелек. Всплыло и проявилось слово, обозначающее «арбуз», и он сосредоточился, пока не вернулось всё остальное предложение.
– Арбуз, пожалуйста. Они же свежие? Хорошие арбузы? – Он вспомнил, как торговаться, сбил цену на двадцать пять центов и почувствовал себя заново рожденным.
– Дашь меньше – и моя семья будет голодать, всё благодаря тебе, – сказал продавец, но за его хмуростью чувствовался смех.
Дэниэл с триумфом взял арбуз. Показал на кучу овощей.
– И это. Полфунта. Брокколи.
Он отнес продукты в квартиру Роланда. Был час дня, вторник, с таким ярким зимним светом, что приходилось щуриться; на оставшийся день планов у него не было. Много лет он не позволял себе думать о времени после того, как мама так и не вернулась домой, после того, как Леон и Вивиан оставили его с чужаками, и теперь он представлял, что мать ждет его на Канал-стрит с сигаретой, вспоминал утиную походку, с которой она перебиралась по льду, твердость ее руки в его ладони. Теперь Дэниэл уже выше ее, но в ее руке всегда будет чувствовать себя в безопасности. Однажды, когда они с Энджел обсуждали свои родные семьи, она спросила, хочет ли он всё еще найти маму, и он сказал, что нет, больше нет. Он смог смириться с тем, что она ушла. Но ему так и не выпало шанса спросить, почему она вернулась в Китай – она же ненавидела Минцзянь, – или понять, как он сам оказался в Риджборо.
Он остановился на углу, достал телефон и ответил на письмо, которое давным-давно прислал Майкл, нажал «отправить» раньше, чем передумал: «Ты нашел кого надо. Что такое?»
На кухне Роланда он потушил брокколи и нарезал арбуз дольками. Всё лучше, чем очередной разваливающийся буррито в «Трес Локо», и дешевле, чем в ресторане. Его задолженность по кредитной карте была 2079,23 доллара, со ставкой восемнадцать процентов, – и это не считая десяти тысяч, которые он должен Энджел. Он так нервничал при виде счета каждый месяц, что подключил автоматическое списание с минимальных платежей – в прошлом месяце это было двадцать два бакса. Он несколько месяцев не разговаривал с Энджел, но теперь им придется встретиться в субботу, на дне рождения ее отца, вместе с Питером и Кэй.
В старшей школе он играл на вечеринках в техасский холдем с другими парнями и открыл в себе талант замечать их реакции, скрывая свои, – за годы с Питером и Кэй он отлично научился хранить секреты. На втором курсе в Потсдаме он услышал про онлайн-покер и, прокрастинируя во время написания курсовых, понемногу играл – без крупных ставок. За лето, пока он жил в Риджборо и работал маляром в новых пятикомнатных домах на окраине города, он понял, что умеет распознавать схемы поведения и в сети: игроков, которые часто пасовали и ставили только с хорошей рукой, или активных игроков, которые ставили глупо и сильно рисковали. На следующую осень в колледже он познакомился с парнем по имени Кайл, который зарабатывал на этом реальные деньги, по тысяче за ночь, и Дэниэл начал играть больше – по шесть, даже по десять часов в день, один одностоловый турнир за другим, где победитель забирает всё. Однажды поздно ночью он вышел из своей комнаты в общежитии в ванную, слыша в голове звуки фишек и шуршание карт, пока наполнял бутылку водой из-под крана, и поспешил обратно по коридору, чтобы тут же продолжить играть, щелкал на «бет», «рейз» и «фолд», ставил до флопа в три раза больше старшего блайнда и смотрел, как увеличивается его счет. Часы сливались, пока он не услышал стук дверей и голоса в коридоре и у него не затекло всё тело. Он играл два дня подряд, а то и три. В какой-то момент лампочка над головой стала слишком яркой, на клавиатуру упал солнечный свет. Он пил «Ред Булл», писал в пустые банки. Поставил на фул-хаус и осознал, что громко дышит. На следующий день он слышал, как откуда-то издалека его зовут по имени, открыл дверь и увидел соседей по коридору, которые пришли проверить, жив ли он еще. По их лицам мелькали масти.
Когда позвонили родители и спросили, ходит ли он на учебу, он заверил, что да. Он мог выиграть четыре тысячи за одну ночь турниров, потом проиграть столько же за полчаса. В какой-то момент у него на счету лежало восемьдесят тысяч долларов. Деньги казались ненастоящими, но были реальнее некуда. Он мог их снять и обналичить – но всегда следовала еще одна игра и за ней еще одна.
Ему была нужна только одна хорошая победа, но сумма, обозначающая хорошую победу, менялась каждый раз, когда он ее набирал. На нуле он удалил аккаунт, а на следующий день создал заново. Он не играл целых два дня, когда ездил с друзьями на концерт в Монреаль, но потом захотел купить новую гитару, оборудование, вернуться в музыку. Еще одна игра – и всё будет.
Чтобы оплатить следующий семестр, он взял кредит, потому что оценки упали слишком низко, чтобы подходить по критериям финансовой помощи, – и потом прожег все эти деньги в один день. Он одалживал у друзей, сколько мог, – двадцатка здесь, полтинник там, – открывал новые кредитки и уходил в ноль. Чем больше его трясло, тем больше он проигрывал, а чем больше он проигрывал, тем более активным игроком становился. Он взял взаймы у Кайла две тысячи с обещанием вернуть через две недели, но понял, что все кончено, когда продолжал проигрывать, когда психанул, услышав предупреждающий сигнал, что у него кончается время на ставку. И поставил половину банка на семерку и двойку без масти. Это стало сюрпризом: самоубийство тоже доставляло кайф.
Кайлу он вернул двести долларов. «А где остальное?» – спросил тот.
Кайл с друзьями – двумя братьями-качками, которые выглядели так, будто тягают машины для развлечения, – начали приходить к нему по несколько раз на дню, спрашивать о деньгах. Дэниэл перестал выходить из комнаты и открывать дверь. Теперь он ушел в долги на десять тысяч долларов.
Энджел училась в Айове. Всё лето и осень она работала официанткой, выходила в ночь и в выходные, чтобы скопить на весенний семестр за границей – в Непале, где собиралась преподавать в школе для девочек, а потом всё лето путешествовать по хостелам Юго-Восточной Азии. Она всегда любила архитектуру, фанатела от городского планирования, различий общественного транспорта. Дэниэл несколько недель избегал ее звонков, но потом однажды вечером ответил и рассказал про свою полосу неудач, про деньги, которые взял у Кайла. «Мне нужна помощь, – сказал он наконец. – Я верну через неделю». Она колебалась, но согласилась переслать ему десять тысяч долларов. Кайл от него отвяжется, Дэниэл снова погасит кредиты, потом возьмет еще один заем и вернет ей.
Но хоть Дэниэл и заплатил Кайлу, он не предугадал, что настолько испортил кредитную историю, что его заявление на кредит отклонят. Он решил сыграть в последний раз, чтобы вернуть Энджел хоть что-то, но не предугадал такое дурацкое поражение: почти всю раздачу он шел к победе с парой тузов при закрытых картах, только чтобы по-крупному проиграть некому «Ричу Дэнджеру», который дождался две пары на ривере. И Дэниэл не представлял себе ни гнев Энджел, ни того, что, когда он с ней не расплатится, она позвонит Питеру и Кэй и расскажет о его игровой зависимости, хорошо хоть не о долге. Когда пришло письмо от декана, он уже был в Риджборо, посещал собрания анонимных игроков в гараже в Литтлтауне. Он обещал Энджел, что всё ей возместит, что изменится.
– Ты только всё портишь, – сказала она. – Не звони больше.
Теперь он жалел, что не может рассказать ей об ответе Майклу, о том, как ходил на Рутгерс-стрит. Дело было не только в том, что он не знал других приемных детей (когда он рассказал о своем усыновлении бывшей девушке, Карле Муди, она вздохнула: «Это так волшебно»), – просто с Энджел можно было поговорить так, как ни с кем. Она не притворялась. Когда он рассказывал о музыке, она не прикидывалась, что знает больше, чем есть на самом деле, и ему никогда не было с ней скучно, даже когда она без умолку грузила его различиями нью-йоркского и лондонского метрополитенов или слала фотки котов, которых собиралась купить, но так и не покупала, или рассказывала про тот раз, когда у нее с соседкой кончился бензин в долгой поездке в никуда и они потерялись на кукурузном поле. Может, из-за того, что они знали друг друга столько лет, она ему была почти как сестра.
В один из последних разговоров Энджел сказала, что родители хотят, чтобы она поступала в мед:
– Но меня стошнит, если придется резать труп. И я сказала Элейн – ты уж прости, но придется тебе довольствоваться соцработницей или кем-нибудь в этом роде. Она сказала, что я зарываю талант. В смысле – ну серьезно, Элейн, приди в себя.
Он рассмеялся и ответил:
– Из меня тоже фиговый сын профессоров.
– Значит, мы оба, как говорится, черные овцы. Хотя это какое-то расистское выражение. Будто если овца белая, то она хорошая.
– Ну, тогда давай перевернем. Я – белая овца.
– Но ты же всегда их радовал, – сказала она.
– Родителей-то? Не, ты что. Они хотели не такого ребенка.
Энджел это как будто удивило.
– Если бы это было правдой, тебе было бы всё равно. Уверена, они тобой гордятся, даже если не могут прямо сказать.
Она рассказала, что в старшей школе приняла большую дозу снотворного, и Элейн с Джимом отправили ее к психотерапевту, который назвал ее «враждебно настроенной».
– Я никому об этом не рассказывала.
Дэниэл не удалил ее номер из списка контактов. У него еще оставалась история их переписки, последнее сообщение – четыре месяца назад. Он набрал ей: «Я по тебе скучаю». Потом удалил начало и дописал: «Скучаю без наших разговоров, работаю над тем, чтобы вернуть долг. спс, что рассказала родителям про покер, серьезно». Стер всё и заменил на: «Пойдешь в субботу на др папы?» – и нажал отправить. Теперь, когда они больше не были друзьями, он будто уже не мог быть с ней искренним и одним махом удалил всю переписку, сотни сообщений, а потом удалил с телефона ее имя и номер.
Проверил почту. Майкл еще не ответил, а когда телефон зазвонил, это оказалась всего лишь Кэй. «Увидимся в субботу, – напомнила она. – Не забудь анкеты».
Он достал анкеты для Карлоу-колледжа и разгладил.
Заявление о целях обучения дает возможность привести любые обстоятельства, которые придадут ценность вашей заявке на перевод в Карлоу-колледж. Это ваша возможность напрямую обратиться к приемной комиссии и больше рассказать о себе как о человеке, чего не могут передать ваши академическая справка и анкета абитуриента.
Он начал печатать.
Майкл написал через два часа и предложил встретиться в «Старбаксе» на Коламбус-серкл. На следующий день Дэниэл пришел на двадцать минут раньше и три раза обошел квартал, прежде чем решил подождать внутри. Он взял кофе и сел за столик у двери, поднимая взгляд каждый раз, как она открывалась.
Прошла минута с тех пор, как Дэниэл последний раз смотрел на телефон. Пятнадцать сорок два. Ни пропущенных звонков, ни новых сообщений. Они договорились встретиться в половине четвертого. Майкл сам предложил встретиться именно в это время в этом «Старбаксе» на 60-й и Бродвей. Дэниэл согласился из любопытства, но решил сохранять здоровую подозрительность. Что бы ни рассказал ему Майкл, это не изменит его жизнь. Он потягивал кофе. Если Майкл не появится в следующие десять минут, он уйдет и всё на этом.
Снова открылась дверь. Вошел грузный белый в длинной футболке, рука об руку с дочкой похожего склада, но не успела дверь закрыться, как ее поймал высокий азиат в темно-синей куртке, белых кроссовках и с большим рюкзаком.
Майкл вошел и огляделся, просиял, когда увидел Дэниэла, протолкался через столы и стулья. Дэниэл поднялся, и вся его решимость улетучилась. Они обнялись – крепко. Майкл был на пару сантиметров выше Дэниэла; и вот они стояли посреди «Старбакса» и хлопали друг друга по спине.
– Деминь. – Майкл снял рюкзак и выдвинул стул. – Прости, что опоздал. Мой профессор все говорил и говорил. – Его голос стал ниже – уже не детский. Дэниэл никогда еще не слышал недетского Майкла. Майкл не видел его с тех пор, как ему было одиннадцать лет.
– Меня давно никто не звал Деминем.
Майкл пригляделся к нему.
– Ты изменился. Лицо похудело, хотя черты всё те же. Уверен, если бы мы встретились на улице, то просто прошли бы мимо.
– Ты тоже изменился. – Может, ботанская внешность Майкла и пропала, но костяк его личности остался, и в нем было что-то знакомое – видимое только тем, кто знал его в детстве. – Но при этом такой же.
– Так странно, что у тебя другое имя. Ты сам предпочитаешь Дэниэл или Деминь?
– Наверно, Дэниэл.
Майкл сложил перед собой руки, словно они на собеседовании.
– Ну что, ты, наверно, уже на третьем курсе?
– Я учился на севере в SUNY, но пока взял передышку. – Он уже провалил собеседование.
– Где живешь?
– У Маленькой Италии, в Чайна-тауне. У своего друга Роланда на Хестер-стрит. У нас группа, я играю на гитаре. Мы выступаем.
– Даже не удивлен. Помню, как ты просил наших мам, чтобы мы задержались и послушали музыкантов в метро, и мы стояли так долго, что пропускали поезд. – Майкл рассмеялся. – И как называется ваша группа?
– Psychic Hearts. Я работаю и над своими песнями, чтобы играл и пел один я. Очень минимальная стилистика – типа, почти исповедальная, – он впервые заговорил об этом вслух.
– Скажи, когда будет следующий концерт, я приду.
– Ладно. – Дэниэл представил парня вроде Майкла в лофте – человека, который будет там не в своей тарелке даже больше, чем сам Дэниэл. – А ты учишься в Колумбийском, да?
– Ага. Средняя школа у меня была в Бруклинском технологическом. – Майкл положил телефон на стол. – Я опоздал, потому что претендую на должность младшего научного сотрудника. Там надо предложить свою тему исследований по генетике, и я сейчас выбираю между двумя. Одна в области моего научрука – это как раз профессор, с которым я разговаривал. Он пишет мне рекомендацию, так что если я выберу эту тему, то шансов у меня будет больше. Но есть другая тема, у нее меньше приоритетность и потому у меня меньше шансов получить должность. Как раз ей я и хочу заниматься.
– Когда подаешься?
– Через две недели. Пожелай ни пуха ни пера.
Их глаза на миг встретились. Дэниэлу хотелось смотреть на Майкла столько, сколько потребуется, чтобы примирить образ парня за столом с тощим пацаном, который всюду таскался за ним в Бронксе. Пять лет они спали в одной кровати.
– Как поживает твоя мама?
– Хорошо, всё хорошо. Несколько лет назад вышла за моего отчима, Тимоти, и мы переехали к нему в Бруклин, в Сансет-парк. Я и сейчас живу там, каждый день езжу на учебу, но надеюсь однажды оттуда перебраться. – Майкл передал телефон с фотографией семьи на зеленом дворе – Вивиан и Тимоти обнимали за плечи Майкла. – Это с прошлого лета. – У Тимоти были маленькое брюшко и залысины. У Вивиан волосы стали короче, появилась химическая завивка.
Дэниэл мельком глянул на фото и вернул телефон.
– Вы еще на связи с Леоном?
– Дядей Леоном? Да-да, он еще в Фучжоу. Женился, у него уже дочка. Работает где-то на производстве. Мы несколько раз общались, но он не любит созваниваться. У него всё хорошо. – Майкл играл с ремешком часов. Часы были увесистые, серебряные – в стиле человека среднего возраста. – После того как ты уехал, мы в той квартире не задержались. Переехали к одной семье в Чайна-тауне, потом в Квинс, и мама нашла работу в здании, где работал Тимоти.
– А. – Маленькая частичка Дэниэла надеялась, что Леон и его мать нашли друг друга и живут вместе и что по какой-то очень уважительной причине – хотя он и не мог придумать, какой, – не могли с ним связаться.
– В общем, в рождественские каникулы, когда я помогал маме разбирать коробки у нас в квартире, я нашел документы, – сказал Майкл. – Там был бланк с ее подписью – добровольная передача тебя под опеку социальной службы. На нем говорилось, что это на неопределенный срок.
Дэниэл промолчал, вспомнив документы Питера и Кэй, отчет со слушания о перманентном усыновлении. Там же было что-то о том, что Вивиан подписала отказ от прав? Он не припоминал ничего о неопределенном сроке.
– Знаю-знаю, какая-то задница, – сказал Майкл. – И еще был другой бланк, где говорилось, что она ходила в суд через несколько недель после того, как ты уехал. Она одобрила твое помещение под патронат Питера и Кэй Уилкинсон.
В динамиках «Старбакса» под укулеле завывала женщина. Дэниэл падал с последней платформы аркады на самый первый уровень, случайно промахнувшись в самом элементарном прыжке. Вивиан и Леон вообще не планировали возвращаться за ним. От мысли о том, что Вивиан ходила в суд сразу после того, как отправила его к той китайской паре, и без его ведома отдала его Уилкинсонам, Дэниэла замутило.
– Прости. Я хотел, чтобы ты знал. – Майкл покачал головой. – Я всё время думал о тебе и твоей маме. Она была крутая. Однажды – не помню, где тогда был ты, – она водила меня в «Бургер Кинг», потому что ее потянуло на картошку фри, и она купила картошку и мне, и по дороге домой мы проходили мимо какого-то пустыря с голубями, и она мне говорит, такая суперсерьезная: «Майкл, в Китае мы этих гадов ели. Но готовили их на пару, а то у них очень жесткое мясо». Она была такая приколистка, да?
– Да. Как ты меня вообще нашел?
– Погуглил Питера и Кэй Уилкинсон и вышел на сайт со статьей авторства Кэй Уилкинсон, и в ее краткой биографии было указано, что у нее есть сын по имени Дэниэл. Я нашел фотографию Дэниэла Уилкинсона китайской внешности, который чем-то напоминал тебя. Там упоминалось о SUNY в Потсдаме, так что я проверил и нашел твой имейл.
– Блин. Молодец, что заморочился.
– А ты молодец, что ответил. Когда я нашел те документы, всё думал, что ты мог попасть в плохую семью, что с тобой могло случиться что угодно – Майкл отвернулся. – То утро, когда я видел тебя в последний раз? Если бы я знал, куда собралась мама, я бы попытался ей помешать. Но вы просто ушли, а когда она вернулась, тебя уже с ней не было. Я был в ужасе.
После того как они с Энджел ездили на такси в Бронкс и видели чужую семью, Дэниэл вернулся в Риджборо и много недель плакал по ночам. Через четыре месяца они с Питером и Кэй приходили в суд, и судья одобрил его усыновление. Они расписались. Судья поздравил их с тем, что они стали «семьей навсегда». Он получил новое свидетельство о рождении, где в качестве родных родителей указывались Питер и Кэй Уилкинсон, а он сам – как Дэниэл Уилкинсон.
– Что тебе рассказала мама? – спросил он у Майкла.
– Тогда? Сказала, что нашла для тебя другую семью, которая о тебе позаботится. Сперва говорила, что это только ненадолго. Я злился, психовал. Особенно когда выяснилось, что не так уж и ненадолго, да? Мне это всегда казалось неправильным. Но я ничего не мог поделать. Не знал, как тебя искать. Так что в Рождество, когда я наткнулся на бланки, я спросил ее, и она не хотела об этом говорить, но я приставал, пока она наконец не ответила, что пошла на это, потому что у нее не было выбора. Мы жили без гроша в кармане. Она сказала, что для тебя это был лучший выход.
– Лучший. – Дэниэл сосредоточился на чтении меню над кассой. ВЕН-ТИ ЛАТ-ТЕ. Слова казались странными, как будто не на английском. Запахи кофе и сахарозаменителя были удушающими и приторными. – Леон знает, что меня усыновили?
– Предполагаю, что мать ему говорила, но не могу сказать наверняка.
Дэниэл закрыл лицо ладонями и надавил на переносицу. «Неопределенный срок», – думал он.
– Поверить не могу.
– Ты мне был как брат, понимаешь?
– Да.
– Я пытался гуглить тебя и раньше, но на Деминя Гуо ничего не выдавало.
– Ну, это больше не я.
– Твои родители… в смысле, Питер и Кэй Уилкинсон. Они хорошие родители?
– Конечно. Но я потерял всю семью.
– Ты так ничего и не слышал о матери?
– Нет. И ты, видимо, тоже.
Майкл покачал головой.
– Но с тобой хочет встретиться моя мама.
– Что?
– Приглашает тебя на ужин.
Майкл следил за реакцией Дэниэла, ожидая ответа. Как раньше, в детстве, когда он был готов сбежать во Флориду без задних мыслей.
– Ты серьезно? – спросил Дэниэл. – Да никогда в жизни.
В пятницу вечером Дэниэл сел на метро до Сансет-парка – бруклинского Чайна-тауна – и, пока шел по 8-й авеню, узнал тот район, где жила китайская пара, от которой его забрали Питер и Кэй. Он не знал, как просидит весь ужин, не ляпнув что-нибудь ужасное Вивиан, но его подталкивал шанс сказать хоть что-нибудь.
Они жили на одной из улиц с номерным названием рядом с 8-й авеню, в нижней половине дома на две семьи – двуспальной квартире с большим окном, выходящим на улицу. В доме пахло рисом, свининой и чесноком. Он снял обувь и куртку, ответил на объятья Майкла и увидел, как к ним шлепает в пушистых сиреневых тапочках Вивиан – толще, чем десять лет назад. Он не помнил, чтобы раньше ее зубы были такими белыми.
– Деминь! Совсем не изменился, – сказала она по-фучжоуски. – Большой, высокий и здоровый. Прямо как твоя мама.
Как она могла говорить о его матери после того, что сделала?
– Привет, Вивиан.
– Ты всё еще любишь свинину?
– Конечно.
– Я приготовила свинину и рыбу, – Вивиан показала на кухню. – Скоро будем есть.
Майкл и Дэниэл сели на темно-коричневом диване перед широкоэкранным телевизором и полкой со стеклянными фигурками единорогов.
– Помнишь наш старый диван? – спросил Дэниэл.
– Весь убитый, – сказал Майкл. – И в таких гигантских цветах блевотных расцветок. А помнишь тот раз, когда мне навалял один пацан, а ты пошел и навалял ему за меня?
– А потом мне наваляла твоя мама.
Майкл рассмеялся.
– Да, похоже на правду.
– Как же я любил ту квартиру.
– А помнишь того пацана – Сопхипа? Я слышал, он сидит. И еще тот раз, когда в парке убили каких-то мужиков…
– Не помню.
Дэниэл перебирал имена, пытался сопоставить с лицами, детьми из школы № 33 с гигантскими рюкзаками. Пытался вспомнить Сопхипа, парк – какой еще парк? – и испугался из-за неточности своей памяти, спросил себя, что еще он забыл, сколько всего путает насчет матери, Леона, себя самого.
– А помнишь Томми? Нашего соседа? Я раньше думал, что мама сбежала с ним.
– Тот парень? – Майкл прыснул. – Да ни фига.
– Я слышал, он женился.
– Боже. Сколько лет о нем не вспоминал.
Пришел Тимоти, принес белую коробку из кондитерской, перевязанную красной лентой.
– Значит, ты Деминь, – сказал он. – Я так много о тебе слышал, – его английский звучал с китайской интонацией, а гласные были теплыми и изогнутыми.
Вивиан приготовила кастрюлю тофу, говядины и грибов, овощи с чесноком, лапшу, хрустящую жареную свинину, даже потушила целиком рыбу. Запахи оказались уютными – Деминь не слышал их много лет. Тимоти передал ему тарелку.
– Учишься, Деминь? – спросил Тимоти по-английски.
Он не был уверен, что хочет, чтобы его называли Деминь.
– В SUNY, на связях с общественностью. И еще играю. На гитаре. Меня теперь зовут Дэниэл.
– Дэниэл. Значит, любишь искусство и гуманитарные науки. Майкл у нас больше технарь.
– А вы чем занимаетесь?
– Я бухгалтер. Так мы и познакомились с Вивиан, – Тимоти перешел на мандаринский. – Вивиан работала в кабинете напротив.
Вивиан резала овощи.
– Точнее, я в том кабинете убиралась. – Это было похоже на сценарий, который они с Тимоти уже разыгрывали вместе. – Мы с Майклом жили с моими друзьями в Квинсе. Денег совсем не было.
– Однажды мы встретились на работе в лифте, – сказал Тимоти.
– Это было очень давно, – сказала Вивиан. – Теперь всё намного лучше. Майкл учится в Колумбийском университете, и Деминь тоже в колледже. Твоя мама гордилась бы.
Дэниэл выбирал из рыбы кости, мечтая спросить у Вивиан, что она знает. Значит, возможно, что мама его все-таки не бросала. Она не могла знать, что Вивиан его отдаст. Он попросил добавку, вторую, третью, пытаясь игнорировать довольное выражение Вивиан, когда заново наполнял тарелку, – она явно радовалась тому, что так хорошо готовит, что кормит голодающего сироту. Нельзя было поддаваться вкусной еде, знакомой обстановке.
Тимоти передал Дэниэлу тарелку с овощами.
– Деминь, то есть Дэниэл, ты еще говоришь по-китайски?
– Да, – ответил Дэниэл на мандаринском. – Всё еще говорю.
– У тебя американский акцент. У меня тоже.
– Майкл всё еще идеально говорит на китайском, – сказала Вивиан. – Даже может писать по-китайски. – Она раскрыла содержимое коробки – пухлый белый бисквит, облако глазури, утыканной дольками клубники, – и Дэниэл представил себе, что видит эту сцену по телевизору под уверенный мужской закадровый голос, как в документалках о природе. «Самка заботится только о своем биологическом потомстве. Она отвергает небиологических детенышей и видит в них угрозу семье».
Когда они доели десерт, Майкл собрал приборы со стола. Вивиан отнесла тарелки на кухню, и Дэниэл поднялся.
– Сиди-сиди, – сказал Тимоти, но Дэниэл взял тарелки и пошел за Вивиан. Он был намного выше ее и видел белые корни ее редеющих волос, плеш на темечке.
Он говорил быстро, по-английски. Английский Вивиан стал куда лучше, чем десять лет назад, но у него всё равно была фора.
– Почему ты это сделала?
Она переложила еду в пластиковые контейнеры и надавила на крышки, перепроверила, что они загерметизировались.
– Что сделала?
Он включил кран и выдавил мыло на губку.
– Ты сказала, что скоро за мной вернешься, а сама подписала документы, чтобы меня забрали чужие люди. На неопределенный срок.
– Не знаю, о чем ты говоришь. – Вивиан открыла холодильник, поменяла в нем местами контейнеры и что-то вынула, чтобы освободить место. Достала пачку апельсинового сока, прищурилась на срок годности.
– Из-за тебя я думал, что мать меня бросила, что я ей не нужен.
Вивиан изучала литровую пачку молока.
– Тебя могли депортировать.
– С чего это? Я американский гражданин. – Он обернулся и убедился, что Майкл с Тимоти всё еще за столом. – Что ты знаешь о моей матери? Где она?
Лицо Вивиан скрывалось за дверцей холодильника.
– Я ничего не знаю.
Он скоблил тарелки с силой так, что саднило кожу.
– Ты реально ходила в суд, чтобы навсегда избавиться от меня. Ты сломала мне всю жизнь.
– Я ничего не ломала. Иначе бы ты не учился в колледже. Не жил бы на Манхэттене, не играл бы на собственной гитаре. Если бы ты остался с матерью, жил бы в бедности. Вернулся бы в деревню.
– Так она там? В Минцзяне?
Слова Вивиан были тихими и глухими.
– Не знаю.
Что-то не складывалось. Не было никакого объяснения отсутствия мамы, объяснения того, почему она так и не вышла на связь. Дэниэл смотрел на Вивиан пристально, вынуждая встретиться с ним лицом к лицу.
– Она умерла?
Наконец она повернулась к нему.
– Нет.
– Откуда ты знаешь?
– От Леона.
Он отправился к метро, обняв на прощание Майкла и пожав руку Тимоти. «До скорого, – попрощался Майкл. – Не забудь сказать про следующий концерт».
В кармане Дэниэла лежал конверт, который ему перед уходом дала Вивиан. Не пройдя и полквартала от дома, он нырнул под навес магазина и открыл его. Внутри лежали стодолларовая банкнота и бумажка с цифрами, которые могли означать телефонный номер в Китае. Внизу было подписано: «Леон».
Дэниэл убрал конверт в карман и рассмеялся – горячим студенистым смехом, – смеялся, пока его всего не затрясло. Будто от ста долларов ему полегчает. Он шел, пока улица запертых витрин не закончилась тупиком, и повернул налево, ко входу в Сансет-парк. Воздух был теплым, деревья – в цвету. Он поднялся на холм, над улицами и витринами, семьей, бредущей ниже по тропинке, – отец толкал коляску с привязанным к ручке серебристо-красным шариком. Дэниэл видел горизонт Манхэттена, узнавал четкий шпиль Эмпайр-Стейт-Билдинг, искорки мостов, и с его точки обзора город казался уязвимым и мерцающим, пока последние лучи солнца приглаживали арки, словно убаюкивая их ко сну, раскрашивали верхушки зданий тенями. У него есть номер Леона. Его мать жива. Леон знает, где его мать; они на связи. От этой перспективы он чувствовал себя ватным. С подгибающимися коленями он сложился пополам, и его стошнило чесноком и клубничным пирогом.
Потом его пробил озноб. Когда Вивиан сунула ему в руку конверт, она прибавила: «Я расплатилась с долгами твоей матери. Когда Леон уехал, она еще оставалась должна. Как думаешь, кто платил? Если бы я не заплатила, ты бы уже был мертв».
Не зная, ненавидеть Вивиан или быть ей благодарным, Дэниэл смог только взять конверт и сказать «спасибо».
Он упирался пятками в землю и спускался по холму, по пологой стороне парка, сперва медленно, потом все быстрее, и его ноги грациозно пружинили.
Он вернется домой. Он позвонит Леону. Сбегая по холму, он чуть ли не летел.
II. Джекпот
В ночь, когда ты вернулся в мою жизнь, я снова шла по старой улице в Фучжоу, от «Ворлд Топ Инглиш» к ресторану морепродуктов, где всегда устраивал ужин для клиентов Ён. Он предложил меня подвезти, но я отказалась – хотела провести эти двадцать драгоценных минут с собой наедине. В сером костюме и кожаных туфлях я походила на городскую жительницу. Моя жизнь была как конфетка: когда-то я о подобной мечтала, но иногда мне всё еще хотелось снова спалить ее дотла, снова сменить имя, снова переехать в чужой город, снять комнату в доме, где меня никто не знает. Думая о тех ужинах с морепродуктами, которые я уже посетила, и о тех, которые предстояло посетить, я чувствовала пустую и нескончаемую БЕЗНАДЕГУ.
Прогулка в Фучжоу: велосипеды, мопеды, мусорные мешки, сломанная мебель, коренные жители, мигранты – все сражаются за ограниченное пространство тротуара. Я шла, чтобы отвлечься от жизни, которая затвердевала вокруг, стоило отвернуться. Мне нравилось, каким близким казалось прошлое, как легко можно создать себе новую историю. Сколько разных путей лежало передо мной раньше, сколько с виду незначительных поворотов могли бы изменить всё мое существование. Я могла бы стать кем угодно, жить где угодно. Но будем реалистами – мне сорок, и большинство моих решений уже принято. За меня. Теперь сойти с курса уже не так просто.
Ён не видел необходимости гулять, когда на ходу замечательная машина, не стремился исследовать город, в котором прожил всю жизнь. Если бы ему захотелось приключений, говорил он, он бы не ходил вокруг пары офисных зданий; он бы поехал в Гонконг, или Бангкок, или Шанхай – хотя и этого он никогда не делал.
В последнее время начальник Ченг поручал проводить исследования рынка для расширения «Ворлд Топ» на другие города моему коллеге Бокингу, и я испытывала такую пронзительную зависть, что так и чуяла ее запах. На прошлой неделе этот самый Бокинг ездил в Тайчжоу, а на следующей отправится в Чжанчжоу. Это я хотела путешествовать. Но меня начальник Ченг не просил, потому что командировки считались хлопотами, ответственностью для младших сотрудников. Ён ненавидел путешествовать по работе, но я бы схватилась даже за шанс съездить на трехчасовом скоростном экспрессе в Сямынь. Я бы сидела у окна и смотрела на краны и экскаваторы, на цемент, расплывающийся по провинции Фуцзянь, как разбитое яйцо. Поля здесь разравнивали под фундаменты, села превращали в города – и всё это проносится мимо на скорости в двести пятьдесят километров в час.
Снаружи «Пиццы Хат» была плотная толпа желающих войти. Наш первый ужин с Ёном прошел там, семь лет назад. Мы пошли после курсов английского для бизнеса – Ён был одним из моих худших студентов, – и он рассказал, что его жена умерла молодой, от лейкемии, и что у них не было детей, но его это устраивает. Он сказал, что купил новую квартиру, оплатил полностью, наличными. «Я всего добился сам», – говорил он, прикидываясь крутым. Но я знала, что он бы ни за что не получил разрешение и лицензию для бизнеса без городского хукоу[5]. Мне это напомнило богатую молодежь, которую мы с Диди видели в Нью-Йорке, – с мятыми джинсами и непричесанными волосами. Я сказала Ёну, что жила в Америке, и он ответил: «Наверно, ты училась английскому в университете». Я его не поправляла; не отрицала и не подтверждала.
Он называл меня умной, трудолюбивой и доброй, и мы оба влюбились в эту версию Полли. Моя офисная работа и мой английский, и тот единственный костюм, на который я копила месяцами, – большего этому городскому парню не понадобилось, чтобы поверить в мою неподдельность. Так что я не собиралась его подводить. И вот мы семь лет спустя – а иллюзия и реальность до сих пор неотличимы. Полли: женщина, которая живет рядом с Уэст-Лейк и учится в университете, которая решила не иметь детей. И все-таки это всегда казалось временным, будто однажды меня разоблачат, вырвут из квартиры на двенадцатом этаже и сошлют обратно в Ардсливиль.
Мы поженились через шесть месяцев после того первого ужина. Брак, секс – всё это оказалось не так скучно, как я боялась. Я стала принимать противозачаточные, решила, что однажды расскажу Ёну о тебе, о том, что ты живешь с родственниками в Америке, но шли месяцы, и вот уже казалось, что открывать такую важную информацию слишком поздно. Человек так легко может вспылить. Рассказать сейчас? Это еще хуже, чем не говорить вовсе.
Я опоздала на десять минут. Когда вошла в банкетный зал, Ён объявил всему столу:
– Моя жена работала.
– Шла, а не работала, – сказала я.
Между ним и Чжао – партнером Ёна на текстильной фабрике – сидел Фу – лысеющий мужчина, которого Ён представил мне как закупщика «Уолмарта». Я заняла пустое место рядом с женой Чжао, Луцзин.
Ён надел серебряные запонки – мой подарок на шестую годовщину свадьбы. Его глаза и рот подпирались расщелинами морщин. Он был красив какой-то полуразрушенной красотой; его красота была в том, что она осталась позади, его привлекательность отражала всё то, что он уже пережил, – хотя он бы только рассмеялся над этим описанием, потому что не понимал ностальгии. «Я и не помню ничего до тридцати лет», – говорил он. Может быть, врал. Перед коллегами он делал вид, будто успех дался ему без усилий, хотя перед каждой крупной встречей он репетировал перед зеркалом то, что скажет, записывал и заучивал реплики. Я помогала.
Еду принесли быстро. Тарелка с креветками, другая – с гребешками и овощами. Медузы, ракушки, морские ушки. Луцзин наливала чай. «Как работа?» На одном из ее передних зубов пятнышко от помады. Я не стала привлекать к этому внимание.
– У нас рекордный набор студентов – Я насадила креветку и оторвала ей голову, положила на край тарелки. На меня уставился ее глаз. – Все хотят знать английский.
– Мне английский не нужен. – Луцзин жевала большой гребешок. – Мы занимаемся бизнесом на шанхайском. – Луцзин была северянкой, которая так и не простила мужа за то, что тот вернулся в родную провинцию, чтобы возглавить фабрику, и Чжао любил хвастаться ее беглым мандаринским и шанхайским – этими чистыми, элегантными тонами. На ужинах в их доме в Цзяньбине Луцзин подавала изощренные безвкусные блюда, а Чжао пил пиво, бокал за бокалом, пока живот не распухал так, что приходилось ослаблять ремень, а потом снова и снова. На этих приемах мужчины жаловались на сычуаньцев, которые работают за гроши, но уже не мигрируют в Фучжоу массово, а едут работать на новые фабрики в Шеньчжень. Ён был из тех начальников, которые любят жаловаться на свою жизнь. Это были не настоящие жалобы, а замаскированная похвальба; дела в «Ёнтекс» шли отлично – хотя ему и было о чем волноваться.
Женские разговоры на этих приемах были еще хуже, потому что от меня ожидалось участие. Ха! Какая частная школа лучше? Какие гувернантки самые дешевые, но честные? По рукам ходил каталог с идеями для косметического ремонта: фотографии одного распотрошенного кухонного шкафчика за другим, снятые в привлекательных позах, как модели купальников. Фотографии пустых кастрюль на искрящихся конфорках и улыбающихся матерей, отцов и детей – все черноволосые и темноглазые, с невероятно бледной кожей и длинными ногами (и где в Фучжоу сыщешь такие экземпляры?). Я листала страницы и вспоминала диван в нашей квартире в Бронксе, те вечера, когда на ужин было более чем достаточно хот-догов и лапши быстрого приготовления. Или тот вечер, когда я бросила всё, что знала, ради нового города, в возбуждении и страхе от своего поступка.
Ён был на втором пиве, Чжао и Фу – на третьем.
– Мы сделали на экспорте шесть миллионов долларов за фискальный год, – говорил Чжао. – В прошлом году мы доставили рождественские заказы рано. Стоимость производства для «Уолмарта» составляла всего лишь четверть от розничной цены.
Ён повернулся ко мне.
– Моя жена долго работала в Нью-Йорке. Теперь она преподает английский, занимается переводами для «Ёнтекса».
Фу взглянул на меня. Я изобразила учительский голос.
– Я видела американские заводы, и им не сравниться с «Ёнтексом».
– А какие в Нью-Йорке дома? – спросил Фу.
– Высокие. Красивые. Величественные.
Луцзин опустила глаза в тарелку и почесала ногу.
– А погода?
– Летом жарко и солнечно, зимой – снег.
– Фучжоу мог бы быть перворазрядным городом, но поддался дурным тенденциям, – сказал Фу. – Слишком много чужаков.
– Дешевая рабочая сила, – сказала Луцзин.
– Двенадцать человек на одну комнату, друг у друга на головах, – сказал Чжао. – Когда так живешь, ничего удивительного, что к тебе относятся не лучше, чем к крысам.
Я ненавидела эти гадости, но терпела. Ён попросил меня прийти, чтобы произвести хорошее впечатление на закупщика «Уолмарта». Однажды, когда я возразила клиенту насчет сычуаньских рабочих, Ён не смог заключить сделку. Несколько недель он нервничал, что из-за потенциального банкротства «Ёнтекса» лишится квартиры, никогда не переедет в Цзяньбинь, как хотел. «Не понимаю, почему ты не переживаешь», – сказал он, и я уже хотела ответить, что он перегибает палку, что ничего плохого не случится, а потом увидела, что он боится по-настоящему, услышала дрожь в голосе. Самый худший страх Ёна – что в нем распознают фальшивку, что он совершит фатальную ошибку, которая приведет к падению статуса. Этот город полон таких людей. Здесь легко зарабатывают и легко разоряются. Но Ён никогда не жил без денег и потому не мог себе представить, что это вообще возможно.
Я достала из сумочки телефон. Уведомление на экране о новом сообщении с незнакомого номера; я не слышала звонка. Попросила прощения и вышла в фойе ресторана, набрала код и включила голосовую почту. «Алло? – сказал мужской голос. Медленная, нерешительная фучжоуская речь со странным, неузнаваемым акцентом. – Это сообщение для Полли Гуо».
Сперва я думала, что это звонит клиент с жалобой на «Ворлд Топ» или рабочие Ёна насчет очередного изменения в бесконечных обновлениях кухни.
«Это твой сын, Деминь».
Сердце часто забилось. Я прослушала сообщение. Твой голос был глубоким, взрослым, но что-то в нем узнавалось, несмотря на паршивый китайский: «Я хорошо. Нью-Йорк там, где я живу. Леон твой номер дал. Леона нашел я, Майкл нашел меня. Ты хорошо? Я хочу с тобой говорить».
Ты оставил телефонный номер и сказал, что я могу звонить в любое время. Я закусила пальцы. Руки прострелила боль. В порядке ли ты? Как ты меня нашел? Я много лет не общалась с Леоном. Когда на меня посмотрела хостес, я вынула пальцы изо рта и попыталась улыбнуться. «Звонок по работе», – сказала я.
Как долго я хотела тебя найти. Леон говорил, что тебя усыновили американцы, что о тебе заботятся, настаивал, что ты в добрых руках, и я старалась ему поверить, потому что единственным способом продолжать жить было вести себя так, будто тебя нет, будто нам лучше оставаться порознь, как сейчас. Но если бы у меня был выбор – а его не было, – я бы никогда тебя не отдала, никогда! Я снова проиграла сообщение, сохранила номер. Если не обращать внимания на акцент и дерьмовую грамматику, казалось, что с тобой все хорошо – что ты здоров и счастлив.
Когда я вернулась, большие тарелки с едой уже показались гротескными, сибаритскими. Чжао и Фу подняли кружки. «За успех», – сказал Ён. Я повторила тост, но моя рука дрожала.
– Фу впечатлило, что ты жила в Нью-Йорке, – сказал Ён, когда поднимался на минивэне по холму.
Я проверила телефон – новых звонков не было.
– Надеюсь, вы закроете сделку.
– Я тоже на это надеюсь.
Мы заехали в подземный гараж, поднялись на лифте на двенадцатый этаж. Кафель – такой приятный и прохладный влажным летом – обжег ноги холодом. Я подняла температуру на термостате. Холод казался кусачим коричневым одеялом, пронизывал до костей. Я достала из коробки на кухне пластиковую бутылку с водой и пыталась игнорировать пыль от каменной кладки и строительную пленку на всех поверхностях. Зашевелилась память – кухня в Бронксе. «Мама?» – сказал ты с трусами на голове: тебе было шесть или семь и ты хохотал, когда шел ко мне, выставив руки, как чудище. Ты-ты-ты – я цеплялась за образ, но он ускользал. Как быстро воспоминания выходили из-под контроля: от твоей руки – к губам Леона, к маникюрному салону, к Стар-Хиллу, к Ардсливилю.
Я смыла макияж. Мы переоделись в пижамы и сели на диван, прислонившись друг к другу, и посмотрели серию корейской исторической драмы о Средневековье. Ён играл с моими волосами; я поглаживала его руки. Это было мое любимое время дня, когда мы дома вместе, не переживаем из-за того, как выглядим и что говорим.
В Нью-Йорке было утро. Похож ли ты еще на меня? Какого ты роста? Мы играли в прятки в коммуналке на Рутгерс-стрит: ты прятался, а я ходила и спрашивала соседок: «Вы не видели Деминя? Где же он?» – пока ты не начинал хихикать, а я говорила: «Кажется, я что-то слышу!» Потом ты – пухлый, обвиняющий, мой – вылезал из укрытия, показывал на меня и кричал: «Ты меня потеряла!»
Твоя приемная семья наверняка живет рядом с центральным парком в каком-нибудь охренительном кирпичном доме с золотой табличкой и швейцаром в ливрее.
Когда серия кончилась на том, что героиня и ее любовник скрылись от королевской армии, мы с Ёном легли. У нас был большой твердый матрас. Плотные мягкие простыни. «Долгий день», – сказал он, пододвигаясь ко мне под бок. Как только он уснет, я выйду на балкон и позвоню тебе.
– Да, как хорошо наконец отдохнуть.
В квартире было почти тихо, только гул холодильника и другие загадочные шумы, поддерживающие постоянный комфорт квартиры, сохраняющие покой и стабильность в жизни. Я смотрела на наши высокие потолки и чистые стены, на которых развесила репродукции картин – абстрактные фигуры ярких синих и зеленых цветов. Я любила дом, который мы создали вместе, и то, как мы оставляли друг для друга тайные послания (этим утром я нашла в сумочке такое: «Сегодня на ужин картошка»), наши шутки, например про форму головы Чжао. Я любила наш паркет, большие окна, выходящие на город. В ясный день можно было даже разглядеть клинышек океана. Как только я впервые увидела с балкона Ёна воду, я поняла, что буду жить здесь.
Какое было облегчение, что я его нашла, что мне было к кому возвращаться домой, поддаваться ежедневным заботам: планировать уроки в «Ворлд Топ Инглиш» и придумывать, куда пойти на ужин, занимать себя хлопотами, разговорами и делами, пока не оставалось места для мыслей о тебе. Вот что возможно в этом городе. Женщина может приехать из ниоткуда и стать новым человеком. Женщину можно прихорошить, как букет искусственных цветов, поправить так и этак, оглядеть на расстоянии, снова поправить.
Теперь это уже стало слишком большой ложью, чтобы признаваться Ёну, что у меня есть двадцатиоднолетний сын, о котором я почему-то никогда не говорила раньше. Нельзя опустить из истории жизни собственного ребенка, будто это какой-то пустяк. Ён не одобрял, что Луцзин и Чао отправили дочь в интернат, а в сравнении с этим то, что сделала я, было непростительно. Мне не хотелось об этом думать, не хотелось вспоминать. Если бы я позвонила тебе и если бы Ён узнал, что я врала о ребенке, он бы разозлился, а потом бросил бы меня, и мне пришлось бы перестать быть собой.
Я устала. Взяла таблетку из флакончика. Без нее мне бы снились коричневые одеяла и собаки и то, как ты машешь из поезда метро, отъезжающего со станции в ту же секунду, когда я выхожу на платформу. Но благодаря таблетке я нырну ниже, быстрее, к безопасности – и каждое утро я просыпалась без снов, а часы между тем, как я ложилась, и тем, как слышала будильник – настойчивый писк с берега, под звуки которого я пыталась всплыть на поверхность, – казались глубокой бездной; от одиннадцати вечера до шести тридцати утра проходило всего несколько секунд.
Ён охватил меня руками и ногами. Мы лежали вместе, как и каждый вечер уже на протяжении семи лет. Я положила голову ему на грудь. Вы бы с Майклом смеялись, а мы бы с Вивиан разговаривали за столом.
– Знаю, это какой-то ужас, но скоро всё кончится, – сказал он.
– О чем ты?
– О кухне. – Его глаза оживились. – Я поговорил с подрядчиком насчет шкафчиков. Их закажут специально для нас.
– Ладно. Чудесно. Спасибо.
Он поцеловал меня.
– Спокойной ночи.
Я натянула маску для сна. Ён мог заснуть среди бела дня, но я настояла на тяжелых шторах в спальне. Иногда его способность крепко спать казалась личным оскорблением.
Я прислушивалась к его дыханию, глубокому и размеренному, пока таблетка начала увлекать меня вниз. Теперь я слишком устала, чтобы разговаривать; подожду и перезвоню тебе завтра. «Спокойной ночи», – сказала я. Но Ён ничего не ответил, он уже спал, и я слышала только собственный голос, только то, как разговаривала сама с собой.
В доме на 3-й улице было тихо, как в нашей спальне в Уэст-Лейк. Отец любил говорить, что женщины слишком много трещат, что некоторым лучше вообще помалкивать. Так что я выросла, глотая слова, и только потом осознала, сколько их скопилось внутри. В заводском общежитии предложения полились из меня, как из сломанного крана, а когда я переехала еще дальше и увидела, как дети плещутся в реках, брызжущих из пожарных гидрантов, как вода хлещет на улицы, как будто бесконечная, я узнала в этом гидранте себя – но раскрывшуюся в полную силу; голодный поток.
Если бы ты знал обо мне больше, Деминь, может, ты бы меня не упрекал, может, ты бы понял меня лучше. Мне остается только быть такой честной, какой умею, – даже если это не то, что ты хочешь слышать.
Моя мать умерла, когда мне было шесть месяцев. Рак. Я ее не помнила, никогда не видела ее фотографий, ничего. В двухкомнатном домике, где я жила с твоим дедушкой, ей принадлежали только две вещи: синяя куртка и серая расческа. Когда йи ба был на реке, я причесывалась ей и надевала куртку – матерчатую, от которой слабо пахло листьями и волосами, где ткань истиралась с каждым разом, как я ее носила, пока однажды не отвалилась нижняя пуговица – темно-синяя, четыре маленькие дырочки. Я увидела, как она пытается ускользнуть из комнаты, но прижала пальцами и сохранила в сумочке, где прятала расческу.
– Она была умной? – спрашивала я йи ба. – Она была красивой? Какая у нее была любимая рыба?
Он отвечал: «Конечно, конечно».
Я решила, что моя мать была низенькой женщиной с волнистыми волосами, потому что сама была низенькой, а мои волосы – немного волнистыми. В деревне жила одна женщина с голосом, как звенящий колокольчик, – «Поди сюда, Бао Бао, – говорила она на рынке, – не играй в грязи», – и каждый раз, когда мне становилось грустно без матери – впрочем, не так уж и часто, – я вспоминала этот звенящий голос, притворялась, что женщина зовет по имени меня (Пейлан – тогда я была Пейлан), а не Бао Бао.
Отец любил говорить что-нибудь в таком духе: «Когда я был маленьким, моя семья жила в такой бедности, что мы с братом делили одно зернышко риса на двоих. Люди то и дело мерли, а сегодня все стали изнеженные и избалованные. Страданий ты не видела».
Минцзян был бедной деревушкой в бедной провинции, но в сравнении с некоторыми моими одноклассниками мы питались хорошо. К рыбе, которую ловил йи ба, шли овощи, вяло росшие на выделенном нам огороде, а когда еды не хватало, он отдавал свою порцию мне. «Видишь, что для тебя делает йи ба?» – говорил тогда он. Я пыталась вернуть тарелку, но он говорил, что я должна съесть всё до последней крошки. Нельзя тратить еду впустую, когда люди голодают.
В погодистые дни отец брал меня на рыбацкую лодку. Мы вставали с рассветом задолго до того, как становилось жарко, так рано, что тропинку загораживали завихрения тумана. Йи ба нес коробку с чаем, пока я шлепала по пористой земле с вяленой свининой в руках. «Сегодня нам повезет, – говорил он. – Видишь, облака как паутина? Значит, вода нас приветит». На западной стороне речного берега вода едва проглядывала между длинными лодками, и даже самые мелкие волны вызывали деревянный перестук, когда один ялик задевал другой, а тот – следующий: бусы из полых зеркальных звуков. Лодка йи ба была темно-зеленой; там, где шелушилась краска, обнажались коричневые полосы, а у руля была залатанная вмятина в форме рыбы – удар невидимого камня. Я помогала отвязать лодку, и мы толкали ее на течение. «Везет-везет-везет», – напевала я, глядя, как волны лижут дерево, словно сотни маленьких язычков. Потом берег пропадал из виду, во всех направлениях расстилалась синь, заполняя поле зрения, и небо было таким большим, что могло бы проглотить меня целиком, и я хохотала от счастья.
В не очень хорошие дни подкрадывались и окружали горы, всюду – очередной непреодолимый холм, хмурые тучи покачивали мне языками: плохая девочка, плохая девочка.
В те времена если ты уходил из деревни, то к тебе относились с подозрением. Можно было выйти замуж за парня из соседней деревни и возвращаться по праздникам – смотрите, какие у меня толстые и счастливые дети! – но в остальном все прирастали к месту. Не то чтобы йи ба хотелось быть рыбаком и безвылазно жить в Минцзяне, но у деревенских не было другого выбора, а он так и не окончил пятый класс, хотя его младший брат дошел до седьмого и переехал в ближайший город. Так йи ба остался в том же доме, где его растили родители. Он рассказывал мне о мощеных улицах города, где жил его брат, о фотографиях Шанхая, которые видел в журнале. Я спросила, можно ли туда поехать, и он сказал «нет». «Тогда кто там живет?» – спрашивала я. Он ответил: «Ленивые богачи».
У нас были куры. Моей работой было собирать яйца, разбрасывать корм. Я бродила по траве, с хвостиками на голове, напоминающими твердые рога, совала нос то туда, то сюда. Сын соседей, Хайфэн, бросал все дела и бежал ко мне. «Давай играть в лошадок», – говорила я, и мы гарцевали по округе и ржали.称
У меня были две подружки, Фан и Лилин. Мы любили играть у реки после школы, и я показывала на пятнышко вдали и говорила: «Это лодка моего отца», хотя даже не знала, его это лодка, чужая или вообще большой камень. Мы поднимали руки, когда пробегали под деревом на деревенской площади, и листья целовали наши пальцы.
Я всегда говорила тебе не быть такой, как я. Я бросила школу в восьмом классе. Глупо. Я попросила мальчишку, который учился еще хуже, чем я, но у которого родители состояли в партии, поделиться сигаретой («Девчонки не курят», – говорил он, и я не могла удержаться против такого вызова). После вдоха легкие загорелись, но я терпела и подавила кашель, и выдохнула плавно и аккуратно, выпустила дымок из губ идеальным завитком. Учитель Ву выпорол меня, а не мальчика. Я лежала на его столе, пока он лупил меня по попе деревянной дощечкой, и, глядя на ошарашенные лица одноклассников, я смеялась. Я видела, как плачут мальчишки, когда их лупят, но оказалось, что в этом наказании нет ничего страшного.
После этого я не вернулась в школу, и лето текло медленной патокой. Мои волосы становились длиннее, черты лица – резче; я подметала комнаты, пока полы не становились такими чистыми, что хоть облизывай. Тем летом вся деревня была сонная – стоячий пруд во влажный день. Полосатые брезенты, натянутые над переулком, были блеклыми и рваными, и продавцы сандалиями, батарейками и шершавыми трусами в отдельных пластиковых упаковках сидели с таким видом, будто не собирались ничего продавать. Яйца наших кур стали меньше, будто они неслись с трудом.
Дождя не было несколько недель. Трава лысела и бурела, йи ба жаловался, что из Фучжоу спускаются торговые рыбацкие лодки с промышленными сетями, которые могли выловить всю рыбу. Он сдал лодку рыбаку помоложе и нашел работу на новой консервной фабрике, но она закрылась и переехала в город, и ему пришлось возвращать рыбаку деньги, чтобы снова выходить по утрам на лодке. В течение трех месяцев, пока он работал на фабрике, у нас на ужин дважды в неделю была говядина и даже сушеное тофу на закуску, и однажды появилась новая оранжевая футболка для меня, хотя я была такой неуклюжей, что порвала рукав, когда лазила на дерево с Лилин и Фан. Я скучала по жевательности тофу – я мариновала его кусочки за щекой и вознаграждалась ручейком соли во рту.
Фан переехала в город жить с тетей. Дома у Лилин я просила показать старую книгу с картинками национальных видов: черно-белыми фотографиями водопадов в дымке, гигантских песчаных дюн, храмов Пекина, Великой Китайской стены. Мест, где мне хотелось побывать. «Листай медленно», – говорила она, пока следила за мной. Сдав вступительный экзамен в старшую школу, Лилин сказала, что я могу забрать книгу, что та ей больше не нужна. Но когда я смотрела на картинки дома, они уже не воодушевляли.
Однажды в конце лета, когда мне было пятнадцать, я стирала белье. Стирать в такой влажности бесполезно, но ждать другой погоды уже не осталось сил, а стирать было надо. Я наполняла пластмассовые тазы, выжимала одежду и вешала на веревке – трусы йи ба и свои футболки, хлопающие квадраты серого, красного и белого цветов. Я услышала тихий скрип и подняла глаза – на меня с велосипеда смотрел соседский мальчик, Хайфэн, – он был выше, чем когда я видела его в последний раз.
– Пейлан, – сказал он. – Прокатить?
Йи ба звал его Слабаком Ли. «Мягкий как подушка», – говорил он, когда мы слышали, как родители устраивают Хайфэну головомойку за то, что он провалил вступительный экзамен. Мне было немного жалко Хайфэна. Многие дети в Минцзяне не доучивались и до девятого класса. Шансов поступить в колледж и подняться из крестьянского класса у нас было не больше, чем шансов слетать на чертову Луну.
На летней жаре темные волосы Хайфэна липли к лицу. У него уже появились залысины, из-за которых он казался старше. Руки и ноги у него были долговязыми, но на икрах и предплечьях виднелись жилистые мускулы, скрученные и скрывающиеся. Сюрприз!
Не то чтобы у меня были какие-то важные дела. Я села на велосипед сзади, держала равновесие, отмахиваясь от комаров, пока высокая трава щекотала ноги. Хайфэн крутил педали, небо было разверстым и ярким, колеса скрипели, мы катили по полям. Я принюхалась; от него пахло солью.
– Поехали на реку, – сказала я. Мы и так были недалеко.
В первый и второй день, когда мы ездили на реку, мы говорили о наших семьях. Я рассказала Хайфэну, как злится отец, что мне плевать на школьный экзамен, – хоть йи ба в этом и не признается. Хайфэн сказал, что его родители ругаются, но сам он чувствует большое облегчение.
– Ненавижу школу, – как здорово было сказать это вслух.
– Я тоже, – ответил он. – Я помогаю отцу в поле. Однажды это будет моя земля.
Хайфэн сказал, что уважает меня за то, что я не испугалась учителя Ву.
– Ты такая смелая. Даже не плакала, когда тебя лупили.
– Было не больно. – Я не помнила, чтобы Хайфэна лупили в школе. Он никогда не лез в неприятности, хотя и примерным учеником его было не назвать. Вообще-то казалось, что я почти не видела его в классе. – Ты дружишь с Рю? – спросила я, хотя не помнила, чтобы видела их вместе. – Что он делает этим летом?
– Не знаю.
– А с кем ты тогда дружишь?
– В четвертом классе дружил с Гуаном, но его семья переехала.
Когда он пришел на третий день, я сказала:
– Давай займемся чем-нибудь новеньким.
Я поцеловала его. Он ничего не сказал.
– Понравилось? – Я сомневалась, что мне самой понравилось. Его губы были потными, да и я надеялась, что поцелуй разожжет какое-то заметное чувство – как в сериалах, которые я видела по телевизору родителей Лилин, когда друг по другу бешено возюкали губами.
Мы попробовали еще раз. Лицо Хайфэна нависало надо мной, его черты становились карикатурными. Я закрыла глаза и попыталась прочувствовать возбуждение телеактеров. И все равно – ничего.
Мы прижались ближе друг к другу, и я что-то почувствовала. Его губы прижимались к моим; в них попали пряди моих волос. Теперь это он впал в какое-то бешенство, и мне пришлось оторваться, вытереть слюну с лица.
Он бегал к моему дому каждый день, когда заканчивал работать с отцом. Мне нравилось его внимание, но я не испытывала тех же восторгов, что и он. У Хайфэна были сильные мускулы, но еще он казался слишком очевидным и услужливым. В некоторые дни я даже слала его обратно домой, но потом заканчивала все дела по дому, а день только начинался, и хотелось с кем-то поговорить. Когда Хайфэн возвращался на следующий день, я заскакивала на его велосипед без возражений.
Лежа у реки, я смотрела на небо, плывущие облака и представляла, как взлетаю к солнцу. Больше так не делала ни одна девочка; я была особенная. «Ты такая красивая», – сказал Хайфэн. Он рассказывал, как ему нравится мой рот, что мои губы похожи на две половинки сердечка. Ему даже нравилось родимое пятно у меня на шее.
Однажды утром мать Хайфэна поймала меня в переулке за руку. «Держись подальше от моего сына», – сказала она.
Я представила, как госпожа Ли тужится над дыркой туалета, и рассмеялась. Она выкрутила мне мочку уха, и у меня из глаз брызнули слезы, внезапные и унизительные.
Когда Хайфэн узнал, что со мной разговаривала его мать, он пришел в ярость. «Она не имеет права. Не имеет права!» – он метался по берегу и топтал сорняки. Он постригся, и теперь было видно, какие у него оттопыренные уши.
– Да ничего. – Я скучала по времени, когда ходила на реку одна, но, когда я как-то сказала Хайфэну, что хочу побыть одна всего денек, он убрел с понурым лицом, и я даже не получила удовольствия от одиночества.
– Я буду с тобой видеться, когда захочу. Пусть не говорит, что делать. Однажды ты можешь стать ее невесткой, и что тогда она скажет?
Я села и расправила одежду. «Я хочу домой». Он снова поцеловал меня, пытаясь раздвинуть губы языком, но я отстранилась.
Я всегда возвращалась домой раньше, чем приходил с рыбалки йи ба, и следила, чтобы мы с Хайфэном уходили на берег, скрытый за деревьями и травой. Но если бы отец нас поймал или ему рассказала мать Хайфэна, что его дочка видится с ее сыном, он бы положил этому конец или даже отослал меня из деревни.
Все началось со слухов: из города перестали депортировать деревенских мигрантов. Селяне еще не могли получить постоянный хукоу, зато могли купить временные разрешения на проживание и найти работу получше, чем рыбалка и земледелие. Два взрослых парня с 5-й улицы уехали в Фучжоу – столицу провинции – и вернулись домой с баснями о шестиэтажных зданиях и красотках в обтягивающих штанах. Тогда уехало больше парней, находили там работу на заводах. Девочки из деревни в город еще не ездили, но я знала, что уехать на заработки не так подозрительно, как уехать, чтобы стать новым человеком. Я никогда не была в Фучжоу, хоть он и находился всего в паре часов пути, и не знала, какой будет работа на заводе, – знала только, что заработаю и что мне не придется молча просиживать ужины с йи ба, глядя, как он угрюмо жует.
Когда я спросила Хайфэна о том, не хочет ли он перебраться в город, он смешался, потом испугался.
– Нет, мне и здесь хорошо.
Я рассказала, что подумываю поехать.
– В Фучжоу? Туда же ездят только парни.
На продуктовом рынке родители моих бывших одноклассников обсуждали, что их сыновья шлют домой по двести пятьдесят юаней в месяц. Одна женщина, чей сын еще учился в школе, спрашивала остальных: «Вы не боитесь, что ваши сыновья одни в большом городе? Там в общежитиях живут самые разные девушки, никакого пригляда за ними нет».
Я помчалась домой и быстро переделала все дела. За ужином я объявила:
– Я еду в город, буду работать на заводе.
– На заводах работают только парни, – сказал йи ба.
– Девушек тоже берут. На завод, где работает сын госпожи Цзя. У них есть отдельные общежития для девушек, и они зарабатывают по триста юаней в месяц.
В «Корпорации экспорта одежды Фучжоу» цеха гудели от моторов сотен швейных машинок, а окна запотевали от обжигающего жара утюгов. Я сидела за длинным столом на южной стороне четвертого этажа и весь день обрезала нитки на джинсах из большой кучи. Руки затекали, но я усердно трудилась, хотя жара стояла такая, что я чувствовала себя морковкой на сковородке. Пот капал на ткань, времени вытирать не было. Я не могла отложить ножницы ни на секунду, не могла посмотреть, как струится в окна солнце, подивиться, сколько есть оттенков синего всего в одном квадратике денима. Джинсы все поступали и поступали, и если я отставала хоть на секунду, то на меня ругались девушки дальше по очереди, а бригадир Тунг мог снизить зарплату.
Город переполнили девушки вроде меня, которые клялись, что больше никогда не вернутся домой. Я хотела дослужиться до завода получше, общежития побольше, а в конце концов и до собственной квартиры, как у двоюродной сестры моей подруги Цин.
Фучжоу не был похож на Пекин с картинок из старой книжки Лилин. Переулки вливались в улицы, затуманенные поземкой выхлопов, шоссе были с ухабами, а в воздухе слышались сплошь бензопилы и стук молотков. Мы спали по шестнадцать человек в комнате – два ряда по восемь коек, – украшали стены картинками из журналов – с актерами, певцами и горными и озерными ландшафтами. С кроватных стоек свисали плюшевые зверушки – мишки зеленых и розовых расцветок. В очереди в ванную в пять тридцать утра мы жаловались на свои тринадцатичасовые смены, как старухи, обсуждали ноющие плечи и пародировали бригадира Тунга. Я пародировала смешно. Нависала над койками и орала: «Быстрей, лентяйки, быстрей, черепахи!» – и фыркала точно как он, по словам моих соседок. «Слишком медленно! Пропустила нитку!» Остальные девчонки хватались за животы от смеха.
В одном месяце я послала домой двести семьдесят юаней, в следующем – двести сорок. «И это всё, что ты заработала?» – спросил по телефону йи ба. Я сказала, что постараюсь послать еще, хотя и это было вдвое больше того, что йи ба зарабатывал рыбалкой. Когда я позвонила сказать, что получила двести юаней за три недели, он ответил: «Ну, знать, хорошо я тебя выучил». Потом соседи рассказывали мне, что он всюду мной хвастался, говорил, что я тружусь больше любого парня. Когда они узнали, сколько я зарабатываю, уже никто не говорил, что девочке неприлично жить одной в городе. Они слали и своих дочерей; заставляли их ехать.
Скоро у йи ба появился телевизор – самый большой на 3-й улице; и, когда он возвращался домой с очередного неудачного дня в море, перед экраном лежали, раскрыв рот, четверо-пятеро детей, пуская слюни перед непонятной исторической драмой, и к ночи аудитория увеличивалась до девяти, десяти, одиннадцати, а то и четырнадцати детей, лузгающих арахис и бросающих шелуху на пол. Когда йи ба выходил в туалет, лузга шуршала под ногами и колола пятки. «Проваливайте домой», – представляла я, как говорит он, но не всерьез, и ему наверняка было грустно, когда остальные родители на деньги, которые слали из города их старшие дети, купили собственные телевизоры и его ночи снова стали тихими.
Через два месяца после моего отъезда из Минцзяна родители Хайфэна послали его в город. Пока я резала нитки, он вставлял пластмассовые катушки в кассеты на заводе электроники напротив, и наши выходные совпадали редко. Когда он только приехал, каждую неделю звонил на общий телефон в моем общежитии, хотя редко попадал на меня. Я нечасто о нем вспоминала, скучала только тогда, когда оставалась одна, когда переживала, что мало помогаю йи ба.
В основном свободное время я проводила с Сюань и Цин. У нас были одинаковые джинсы – синие, облегающие, с серебряной звездой на каждой ягодице, – и днем мы дефилировали по улице рука об руку, двигаясь в ритм, будто весь мир существовал, только чтобы смотреть на нас. Мы танцевали под кассеты, которые Цин ставила на своем «Волкмене», – попсу про настоящую любовь или разлуку. Я запоминала слова песен, записывала в ярко-розовый блокнот. Рядом был магазин, где из огромных динамиков гремела музыка и стояли целые стойки разноцветных кассет. Мои любимые песни были про девушек, с которыми плохо обходились парни, но теперь им хорошо и самим по себе.
У Сюань – главной красотки в нашей спальне, с густыми волосами и пышными губками, – в городе был любовник, мужчина почти тридцати лет. Ее парень, оставшийся учиться в старшей школе в деревне, не знал про взрослого мужчину. Я спрашивала, почему она не бросит парня, и она отвечала, что не отказывалась от запасного варианта, потому что у городского любовника уже была невеста с городским хукоу, да и ей самой не хочется за него выходить. Он покупал ей свитера и остроносые туфли и давал карманные деньги, которые она слала домой младшим братьям и сестрам. Меня впечатляло, как просто она к этому относится.
– У моего парня ба ва длинный и тощий, – объявила Сюань. Мы сидели на койках перед сном. – А у моего городского – короткий, но толстый. – Она провела руками по волосам и расправила их на плечах.
– Короткий и толстый лучше, чем длинный и тощий, – Цин поморщила нос и театрально передернулась. У нее были широко расставлены глаза, а сама она была пышкой. Ее старшая двоюродная сестра жила с четырьмя соседками в квартире рядом с центром Фучжоу, и в одно из воскресений мы втроем отправлялись туда в гости – ехали на автобусах через город. Потом я всё не могла выкинуть из головы эту квартиру – со своим туалетом со смывом, со шкафом, где жилицы хранили одежду и обувь. Мне хотелось, чтобы йи ба приехал в мою собственную квартиру, мне хотелось достать тапочки для гостей из собственного шкафа.
– Мой городской – опытный, – говорила Сюань. – Ему нравится делать это стоя.
– О, – сказала Цин, обнажив кривой резец, который обычно пыталась прятать. – Здорово.
Сюань повернулась ко мне.
– А ты, Пейлан? Тебе какие больше нравятся?
С края верхней койки свисала клетчатая простыня.
– Наверно, длинные и тощие. – Я не занималась сексом с Хайфэном, но подружки этого не знали.
– Тебе надо сравнить. Что, если скажешь, будто нравятся длинные и тощие, а сама никогда не пробовала короткие и толстые? Так никогда и не узнаешь, какие больше нравятся, – Сюань поджала губы из-за такой трагедии.
– Деревенские – скромницы, – сказала Цин, хотя сама приехала из такой маленькой деревни, что в нее даже не проложили дорогу. – Ты не скромничай, сестричка.
– Городского можно найти, если у тебя будет вот такое, – Сюань достала кружевной лифчик из сумки с названием магазина «Лаверс». Чашечки были в виде сердечек, и еще сердечко было нарисовано на трусиках. – Их мне купил мой городской.
Однажды вечером, когда я задержалась на работе, Цин и Сюань пошли ужинать без меня, и я слушала, как остальные соседки обсуждают работу на новых заводах. В спальне было жарко и душно. Я так давно не дышала чистым воздухом с моря.
Я спустилась вниз и подождала, пока освободится телефонная будка. Когда на другом конце провода сменились три человека, мне наконец ответил Хайфэн.
– Пейлан. – Мы не разговаривали уже несколько месяцев. – Ты позвонила.
«Ты позвонила».
– Встретимся на следующей неделе?
Мы пошли в мотель, который посоветовала Сюань. Соврали про наш возраст и подкупили клерка моими деньгами. Первоначальный восторг съежился, когда я почувствовала на себе липкие пальцы Хайфэна, а когда он разделся, увидела, что он еще больше отощал. Но я уже решилась стать взрослой, как Сюань.
В первый раз все кончилось слишком быстро. Мы попробовали опять.
– Я так по тебе скучал. – Хайфэн целовал мои щеки и плечи. – Любимая моя. – Я курила его сигареты, пока он спал, и смотрела в мутное окно на строительные леса очередного возводящегося здания. Ушла пораньше и вернулась в общежитие.
Месячных не было два месяца подряд. Как тебе передать мой ужас? Я стала хуже работать, и бригадир Тунг сказал, что уволит меня, если я не приду в себя. В номере мотеля Хайфэн говорил что-нибудь вроде «когда мы вернемся в деревню» и «когда мы будем жить вместе как муж и жена». Я не спала ночами, так и видела перед собой долгий путь через деревню в прокатном свадебном платье, гадком от пота под мышками прошлой и позапрошлой невест, пока соседи хихикают насчет грядущей брачной ночи. Если бы я сказала Хайфэну, что беременна, он бы вел себя так, будто дело со свадьбой уже решено. И еще ждал бы, что я обрадуюсь или, хуже того, буду благодарна. Я увидела, что годы всей моей жизни расписаны до конца: деревня, 3-я улица, дети и мы с Хайфэном, ненавидящие друг друга до самой смерти.
Зарплата. Я попросила у Цин «Волкмен» и пошла в музыкальный магазин, купила кассету на деньги, которые должна была послать йи ба. Я гуляла и гуляла, и увидела шоссе. Подъехал автобус и раскрыл двери, и я села. Водитель спросил, куда я еду, и, пока двери не закрылись, я выскочила. До этого момента я делала всё, что хотела, без последствий. ЧЕРТ! Я шла по обочине шоссе. Проезжая, гудели грузовики, поднимали тучи пыли. На заводе работали замужние женщины – они приводили с собой на работу детей, которые дремали в стопках джинсов XXXL, ожидавших отправки на американские склады. Но мне хотелось домой, в деревню, чтобы обо мне заботился йи ба.
Конечно, мне было одиноко, но надо было думать головой, прежде чем встречаться с Хайфэном в мотеле. Я знала, что мы рискуем, но не ожидала, что окажусь беременной. Какие шансы? Но я влезла в западню и доказала, что отец прав. Йи ба думал, что во всем, что случается с женщиной, виновата всегда сама женщина. Мне это было противно. Если женщина не замужем, то сама виновата, что такая страшная или независимая; если слишком предана мужу, то сама виновата, что такая размазня или отчаянная; если у мужа девушка на стороне, то это жена виновата, что ему надоела, и жена вместе с любовницей виноваты, что позволили ими воспользоваться. Если бы я всё рассказала йи ба, он бы с соседями был только доволен, что за всей своей дерзостью я всегда была девушкой, которая поступает ровно так, как от нее ожидают.
Когда я вернулась в общежитие, было уже темно и ноги отваливались. Цин на меня злилась – она подумала, что я украла ее «Волкмен». И тогда я сломалась и все рассказала подружкам.
– Есть процедура, – сказала Сюань. – Ничего страшного. Я один раз уже так делала. Поболит, но без работы отлежишься всего денек. Мы сходим с тобой.
– Больница прямо на нашем шоссе, – сказала Цин.
Хайфэн звонил в общежитие и спрашивал меня. Я не перезванивала. Больше мы с ним никогда не разговаривали.
В больнице за столом перед входом в смотровой кабинет сидела женщина в овальных очках. «Документы», – сказала она. Сюань и Цин не смогли отлучиться с работы, и я сказала, что схожу сама. Но я жалела, что они меня послушали, – даже если бы они потеряли деньги за день работы. Я бы ради них на это пошла.
Я дала свои документы, и женщина нахмурилась.
– Больница не может предоставить вам медицинские услуги, потому что вы не прописаны в городе. У вас деревенский хукоу, а значит, вы можете обратиться только в деревенскую больницу. Езжайте к себе в район.
Вернувшись в общежитие, я рухнула на койку и пинала оранжевого мишку Цин. Я не помнила, когда в последний раз была одна, хотя одиночество с каждым днем казалось всё сильнее. Желудок переворачивался от вони стольких потных тел в одной комнатенке. Я стала неповоротливой за столом закройщиц на заводе, уходила в себя, будто на глазах опускались шторки. Я пропускала нитки, случайно прорезала дырки, кучи джинсов скапливались всё больше, выше.
Бригадир Тунг уволил меня. Сюань и Цин не сомневались, что, если я съезжу с документами в деревенскую больницу, там мне не откажут. Я сказала, что вернусь в город на следующей неделе и найду другую работу, и в свое последнее утро на заводе улизнула, чтобы забрать сумку, пока все были в цехе. В пустом общежитии я сунула в карман лифчик с сердечками Сюань, хоть он и был мне слишком мал и мои груди никогда бы не втиснулись в эти сердечки. Я оставила свой блокнот с текстами песен, маленькую коллекцию кассет. У меня не было плеера, чтобы их слушать.
Я поехала на микроавтобусе прямиком в деревенскую больницу и показала документы.
– Я прописана в деревне.
– Ваш жених вас сегодня встретит?
– У меня нет жениха.
– Ваш друг?
– Ну да…
– По документам вам только восемнадцать лет. Разрешение на свадьбу не выдадут, пока вам не исполнится девятнадцать, а вашему другу – двадцать один. А когда вы поженитесь, получить разрешение на рождение ребенка вы можете только в двадцать лет.
– Хорошо. Можно провести процедуру сегодня?
– Только с согласия отца. А без разрешения на беременность вам полагается штраф. Но раз вы младше законного возраста для брака… – Сестра глянула в коридор и поманила к двери. – Пожалуйста, занимайте место в палате. Я вернусь через минутку.
Я ждала, но сестра не возвращалась. Чем больше проходило времени, тем больше я переживала. Я видела, как социальные работники забирали беременных женщин в больницу, и те возвращались домой какими-то маленькими и подавленными, но без детей. Еще я слышала о женатых парах, которых штрафовали за самовольную беременность, заставляли выплачивать деньги в размере среднего провинциального дохода за пять лет. Для незамужней женщины штраф наверняка будет больше, хотя я никогда не слышала, чтобы в Минцзяне кто-нибудь признавался в беременности, не называя имени отца. Если бы я рассказала об этом Хайфэну, это просто значило бы для меня подвенечное платье.
Я слышала, как звонит телефон, шаги и голоса, воду из-под крана. В другом конце коридора пара санитаров катили носилки с задыхающимся человеком. Я выйду в коридор и объявлю, что у меня незаконная беременность. Им необязательно ехать на 3-ю улицу и забирать меня в больницу. Я и так здесь! И все же сестра говорила о штрафах, а меня с йи ба разорил бы даже штраф размером с годовой среднемесячный доход в провинции. Единственный способ избежать штрафа – подать заявление на разрешение брака с Хайфэном, хоть мы еще и несовершеннолетние. Или можно уйти до того, как вернется сестра.
В коридоре было пусто. Я поднялась со стула и побежала в противоположную сторону от той, куда ушла сестра, вниз по лестнице, прочь из больницы, пока не добежала до автобусной остановки. Небо было таким чистым и синим, таким поразительным в своей неподвижности, что хотелось плакать.
Пока я отсутствовала, деревня изменилась. Выросли особняки, построенные на деньги тех, кто забрался дальше Фучжоу – доехал до Нью-Йорка и Лос-Анджелеса: особняки с фестончатыми крышами и фонтанами с гипсовыми статуями золотых рыбок, воротами, похожими на кружевные салфетки из металла, балконами на четырех этажах, окнами шириной с озеро.
– Все уехали в Америку, – сказал йи ба. Я рассказала, что на заводе мне дали отпуск, потому что мы выполнили квоту на сезон. Глаза у него запали глубже, а от штанов пахло рыбой, и сильно. Привыкшая есть в помещении, где разом разговаривает сотня человек, я чувствовала себя странно на наших тихих трапезах.
Прошло три дня. Я варила овощи, собирала куриные яйца, подметала полы и отскабливала белье. Я скучала по городу – особенно в солнечные бесконечные дни – и знала, что скоро придется что-то решать, но каждое утро просыпалась оцепеневшая, ошеломленная. Можно съесть ложку крысиного яда, но мне не хотелось умирать; можно пойти в больницу и попытать счастья с другой медсестрой, но что, если я наткнусь на кого-то еще более черствого, кто оштрафует меня на сумму шестилетнего дохода или потребует всё рассказать йи ба?
Минцзян отжил свое. Петляющие переулочки, рыбацкие лодки с обвисшими сетями, облезшая краска на домах, выцветшие зеленые занавески на наших окнах – как и мне, им пришел конец. На стене одного здания был рисунок мелом – большая кошка и два котенка. Я вспомнила бездомную кошку, которую видела в городе, в окружении выводка кроваво-розовых котят и как она лежала со сломленным, смирившимся видом, пока котята лезли друг через друга, чтобы присосаться к ней.
Я подошла к одному из новых особняков и прижалась лицом к воротам. От плитки пахло дождем и грязью. Я попятилась с ржавым пятном на носу. У реки я воткнула палку в грязь, почесала землю; пыталась разглядеть, что прячется под водной гладью. Палая листва. Рыба. Я прошла мимо причалов, где рыбаки хватали себя между ног и рассказывали про девчонок, которых якобы дрючили. Один подтолкнул приятеля локтем, пока я проходила мимо, и сказал, что любит цыпочек, у которых мяска побольше. Друг цыкнул на него. «Это дочка Старика Гуо, дурень!» На продуктовом рынке я увидела, как за кочан капусты торгуется жена учителя Ву – глава отдела планирования семьи, – и поторопилась обратно на 3-ю улицу.
Прошла неделя. Я всё время спала. Засыпала за столом или стоя за раковиной, просыпалась от громкого всхрапа или когда подгибались ноги. Сон захватывал, сон лишал сил, но в моменты перед тем, как уступить ему, возникала темная истина: «Я в заднице. Деваться некуда, придется выходить за Хайфэна».
Я проснулась под разговор матери Хайфэна и йи ба на улице.
– Наверно, устала после работы, – сказала мать Хайфэна. – Сын говорит, они вкалывают на заводе по восемь, по девять часов.
– Восемь? Да это ерунда, – сказал йи ба. – Молодой девушке тяжко в городе. Но я знал, что она рано или поздно вернется. Нынче столько людей едет за границу – хорошо, что она дома.
– Она выросла. Знает, где ее место.
– Завод – это только блажь. Это она испытывала свою свободу.
Мать Хайфэна рассмеялась.
– Радуйся, что всё кончилось.
Я села в кровати. Йи ба брал деньги, которые я слала домой, и не жаловался. Я слышала, как он говорил:
– Ну что, скоро буду звать тебя сватьей?
– Э, не так быстро, – сказала мать Хайфэна. – Я хочу большое приданое.
– А кто сказал, что у нас будет маленькое?
Прошло две недели. В Минцзян вернулся Невероятный Американец и устроил праздник. Он не родился Невероятным Американцем – он родился всего лишь селянином, как и все мы, – но стал Американцем, когда поехал на поезде в Куньмин, перешел пешком Бирманские горы, перелетел из Таиланда в Америку и там нашел работу в ресторане в Лос-Анджелесе, женился на американке – она была китаянкой, но с грин-картой, – и натурализовался, скопил достаточно, чтобы заплатить по долгам и наконец приехать домой в гости. Его семья закатила праздник в особняке, который он для них построил. Я сказала йи ба, что лучше буду собирать куриный помет, чем пойду, но он ответил, что это будет неприлично, если пойдут все семьи, кроме нашей.
В школе я знала этого Невероятного Американца как Цзина – задиру, водившего дружбу с партийными детишками и любившего подкрасться к девчонкам и со всей силы натянуть их трусики вверх. На празднике он неуклюже притворился, что не узнал нас с йи ба. Мы стояли в гостиной его матери рядом со статуей из фальшивого мрамора – это был мальчик, который гладил олененка и вращался на раскрашенном в золотой цвет диске, работавшем от батареек. Я видела, как поднялись брови Цзина, как он нарочно стер выражение узнавания, как на лицо опустилась пародия на забывчивость.
– Ах да, Пейлан! Из начальной школы. Теперь я тебя вспомнил!
– Как жизнь, Цзин?
– Джон. Теперь меня зовут Джон. – Он был всего на два года старше меня, но у его губ уже появились морщины.
– Как Америка?
– О, там рай. Там другой мир.
– Сколько у тебя долгов? – спросил йи ба.
– Теперь почти нет. Вначале было двадцать пять тысяч, хотя теперь проезд стоит дороже. Но и путешествовать теперь проще, быстрее. Если хотите знать больше, я могу вас познакомить с одной женщиной. Она сегодня тоже здесь.
Цзин-Джон показал на женщину с блеклыми капиллярами волос на верхней губе, беседовавшую с соседями. Йи ба уже рассказывал о даме с усами, которая помогала людям уехать за границу и которая косвенно несла ответственность за все новые особняки в деревне. Я сказала «нет, спасибо» – не хотела доставлять такого удовольствия Цзину-Джону. Но йи ба принял клочок бумажки с ее телефонным номером.
Дома йи ба лег спать. Я заметила дырку в его носке, который он уже несколько раз зашивал. Я обошла комнату. Здесь стояли миски, стулья и горшки из моего детства, которыми пользовалась мать, пока не умерла, – миски теперь потресканные, горшки – с выгоревшим дном. Я могла бы остаться здесь, чтобы родить ребенка, чтобы заботиться о йи ба, чтобы он заботился обо мне.
Из окна я видела дом Хайфэна. Внутри горел свет, по кухне двигалась тень госпожи Ли. Я отошла, чтобы она меня не заметила. Скоро Хайфэн тоже вернется домой.
Я представила себя в новой стране, с собственной квартирой, как у сестры Цин в Фучжоу. Сюань говорила, что в Америке можно жить где захочешь и неважно, городской у тебя хукоу или деревенский. И на разрешения на беременность им плевать.
Подумаешь, долг – такой астрономический, что нереальный, как фальшивые деньги, которые жгут у могил на праздник Цинмин. Что мне изнурительное путешествие, которое тоже казалось нереальным – расстояния и направления были не более чем бессмысленными словами. Я поеду туда, куда никогда не поедет Хайфэн.
Когда я сказала йи ба, что уезжаю, он тяжело вздохнул.
– И ты туда же? Все едут, кроме меня. Вернешься ты уже на мои похороны.
– Не говори так.
Я обещала, что буду слать деньги, а когда обустроюсь, он ко мне присоединится. Он пренебрежительно отмахнулся.
– Мне и здесь неплохо.
Наутро я позвонила, и, когда женщина с усами спросила, готова ли я отправляться в любое время, я сказала, что да.
Деньги я искала несколько недель. На берегу я смотрела, как женщина пересчитывает первый взнос – эквивалент трех тысяч американских долларов, собранный по всем родственникам. Они были уверены, что у них поднимутся и статус, и доход, если в Америке поселится кто-то из семьи. Остальное – сорок семь тысяч – я заняла у ростовщика. В деревне я бы эти пятьдесят тысяч американских долларов зарабатывала сорок лет – всю свою рабочую жизнь, – но в Нью-Йорке я надеялась расплатиться лет за пять-шесть.
Фургон отвез меня по шоссе на запад, в Гуанси. Оттуда я поездом добралась до Вьетнама и другим поездом – до многолюдной квартиры в Бангкоке, где получила фальшивый японский паспорт, который отдам обратно, когда доберусь до Америки. Из Бангкока мы перелетели в Амстердам, потом в Торонто, где я объявила себя беженкой и последовала за двумя другими женщинами в ящик в кузове грузовика, который перевез нас в дом в Нью-Йорке. Когда сняли крышку ящика, мои штаны промокли от мочи, а язык болел от того, как его прикусила. Я моргала на свету и смотрела на стеллажи, заставленные гигантскими пачками туалетной бумаги и водой в бутылках, и на машины в гараже, которые были больше самых больших машин в Фучжоу, и на сам гараж, который был больше жилой комнаты в доме на 3-й улице, и услышала музыку, и осознала, что поют на английском. Я попыталась сесть. «Я здесь», – закричала я.
Теперь я должна была ростовщику в Китае сорок семь тысяч долларов, которые полагалось отправлять раз в два месяца, чтобы избежать повышения процента. Я знала, что бывает с теми, кто платит мало, поздно или вообще не платит. Одна угроза, один проблеск ножа в руках людей ростовщика – и исчезаешь навсегда.
В Нью-Йорке я изменилась. Для начала я была уже не Пейлан. Одна из девушек в бангкокской квартире предложила «Полли» – английское имя, похожее на Пейлан. Так что теперь Полли, а не Пейлан работала в тринадцатичасовых сменах на швейной фабрике – та же работа, что у Пейлан в Китае, только денег давали в восемь раз больше, – и теперь Полли платила по завышенной ставке за спальник на полу – место, которое доставалось новенькой жилице. Я не думала, что буду жить в особняке вроде того, что отстроил для семьи Цзин-Джон, но и не ожидала такой дыры, как квартира на Рутгерс-стрит – в тесном квартале с таким сильным комплексом неполноценности, что тут даже пахло всё неправильно, а ветер гнал по тротуару постоянный поток пакетов, банок и пластиковых бутылок. Вся спальня состояла из трех двухэтажных коек, сдвинутых так тесно, что женщинам приходилось выползать с торца матраса. Я возвращалась с работы без сил – задница гудела после того, как я отсиживала ее тринадцать часов подряд, – и через некоторое время я уже не замечала зазубренных дыр в стенах или в кафеле на полу, обнажавших грязную осыпающуюся штукатурку, или тараканов, или протекающий потолок на кухне, и меня не смущало, что надо залезать рукой в бачок, чтобы смыть туалет. Цзин-Джон, должно быть, годами работал ради того особняка и мраморного олененка.
Я прибыла под конец нью-йоркского лета. На перекрестках играла сама с собой в игру – шла туда, где первым загорался зеленый свет, и так зигзагами обошла почти весь Манхэттен. Когда я терялась, то старалась не находиться как можно дольше, сворачивая то туда, то сюда, пока улица не упиралась в шоссе или реку или пока я не спрашивала дорогу у первого встречного китайца. Как бы я ни уставала, на ходу я всегда мыслила ясно. Отмечала, какие жители Нью-Йорка разные, как быстро они передвигались, какие жалкие дюймы позволяли им избежать физического контакта. В день зарплаты я шиковала и ездила на метро, и самое лучшее было, когда я поднималась по лестнице на улицу и оказывалась на предпоследней ступеньке, предвкушая, что увижу, когда выйду на тротуар: будут ли в квартале высокие коричневые здания или маленькие серые, что там живут за люди, что у них за магазины. Я представляла себя в этом районе, в том многоквартирнике, в той машине.
В Нью-Йорке шум был громче, чем в Фучжоу, и совсем другой – сигнализации машин и гремящие поезда, ревущая из окон музыка. Как много здесь ресторанов, где подавали еду, о которой я даже не слышала. Мы с соседками готовили по очереди. Одна добавляла в говядину перец, другая жарила овощи, но почти не солила. Я делала рыбные шарики, и, хотя ингредиенты были совсем не те, что дома, от вкуса поднывало в груди. Новая жизнь была нестабильной и неуверенной, но каждый день пронизывали возможности.
Лучше всего я поладила с соседкой Диди. Она приехала из деревни рядом с Сямынем, провела в Нью-Йорке чуть больше года. Она показала мне места, где можно купить хорошие овощи, рыбу и мясо, водила в чайную на Байард-стрит, где подавали сладкий суп с черным кунжутом и вязкими дамплингами, который мы прихлебывали, сидя по соседству с китайчатами американского происхождения, дразнившими друг друга на громком сленговом английском. Диди не покидала Чайна-тауна без необходимости. «Здесь есть все, что нужно, – говорила она. – Ззачем ты ездишь на поезде в какие-то странные районы?»
Всё это время ты был со мной. Как я ни надеялась, долгие часы в ящике по пути из Торонто не помогли. Ты остался жив, силен как никогда, пинался еще больше. Я привыкла к тебе, но как же я уставала.
Одна из соседок спросила: «Девочка, когда у тебя срок рожать? Завтра, что ли?»
Может, в холоде просто живет больше холодных людей. Но когда я сама увидела свое отражение в витрине, то и мне показалось, что я удвоилась в размерах. Тело явно принадлежало не мне.
Это Полли, а не Пейлан пошла в бесплатную клинику на севере города, где была китайская женщина-врач, которая говорила по-мандарински.
– Ваши родители знают? – она передала мне бумажную рубашку.
– У меня нет родителей.
Врач была коротко подстрижена, из-за чего на шее сзади получалась аккуратная черная стрелочка волос, а глаза у нее были темными и добрыми.
– Сколько, говорите, вам лет, мисс Гуо? Шестнадцать?
Я сидела на длинном металлическом столе, тоже накрытом бумагой. Ноги торчали из-под бумажной рубашки. Я уставилась в кольцо грязи на полу. Я назвала врачу имя, адрес и год рождения, которые она записала в карте.
– Какая разница, сколько мне лет? Мне же не нужно чье-то разрешение, чтобы сюда прийти.
– Вы правы, не нужно.
На стойке была пластмассовая фигура человека, кажется, со вставными органами, и мне хотелось их достать и барабанить ими по столу врача.
Она снова взглянула в карту.
– Восемнадцать. Прошу прощения, вы выглядите моложе. Как вы приехали в Нью-Йорк?
– Сама.
– Наверняка было трудно.
– Ничего особенного. Я не боялась.
Врач открыла рот, словно что-то хотела сказать, но не стала.
– Ложитесь. Подвиньтесь немного выше, – сказала она. – Вот так хорошо.
В меня тыкали – сперва пальцами, потом холодным металлическим языком. Врач спросила, откуда я.
– Фуцзян. А вы?
– Чжэцзян.
– И вы не привезли сюда родителей? – спросила я.
– Я приехала учиться и после выпуска осталась работать.
Она включила устройство-ящик с проводом, ведущим к моему животу, и показала на телеэкран с черно-белым изображением сумрачного пузыря.
– Выглядит неплохо.
– Я его не хочу, – сказала я, хотя прожила с тобой столько месяцев, что уже сложно было говорить уверенно.
Врач снова посмотрела в карту.
– О, об этом вы не говорили. – Она выключила экран. – Теперь можете сесть. – Она обошла стол, чтобы быть ко мне лицом. – Вы на седьмом месяце.
Я отсчитала назад, пытаясь вспомнить, сколько месяцев прошло с того мотеля с Хайфэном, но уже не могла даже вспомнить его лица.
– Двадцать девять или тридцать недель. – Лицо у врача было грустным. – Мы не можем прерывать беременность после двадцать четвертой недели, то есть шести месяцев. Мне очень жаль.
– Тогда я пойду в другую клинику.
– Это закон. Там тоже не согласятся.
Ляжки прилипли к столу, по животу было размазано желе. Слизь стекала между ног.
– Я могу подсказать, к кому обратиться. Я бы хотела направить вас к другому врачу, чтобы вы получили должный уход.
– Мне придется родить?
В животе похолодело. Врач понизила голос.
– Слушайте, бояться не надо. Здесь замечательные больницы. – Ее мандаринский был облагороженным, городским. – Могу немного рассказать об усыновлении.
– Я не сказала, что боюсь.
Врач отошла. На ее виске были брызги седины, на пальце – золотое обручальное кольцо. Я совершенно неподвижно сидела в большом бумажном платье. Экран снова опустел. Я проехала тысячи миль, только чтобы узнать, что нет никакой разницы между провинциальными больницами с их документами, требованиями по возрасту и разрешениями на брак и вот этой клиникой в Нью-Йорке с дурацкими правилами насчет двадцать восьмой недели вместо двадцать четвертой. Каких-то жалких четыре недели.
– Вы в порядке?
Я кивнула, глядя на колени. Она дала мне список телефонных номеров и несколько брошюр на английском и китайском. Я обещала вернуться на другой осмотр и купить витамины.
Я вышла из клиники в пасмурный и холодный день, заснула в метро и проснулась на конечной, в Бруклине, в районе, где было много белых, которые говорили на английском. Я вышла и оказалась на краю города, услышала чаек, почувствовала соленую воду, сняла обувь, закатала джинсы и впервые шагнула в океан.
Зашла дальше. От холодной воды сводило пальцы, и волны лизали щиколотки резче, быстрее, чем темно-синяя речная вода у деревни, но всё же море здесь было чище, серее, больше, злее, жаднее и прекраснее – всё и сразу, как сам Нью-Йорк. Я сделала еще шаг. Вода была по пояс. Зубы стучали, но этот холод утешал.
У меня кончились варианты; я в заднице. Мне придется родить. Вернее, придется родить Полли.
Я услышала голос с берега. Мне махал человек, прыгал на месте. К нему присоединилась женщина. Они кричали, звали жестами вернуться.
Вода была не такая уж и холодная. «Я не боюсь», – крикнула я на мандаринском.
Там, пока я стояла в Атлантическом океане, всё это стало испытанием. Для Полли – девушки, которая действует вопреки всему, девушки, которая может всё. Нью-Йорк стал даром параллельной жизни, и сама нереальность того, что я здесь, придавала ощущение сюрреалистической комедии даже самым пугающим вещам. Пейлан оставалась в деревне, мыла кабачки и кормила кур с бездомными кошками, а Полли жила бонусной жизнью за границей. Пейлан выйдет за Хайфэна или еще какого деревенского парня, пока Полли обходит бесконечные кварталы новых городов. Полли может родить вне брака. Ребенок сгладит острые углы одиночества – одиночества, которое всплыло, когда я увидела пары, семьи и смеющихся со своими друзьями людей. Я могла воспитать ребенка умным, веселым и сильным.
Я хочу, чтобы ты знал: ты был желанным. Я так решила: я тебя хочу.
Йи ба думал, что только мужчины могут делать, что хотят, но он ошибался. Я стояла в океане, в эйфории от того, как далеко забралась, а спустя два месяца, когда родила тебя, почувствовала, что добилась всего, что я стала сильнее любого мужчины.
Я назвала тебя Деминь. Соседки разрешили остаться, несмотря на все жалобы на твой плач, который не дает уснуть по ночам, и в благодарность я платила за комнату больше. Я пыталась отдать тебя незнакомке в детском саду, но не смогла – пока – и вместо этого ушла с работы, позвонила ростовщику и взяла дополнительный заем, который позволил не работать шесть месяцев.
Никто не предупреждал, что я смогу так любить другого человека. Когда я представляла, что с тобой может случиться плохое, любовь слегка обжигала, как сыпь, но когда я держала тебя и ты вел себя спокойно – любовь лучилась, как солнце через листья деревьев. Я любила! Я смотрела на тебя влюбленными глазами и думала: «Это человек, которого создала я». Я больше не смотрела с соседками детективные сериалы; из-за них мир казался опасным.
Диди работала в маникюрном салоне и сказала, что попробует найти для меня там место. Она отдала нам с тобой свой матрас и перешла в спальник. Не знаю, помнишь ты Диди или нет, но у нее был писклявый голос и пушистые кудри, и, когда ты шумел, она брала тебя на руки – и ты затихал, пускал пузырики слюней, которые она вытирала подолом юбки, мимоходом. После нескольких недель сна урывками, по часу-два, я реагировала на твои крики на автопилоте. Я слышала твой плач даже во сне.
Но это изматывало – сколько всего требуется ребенку, сколько ты дергал меня за волосы, хватался за юбку и присасывался к телу, потому что оно принадлежало и тебе. Смотрите, как он хочет к мамочке, говорили мои соседки, и пара из них тоже глядела влюбленными глазами, и тогда проявлялся осколок страха: а что, если мне всегда придется отдаваться, быть наготове, доступной? Что я наделала? И тут же: что со мной не так? Диди обожала детей, выросла, воспитывая младших братьев, сестер, племянниц и племянников, и, хотя ей казалось странным, что иногда мне хотелось отдохнуть и часок прогуляться вокруг района, покурить – «В одиночку? Без дела? Но зачем?» – она всегда предлагала присмотреть за тобой.
– Когда я выйду замуж, – начинала Диди, – когда у меня будут дети…
– Сколько детей хочешь? – спросила я, когда однажды вечером мы вместе готовили ужин.
– Двух или трех. А ты хочешь еще?
– Пока хватит одного.
– Только одного?
Я рассказала Диди про Хайфэна.
– Наверно, мне хотелось чего-то большего, чем просто жить с ним. – Я налила масла на сковороду и включила конфорку.
– Ты вольная душа, но практичная. Как моя сестра в Бостоне. Она вышла за парня с грин-картой. А я более романтичная. Я выйду по любви.
Мне нравилось, что меня зовут вольной душой.
Раз в месяц я звонила йи ба.
– Как там в Нью-Йорке? – спрашивал он.
– Чудесно. А как в Минцзяне?
– Так же. – Потом рассказывал мне про новый дом соседа, где ковры щекотали пальцы.
– Я постараюсь заработать еще, чтобы прислать тебе денег, – сказала я.
– Тебе деньги нужны больше. Я-то могу о себе позаботиться.
Две мои соседки родили в Нью-Йорке и отправили детей к родным в Китай.
– Когда они малыши, они ничего не помнят, – сказала Хетти – парикмахерша с лохматым каре. Она складывала одежду в коробку, которую держала под койкой. – Они без нас не скучают. Ты помнишь себя в его возрасте? Спорим, что нет. – У Хетти был трехлетний сын, которого она не видела два с половиной года: он жил с ее родителями в деревне, пока ее муж работал в месте под названием Иллинойс. – Я привезу сюда сына, когда он подрастет для школы. Еще два года.
Мин – без конца курящая официантка – не видела своих дочек больше пяти лет. Они жили с ее семьей в Нанпине.
– Ты попытаешься оставить его при себе, но ничего не получится, – сказала она своим прокуренным голосом. – Я тоже хотела оставить дочек, но это невозможно. Кто будет за ними присматривать? Мы все работаем. Наймешь няню – и не сможешь платить по долгам. А сосредоточиться надо на этом, иначе тебе конец. Уж поверь. – Она говорила и жевала виноград, который выбирала из целлофанового пакета. – Будешь?
Она протянула пакет, и я взяла пригоршню ягод.
– Я не хочу отправлять его в деревню. – Я сидела на койке Диди, держала тебя на руках, пока ты сосал из бутылочки. – Там только мой отец, матери у меня нет.
– Дедушки относятся к внукам лучше, чем к детям, – ответила Мин. – Теперь они знают, что дети снова их покинут. Возраст смягчает людей.
– Отправь его в Китай, – сказала Хетти. – По-другому никак.
– Бесплатная нянечка, – сказала Мин.
Они рассмеялись, но их смех был без стержня – одна вялая бахрома.
В крошечные промежутки между сном и кормлением я исследовала город, держа на руках сверточек с тобой. Мы гуляли на юг Манхэттена, где солнце согревает реку. Там стоял забор – к воде никак не пройти. Это потому, что город не уверен в себе и хотел обезопаситься, отгораживался, чтобы не выпускать жителей. Меня это не смущало. Я не сомневалась, что мы можем уехать, как только захотим. Приближалась зима, но мой затылок грело солнце, и я напевала «ма-ма-ма», и голос у меня был чистым и четким, как у утренних птиц. Ты возился на руках. Любовь во мне словно распушила перья.
Бывали дни, когда я тебя мыла, меняла обкаканные памперсы, надевала тебе ботиночки, носочки, шапочку и курточку, тащила в коляске три этажа, только чтобы ты заголосил, стоит нам свернуть за угол. Пора возвращаться с коляской назад, три этажа, сменить памперсы, помыть и снова одеть, и к этому времени я уже теряла всякое желание куда-то идти. Ты меня дергал, хотел показать одно и то же в десятый раз – розовую рубашку соседки, найденную монетку; ты плакал и колотил ложкой по кухонному полу. Я так мало пробыла Полли – а Полли уже ускользала от меня. Сколько всего в мире я не увижу.
Недели, месяцы проходили как в тумане, сливались в один долгий вязкий день, в который я никак не могла выспаться. На рамах нарастал лед, солнце отказывалось выйти до конца. Теперь для прогулок было слишком холодно, слишком хлопотно ездить с младенцем в метро, так что мы оставались дома целыми днями, бродили из спальни на кухню, из ванной в спальню, сидя в своем загоне. Я пела дурацкие песенки про цыплят и золотых рыбок и рассказывала сказки про рыбацкие лодки, баньяны и учителя Ву. Смотрела телевизор, пока соседки уходили на работу. Моими лучшими друзьями стали актеры из испанского сериала, которые ссорились и мирились, как по часам, – крошечные стройные женщины на высоких каблуках и в коротких платьях и блестящие мужчины в рубашках с воротниками и выглаженных брюках. Мне хотелось собственную спальню, как у актеров, чтобы растянуться на кровати, где уместилось бы четыре человека. Квартира уменьшалась.
Потом наступила весна, лето, и вот я провела в Нью-Йорке почти год. Ты становился выше и тяжелее, энергичнее и любопытнее, а когда ты начал ползать, я не могла спустить с тебя глаз, иначе ты лез руками в унитаз, а потом себе в рот, находил и ел гнилые крошки в углу, подносил мне дохлого таракана, как двадцатидолларовую банкноту. Деньги кончились. Я не хотела брать новый кредит, но если бы я вернулась на работу, то пришлось бы кому-то платить, чтобы присматривать за тобой. Соседки оказались правы. Долг был слишком большой, и я отставала от графика. Я так и не послала денег йи ба. А зарплата Диди в маникюрном салоне кормила всю ее семью в деревне. Даже Цзин-Джон купил матери дом.
Диди спросила начальницу, не возьмет ли она еще одну маникюрщицу, и та сказала, что пока им никто не нужен, но, может, в ближайшее время. Я не могла ждать. Надо было расплатиться по долгам, а это займет еще семь-восемь лет, если я не найду работу получше – желательно, ту, где не придется дергать за ба ва. Самым лучшим вариантом было стать официанткой, особенно в японском или тайском ресторане, где платили больше, чем в китайских, хотя все они одинаково принадлежали китайцам. Но без нужных связей попасть туда было непросто.
Я нашла работу на заводе с короткими сменами, шила юбки шесть часов в день – достаточно, чтобы платить минимальные взносы ростовщику. Ставка уже поднялась, а платить предстояло еще так долго. Если я хотела тебя помыть, то засыпала, пока ждала, когда в ванную сходят все соседки, и сама не мылась целыми днями. От меня воняло, как от ноги. Не считая Диди, больше никто не ворковал над малышом. Теперь мои соседки торопились сбежать из комнаты, как только ты начинал плакать.
Диди сказала, что будет присматривать за тобой, пока я на заводе, и я пыталась подстроиться так, чтобы мои смены совпали с ее нерабочим временем, но, когда не получалось, приходилось оставаться дома. Хетти рассказала мне про одну няню, и я сходила к ней – двенадцать детей в двухкомнатной квартире, где пахло плесенью, все кричали, несколько – кашляли. Женщина сидела и курила, пока один ребенок бил другого по лицу. Я бы не оставила тебя в таком месте. Однако на свою зарплату я не могла позволить себе даже ее. Представь, какой была бы няня еще дешевле.
Потом наступила осень. У Диди заболела мать. Дома надо было платить по медицинским счетам, и Диди пришлось больше работать в салоне.
– Не проблема, – сказала я. – Буду брать его с собой.
Как только я вошла на завод, ты заплакал. Не могу тебя упрекнуть – помещение было многолюдное, без окон, размером с четверть того цеха, в котором я работала на заводе в Фучжоу. Твой плач вторил моторам швейных машинок, и я прижала тебя к себе, пытаясь избежать недобрых взглядов других женщин.
Я поставила под машинку сумку с памперсами и бутылочками. «Ты чем думаешь? – прошипела женщина слева. – Этот ребенок только вчера из тебя вылез».
Я выложила пустую коробку обрезками ткани и посадила тебя туда, надеясь, что общий шум замаскирует твои вопли.
Меня ждала куча рубашек. Я занималась подолами. Сложить ткань, пропустить через оверлок. Работа требовала внимания и спокойных рук – того, чем я всегда гордилась: сложить, нажать, прошить, сложить, нажать, прошить. Каждая рубашка приближала к нулевому долгу.
Сегодня часы, которые обычно проходили в оглушающей скуке, ползли еще медленнее, чем самый длинный день в истории школы. Я всё думала, когда тебя кормить и куда для этого пойти. В шестичасовой смене работали без перерывов. Женщина на соседней машинке бросала на меня пораженные взгляды, пока ты непрестанно орал – словно шум и жар дали тебе разрешение плакать еще громче, – и тут у меня соскользнула рука. Нитка пошла наперекосяк, ткань сбилась в складки.
Я отбросила испорченную рубашку и взяла новую. Мозг работал на полмощности, руки тряслись от недосыпа, и снова игла сошла с пути. «Черт!»
Женщина по соседству поцокала языком. Часы на стене говорили, что прошло только десять минут.
– Смотришь на часы вместо того, чтобы работать, – напела соседка, пропуская еще одну рубашку.
– Не лезь не в свое дело, – напела я в ответ. Я успешно закончила три рубашки, но первые неудачи выбили меня из колеи. И снова я посмотрела на часы. Женщина рядом уже взяла свежую стопку рубашек, пока у меня лежала первая. Твои всхлипы перешли в задыхающуюся икоту.
Я присела. Увидев меня, ты поднял ручки.
– Малыш Деминь, – сказала я. – Мама здесь.
Внизу было жарко. Пыльно. Под столом я увидела ноги, нажимающие на педали машинок. У одной женщины были разные носки, у другой – кроссовка с дыркой в боку. Я поцеловала тебя. «Мама пока занята, – сказала я утешающим тоном, который, как я надеялась, похож на голос Диди. – Пока помолчи, скоро я тебя покормлю».
Я положила тебя и выпрямилась на стуле. Наконец ты замолк. Соседка была уже на третьей стопке, но я хотя бы справилась с одной.
Сложить, нажать, прошить. Сложить, нажать, прошить. Ты снова плакал. Я торопливо прошла оверлоком до конца ткани и бросила рубашку в стопку законченных. «Погоди», – сказала я, но ты всё кричал. Я нашарила бутылочку, пыталась взять тебя, одновременно пряча в коробке, – одна рука у тебя под затылком, в правой подмышке – бутылочка. Ты схватился за бутылочку. Мои ноги болели от неудобной позы. Ты дернул, я потеряла равновесие и, завалившись назад, ударилась затылком о стол снизу. Шлепнулась на пол, бутылка выскользнула и приземлилась в коробку, тебе на ноги. Ты взвыл. Я потерла голову. Тут меня и застала начальница – под столом с плачущим младенцем и коробкой ткани, залитой молочной смесью.
Тогда я и ушла. Вниз, мимо Гранд, Питт, Мэдисон, Пайк, Клинтон, Генри, Эссекс, Черри. Пока я перебегала улицу с тобой у груди, гудели машины. Монтгомери, Джексон, Уотер.
Я не знала, куда иду. Я остановилась у сетки-рабицы детской площадки, где в конце сентября не было детей – только кривые баскетбольные кольца, хлопающий перед начальной школой флаг и ряд высоких зданий на заднем фоне. Начальница отпустила меня со смены без денег и сказала, что не выгонит с работы, если завтра я приду без ребенка.
Мозг вернулся к расчетам, как мало я заработаю в этом месяце. Даже если работать в четырнадцатичасовых сменах, не хватит сразу и на квартплату, и на ростовщика, и на няню. Мать Диди всё еще болела.
Значит, к воде, к ее бурным серым волнам, приглушенному шуму машин на мосту над головой. Ряду скамеек, опустевших в будний день. Баржам, плывущим по реке.
Я так устала. Хотелось только побыть наедине с собой в безмолвной темной комнате.
«Отправь его в Китай. По-другому никак».
Ты брыкнулся, будто хотел освободиться. Не хочу тебе говорить, что я сделала.
Спешно, пока не передумала, оглядываясь, чтобы никто меня не видел, я поставила сумку под скамейку и опустила тебя внутрь. Сумка была больше тебя, ее края – из твердого прорезиненного пластика. Разогнуться было уже легче – я чувствовала облегчение.
Я побежала.
– Прости, прости!
Ты всхлипывал. Я прижималась к твоему телу.
Я прошла почти два квартала, пока не встала на светофоре. Свет еще менялся с желтого на красный, но через перекресток медленно полз автобус. Если бы желтый свет задержался на миг дольше, если бы автобуса не было, то бежала бы я дальше?
Но я вернулась, и сумка лежала на месте, а ты – всё еще был внутри.
Я гладила тебя по волосам. «Мама, – сказал ты опять. – Ма-ма!»
Я позвонила йи ба и рассказала, что у меня есть сын, которого я пришлю в деревню, пока не расплачусь по долгу и пока ты не подрастешь, чтобы пойти в школу в Нью-Йорке.
Йи ба издал такой звук, будто отхаркивал мокроту.
– Хрм. Ехать в самую Америку, только чтобы забеременеть. – Он сказал, что возьмет тебя, примет деньги, которые я пошлю домой. – Но только для твоего сына. Это ему нужны деньги, не мне.
Сестра Диди, которая вышла за своего парня американского происхождения в Бостоне, хотела навестить их мать в Китае. Я взяла очередной заем и предложила оплатить перелет сестры, если она отвезет тебя к йи ба.
Я собрала сумку с твоими вещами, подушкой и фотографией, где мы с тобой вдвоем в туристической будке в Саут-Стрит-Сипорте. На фотографии мое лицо закрывала тень, а ты капризничал от жары. На заднем фоне были карикатурная статуя Свободы, желтое такси в клеточку и Эмпайр-Стейт-Билдинг – все в одном районе.
В ночь перед твоим отъездом я не спала, запоминала твое лицо. Наконец мы заснули, свернувшись вместе. Утром с розовыми и отекшими от слез глазами я отдала тебя сестре Диди. Ты не проснулся. Диди и ее сестра пошли на автобус от Ист-Бродвей до аэропорта, но я с ними не пошла. Не могла видеть, как тебя уносит чужая женщина, и поверить, что с тобой всё будет хорошо, что я снова тебя увижу.
Когда тебя увезли, я легла лицом на место на подушке, где ты спал. Пятнышко, всего несколько минут назад теплое, уже остыло.
По плечу постучала Мин.
– Полли. Эй, – она тормошила меня за руку. – Ты поступила правильно.
Тогда я ей не верила.
Он даже не ожидал, что будет так просто. Леон ответил после второго гудка, и от его голоса показалось, будто Дэниэла гладят руки великана.
– Деминь! Голос у тебя как у совсем большого! Я ждал твоего звонка. Вивиан говорила, что встретится с тобой.
Дэниэл сидел один в квартире Роланда в десять вечера пятницы, раздувшийся после обильного ужина у Вивиан. В Фучжоу уже началось утро субботы – на тринадцать часов в будущем.
– Вивиан говорила тебе, что отдаст меня в приемную семью? Что меня усыновят? – Он заранее смотрел, как это будет по-китайски.
– Только много времени спустя, когда я уже долго прожил в Китае.
– Потому что знала, что это неправильно.
На другом конце провода возникла пауза. Дэниэл почесал внутреннюю сторону руки и слушал нервный шепот батареи.
– Я бы хотел, чтобы мы все могли остаться вместе, – сказал Леон.
– Я бы хотел, чтобы ты не уходил. – Он не называл Леона йи ба. Леон сказал, что теперь у него есть дочь и ее могло бы напугать, если это слово скажет Дэниэл.
Леон кашлянул.
– У меня есть номер твоей матери. По крайней мере, семь лет назад это был ее номер. Тогда я слышал ее в последний раз.
Значит, отчет о слушании не ошибался. Она уехала в Китай.
– Ты ее видел?
– Она тогда собиралась замуж, работала в школе английского языка.
Английского языка? Замуж?
– Что это значит? Ты ее видел?
– Не видел, – сказал Леон, – только говорил по телефону.
– Она ездила во Флориду?
– Она толком не объяснила. Но я знаю, что она никогда бы не оставила тебя без причины.
– Ты сказал ей, что меня усыновили?
– Да.
Дэниэл лег на пол, увидел под диваном комок пыли, носок, который давно искал. С тех пор как он поговорил с Майклом, он уже изобрел новый сюжет: Деминя и маму, жертв семейной трагедии, разлучили коварные махинации Вивиан. Леон сказал, что мать не оставила бы его без причины, но и на связь она выйти не пыталась. Его не искала, но нашла Леона?
– Приезжай в гости, – сказал Леон. – Угощу тебя настоящей китайской едой, а не этим говном, которым кормят в Нью-Йорке. Кстати, китайский у тебя так себе. Что случилось, разучился говорить?
– Просто было не с кем, – ответил Дэниэл, – когда вы все уехали.
Он не сразу позвонил по номеру, который дал Леон. Он боялся, что она не захочет с ним разговаривать.
На следующий день Дэниэл погладил на столешнице свою единственную хорошую рубашку и расправил воротник. У него не было брюк, только джинсы, но он надел темно-серые вместо синих. С походными ботинками придется смириться. В карман он сунул бланки для Карлоу-колледжа, заявление, которое распечатал на принтере Роланда.
На день рождения Джима Хеннингса Элейн и Энджел забронировали итальянский ресторан в Уэст-Вилладж – районе, где Дэниэл всегда терялся, на улицах к западу от станции метро, где названия менялись с упорядоченных номеров на старомодные имена – Перри, Джейн, Горацио. В этой части Уэст-Вилладж не попадались сетевые магазины – только рестораны и бутики с маленькими вывесками со сдержанными шрифтами, – и, в сравнении с Чайна-тауном, на улицах мартовским днем в семнадцать тридцать было почти пусто. Пока Дэниэл возвращался назад после поворота не в ту сторону, он прошел мимо человека, который выгуливал белую собачонку, – оба шли бочком против ветра – и женщины в огромном темном пальто, которая стук за стуком двигала по тротуару ходунки. Он гадал, где теперь живет его мать, – не в том ли старом доме на 3-й улице. Пожарные лестницы здесь были покрашены в матовый черный – контраст со стеклянными высотками в центре, – и ни одно здание не превышало пяти этажей. За огромными окнами виднелись люстры и высокие книжные шкафы, кухни с круглыми деревянными столами и подвесными кашпо, а в одной квартире – комната, где не было ничего, кроме огромного пианино. Даже кирпичные фасады выглядели так, будто их отскребли дочиста, покрыли лаком и навели лоск. Ни это, ни новые роскошные здания в центре не казались Дэниэлу привлекательными. Всё выглядело просчитанным, неискренним.
Чем ближе он подходил, тем больше замедлялся, пока не встал перед рестораном, глядя на написанный вручную знак: «ЗАКРЫТО: ЧАСТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ»; основания букв жались друг к другу, как девчонки на фотке, подвернув внутрь носки ног. Энджел так и не ответила на его сообщение. Он открыл дверь. Ресторан был небольшим, так что помещение казалось набитым битком. Он взял один из стаканов с шампанским на кремовой скатерти и увидел, что Кэй и Питер разговаривают с Джимом и Элейн. Одеты его родители были проще других гостей, в слегка более формальные версии своих обычных костюмов: у Питера – спортивный пиджак вместо кардигана, у Кэй – юбка вместо плисовых штанов. Они помахали, и Дэниэл потопал в своих походных ботинках, чувствуя к родителям прилив нежности.
Он обнял их. То, что они вроде бы не сердились, казалось хорошим знаком. Энджел им еще не рассказала, сколько он ей должен. Элейн и Джима он не видел много лет, и Джим уже совсем облысел, а длинные завивающиеся волосы Элейн поседели. Дэниэл пожал Джиму руку и поздравил с днем рождения, Элейн поцеловала Дэниэла в щеку, звякнув бижутерией под пашминовым шарфом.
– Здравствуй, незнакомец! Был всё это время в Нью-Йорке и даже не сказал. Мы как можно скорее пригласим тебя на ужин.
– Энджел у стола с аперитивами, – показал в другой конец зала Джим. Ее обнимал за талию азиат с бритой головой и густыми бровями – красавчик на манер регбистов, – и она смеялась. Парень был слишком большим, слишком шикарным. На его широких плечах растягивался смокинг, а Энджел пришла в синем платье с короткими рукавами и поясом в тон. Она всё еще оставалась субтильной, с волосами, подстриженными на уровне плеч. Парень на вид был китайцем или корейцем, но Дэниэл никогда не умел их различать.
– Это Чарльз, ее бойфренд, – сказал Джим, и Кэй посмотрела на Дэниэла.
– Учится на последнем курсе, по той же специальности, – сказала Элейн. – Мы с ним впервые познакомились на зимних каникулах.
– У него есть голова на плечах, – добавил Джим. – Очень вежливый, очень обходительный.
Дэниэл вспомнил парней, о которых рассказывала Энджел. Бывший, который теперь один из ее лучших друзей; коллега, в которого она была втайне влюблена.
– Энджел, – позвала Элейн, – смотри, кто пришел.
Энджел увидела Дэниэла и что-то сказала Чарльзу. Тот нахмурился.
– Энджел, – позвал Джим.
Она подошла, не выпуская руки Чарльза. Когда Дэниэл ее обнял, она вздрогнула.
– Привет, – сказал он. – Рад тебя видеть.
– Это мой бойфренд, Чарльз, – сказала она, глядя поверх головы Дэниэла.
Дэниэл пожал ему руку – казалось, что он пожал воздух. Костюм у него выглядел дорого.
– Рад познакомиться. Сколько вы уже вместе? – Он услышал, как голоса позади стали громче. Джим и Элейн приветствовали другую пару, и их затянула толпа.
– Вернемся к нашему столику, – сказала Энджел Чарльзу.
Кэй коснулась ее руки.
– Энджел, мы не успели узнать твои последние новости. Как учеба? Мы слышали, ты собиралась в Непал?
– Собиралась, но меня обокрали.
– Обокрали? – спросил Питер. – В Айове?
– И в Айове такое бывает.
Дэниэл повернулся к Чарльзу.
– Ну, а ты откуда?
Чарльз рассмеялся – резкий лай.
– Воры есть везде. Необязательно быть рядом с человеком, чтобы он тебя обворовал.
Дэниэл допил шампанское.
– Какой ужас, – сказала Кэй. – Его поймали? Что вообще случилось?
– Мам, слушай, уже скоро подадут еду.
– Случилось то, что вор отлично знает, что сделал, – сказал Чарльз.
– О, еще как знает, – сказала Энджел, встречаясь глазами с Дэниэлом. Он взял Питера и Кэй под локоть.
– Присядем, пока еда не остыла.
– Еще даже ничего не принесли, – ответила Кэй.
Они прошли к столику в другом конце зала.
– Как странно, – сказала Кэй. – То, что рассказывают Энджел с ее мальчиком.
– Что там насчет вора-то? – спросил Питер.
Дэниэл снял куртку и повесил на спинку рядом со стулом Кэй. Достал бланки для Карлоу-колледжа и отдал Питеру.
– Хорошо, – сказал Питер.
Кэй так широко улыбнулась, что у нее пошло морщинами всё лицо. Дэниэл улыбнулся в ответ. Он еще был сыт после вчерашнего ужина у Вивиан, но ел и маринованные оливки, и салат с рукколой, и лингвини, и ягнятину с баклажаном, заказал бокал красного, еще один. Когда официанты унесли тарелки, он заметил, что Энджел выходит одна. Может, если он извинится перед ней лично, она не расскажет Питеру и Кэй, кто вор. Он попросил прощения, по дороге взял еще бокал шампанского. Энджел стояла в дверях ресторана с коротковолосой женщиной в белом жакете из ресторанного персонала, и он услышал, как они обсуждают свечи и торт.
– Энджел, – сказал он.
Она осеклась на полуслове, на ее лице промелькнул шок.
– У вас какие-то проблемы? – спросила женщина.
– Нет, – ответил Дэниэл.
– Как я говорила, – сказала Энджел, – мы притушим свет, потом споем. Ему понравится.
Он подождал, пока она договорит, а когда она повернулась уходить, загородил дорогу.
– Ладно, – сказала Энджел. – Что тебе надо?
– Ты получила мое сообщение?
Она скрестила руки на груди.
– Какое сообщение?
– Мне очень жаль из-за того, как всё получилось.
– Уж не сомневаюсь.
– Можешь сделать одолжение? Пожалуйста, не говори моим родителям насчет денег. Или своим.
– А что? Страшно? – фыркнула она.
– Не хочу, чтобы они знали. Я все исправлю. Поверь.
– Хочешь, чтобы тебя считали идеальным? Тогда не надо было вытворять такую хрень.
– Они и так знают, что я неудачник. Я просто пытаюсь хоть что-то сделать как надо.
– Ты же понимаешь, что нельзя угодить всем? Включая меня.
– Клянусь, я всё верну.
– Наведи уже в жизни хоть какой-то порядок – только не жди, что я это сделаю за тебя. – Она развернулась и вышла.
Элейн перехватила его, когда он возвращался к столику, сказала, что нужно назначить дату для ужина и что она попросит его номер потом, в квартире. Его родители оставались на ночевку, и после праздника они вместе отправятся пить кофе.
– Когда приедем к нам, у тебя будет больше времени пообщаться с Энджел. Ты уже хотя бы познакомился с Чарльзом?
– Он вроде ничего.
– Планирует поступать на юридический. – Элейн наклонилась ближе. – Знаешь, уверена, им не понравится, что я это скажу, но я всё равно скажу – ты же знаешь меня и мой болтливый язык. Твои родители в ужасе из-за того, что ты не вернулся на учебу. Знаю, кажется, будто мы просто старые олухи, которые лезут в ваши жизни, но – хочешь верь, хочешь нет – я тоже была молодой. Я знаю, как бывает. Только в этом случае, должна сказать, твои родители знают, о чем говорят. Но. Ты думал предложить им, что пойдешь в городской вуз, если так не хочешь возвращаться на север? В смысле, я люблю твоих родителей и всё такое, но я понимаю, почему парень твоего возраста предпочитает остаться здесь, а не возвращаться в Риджборо. Всегда можешь пожить у нас с Джимом. Ты подумай, ладно?
До него донесся голос Энджел в другом конце зала; ее смех. Надо снова ей написать – надо пытаться, пока она не даст их дружбе второй шанс. Она сказала, ему надо навести порядок в жизни, но разве это не признак, что ей не все равно?
– Я поступаю в Карлоу, – ответил он Элейн. – На летний семестр. – От этих слов у него опустились руки, но уже слишком поздно – он отдал Питеру сочинение.
– Превосходно! – хлопнула в ладоши Элейн.
Он извинился перед Кэй и Питером и сказал, что не сможет присоединиться к ним у Хеннингсов, потому что завтра ему рано на работу, хотя на самом деле следующая смена была только в понедельник.
– Скоро увидимся, – ответил Питер. – Летняя учеба начинается через два месяца, так что планируй вернуться за несколько недель, чтобы обосноваться и подготовиться. Лучше всего – на первой неделе мая.
– Я рада, что ты решил поступить правильно, – сказала Кэй.
В следующие два месяца в городе, пока он не уехал, надо успеть как можно больше, начиная с сегодняшней ночи. Надо встретиться с Роландом и его друзьями. Дэниэл заслужил выходной.
Он почти дошел до угла улицы, когда увидел Чарльза, курившего перед пожарным гидрантом. Энджел всегда ненавидела курение, называла это гадостью. Значит, передумала.
– Привет, – сказал Чарльз.
– Привет.
– Я хотел с тобой быстренько поговорить.
Дэниэл остановился.
– Давай.
Чарльз бросил сигарету на тротуар, раздавил и достал из кармана жвачку, сунул в рот.
– Можно мне?
Чарльз бросил ему всю пачку.
– Можешь оставить. Серьезно.
– Спасибо. – Это были зеленые квадратики, слегка горькие от искусственного подсластителя. Дэниэл тут же подумал ее сплюнуть, но вместо этого проглотил.
– Я знаю, что ты сделал, – сказал Чарльз.
– Я много чего делал. Был у меня на концерте?
– Я уважаю решение Энджел не идти в суд, чтобы вернуть деньги, хоть я с ней и не согласен. Но ты лучше с ней больше не разговаривай.
– Так. Погоди.
– Серьезно будешь спорить? Я знаю, что ты украл у нее десять тысяч долларов. Она самый добрый человек, которого я знаю, а ты ею воспользовался.
– Я ничего не крал.
– Тогда пойди и признайся родителям Энджел. Они все только и треплются, какой ты хороший друг, как вы росли как брат и сестра. Просто с души воротит. Расскажи, а то я сам расскажу.
Дэниэл сорвался с места к метро, чуть ли не бегом. Нельзя угодить всем. Но ему хотелось – больше всего на свете – хотя бы самому думать о себе лучше.
Когда он поднялся со станции на Канал-стрит, зазвонил телефон. Он спешно выхватил его, надеясь, что это она.
Это был Питер.
– Мы с твоей матерью посмотрели документы. Что с тобой? Ты же знаешь, что такое сочинение подавать нельзя. «Я даже не хочу в Карлоу, так что не знаю, зачем это пишу». Это что за чушь? Мы дали тебе второй шанс, которого ты явно не заслуживаешь, и так ты нам отплатил?
Дэниэл достал из кармана куртки бумажку. Развернул под фонарем. «Обучение в малых группах и гуманитарное образование, которые предлагает Карлоу-колледж, а в особенности его передовые программы по экономике и политологии позволят мне достичь своих профессиональных целей». Он почувствовал разочарование с примесью облегчения.
– Пап, прости. Это шутка. Давай я подъеду и отдам настоящее сочинение.
– Не говоря уже о том, что ты сегодня грубо обошелся с Энджел. Я понимаю, тебе кажется, будто она предала вашу дружбу, потому что рассказала о твоей игромании, но ты бы мог хотя бы попытаться вести себя по-человечески. Она же за тебя волнуется, Дэниэл. Поэтому и рассказала. Чтобы помочь тебе.
– Вы сейчас где? В ресторане? У Джима и Элейн? Я приеду и отдам сочинение. Оно у меня, с ним всё нормально.
– Не трудись. Ты донес свое решение вполне четко.
– Пап!
– Это последняя капля. С нас хватит.
– Можно поговорить с мамой? – спросил он, но Питер уже повесил трубку.
Он свернул в бар на Гранд-стрит и заказал виски. Бар был маленьким и темным, непримечательным, музыкальный автомат играл Hells Bells AC/DC, а из угла ему настойчиво светила слот-машина. Он повернулся к ней спиной и углубился в телефон, прочитал несколько сообщений и удалил, нашел заметку, которую сохранил несколько месяцев назад, когда еще учился в Потсдаме, с названием и адресом подпольного покерного клуба в городе. Две сотни за вход, говорил Кайл. Адрес был на Лафайетт, в паре кварталов.
Он удалил заметку и допил. Он пойдет к Джиму и Элейн, чтобы отдать родителям правильное сочинение, хотя даже не знал их адрес. Он двинулся на восток, сворачивая на всех зеленых светофорах, но не сходя с Гранд, потом увидел банк и зашел за наличкой. Палец завис над кнопкой с надписью «50 долларов», но он нажал «500» – почти весь его счет – и смотрел, как выплевываются банкноты.
На углу Гранд и Лафайетт в голове зазвенел адрес покерного клуба. Он двинулся на юг, где Говард-стрит переходит в Хестер. Еще было не поздно, он мог бы направиться прямо к Роланду, пройти мимо здания – узкого, без швейцара, только с домофоном. Он проверил свой телефон – без сообщений. Его пугало, как мощно он собирался налажать, отсутствие желания остановиться, растущее предвкушение падения, аварии на полной скорости; уже выходя из бара, он точно знал, где окажется. Он нажал на кнопку домофона. «Что?» – спросил мужской голос. Он назвал пароль, и на миг затеплилась слабая надежда, что пароль неправильный. Но дверь открылась.
Клуб оказался однокомнатной квартирой с двумя столами, заваленными покерными фишками. Там были большой телевизор, где без звука шел баскетбол, стойка с ведрами пива. Дэниэл отдал пять сотен женщине в черном костюме и подождал, когда его посадят. Все игроки были мужчинами, разных рас и возрастов, причем он оказался одет получше многих. Он подошел к столу, готовый играть.
Был мертвый утренний час перед рассветом, когда дворники и мусоровозы еще не выходят на улицы, и Дэниэл сидел на скамейке перед Ист-Ривер – ветер задувал с непредсказуемыми порывами, бил по лицу через секунды после того, как пробегал рябью по куртке. В начале ночи, когда он выходил из ресторана, – так много часов назад – у него еще была шапка, но по дороге он ее потерял. Потерял он и сочинение для Карлоу-колледжа – то, которое хотел отвезти Кэй и Питеру, хотя оно еще было на компьютере. Можно отправить по электронной почте.
Хотелось есть и выпить кофе, но денег не осталось. Мужчины были круче, чем казалось. Он сразу понял, что они ему не по зубам, но продолжал играть, несмотря на их плохо скрываемую радость. Они думали, он потеряет столько денег, что сломается, ждали, что он закатит сцену, неизбежно психанет, но с каждым проигрышем он чувствовал, будто сбрасывает вес с души, снимает неудобную одежду, так что к концу ночи не плакал, а улыбался. Уходя, он слышал, как один сказал другому: «Шизик».
Он чувствовал дикую эйфорию. Ночь подтвердила его ущербность, и он освободился от необходимости бороться за то, чтобы оправдать надежды Питера и Кэй. Он не хотел в Карлоу, никогда не станет человеком, которого будет уважать Энджел, – каким-нибудь высокоморальным гражданином, поступающим на юриспруденцию. Боже, как здорово снова быть собой.
Со скамейки он видел на воде мигающие огоньки и различал проблески кораблей, идущих в океан. Слышал далекий гудок судов – лиловый, низкий и успокаивающий, морской брачный зов. Сюда он приходил с матерью, прогуливаясь из квартиры на Рутгерс-стрит, и однажды она рассказала, что, когда была маленькой, любила ходить на реку в Минцзяне. «Мы смотрели, как волны укатываются в никуда, и мне хотелось уйти за ними, – сказала она. – Далеко-далеко». Он так и не спросил ее, что это были за «мы».
Небо порозовело по краям, белые облака мраморизовались и приобрели пастельные оттенки, ночь расползлась на лоскутки. Пальцы Дэниэла поджались в ботинках. Ну, у нее получилось. Она уехала далеко-далеко от него.
Солнце разорвало ночь оранжевыми и желтыми прорехами. Река стала синей и стеклянной. Его захлестнула волна гнева, и захотелось поговорить с ней, сказать, как он на нее злился.
Он набрал номер. Звонок прошел, но на пятом гудке он понял, что она не ответит, и расслабился. Женщина на автоответчике не назвалась, но он сразу узнал мать. Ее голос был пронзительным и духовым, но речь – отрывистой и щипковой, безупречный мандаринский, который он не помнил у нее раньше.
Он оставил сообщение со своими именем и номером. Если она не позвонит, то других доказательств ему не надо.
Еще не доиграв первую песню, Дэниэл понял, что они всех порвут. Он поймал ту волну, когда уже не помнил, что стоит на сцене. Они много репетировали, и сегодня он не пил, но секрет был не в этом, а в том, чтобы поверить в себя – хоть даже песни дурацкие и вычурные. В конце сета он очнулся на сцене с Роландом, весь в поту, пока зал вибрировал в фиолетовых и лавандовых завесах, в реве радости и аплодисментах.
Когда они вернулись в зал, Дэниэл чувствовал, как его хлопают по спине и плечам. Слышал незнакомые голоса. «Блин, охренительно играешь». Он ориентировался в толпе на голову Роланда, останавливаясь каждые пару шагов ради очередного комплимента. Роланд поймал его взгляд и ухмыльнулся. Дэниэл был боксером в окружении своей свиты после идеального нокаута. Он вернулся. Он им всем показал, нахрен.
У бара, ожидая, когда начнут Хавьер с группой, Дэниэл узнал Хатча – агента из «Юпитера», в бежевой холщовой куртке и поблекших старомодных джинсах. Роланда перехватил кто-то еще, и Хатч сказал Дэниэлу:
– После прошлого раза не думал, что ты справишься.
– Я полон сюрпризов.
– Мне нравится, как вы подкрутили звук. Может, вокал и барабаны можно еще усилить. Не жалейте дисторшена, реверб на максы, ну знаешь.
– Посмотрим. Спасибо.
Подруга Роланда Ясмин – та, что с терменвоксом, мелодикой и странными завывающими песнями, которая всегда звала его Дарреном или Дэвидом, а один раз вообще озадачила Томасом, – ударила его по руке и сказала:
– Отличная работа, Дэниэл.
– Впервые сказала правильно, – улыбнулся он.
Все хотели знать, в каких группах он играл, как давно знаком с Роландом. Один парень – с такими черными и расширенными зрачками, что глаза напоминали гальку, – сказал Дэниэлу, что Psychic Hearts звучит как свиная отбивная.
– Погоди, я тут хотел поговорить с другом, – ответил Дэниэл. – Скоро вернусь.
Было приятно, что теперь это он придумывал оправдания, чтобы сбежать.
Через неделю всё изменилось. Они с Роландом договорились о новых концертах, и Хатч сказал, что придет послушать их 15 мая на площадку в Гованусе, – и если всё пройдет хорошо, то он замолвит словечко по поводу разогрева в этом году.
Наступало лето, город бредил от тепла, воздух был сырой и металлический, а телефон Дэниэла нескончаемо щебетал от сообщений – что он делает сегодня вечером, что делал вчера вечером, – и даже если музыка, которую он играл, была не той, которую ему хотелось играть, даже если это значило, что у него не осталось времени на работу над собственными песнями, он все-таки играл хоть что-то, ездил на концерты и вечеринки, оплачивал выпивку и такси кредиткой, каждый раз морщась, но повторяя себе, что переживать будет потом, что сейчас можно просто пожить в свое удовольствие, потому что он это сделал. Он достиг пика Крутизны. На секретном концерте в бушвикском подвале, слушая группу с песнями о животных, написанными в сложной стилистике сонетов, или выпивая в воскресенье с Роландом, Хави и Нейтом под литовских металлистов, он оглядывался и понимал, что это уже не второсортная вечеринка для неудачников, что это реальная тема, – и только вопрос времени, когда наконец начнется жизнь, которой он столько ждал.
В будущем ему это покажется бредом. Но в последнее время он так редко оказывался в одиночестве, что просто не успевал задуматься о призраке матери, или о Питере и Кэй, которые тоже так и не позвонили – хотя и он не пытался с ними связаться, – или об Энджел.
У Psychic Hearts взял интервью музыкальный блог, скинув Роланду по электронной почте список вопросов, на которые тот ответил и переслал Дэниэлу.
Вопрос: Роланд, ты ветеран рок-сцены, играл во множестве разных групп. Как тебе работается с Дэниэлом? Вы оба пишете тексты и музыку?
Роланд Фуэнтес (РФ): Ну, мы с Дэниэлом друзья с шестого класса, так что уже занимались вместе кое-какими позорными проектами (предоставлю ему решать, хочет ли он вспоминать наши славные дни пауэр-панка – лол, стрейт-эйдж форева!), но преимущество работы с человеком, с которым у тебя такая давняя история, – наша связь на сцене становится почти второй натурой. Это как работать с членом семьи. Хотя тексты и музыку для Psychic Hearts пишу я, во всех них вы слышите ДУ – это он вносит просто безумные ключевые изменения и какие-то запредельные мелодии, причем он о них даже не думает – он их видит.
Дэниэл Уилкинсон (ДУ): Роланд – настоящий визионер и прирожденный фронтмен. Любой, кто видел его на сцене, это подтвердит.
Вопрос: Последние песни группы стали громче, энергичнее, чем ранний материал. Это намеренная смена стиля?
РФ: Движение в новом направлении стало органическим решением. Нам это кажется правильным для проекта и реально позволяет разойтись вовсю.
Хавьер, у которого вся квартира была забита фотоаппаратами и видеооборудованием, сфотографировал их в сумерках на своей крыше, и, когда фотографию опубликовали вместе с интервью, Дэниэла поразило, что Роланд в четком фокусе, а он – в тени. Или это паранойя? Он дал телефон Эвану в «Трес Локос», чтобы тот почитал интервью, и тот согласился, что Дэниэл не в фокусе. «Тебя хотят кинуть, – сказал Эван, – так что не щелкай клювом». Тем вечером Дэниэл зашел по ссылке и пригляделся к фотографии поближе. По нему распространялось глухое тошнотворное чувство. Он часто чувствовал себя так в первый год в Риджборо, и еще с Карлой Муди, которая была с ним несколько месяцев на первом курсе Карлоу, когда просыпался посреди ночи с ней под боком и думал: «Ты со мной только потому, что не хочешь быть одной». В последний раз он почувствовал это в прошлом сентябре, в общежитии девушки, с которой встречался несколько недель – тогда он еще учился, – их губы слились вместе, по коже ползали мурашки от травки. Тут он заметил, как она стрельнула глазами левее – быстрый взгляд на стену, – и, как ему показалось, почувствовал гаснущий интерес. Он встал и ушел.
Роланд, вернувшись домой, тут же спросил: «Видел интервью?»
Дэниэл взглянул на оптимистичную улыбку друга и закрыл ноутбук. Ему не хотелось быть как Эван, вопить, что его кидают. Psychic Hearts взлетели. Они с Роландом были на пути к успеху.
– Отличное. И фотка тоже классная.
Дэниэл сидел с Тэдом и Роландом на прямоугольнике заляпанного оранжевого ковра и слушал только что сделанные треки. У Тэда была звукозаписывающая студия в подвале трехэтажного дома в Риджвуде, где он жил с десятью соседями. Дэниэл читал аннотацию, которую написал для кассеты Роланд, и увидел фразу: «Автор всех песен – Роланд Фуэнтес».
– Послушайте, – Тэд перемотал. – Вот это мне нравится.
Роланд кивнул.
– Такой глючный звук.
Стена – пятнашки из фанеры – скрывалась под афишами выступлений саунд-художников и виджеев, рекламой ремонта велосипедов, пикета против джентрификации[6] в ближайшем парке. Высокие шкафы были забиты микрофонами и усилками, барабанами всех размеров, целыми ящиками б/у инструментов – мятой трубой, серебряной губной гармошкой, пластмассовой флейтой. Рядом с пианино был четырехдорожечный TASCAM и монитор «Эппл» со скринсейвером, на котором саламандры превращались в обезьян. Пока они записывали, на диване рядом с пианино дремал барабанщик, прилетевший из Берлина, периодически просыпаясь, чтобы выйти покурить. «Все нормально, – ответил он, когда Дэниэл заметил, что звукозаписывающая студия не лучшее место для сна. – У меня джетлаг».
Дэниэл отложил аннотацию. Рядом с клубком проводов стояли картонные коробки, полные кассет других групп «МелОнхолия Рекордс». Позже, когда единственным свидетельством его участия будет демка Psychic Hearts, кассеты («Автор всех песен – Роланд Фуэнтес») уберут в очередную коробку.
– Я бы хотел еще более полный, многослойный звук, – говорил Роланд. – Может, даже барабанщик, еще один гитарист.
– Отличная тема, – сказал Тэд. – Чтобы потяжелее, больше гитарной гармонии.
Роланд повернулся к Дэниэлу.
– А ты как думаешь?
Дэниэл ковырял мозоль на указательном пальце. Уставился на афиши и представил, как его мать с выражением на лице «это что за хрень» смотрит на исполнителя экспериментального нойза, манипулирующего звуками на ноутбуке. С чего он вообще ее вспомнил?
– Круто, – ему было трудно выдавить из себя энтузиазм под стать Роланду и Тэду. Их друзья читали книжки о джентрификации и продовольственной независимости и рассуждали о важности «работы с общественностью» и «безопасных пространствах», но все они были студентами или стажерами без зарплаты и жили на кредитки от родителей, и никто не вырос в городе. Соседка Тэда, Софи, которая ходила с бирюзовыми дредами и готовила еду из ингредиентов, собранных по помойкам, спросила Дэниэла, знаком ли он с социалистическими продовольственными моделями, раз он родом из Китая, и он ответил, что родился на Манхэттене. Тэд говорил: «Круто, что ты бросил учебу и забил на родительские нотации про науку. Это просто развод – в смысле, вузы, профессорство и всё такое». Чувствуя себя неуютно из-за того, что кто-то ругает его родителей, Дэниэл спросил: «Как ты понял, что они профессора?» «Мне Роланд сказал», – ответил Тэд. Роланд говорил Дэниэлу, что Тэд финансировал «МелОнхолию» на деньги, которые каждый месяц присылали родители. «Я слышал, твой отец – управляющий хедж-фонда[7]», – сказал Дэниэл. «Ага, – ответил Тэд, – он вообще мудак». Дэниэл завидовал людям, которые могли принимать свое происхождение за должное, которые могли сознательно решить, что они ненавидят своих родителей.
Постучался другой сосед, кричал, что на кухне взорвался кухонный комбайн. Они готовили песто для кулинарного подкаста Софи, и у какого-то парня там теперь вся рука в кровище. Тэд знает, где аптечка?
Тед встал, отряхивая джинсы.
– Сейчас вернусь.
– Что думаешь про треки? – спросил Роланд у Дэниэла.
Дэниэл укусил мозоль и оторвал кусочек отмершей кожи.
– Вроде ничего. – Он снова посмотрел на афиши. В старшей школе он накурился в амбаре Коди Кэмпбелла и ему показалось, что он увидел летучих мышей, и психовал, пока Коди не сказал, что под потолком не мыши, а тени от садовых инструментов. «Споку-уха», – говорил Коди. Смешно, нелепо – то, что он внезапно вспомнил про амбары, мышей и Коди Кэмпбелла в этом подвале в Квинсе.
– Эй, а помнишь Коди Кэмпбелла?
– Что, того жирного урода?
Дэниэл пожевал кожу.
– Не знаю, потяну ли я.
– Конечно потянешь. Прошлые концерты прошли идеально. Первый – это просто сбой.
– Я не про концерты.
Но разве Роланд поймет? В Риджборо из-за фамилии и светло-коричневой кожи Роланд вызывал подозрения, но все-таки он явно был Лизио; у них с матерью одинаковые острые лица и редкие темные волосы. Когда они вдвоем выступали в городках, где их не знали, некоторые по приколу дразнили Роланда, пели на испанском – те же люди, что кричали Дэниэлу «Коничива-а!». И был один раз, когда на шоссе за Риджборо их остановил коп – под ложным предлогом, ведь старый почтовый фургон Роланда едва разгонялся до скоростного лимита. Коп устроил Роланду проверку на трезвость, хотя они с Дэниэлом очевидно были трезвыми; Дэниэл сидел в ужасе на пассажирском месте, заметив страх в осанке Роланда, когда тот стоял на шоссе с руками за головой, а коп разглагольствовал про пьяных мексиканцев. Когда их отпустили, Роланд поехал прямиком в Риджборо, и это был тот редкий случай, когда он лишился дара речи. Когда Роланд наконец заговорил, он сказал: «Надо выбираться отсюда ко всем херам». И Роланд выбрался, как и Дэниэл. И всё же Роланд говорил только на английском, не носил несколько фамилий, всю жизнь знал, кто его мать и где ее найти. То, что выделяло его в Риджборо, – покойный отец-латиноамериканец, овдовевшая белая мама – Роланд использовал с выгодой для себя. Выглядел как можно более не так. Одевался как фрик, провоцировал косые взгляды, упивался ими.
– Ты что, думаешь, мы с Тэдом всерьез? Я же просто фигней страдаю. Тэд вообще только и делает, что фигней страдает. Не нужен нам новый вокал, если тебе не нравится.
– Не уверен, что хочу, чтобы наша музыка двигалась в этом направлении. Не хочу больше слоев.
– А чего ты хочешь? – в голосе Роланда прозвучала резкая нотка. – У нас же тут коллаборация.
– Что-то непохоже. Это звук, который хочешь делать ты, чтобы ублажить Хатча. Это ты пишешь все песни.
– Кто мешает писать тебе?
Дэниэл так разозлился, что начал дрыгать ногой.
– Тебя волнует только твоя крутизна, чтобы ты всем нравился.
Роланд оторопел – как в тот раз, когда они шли через Вашингтон-Сквейр-парк и ему на плечо насрал голубь.
– А тебя нет, что ли? Брось ты. Я же помочь тебе хочу.
– Помочь?
– Я мог бы взять в группу любого. Будто в городе нет нормальных гитаристов. Но тебе же нужен был повод убраться с севера.
Дэниэл толкнул ногой пустую чашку кофе.
– Это что еще за благотворительность?
– Ты нравишься всем, кроме себя самого, – сказал Роланд. – Ты знаешь, сколько раз я пел на сцене? И каждый раз я на нервах. Один раз меня стошнило в туалете перед саундчеком.
Подбородок Роланда скакал, когда он говорил, – рудиментарная черточка из детства, – и в Дэниэле промелькнула утраченная симпатия к молодому Роланду из школьных времен. Он не мог подвести лучшего друга.
– Короче, играем с Ясмин 1 мая – считай, на разогреве, – а потом наш большой концерт 15 мая, где будет Хатч. Две недели на всё про всё.
– Стой, – сказал Дэниэл, – это какой день?
– Понедельник.
– Нет, я про сегодня. – Он посмотрел на телефоне. Двадцать седьмое апреля. Час назад был пропущенный звонок от человека, о котором он думал. – Погоди, я сейчас вернусь.
Он пробрался через лабиринт коридоров, мимо кухни, где краем глаза заметил залитую песто и кровью стойку, Софи и Тэда, забинтовывавшего руку парню, и нашел дверь, которая выходила на гравийную стоянку. Ночь была прохладной, над пластиковым сайдингом дома светила долька луны. Он разблокировал телефон и набрал номер «Мама и папа».
Он был рад, что ответила Кэй, а не Питер.
– Мам, – сказал он. – С днем рождения.
– Я тебе звонила, но не оставила сообщения.
– Знаю, видел.
– Твой отец об этом ничего не знает – и я ему не скажу, – но я разговаривала с деканом в Карлоу, и она готова с тобой встретиться. Ты всё еще можешь поступить до осени.
– Подожди…
– Она сказала встретиться с ней через две недели, в пятницу 15 мая. Тебе надо быть здесь с утра.
– Я не знаю… А как папа? Что делаете на твой день рождения? Он устроил поиск сокровищ?
– У нас всё хорошо. Искали этим утром. Первая подсказка пришла по почте – он положил ее в конверт от счета! Потом мне пришлось пройти всю улицу и искать подсказку в тюльпанах Лоутонов. Теперь он готовит мне ужин.
– Скажи ему, что я это несерьезно, с тем сочинением.
Он услышал, как кричит Питер: «Милая?» – и Кэй сказала, что ей пора.
Первого мая, за две недели до большого концерта, Psychic Hearts отыграли несколько песен на уличной площадке под скоростной магистралью Бруклин-Квинс, на разогреве для Ясмин. Дэниэл пригласил Майкла, и тот потом подошел и прокричал: «Это было офигительно!» Роланд, Нейт и Хавьер оглянулись – к Дэниэлу на концерты никогда не приходили друзья.
Он представил Майкла как двоюродного брата, и Майкл протянул руку. Роланд пожал, а Нейт и Хавьер просто кивнули и продолжили свой разговор.
– Вы отожгли, – сказал Майкл.
– Спасибо, что пришел, – сказал Дэниэл.
Майкл взглянул на Роланда:
– Как вы познакомились?
Роланд поднял брови.
– Да мы как бы росли вместе? Дэниэл – мой лучший друг.
– Мы тоже росли вместе, – сказал Майкл. – Когда жили в Бронксе.
– Ты жил в Бронксе?
– Несколько лет, – ответил Дэниэл.
– И ваши мамы – твоя родная мама – они были сестры?
– Что-то в этом роде. Очень близки.
– Ты с ней уже разговаривал? – спросил Майкл.
– Оставил сообщение, но она еще не перезванивала.
– Погоди, – сказал Роланд, – ты звонил маме?
– Я узнал ее телефон от Леона. Дяди Майкла.
– Может, номер не тот, – сказал Майкл. – Он ведь уже давний.
– Автоответчик был ее. Я узнал голос.
– Ну и пошла она, – сказал Роланд.
У Майкла отпала челюсть.
– Прошу прощения?
– Прости, я знаю, это твоя родная мама и всё такое, но если она не хочет с тобой разговаривать – ей же хуже. Я говорил: если позвонишь – пожалеешь.
– Ты говорил ему не звонить собственной матери?
Роланд пригладил волосы.
– Она не его мать.
– Она моя мать, – сказал Дэниэл.
– Она же тебя не растила. В смысле, я никогда не знал папу – ну и хрен бы с ним, понимаешь?
– Я тоже не знал папу, – сказал Майкл. – Но Деминь – в смысле, Дэниэл, – он же маму знал очень хорошо.
– Ладно, делай что хочешь, – ответил Роланд.
Майкл раскраснелся.
– Он и так делает что хочет.
– Ну, Кэй тоже моя мама, – сказал Дэниэл. Ему бы хотелось быть круче; ему бы хотелось наплевать и забыть. Но он был как Майкл – очевидный, прозрачный. Он спросил Майкла, не хочет ли тот присоединиться к ним в баре поблизости, а когда тот отказался, потому что завтра рано утром у него пары, Дэниэл почувствовал облегчение.
– Здорово было наконец увидеть тебя в деле, – сказал Майкл. – Серьезно, вы зажгли. Круче Maroon 5. – Уходя, он добавил: – Приятно познакомиться, Роланд.
– И мне, – ответил тот.
Когда Майкл скрылся за углом, Нейт и Хавьер расхохотались.
– Он сказал Maroon 5? – фыркнул Нейт. – Эй, Роланд, а ты у нас, значит, Адам Левин?
– Заткнись, Нейт, – сказал Дэниэл.
В Потсдаме ему никогда не нравились вечеринки – он всегда думал, что должен быть в месте покруче, поинтереснее, с друзьями покруче и поинтереснее. Теперь его вроде бы окружали крутые люди, и все-таки неуловимое ощущение удовлетворения – любви? – так и не возникло.
После концерта он пошел домой один, оставив Роланда в баре с его друзьями. С тех пор как Дэниэл доказал, что умеет играть, Нейт развернулся на сто восемьдесят – больше не забывал его имя, слушал, когда он говорил. Но Дэниэла не тянуло общаться с людьми, которые притворялись друзьями, только когда это выгодно в социальном плане, которые в упор не видели Майкла так же, как два месяца назад – его самого. С ними Дэниэл был подопечным благотворителя Роланда и парнем на заднем плане фотографии Хавьера, но Майкл – Майкл предан ему всегда.
Может, его мать занята, или уехала туда, где не ловят телефоны, или потеряла мобильник, или разбила и теперь покупала новый. Может, у него такой плохой китайский, что она его даже не узнала, – хоть он и назвал свое имя и два раза повторил телефонный номер. Может, его речь испортилась после долгого простоя – и слова, которые казались терпимыми для продавцов овощей и фруктов, на самом деле были тарабарщиной, неязыком, гортанным бредом. А может, она притворилась, что не поняла.
Он должен был знать. Он набрал код страны и номер. Мягкий щелчок и гудки, где-то далеко. Дэниэл мерил шагами гостиную Роланда и ждал, когда включится автоответчик.
Он услышал еще один щелчок.
– Алло? – сказала она. – Деминь?
– Алло? – сказал он на фучжоуском.
– Алло?
– Это я – Деминь.
– Привет, Деминь. Я рада, что ты перезвонил.
От ее голоса перехватило дыхание.
– Привет, мам.
– Это ты. Такой взрослый.
Теперь, когда он с ней разговаривал, он не знал, что сказать.
– У тебя всё хорошо? – спросила она.
– Хорошо. – Заготовленные обвинения застряли где-то в горле. Он опустился на диван, на стопку нестираного белья. Вот он сидит, беседует ни о чем с пропавшей матерью. – Я живу в Нью-Йорке, на Манхэттене, недалеко от места, где жили мы.
– Тебе теперь двадцать один. – Почему она шепчет? – Ты работаешь? Учишься?
– И то и другое. Учусь в университете. Работаю в ресторане. Еще играю на гитаре с другом, в группе.
– Ты всегда любил музыку.
– Как ты, мама? – Каждый раз, когда он произносил это слово, ему становилось страшно. Она передумает; повесит трубку.
Он достал носок, застрявший между подушками дивана, и бросил через комнату. Хотелось спросить, почему она не перезвонила, но не хотелось ее спугнуть.
– Хорошо. Живу в Фучжоу, в квартире рядом с парком Уэст-Лейк. Я замужем. У моего мужа своя текстильная фабрика. Я замдиректора языковой школы.
«Моя жизнь идеальна». Вот что она говорила. Дэниэл перешел на английский:
– С каких пор у тебя настолько хороший английский?
– Я практиковалась, – ответила по-английски она, и акцент у нее был такой сильный, что его это не убедило. Он перешел обратно на фучжоуский. – Откуда у тебя мой номер?
– Я разговаривал с Леоном.
– А.
– Он сказал, что не говорил с тобой семь лет.
– Да, уже давно. Раньше мы поддерживали контакт, но теперь это сложно. Работа, сам понимаешь.
Дэниэл прошел к окну, вернулся на диван.
– Я нашел Леона, потому что встречался с Вивиан. С помощью Майкла. Он нашел мой имейл, хотя это было непросто, потому что я уже не Деминь. Я Дэниэл Уилкинсон.
– Дэниэл Уилкинсон?
– Так меня назвали родители.
Короткая пауза.
– Значит, ты видел Майкла.
– Я был в гостях у него и Вивиан. Он рассказал, что она приходила в суд как опекун и отдала меня приемной семье.
Последовала более долгая пауза.
– Алло? – Надо бросить трубку. Это была ошибка.
– Вот же сука, – сказала его мать, но слова были слишком взвешенными и тихими, без того пыла, что он помнил. – Как она могла?
Он пожалел, что не видит ее лица и того, что ее окружает.
– Мам?
– Да?
– Что ты сейчас видишь?
– Я в квартире, в кабинете. Вижу шторы, стол. Мы на двенадцатом этаже. Если посмотрю в окно, то увижу другие здания. Теперь Фучжоу большой город, как Нью-Йорк. А ты что видишь, Деминь?
– Шкафы. Компьютер, одежда, гитара. Есть окно, но оно выходит на другие окна.
Она спросила, помнит ли он, как они ездили на метро, а он рассказал о случае, когда они встретили своих доппельгангеров. В Риджборо, когда имя Деминь Гуо больше не произносили вслух, он представлял себе другого Деминя и другую маму, которые еще живут в Квинсе. Это служило каким-то утешением, с привкусом светлой печали: хотя бы они остались вместе.
– Мне пора, – вдруг прошептала она. – Я позвоню тебе завтра.
На следующий день она перезвонила – вечером среды по Нью-Йорку, утром четверга – по Фучжоу. Он был на работе, увидел сообщение только потом. «Привет, Деминь, – говорила она. – Я хотела поболтать, но ты, наверно, учишься. Не звони – нам нужно заранее организовать время для разговора. Но завтра я тебе перезвоню».
На весь следующий день он поднял звук на телефоне на максимум, но так и не дождался звонка. После работы он позвонил сам и оставил новое сообщение, спросил, когда они поговорят в следующий раз.
Он вернулся в квартиру, съел энчилады из «Трес Локос» и пытался поработать над песней, решив сегодня никуда не выходить. Он не садился за собственную музыку уже несколько недель. А если он будет недоступен, она обязательно позвонит, – это как брать зонтик, только чтобы отпугнуть дождь. Он долго принимал душ, переоделся в треники, сложил одежду, помыл посуду, плесневеющую в раковине. Наконец заглянул в телефон. Она звонила – оставила сообщение, предлагая пять тридцать утра пятницы, по времени Нью-Йорка. Этой ночью он впервые за неделю спал крепко.
На следующее утро он был готов. Встал раньше обычного, взял чашку кофе и бейгл в закусочной на Шестой авеню, потом сел за стол на кухне и набрал.
Сперва он ошибся номером, и звонок не прошел. В панике он перепроверил цифры, набрал опять.
Она ответила:
– Деминь?
– Тебе удобно говорить?
– Да, мужа как раз нет. Я сейчас на балконе.
Он заранее составил список того, о чем хотел спросить.
– Помнишь тот раз, когда ты столкнула меня с качелей?
– Почему ты вспомнил?
– Просто.
– Я тебя не сталкивала. Ты упал. А я помню, когда просила в школе перевести тебя к другому учителю. Тебя хотели отправить в коррекционный класс.
Это же была Кэй – это она просила, чтобы его взяли в класс выше.
– Этого не помню.
– В школе № 63. Я даже помню директрису. Латиноамериканка, с копной волос. У тебя были трудности, и я не хотела, чтобы ты и дальше учился в том классе. Перевела тебя к Майклу. Он учился в общем классе для успевающих учеников, так что там были дети и из твоего потока.
– Школа № 33, а не № 63. – Дэниэл положил локти на стол и увидел перед собой очертания лица директрисы, воспоминание, как входил к ней в кабинет с матерью, как странно было видеть мать в коридорах школы, с каким облегчением он сидел рядом с Майклом в другом классе. Увидел и другую сцену: его мать кричит на какую-то женщину. В воспоминании сын другой женщины смеялся над его одеждой или незнанием английского и довел до слез – да, теперь он видел четко, Деминь плакал в парке, и мама подбежала к нему, – а когда другая женщина заступилась за своего сына и говорила, что он ничего не сделал, мама устроила ей выволочку на фучжоуском. Защищала его, была на его стороне.
– Черт, – сказал он по-английски. – Расскажи что-нибудь еще, что мне нужно знать.
– Я приехала в Нью-Йорк уже беременная тобой. У меня был долг в пятьдесят тысяч долларов.
– Ты уже была беременна? Кто мой отец?
– Парень из деревни. Мой сосед.
Он подождал, чтобы она сказала больше. Пока она рассказывала, как приехала в Нью-Йорк, он тихо доедал бейгл и допивал кофе. Потом сам рассказал, что рос в городке под названием Риджборо, что его приемных родителей зовут Питер и Кэй и что он пока не учится.
Поднималось солнце. Пока она не положила трубку, он спросил:
– Если ты нашла Леона, почему не пыталась найти меня?
– Я пыталась. – В голосе звучала боль. – Я много лет искала. Леон не знал, куда тебя отдали. Я копила на возвращение в Нью-Йорк. Хоть бы это стоило шестьдесят тысяч долларов, я планировала тебя найти. Хоть бы первым делом меня посадили в тюрьму. Когда я услышала от Леона, что тебя усыновили, я чуть не прыгнула с моста.
Ее слова удалялись в крошечное, задушенное пространство. Разум Дэниэла стал мешаниной из имен и мотивов. Это Леон виноват, что их разлучили, это Вивиан его отдала. Он стоял у кухонной стойки, сметая крошки на пол.
– Но ты же в порядке? – В ее голос вкралась нотка надежды.
Дэниэл вернулся в гостиную. Чтобы принять раскаяние матери, нужно было вспомнить, что с ним стало после ее ухода, вспомнить ночи, когда он просыпался в Риджборо в такой тоске, что даже парализовались легкие. Так проходили месяцы, годы, пока он не научился в совершенстве убеждать себя, что всё это не важно.
– Это не оправдывает твой отъезд, – сказал он. – Ты не представляешь, что со мной случилось. У тебя не получится притворяться, будто ты ни в чем не виновата, будто ты не сделала ничего плохого.
Из спальни вышел Роланд.
– Что такое?
– Ничего. Иди спать.
– Всё в порядке?
– Ага.
– Деминь? – спросила мать. – Ты еще там?
Дэниэл подождал, пока Роланд вернется к себе и закроет дверь.
– Да.
– Ты так много не понимаешь, – сказала она. – Спроси Леона – ты же сказал, что разговаривал с ним, тогда почему не спросил его?
Он молчал. Услышал, как его мать говорит: «Да, я здесь». Это прозвучало громко, весело, и на заднем плане раздался мужской голос.
– Муж дома. Больше не могу говорить. Я перезвоню, – прошептала она.
«Звонок завершен», – сообщил экран.
Дэниэл налил стебе стакан воды и выпил в несколько глотков, потом умылся над раковиной. Когда по шее побежала холодная вода, он осознал, что ее муж не знает о нем, что она делает вид, будто его не существует.
Центральный парк накрыло толстым слоем листьев, и дымный запах октября напомнил мне, как я бегала по двору храма с Фан и Лилин. Ты теперь бегал по деревне точно так же. Я листала англоязычную газету, которую мне дала в метро женщина в оранжевом фартуке. Статей я читать не могла, зато могла сама придумывать истории. Обычно мне нравилось ездить одной, но сегодня хотелось, чтобы со мной был ты, чтобы кто-то стал свидетелем моей жизни.
Прошло пять лет с тех пор, как я отослала тебя к йи ба, и боль от утраты угасла, стала аморфной; я как будто скучала по человеку, которого не знала. После твоего отъезда Диди вернулась на свою кровать, а когда съехала одна из соседок, меня повысили в статусе, и спальник достался следующей женщине. Теперь у меня была верхняя кровать. Большинство из тех, с кем я жила, когда только приехала, уже перебрались в другие квартиры, даже другие города. Диди пару ночей в неделю проводила в квартире своего парня Квана, но мы с ней еще оставались на Рутгерс-стрит, учили новоприбывших, как покупать карточки для метро, где найти хорошие продукты, в каких магазинах задирают цены. Я узнавала страх в лицах этих новичков, смотрела, как они усваивают мои советы с мрачной решимостью. Они говорили, что я смелая; их поражало, сколько времени я провела в городе. «Вы привыкнете, – говорила я. – Станет проще».
Несколько соседок скопили достаточно, чтобы выйти замуж по расчету. Мы с Диди ходили в ратушу на свадьбу нашей подруги Синди с седым белым мужчиной.
– Могу познакомить вас с женщиной, с которой я работала, – сказала Синди. – Она китаянка и настоящий профессионал.
– Я не хочу спать с каким-то волосатым американцем, – сказала я и тут же пожалела об этих словах, потому что именно этим и приходилось заниматься Синди.
– Можешь найти себе китайца с гражданством. И не обязательно оставаться в браке, – ответила Синди, – главное, чтобы он сделал свое дело. Даже не обязательно с ним спать, если не хочешь. Глупо выходить за мужика без документов. Упущенная возможность. Такими темпами ты еще очень, очень долго будешь ждать грин-карту.
– Если вообще дождешься, – добавила Диди.
С тех пор как ты уехал, я работала в двенадцатичасовых сменах. Подшивала больше подолов, чем все остальные. На стене рядом с кроватью я приклеила бумажку с двумя столбцами: в одном – сумма, которую я должна, в другом – сколько заплатила; такие мелкие цифры, что видела я их только лежа, и мало-помалу число в первом столбце уменьшалось, а во втором – увеличивалось. Но из-за месяцев, когда я не работала из-за твоего рождения, и из-за денег, которые я слала йи ба, процесс занимал больше времени, чем я ожидала. Когда тебе исполнилось пять, я вернула чуть больше половины долга. Оставалось еще двадцать тысяч долларов.
Раз в неделю я тебе звонила. Сперва йи ба держал для тебя трубку и просил поздороваться, и я разговаривала, пока ты что-то тараторил. Потом ты мог мне отвечать, и с каждым моим звонком твой голос становился полноценнее, ты произносил новые слова.
– Слушаешься своего йи гонга? – спрашивала я.
– Да.
– Чем сегодня занимался?
– Кормил кур.
– А помнишь Нью-Йорк?
– Нет.
Тебе исполнилось четыре, потом пять – достаточно, чтобы поступить в школу в Нью-Йорке, но йи ба придумывал отговорки. «Может, подождешь, пока заплатишь по долгам, чтобы было больше времени на него, – сказал он. – Подожди, пока не скопишь на собственное жилье. Не надо ему жить с чужими женщинами. Да и тебе нужна другая работа, где и зарплата, и часы получше. Кто будет за ним приглядывать, пока ты работаешь?» Но жизнь с внуком смягчила йи ба. Я сказала ему, что познакомилась с твоим отцом в Нью-Йорке, хотя в твоем паспорте была указана дата рождения и любой мог отсчитать девять месяцев. Йи ба не требовал подробностей, только брал деньги, которые я пересылала. Для Деминя, говорил он. Он рассказывал, что ты растешь на три сантиметра в месяц, что ты любишь подпевать песням по радио, что ты прозвал новую курицу Быстроножкой. Мне было приятно, что он хорошо с тобой обращается; так мне легче жилось с тем, что я тебя отослала.
Он держал меня в курсе деревенских новостей – мы оба говорили, что нам на них плевать, но я всегда ждала их с интересом. Хайфэн обручился с женщиной из Сямыня – из хорошей семьи, по словам его матери. Я была рада за него, за то, что он нашел себе городскую, – и была рада за себя. Все-таки я спаслась.
Когда Хайфэн приезжал на Новый год в гости к родителям, он тебя видел – ты был слишком маленький, не помнишь, – и спросил у йи ба мой номер. Он звонил мне несколько раз, но я никогда не перезванивала. Впрочем, может, стоило разрешить ему встретиться с тобой; может, так было бы проще.
Еще даже не было полудня – впереди ждал весь день, – но я уже чувствовала себя хуже, чем когда выходила этим утром с Рутгерс-стрит в Центральный парк, закутавшись в длиннополое серое пальто, которое мне отдала Синди. В пальто поверх джинсов и свитера я казалась выше, смешивалась с толпой на Канал-стрит.
Я достала мобильник и позвонила йи ба. У вас было полдвенадцатого, поздно для звонка, но мне хотелось услышать твой голос. Гудки шли так долго, что я уже подумала, что ошиблась номером. Ответили не ты и не йи ба, а женщина со знакомым голосом.
– Это Пейлан, – сказала я. – Кто это?
– Пейлан, – ответил голос. – Это госпожа Ли, мать Хайфэна.
– Что вы там делаете?
– Я должна тебе кое-что сказать. Твой отец умер. Вчера ночью у него случился сердечный приступ. Я не знала, как с тобой связаться, и надеялась, что ты позвонишь.
В ушах истошно звенело, будто резко останавливался поезд.
– Нет. – Мой голос звучал странно, но я отказывалась впускать в него дрожь во время разговора с госпожой Ли. – Я же разговаривала с ним в воскресенье.
– Мне жаль. Всё случилось быстро. Вряд ли ему было больно. – Звон усилился. – Деминь живет с нами. Я побежала к вам домой, как только услышала звонок. Ты скоро сможешь забрать его в Америку?
Каким-то образом я смогла расспросить о похоронах, которые устраивали мои родственники и которые я посетить не могла, потом спустилась в метро и вернулась в квартиру, где меня потом нашла Диди, на кровати с газетой на лице. Мы с отцом так долго жили порознь, что он уже был только голосом в трубке, но я всегда надеялась, что мы еще увидимся.
Я плакала в рукава, пока шла по улице, шмыгала на работе, а когда не могла сдержать слезы, позволяла им капать, не вытирала нос, когда текло на швейную машинку. Я вспоминала, как после возвращения в деревню из Фучжоу одна из соседок отвела меня в сторону и сказала: «Твой отец гордится тобой».
Я звонила госпоже Ли каждый вечер, чтобы поговорить с тобой, убедиться, что ты еще там. Плакала целыми неделями, лежа в кровати в свои выходные. Позвонила госпожа Ли и сказала, что один из двоюродных братьев йи ба смог получить залог благодаря тому, что у него есть родственница в Америке – этой родственницей была я, – и подать заявление на туристическую визу. Он согласился взять тебя с собой на рейс в Нью-Йорк, если я оплачу билеты.
За три недели до твоего возвращения, через шесть недель после смерти йи ба, я ходила на вечеринку в квартиру Квана. Мужчины играли в карты, женщины разговаривали и смотрели телевизор.
Я увидела в углу мужчину крепкого телосложения, который попивал пиво из бутылки. Он привалился к стене, а его уголки губ загибались вверх, будто он брал меня на слабо. Он заметил мой взгляд и одарил большой открытой улыбкой. Между его передних зубов виднелась щербинка – такая широкая, что можно было просунуть арбузное семечко.
– Не играешь в карты? – Он тасовал в широких руках колоду. В его фучжоуской речи остался деревенский говорок, который я так пыталась соскоблить у себя.
– Нет денег на игру, – сказала я.
По телевизору орала реклама – спортивная машина петляла по резкому серпантину горы под глубокий закадровый голос.
– Необязательно играть на деньги – Он расколол в зубах арахисовую скорлупу. – Можем играть на орешки.
– Я не люблю проигрывать.
– Тогда не проигрывай, – сказал он. – Тогда всегда побеждай.
Я взяла орешек и разломила пополам.
– Когда ты приехал?
– Уже девять лет назад – Он снял колоду. – А ты?
– Шесть.
Он назвал свою деревню, которая была недалеко от Минцзяня.
– Лучше быть тем, кто уезжает, чем тем, кто остается.
– Думаешь? – Я видела его загадочную улыбку, его тяжелый лоб, глаза с опущенными уголками, и мне хотелось его отпереть. Он казался знакомым, но совсем не похожим на Хайфэна; он выглядел так, будто если узнать его получше, то тебя ждет что-то еще. – Горбатиться в Америке? Может, лучше сидеть дома, толстым и счастливым в новеньком доме.
– И мечтать о том, как бы съездить сюда? Ты бы ни за что не осталась, – сказал он.
Я улыбнулась. Он был прав.
Его звали Леон, и он работал по ночам на бойне в Бронксе. Работа была трудная – резать и кромсать коров и свиней, – и это отразилось на его плотных руках и плечах, которые я украдкой пощупала, когда мы целовались на углу после того, как ушли от Квана. Когда я раскрывала губы, меня как будто раскрывали целиком.
Иногда, когда я видела на улице красивых мужчин, мне хотелось попросить их взять меня к себе. Однажды я шла пять кварталов за мужчиной, восхищаясь тем, как он шел, выставив пах, словно бросая вызов, как целеустремленно и расслабленно двигался. Останавливалась, когда останавливался он, держалась в нескольких шагах позади, разглядывала его задницу, пока он ждал на светофоре. А что, если он говорит не на фучжоуском, а только на кантонском или любом другом диалекте, который я не знаю? Он мог оказаться китайцем американского происхождения или того хуже – он мог рассмеяться мне в лицо, крикнуть, что к нему на улице пристает сумасшедшая. Я смотрела ему вслед и чувствовала себя так, будто из меня выпустили воздух.
На третий год в Америке я несколько раз спала с парнем из провинции Аньхой. Он водил продуктовый грузовик, и у него осталась жена в деревне, и я почувствовала облегчение, когда он сказала, что она приедет в Нью-Йорк. До Леона воздержание было еще одной жертвой, которой я гордилась: смотрите, на что я готова. Смотрите, от чего отказалась. Но когда Леон обвел пальцем родимое пятно в форме звездочки у меня на шее, пока мы стояли на морозной улочке перед квартирой Квана, под пожарными лестницами и опасными сосульками, когда он назвал меня Звездочкой, внутри вздрогнуло то, на что я давно не обращала внимания, – словно вернулось забытое воспоминание. Ах, это. Как я могла забыть? Губы Леона на вкус были как пиво и арахис. Язык Леона толкался с моим. Внутри меня что-то жестко раскрутилось – ослабился многолетний узел. Это уже не деревня. Здесь женщина может целоваться с мужчиной, с которым только что познакомилась, целоваться на улице, на глазах у незнакомцев, и никого это не заботит.
Через три недели ко мне приезжал ты. Благодаря тому что я дольше всех прожила в квартире, соседки не возражали, чтобы ты остался со мной, если я буду платить дополнительно – хотя и не за двоих, ведь ты бы занял мою кровать.
– Мы скоро съедем, в место побольше, – говорила я им, хотя даже не представляла куда.
Я нашла лучший маршрут в школу на Генри-стрит и поменялась сменами на фабрике. Я боялась снова стать мамой – заботиться о шестилетнем мальчике, который ходит и разговаривает, которого я даже не знала. Я помнила, как тяжело нести ответственность за другого человека, как порой чуть ли не задыхалась. А если я уже забыла, как быть с тобой, или испортила тебе детство, сослав в Китай?
На следующий день после нашей встречи Леон позвонил и спросил, свободна ли я. Я сказала, что в следующем месяце в Нью-Йорк приезжает мой сын. Это было необязательно, но я сказала.
– Как его зовут? Сколько лет?
Я рассказала, что тебе исполнилось шесть и что я не видела тебя пять лет.
– Жду не дождусь, когда я его увижу, – сказал Леон.
Январским вечером тебя привез мой двоюродный брат, которого я никогда не видела. Я гладила твои плечи, но ты так и не поднял руки. Твое лицо вытянулось, тело уплотнилось. «Большой мальчик», – сказала я, и ты выставил нижнюю губу. К твоему лицу липла полнота. На тебе была зеленая толстовка с термокартинкой футбольного мяча, которую отдал какой-нибудь сосед или другой ребенок с 3-й улицы. Волосы торчали упрямыми перышками, будто ты с натугой выдавливал их из кожи. Кто стриг эти волосы?
В прошлую субботу мою талию сжимали руки Леона. Его сестра, с которой он жил, повела сына в гости к подруге, так что мы остались наедине и могли шуметь сколько хотели. Он входил в меня с закрытыми глазами, а когда я двинулась навстречу, они открылись. Он назвал мое имя, я – его, а потом всё только кружилось и скользило. «Скажи мое имя еще раз», – потребовала я, и он сказал, и я рассмеялась. Какая новинка – моя рука на спине нового мужчины. Такой хорошей, мускулистой спине. За пять лет в Нью-Йорке меня впервые не окружали другие люди – только я и еще один человек в квартире, сами по себе, – и потом я согнулась над раковиной в ванной Леона и плакала – не только из-за секса и красивого мужчины, но и из-за того, как хорошо было не слышать швейные машинки, или гудящие автомобили, или ссоры соседок. Смакуй момент, говорила я себе: возможно, он больше не повторится.
– Деминь, – сказал двоюродный брат, – помнишь свою маму?
– Конечно, он меня помнит. Как он мог забыть?
За нами наблюдали три новые соседки. Одна цокнула и сказала:
– Он забыл собственную мать!
– Он устал после долгого перелета. Ребенку непросто переносить такие дальние путешествия. – Я снова потянулась к тебе, но ты отвернулся и побежал на кухню, и я погналась за тобой и подхватила, прижалась лицом к затылку. От тебя пахло прелым – словно застарелым потом, – и наконец ты обмяк в моих руках.
Брат собирался в округ Колумбия, где его ждала работа посудомойщика. Он казался не очень крепким – хилые руки и плохая осанка, – так что я сунула ему денег, надеясь, что это ему поможет. Он ушел, и я показала тебе ванну, дала зубную щетку и полотенце, и, умывшись, ты заснул мертвым сном. Я сидела рядом, обхватив колени и вспоминая твое детское тельце и мягкие ножки, – теперь все заменил большой ребенок. Я не знала, встретимся ли мы еще с Леоном или прошлая суббота станет нашим первым и последним разом. Я пыталась сосредоточиться на тебе – на этом мальчике, который уехал на столько лет, что забыл, как я выгляжу. Леону нравилось мое лицо. Надо было думать о тебе, только о тебе, но я снова думала о руках Леона – и мой настрой не думать о Леоне уполз, как электрический провод пылесоса, сматывающийся в свою норку.
Утром, наедине с тобой в квартире, я сварила суп, и ты выхлебал всю тарелку, не говоря ни слова, глядя на кухонные стены и пачки пакетов в других пакетах, забрызганный жиром квадрат фольги, приклеенный над конфорками.
– Кушай больше, – сказала я. – Не помнишь, как я тебя кормила? – Глупость, конечно; я знала, что ты не помнишь, и мне самой не нравилось, когда взрослые разговаривают с детьми как с идиотами.
Ты покачал головой:
– Газировка?
– Что, хочешь газировку?
– Йи гонг покупал мне газировку.
Так вот что он делал на деньги, которые я отправляла.
– У меня газировки нет.
Ты скрестил руки, бросая мне вызов. Твои толстые щечки заколыхались, я почувствовала тепло от твоей кожи.
– Поговори с мамой.
– Нет.
– Что ты сказал?
– Нет.
Я подшила тысячи подолов юбок, чтобы привезти тебя сюда.
– Неблагодарный засранец.
Ты встал и ушел в спальню, показал на комок белья.
– Грязное, – сказал ты.
– Послушай меня. Я твоя мать, а это твой дом. Здесь ты родился. Будь благодарным за то, что я забрала тебя из деревни. – Я встряхнула тебя за плечи. – Теперь умывайся. Мы пойдем на улицу.
Ты помрачнел, но пошел в ванную, и скоро я услышала шум воды из-под крана.
За ночь выпал снег. Сегодня он был свежим, блестел на солнце, и ты притих от этого зрелища. Рутгерс-стрит была яркой и хрустящей – с тем холодом, который забирается прямо в нос. Но скоро всё превратится в грязную слякоть, а та скомкается в унылые сугробы, пестрящие собачьим дерьмом. За углом к реке спускались нахохлившиеся здания. Мы перешли через Бауэри, оставляя мягкие следы. Город расстегнулся, и люди шли медленнее, не торопились, а машины присмирели из-за снега. Водители нерешительно сворачивали за угол, на светофорах не мчались наперегонки с пешеходами. Они брызгали слякотью, скользили. Я еще научу тебя любить город, как я.
Мы прошли Элизабет-стрит, Малберри, Мотт. Наши шаги были преувеличенными, высокими, словно снег лип к обуви. В палатке на Канал я купила тебе синюю зимнюю куртку, поторговалась за красную шапку и разрешила выбрать ботинки с меховой подкладкой.
Бродвей. 6-я авеню. «Смотри». Я глубоко вдохнула и выпустила ледяные облака. Тебя это впечатлило. Я сделала еще вдох, и ты повторил за мной, подул на холод. Мы спустились по лестнице в метро, я дважды провела карточкой, и, когда приехал поезд, ты сел у окна, качаясь взад-вперед, пока мимо тянулся туннель, а я считала остановки по дороге на север – Четырнадцатая, Тридцать четвертая, Сорок вторая, Пятьдесят девятая. На 125-й улице поезд вырвется над уровнем земли прямо в солнце, и мне не терпелось увидеть твое лицо.
В маникюрном салоне, где работала Диди, искали работников. «Не проспи, Полли, а то будешь вкалывать на своей фабрике до самой старости», – сказала она. Диди принесла домой старые флакончики с лаком, и я тренировалась на соседках, так что, когда пришла в салон «Привет, красотка» знакомиться с Рокки, управляющей, я уже точно знала, что делать.
Я сделала Рокки мани-педи и получила работу. Для начала двадцать пять часов в неделю – без зарплаты, пока не кончится трехмесячный период обучения, хотя мне разрешалось оставлять себе чаевые. Я взяла заем, чтобы платить за жилье, еду, форменные черные штаны и рубашки, за обучение у Рокки, хотя само обучение заключалось в том, чтобы смотреть, как работают коллеги, и убираться за ними. Но это отличалось от шитья и обещало больше денег.
Чтобы отпраздновать, я купила тебе набор «Лего» и помогла построить из пластмассовых деталек космический корабль, с которым ты бегал по комнате, держа над головой. «Жесткая посадка! – закричал ты, обрушивая корабль в подушку. – Бум!»
Я спасла корабль и махала над ним руками, изображая звук молотков и дрелей.
– Они починились. Готовы опять лететь.
– Хочу тигра, – сказал ты.
– Тигра?
Знакомиться с тобой было странно. Ты просил видеоигры, а я купила тебе коробку с мелками, которыми ты так давил, что они ломались пополам. А теперь вот тигр. Я смотрела, как ты носишься по комнате, как воспаряет и ныряет космический корабль. Мы как будто вышли на просвет. Уже не казалось, что мы больше никогда не покинем эту квартиру. Жаль, что я не могла позвонить йи ба и всё рассказать.
Пока ты рос новым человеком, росла и я, и годы без тебя я задвинула подальше как очередной триумф, еще одно препятствие, которое я пережила; сохраняла голосовые сообщения Леона и переслушивала на перерывах – короткие и по делу, каждое вытянутое из него слово – победа или вызов. «Скоро выхожу на работу. Позвони завтра. Буду дома к восьми». Так же было с тобой. Победа – когда ты бежал к одноклассникам у школы и приносил домой рисунки, когда мы катались на поезде и я слушала, как ты объявляешь остановки. На детской площадке ты был первым в своем классе, кто сделал солнышко на турнике, кто прыгал между скамейками выше и рискованнее всех.
Диди звала тебя Поросенком, слушала, когда ты рассказывал одно и то же в пятисотый раз, подыгрывала в твоей любимой игре – в той мучительной, когда ты всё время убирал руку, пока я пыталась дать тебе пять. «Обманул! – говорил ты. – Смотри внимательней!» Если я зевала или отворачивалась, хотя бы на миг, ты вопил: «Не закрывай глаза, мам, нельзя закрывать глаза!» Но Диди могла сидеть с тобой целую вечность, неизменная в реакции каждый раз, как ты отдергивал руку. «Вау! – восклицала она. – Поросенок, ты и правда меня обманул! Ладно, давай попробуем еще раз, я дам тебе пять… о, вау, опять ты меня обхитрил!» Наблюдая за вами двумя, я слышала голос йи ба, говоривший, что я эгоистичная и избалованная. Возможно, со мной что-то не так, потому что мне не хватало бесконечного терпения для детских игр. Тут же вскидывалось из спячки неустанное раскаяние. Я бросила отца; я мало по нему скорбела.
Из Бронкса в Чайна-таун приехал Леон, повел нас обедать на улицу рядом с Манхэттенским мостом. Они были знакомы с поваром по работе портовыми грузчиками еще на родине. Клиенты горбились над круглыми металлическими столиками, глядевшими на витрины в каплях соленого бульона, на тротуар просачивался пар. Три лапшичных в одном маленьком квартале, потеющие и процветающие под хвостом моста, каждая – со своей специализацией: говяжий бульон, куриный, свиной, баранина. Здесь подавали только одно блюдо – суп с лапшой и бараниной.
– Сст, – сказал Леон, и из-за стойки поднялся человек в фартуке, с растянутым между руками тестом. Леон показал три пальца и выдвинул нам стулья. Разлитый суп плеснул нам на обувь. Официантка поставила миски и одноразовые стаканчики с чаем, вытерла лужи на столе тряпкой, и мы сёрбали, сосали мягкие кусочки мяса между зубов. Плотная и толстая, лапша была идеальной – вкус любимого воспоминания. Твое личико светилось от удовольствия. Леон отрыгнул и оставил деньги за еду.
– Куда теперь? – спросил ты.
Леон посмотрел на телефон и посчитал время до своей смены.
– Любишь лодки?
– У йи гонга была лодка, – сказал ты. – Мы сейчас на рыбалку? Йи гонг плавал на рыбалку.
– В этой реке рыбачить не стоит, – сказал Леон. – Тут рыба двухголовая.
Снег таял, его выжившие останки под ледяной коркой были приперчены грязью.
– На юг Манхэттена! – крикнул Леон.
Нас ждал паром на Стейтен-Айленд – ярко-оранжевое судно, ревущее бегемотным гудком. Мы стояли на палубе, пока паром шлепал по воде, – я обнимала тебя, Леон – меня.
Леон провел в Америке девять лет, а по-английски до сих пор говорил паршиво. Зато, когда приехал он, плата была ниже, так что он уже расплатился со своими долгами. Я все спрашивала себя, не лучше ли выйти за мужчину, с которым я получу грин-карту, или поискать того, кто любит читать газеты и поможет мне отточить английский. Меня бесило, что Леон плевался на тротуар, пер в вагон метро, пока люди еще выходили, влезал в очереди к кассе, будто он до сих пор в Фучжоу. Но то, как он нанизывал одно за другим диалектные ругательства, быстро, как бегущая вода, и что-то поразительно знакомое в нем – из-за этого я смеялась и присоединялась. Он слушал, как я жалуюсь на работу, и, хоть у него тоже не водилось денег, покупал мне продукты, проводил время с тобой. Я видела, как ты с ним счастлив. Мы гуляли вокруг Центрального парка, Баттери-парка, Мэдисон-сквер; и ему нравилось видеть деревья и воду – он тоже вырос среди рыбаков и крестьян. Он бы понравился йи ба; его ни за что не назовешь слабаком. Да и только взгляни на него. С кем еще – кроме тебя – я бы почувствовала себя желанной, особенной, не такой, как все?
На пароме Леон шептал, чтобы слышала только я: «А что, если вы будете жить со мной, Звездочка? Ты и Деминь?»
Мне хотелось вспоминать этот момент, даже пока он происходил, – представлять, что он уже кончился.
В город проталкивалась весна, улицы стали многолюдными, шумными, Нью-Йорк распахнулся новыми красками и светом. Мы шли рука об руку после того, как я забрала тебя из школы.
– Можно мне самолет? – спросил ты. – Я видел самолет в книжке.
– Ты прилетел на самолете сюда, в Нью-Йорк. Понравилось?
– Я спал.
– Однажды слетаешь еще.
– Куда?
– Куда угодно. Вокруг света.
В пекарне были лаймово-зеленые лампы, напоминающие шлемы. Мы заказали бабл-ти флуоресцентной расцветки и прокололи крышки стаканов очень широкими палочками.
– Пей, – сказала я, – а не пузыри надувай.
Ты забулькал, издав звук, похожий на пук.
– Люблю чай.
– А Нью-Йорк любишь?
Ты всосал еще глоток и посмотрел на меня, надувая мягкий волнующийся пузырь.
– Да.
– А что больше всего любишь?
– Метро.
– А по Китаю скучаешь?
Пожал плечами.
– Скучаешь по йи гонгу?
– Да, – сказал ты на английском.
– Я тоже. – Я опустила трубочку до самого донышка. – А тебе нравится Леон?
– Он со мной играет.
– Можешь звать его йи ба. Он говорит, что не против.
Ты уставился на меня, будто пробовал слово на вкус, пытался понять, нравится оно тебе или нет.
– В следующем месяце мы переедем в квартиру побольше и будем жить с Леоном и его сестрой Вивиан. Это недалеко, в районе под названием Бронкс. Там будет другой мальчик, племянник Леона. Вы будете с ним играть. Его зовут Майкл.
– Сколько ему лет?
– Твоего возраста. Кажется, пять.
Ты нахмурился.
– Мне шесть.
– Я знаю. – Вокруг твоего лица взбивались пряди волос, будто в знак протеста. Я обошла столик и втиснулась на кресло с тобой. – Мы переедем к Леону, но всегда будем семьей, малыш, ты да я.
Ты выдул пузыри в чае, они снова пукнули, и ты захихикал. Потом твое лицо стало серьезным.
– Тетя Диди тоже поедет?
В квартире оказалось слишком тесно для нас всех. Для меня, тебя, Леона, Вивиан и Майкла. Отец Майкла, как сказал Леон, был никчемным тайванцем без документов, который давно бросил Вивиан.
Мои соседки говорили, что в Бронксе опасно, что там слишком мало китайцев, но, когда мы прибыли апрельским утром и я увидела знаки на английском и испанском – ни единого китайского иероглифа, даже ни одного ресторана с едой навынос на весь квартал, – я почувствовала себя так, будто раньше только репетировала, а теперь всё началось по-настоящему. Прошло шесть лет, и я по-прежнему оставалась в том же городе, но наконец-то куда-то продвинулась. Мою кровать на Рутгерс-стрит уже готова была занять другая женщина.
Мы с Леоном спали на одном матрасе в спальне, ты с Майклом – на другом, Вивиан – на диване. Жить с Леоном стоило на сто долларов дороже, чем в коммуналке, но я могла чаще работать в салоне, ведь за тобой и Майклом после школы присматривали Леон и Вивиан.
Леон жил в противоположном мире – просыпался с луной. По Бронксу скрипели и фырчали автобусы, а Леон сутулился на их задних сиденьях и ехал к окраинам Хантс-Пойнт. Он работал с мертвечиной. Разделывал ребра, пока свиньи превращались из целых животных в разные части: брюхо, плечи, кишки – из свиньи в свинину. Сапоги в запекшейся крови, перчатки, скользкие от потрохов, – Леон резал шматы мяса, отделял кости от мышц. На бойне свиней, висящих на гигантских крюках, били электрическим током, перерезали шеи, отчищали дочиста. Разборочный цех. Иногда я видела животных во сне. Замороженная свинья, оглушенная и немая, свиные головы с распахнутыми пастями – стонущие призраки. Леон больше не хотел есть сосиски, ветчину, бекон. Что отличает свинью от человека? В постели он называл мои части и отрубы, обводил пальцами мою мясную схему – окорок, оковалок, ребра, кострец; кожа на животе, – пока я не корчилась от его прикосновений. «Хватит!»
Мы все – мясо. Жир, хрящи, связки да кости. Сухожилия и мышцы, бедра и грудки. Леон приплыл зайцем, его выкинуло на берег Нью-Йорка на мусорной барже со старыми компьютерами. Корабль обошел весь мир – Китай, Таиланд, Мексику; через весь Тихий, – но, сидя в трюме, Леон не видел океана. Когда приехал он, в страну еще можно было попасть без документов, таможня пускала прямо на улицы – им негде было задерживать. Ты получал повестку в суд, рвал и выбрасывал клочки, стоило оказаться на тротуаре, ловил такси в фучжоуский Чайна-таун и растворялся в толпе.
– Страшно быть с человеком, который убивает? – спросила Диди, и я сказала, что, может и страшно, но Леон не убивал, и, несмотря на его широкую спину, несмотря на руки, которые могли бы задушить, он был добрым. Возвращаясь с работы, он подолгу стоял в душе, заползал в кровать еще весь мокрый, залезал на меня и в меня, прижимался своим весом. Это успокаивало. Он говорил во сне – лепетал, – и сперва это сбивало меня с толку. «Нет», – смеялся он, а я, неспящая, отвечала «Да», – переводила его бормотание в речь, которую хотела слышать.
Между сменами мы лежали вместе, полуодетые. Он пересказывал свои немногие воспоминания о родителях – они оба умерли молодыми. Однажды в детстве он примчался домой вприпрыжку с божьей коровкой, чтобы скорее показать разноцветное насекомое, а мать, оттирая горшки, взяла ее и раздавила между пальцев. Эта история не задумывалась грустной – просто правдивой, – но мне было чертовски грустно оттого, что я не умею передать правильными словами поддержку и симпатию, которые вроде бы должны даваться женщинам от природы. Я мечтала о воспоминании, всего одном, о собственной матери. Я переживала, что не смогу стать хорошей матерью, не зная свою.
Я рассказала Леону о Хайфэне, речном берегу и заводе, о дне, когда я вошла в океан. Наши ноги сплелись, его ступня поглаживала мою – злая щекотка, – солнце бросало на простыни треугольную тень.
– Тебе когда-нибудь хочется быть с женщиной без ребенка?
– Конечно, нет. Я не хочу быть с другой женщиной.
Чем уютнее мне было с Леоном, тем меньше я чувствовала уют. Его надежность очень отличалась от обожания Хайфэна, но она же казалась опасной, могла быть обманом, и мне следовало быть осторожней. Меня разочаровывало, что Леон не мог меня по-настоящему успокоить, и раздражало, что мне это было так нужно. Я говорила себе, что не хочу замуж, особенно за человека без прописки. Ему говорила, что не люблю свадьбы.
– Я все равно хочу на тебе когда-нибудь жениться, – сказал он.
– Поживем – увидим, – ответила я с тревогой.
Моя бывшая соседка Синди говорила, что выходить замуж за человека без прописки – это упущенная возможность. И Диди сорвала джекпот: Кван родился в Америке, так что у нее были неплохие шансы на грин-карту. Я представила, как буду до конца дней мыкаться без документов, без возможности водить или покинуть страну, найти хорошую работу. Не лучше, чем остаться в деревне. Я не хотела мелкой обреченной жизни, но в то же время жаждала уверенности, безопасности. Я подумывала предложить Леону, чтобы мы женились на других людях – законных гражданах, ради документов, – а через несколько лет с ними можно развестись и жениться друг на друге. Но сама же не хотела выходить больше ни за кого – и уж точно не хотела, чтобы на ком-то женился он.
Если бы я оставила его сейчас, мне было бы не так больно, как если придется оставить его потом. Я лежала рядом и смотрела, как он бормочет во сне.
От запаха лака для ногтей кружилась голова, горели ноздри и облезали яркими ленточками пальцы. Когда я возвращалась в салон после выходного, то дышала реже, а глаза саднило, но уже через час я этого не замечала. Чаевых в салоне все равно не хватало на покрытие всех расходов. Если бы я рисовала на ногтях, я бы получала чаевые повыше, но Рокки сказала, что для обучения нужно вложить депозит еще на двести долларов. Я пробовала общаться по-английски с клиентками, которые со мной разговаривали, спрашивала их имена, кем они работали, где в городе жили. Я свыклась с неловкой интимностью момента, когда держишь руку незнакомца, пытаясь не сталкиваться взглядами. Все маникюрщицы разговаривали друг с другом на мандаринском. Джои любила печь, приносила нам всем печенье, а Коко – высокая, худая, с волосами в виде гладкого шлема – изучала модные журналы и знала бренды и стили одежды и сумочек клиенток. «Это поддельная “Баленсиага”, – говорила она, – видно по ремешкам». У нее был монотонный голос, и люди считали ее грубиянкой, но мне с ней было интересно. «А женщины с настоящими сумочками, не подделками? Они дают на чай гроши. Всё уже потратили на сумочки».
Однажды и у меня будет достаточно денег на безделицы. Я хотела работу получше – управлять салоном, как Рокки. Одна женщина, которая работала в «Привет, красотка», ушла, чтобы открыть собственное дело в Квинсе.
Хана, у которой был самый лучший английский, читала в перерывах разговорники. «Пользуйся тем, что у тебя здесь растет ребенок, – говорила она. – Это ежедневные бесплатные уроки. В основном я училась английскому у детей. Читала вместе с ними учебники». Дома я начала пробовать на тебе английские слова, пыталась не показывать досаду, когда ты смеялся из-за произношения.
– Давай читать вместе, – сказала я Леону, делая тише звук на телевизоре. Хана поделилась одним из своих старых учебников. – Я пытаюсь учить по двадцать новых слов в неделю. Учебник обещает, что через два месяца мы заговорим на уровне третьеклассников.
– Третьеклассников? Это же для детей. Детский уровень.
– Если не пытаться, то не будешь говорить и на младенческом уровне. На уровне немых.
– Большая часть населения мира – китайцы, но что-то американцы наш язык не учат. На моей работе английский не нужен. – Леон взял пульт и снова сделал громче.
«Тогда ты так и останешься на своей бойне навсегда», – подмывало меня ответить. Эта работа для молодежи, а когда у Леона спина станет болеть так, что он больше не сможет туда ездить, то кому он будет нужен? Я зарабатывала недостаточно, чтобы платить по всем счетам. Когда эти мысли не давали уснуть по ночам, я их закрашивала – так же, как красила ноготь, несколькими короткими штрихами. Я думала о себе с Леоном, как мы разговариваем в постели поздним утром, пока в соседней комнате смеетесь вы с Майклом. Ты называл Леона «йи ба», мы все впятером ели на кухне. Мы никогда не молчали за едой.
И я надеялась, что Вивиан станет мне старшей сестрой – мы вдвоем откалывали шутки над Леоном и заботились о детях друг дружки. Низенькая и круглая, Вивиан любила броскую одежду: ярко-розовые футболки с мультяшными персонажами, штаны с серебряными стразиками по бокам. Она занималась заказами для фабрики, и в некоторые недели работы было много, а в некоторые – не было вообще.
В первое утро в квартире я сказала Вивиан, что мне нравятся ее штаны. Она резала нитки за кухонным столом – в окружении кривого пола, прожаренных, волглых от масла стен с въевшимися запахами прошлых жильцов. От них поднимался запах плесени – заметнее в жаркую погоду, – и если бы я снесла стены, то наверняка бы нашла мох и лианы, журчащий ручей. Растительность. Саламандр.
– Спасибо, – сказала Вивиан. Одна рука вытянула нитку, вторая направила ножницы. – Ой, забыла сказать. Я купила на вечер свинину.
– Почему, что будет сегодня вечером?
– Ужин. Я думала приготовить свиные дамплинги. Ты больше любишь жареные или на пару? На пару проще, да? Но Леон, конечно, любит жареные. Какие ему приготовишь?
– Никакие. Я работаю допоздна, но Деминю обычно приношу еду навынос, так что можешь не переживать насчет ужина для него.
– У нас еды много. И твоему сыну достанется.
– Пусть готовит Леон. Ему сегодня не идти на работу после ужина.
– Готовит? Леон? – Вивиан хохотала до икоты.
Она думала, что, несмотря на работу, готовить буду я, что женщины просто любят всё свободное время стоять на жаркой кухне и резать мясо с овощами, баловать взрослых мужчин, как детей. Но я не искала себе на голову конфликтов. Я искала себе сестру. Так что мы с Вивиан готовили после работы.
Она с Леоном пополняла запасы газировки, которую ты так любил. Однажды вечером ты и Майкл сидели на диване с Леоном, посасывали колу и играли, кто рыгнет громче.
– Ну хватит, Деминь, – сказала я. – Прекрати.
– Ой, это же мальчишки, – ответила Вивиан.
Словно подтверждая слова Вивиан, Леон вторил собственной отрыжкой. Снова рыгнул ты, и Майкл подавил смешок.
– Деминь! Прекрати!
– Но тетя Вивиан разрешила.
– Ну а я твоя мама, и ты должен слушаться меня.
Ты показал язык. Во мне вскипела клокочущая ярость, словно ядовитый газ. Утром мне надо было возвращаться в салон – это почти час до Гарлема на автобусе и метро, – и я уже проработала семь часов и заходила по дороге домой в продуктовый, где мне давал скидки владелец – приятный человек из Южной Америки. В раковине лежали грязные тарелки, еще нужно стирать, а вы с Леоном рыгали, пока Вивиан пыталась не рассмеяться. Вы все пытались не смеяться надо мной.
– Я сказала – прекрати! А ты… – я показала на Леона, – не умнее ребенка.
Вивиан и Леон обменялись взглядами. Пристыженная тем, что ты меня не слушался, я разлила по тарелкам суп, который сварили мы с Вивиан. Вы с Майклом взяли миски на колени. «Спасибо», – сказал Майкл, поглядев на Вивиан и на меня так, словно ждал разрешения есть. Глаза у него были большие и влажные, и я осознала, что он меня боится.
Мы с Диди стояли в переулке за «Привет, красотка», делили сигарету в перерыве. Над мусорками кружил голубь.
– Пытаюсь навести Квана на мысли, – сказала она. – Вчера показала ему фотографию обручального кольца в журнале.
– И что он сказал?
– Просто кивнул. – Она покачала головой. – Как думаешь, я зря трачу время?
Я не сказала, что Леон предлагал жениться.
– Если он не хочет тебя в жены, то он просто дурак какой-то, – ответила я ей. – Ты можешь найти кого получше – того, кто женится.
Ее лицо расслабилось.
– Знаю. И ты тоже, Полли.
И я это знала, хотя не сказала Диди о том, как фантазировала о мужчинах с деньгами и пропиской. Я слышала, как наш сосед Томми говорил, что поедет к семье в Доминиканскую Республику, и мечтала путешествовать так же. Пожив с Леоном и Вивиан, я ловила себя на том, что опять скатываюсь к деревенскому акценту, – но всё же завидовала, как запросто они разговаривали между собой, как Вивиан покупала Майклу книжки и DVD, хотя зарабатывала даже меньше меня, и я переживала, что никогда не научусь английскому, а ты вырастешь мясником. Были и другие города с другими возможностями. Сидя в автобусе до центра, я все думала: «Можно ехать дальше. Можно никогда не сходить».
– Не обращай внимания на Вивиан, – сказала Диди. – Не обращай внимания на глупости Леона. Просто веди себя как женщина, которой нравится есть на ужин сушеных кальмаров из пакетика. Мир тебе не сказка.
– Мне правда нравятся сушеные кальмары, – сказала я, отдавая сигарету Диди.
– Как скажешь, кальмароедка.
– И я ни разу не говорила, что мир – сказка.
– Это такое выражение.
– Никогда не слышала.
Диди вернула сигарету. Ее зеленые тени для глаз поблескивали.
– Потому что я его придумала. Не переживай ты так, ладно? Либо оставайся с Леоном, либо съезжай.
– И ты тоже, – сказала я. – Не переживай.
Я взяла Диди под локоть. Хорошо иметь подругу.
Вивиан была старшей из трех детей в семье Леона.
– Она приехала в Америку первой, – сказал Леон, – потом вышла тут за этого говнюка, который от нее сбежал. Ходил к бабе на стороне. Теперь ей нужна наша помощь, чтобы платить за квартиру. Но в глубине души она мягкая женщина, как ты.
– Я не мягкая. – И тут я спросила себя, что, если Леон попросил меня переехать к нему только для того, чтобы помогать Вивиан с квартплатой.
– Еще какая мягкая – Он потер позвонки у меня под затылком. – У тебя мягкие груди. Мягкая задница.
Я схватила его за талию, а он завалил меня на кровать, целовал шею, мочки, плечи.
Он покупал мне подарки – кусачий желтый свитер с пушистыми шариками из шерсти, напоминавшими прыщи, плюшевого единорога, пластмассового котенка, чтобы повесить на антенну мобильного. Когда он их мне презентовал, у него на лице была написана надежда, напоминавшая о тебе – как ты дарил картинки, которые рисовал в школе, кривобокие каракули нелепых цветов. Я его целовала и благодарила. Леон покупал подарки и тебе – мяч для софтбола, большую кожаную перчатку для бейсбола. В летнюю субботу мы втроем пошли гулять в парк, и я смотрела, как он бросает тебе мяч. Когда ты упускал, он подбадривал: «Хорошая попытка!» Потом бросал опять. Когда ты ловил, вы двое скакали так, будто ты выиграл олимпийскую медаль. Леон раз за разом давал тебе пять.
– Приходи играть, мам, – кричал ты.
– Полли, присоединяйся, – говорил Леон.
Я вставала и смотрела на своего сына и своего мужчину, вашу легкость в общении, ваш смех. Всё, чего я когда-то хотела, – вся эта большая жизнь, интересная жизнь, места из старого учебника Лилин, обещания, которые я давала сама себе, когда звонила даме с усами, – грозило иссохнуть. Или это были фантазии юной девочки? Я выходила с завода с Цин и Сюань. Я стояла в Атлантическом океане и решила родить. Может, важнее было не объезжать новые места, а пытаться остаться на одном.
Леон бросил мяч. Ты поймал и кинул обратно. Как я сюда попала? Над деревьями захлопала крыльями стая птиц, но солнце светило так, что смотреть на них было больно.
Второй класс сменился на третий, третий – на четвертый, и твой английский перерос из робкого в беглый, а вы с Майклом учились держать от нас с Вивиан секреты. В общественной школе № 33 учились камбоджийские, мексиканские, филлипинские, ямайские, пуэрториканские, вьетнамские, гайанские, доминиканские, гаитянские, эквадорские дети. Они были отовсюду – или, по крайней мере, их родители.
Майкл был тощим в поясе, но пошире в плечах – в форме игрушки с болтающейся головой – и дружил с компанией таких же друзей-недоростков, которые стали и твоими друзьями: Хунг, Сопхип и Элрой. В четвертом классе вы с Майклом обсуждали каких-то Могучих Рейнджеров так, будто это настоящие люди из нашей округи.
– Что это за Тимми? Мальчик из школы?
Вы с Майклом корчились на диване, хлопали по коленкам и в ладоши.
– Томми, а не Тимми! Он не мальчик. Он Черный Динорейнджер.
– Черный… дивно?..
– Что? – переспросила Вивиан. – Что дивно?
Вы с Майклом визжали от смеха.
– Дино, а не дивно! Дино-дино-дино!
Глядя, как вы с Майклом играете в парке, я гордилась тобой, потому что ты бросал мяч сильнее, быстрее. И всё же, хоть ты и был сильным и бесстрашным, Майкл был отличником, а ты учился плохо, прямо как я. Я могла заучить тексты к поп-песням и придумать, какие цвета смешать, чтобы получить нужный оттенок, но с таблицей умножения у меня не срослось. И не были грамотными ни Леон, ни Вивиан, так что оценки Майкла стали сбоем – настолько случайным, что с тем же успехом хорошим учеником мог бы быть и ты, и это ты бы говорил что-нибудь вроде «когда я поступлю в колледж». Я знала, что нечестно сравнивать вас с Майклом, раз Майкл никогда не жил за пределами Нью-Йорка, но когда он решал почитать библиотечную книжку, а ты садился перед телевизором – и, да, скорее всего, я сидела с тобой, – смотрел повтор повтора того, что и так уже видел четыре раза, и опять заявлял, что потерял домашку, я чувствовала, что это меня разоблачают в отсутствии интереса к книгам – если только это книги не про искусство и картины, как те, что приносила в салон Коко; их я читать любила. Ты плохо учился английскому. У твоего пота был баклажановый запах – я не сомневалась, что его ты унаследовал от Хайфэна. Ты всегда хватал самую большую сладость и объедался, пока остальные кусали понемножку, ты всегда стучал куриными крылышками по тарелке, словно играл на барабане. Коренастый и плотный из-за большого аппетита; у тебя всегда задирались футболки на талии, ты был без пяти минут толстяком, перерастал новые штаны чуть ли не за ночь. Будто у меня были деньги всё время покупать новую одежду! Я переживала, что это из-за меня ты вел себя невежливо или эгоистично, что это показывает какие-то недостатки во мне самой.
Хана ушла из «Привет, красотка», чтобы вместе с мужем и братом открыть химчистку, и я вспомнила, что два ее ребенка ходят в старшую школу в городе – туда, где для вступления надо сдавать экзамен.
– Ты слишком к нему строга, – говорил Леон. – Не так уж всё и плохо.
Я провела в Нью-Йорке десять лет и часто предавалась воспоминаниям о первых месяцах на Рутгерс-стрит – времени бессвязном, тогда я каждое утро просыпалась в спальнике и пугалась того, где оказалась и что сделала. Тогда каждый день казался безнадежным, будто неопределенность никогда не кончится – ребенок, работа, долги, – но из всей своей биографии я больше всего любила возвращаться к этому первому году в Нью-Йорке: любила его повертеть, подивиться собственной молодости, как было страшно и здорово, как много с тех пор изменилось. Даже время, когда я брала тебя на завод, в воспоминаниях казалось мирным, хотя я всегда обрывала мысли, когда представляла, как могла пойти жизнь, если бы я не вернулась к той скамейке, где оставила тебя.
Было одно воскресенье – где-то за год до того, как мы снова расстались, – когда мы ехали на метро в место, которое ты выбрал наугад на карте. Мы уже давно этим не занимались. Мы оказались на кончике Манхэттена, шли по петляющей тропинке вдоль воды. Я по ней скучала – по воде.
– Мы приходили в этот парк, когда ты был маленьким.
– Не помню, – сказал ты.
Ты всё больше походил на меня – те же глаза, и рот, и нос, широкие плечи и костлявые ноги, – хотя, когда я видела тебя в профиль, замечала, как сильно ты напоминаешь Хайфэна кончиком подбородка и густыми бровями. Потом ты поворачивался по-другому и снова был как я.
Мы сели на скамейку и закинули ноги на поручень. Вода искрилась. Я показала вдаль на большой корабль, уходивший от города.
– У меня новое прозвище в школе, – сказал ты. – Заказ номер два.
– Что это значит? – Я стеснялась своего незнания, как в тот раз, когда водила тебя с Майклом на ярмарку, и ты смеялся надо мной, когда я перепутала английское слово «осьминог» – название крутившейся по кругу карусели – со «львом».
– Это шутка. Знаешь китайское меню на вынос? Так там заказывают блюда. Заказ номер один, заказ номер два. Поняла?
Я следила за кораблем, пока он не стал белым пятнышком, растворился на горизонте.
– Ты же не работаешь в ресторане.
– Да, но я китаец.
– Лучше попроси больше так тебя не называть.
– Это же шутка, мам.
Я взяла еще один заем, чтобы заплатить за обучение дизайну ногтей. Моей специальностью стали сложные рисунки. Я умела рисовать пальмы, бриллианты и клеточку, даже узнаваемое человеческое лицо на ногте большого пальца, хотя и не представляла, зачем это людям. В хорошую неделю я на одних чаевых зарабатывала больше, чем раньше на заводе. Рокки звала меня любимицей клиентов, и все говорили, что у меня ровная рука и наметанный глаз на лучшие комбинации цветов.
Я была довольна собой, когда слышала смех Рокки, мягкое фырканье через нос, но, когда ее голос был натянутым, а лицо – тревожным, я заставляла себя учить новые рисунки и говорить с клиентами с особой вежливостью – не только ради чаевых, но и потому, что помнила историю о женщине, которая открыла собственный салон. Однажды я подслушала, как Рокки сказала в кабинете своей подруге: «Уверена, Полли может здесь управлять не хуже меня». Диди сказала, что Рокки разговаривала по телефону насчет кредитов и размышляла о том, чтобы открыть второй салон. Новому салону понадобится новый управляющий, и если Рокки выберет меня, то она же может стать моим спонсором для грин-карты.
Когда Рокки не было, маникюрщицы о ней сплетничали.
– Живет в особняке на Лонг-Айленде, – сказала Джои. – Ее муж занимается импортом-экспортом фруктов.
– Ее муж не работает. Сидит дома, убирается и готовит, – возразила Диди. – Воспитывает сына и возит ее на машине. Вы что, не видели, как он забирает ее с работы?
– А я слышала, что она вышла за него по любви, но он был нелегалом и чуть не попался иммиграционной службе, – сказала Коко. – Его собирались посадить в тюрьму для иммигрантов.
– Что такое тюрьма для иммигрантов? Я думала, у нее муж из китайской мафии, – сказала я.
Джои прыснула:
– Это бы многое объяснило в ее характере.
Одним безлюдным утром вторника я сидела в кресле для педикюра и листала журнал.
– Ты здесь до двух, да? – Передо мной стояла Рокки со связкой ключей от машины, с подведенным правым, но не левым глазом. – Мне надо съездить домой на минутку, я кое-что забыла. Съездишь со мной?
Оказалось, что Рокки живет не на Лонг-Айленде, а в северо-восточном Квинсе – почти на Лонг-Айленде. Поездка по мостам и магистралям заняла полчаса, и всю дорогу она проговорила о своих больных лодыжках и высоком давлении.
– Старость не радость, Полли, ты знаешь?
– Разве ты старая, – ответила я. Ей, наверно, было лет сорок – на десять лет старше меня.
– Ты такая милая. Но серьезно. Высокое давление! Придется отказаться от кофе, красного мяса, жареного – от всего что ни скажи. Принимать таблетки. И я начала всё забывать налево и направо. Сегодня должна была привезти кое-какие бланки, а сама оставила их дома. Я ведь себе даже записку написала.
Дом Рокки стоял в конце квартала из одинаковых зданий – с двумя этажами, палисадником и пристройкой-гаражом. Он был из коричневого кирпича, с темно-красной крышей, низкими воротами, отделявшими двор от тротуара. Не особняк – новые дома в Минцзяне были куда больше. Но все-таки очень хороший дом. Я прошла за ней в прихожую с ростовым зеркалом на стене и в гостиную с хорошим кожаным диваном и двумя высокими окнами. В углу, на синтезаторе, были стопка бумаг, школьная фотография сына Рокки подросткового возраста, который улыбался пластмассовыми брекетами.
– Хочешь пить? – Она достала из картонной коробки бутылку «Поланд спринг». – Присядь пока на диване. Я сбегаю наверх и поищу бланки.
Я села, но, как только услышала ее шаги над головой, встала. Дальше по короткому коридору была кухня – с посудомойкой и микроволновкой, коробками хлопьев и пачками чипсов на круглом столике. Раковину переполняли тарелки, а вся стойка – в засохших пятнах соуса и крошках. На другом конце кухни была дверь в маленькую комнату. Я услышала голоса, звук мотора.
Это был телевизор. Я заглянула в открытую дверь и увидела человека в откидном кресле в полосатых пижамных штанах, тапочках и растянутой белой майке. В одной руке он сжимал пульт, второй зарылся в пачку «Читос». Он хрустел с механическими движениями и довольно причмокивал.
Муж Рокки сидел дома среди дня, ел «Читос» и смотрел боевики в пижаме. Он не был похож на владельца импорта-экспорта или даже домохозяина, который готовит и убирает.
– А чем, кстати, занимается твой муж? – спросила я у Рокки по дороге обратно в салон.
– А, он пока без работы, так что проводит много времени дома. Я тебе так скажу: я рада, что у меня есть салон. Кстати говоря, хотела с тобой поговорить. Там, где ты живешь, в Бронксе, много маникюрных салонов?
– Парочка, – сказала я. – Маленькие. Я в них никогда не была.
– Хорошие?
– До спа им далеко.
– Твой район не рядом с парком Ван Кортландта? Ривердейлом?
– Нет, это от меня к северу
– Я сегодня туда поеду. – Рокки снова посмотрела на дорогу. – В Ривердейле сдается помещение, и мне кажется, в Бронксе есть спрос, особенно в районах побогаче. Много людей с деньгами, которые готовы отнести их в чистенький салон красоты.
У въезда на мост Рокки замедлилась для оплаты. На сенсоре E-ZPass загорелся зеленый огонек. Я задержала дыхание и досчитала до десяти.
– Если откроешь второй салон, – сказала я, – и будешь искать управляющую – я бы подошла. – Я пыталась поймать краем глаза профиль Рокки, не глядя на нее прямо, и мне показалось, что она кивнула.
Она посмотрела через плечо, меняя ряд.
– Да, конечно, я дам тебе знать.
Я сводила тебя с Леоном на ужин в мексиканский ресторан – в зал, веселый от красных и желтых растяжек, – и сказала, что еще рано говорить наверняка, но есть хороший шанс, что меня повысят до управляющей собственного салона. Человек бросил в музыкальный автомат доллар, заиграл буйный хор духовых. Ты дрыгал ногами под столом, а я не делала тебе замечание.
Тем же летом женились Диди и Кван. Кван сделал предложение, когда сорвал куш в Атлантик-Сити, – встал на колено на ковре казино-отеля и подарил кольцо с бриллиантом. Я была с ними в ратуше, сидела рядом с Леоном в ресторане, хлопала, когда молодожены позировали для фотографий. Диди не пожалела помады цвета фуксии. Шипастые волосы Квана царапали брови.
Одна женщина за нашим столом посоветовала мне поинтересоваться, сколько стоит еда, на случай, если я тоже захочу отпраздновать здесь свадьбу. Я не хотела. Диди выходила за человека, который проигрывал за раз всю зарплату. Конечно, она его любила, но даже Леон согласился, что ей в этом браке будет несладко.
Тем временем у Леона начались проблемы со спиной. Его зарплата не менялась, хотя он проработал на бойне дольше всех остальных. «Попроси прибавку», – сказала я, но у него вечно находились отговорки. Начальник в плохом настроении. Старый начальник уволился, и пришел новый. Новый начальник в тот день отсутствовал. Потом Леон слег от боли и не мог подняться с постели, так что пропустил три дня работы, не говоря уже о зарплате. Мы с Вивиан уговаривали его пойти к врачу, пока не стало хуже, но он отказался – ответил, что мы раздуваем из мухи слона, что ему полегчало от пакетов со льдом и обезболивающего.
Его бывший коллега по имени Сантьяго открывал компанию по грузоперевозкам, и, когда Леон сказал, что думает пойти к нему, я была так счастлива, что даже ударила по кухонному столу кулаком и сказала: «Отличная идея!»
Когда он упоминал, что неплохо бы завести ребенка, я отвечала, что не хочу, пока на мне висит долг. Но месяц за месяцем я платила самый минимум. Я просто не хотела другого ребенка. Тебе было почти одиннадцать, и через несколько лет мне уже не надо будет всё время за тобой приглядывать. Я могла бы больше работать, найти работу получше, учить английский, а не воспитывать малыша.
Через два месяца после свадьбы Диди Леон встретил меня с работы и, пока мы шли по Риверсайд-парку, замедлился рядом с большим деревом. Потом остановился.
– Что случилось? – спросила я. – Шнурок развязался?
Он покопался в кармане и достал шкатулку. У меня забилось сердце. Он повозился с крышкой, наконец открыл и показал золотое кольцо.
– Выйдешь за меня? – спросил он.
С умоляющими глазами, наморщенным лбом Леон подался вперед. Мы уставились друг на друга, и с каждой секундой он всё больше нервничал, и стало ясно: что бы я ни сказала, эти слова уже не забрать назад. Но я не могла сказать нет; не могла его ранить. Так что я сказала да.
Вивиан и Диди устроили в честь этого праздник, мы включили радио и танцевали – Вивиан обожала танцевать, умела поймать ритм, и даже вы с Майклом присоединились.
– Теперь Леон станет моим настоящим йи ба, – сказал ты.
Вивиан подняла бутылку пива.
– За моих брата с сестрой!
Всю жизнь я мечтала о сестре и теперь так радовалась, что у меня есть Вивиан и Диди. Леон тут же хотел отправиться в ратушу, но я предложила подождать до весны, когда будет теплее и мы позволим себе настоящий банкет.
В тот понедельник, свой выходной, я проснулась в квартире одна. Вы с Майклом были в школе, а Леон и Вивиан навещали друга семьи в Квинсе. Я прошла по квартире, не потрудившись поднять твою одежду или боксеры Леона, жалобно валявшиеся на полу спальни. Заварила чашку чая и позволила себе погрузиться в редкий покой. На Рутгерс-стрит я всё время чувствовала себя одной, даже с таким количеством соседок, а теперь я редко оказывалась одна, хотя еще бывали времена, когда становилось очень одиноко, как когда вы с Майклом слишком быстро переговаривались на английском, пока я сидела рядом, или как когда Вивиан и Леон вспоминали своих родителей и родных.
Впервые за месяцы весь день был в моем распоряжении. Я оделась, вышла в солнечное утро начала октября и села в полупустой вагон 4-го поезда – толпа с часа пик разъехалась по работам, дети уже были в школе. Я проехала под землей через весь Манхэттен в Бруклин, сошла на остановке, где еще никогда не бывала, поднялась на тихую улицу с большими деревьями. Здания, хотя и не слишком высокие, были широкими и царственными, с коваными оградами, брусчатыми дорожками и сводчатыми входами. Я ждала на светофоре рядом с девушкой с коляской – ее плечи качались под тайную песню из наушников, малышка в коляске была одета в миниатюрный жакет и джинсы с розовыми отворотами. Я улыбнулась, девочка просияла в ответ, и я увидела себя девятнадцатилетнюю, как я толкала тебя в коляске, купленной в комиссионке на Бауэри. Это был мой первый год в Америке. Я шла и опускала взгляд на твои кроссовочки, торчавшие передо мной. Теперь твои ступни больше моих.
Меня часто утомлял город, его вонючее дыхание из решеток в асфальте, парень, который перебирал все рингтоны на телефоне в забитом вагоне метро, но этот район казался мирным. Под ботинками хрустели листья, ветер не кусался. Я свернула на следующем повороте на улицу со зданиями поуже. На углу меня подрезал доставщик – китаец со свисающими с руля велосипеда сумками.
Я смотрела на ряды пожарных лестниц и кондиционеров, зарешеченные окна и клочки занавесок. Через две недели мне будет тридцать лет. Моя мать в этом возрасте умерла. В один день йи ма была жива, в другой – уже нет.
На тротуар открылась дверь со звенящим на ручке колокольчиком. Доставщик зашел в закусочную, и я последовала за ним и заказала курицу с рисом, отнесла контейнер на один из двух столов.
Еда была слишком соленой. Я попросила воды.
– У нас нет воды, – сказали мне.
– Разве так бывает?
Женщина за соседним столиком протянула пластиковую бутылку.
– Вот, возьми мою, – сказала она по-фучжоуски.
Я помедлила, не желая принимать бутылку у незнакомки.
– Бери, с ней всё в порядке, – сказала она.
Мне так хотелось пить, что было всё равно, если я покажусь невежливой, так что я открыла бутылку, протерла горлышко салфеткой и сделала затяжной глоток.
– Спасибо.
– Не за что, сестра, – сказала женщина. Она была хорошо одета: высокие коричневые кожаные сапожки, длинная юбка с сиреневыми цветами и свободный свитер шоколадного цвета. На столе перед ней стоял пустой контейнер. У нее было широкое и красивое лицо.
– Давно ты в Нью-Йорке?
– Давно, – сказала я. – Десять лет.
– Я здесь только три. Но уже скоро уезжаю.
Женщина улыбнулась и обнажила кривой передний зуб, показавшийся знакомым, будто я его уже видела в кино или у какого-то родственника, которого встречала только раз.
– Куда уезжаешь?
– Калифорния. Сан-Франциско. Слышала, там красиво.
– Не была там раньше?
– Только видела фотографии. У меня есть знакомый, который там жил.
– И теперь едешь туда сама.
– Конечно, почему бы и нет? Пора что-то менять. В Нью-Йорке тяжело. – Женщина выкинула контейнер. – Ну, прощай.
– Удачи, сестра.
Я смотрела, как колышется ее юбка и волосы до середины спины. Когда-то я могла стать такой же женщиной, свободно переезжать по стране только потому, что в каком-то городе красиво. Но вместо этого я стала женщиной вроде Вивиан: смотрела телевизор, готовила тебе и Леону, следила, чтобы прожарились дамплинги, сомневалась, стоит ли выходить за своего мужчину, но и не желала его потерять. Во мне зародилось беспокойство. За этим октябрем последует зима, весна, и снова будет октябрь.
Только когда я села в метро, поняла, кого мне напомнила кривозубая женщина: Цин, старую подругу по заводскому общежитию в Фучжоу. Чем больше я размышляла, тем больше уверялась. Эта была Цин десять лет спустя. Они говорили на похожем диалекте; они были примерно одного возраста. Она назвала меня «йи цзя» – старшая сестра. У Цин, вспоминала я, были широко расставленные глаза и шепелявая речь, будто она говорит со слюной во рту. И у женщины в закусочной тоже широко расставленные глаза, и речь вполне могла быть чуть-чуть шепелявой. Она меня не узнала, но, возможно, я уже не та, что прежде.
Поезд прошел центр Манхэттена без остановок. Я прислонилась к двери, чувствуя каждую кочку на путях. Я знала, что надо вернуться в Бруклин, оставить записку в ресторане, чтобы Цин позвонила, если когда-нибудь туда вернется. Но застыла в нерешительности в метро, с чувством, что упускаю что-то ценное.
Когда я сошла на Фордем-роуд, солнце уже висело низко. Я поднялась по лестнице в нашу квартиру, прошла мимо соседа Томми. «Неплохо-неплохо-неплохо», – сказал он. В рассеянности я выронила ключи, и он их для меня поднял.
Еще несколько дней после того, как я увидела женщину, которая могла быть Цин, мне не спалось. Восьмичасовые смены в салоне ползли в тумане, а Леон маячил только где-то на краю зрения. К твоей радости, я разогревала на ужин замороженную пиццу. Ты попросил денег, чтобы купить DVD у женщины, которая продавала их в колумбийском ресторане, и я без лишних слов дала наличку. Когда я вернулась с работы и застала тебя, Майкла и Вивиан за фильмом про человека, который всех взрывал из пулемета, я пошла в спальню и закрыла дверь. Сил спорить не было. Скоро снова будет зима.
Я села у окна, глядя на квартал, темнеющее небо, наполнявшее меня странным ужасом. Я видела человека с тросточкой, переходившего улицу, миссис Джонсон под ручку с дочерью, поднимавшихся на холм и о чем-то тесно говоривших. Я вернулась в гостиную и присоединилась к вам перед телевизором.
В автобусе до Атлантик-Сити пахло ногами, обивка сидений была пыльной, поблекла до однообразных бежевых и бурых оттенков, а сами сиденья были все без исключения заняты – ряды голов, торчащие из лыжных курток, увенчанные большими вязанными шапками основных цветов. Мы с Леоном, вдвое младше остальных пассажиров, сели в хвосте, ели паровые пирожки со свининой из пакета с желтым смайликом. Автобус выехал из туннеля на узел магистралей. Высотки расплющились и размазались по земле, стали стоянками и бетонными отбойниками, тусклыми и серыми в зимнем свете. Только знаки были ярко-зеленого цвета – названия городков Нью-Джерси, которые я читала вслух: Хакен-Сак, Па-Рамус. Старики храпели, привалившись к окнам, кто-то кашлял, хрипел и отхаркивался, будто у него кончались батарейки. Мои кроссовки издавали звуки поцелуев, когда я двигала ими по полу. Я достала последнюю булочку, впилась зубами в сладкое сдобное тесто.
Атлантик-Сити был подарком Квана, который влил в казино столько денег, что ему давали ваучеры на бесплатные номера в отелях, ужины, напитки. В прошлом его сопровождала Диди, но в этот раз она отдала ваучер мне с Леоном, хоть мы и не были игроками. «Вам отдохнуть нужно больше, чем мне, – сказала она. – Это предсвадебный подарок». Кроме того, Кван бросил играть. Теперь он посещал еженедельные собрания для людей, которые играют слишком много.
Так что мы с Леоном бесплатно заселились в «Цезарь» – казино с коврами, звенящими звуками и огнями. Купили бутылку «Хеннесси» и выпили слишком много, у меня заболела голова. И всё же от свежести поездки за город – даже в этой залитой светом комнате, откуда будто откачали кислород, обработали его в машине и закачали обратно, – мне хотелось еще «Хеннесси». Два быстро опрокинутых шота – и тяжесть ушла. Четыре шота – и Леон превратился в мужчину, которым казался при нашем первом знакомстве: желанным призом, чье внимание было внезапным, зыбким, а не этим человеком, чей возраст иногда заставал меня врасплох – как в те моменты, когда он клал деньги на карточку для метро, а я замечала, что у него отекают руки, стала тоньше шея, обвисает кожа на горле. Были дни, когда руки у него болели так, что он не мог работать. И я тоже стала другой, хотя и жила в том же теле, что когда-то спало с Хайфэном, пряталось в ящике, родило ребенка, жаждало Леона до трясучки. Тело менялось постепенно, но верно. Плоть на костях становилась тяжелее, кожа – грубее. Росли волосы там, где не росли раньше. Но было оно тем же самым, хоть на нем и не осталось заметных признаков прошлого. Оно всё помнило на каком-то скрытом, клеточном уровне, словно мышечной памятью.
– Что случилось с компанией грузоперевозок? – спросила я Леона, и он ответил, что Сантьяго передумал.
– Он теперь идет в ландшафтный дизайн. Говорит, и для меня найдется работа. Так что буду работать в ландшафтном дизайне.
Оптимизм Леона был нелепым, даже вредным.
– Но у него есть план? – Я сомневалась, что он когда-нибудь будет работать у Сантьяго. – Он берет кредит? У него есть бизнес-партнеры?
– Ой, это же Сантьяго. Он что-нибудь придумает.
Меня раздражали Сантьяго, Леон, даже Рокки. Прошло почти полгода с тех пор, как я была у нее дома, но, когда я спросила, как прошел визит в помещение под сдачу в Ривердейле, она чирикнула: «Увидим!» Я так и оставалась маникюрщицей, так и работала за те же жалкие чаевые.
Теребя кудри за ушами, я пыталась вспомнить правила за столом блэкджека с самыми низкими ставками. Двадцать одно – это победа. Дилер остановился на семнадцати. Вернувшись с работы прямиком домой, я не успела отправить деньги ростовщику, и в кармане джинсового жакета лежала вся зарплата. Я рассталась с мятой двадцатидолларовой купюрой, дилер сдал мне туз и пятерку, и я попросила еще карту. Дилер дал четверку – всего девятнадцать, а сам остановился на восемнадцати.
– Смотри, я выиграла.
– Давай выиграем еще, – ответил Леон, и мы прогулялись до «Палас Ист», где у игровых автоматов жадно толпились старики из автобуса. Разгоряченный «Хеннесси», Леон ставил по-крупному, и, выиграв в блэкджек, мы перешли на покер. Другая пара за столом была вся острой и бледной, низкий вырез женщины демонстрировал бюст с крапом веснушек, рассеченное огромным бриллиантом на цепочке. Леон дал дилеру столько фишек, что я отвернулась.
Когда я посмотрела на стол опять, лица у пары скривились, а дилер сдвигал кучу фишек нам.
– Тройка, – сказал Леон.
– Да!
Мы запрыгали.
– Это игра, – сказала я. – Это всё игра.
Он думал, что я о картах.
– Нет, нет, нет-нет-нет.
Это были ненастоящие деньги. Все ненастоящее. Двадцатка могла в минуту стать двумя сотнями. Я хотела слышать, как звенят колокольчики игровых автоматов, видеть, как стены заполняются отражениями сверкающих огней. Я ужасно хотела выиграть.
Мы перешли в коридор – с таким пушистым ковром, что хотелось тереться о него лицом. Вокруг никого не было.
– В смысле, мы. Я. Леон! – Я схватила его за руку. – Мы живем в игре.
Не только карточные столы и автоматы, но и наши жизни. Мы жили так, словно всё еще оставались крестьянами, которым запрещено менять работу или переезжать на новое место, но всё это время можно было играть и выигрывать.
Он нажал мне на нос. Морщины у его губ углубились.
– Ты напилась, Звездочка.
Он сверкнул своей щербинкой между зубов, я куснула его за мочку, и пол пошатнулся. Я и забыла, как сильно его люблю. Как я могла забыть, почему я такая серьезная, о чем мне было переживать? Я выйду за него. Он для меня больше чем хорош.
Он взял меня за плечи.
– Тебе бы прилечь.
– Не пойдешь со мной?
Леон посмотрел на деньги в руках.
– Ну ладно, иди поиграй. – Я ущипнула его за локоть. – Но скорее возвращайся, чтобы побыть со мной.
– Ай, – сказал он, подскочив.
Я схватила его за задницу.
– Торопись.
Он ушел от меня по коридору – пятясь, посылая смачные воздушные поцелуи.
Дома мы спали лицами в разные стороны, изредка чмокая друг друга в щеку. Прошли месяцы с тех пор, как мы занимались сексом, но вместо фрустрации я ничего не чувствовала и ничего не хотела – будто переросла это желание. Только изредка я вспоминала о том, как было, когда я только переехала к Леону. Когда вы с Майклом уходили в школу, а Вивиан принимала в душ, мы бегали в спальню. Стоя, с силой упираясь руками в стену, с рукой Леона на бедре, с его пальцами у меня во рту. Но с тех пор как я увидела Цин, я стала замечать красавчиков в метро, на улице.
В номере, поднявшись из казино, я шлепнулась на кровать и позвонила в квартиру. Ты ответил.
– Что делаешь?
– Смотрю телевизор.
– Веди себя хорошо и слушайся Вивиан. Я завтра вернусь и что-нибудь тебе привезу.
Ты ответил по-английски:
– Подарок? Я люблю подарки.
– Уж я-то знаю.
С кружащейся от впечатлений и алкоголя головой я закопалась в одеяла и поплыла среди картин о своих волосах, завитых в сложной пене кудрей, как у Диди, о Леоне в пиджаке и галстуке. Деньги, которые он выиграет, помогут заплатить и по долгу, и за свадебный банкет – богаче, чем у Диди и Квана.
Диди ходила на курсы английского в школе в Мидтауне. Она рассказывала, какие у нее хорошие учителя, как много она узнаёт. Ее учитель опубликовал брошюру с сочинениями своих лучших учеников, и она приносила в салон белую листовку и показывала нам статью на первой странице. «Смотрите, я публикующийся автор». Пока она читала вслух – абзац, как они с Кваном навещали сестру в Бостоне, – вокруг собрались все маникюрщицы. Диди ошиблась в одном слове – написала wake вместо woke, но там было и много слов, которых я не знала.
Я отставала. Я представляла Леона с травмой, как он не может работать, как он поедает чипсы в майке наподобие мужа Рокки, пока я работаю на сменах все длинней и длинней, чтобы расплатиться по счетам врача. Я перекатилась с одной стороны огромной кровати на другую, потом скатилась на пол, свернувшись у ножек стула. Поднялась, схватила куртку и выбрела на настил набережной. Пока я уходила от отеля, под ногами скрипели деревянные доски.
Больше десяти лет с тех пор, как я приехала в Нью-Йорк, я не покидала город. Ездила в Квинс, Бруклин и на Стейтен-Айленд, на пляжи и в парки, добиралась на метро и автобусах во все пять боро, но до этого момента не выходила за городские границы, хотя меня ничто не останавливало, кроме расплывчатого страха перед внешним миром, шепчущихся предостережений о том, что тебя заберет полиция, депортирует. Но переживать было не о чем. Чем дальше я уходила от отеля, тем темнее становилось, и, когда я подняла взгляд, я видела звезды – намного больше, чем помнила, заливающие небо светом. В городе звезд не видно, но здесь они были – всё еще яркие и бьющиеся. Гремели и гулко отдавались вокруг меня океанские волны, где-то за набережной, – далекий соленый запах. Минцзян.
Я обняла ступнями расшатанную и приподнятую доску. Существовала целая страна, мир. Другая жизнь, которой я должна жить, которая лучше всего этого. Возвращаясь, я почувствовала старого друга: щепотка свободы, перчинка возможностей. Я стала слишком покорной, смиренной.
Я вернулась в отель и поднялась в номер, надеясь, что Леон уже пришел и мы уснем вместе в огромной кровати. Я не хотела видеть его в казино, приниженного шумом и красками, задушенного своей старой коричневой курткой. Но кровать была такой же, как я ее оставила, – простыни смяты, одеяло наполовину скинуто. Ни следа Леона. Я разделась и натянула одеяло, уже не пьяная, и заснула за минуту.
Утро. Через шторы пробивалось солнце, Леон был в постели.
– Звездочка, – сказал он. – Прости.
Я протерла глаза, номер пришел в фокус. Было так тихо. Как странно было просыпаться без тебя.
– Сколько времени?
– Сперва я выиграл так много – ты не поверишь. Пять тысяч долларов!
– Пять тысяч?
– Надо было на этом остановиться.
– Но ты не остановился.
– Так. Я должен тебе признаться. Я взял и твои деньги.
– Какие деньги?
– Триста восемьдесят долларов из твоего кошелька. Я вернулся в номер, но ты спала, а я был на кураже.
– Это же деньги для ростовщика.
– Я пожадничал. Был уверен, что отыграюсь.
Казалось, что мои глаза плавают в каше.
– Как ты мог?
– Прости. Я поступил неправильно. – Он лег, и его лицо скривилось. – Ай, плечо.
– Тебя нельзя в таком состоянии на смену.
– А кто будет платить за квартиру? Тебя в твоем салоне считают за дерьмо.
– Тогда кто просил тебя тратить мои деньги? – Я бросила в стену подушку и смотрела, как она шлепнулась на ковер. Сколько я подстригала и лакировала ногтей, сколько часов клеила пинцетом стразы и рисовала пальмы да сердечки, пока не заболели запястья, чтобы получить эти триста восемьдесят долларов.
– Как ты мог подумать, что деньги можно выиграть бесплатно? – спросила я. – Бесплатно ничего не бывает.
По дороге на автобусе обратно в город мы спали. Распаковали сумки. Вернулись на работу.
– Смотри, – прошептала мне Джои с другой стороны маникюрного стола.
Я увидела, как одна новенькая покрыла руки другой воском. Сорвала. Вторая вскрикнула.
Коко уволилась. Просто не явилась на смену. Когда я наконец до нее дозвонилась, она сказала: «Как хорошо заняться чем-то другим».
Рокки уже не была в кабинете каждый день, и, когда бы я ни пыталась с ней поговорить, она отвечала, что торопится, что уже уходит, что ей сейчас надо позвонить. Управляющей вместо нее, похоже, стала Мишель, двоюродная сестра Рокки. На замену Коко Мишель наняла четырех новых девушек, а это значило, что у нас уменьшилось количество часов. Как и Рокки с Мишель, эти новенькие были китаянками вьетнамского происхождения – девчушки с угрюмыми лицами, которые вместе приезжали и уезжали в фургоне, где за рулем сидел мужчина с бронзовым мелированием. Администратор не пыталась скрыть к ним свое презрение, даже не трудилась называть их по именам.
– Эпиляция, – сказала Диди. – Что дальше, перейдут на интимные прически? Радуйся, что нам не приходится выдирать лобковые волосы.
– Это пока, – сказала Джои.
Через четыре ночи после Атлантик-Сити я сказала Леону, что слышала про хорошую работу недалеко от Нью-Йорка.
– Это единственный китайский ресторан в городе, и они ищут официантку. Мне рассказала Джои. Та девушка из Хунаня, в салоне. Она родом из одной деревни с владельцами ресторана. Ты же знаешь, как редко попадается хорошая работа официанткой.
Леон стоял в ванной после душа, голый и обтекающий.
– Ясно.
Я подала ему полотенце.
– Ну, поехали?
Он вытер волосы.
– Куда?
Пар ласкал мое лицо.
– Во Флориду. Ты меня вообще слушаешь?
– Зачем тебе это?
– Хорошая работа. Большие деньги.
Он опустил полотенце. На его плечо капнуло с волос.
– Там всего-то была пара сотен долларов.
– Триста восемьдесят долларов из моих денег, которые ты украл без спроса. Тебе-то, видимо, всё равно.
– Конечно, не всё равно. Я напортачил. Извинился. Это не значит, что тебе надо ехать в вайцзю. Мы быстро наверстаем.
За городом находилось вайцзю – захолустье, глухие американские деревни. Всё, что не Нью-Йорк. Я наклонилась к Леону и вдохнула мыльный запах.
– Во Флориде есть и города, это не сплошное вайцзю. Брось, ты же знаешь, что новая управляющая со дня на день меня выкинет. Я за месяц заработаю официанткой больше, чем за год на родине.
– Ты так просто оставишь Деминя? И меня?
Я смотрела, как он надевает боксеры, и думала о Цин, о набережной, о налитых звездах над океаном.
– Ну конечно, вы поедете со мной. У нас будет большой дом, для всех троих. С работой в ресторане можно есть от пуза. Джои говорит, им понадобятся и мужчины на кухне.
– Ага. Посудомойщики.
– Что плохого в посудомойщиках?
– Если это такая замечательная работа, почему Джои сама не едет?
Он открыл дверь ванной, выпустил облака пара. Вытянулся на кровати, зашептал:
– Это опасно. Почитай про того человека в китайских газетах. Ограбили и убили во время доставки еды. Лишился жизни за пятнадцать баксов.
– Ну это же было не в ресторане, а домой к незнакомцам приходить всегда страшно.
– А ты глянь на того, которого застрелили в ресторане. Через пуленепробиваемый пластик!
– Ничего не случится. У официанток безопасная работа. – Я подняла с пола твои трусы. – Слушай, я хочу поехать. Пора попробовать что-то новое. Ты так не думаешь?
– Я думаю, что мне пора спать. Забудь о Флориде – я всё тебе верну в следующем месяце.
– Леон.
– Если тебе так нужны деньги, поди и найди себе богатея с пропиской, которому не надо заботиться о сестре.
– Хватит.
Дело было не в деньгах. Я достойна большего, чем «Привет, красотка». Леон достоин большего, чем бойня. Ты должен был учиться там, где тебя не будут звать Заказ номер два.
Я опробовала идею с Диди. Она шлепнула меня по руке.
– Вайцзю? С ума сошла? С тем же успехом можешь съездить на метро на луну.
Мы стояли всё в том же чертовом переулке, курили, как курили уже много лет, смотрели на всё ту же кирпичную стену всё того же здания. У Диди был план перебраться в другой салон, в центре, а когда ее английский станет лучше, найти работу, где не понадобится красить ногти.
– Не понимаю, чего ты не хочешь со мной в другой салон, – сказала она, обращаясь к кирпичам. – Во Флориду хочет, а на 13-ю улицу – ни в какую.
– Я же говорю – не хочу.
– Рокки никогда не сделает тебя управляющей. Она нам всем морочит голову, хоть мы и работаем дольше других. Нам урежут смены, а новые девушки будут работать задешево. Мишель начнет командовать здесь, а Рокки примет салон в Ривердейле. Если не уйдешь сама, тебя заставят уйти.
Она была права, но это было больно слышать. По улице проехала полицейская машина с завывающими сиренами. Я чувствовала себя одновременно возбужденной и изможденной.
– Ты не устала от Нью-Йорка?
– Вовсе нет. Теперь всё стало хорошо.
И в самом деле – по крайней мере, для нее. Когда Кван регулярно ездил в Атлантик-Сити, иногда я себя успокаивала: я хотя бы не Диди. Но с тех пор, как Кван бросил игры, у Диди появились деньги на курсы английского вместо того, чтобы платить за его жилье. И теперь она уговаривала его завести ребенка. Ты не мог стать моим спонсором для грин-карты, пока тебе не исполнится двадцать один, зато Диди после свадьбы подала заявку. Скоро она будет легальным иммигрантом и сможет работать где угодно.
– У тебя есть собственный дом, мужчина и сын, а ты хочешь всё спустить.
– Я просто думала, что достойна лучшего. И они могут поехать со мной.
– Но ты же знаешь, что есть здесь. А во Флориде может случиться что угодно. – Диди посмотрела на мобильный. – Пора возвращаться, пока Мишель не начала дышать огнем.
– Вот именно, может случиться что угодно. Это и здорово.
– Ты злишься из-за Леона и денег, но это ерунда.
– Дело не в деньгах. Вам с Кваном тоже стоит поехать.
– Оставайся в Нью-Йорке. Выходи замуж, роди ребенка.
Я видела, как по мне будет скучать Диди, когда я уеду. Я тоже буду по ней стучать – хотя я уже скучала: по временам, когда у нас были только мы, когда мы верили, что старшинство в коммуналке – повод для гордости, когда неопределенность в жизни пугала и завораживала, когда каждый новый день был в равной степени и ужасом, и возможностью. По моим одиноким прогулкам в Центральном парке, по улицам таким новым, что я всё еще легко могла заблудиться. По поездкам на метро, когда передо мной вздымались огни города, когда я гадала, будет ли в моей жизни что-то больше похожее на любовь, чем это.
Снова шел снег, наваливал сантиметры сугробов, и никто из нас уже не помнил, что бывает такая жара, что нужен вентилятор. Леон расчистил ботинками тропинку на ступеньках нашего здания.
– Теперь Флорида уже кажется привлекательней, да? – спросила я.
– Ты прекратишь? Я ведь уже сказал, что заплачу.
– Ты думаешь, я несерьезно.
– Мне пора на работу. До встречи.
– Можешь хотя бы сказать, что подумаешь, что уделишь этому время?
– Ладно, ладно, – сказал он на ходу.
Я поднялась и позвонила в ресторан во Флориде. Сказала управляющей, что знакома с Джои и заинтересована в работе, ответила на вопросы о том, сколько уже живу в Америке, сказала пару фраз на английском. Управляющая объяснила, что ресторан находится в маленьком городишке под названием Стар-Хилл, в часе езды от города Орландо.
– Не затягивайте, – сказала она. – Официантка нам понадобится уже скоро.
Я сказала, что еще перезвоню через день-другой, когда куплю билеты на автобус из Нью-Йорка.
Мою смену в среду сократили, так что я смогла тебя встретить из школы. Ее здание как будто бы вечно находилось в состоянии ремонта – металлические леса стояли у стен столько, сколько ты там учился, а те несколько раз, когда я была внутри, в нос бил затхлый, заплесневелый маринад из пота, клея и чистящего средства для полов. Детям вредно ходить в школу в зоне стройки.
– Я не поеду, – ответил ты, когда я рассказала про Флориду.
– Деминь, я же твоя мать. Мы поедем вместе.
– Когда я был в Китае, тебя со мной не было.
– Тогда с тобой был йи гонг. Я зарабатывала, чтобы привезти тебя сюда. Теперь всё по-другому.
– Что по-другому?
– Тебе понравится во Флориде. Будешь жить в большом доме, в своей комнате.
– Не хочу свою комнату. Хочу жить с Майклом.
– Ты ведь уже переезжал. Было не так уж трудно, правда?
Ты ответил по-английски:
– Я не поеду! Отстань!
Я знала, какими словами ответить, но не ответила – не хотела давать тебе власть надо мной и менять языки, не хотела вести переговоры на твоих условиях. Мои лицо и руки запылали, будто я боролась, пока меня запихивали в мешок.
Мы были снаружи магазина. Я увидела, как на нас смотрит миссис Джонсон из нашего дома. Твое лицо сморщилось от обиды, так что я обняла тебя, крепко, и ты выскользнул и побежал вперед – твои руки торчали из рукавов куртки. Деминь, я так тебя любила. Я запомнила на будущее купить тебе новую футболку. Во Флориде куртки не нужны.
Той ночью, пока ты спал, я не ложилась, ждала Леона с работы. Ты самоутверждался даже без сознания – перевернулся на бок, пока Майкл спал на спине, вытянув руки и ноги. Я была ненамного старше, когда ушла из дома. Ребенку полезно переживать что-то новое, полезно учиться быть храбрым и независимым. Как когда ты упал с качелей. Было страшно, но я гордилась, что ты такой сильный. Я не собиралась с тобой нянчиться. Я хотела, чтобы ты стал умным, самодостаточным; чтобы тебя нельзя было застать врасплох.
Когда ты был маленьким – умещался на одной подушке, – я не выносила расставания с тобой, жаждала соприкоснуться с тобой кожей. Город казался грубым и громким для ребенка, и я хотела защитить тебя от улиц, укрыть тебя от опасностей. Хотела я этого и сейчас. Хотела дать тебе шансы, которыми не воспользовалась сама. Показать, что необязательно сидеть на одном месте.
В небе появились полоски света. Я лежала в полудреме и проснулась от веса Леона рядом. Я прильнула к его плечу, вся прижалась, и он погладил меня по спине.
– Спи. Уже поздно.
– Если бы мы оба работали в ресторане, мы бы каждую ночь ложились вместе, каждое утро вместе просыпались.
– Мм, – сказал он.
– Ты не хочешь со мной ехать?
– Я не могу бросить сестру. Она – моя семья.
– Пусть Вивиан и Майкл едут с нами.
– Она не хочет уезжать из Нью-Йорка.
– Откуда знаешь? Может, хочет, а ты и не знаешь.
– Она мне сегодня звонила. Думала, я уеду, не сказав ей. Я не понял, о чем она.
– Я тоже не понимаю.
– Ты сказала Деминю, что мы переезжаем во Флориду. Я на это не соглашался. А он, конечно, рассказал Майклу, Майкл испугался и рассказал Вивиан, и она позвонила мне. Она так расстроилась.
– Я не говорила Деминю, что мы переезжаем.
Он прижал палец к моим губам.
– Тише. Разбудишь мальчиков.
Я оттолкнула его руку.
– Сам тише.
– Ты хочешь забрать сына, но чего хочет он сам?
– Деминь еще ребенок, не ему решать.
Леон фыркнул:
– Это мать должна жертвовать всем ради сына, а не наоборот.
– Забери эти слова назад. – Этот мужчина, с которым я спала несколько лет, этот мужчина, за которого я должна была выйти, – он совсем меня не знал. – Забери сейчас же.
Мать должна расшибиться в лепешку ради детей, а Леона можно звать йи ба только за то, что он несколько дней в неделю смотрит с тобой телевизор. Если он покупал тебе дешевую игрушку, Вивиан ворковала: «Какой заботливый», – а когда он водил тебя в парк, соседи делали комплименты, что он такой хороший папочка. Но никто не звал меня хорошей мамочкой, когда всё это делала я. И теперь Леон винил меня в том, что я захотела лучшей жизни?
Я ударила ребром ладони по кровати, с силой.
– Думаешь, я не люблю своего сына? Иди в жопу.
Ты буркнул во сне. Леон притянул меня и вывел из спальни.
Мы сидели за кухонным столом и шептались, пока Вивиан спала на диване.
– Она тебе никогда не нравилась, – сказал он.
– Вивиан? Конечно, она мне нравится. Она моя сестра.
– Ты хотела, чтобы она приняла тебя без вопросов.
– А это что, плохо?
Леон смотрел с таким видом, будто осознавал неприятную истину.
– Я была новенькая, – сказала я. – А у вас были вы.
Мы сидели так близко, что я чувствовала его дыхание на лице, теплое и кислое. Он не смотрел мне в глаза, даже в темноте.
– Иногда ты не самый хороший человек. Тебя никто не заботит.
– Я забочусь о тебе. Забочусь о Демине, и Майкле, и Вивиан.
– Ты хочешь во Флориду только ради себя самой. Не ради меня или Деминя. Ты всегда живешь ради себя.
– Нет же, ты всё неправильно понял.
В другом конце комнаты всхрапнула Вивиан, а в спальне спал и видел сны ты, может, о Могучих Рейнджерах, а может, это уже было прошлогодним увлечением. За шторами силилось подняться солнце, и я сказала, что не поеду. Я останусь в Нью-Йорке с ним и Вивиан. Я забуду о Флориде. Но тепло Леона не вернулось, а его мнение обо мне словно уже нельзя было поменять.
Сколько раз в следующие годы я возвращалась в эту ночь: придумывала другое развитие событий, представляла себя с Леоном за столом, а на следующий день вместо того, чтобы идти на работу, оставалась дома и забирала тебя из школы, водила есть пончики с чаем. Диди получит грин-карту, рано или поздно получу и я.
Но всё было не так. Я пошла на работу. В четверг в «Привет, красотка» был постоянный поток клиентов, чтобы освежить маникюр к будущим выходным, чтобы смыть потрескавшийся лак и наложить новый слой. Некоторые женщины спорили из-за цвета так, словно выбирали имя ребенка, тогда как другие приходили, уже зная, какой оттенок хотят, – такой же красный, как у подруги, такой же бронзовый, как у актрисы на фотографии в журнале. Хрупким кончикам придавали треугольную форму, ноги, от которых пахло, как от скисшего молока, отмачивали и скоблили. Мозоли – жесткие и затвердевшие, как наросты на древесной коре, – стирали, мертвую кожу счищали.
После двух маникюров-педикюров и одного маникюра следующая клиентка тоже просила только маникюр. Она выбрала фиолетовый лак и протянула руки, готовая к обслуживанию. Она жевала жвачку – ее губы двигались под слоем коричневой помады.
Базовое покрытие, первый слой. Я пыталась поймать взгляд клиентки. Голые ногти были тонкими и желтыми – признак слишком частых маникюров. Я закончила с правым мизинцем и завернула флакончик, радуясь, что меня не уломали на удаление усов, как других девушек. Включила сушилку для рук, показала клиентке. «Пусть высохнет, окей, потом второй слой», – сказала я по-английски.
Я проверила мобильный, на что Мишель смотрела косо. Я зевнула – почти не спала. Утром Леон пошел на перемирие. «Я подумаю насчет Флориды, – сказал он. – Это хорошая возможность для семьи. Если у нас родится второй ребенок, для него будет место». От неожиданности я кивнула. «Поговорим еще сегодня вечером», – сказал Леон. Но, когда я его обняла, он не ответил на объятия. Руки висели по бокам, и для поцелуя он подставил щеку, а не губы.
Новенькая на соседнем рабочем месте с трудом держала кисточку в руках. «Будет легче, если работать быстро, иначе лак липнет, – сказала я. – Крась – раз-два-три, – не давай себе времени задуматься».
Она нахмурилась. Ее хвостик висел над воротником рубашки, как мышиный. Она наклонилась к клиентке, вся оцепенелая – слишком нервная для качественной работы. Ее клиентка постукивала ногой.
Я взялась за второй слой у своей клиентки. Одна из новеньких размазывала по верхней губе женщины горячий воск. Новенькие болтали друг с другом по-вьетнамски, а с клиентками – на ограниченном английском, в динамиках в передней части салона играла радиостанция с американскими песнями, а Мишель в офисе смотрела по телевизору корейское кино. Я слышала водевильный плач и нарастающую струнную музыку.
Я закончу с ногтями этой женщины и, если больше никто не придет, возьму перерыв. Диди сегодня была выходная, на курсах английского, и я снова думала о Стар-Хилле, доме, где могли бы жить мы с тобой и Леоном.
У клиентки дрогнула рука. Я случайно попала лаком на кожу.
– Простите, – сказала я.
Она наконец ответила на мой взгляд, втянув воздух через зубы. Я вытерла каплю лака. Второй слой был глянцевым и темным.
Я закончила с левой рукой, взялась за правую, так сосредоточилась на лаке, что заметила, как вошли мужчины, только когда клиентка отдернула руку, девушка на соседнем месте подскочила и начался переполох, крики на английском и вьетнамском.
Мужчины кричали: «Лежать! Лежать!» Это были полицейские в форме.
Клиентки хватали сумочки и убегали с непросохшими ногтями. Одна ушла с полоской воска под носом. Моя клиентка сбежала, не заплатив.
– Остановите ее! – крикнула я, и тут меня втолкнули в массу тел.
Новенькая с хвостом плевалась словами, похожими на ругательства.
– Что происходит? – кричала я. По рациям трещали голоса и помехи.
– Не двигаться, – сказал один из полицейских и показал на меня.
Теперь дверь была закрыта, под охраной еще одного человека в форме. Третий надел наручники на Мишель, которая ругалась на английском.
Первый повернулся ко мне. Много лет назад, когда я ехала в грузовике из Торонто в Нью-Йорк, скакала на ухабах, не в силах шелохнуться от страха, я думала: «Вот что такое смерть». Теперь, когда мне решительно заломили руки, словно вязали свинью, я думала о тебе. Я думала только о тебе. Всегда – только о тебе.
Ён снова репетировал речь.
– Я начинал с низов. – Он заглянул в блокнот, – как и многие из вас. – Его взгляд сдвинулся в точку надо мной, опустился на стену за диваном. – На пути я встречал множество, э-э, препятствий.
– Стой. – Я наклонилась вперед. Он стоял передо мной в боксерах и белой майке. – Ты как будто хвастаешься.
– Как же я хвастаюсь, если говорю, что рос в нищете?
– В том-то и дело. Ты не рос в нищете.
– Еще как рос. Мы жили в квартире. Одна спальня на троих.
– Но тебе всегда было что есть. Ты жил в городе и мог учиться.
– Это церемония награждения Форума бизнес-лидеров Фучжоу. Там все читают речи о том, что они из низов.
От его вида в одних трусах мне хотелось посыпать его одеждой.
– Наверное, мне просто показалось, что это неискренне.
– Я даже не хочу давать речь. Не умею я давать речи.
– Сделай глубокий вдох перед выступлением. Я всегда так делаю, когда преподаю в классе. Или можешь притвориться, что разговариваешь с друзьями, будто рассказываешь что-нибудь мне с Чжао.
Он попробовал заново.
– Я начинал с низов.
– Достучись до них, говори громче.
Теперь он начал переигрывать, говорить громче, натужно и преувеличенно.
– Я. – Он взмахнул руками. – Начинал. С низов!
У меня защебетал мобильный, и я схватила его, увидела серию цифр – тех, которые надеялась увидеть каждый раз, когда он звонил в последний месяц. Прошло пять недель с тех пор, как ты звонил и я не перезвонила. Я боялась того, что ты мне скажешь, что ты будешь злиться. Я боялась очень многого, чего не боялась раньше.
– Погоди, – сказала я Ёну. – Надо ответить. Это по работе. Репетируй, я скоро подойду.
Я ушла с телефоном по коридору в нашу комнату для гостей, которой мы пользовались как кабинетом. Закрыла дверь, заперла и села на полу у окна, прислонившись к стене, не смежной с жилой комнатой.
– Алло? – Я пыталась сгладить нервозность в голосе.
– Алло?
– Привет, Деминь. Я рада, что ты перезвонил.
– Привет, мама, – сказал ты.
– Это ты, – прошептала я, в восторге и ужасе.
Из комнаты слышалось, как Ён повторял первые строчки речи, варьируя интонацию. «Я-начинал-с-низов. Я… начинал… с низов. Я начинал с низов?»
Ты рассказал, что учишься, что работаешь и играешь на гитаре. Твои приемные родители сменили тебе имя – и не только имя, но и фамилию, так что не осталось никаких следов меня. Что это еще за чушь – Дэниэл Уилкинсон? Я бы тебя так никогда не назвала. Ты рассказал, что Вивиан ходила в суд и отдала тебя белой семье, но это я и так уже знала.
– Деминь, – сказала я, и каждый раз, повторяя твое имя, я чувствовала легкий трепет. – Помнишь, как мы вместе ездили в метро? Было здорово.
– Мы ездили в Квинс, встретили другую мать и сына и притворились, что они похожи на нас.
– Они правда были похожи на нас, да?
– Это да. – Ты помедлил. – Помнишь, что ты мне сказала в тот день?
Мой маленький Деминь, только что из Китая, когда мы оба еще не знали английского. Короткие ножки, толстые щечки и пухлая зимняя куртка. Хватал меня за руку, когда мы переходили улицу, боялся быстрых машин.
– Нет. – Я не помнила – это было так давно.
Раздался стук. Ручка задергалась, и я услышала, как Ён сказал: «Полли?»
– Мне пора, – прошептала я, потом громко сказала: – Спасибо за звонок. Я перезвоню завтра.
Я открыла дверь. В коридоре был Ён.
– Давай еще раз прогоним речь? Кажется, я всё понял.
Я кивнула, вытирая вспотевшие ладони о штаны. Улыбка приклеилась к лицу.
– Зачем ты заперлась?
Ён не подозревал совершенно ни о чем, и меня это ранило.
– Звонок клиента. Тебе не холодно? Давай принесу тебе одежду. – Я достала из шкафа его штаны, спрятав в карман записочку. На ней я написала: «Награда за лучшую речь присуждается тебе».
На следующее утро в классе я пожалела, что не последовала собственному совету глубоко вдохнуть перед выступлением, когда застряла посреди предложения и не могла вспомнить, что хотела сказать. Студенты уставились на меня, пока я оглядывалась на экран. Там светилось слово toward. Мысли перепутались; слово ничего для меня не значило.
По дороге на работу я замечала ребят твоего возраста – молодых людей, торопившихся с чемоданами в офисные здания или зависших на строительных лесах, в джинсах. Ты мог бы быть одним из моих студентов. Вместо этого тебя воспитывали чужие люди. Ты называл мамой американку, которая никогда не сомневалась насчет материнства, которая так хотела стать матерью, что взяла себе сына другой женщины. Когда я об этом думала, мне хотелось кричать; хотелось кого-нибудь убить. Я боялась, что если позволю себе расплакаться, то уже не остановлюсь.
Подняла руку студентка в первом ряду.
– Учитель, вы говорили о предлогах.
– Toward – это предлог, – сказала я в надежде, что следующее предложение пойдет само собой. – Кто мне скажет, что такое предлог?
Руку подняла та же студентка.
– Предлог используется в предложении для сообщения дополнительной информации, – она пролистала конспект. – Среди распространенных предлогов в английском языке – under, after и to.
– Спасибо, Минди. – Я нажала на кнопку проектора и перешла на следующий слайд. – Посмотрим другие слова.
Если верить часам на стене, было десять тридцать утра. В Нью-Йорке – девять тридцать вчерашней ночи. Нью-Йорк, как и вся Америка, находился в прошлом.
Пока на экране загорались слова, я достала телефон и прокрутила до номера, который сохранила в списке контактов под твоим именем – Деминь. Твоим китайским именем, настоящим именем, а не этим Дэниэлом Уилкинсоном. Именем, которое дала тебе я. Грудь стиснуло. Я вышла в коридор, позвонила тебе и оставила сообщение.
Тем вечером я в первые за многие годы купила пачку сигарет и курила одну за другой на скамейке в парке, пока не закружилась голова. Я думала о твоем новом голосе, твоем новом имени и хотела говорить с тобой еще. В груди оставался комок – саднящее нарастающее чувство, что мне нужно кого-то убить. Я все курила и курила; потом заторопилась домой – принять душ, почистить зубы и смыть запах сигарет с волос, пока не вернулся Ён.
Позже на этой неделе мы выбрали время для разговора – ранний вечер, когда я была дома одна, – и я вышла с телефоном на балкон ждать твоего звонка. Когда я только переехала к Ёну, мы с ним сидели здесь во влажные вечера и придумывали прозвища для высоток, высыпавших по всему городу. Серебряный Шпиль. Красный Кирпич. Серый Ужас. Неделя за неделей эти здания росли ввысь, пока строительные леса не снимали, как бинты после операции, после чего проводили внешнюю и внутреннюю отделку и наносили последний слой краски. Теперь я больше не узнавала с балкона Серебряный Шпиль и Серый Ужас – их давно поглотила масса других зданий; такой забитый горизонт, что я не отличала новые здания от чуть менее новых. Но меня радовала мысль, что ничто не остается прежним надолго, что каждый день – очередная возможность для обновления. Человека можно преобразить новым гардеробом и другим прозвищем – как те, что я раздавала своим студентам на «Быстром английском сейчас»: Кан, унылый парнишка с рыжеватыми волосами, стал Кеном, Мэй, девочка с блестящей подводкой для глаз, стала Минди.
Я ждала. В шесть тридцать пять телефон зазвонил, и я ответила на первом же звонке.
– Я немного опоздал, – сказал ты.
– Я тоже всегда немного опаздываю.
– Тебе удобно говорить?
Я посмотрела в квартиру через стеклянную раздвижную дверь. Ёна не будет дома еще час, но одеваться для банкета на церемонии мне придется быстро.
– Да, мужа как раз нет. Я сейчас на балконе.
Разговаривать с тобой было совсем нетрудно. Я рассказала, как попала в Нью-Йорк. Ты рассказал о Риджборо – городке, куда ты уехал после Бронкса, – и своих американских родителях, Питере и Кэй. Мне не хотелось знать их имена. Это я должна была прийти на твой школьный выпускной, звонить тебе на день рождения, ко мне ты должен был приезжать на Рождество. Это я должна была тебя растить. Но всё, что ты помнил обо мне, – как я от тебя ушла и больше не искала.
Ты злился. Я могла тебя понять. Я тоже злилась. Мне хотелось всё исправить, но я не знала как, не рассказав об Ардсливиле. Мне не хотелось думать об Ардсливиле. Вместо этого я говорила всё не то.
Я рассказывала только Леону, и, хотя прошло уже столько времени, что это, наверно, не имело значения, – теперь меня никто не оштрафует и не отправит в тюрьму за то, как я покинула Америку, – этой информацией мне делиться не хотелось. Если я расскажу Ёну, то всё испорчу. Некоторыми ночами я всё еще просыпалась с мыслями о бетонном поле, одноразовых тарелках с холодной овсянкой – сейчас я не могла даже видеть овсянку; больше никогда не буду ее есть, – и о гвалте сотен женщин, говоривших на разных языках. Мне не нравилось, что об этом знал Леон, что я обнажила перед ним душу. Потому что если он знал, то значит, это явь, а не кошмар, который можно списать на разыгравшееся воображение. Так же разговор с тобой напоминал мне о кошмаре утраты.
Это Леон уехал специально, а не я. Я уехала не специально. Я любила тебя больше всех. Ты мог звать «мамой» другую женщину, но это я была твоей мамой, а не она. Я знала, что лишилась права так говорить, но это никогда не изменится.
В окно раздался стук, и я подскочила в кресле, увидела, как Ён показывает на часы. Я сказала тебе, что мне пора.
Ужин на церемонии награждения Форума бизнес-лидеров Фучжоу проходил в конференц-зале с маленькими окнами под потолком. Стоял май, на улице было тепло, но меня знобило, пока рядом ерзал Ён. На сцене магнат недвижимости распространялся о своем детстве в деревне к северу от Фучжоу, превысив пятиминутный лимит на десять минут. «В голодные годы я еще ребенком познал лишения, – сказал магнат с удивительно веселой ноткой, – когда мать кормила нас жидкой кашицей из риса и воды. В животах урчало, но мы не жаловались».
В мисках стучали палочки. По сервировочным тарелкам скребли металлические ложки. Йи ба говорил, что его семья была такая бедная, что они с братом делили на двоих одно зернышко риса, и меня раздражало, что этот магнат присвоил его историю. Ходили слухи, что он никогда не оставлял еду на тарелке и не пользовался одним полотенцем два раза – слуги уносили ванные принадлежности сразу после использования. Мне хотелось улизнуть в туалет и позвонить тебе, поделиться этим абсурдом.
Между речами выступающих я пыталась следить за разговорами вокруг. Люцзин и Чжао хотели купить домик в горах, а Цайлань сказал, что предпочитает берег моря. Я ответила, что океан лучше, чем горы. Паре рядом со мной я рассказала о нашем ремонте кухни, назвала рабочих, к которым обращались мы с Ёном. «Золотые руки», – сказала я, успокоенная своим городским акцентом, уверенностью в речи. Это черты Полли из Фучжоу, а не Полли, которая жила в Нью-Йорке, носила пятидолларовые джинсы и пользовалась одним и тем же мылом и для лица, и для тела, которая разрешала сыну весь день смотреть телевизор.
– Наш следующий отпуск пройдет в Гонконге, – говорил Ён Цайланю и Нин. – А потом Сингапур и Токио.
– Токио? – спросил Цайлань. – Уже забронировали билеты?
– Руки еще не дошли, – сказал Ён. – Большая загрузка на работе. Но, может быть, зимой съездим в Гонконг. Туда легко добраться. Что думаешь, Полли?
– Конечно. – Я положила себе еще брокколи, но сама почти не чувствовала вкуса. – Чудесно.
– Дайте знать, когда соберетесь, и я пришлю вам список любимых ресторанов, – сказала Нин.
– Отлично. Расскажи, как там? – Но, глядя, как движутся губы Нин, я не могла сосредоточиться на словах. Завтра я позвоню и объясню, что не хотела так неожиданно бросать трубку.
За нашим столом было множество друзей – Чжао и Люцзин, Нин и Цайлань, другие коллеги Ёна с женами. Я оглядела зал и увидела, что этот столик повторяется снова и снова: толстяки в темных костюмах, дамы с помадой и в обтягивающих платьях, тарелки и тарелки еды, пустые пивные бутылки. Я ничем не выделялась. Мое фиолетовое платье шили на заказ, на мне были бриллиантовые сережки и кольцо, золотой браслет из овальных звеньев в виде цепочки. Волосы покрашены и мелированы. Ранее этим вечером, когда я попрощалась с тобой и переоделась в платье, мы с Ёном любовались собой в зеркале спальни. «Смотри, как мы подходим друг другу», – сказала я. Я не могла рассказать ему ни о тебе, ни об Ардсливиле, не могла уничтожить иллюзию, которую мы для себя создали.
Подали первую перемену блюд, и президент Форума – человек в полосатом костюме – представил Ёна, который направился к сцене. Он постучал по микрофону, хотя тот отлично работал, когда говорил президент.
– Я начинал с низов, – сказал он, – как и многие из вас. На пути я встречал множество препятствий и испытаний, но упорно их преодолевал. И теперь я с гордостью возглавляю «Ёнтекс». Скажу без лишней скромности: мы – будущее бизнеса, потому что мы не просто фабрика, мы работаем и на благо общества. Во-первых, предоставляем работу нуждающимся. – Он посмотрел на свои заметки, потом на зрителей. Я безмолвно умоляла его продолжать. – И… во-вторых, мы содействуем подъему торговли. В-третьих, мы подстегиваем экономическое развитие в регионе и повышаем статус бизнеса в Фучжоу.
Под конец он иссяк, но закончил на сильной ноте. Наш стол захлопал, остальной зал подхватил аплодисменты.
– Спасибо, – сказал Ён.
Когда он вернулся за стол, я видела на его лице облегчение. Я положила руку ему на колено. Мы были нужны друг другу. Здесь мое место.
– Ты молодец, – сказала я.
После ужина мы пили кофе в квартире Нин и Цайланя. Женщины сели на угловой диван, мужчины – за длинный обеденный стол. Нин и Цайлань отгородили часть гостиной стеной, чтобы сделать спальню своему сыну – Филлиппу.
Дочь Люцзин и Чжао училась английскому на уровне девятого класса, хотя сама была только в восьмом.
– Она отставала, и тогда мы попросили учителя перевести ее в класс старше, – сказала Люцзин. – Только так и надо – заставлять их стараться.
– С детьми так нельзя, – сказала я. – Им нужно и поощрение.
Нин улыбнулась:
– Поощрять нужно, но в первую очередь нужно быть твердыми. Они должны учиться всему сами.
– Но к чему мы приучаем наших детей, когда вынуждаем жить с неудачами? – Я заметила, как Нин обменялась взглядами с Люцзин. – Мы можем им навредить, повлиять на их дальнейшую жизнь.
– Это в сериалах люди вечно впустую расхваливают детей, – сказала Люцзин. – Но в реальной жизни все по-другому.
– Я говорю о реальной жизни, – сказала я.
– Дети в реальной жизни не такие, как по телевизору.
– Я не говорю про телевизор. Что, у меня не может быть мнения о воспитании детей?
Люцзин подняла брови. Нин встала и одернула платье.
– Прошу прощения, загляну к Филлиппу. Ему уже пора спать, а я уверена, он даже не ложился.
В комнате было нечем дышать.
– В последнее время погода такая теплая, – сказала я Люцзин.
– Я слышала, завтра наконец будет дождь, – ответила она. – Какое облегчение.
Я ушла на кухню и прополоскала чашку. Мне хотелось снова позвонить тебе, но ты был прав: я ошиблась, я виновата. Я отказалась от твоих поисков, чтобы сидеть на приемах с этими людьми. Хранила тебя в тайне, будто это ты был ошибкой. Я вытерла руки о полотенце на крючке рядом с холодильником, и ткань зацепилась за браслет, который в прошлом году мне купил Ён. Когда я наконец выдернула полотенце, браслет показался слишком громоздким и аляповатым для моего запястья, как дразнившая меня цепь.
В гостиной Чжао говорил на свою любимую тему – о сычуанских иммигрантах.
– Вот почему мы платим, чтобы дочь училась в международной частной школе. В общественных школах одни понаехавшие.
Я села напротив него и сказала:
– Но ведь они даже не могут поступить в государственные школы.
– Вот именно. И нечего им там делать.
– Они могут учиться в сельской местности, – сказала Люцзин.
– Ты сам только что сказал, что они понаехали в общественные школы в городе, а потом говоришь, что они не могут туда поступить. Так что ты хочешь сказать? Не может быть и так, и так.
Чжао хмыкнул:
– Общественные, частные – какая разница. Суть в том, что им здесь не место.
Ён поерзал на кресле.
– Но ты же их нанимаешь, – сказала я. – Делать тебе ремонт, красить квартиру, работать на твоей фабрике. Опять ты сам себе противоречишь.
Увидев, как у Ёна пропала улыбка, я продолжала говорить, пытаясь заглушить Чжао и Люцзин, пока не вернулась Нин и не сменила тему. Я отказалась от тебя не для того, чтобы соглашаться с такими злыми мыслями. Я была хорошим человеком. Я и есть хороший человек.
– Вот потому ты ничего и не видишь. Из-за своих чертовых солнечных очков.
Входя в квартиру, Ён ударился коленом о дверь. Иногда в темных очках он казался стильным, даже немного опасным, но временами – как сегодня – просто отчаянным.
– Как я рад, что всё кончилось, – сказал он. – Речь, ужин, всё.
Он так устал. Я решила проявить доброту.
– Всем понравилась твоя речь.
– Видишь, я же говорил, что это они и хотят услышать.
Завра была суббота, и Ёна не ждала работа после обеда. Мы могли выспаться, заняться сексом. Я умылась и почистила зубы, проверила, что дверь заперта и в комнате выключен свет. Сегодня мы решили обойтись без телевизора.
Я думала, что Ён заснул, но, когда легла в постель, он заговорил:
– Итак, кто такой Деминь?
Я выключила свет в спальне, чтобы он не видел тревогу на моем лице.
– Кто?
– Пока ты была в ванной, звонил телефон. Там было написано «Деминь».
Мой телефон лежал на ночном столике экраном вверх. Там отображался пропущенный звонок от тебя, новое голосовое сообщение. Я послушаю потом, когда Ён уснет.
Я заговорила в потолок.
– Деминь – один из сямыньских клиентов начальника Ченга. Он сейчас путешествует за границей, звонит в неудобное время. Наверно, забыл про разницу во времени.
– Ясно, – сказал Ён. Кажется, его это не убедило.
Я натянула одеяло на плечи.
– Спокойной ночи.
Через минуту Ён снова заговорил. Его голос звучал словно издалека, хотя он лежал рядом.
– Когда я сегодня пришел, ты была на балконе с телефоном. Как только ты меня увидела, то сбросила звонок. Ты очень странно себя вела.
Я порадовалась, что он не видит моих покрасневших щек и не слышит забившегося сердца.
– Ты меня в чем-то обвиняешь?
– Нет.
– Я ничего не сделала. Тебе не о чем волноваться.
– Я не волнуюсь. Но ты сегодня ругалась с Чжао.
– Терпеть не могу, когда он так говорит о мигрантах. Почему ты ничего не скажешь? У «Ёнтекс» твое имя. Ты сегодня получил награду. Скажи ему заткнуться раз и навсегда.
– Я просто не обращаю на это внимания.
– А мы можем поехать в Гонконг, а не только мечтать о нем?
– После новогодних праздников. У меня много работы.
– Это же больше чем через полгода.
– Не так уж долго, да?
– Я устала от этих приемов. Ты от них не устаешь?
– Мне всё равно.
Ён со мной не ссорился. Не злился. Я снова почувствовала себя так, будто меня подвели.
Я представляла, как брошу его или он – меня. Утрату этих отношений, комфорта жизни с человеком, которого так хорошо знаешь. Я думала о ночах, когда не могла уснуть, в Ардсливиле и в рабочем общежитии, даже на кровати на Рутгерс-стрит, и какими они были долгими, какими бесконечными казались дни. Всё, чего я тогда хотела, – не быть в одиночестве. В прошлом году, когда Ён уехал по делам на три недели, я радовалась, что мне досталась вся квартира целиком, не убирала одежду, не мыла посуду, не выносила мусор. Но, когда я возвращалась с работы, квартира казалась пустой, а когда наконец засыпала, снился мне ты – десятилетний, читающий наизусть станции нью-йоркского метро, – а потом я просыпалась, не понимая, где я, ожидая увидеть тебя на соседней кровати.
Ён коснулся моей руки.
– Я сегодня хорошо выступил?
– Замечательно.
Я знала, что нужно подождать, хранить правду от Ёна и не звонить тебе, пока я не стану сильнее. Я не хотела расстраивать тебя еще больше. Йи ба верил, что поддаваться своим желаниям – признак слабости. Будь сильной, говорила я себе, хотя уже сама не понимала, что это значит. Думай, прежде чем говорить.
Но я уже не могла удержаться.
– У меня есть сын, и я его потеряла.
Слова зависли в воздухе на ужасный растянувшийся миг.
– Сын?
Я не могла ответить.
– Что значит – потеряла?
– Я родила в девятнадцать. Забеременела от соседа в деревне. Я оставила сына в Америке, потому что не смогла забрать с собой в Китай, а потом его усыновила американская семья. Недавно он вышел со мной на связь. Вот кто такой Деминь. Это его имя. Деминь Гуо. – Мне хотелось это повторить и я повторила: – Деминь Гуо.
Твое имя отдалось в спальне. Ён убрал ладонь с моей руки.
– Теперь он живет в Нью-Йорке и только что нашел меня. Мы два раза говорили по телефону.
Ён тряхнул головой, словно хотел вытряхнуть воду из ушей.
Я смотрела на мужа и пыталась заставить его посмотреть на меня. Много лет назад, когда он учился на моем курсе, его английский был неуклюжим, запинающимся. На китайском он не умолкал, но на английском почти немел, и мне казалось, что это я почему-то виновата.
– Ты оставила сына?
– Всё не так просто.
– Я не понимаю.
– Меня депортировали, ясно? Вот почему я уехала из Америки.
– Почему ты мне это говоришь только сейчас?
– Я не хотела, чтобы ты переживал.
– Поверить не могу, что ты не сказала раньше.
– Я могу объяснить.
Он не ответил.
– Ты злишься?
Он не злился. Не кричал, не хлопнул дверью, не попросил меня уйти. Вместо этого позволил прижаться к нему. Взял меня за руку и приложил ее к своей груди.
Но разве я не знала, что этим всё и кончится? Он никогда не был из тех, кто кричит.
В момент перед тем, как рассказать о тебе, мне казалось, я готова к тому, чтобы меня бросили, готова услышать хлопающую дверь, принять надвигающееся наказание. Вот почему я так долго и хранила тебя в тайне, почему больше не искала. Но Ён остался со мной – и я останусь с ним. В конце концов больше всего меня удивило собственное облегчение.
Сосед Роланда Эдриан несколько дней сидел дома. Подружка его отшила, он уже не собирался переезжать к ней в конце мая, и теперь Дэниэлу приходилось ждать, пока Эдриан освободит душ, перед тем как самому попасть в ванную, где было на двести процентов больше волос – у Эдриана росли и борода, и длинные волосы; ходячий ковер. Он так же любил помолчать, как Роланд любил поговорить, каждый день выбредал из своей комнаты с полотенцем на талии и приветствовал Дэниэла на диване одним простым «Привет».
Утром 13 мая, за два дня до большого концерта, Роланд только и говорил о том, кого пригласили, а кого нет, в двадцатый раз менял сет-лист. Позже этим вечером они снова пробегутся по песням.
Когда марафонский душ Эдриана вышел уже на пятнадцатую минуту, Дэниэл почистил зубы на кухне.
– Тридцать процентов вероятности дождя, – сказал Роланд, меряя шагами гостиную. – Как думаешь, повлияет на явку? Люди не любят выходить на улицу в дождь, хотя что с ними не так? Аллергия на жизнь, что ли? Но еще есть фактор влажности, а это новое для нас помещение, может затронуть звук.
Дэниэл прополоскал рот и сплюнул. Если он не выйдет из квартиры в следующие пять минут, то опоздает на работу еще больше. Он слышал, как звонит его телефон, и бросился через всю комнату его искать, зная, что это не мать, но надеясь. Прошла неделя с тех пор, как они говорили в последний раз, и вчера, устав ее ждать, он позвонил и оставил сообщение, где просил больше ему не звонить. Так она, судя по всему, и сделала. Но он ее опередил.
Это была Кэй. Он дождался, пока включится автоответчик, и в поисках пары одинаковых носков прослушал сообщение, напоминавшее о встрече с деканом Карлоу послезавтра.
– Плохие новости? – спросил Роланд.
Дэниэл нашел пропавший носок.
– Послезавтра надо будет съездить на север. На встречу.
– Ты что, прикалываешься? У нас в пятницу концерт.
Дэниэл попинал комок футболок и полотенец и нашел правый ботинок, но не левый.
– Встреча с деканом Карлоу-колледжа.
– Ты же не хочешь в Карлоу-колледж.
Он натянул правый и зашнуровал, хромал на левой ноге в одном носке.
– Может, хочу.
– И кто тогда будет со мной играть?
– Попроси Хави. Не знаю. Гитарные партии легкие.
– Легкие? – Роланд изобразил, как рвет на себе волосы. – Определись уже! Ты здесь уже сколько, пять месяцев, и так и не нашел работу получше, так и не можешь сам снимать комнату.
– Я думал, Эдриан съедет. Собирался занять его комнату. – Дэниэл повернулся к Роланду. – Хочешь, чтобы я ушел?
– Я не об этом. Я о том, что ты ничего не добьешься, если будешь делать то, что хотят твои родители. Ты ведь даже не знаешь, чего сам хочешь. Не веришь, что заслуживаешь лучшего.
– Не надо мне твоего психоанализа и не говори, что делать. – Дэниэл нашел левый ботинок под диваном.
В ванной выключился душ, Эдриан напевал святочные песни.
Роланд смотрел с отвращением.
– Знаешь что? Можешь вообще не приходить сегодня на репетицию.
– Брось ты. Мне пора на работу. – Дэниэл открыл дверь, всё еще с ботинком в руках. Надел уже в коридоре. Прямо сейчас ему нужно было просто убраться из квартиры.
Восемь часов за готовкой буррито не принесли облегчения. «Я приду на твой концерт в пятницу, – сказал Эван, пока они нарезали болгарский перец. – Раньше у нас в Гованусе были рейвы, реальные веселухи в складах. Теперь там всё облагородили и вконец испоганили». Его коллеги, Перви и Кевин, тоже собирались прийти. Весь день телефон Дэниэла разрывался от сообщений. Ну конечно, он выступит на концерте. Ну конечно, он не поступит в Карлоу.
Когда он уходил из «Трес Локос», было за семь часов. Он вернулся в квартиру за своим «Стратом», поехал на поезде в Бушвик, пробежал по кварталу до нужного здания и поднялся на дребезжащем служебном лифте на седьмой этаж. Перед металлической дверью услышал песню Psychic Hearts, подумал, что Хави тоже пришел на репетицию, но, открыв дверь, увидел, что на гитаре играл Нейт, пока Роланд пел и нажимал клавиши секвенсера. Пышные волосы Нейта колыхались, когда он тряс головой под бит. У него получались всё нужные аккорды, но песня казалась даже более плоской, чем уже была.
Нейт и Роланд увидели Дэниэла и переглянулись. Песня оборвалась.
– Что происходит? – спросил Дэниэл. – У нас будет второй гитарист?
– Жопу поднял – место потерял, – ответил Нейт. – Вот что происходит.
Роланд подошел и понизил голос:
– Я не могу играть в группе с ненадежным человеком.
– Я завтра выступлю.
– Опять передумаешь, – покачал головой Роланд.
– Не передумаю, клянусь тебе. Я не пойду в Карлоу.
– Уже поздно, – пропел фальцетом Нейт.
Роланд пронзил его взглядом, потом вывел Дэниэла за дверь и начал ее закрывать.
– Прости.
Понадобилось меньше десяти минут, чтобы собрать свои шмотки в гостиной Роланда и сунуть в рюкзак. Он оставил «Страт» и забрал свою акустику, прошел по Лафайет мимо покерного клуба и свернул на Бродвей. Надел наушники и выкрутил звук, чтобы в музыке мир стал громче, и великолепный реверб огней мерцал, как сахарные солнечные вспышки, пока он слушал голоса Боуи и Фредди Меркьюри в Under Pressure:
Без музыки мир был плоским, блеклым, слишком очевидным. Дэниэл сделал еще громче, пока его не омыли краски и звук, пока не остались только огни, возможности и полет – как когда гитара переводила послания его мозга. Он шел по Юнион-сквер, через Флэтайрон, мимо людей на верандах ресторанов, компаний подростков-скейтбордистов, туристов, вцепившихся в карты метро, смеющихся пар. Геральд-сквер – сетевые магазины; Таймс-сквер – еще туристы. На Коламбус-серкл он опустился на скамейку и положил чехол с гитарой. Он всё запорол.
Всю ночь он попивал разбавленный кофе в кабинке закусочной, набирая злобные сообщения Роланду и тут же удаляя перед отправкой. Послал сообщение Энджел: «Привет, у тебя всё ок?» Он писал ей каждые несколько дней, но она никогда не отвечала. Недалеко был Порт-Авторити; он бы мог купить билет на автобус и оказаться в Риджборо уже через пару часов. Но обвинения Роланда не шли из головы. Он не знал, чего хотел, и не знал, как узнать.
Утром он поехал на поезде N в Сансет-парк, съел миску фо во вьетнамском ресторанчике, убил еще пару часов в кафешке, потом направился к единственным людям в городе, которые могли пустить его переночевать.
Вивиан стояла на крыльце, поливала горшок с желтыми и красными цветами.
– Деминь? – Она пригляделась к его рюкзаку и гитарному чехлу.
– Привет, Вивиан. – Ее глаза были в тени лаймово-зеленого козырька с надписью «Вирджиния-Бич», так что Дэниэл не мог разобрать их выражения. – Майкл дома?
– Он сейчас на учебе, – ответила Вивиан на фучжоуском. – Вернется позже. Ты зайдешь?
– Мне нужно где-то переночевать. Сегодня.
– Ладно. Отнеси сумку в гостиную.
Так он и оказался на кухне с Вивиан, помогая готовить. Тимоти и Майкл вернутся к ужину, сказала она. Дэниэл посмотрел на часы на стене. Только два часа. До ужина еще далеко.
Сидя за деревянным столом, он нарезал на доске чеснок и имбирь, пока Вивиан пассеровала куски говядины. На столе лежала стопка почты – флаеры местных предприятий на английском и китайском, сверху – реклама иммиграционного юриста с конторой на 8-й авеню, в сопровождении фотографии женщины с агрессивно отбеленными зубами. Вот какой была бы его жизнь, если бы он остался Деминем Гуо, если бы мать и Леон не разъехались. Приходили бы на семейные ужины с Вивиан и Тимоти.
– Леон говорил, что общался с тобой, – сказала Вивиан, пока шипело мясо. – Говорил, он был рад тебя слышать.
– Он дал мне номер матери. – Когда Вивиан не сделала замечания насчет его китайского, он решил говорить на нем и дальше – с паузами, чтобы вспомнить и выбрать правильные слова. – Я ей звонил. Я с ней разговаривал.
Он рассказал Вивиан, что его мать снова вышла замуж, но не сообщила о нем мужу.
– До сих пор не знаю, куда она поехала после Нью-Йорка. Была ли она во Флориде.
Вивиан перевернула кусочки мяса металлическими щипцами, потом переложила на тарелку с бумажным полотенцем.
– Вряд ли. Ну-ка, давай.
Дэниэл подал доску, и она ссыпала чеснок и имбирь лезвием ножа в кастрюлю и размешала деревянной ложкой. Кухня заблагоухала.
– Но почему она тогда оказалась в Китае?
– Не знаю, но она бы не уехала без тебя. Она только о тебе и говорила, всё время. – Она вернула ему доску, теперь с морковкой. – Нарежь мелкими дольками. – Она положила говядину в кастрюлю, залила водой, накрыла крышкой. – Мы обсуждали наши планы на тебя и Майкла. Она курила… – Вивиан изобразила, как вынимает сигарету изо рта с локтем на отлете, со взглядом в сторону, как его мать. – Вечно курила и говорила этим своим голосом – не голосом, а голосиной. И у нас на маленькой кухне стояли огромные кружки с чаем. Мы мечтали, что Майкл станет врачом, а ты пойдешь работать на телевидение.
– На телевидение?
– Она представляла, что ты будешь работать со звуком на телевидении или в кино. Потому что ты любил музыку. И телевизор. Не так уж мы и ошибались, да?
– Почти угадали. – Дэниэл пилил морковку. С доски слетел оранжевый диск. Он встал, нашел его на другом конце стола.
– Ну-ка, – сказала Вивиан, забирая у него нож. – Режь вот так.
Он наклонил нож, как она показала, резал морковку свободнее. Она проверила суп, подсыпала соль и перец.
– Тогда был маникюрный салон. Помнишь название?
– «Привет, красотка». – Его он тоже искал, но его уже не существовало.
– Помнишь подругу матери оттуда? Женщину с высоким детским голосом.
– Диди.
– Точно, Диди. После того как пропала твоя мать, Диди позвонила Леону. Оказалось, кто-то настучал на их начальницу в ICE. Иммиграционную службу. Они приехали и арестовали половину салона. Твоя мать в этот день работала.
Он помнил, как слышал, что Вивиан и Леон говорят о Диди, о юристе. Но не об этом.
– Мне никто ничего не сказал.
– Однажды так же было с одной моей знакомой, которая работала в ресторане. Кто-то с кем-то ссорится, звонит в ICE, они приезжают и забирают всех работников.
– Куда забирают?
– Депортируют. Или еще у них есть лагеря, тюрьмы для иммигрантов. До нас вечно доходили слухи. Но я лично знала женщину, у которой туда попал муж. Поехал в бакалею и так и не вернулся. Она узнала, что он в тюрьме в Аризоне или где-то там, а потом он уже летел на самолете в их страну, куда-то в Центральную Америку. – Вивиан покачала головой. – И подруга твой матери, Диди, нашла тот ресторан во Флориде и позвонила. Там сказали, что твоя мать вроде бы покупала билет во Флориду, но так и не появилась. Тогда Диди с Леоном стали звонить в ICE, и там сказали, что ее нет и у них.
Она купила автобусный билет во Флориду, но ему сказала, что они не переезжают. Какая-то бессмыслица.
– Значит, в тюрьме ее не было? Я всегда думал, что у нее есть другой. Хоть она и собиралась выйти за Леона.
– Не знаю. – Вивиан взяла стопку рекламы и выкинула в мусорную корзину. – Мы ее ждали, ждали. Сам помнишь, сколько месяцев. Я бы не платила по ее долгам, если бы знала, что она вернется. Я бы не стала отдавать тебя.
Его мать сидела в тюрьме, пока он слушал пластинки в Риджборо, пока он с Энджел ездил на такси в их старую квартиру? Но знала ли она о его усыновлении? Дэниэл отложил нож. Однажды он стоял с матерью и Леоном на пароме на Стейтен-Айленд, и оба обнимали его, их любовь была сияющей и несомненной, которую пытались предложить Кэй и Питер, но он так и не смог заставить себя ее принять. Он столько потерял – и потерялся сам. Расстояние между тогда и сейчас казалось огромным.
Теперь он нервничал, что возвращение Майкла и Тимоти разрушит неожиданный покой, который он почувствовал, проведя весь день с Вивиан. Но, когда Майкл пришел – после того, как Дэниэл принял душ и выспался, – страхи Дэниэла уже исчезли. Было приятно оказаться с людьми, которые не знают, что он неудачник.
После ужина – после второй, а потом и третьей добавки супа – Майкл спросил:
– Не хочешь сыграть в бильярд? В Бэй-Ридж есть одно местечко.
В бильярдном зале они купили по пиву и играли в восьмерку. Дэниэл разбил и играл за цельные шары.
– Кстати, я опять разговаривал с мамой. Твоя думает, что, похоже, ее задержала во время облавы иммиграционная служба, посадила в тюрьму и депортировала, потому она и оказалась в Китае.
– Черт. А ты ее спрашивал, когда с ней разговаривал?
– Не хватило духу. Кажется, она не хотела об этом рассказывать. – Он прицелился в боковую лузу и промахнулся. – Но, слушай, спасибо. Это ты помог мне с ней связаться.
– Ну не за что, не за что. Еще будешь созваниваться?
– Посмотрим.
Майкл наклонился над столом и своим кием.
– Десятый от двенадцатого. В угол. – Он сделал удар.
– А ты хорош, – сказал Дэниэл. – Где научился так играть?
– Часто играю с друзьями. Некоторые любят на деньги, но не я. Эй, а помнишь, я тебе рассказывал про работу научного сотрудника? Я подал заявление. Решил выбрать ту тему, которая интересна мне, более рискованную. Наверно, благодаря тебе.
На другой стороне зала были видеоигры, но Дэниэл не заметил среди них покера.
– А я-то что?
– Ты меня вдохновил.
– Я же ничего не понимаю в науке.
– В смысле, ты занимаешься музыкой, ты в отличной группе, живешь с друзьями в городе. Я даже не могу себе позволить съехать из родительской квартиры, пока не получу этот грант. Приходится три часа добираться до учебы и обратно, и мама меня пилит, если я задерживаюсь допоздна. Вместо того чтобы выбирать безопасную дорогу, ты как бы – свободен.
После того как Майкл положил в лузу четыре шара за раунд, Дэниэл все-таки сумел загнать один цельный.
– Какое там от меня вдохновение. Меня выперли из группы. Я должен подруге десять тысяч баксов, и она со мной больше не разговаривает. Меня выгнали из колледжа.
– Правда? Почему?
– Помнишь, ты сказал, что некоторые твои друзья любят играть на деньги? Я тоже. – Дэниэл допил пиво. Рассказал Майклу про покер, про отчисление.
– Блин, – сказал Майкл. – Жаль, что с тобой так получилось.
– Я как бы всё равно хотел оттуда уехать.
– А вернешься?
– Родители хотят перевести меня в вуз, где преподают сами, на севере.
– Ты туда хочешь?
От доброты в вопросе Майкла у Дэниэла началось дежавю.
– Нет. Хотя иногда кажется, что у меня нет выбора.
Майкл поправил часы на руке.
– Я помню, какой ты был после того, как ушла твоя мама. Ты думал, она ушла из-за тебя. Винил себя.
– Я был мелким. Не понимал, что происходит.
– Знаю, это было давно. – Майкл грустно усмехнулся. – Но я просто хочу, чтобы ты был в норме. А если ты не в норме – ну, наверно, это тоже ничего.
– Я в норме. – Стоило это сказать, как он понял, что это правда.
– Я по ней скучаю, – сказал Майкл, – по твоей матери. Она всегда была ко мне очень добра. – Он поднял кий и изучил стол. – Восьмерка в боковую.
Дэниэл наклонился над краем, чтобы отвлечь Майкла от победного удара, но тот забил, и Дэниэл воскликнул, и дал ему пять.
В квартире было тихо, все спали, кроме Дэниэла на диване в гостиной. Он смотрел на фотографию Майкла в академической шапочке и балахоне на школьном выпускном, в рамочке на стене над телевизором, по соседству с большим студийным портретом Вивиан, Майкла и Тимоти на фоне синего задника. У Питера и Кэй в гостиной была такая же, с Дэниэлом между ними, – ее сделали на Рождество несколько лет назад в «ДжейСи Пенни» в торговом центре Литтлтауна. Висела там и его фотография с выпускного.
На нижней полке шкафчика под телевизором Дэниэл нашел ряд фотоальбомов. Он достал один и пролистал, увидел фотографии со свадьбы Вивиан и Тимоти, поблекшие портреты незнакомых людей, молодого Тимоти – еще с пышными волосами. Он знал, что его фотографий там не будет, но всё равно искал, альбом за альбомом, будто на следующей странице наконец увидит Деминя.
III. Крен
– Если расположить кривую спроса и кривую предложения на одном графике, мы увидим, что на эффективном рынке они пересекаются в точке равновесной цены и равновесного количества товара. – профессор Николс нажал на кнопку, и слайд «Пауэр Пойнта» сменился, появился черно-белый график. За длинными столами в Питерсон-холле, поднимающимися в стиле трибуны, сидели пятьдесят студентов – большинство что-то изучали на ноутбуке, где на экранах пестрели, как голодные комары, множество чатов. Одна девушка сзади сидела в наушниках и даже не пыталась скрывать смех, глядя фильм по планшету.
– Цена и количество обозначаются соответственно P и Q, – сказал профессор Николс, подкручивая кончик своего седого хвоста.
Дэниэл Уилкинсон сидел в предпоследнем ряду, справа от Эмбер Битбургер, глядя, как парень перед ним играет в онлайн-покер. Он постоянно слишком много ставил на ужасные руки, и Дэниэл не мог отвести глаза. На его ноутбуке всё еще стояла программа, запрещающая играть, и он не видел покер уже несколько месяцев. Не в силах больше терпеть – спина парня была так близко, что Дэниэл мог достать рукой, – он наклонялся, пока не завис над столом. На парне были наушники, но Дэниэл слышал те самые звуки, которые играли во время сдачи, – решительную духовую медь. Он придвинулся ближе.
– Эй, – прошептал он. Эмбер оглянулась. – Не делай этого, – сказал Дэниэл, когда палец парня завис над кнопкой ставки – с восьмеркой крестей и тройкой червей на руках.
– Твою мать! – громко сказал Дэниэл, когда парень кликнул.
Он развернулся, уши его краснели.
– Ты там что, охренел? – прошипел он.
– Господа, у вас какие-то проблемы? – спросил профессор Николс.
Дэниэл сполз обратно на место. Эмбер посмотрела на него и одними губами спросила: «Что это было?»
После четырех месяцев в Нью-Йорке Риджборо казался еще меньше, дальше и обшарпанней. Подростки в «Данкин Донатс» выглядели моложе, чем он в их возрасте, а «Фуд Лайон» – с его широкими пустыми проходами и фоновой легкой классикой из пятидесятых – навевал мрак. Так много хлопьев, так много брендов зубной пасты – и так мало людей; так и виделось перекати-поле, летящее по полу мимо газировки и чипсов.
Летние курсы представляли собой четырехмесячный семестр, втиснутый в шесть недель; он учился по будням с девяти до пяти. «Хорошая подготовка к рабочему миру», – сказала Кэй. По утрам Дэниэлу казалось, что его выкопали из-под земли и теперь он, воскресший, заново учился ходить. Он засыпал в классах, резко просыпался, бесился из-за Psychic Hearts и славы Нейта, которая по праву должна была принадлежать ему.
Пятнадцатого мая он покинул город на заре, прибыл в Риджборо вовремя для встречи с деканом. Тем вечером Нейт и Роланд отыграли для Хатча и коллег Дэниэла, а Дэниэл попросил прощения у Питера и Кэй. «Мы не можем принимать тебя всерьез, пока ты сам себя не начнешь принимать всерьез», – сказал Питер. Кэй смогла записать его на два предмета ее и Питера факультетов: сравнительная политология и вводный курс в микроэкономику. Восемь часов лекций каждый день отрывали от мира, и Дэниэл ходил вечно раздраженным, но чувствовал и решительность, превосходство: ему это на пользу – как ходить к стоматологу или придерживать дверь медлительному незнакомцу, когда сам торопишься.
После экономики Эмбер Битбургер, за которой он сидел в шестом классе миссис Лампкин, вышла с ним в июньскую жару. Глаза заболели от напора солнечного света после долгого утра в лектории без окон, где кондиционер как будто всегда стоял на десяти градусах. Он снял толстовку и оголил руки – в зеленой футболке с логотипом «Меланхолии Рекордс» и картинкой канталупы, лежащей на граммофоне.
– Так что это было? – спросила Эмбер.
– Чувак по-крупному проигрывал. Я хотел помочь. – После пары Дэниэл поискал глазами парня, но потерял его в толпе, шаркающей из Питерсон-холла.
– Мы с компанией собираемся выпить в субботу в «Черной кошке», – сказала Эмбер своим грубоватым, но жизнерадостным голосом. Она по-прежнему жила дома, по-прежнему общалась с теми же друзьями, что и в старшей школе, и ходила на летние курсы, чтобы закончить колледж за три года.
– Звучит неплохо.
По субботам Дэниэл присоединялся к Эмбер, Келси Ортман и их друзьям, чтобы выпить пива в одном из двух баров со звериными названиями на Мейн-стрит в Литтлтауне – ниже по холму от кампуса Карлоу: «Черная кошка» и «Пестрая ворона». Однажды даже побывал на настоящей студенческой тусе – почти полной копии вечеринок в Потсдаме: где белые плохо танцуют под дурацкий хип-хоп в какой-нибудь развалюхе, где пивные бонги и кричащие пацаны в бейсболках и кто-то блюет в палисаднике.
– У них там по четвергам открытый микрофон. Ты же увлекался в школе музыкой, с Роландом Фуэнтесом? – Эмбер произносила это «Фэн-тиз». – Он еще в старшей школе был такой странный, с зелеными волосами? И глаза подводил.
– Я играл на гитаре. У нас тогда была пара групп.
Белые волосы Эмбер на солнце казались почти прозрачными.
– Надо как-нибудь вместе завалиться на открытый микрофон.
– Конечно, звучит отлично, – сказал Дэниэл, хотя даже представить не мог, чего бы хотел еще меньше.
– Курс Гарри послужит для тебя хорошим началом в мире экономики, – сказал за ужином Питер, – солидным основанием для будущего. Не пересказать, сколькими способами экономическая теория может обогатить жизнь: от ведения своего бюджета до понимания, как управлять портфелем акций. Вот бы это сделали обязательным предметом для студентов.
Кэй спросила Дэниэла, как сегодня прошла пара Мелиссы. Мелисса – это профессор Шенкман, дородная дама в длинных платьях с рисунками в стиле восьмидесятых – геометрическими перехлестывающимися фигурами ярко-розовых и лавандовых цветов. Дэниэл помнил, как в детстве ходил к ней в гости, на летние барбекю с семьями других преподавателей.
– Хорошо, – ответил Дэниэл. На парах профессор Шенкман всегда спрашивала его, словно делала одолжение Кэй, помогала окупить обучение.
На ужин были брокколи и курица с пармезаном. Кэй хотя бы оставила свои попытки готовить китайскую еду. Периодически у нее вспыхивал энтузиазм – один раз после встречи с Хеннингсами, когда Элейн подарила ей кулинарную книгу, в другой раз – когда он ездил в недельный лагерь для китайских приемных детей, где вожатые студенческого возраста, тоже приемные дети, выступали с таким оголенным чувством, что ему становилось за них стыдно. Энджел тем летом научилась готовить до странности сладкие вонтоны, но он оказался в лагере единственным, кого усыновили не в младенческом возрасте и кто помнил родную мать.
Кэй стала с ним осторожнее, чересчур бережной. Он знал, что она волнуется, когда он ездит выпить, так что старался вернуться домой до полуночи – это было не так уж сложно: он не мог долго выдержать Эмбер и ее друзей. Он видел, что это успокаивает Кэй. Всё, что было нужно, чтобы осчастливить ее с Питером, – вернуться домой и поступить в Карлоу, пообещать ходить на собрания АИ.
После ужина Питер позвал Дэниэла наверх, в кабинет, где сидел на ковре с узлом компьютерных проводов и тихо насвистывал.
– Куда это вставляется? – Питер посмотрел поверх очков для чтения.
– Дай-ка. – Дэниэл взял кабель и попробовал несколько разъемов, пока на колонках не загорелся зеленый огонек.
– Ага. Присаживайся. – Питер убрал со складного стула какие-то старые счета, ввел адрес сайта и включил YouTube. – Смотри, тут самая разная музыка, и бесплатно. Недавно я смотрел запись концерта, на который ходил в 1978-м. Aerosmith в «Вор Мемориал Арена» в Сиракузах. Мне был двадцать один – твоего возраста. Можешь представить – увидеть через сорок лет концерт, на который ты сходишь сегодня?
Это был самый длинный разговор с Питером за несколько месяцев, не касавшийся лекций.
– Это его ты хотел сейчас посмотреть? Нашел себя в толпе?
– Нет, тут видно только сцену, и то едва-едва. Тогда видеотехнологии были примитивны. – Питер нажал «плей». – Но вот, ты послушай.
Это было видео с настоящей крутящейся пластинкой, с которой играла песня «1983… (A Merman I Should Turn to Be)» Джими Хендрикса. Дэниэл и Питер сидели и слушали, пока трек не замедлился до паузы и снова не разогнался. Ползучий, неторопливый.
– Гитара записана задом наперед и так долго раскачивается, – сказал Питер. – В те дни хорошую музыку умели делать и без компьютеров.
– Классный трек, пап. Один из лучших.
– Я слушал эту песню в детстве. В возрасте, в котором ты приехал жить к нам, в Риджборо. У меня было несколько пластинок, оставшихся от брата, когда он уехал в колледж. Мы жили в одной комнате, а после его отъезда я сидел на его кровати и слушал пластинки. Вот откуда у меня музыкальный вкус – от твоего дяди Фила. Говорят, любовь к первым песням остается навсегда. Как у тебя с Хендриксом.
– Я слушал музыку и до Хендрикса. – В городе была музыка, и много, и даже Хендрикс теперь ему казался каким-то ребяческим.
Под конец песня рассыпалась красными острыми блестками, фидбеком и звенящими колокольчиками. Смена тональности напоминала солнце, выглянувшее из-за облаков.
– Я работаю над новыми песнями, – сказал Дэниэл. – По крайней мере, пытаюсь. Тебе понравится – только гитара и вокал, никаких компьютеров. Очень отличается от того, что мы делали с Роландом.
Питер мягко похлопал Дэниэла по плечу.
– Я рад, что ты вернулся на учебу. Рад, что ты вернулся домой.
Как легко было подарить Питеру гордость, как Дэниэл изголодался по одобрению Питера.
– Знаю.
В «Фуд Лайон», куда Дэниэл пошел за продуктами для Кэй, он услышал оклик – «Эй! Уилкинсон!» – и увидел Коди Кэмпбелла в форме кассира, который махал из-за одной из касс. Коди казался более рыхлым, чем в школе, где занимался футболом; всё еще плечистый, но мускулы превратились в жир.
Дэниэл встал в очередь к Коди.
– Привет, Коди.
– Я слышал от Эмбер и Келси, что ты в городе. Так и думал, что тебя увижу.
– Чем занимаешься?
– Да всё тем же, всё тем же. – Коди просканировал пачку замороженного гороха. – Надеюсь скоро выбраться в Колорадо. У меня там пара приятелей. Помнишь Брайана Митчелла и Майка Эванса? Тоже едут. У Майка там живет брат, он говорит, у них легализовали травку. Можно пойти в магазин и купить всё что хочешь, как за продуктами сходить. Платишь кредиткой и угашиваешься, хоть прям на месте.
– Вау. Колорадо, значит?
– Ага. Пойдешь завтра в «Черную кошку»?
– Кажется, буду занят, – сказал Дэниэл.
На следующий вечер зазвонил домашний телефон, и Кэй позвала снизу: «Это тебя, Дэниэл». Он таращился на конспект по предмету профессора Шенкман. Срок сдачи последнего задания – трех коротких сочинений – был завтра, а он еще не приступал. Он попытался начать, но в итоге гуглил Psychic Hearts – узнал, что они играют в «Юпитере» в конце августа.
Он взял трубку в кабинете.
– Привет, это Коди. Не хочешь по пиву?
– Я бы с радостью, но – в другой раз.
Дэниэл уже собрался повесить трубку, когда Коди сказал:
– Эй, а ты еще куришь?
Они поехали на пруд в нижнем конце Седар-стрит, где устраивали гулянки в летние ночи в старшей школе. Коди остановился на опушке леса.
– Еще живешь с предками? – спросил Дэниэл, пока они обменивались трубкой. Он не видел ничего снаружи – обширная тьма, жуткая тишина. Он включил радио, где играла станция классического рока. Из динамика разнесся Pearl Jam.
– Да, но… – Коди щелкнул зажигалкой. – Я же скоро выбираюсь. А пока коплю.
Дэниэл затянулся еще раз. Через несколько секунд появилась знакомая приятная размытость. Он откинулся на пассажирском сиденье, думая, что стоит купить у Коди травку и прийти в класс накуренным.
– На Колорадо.
– Ну да. Деньгами разбрасываться не получается, понимаешь? Еще висит один должок, но я над этим работаю.
– Это мне знакомо. Долги.
– Отстой, чувак. На хер долги. – Коди забил трубку еще раз. Машину задушило дымом. – «Долбим в моем джипе», – пропел он на мотив Party in the USA. У него был не такой уж плохой голос.
– Неплохо. Альбом запиши. Мы с Роландом записали несколько недель назад, на студии в городе. «Меланхолия»? Не слышал? Группа – Psychic Hearts, мы играем 18 августа на концерте в «Юпитере». Это клубешник в городе.
– В Колорадо, – говорил Коди, – везде горы, короче. Можно жить на горе и гонять на работу на лыжах. Вот и я так буду. Не знаю, как ты жил в своем Говню-Йорке. Потусить прикольно, но там же воняет, как в толкане. Короче, я бы не смог жить в крошечной квартире, которая стоит девять тыщ баксов в месяц. Хочу дом на горе. Чтоб целый дом и чтоб на целой гребаной горе.
– Откуда ты взял девять тыщ баксов? Это только у звезд так. И где будешь жить?
– Чего? Я же говорю – в Колорадо.
– Ну, в смысле, в Колорадо. Где будешь жить в Колорадо.
– На горе! Я же говорю. Ты чем случаешь? Там, где живет брат Майка. В этом… Забыл, как называется город. А его зовут Крис.
– Когда ты у него был?
Просто бред какой-то. Дэниэла так и подмывало рассказать Роланду о накурке с Коди Кэмпбеллом на пруду внизу Седар, об экономике каждое утро с Эмбер Битбургер, но он не разговаривал с Роландом с тех пор, как тот выгнал его с репбазы. Роланд тоже с ним не связывался, но он скучал по нему, черт возьми, скучал, как скучал по метро, крышам и пению, хоть возвращение в Риджборо и стало неожиданной передышкой. Дэниэл избавился от ощущения, что он не на своем месте, изгнав себя в антиместо, в стоические одинокие ночи в спальне или в листание новостных журналов с Питером и Кэй.
– Я туда еще не ездил, Уилкинсон, я только картинки видел. Я же говорю, сперва надо накопить, расплатиться по долгам, но я с этим разберусь. Как ты. Надо воплощать мечты, а? – Коди поднял трубку. – Еще?
– Да, давай.
Чирикнул телефон Коди, сигнализируя о новом сообщении.
– Это Эмбер. Спрашивает, пойдем мы на их дебильный открытый микрофон в их дебильную «Черную кошку».
– Пошли. – Дэниэлу хотелось побыть с людьми, даже если это Эмбер и Келси. Он опустил окно, и радио заглушали сверчки и лягушки, но лес казался сумрачным, зловещим. Однажды в старшей школе Майк Эванс въехал в этот пруд на мопеде своего брата.
– Ты серьезно?
– Ну а что, возьмем по пиву, расслабимся.
Коди задумался.
– И правда пробило на выпить.
В заднем зале «Черной Кошки» – единственном открытом заведении на весь квартал заколоченных витрин – четыре человека среднего возраста играли кавер на Paradise City Guns N’ Roses. Эмбер и Келси помахали Дэниэлу со столика перед сценой.
– Вы нашли друг друга, – сказала Эмбер. – От вас пахнет бонгом.
– От нас пахнет Колорадо, – сказал Дэниэл.
– Готовишься к завтрашнему тесту, Уилкинсон?
– Какому тесту? – Дэниэл налил себе кружку пива из графина на столе. Группа перешла к гитарному соло, и вокалист – лысый и коренастый – стал трясти головой. Дэниэл рассмеялся. – Ну и отстой.
– Не так уж плохо, – сказала Келси.
– В городе их бы прогнали помидорами на половине песни.
– Guns N’ Roses – нормал. – Коди перекосил лицо и сыграл на воздушной гитаре. Его пальцы даже не были в нужных местах для воображаемых струн. – You’re in the jungle now! Пофиг, если отстой. Пофиг.
Келси вдруг взвизгнула:
– Боже мой, вы же близнецы!
Дэниэл опустил на себя взгляд. На нем были походные ботинки – даже посреди лета, потому что других у него не было. Такие же носил Коди. Оба стояли в синих джинсах и черных футболках.
– Ты, типа, азиатская версия Коди, – сказала Эмбер, и все рассмеялись.
Келси сфоткала на телефон. Коди сказал с фальшивой шепелявостью:
– Мы планировали наши костюмы вместе.
Вокалист завизжал. Хотя бы группе было весело.
Домой он вернулся за полночь, давно протрезвев, и лег на то же одеяло, которое здесь было, когда он впервые стал Дэниэлом. Те ранние месяцы в Риджборо были подозрительными, ворчливыми. Но в какой-то момент подыгрывать стало проще; это стало его второй натурой. Сомнения зарывались всё глубже, пока он их уже почти не чувствовал. К последнему году в старшей школе думать о Демине и маме было как думать об ужасной группе, которую он когда-то обожал, а теперь стыдно вспомнить. В старшей школе он потерял контроль только раз – после того, как увидел в торговом центре китаянку. Когда Кэй и Питер сказали, что он должен сидеть дома и готовиться к выпускным экзаменам, а не идти на концерт с Роландом, Деминь ответил, что настоящая мать его бы отпустила. Это выскочило само по себе, и «настоящая мать» была абстракцией: она бы тоже наверняка заставила его сидеть дома. Он не хотел обидеть Кэй и Питера, но разозлился из-за несправедливости – если он пропустит концерт, то, может, уже никогда не увидит эту группу! – и Кэй поморщилась и сказала, что это не конец света. «Это мы твоя настоящая семья», – сказал Питер.
Тогда тайна того, что случилось с его настоящей семьей, была слишком неподъемной. Но теперь он всех нашел – и ничего не изменилось.
Придется сидеть всю ночь, чтобы дописать сочинения. Последнюю его работу Шенкман вернула исчерканной красной ручкой. Он ввел в пустом вордовском доке свое имя, дату. Курсор мигал, глядя на него, пока он перечитывал первый вопрос:
Приведите две основные теории, характеризующие роль групп интересов в политике США. Опишите выводы этих теорий применительно к механике законодательного процесса.
Он вздохнул. Он больше ни разу не видел парня, который играл в покер на экономике; Эмбер сказала, что его могли отчислить. Дэниэл закрыл ноутбук и решил взяться за гитару. Назревало что-то новое – и не сочинение, которое он должен был писать, а песня, над которой он работал перед тем, как уехал из города.
Два часа спустя, вернувшись к сочинению, он увидел имейл от Энджел. Он время от времени слал ей сообщения, но ответила она впервые:
Дэниэл, ПОЖАЛУЙСТА, не пиши мне больше. Желаю тебе всего лучшего.
Э.
Он перечитал. Она желала всего лучшего. Это доказывает, что он ей еще не безразличен, иначе бы она вообще не потрудилась написать. Он вспоминал ее чистый низкий голос, без пронзительности или напускных эмоций, и изнывал по ее решительности, ее практичности; он будет писать, пока она не поймет. Потому что вот в чем он изменился: он потерял мать и Роланда – то, из-за чего чувствовал себя никчемным и ненужным. Но это его не уничтожило.
Значит, он будет стараться для Энджел. Учеба, оценки, карьера покажут ей, что он может взять себя в руки. Ей просто придется его простить. Он нажал «ответить» с проблеском надежды: «Для тебя я стану лучше».
Открытка была пастельно-голубого цвета, в клеточку. «Дорогой папа, – написал он. – Поздравляю с Днем отца. С любовью, Дэниэл».
– Я тут думала, – сказала Кэй, сидя рядом с Дэниэлом за кухонным столом. – Раз у нас День отца и всё прочее.
Он убрал открытку в конверт, облизал и запечатал, надписал «Папе».
– Просто День матери для меня всегда был немного некомфортным. Я ценю, что ты всегда даришь нам открытки. Но могу предположить, что для тебя это тоже не самые приятные праздники?
– Я не против.
– То есть когда ты был моложе, я думала, что просто не заслуживаю поздравления, что для меня как для приемной матери это, не знаю, неправильно. Элейн тогда мне сказала – просто смирись. Дэниэлу не будет пользы от родителя, который сомневается в себе. Тебе нужна была мать, и если не я, тогда кто? – Кэй провела пальцами по краю стола. – Когда ты только к нам приехал, я всё время сомневалась.
Дэниэл сдвинул пустую тарелку от бутерброда. Питер был наверху, в кабинете; нужно проводить больше времени с ним. Сегодня же День отца.
Глаза Кэй переместились с лица Дэниэла на стену, на кухонное окно.
– Мы так боялись, что что-нибудь делаем не так. Мы думали, будет лучше, если ты сменишь имя, чтобы ты почувствовал, что твое место здесь, в нашей семье. Что у тебя есть семья.
Дэниэл никогда не понимал, чего хочет Кэй – чтобы он извинился или успокоил ее. Так или иначе, он всегда чувствовал вину, будто не оправдал каких-то ожиданий.
– Мам. – Ему не хотелось видеть, как она плачет, особенно из-за него. – Всё хорошо.
Кэй встала, и он услышал, как она открывает ящик шкафчика в столовой. Она вернулась, положила на стол толстый манильский конверт.
– Что это?
– Это все документы о твоем усыновлении. Корреспонденция с агентством, наши анкеты. Я давно хотела их тебе отдать.
Дэниэл открыл конверт и пролистал стопку бумаг, увидел бланки и имейлы, которые читал десять лет назад.
– Спасибо.
Там не было ничего, чего он еще не видел.
– Твой отец был против того, чтобы я их отдала. Он сказал, это только разворошит дурные воспоминания, но я настояла.
Дэниэл посгибал металлическую защелку конверта.
– Вообще-то я кое-что знаю. Я должен тебе рассказать. Недавно я нашел свою мать – в смысле, родную мать. Она в Китае.
Он рассказал Кэй о том, как его мать ушла на работу и больше не возвращалась, как полгода спустя Леон уехал в Китай. Как Вивиан отдала его под чужую опеку. Что его мать, возможно, депортировали.
У Кэй был вид, будто ее ударили.
– Я с ней разговаривал, – сказал он наконец. – Два раза.
– Что она сказала? Как это было? – Улыбка Кэй дрожала по краям – такая натянутая, словно от нее было больно.
– Хорошо, хотя и немного странно, и мой китайский заржавел, но мы смогли понять друг друга. Она живет в Фучжоу, замужем, работает учительницей английского.
– Ты будешь звонить ей еще?
– Может быть.
Кэй взяла конверт и постучала по столу, разравнивая бумаги внутри.
– Кстати, – сказала она. – Недавно у меня состоялся любопытный телефонный разговор. С Чарльзом, парнем Энджел.
– Да?
– Он сказал, что ты занял у Энджел деньги и не вернул. Я спросила, почему он мне об этом говорит, и он ответил, что мне стоит спросить тебя. И вот я спрашиваю.
Дэниэл попытался распознать в заявлении Кэй обвинение, ожидает ли она от него худшего, что он за Дэниэл в ее глазах – тот, который облажался, или тот, о котором надо заботиться.
– Наверно, она рассказала ему об одном случае, когда мы встречались в городе. Я был без налички, и пришлось занять, чтобы расплатиться за ужин.
– Непохоже. Чарльз говорил так, будто это что-то серьезное. И что она рассказывала на дне рождении Джима про вора?
– Ничего серьезного. Он выдумывает.
– Но зачем ее парню звонить мне и выдумывать такие вещи? Объясни, будь добр.
– Тут нечего объяснять. Кто знает, может, он вообще ревнует. Что мы с Энджел такие хорошие друзья. Бывают такие парни.
Дэниэл видел в выражении Кэй ту же смесь боли и подозрения, как когда она узнала о его отчислении из Потсдама. Он поднялся, взял конверт.
– Но ты мне напомнила, что я не отдал деньги Энджел. Сделаю это прямо сейчас, с компьютера.
На экзаменах первой половины летних курсов он сдал оба предмета – три с плюсом по сравнительной политологии и четыре по микроэкономике. Вторая половина продолжалась в том же безрадостном духе: макроэкономика по утрам, американская история – днем. В конце июля пришло одинокое сообщение от Роланда – спрашивал, как он поживает. Дэниэл ответил, поздравил Роланда с концертом в «Юпитере» и пожелал ему всего лучшего, повторяя пожелания Энджел из ее имейла – как оказалось, неискренние, раз потом она натравила на него Чарльза.
Тем вечером он попросил у Питера его «вольво» и катался по округе в одиночестве. В городе он скучал по вождению – под одной рукой твердый руль, вторая болтается из открытого окна с густым воздухом между пальцев, машина легко скользит по изгибающимся двухрядным дорогам. Он вспомнил ночную поездку с Роландом в выпускном классе – до самого Бостона, когда они попивали кофе с заправки и подпевали сборникам на дисках. Они собирались в гости к другу, но решили выехать на шоссе и просто продолжать ехать на восток – не вынесли очередной вечер субботы в Риджборо, – а когда добрались до Бостона, позавтракали в закусочной – вафли, блинчики и западный омлет, яркое зимнее утро со снежными порывами. Дэниэл наблюдал за бегунами в теплых спортивных костюмах на мосту над рекой Чарльз, за студентами в свитерах и шарфах, с большими чашками кофе. Он мечтал о том, чтобы выбраться из дома и жить самому по себе, о жизни, которая ожидала, стоит уехать из Риджборо. Чтобы быть свободным – так, как он уже был свободен, если послушать Майкла.
Теперь он петлял по городу без цели, с подключенным к динамикам телефоном, перескакивал с песни на песню и с альбома на альбом, сменял треки каждые несколько секунд – ему надоела вся его музыка, пять тысяч песен, а послушать нечего, – вдруг музыка затихла.
Он остановился на обочине. Либо сдох аккумулятор телефона, либо отошел провод. Он опустил окна и услышал партии стрекочущих сверчков, открыл дверь и вышел на улицу. Дома в отдалении, редкий свет, поляна на углу, с высокой травой, которую он примял ногами. Здесь они с Роландом учились кататься на одном колесе. Он замер, впитывая ночь.
Так долго ему казалось, что если он во что-то и может верить, так это в музыку: гармония, угловатая подмелодия и рокочущие барабаны – не настоящее, не будущее, а просто пространство, населенное продолжительностью песни. Ведь у песни есть собственное сердце, песня могла завести или подарить покой; только музыка могла оглушить его сильнее, чем трава или алкоголь. Вместе с Роландом он хотел заполнить тишину других людей, затопить их мысли и заменить звуком. Не столько коммуникация, сколько вторжение и разорение. Это ему нравилось. Но, пока он стоял на темной улице, напряжение внутри отпускало, а сверчки утешали насчет того, что он покинул город, насчет того, что он оттолкнул мать прежде, чем она сказала ему правду.
Теперь по ночам Дэниэл оставался дома. Делал домашку, придумывал песни, с конденсаторным микрофоном записал пару треков на компьютере Питера, где пиратская версия Pro Tools работала быстрее, чем на его ноутбуке. Песни, которые писал он, не были похожи на те, что они играли с Роландом. В них не хватало структуры, они не работали на предсказуемом уровне. Они были слишком голыми, слишком уязвимыми, слишком откровенными, чтобы прикидываться крутыми. Ему уже не хотелось делать музыку, которая навязывается человеку или пытается казаться тем, чем не является. Сложностью здесь было не перемудрить, а оставаться честным, беззащитным. На парах, пока профессор Николс нудел о переменных X и Y, он сочинял тексты; он как будто растапливал иней на лобовухе – под туманом рано или поздно проявится прозрачное стекло.
В дальнем углу своего чулана он нашел стопку кассет. На одной был ярлык с надписью фломастером: «Некромания: “Мозги на колу!!!!”» Он вспомнил, как они записывались на старый кассетник мамы Роланда, еще в его первый год в Риджборо: вдвоем вопили под трек с тремя аккордами, который скачали из интернета. Он положил кассету в мягкий конверт с запиской: «Помнишь, как мы джемили?» – и послал почтой в квартиру Роланда.
В пятницу вечером, в августе, он был у Коди, в подвале Кэмпбеллов, смотрел бои без правил. В эти дни он разговаривал только с Коди, не считая Питера и Кэй. Эмбер не доучилась до конца лета – уехала в гости к родным в Коннектикут.
Матч кончился, парень в красных шортах стоял над распростертым телом парня в черных шортах. Кровь стекала по лицам обоих.
Дэниэл скинул треки, которые сводил на компьютере Питера, на свой телефон.
– Хочешь послушать, над чем работаю?
Коди оглянулся.
– Выключишь звук на секунду?
– Погоди. – Коди подождал, объявит ли ведущий что-нибудь важное. Когда матч сменился на рекламу, он выключил звук.
Дэниэл достал телефон. Услышал первые знакомые ноты, гитару, собственный голос – металлический и монотонный в микродинамике. Звук был слишком плохим, чтобы разобрать большинство слов.
– Это ты? – спросил Коди.
– Ну да. – Песня не нуждалась в изменениях или переработке. Не важно, будет он с ней выступать или нет. Это было ровно то, чего он хотел.
– Ты изменился, Уилкинсон, – сказал Коди, когда песня закончилась.
– В чем?
– В школе ты был весь такой… – Коди набычился, поднял плечи и уставился в пол. – «Отварите от меня, свороци», – сказал он. – По-английски почти не говорил! А теперь весь из себя американец.
– Ты чего несешь? Говорил я по-английски.
– И ты называл это английским?
– Пошел ты, Коди. Иди ты.
– Тебе бы барабанщика, – сказал Коди, когда Дэниэл направился к двери. – Как у тех мужиков на открытом микрофоне в «Черной кошке». Они жгли.
Он не мог заснуть, решил посидеть на веранде. Пока искал телефон, заметил конверт Кэй, прихватил с собой на улицу. Под лампочкой на крыльце он прочитал распечатку отчета о слушании по перманентному усыновлению:
Патронатные родители планируют подать заявление на лишение матери родительских прав на основании оставления ребенка и уклонения от выполнения обязанностей.
Он перевернул конверт и потряс, пока на колени не выпало всё содержимое. Тут же было заявление об отказе от родительских прав с подписью Вивиан. «Неопределенный срок». Еще один бланк с ее подписью – разрешение на передачу патронатным родителям. Был среди бумаг конверт поменьше, где лежала академическая справка с его отметками в школе № 33. В пятом классе он получал тройки и двойки. Записка от его классной руководительницы, мисс Торелли, с рекомендацией о переводе в коррекционный класс. Еще одна записка о том, что его оставляли после уроков 15 февраля. Он подделал подпись матери на последней строчке и, видимо, даже не сдал в школу после ее исчезновения.
К одному бланку скрепкой была приложена черно-белая фотография с ним и матерью. Нижняя часть фотографии – нарисованная иллюстрация Эмпайр-стейт-билдинг, статуи Свободы и желтого такси с пучеглазым жирафом за рулем, а также подпись «Саут-Стрит-Сипорт». Он был малышом – толстощеким и с завитком темных волос, – да и мать выглядела как ребенок, моложе, чем он ее помнил. Это была его единственная детская фотография, которую он видел, и единственная фотография с ней. Почему Питер и Кэй не отдали ее раньше?
Он поднес ее к лицу, представил, как Вивиан собирает для него одежду, находит бланк об оставлении после уроков, звонит в школу и просит академсправку, обыскивает вещи матери и раскапывает фотографию. Она положила ее в общую кучу для него – единственное напоминание о матери, которое сунули со всем остальным в конверт и передали в соцслужбу. Но кто всё это делал, Вивиан или Леон? Или его мать, вдруг она приложила к этому руку? Он рассмотрел все возможности. Его мать была в тюрьме. Была депортирована. Любила его. Не переживала за него. Можно поставить так, а можно наоборот – одна и та же нота звучала по-разному, смотря как слушать. Можно всё сделать правильно, но всё равно чувствовать себя не так.
Он нашел ее номер – всё еще в списке контактов, – и позвонил в последний раз. Она не ответила.
На следующий день он записался на осенние предметы, которые предложили Питер и Кэй, а когда Кэй спросила: «Ты же расплатился с Энджел?» – он сказал, что да.
Чтобы отметить его окончание летней учебы с проходным баллом, Питер и Кэй повезли Дэниэла в «Риджборо Инн», куда ездили и на его школьный выпускной, и на публикацию книги Кэй, и на повышение Питера до заведующего кафедрой после ухода Валери Маклеллан. «Риджборо Инн» была темной пещерой с деревянными балками и подобострастными пожилыми официантами в тяжелых бордово-золотых ливреях, с меню в тех же расцветках, где орнаментальным курсивом перечислялись блюда: стейки, котлеты и французский луковый суп. Это был единственный ресторан в округе Риджборо, где можно почувствовать себя в своей тарелке, если прийти в пиджаке и галстуке.
Питер заказал бутылку мальбека. Официант наполнил бокалы, и Питер поднял свой. «За Дэниэла и возвращение на праведную стезю. За начало твоей оставшейся жизни».
Дэниэл взял у Питера галстук и надел свой единственный пиджак – рукава теперь были короткими, а плечи висели. Он без конца поправлял галстук, одергивал рукава. Даже штаны стали теснее, чем несколько месяцев назад, – теперь он водил вместо того, чтобы ходить пешком.
Праведная стезя увела от края пропасти. Питер и Кэй лучились улыбками. «Мы тобой гордимся», – сказала Кэй.
Он подул на суп, разломал ложкой корочку хлеба. Поднялась нитка дыма – еще горячее. Он положил ложку на стол – она с блеском уставилась на него, словно немой вопрос.
Рядом кружил официант, предлагая поперчить салат. На столах мерцали маленькие свечки, но из-за бордовых обоев и тяжелых штор в помещении было как-то темно и холодно. На стенах висели картины в барочных латунных рамах – портреты мужчин в военных мундирах, женщин в длинных платьях, с чопорными и строгими выражениями, пейзажи с круглыми холмами и плакучими ивами, белыми фермами вдалеке.
– Это знаменитая старица Риджборо. – Питер прищурился на картину с лугом, где сбоку была река.
– Никого на ней не вижу, – сказал Дэниэл.
– Не старик, а старица. Это изгиб реки. Видишь, она сворачивает и потом возвращается на курс. Должно быть, на этой картине изображен бывший участок Уилкинсонов. Дедушка упоминал о нем в семейной истории, которую написал перед кончиной. – Голос Питера поднялся. – Когда-то этой землей владел твой прапрадед. Он растил овощи, разводил лошадей. Он был истинным предпринимателем. Джейкоб Уилкинсон.
Дэниэл снова опустил ложку в суп. В громоздких серебряных приборах, картинах с ушедшими людьми и местами была какая-то тихая печаль. Он – последний из Уилкинсонов, единственный потомок. Его единственные двоюродные братья – со стороны Кэй, и они носили фамилию дяди Гэри. Питер говорил так, будто быть последним в роду – великая ответственность: надо сделать что-то особенное, соответствовать родословной Джейкоба Уилкинсона. Человека, с которым у него не было ничего общего, который, будь он жив, вряд ли бы признал Дэниэла за настоящего Уилкинсона.
Ложка смотрела на него, а он смотрел на металл, надеясь увидеть свое отражение, но было слишком темно, чтобы разглядеть что-то кроме супа.
В ночь перед первым днем осеннего семестра Дэниэл редактировал трек на компьютере Питера. Его голос звучал странно, слишком резко, слишком напористо для мелодии.
Шкафы в кабинете хранили горы книг с солидными обложками и длинными названиями про демократию и открытые рынки. Экземпляры книг самих Питера и Кэй занимали половину полки. Он уже когда-то их доставал, читал авторские биографии и видел фотографии. Книга Питера посвящалась Дэниэлу и Кэй; книга Кэй – Дэниэлу и Питеру. На стене над компьютером висели их дипломы: у обоих – бакалавриат, магистратура и докторантура. Дэниэла окружали доказательства и других их достижений – награды, статьи, рецензии на книги в академических журналах. Он снял наушники. Песня не шла.
Дэниэл прошел мимо комнаты Питера и Кэй, убедиться, что они еще спят, потом вернулся в кабинет и заперся. Повторяя себе, что ничего не включится, – он и пробует, только чтобы в этом убедиться, – он ввел в браузере BigPoker. С участившимся дыханием добавил.com и нажал «энтер». Он помнил старый аккаунт, которым почти не пользовался и о котором не рассказал Питеру с Кэй. Загрузилась главная страница, и вид зеленого заднего фона и цифровых карт был как встреча с бывшей. На забытом счету оставалось пятьдесят долларов. Он только сыграет разок и выйдет, а потом всё удалит.
Он начал на столе дурачков – вроде того парня с экономики, – и кто-то по имени «Трубкозуб Техас» пошел ва-банк с парой дам, – Дэниэл коллировал с парой тузов на руках, но потом не смог остановиться на пике. Одна игра превратилась в две, потом в турнир, потом в другой, и его счет поднялся до сотни долларов, потом трех, потом пяти. Он приплясывал в кресле, слушая перезвон фишек и карт, ошалелый от восторга, пока не почувствовал на плече чью-то руку.
– Я стучал, – сказал Питер.
– Пап? – Сердце подпрыгнуло, но он ничего не мог с собой поделать – повернулся к экрану, чтобы убедиться в выигрыше. Счет увеличился. На глазах у Питера Дэниэл победно ударил кулаком в воздух.
В этот раз Питер был спокоен, словно не удивился.
– Ну ладно. На этом хватит.
Было семь утра. Дэниэл собрал рюкзак – тот же, с которым ездил в город, – но гитару оставил в комнате. Потом попросит прислать ее туда, куда его занесет.
Кэй сидела за столом на кухне и пила чай. Под глазами, опухшими от слез, были темные полумесяцы.
– Не попросишь меня остаться?
Она покачала головой:
– Я получила имейл от Элейн.
Он подтянул сумку на плечо.
– Можно не провожать.
Он ничего не запомнил из перелета – только темноту, качку, потом как через девятнадцать часов проснулся на солнечном свете, бьющем в окно, как сошел с самолета во влажный полдень, а целые сутки уже пропали. Одинокую взлетную полосу окружали ухабистые улицы, длинная полоса из песка и камней – будто аэропорт сбросили в песочницу. Вокруг на гиперскорости носились слова – грубее и гортанней, чем те же диалекты в Нью-Йорке.
Кружили, как падальщики, мотоциклисты. «Фучжоу! – рявкали они. – Фучжоу!» Он сделал шаг – и перед ним затормозило и закричало три мотоциклиста. «Садись, быстро», – сказал первый, и Дэниэл устроился на сиденье и поправил лямки рюкзака, когда мотоциклист ускорился и они полетели вперед. «Хватайся», – сказал парень. Дэниэл обхватил его талию руками, откашливаясь от выхлопных газов, пока они неслись по улицам. Он видел, что другие мотоциклисты и пассажиры носят маски.
– Куда едешь? – спросил мотоциклист.
– Фучжоу, – прокричал Дэниэл.
– Куда в Фучжоу?
– В центр?
– Площадь Вуй.
– Ага, – сказал Дэниэл.
Они пролетели по длинной дороге – пустой, не считая редких грузовиков. Дэниэл сплевывал гравий и пыль, и ветер сдул плевок обратно ему на джинсы. Он не мог отцепиться от водителя, так что пятно так и оставалось на бедре, дразнило, распространялось. Зеленые поля и холмы перемежались скоплениями зданий. Деревья с узловатыми стволами и перистыми листьями казались старше, дружелюбнее, чем сосны и дубы на севере Нью-Йорка.
– Ты откуда? – спросил мотоциклист, когда поля уступили высоким зданиям.
– Америка.
– Ха!
– Нью-Йорк.
– Китаец? – спросил мотоциклист.
– Да.
– Из Кантона?
– Из Фучжоу.
Мотоциклист как будто фыркнул.
– Нет.
– Да. Моя мать из Минцзяна.
– Хм.
Четырехрядная дорога была закупорена машинами и автобусами. Водитель замедлился, окруженный непроходимой массой трафика, гудящего в унисон, потом закурил – дым поплыл прямо в лицо Дэниэлу. Светофор сменился на зеленый, мотоциклист выбросил сигарету на асфальт и ускорился, пока Дэниэла жестко подбрасывало сзади.
Он высадил Дэниэла на оживленной улице рядом с «Пиццей Хат» и торговым центром.
– Знаешь здесь какой-нибудь отель?
– Там, – сказал мотоциклист, показывая на другую сторону эстакады и круговой развязки. У него было прыщавое детское личико, и Дэниэл понял, что они примерно одного возраста.
– Сколько?
– Сто пятьдесят юаней.
Дэниэл достал две сотенных банкноты из пачки, которую получил в обмене валюты в аэропорту.
– Смешно говоришь. – Мотоциклист вернул сдачу Дэниэлу. – С кантонским акцентом.
Только когда Дэниэл расплатился за номер в отеле «Мин» – шестиэтажном здании с оранжевым паласом, – он осознал, что мотоциклист дал только десять юаней сдачи.
Его номер был на третьем этаже в конце длинного коридора, с двумя полутораспальными кроватями – дороже, чем односпальными. Это единственный свободный номер, сказала клерк, а Дэниэл слишком устал, слишком стеснялся своего акцента, чтобы спорить. Он заполз на ближайшую к окну кровать, где простыни и подушки пропахли сигаретным дымом, хотя он и просил номер для некурящих. Он позвонит ей, когда будет говорить внятней. Может быть, тогда его не будут принимать за кантонца.
Проснулся он через три часа – голова болела, в комнате темно. Если верить часам на стене, только начинался вечер, и, когда он раздвинул шторы, на улице еще было светло. На дороге внизу простаивала череда автобусов. Перед «Пиццей Хат» была толпа. Ошеломленный происходящим, он сел на кровать. Посчитал, который час в Нью-Йорке, как давно он ел. Включил свой телефон и позвонил матери, но звонок не прошел. Попробовал еще раз – с тем же результатом. В отеле не было беспроводного интернета, так что он не мог погуглить, нужно ли набирать какой-то код. Он попытался еще раз с телефона у кровати, но в итоге только услышал автоматическую запись, которая сказала, что он не может осуществить звонок. Снова началась планета Риджборо.
– Надо набирать вот этот код, – сказала клерк, когда он спустился к ресепшену.
– Даже для… звонка рядом?
Брови девушки напоминали знаки вычитания.
– Ваш мобильный здесь не работает, – сказала она. – Если позвоните с телефона в номере и введете этот код, звонок пройдет. Мы переведем плату за звонки на ваш счет, если дадите свою кредитную карточку.
Дэниэл пытался расшифровывать быструю речь девушки, хватаясь за слова для ответа. Достал кредитку. Он уже оплатил перелет; пара телефонных звонков мало что изменит.
Он вернулся в номер и снова набрал номер матери с телефона у кровати. В этот раз он попал на ее автоответчик.
– Мама, это Деминь. Я в Фучжоу и хочу с тобой встретиться. Я остановился в отеле «Мин» на площади Вуй, номер 323. Пожалуйста, перезвони. – Он оставил телефонный номер отеля и отправился на поиски ужина.
Фучжоу пах, как барбекю осенью. Окна зданий напоминали ему глаза, следившие за его блуждающим путешествием. Некоторые здания были широкими и округлыми, с длинными полосами окон, словно на стены наклеили серый скотч, другие – высокими и тощими, с крышами острой или плавной формы. Некоторые были похожи на раскрытую открытку на столе, распахнувшую для него объятия. Другие еще не достроили – их верхушки казались скелетными клетками лесов, а с расстояния они напоминали кучку разномастных игрушек. Дэниэлу больше нравился беспорядок, чем порядок, деревья между зданиями, чьи листья касались низких крыш старых домов. Город как будто пытался подняться выше от земли, но никогда в этом не преуспеет. Это был город – темная лошадка, амбициозный, жадный и неразборчивый, такой стихийный, что в одну ночь мог рухнуть и перестроиться уже на следующее утро.
Звуки Фучжоу были глубоких желтых, синих и оранжевых цветов. Вокруг гремели фучжоуский и мандаринский – плей-лист его бессознательного, – и даже в непонятные слова и фразы он, казалось, падал, как в теплую ванну. Ни полслова по-английски, нигде; ни на уличных знаках, автобусных остановках или билбордах, ни в услышанных голосах, ни в музыке из такси. Причудливо, сюрреалистично – завихрение знакомых звуков на таких незнакомых улицах. Он никогда не был в Фучжоу, но уже знал это место. Его мозг силился оставаться начеку, а он повторял про себя по-английски: «Я в Китае! Я в Китае!»
Он увернулся от мопеда, несущегося по тротуару, и в него чуть не врезался велосипедист. Когда он остановился, позади закричала женщина: «Шевелись!» Он нырнул в ближайший магазин, чтобы сориентироваться. После недолгих усилий вспомнил слово «карта» и купил карту города, но, развернув, обнаружил, что все названия улиц написаны китайскими иероглифами, и ничего не смог прочитать.
Он увидел семью, направлявшуюся на кривую боковую улочку, почти спрятавшуюся среди высоток, и последовал за ними вдоль каменной стены с плакатами, поучавшими, как важно мыть руки после того, как чихнул. Переступая через лужи с масляным пятном в центре, он вышел во двор. Шум от площади Вуй исчез, и здания напомнили ему дома на 3-й улице – двухэтажные, с кирпичными стенами и висящим бельем. Играли дети, пока на пластмассовых стульях сидели старушки, обвевались газетами и обсуждали, что дочь таких-то выходит за сына таких-то. В домах он видел семьи, которые готовили или уже ужинали. В горле встал ком.
Она нашел лапшичный лоток между двумя домами и взял миску вермишели в свином бульоне с овощами, радуясь, что никто не прокомментировал его фучжоуский. Появилась еда, и он ее проглотил, запивая чашками водянистого чая, пока головная боль не улеглась. По дороге в отель он заблудился, сделал долгий крюк вокруг стройплощадки с жуткими полуразрушенными сооружениями, а когда нашел площадь Вуй, уже стемнело.
В номере – никаких новых сообщений. Дэниэл долго стоял в душе, наполняя спальню облаками пара. Снова позвонил матери, оставил еще одно сообщение, потом лег. Проснулся в семь утра, в раскрытые шторы струился свет. Она не перезвонила. Где-то за глазами тяжело ныло. Сюда он добрался, но она не хотела его видеть, а ему не к кому было пойти.
Два дня назад он покинул Риджборо с девятьюстами шестьюдесятью долларами на банковском счете. Во время затишья в полуночной драме с Кэй и Питером он быстро обналичил выигрыш в игре, купил билет на рейс в Фучжоу из аэропорта Сиракуз на следующее утро и удалил аккаунт. На углу Оук-стрит в семь утра он позвонил Коди.
– Можешь сделать мне большое одолжение? – сказал он. – Меня нужно подбросить в аэропорт.
Коди приехал на джипе с прощальным подарком на дорогу – пакетиком сильного обезболивающего, который достался ему по рецепту после недавнего удаления зуба мудрости. Зарегистрировавшись в аэропорту и пройдя все проверки за шесть часов до вылета, Дэниэл сел у пустого гейта и осознал, что его трясет. В конце концов он так и не смог сделать то, что от него хотели Питер и Кэй. Еще три семестра и аспирантура. Жизнь на севере. Не смог он и поступать так, как хотел Роланд, – играть музыку, которую хотел играть Роланд. Если бы он мог просто лично поговорить с матерью, может, тогда бы он понял, кем должен быть.
Теперь, в отеле, он жалел, что не спросил ее адрес. Он знал только то, что она говорила по телефону: она живет в районе под названием Уэст-Лейк и работает в школе, где преподают английский. Он позвонил и оставил еще одно сообщение, спустился на лифте в лобби.
– Можете поискать для меня адрес? – попросил он клерка. – Полли Гуо. Или Пейлан Гуо. Она живет рядом с Уэст-Лейк.
Может, она сменила фамилию после свадьбы, но он не знал, как зовут ее мужа, – только то, что ему принадлежит текстильная фабрика.
Единственный телефонный справочник на стойке был пятилетней давности. Клерк листала страницы.
– Гуо… Гуо. – Она вела указательным пальцем по именам. – Не вижу Полли или Пейлан. Есть Пен, Пан… Есть Гуо со звуком «П» в начале имени, но их адреса слишком далеко от Уэст-Лейк-парка.
– А вы знаете поблизости школы английского?
– Хотите учить английский? – спросила клерк.
– Эм-м… да.
– Моя подруга ходит в школу рядом с шоссе. Могу спросить у нее.
– Это рядом с Уэст-Лейк?
Клерк выдвинула ящик и достала карту автобусных маршрутов.
– Смотрите, мы здесь, – показала она. – Уэст-Лейк-парк здесь. – Она провела по городу линию, палец остановился на зеленом квадратике. – Можете поехать этим автобусом – остановка в двух кварталах отсюда.
Дэниэл спросил, можно ли как-нибудь выйти в интернет. Он мог бы поискать школы английского языка, перевести китайский текст на английский в онлайн-переводчике, обзвонить их и спросить, не работает ли у них Полли или Пейлан. Клерк сказала, что недалеко есть интернет-кафе, но оно откроется только через час-два.
– Хотите позавтракать? – Она показала на дальний угол лобби, где за перегородкой стояли столики, и сказала, что завтрак входит в стоимость номера.
Там уже сидели мужчины и женщины в одинаковых зеленых рубашках. Дэниэл занял место рядом с парнем с жидкой бороденкой, напротив пары, говорившей по-мандарински. Подошел работник отеля и спросил, в каком номере он живет, сверился с блокнотом и принес поднос с миской водянистого конджи, блюдцами с солеными орешками и маринованными овощами и пачкой соевого молока с тоненькой соломинкой. Дэниэл снял с миски пластиковую пленку и съел одну ложку. На вкус – как вареный картон.
За столом не доел никто.
– Вы вместе учитесь? – спросил он.
– Мы в туре, – сказала женщина напротив. – Десять городов за пятнадцать дней.
Парень с бородкой посмотрел на кашу Дэниэла.
– Не ешь эту миску геморроя. Дальше по дороге есть пекарня. Мы идем туда.
Дэниэл рассмеялся.
– Конджи и правда на вкус как жопа. – Он любил ругаться на китайском – широкий выбор, недоступный на английском. Слова «карта» и «компьютер» он вспоминал с трудом, но ругательства – те отскакивали от зубов.
Он отодвинул поднос и встал. Увлеченный поисками матери, он забыл кое-кому позвонить. «Хорошего тура», – сказал он. Пошел наверх и набрал номер второго по мастерству матерщинника из всех, кого он знал, – уступающего только его матери.
– Что ты делаешь в этом поганом отеле? – кричал по телефону Леон.
Следуя указаниям Леона, он сел в автобус на другой стороне шоссе и прошел по менее населенным улицам, чем площадь Вуй. Леон жил в здании в форме кирпича, с бетонной отделкой: по пять квартир вдоль каждого этажа, металлические поручни вдоль галерей – одна большая прямоугольная сетка. Дэниэл прошел по гравийной стоянке и поднялся по лестнице. Галереи были заставлены велосипедами, пластмассовыми холодильниками, пляжными мячами и цветочными горшками. Перед одной квартирой в шезлонг детского размера втиснулся гигантский плюшевый мишка с ярко-синим мехом.
Дэниэл позвонил в квартиру номер девять. К поручню напротив двери был пристегнут розовый трехколесный мотоцикл, украшенный наклейками с персонажами мультфильмов. Он услышал шаги, звук щеколды.
– Ты здесь! – Волосы Леона были всклокоченными, они стали седыми, грудь и плечи – тоньше, но ухмылка – всё та же.
– Привет, Леон, – сказал Дэниэл, не в силах подавить собственную улыбку.
Домашние растения свисали с потолка, стояли в шкафах, на столах и подоконниках, их длинные зеленые стебли тянулись вдоль стен. Дэниэл прошел за Леоном через главную комнату на кухню, где за столом женщина читала газету.
– Это моя жена, Шуан, – сказал Леон.
– Здравствуй, Деминь, – сказала Шуан. – Рада наконец с тобой познакомиться.
Еще за столом была маленькая девочка – с широкими губами Леона и узким лицом Шуан. Она болтала ногами в разные стороны, попеременно стуча по металлическим ножкам стула в ритме 2–4. Она согнулась над раскраской, ее хвостик болтался, пока она сосредоточенно сжимала синий мелок.
– Йимей, – сказал девочке Леон. – Поздоровайся с двоюродным братом, Деминем.
Она подняла взгляд.
– Ты мой двоюродный брат?
– Привет, Йимей, – сказал Дэниэл. – Что рисуешь?
– Принцессу. – Она отпила из пачки яблочного сока на столе. – Она ест бутерброд.
– На автобусе доехал без трудностей? – Шуан показала на стул рядом с собой.
– Легко, без проблем.
– Я говорила Леону съездить за тобой на такси. Сказала: он проделал такой путь, а ты заставляешь его ехать на автобусе? Он же может заблудиться.
– Деминь разбирается в автобусах. – Леон прислонился к косяку. – Он же живет в Нью-Йорке. Зачем брать такси, если быстрее и дешевле – на автобусе?
Шуан покачала головой, но Деминь видел, что она смеялась.
– Останешься на ужин и переночуешь в комнате Йимей. Она будет спать в нашей кровати.
– Правда? – спросила Йимей.
– Да, будешь спать с йи ма и йи ба.
– Это для нее в радость, – сказал Леон.
– Я не хотел утруждать. Я уже заплатил за отель.
– Ты шутишь? Не каждый день самый лучший сын приезжает в гости из Америки, – сказал Леон. – Оставайся сколько хочешь.
Дэниэл покраснел.
– Ну что ты за хозяин, – сказала Шуан. – Предложи гостю выпить.
Леон достал из холодильника две бутылки «Циндао» и протянул одну Дэниэлу.
– Давай, покажу тебе квартиру.
Пить при Леоне оказалось очень странно, но Дэниэл был благодарен за пиво. Леон вывел его из кухни в коридор с тремя дверями. «Здесь ванная», – показал он налево. Две другие комнаты были спальнями: маленькая – Йимей, с нарисованными на стенах мультяшными животными, простынями в желтых утятах. Дальняя спальня, где спали Леон и Шуан, выходила на маленький балкон размером с клетку пожарной лестницы. Леон поднял экран, и Дэниэл вышел за ним. Балкон смотрел на мусорные баки, окруженные пустыми пластиковыми бутылками и раздутыми мешками, с ароматом свалки в воздухе. В отдалении виднелись очертания гор.
С крюка на поручне свисало кашпо с фуксией.
– Шуан любит растения, – сказал Леон. – Она работает в новом «Уолмарте». Отдел садоводства. Нравится квартира?
Из окон других квартир доносились пастельные звуки. Вода из-под крана, звон кастрюль и сковородок, детский плач, радиоведущий.
– Мило, – сказал Дэниэл. – Давно здесь живете?
– Пару лет. Построено на годы, мы стоим на прочном основании. Я сам проверял фундамент. Мой двоюродный брат знает строителя, который работал у домовладельца. Брату принадлежит компания, где я работаю. Занимаемся импортом-экспортом, я – на погрузке. Лучше, чем рубить мясо. – Леон поставил бутылку. – Теперь ты рассказывай. Ты же долетел до самого Фучжоу не для того, чтобы навестить меня?
– Ну, я планировал к тебе зайти.
Леон рассмеялся, и Дэниэл быстро заморгал, попытался сосредоточиться на очертаниях гор.
Той ночью он уснул в комнате Йимей среди теней нарисованных зверей – ослика, слона, коровы и льва – и, когда проснулся, услышал звуки телевизора. Он посмотрел на телефон. Десять утра. Если мать позвонит в отель, он не сможет ответить.
В передней комнате Леон ел тост.
– Мне надо в отель, – сказал Дэниэл. – Вдруг туда звонила мать, надо проверить сообщения. – Он заплатил за сегодняшнюю ночь, еще не выписался официально.
– Хочешь тост? – поднял кусочек хлеба Леон.
– Ты сегодня не работаешь?
– Взял выходной.
Дэниэл обулся.
– Я в отель.
– Нет, мы поедем в Уэст-Лейк.
Дэниэл подошел к окну и поднял жалюзи. Услышал снаружи птиц.
– Зачем?
– Найдем твою мать. Что, хочешь весь день ровно сидеть на заднице и ждать, пока она позвонит?
– Мне надо в отель, – сказал Дэниэл.
– Можно позвонить в отель отсюда и спросить, нет ли у тебя сообщений. А потом – едем в Уэст-Лейк.
– Но мы же не знаем, где она живет.
– Ты говорил, она сказала, что живет там. Мне этого достаточно.
– Будем ходить по округе и звать ее по имени, пока она не выбежит из дома?
– Ну что за глупости.
Дэниэл потеребил листик одного из растений Шуан.
– Вдруг мы ее найдем, а она захлопнет дверь у меня перед носом. – От этой мысли, от финального и исчерпывающего ответа на столько лет незнания у него опустились руки.
– Брось, если ты придешь к ней на порог, она так не поступит. Ты же ее сын.
На улицах рядом с Уэст-Лейк-парком не было ухабов и почти не было пешеходов, а своими огромными деревьями и одноэтажными магазинами квартал напоминал обеспеченный американский пригород. Автобус проехал мимо входа в парк и ряда высотных многоквартирных зданий, и Леон махнул водителю остановиться.
– Ты сказал, она живет в квартире с балконом, – сказал Леон. – Это всё жилые здания. Они выходят на парк.
– Тут же сотни квартир.
– Везде есть список жильцов. Мы подойдем, почитаем, поищем имя твоей матери или поспрашиваем охрану. У этих богачей всегда есть охрана.
Называть маму «богачкой» казалось каким-то предательством. У первого здания с балконами, которое они увидели, перед воротами стоял охранник. Когда Леон спросил, не живет ли здесь Полли или Пейлан, охранник ответил, что не может разглашать информацию о жильцах.
Они свернули вдоль дороги. Мимо, сигналя, прожужжал автобус. У второго здания с балконами стояли два охранника и не было ворот. «Здесь нет Полли или Пейлан», – ответил тот, что помоложе.
У третьего здания они не нашли охраны – только высокие ворота и никакого списка жильцов поблизости. Как и у четвертого, пятого, шестого и седьмого.
Когда Дэниэл был Деминем, он считал маму неуязвимой. Она была громче, смешнее, быстрее и умнее всех остальных взрослых, и у него никогда не получалось хранить от нее секреты – ни об отметках, ни о регулярности стула, ни о том, чьи это крошки на полу. Ее нельзя было назвать особенно строгой или жестокой, но она была резкой, всегда на шаг впереди. Способная, всегда тяжело трудилась, и, как бы ни уставала, для Деминя у нее всегда оставались силы. Только в какой-то момент это изменилось.
Слева был поручень, а внизу – парк. Дэниэл остановился.
– Она не будет со мной разговаривать.
Леон тоже остановился.
– Твоя мать – она сложный человек.
Дэниэл пожалел, что не знает, как сказать по-китайски «преуменьшение».
– Ты значил для нее больше всего на свете. Пусть она почему-то боится с тобой разговаривать – прошлое не перечеркнешь.
– Она даже не сказала обо мне мужу.
– Вот как.
Они стояли у поручня и смотрели на проезжающие машины. Было за полдень. Солнце жарило, и Дэниэл пожалел, что не взял темные очки. Оставил их в Риджборо.
Они продолжили обход, теперь медленней.
– Когда я ее увидел после того, как она вернулась в Китай, – сказал Леон, – в ней что-то сломалось. Она никому не хотела об этом говорить.
– Так ты ее видел? Ты же сказал, что только разговаривал по телефону.
– Мы встречались. Когда Йимей была еще младенцем.
– Но ты же сказал…
– Не вини Вивиан или твою мать. Вини меня. Это я уехал по своей воле. Если бы мы могли всё переиграть, Деминь, мы могли бы по-прежнему сидеть все вместе на том страшном диване, который твоя мать так ненавидела.
– Мы бы уже купили новый. – По холму слетел черный внедорожник с тонированными стеклами. – Ты знал, что я возвращался в квартиру через год после того, как ты уехал? Там жила другая семья.
– Иногда, – сказал Леон, – когда мы с Шуан укладываем Йимей спать, я думаю: вот как всё повернулось. Вот моя жизнь, вот женщина, которая захотела за меня выйти, вот наш ребенок. Как я могу теперь от этого отказаться?
Дэниэл подумал о выступлении на концерте, о том, как он выходил и слышал крики толпы.
– Думаю, это у нас общее.
– Ну, может быть, и она думает то же самое, – сказал Леон.
Дэниэл увидел через дорогу два здания, полускрытые кустарниками. Его мать со своей новой жизнью – не то же самое. Ему нужно высказать ей, что она не могла просто взять и уйти от него, притвориться, будто его и не было.
– Всё равно хочу ее найти.
Через несколько часов они обошли все здания с балконами на виду, и жара стала невыносимой. Они пили воду из бутылок, купленных в магазине, где Дэниэл заметил женщину маминого возраста и пережил вспышку надежды, что это она и есть, хотя женщина больше ничем ее не напоминала. Они с Леоном вспоминали Нью-Йорк, и Дэниэл рассказал Леону о Риджборо, о том, что он пока не учится.
Китайский давался всё проще, уже не приходилось задумываться. Хотя каждое предложение требовало усилий и хотя комфортнее ему было с английским, говорить по-китайски было как переслушивать альбом, который он не включал годами, и заново оценить замечательный звук.
– Может, вернуться к домам без охраны, поискать, как туда войти? – В квартире Леона ждет пиво. Можно вернуться и на другой день – хотя он сомневался, что вернется.
– Может, – сказал Леон.
– Хочешь пройти еще раз?
– Скоро.
Они свернули на очередную улицу, круче предыдущей, откуда парк внизу едва виднелся.
– Давай вернемся.
– Ну, еще один дом. – Перед ними было шестиэтажное строение с серебряными воротами, торчащими балконами. Снаружи висел список имен. – Есть Гао, но не Гуо.
– Давай вернемся, – сказал Дэниэл. – Схожу завтра в интернет-кафе, поищу школы английского. – По он терял вкус к поискам. Провести день с Леоном уже было достаточно. Всегда можно сказать себе, что он искал, что он пытался.
– Стой, – показал Леон. – Вон.
Дэниэл проследил за пальцем Леона и увидел пятнышко воды – так далеко, что различил с трудом.
– Ну да, видно океан. Мы, наверно, очень высоко.
– Деминь. Куда любила ходить твоя мать, когда была маленькой? Куда любила ходить в Нью-Йорке?
– На реку. Но мы же посреди города. Здесь нет рек.
– Если она живет в квартире с балконом, то что ей захочется оттуда видеть? Воду! Она живет на этой улице, – сказал Леон. – Не иначе.
Они продолжили путь. У следующих двух зданий не было балконов, так что их они пропустили. В конце квартала осталось последнее здание с балконами.
– Вот где она живет, – сказал Леон, и Дэниэл подумал, что ему бы не помешала уверенность Леона.
Охранник был пожилым человеком с щекастым лицом – он читал книжку в мягкой обложке в узкой будке.
– Чем могу помочь?
– Мы ищем Пейлан или Полли, которая живет в вашем доме, – сказал Леон. – Можно позвонить к ней в квартиру?
– Здесь такие не живут.
– Вы уверены? – спросил Дэниэл. – Она среднего роста и веса, с громким голосом и родимым пятном на шее. – Откуда ему знать, она могла похудеть или потолстеть, сделать пластическую операцию. Но это последний дом, последний шанс. – Ее фамилия может быть не Гуо, но имя – точно либо Пейлан, либо Полли.
– Не-а.
– Замужем за хозяином текстильной фабрики? Работает в школе английского языка?
Охранник вернулся к книжке.
– Я же сказал. Нет.
– Ну ладно, – ответил Леон. – Спасибо.
Они спустились по тротуару.
– Ну, мы пытались, – сказал Дэниэл.
– Пытались.
– Теперь давай домой.
– Проголодался? Я знаю ресторан, куда можно зайти. Не в этом районе, здесь всё слишком круто. Но в том местечке подают суп с бараниной, а лапша – ручного приготовления.
– Жду не дождусь, – сказал Дэниэл. – Уже хочется есть. – Он не забронировал обратный билет на самолет, но может найти какой-нибудь рейс в ближайшие пару дней. Леон и Шуан были к нему добры, но он не хотел навязываться. Нельзя свалиться как снег на голову и ожидать, что к тебе отнесутся как к настоящему сыну.
В сравнении с центром тротуары в Уэст-Лейк были безупречны. Ни жвачки, ни мусора на пути, ни таинственных рыжих луж или мин в виде собачьих какашек, как в Нью-Йорке. По тротуару, не встречая препятствий, скатился камешек, и Дэниэл пнул его, глядя, как тот полетел направо.
– Стой, – сказал Леон.
Дэниэл увидел проход в живой изгороди и короткую тропинку на широкий пятачок. Там был дом. Когда он закинул голову, увидел бежевую высотку. Ряды и ряды балконов.
– Этот мы пропустили, – сказал Леон.
Они свернули на тропинку. Перед зданием был охранник в черных штанах и темно-серой рубашке. Он тушил сигарету в металлической пепельнице.
Они задали те же вопросы, что задавали весь день. Охранник покачал головой. Никакой Полли Гуо в этом доме. Никакой Гуо.
– Никакой Пейлан? – повторил Леон, будто не мог в это поверить.
– Она учительница английского. Директор школы.
– О! Сразу бы так и сказали. Я знаю учительницу, про которую вы говорите.
– Полли? – спросил Леон.
– Полли Лин.
– Вы же говорили, в доме нет никаких Полли, – сказал Дэниэл.
Охранник поднял трубку и набрал номер на скрытой клавиатуре.
– Сейчас позвоню в квартиру.
Леон мерил шагами тропинку. Сзади вся его футболка промокла от пота. Охранник опустил трубку и сказал:
– Он к вам спустится.
– Он? – спросил Дэниэл.
– Ён. Муж Полли. Ее сейчас нет дома.
Леон поднял брови. Охранник снова закурил. Дэниэлу хотелось воды, но они все выпили, бутылки были пусты. Он не знал, что сказать мужу его матери.
Через пять минут входная дверь открылась и вышел человек, одетый как бандит: черный пиджак поверх черной застегнутой рубашки, темные очки. Когда он подошел, Дэниэл заметил серебряные запонки и нефритовое кольцо.
Тот кивнул Леону и Дэниэлу.
– Я Ён. – Голос у него был скрипучим, но мягким, волосы – угольно-черного оттенка, который мог быть только искусственным. Морщины на лице выдавали возраст чуть больше, чем у Леона. – Чем могу помочь?
– Меня зовут Деминь. Я знаю вашу жену по Нью-Йорку. Это Леон. – Он не знал, что сказать дальше. Ён не был крупным мужчиной, но выглядел так, словно оскорблять или говорить глупости ему не стоило. Если мама ничего не рассказывала мужу о сыне, то Дэниэл, признавшись, кто он такой, может подвергнуть опасности и ее, и себя.
Ён снял очки и изучил лицо Дэниэла.
– Как, говорите, вас зовут? – На двух его зубах были золотые коронки.
– Деминь… Гуо.
– А, так ты ее сын! Ты так на нее похож. Всё вижу – и нос, и рот, и подбородок! Невероятно. Она упоминала, что недавно с тобой говорила и что ты, кажется, живешь в Нью-Йорке?
Дэниэл поймал взгляд Леона и рассмеялся:
– Да, приехал в гости.
– Она так расстроится, когда узнает, что разминулась с тобой.
– А где она?
– В Пекине. Школа, где она работает, планирует расширяться, так что она путешествует и изучает рынки. На этой неделе там конференция по образованию, так что она посетит и ее.
– Я несколько дней пытался ей дозвониться. Оставил столько сообщений.
– У нее в поезде украли телефон. Она вчера звонила мне из отеля.
– Когда она вернется в Фучжоу?
– На выходных. – Ён дал свой мобильный Дэниэлу. – Вот как называется – Конференция преподавателей английского языка. В «Парк-отеле».
Дэниэл передал телефон Леону, чтобы тот перевел.
– Я не умею читать по-китайски, – объяснил он.
Лапша и баранина оказались ровно такими вкусными, как и обещал Леон, особенно под холодное пиво. Когда они вернулись домой, по парковке катались на велосипедах Йимей и трое других детей. Шуан и еще одна женщина сидели в шезлонгах, пили холодный чай из банок.
– Угадайте, кто завтра едет в Пекин? – спросил Леон.
Дэниэл слушал, как Леон рассказывает про их день. Когда разговор перешел на тему семьи, которая недавно съехала из дома, он отлучился и прошелся по парковке. Дул легкий ветерок, пот на руках и затылке высыхал. Небо было светло-фиолетовое, а запах мусора утих вместе с дневной жарой. Дети уже бросили велосипеды и играли в мяч, и он слышал, как Йимей сказала друзьям: «Это мой двоюродный брат из Америки».
Он помахал в их сторону.
– Деминь! – крикнула Йимей. – Лови.
Он увидел, как в воздухе летит мяч – быстрое желтое пятно, – и поднял руки, принял его на грудь.
– Не зевай, Йимей! – крикнул он и бросил мяч назад.
Пекин оказался городом кругов. Шесть кольцевых, одна больше другой, – серия концентрических пончиков. Вокзал был на третьем кольце. Экспресс из Фучжоу шел двенадцать часов, и Дэниэл смог спать только урывками, с затекшими от долгого сидения ногами. Он проигнорировал табун мотоциклистов перед вокзалом и вызвал такси до «Парк-отеля», и чем ближе он подъезжал к внутренним кольцам, тем сложнее становилась архитектура, будь то неоновые небоскребы или старые дома с фестончатыми крышами. Верхние этажи самых высоких зданий прятал густой смог, и некоторые люди на тротуарах ходили в масках или повязанных на лицо шарфах. Из радио красными судорогами звучало неистовое техно. «Сделайте погромче», – попросил Дэниэл. Такси наполнилось обработанным вокалом, мандаринским рэпом. «Погромче, пожалуйста». Водитель подчинился, цвета усилились. «Погромче».
Конференция преподавателей английского языка проходила на первом этаже «Парк-отеля». Дэниэл расплатился с водителем и сказал «спасибо» на мандаринском, вышел с рюкзаком на углу. Улица была полна туристических лавок, где продавались бижутерия и фигурки Будды из фальшивого нефрита, и он услышал, как кто-то сказал по-английски: «Черт, как же хочется спать», – долгие слоги были смешными и преувеличенными, почти резали слух.
Он прошел через вращающиеся двери отеля, по лобби, мимо ресепшена и за угол, где за столом с книгами и журналами сидели две женщины с белыми бейджиками. На металлической стойке находилось расписание конференции, как на английском, так и на китайском, и он увидел имя матери – Полли Лин – и что она будет выступать на панели под названием «Преподавание для молодежи», с десяти тридцати до одиннадцати тридцати. Он посмотрел на телефон. Было одиннадцать ноль пять.
Его перехватил человек в синем костюме, на чьем бейджике было написано «Вэем из школы английского языка в Сучжоу».
– У вас есть бейджик?
– Простите, видимо, забыл в номере. Мне за ним сходить?
Вэй повернулся к женщинам за столом. Пока все трое совещались, Дэниэл проскользнул в аудиторию на первое попавшееся пустое место, на третьем ряду сзади, с видом, частично закрытым столбом. На сцене сидели две женщины и мужчина, и одна из женщин была его матерью. Третья – модератор – сидела отдельно. Микрофон был у его матери. «Об этом я и говорю», – сказала она четко и напористо. Правой рукой она выразительно жестикулировала, пока в левой держала микрофон, и Дэниэл был рад, что она по-прежнему говорит руками. «Нельзя применять к молодежи те же методы, что и к студентам старше. Не бывает универсального подхода». Некоторые в зале захлопали, и Дэниэл присоединился, стараясь хлопать как можно громче и заметнее.
Модератор задала мужчине вопрос о создании учебного плана по английскому языку с опорой на китайскую культуру. Мать передала микрофон. На ней были очки в маленькой золотой оправе, теплый коричневый блейзер, кремовая блузка с частыми оборками и шелковый шарф с турецкими огурцами. Волосы – короткие, пышные и кудрявые. Она не выглядела на десять лет старше – он не видел ни морщин, ни седины, по крайней мере издали, – зато стала более аккуратной, лощеной. Не как профессора в Карлоу с их стилем бывших хиппи, не как Питер и Кэй в их одежде от L. L. Bean, а как риелтор или банковский сотрудник. Она носила юбки. Выглядела как чья-то мама.
Человек передал микрофон женщине рядом с матерью. Когда та выступила, снова заговорила мать, и Дэниэл почувствовал, как расправляет плечи, возникает гордость от того, какая она умная и уверенная в себе, какой у нее чистый мандаринский. Мужчина заикался, микрофон усиливал волнение в его голосе, а предложения второй женщины были приправлены мучительными паузами, – но мать говорила без колебаний.
Модератор спросила у зрителей, есть ли у них вопросы. Сперва женщина впереди бессвязно рассказывала о программе, которую она разработала, пока модератор ее не перебила. Поднял руку Дэниэл, модератор подошла к нему. Благодаря концертам он знал, что мать не увидит так далеко со сцены, тем более с колонной на пути. Он заговорил с самым лучшим своим подражанием северному акценту, удерживаясь от смеха из-за такой ужасной пародии на мандаринский. «Я бы хотел знать больше о двуязычном образовании в китайских школах. Вы преподаете китайский и английский одновременно? Что насчет студентов, которые говорят на обоих языках?»
На вопрос ответил мужчина, заговорив об инициативе в его вузе, но Дэниэл видел, как мать оглядывает аудиторию, ищет его, пытаясь сохранить спокойствие. Он подавил смешок.
Она нашла его после окончания выступления, протолкавшись через тех, кто хотел с ней поговорить.
– Деминь! Ты меня охренеть как напугал!
Ее глаза расширились. Они уставились друг на друга. На ней был макияж – он не припоминал, чтобы раньше она носила макияж, – а кожа была припудренная и удивительно гладкая. Он с облегчением слышал, как она ругается, – под этим новым внешним лоском какая-то ее частичка осталась прежней.
– Привет… мам. – Лицо и руки потеплели. Почему сказать это слово так стыдно? Он как будто брал то, что ему не принадлежит.
Ее губы задрожали. Его сердце билось так громко, что он слышал, как отдается кровь в ушах. Мимо пытались пройти люди, но Деминь и его мать могли только стоять на месте, глядя друг на друга. Он чувствовал всю силу ее взгляда и испытывал желание увернуться и спрятаться. Ему хотелось просить прощения за то, что он вырос, за то, что его стало не узнать.
Подбежала модератор.
– Мы идем на обед, Полли, с группой из Шанхая.
– Я не могу, – сказала мать, не отрывая от него взгляда. – Здесь мой сын.
Модератор обернулась.
– Это твой сын? Вы наверняка тоже учитель английского.
– Что-то в этом роде, – ответил Дэниэл. Ему хотелось попросить модератора оставить их в покое. Разве она не видит, что их сейчас нельзя беспокоить?
Мать взяла его под руку, и он почувствовал, как она дрожит. «Пойдем», – сказала она, и они вышли из лобби отеля. На ней были высокие каблуки, черные и острые, движения казались чересчур энергичными, а на лице было спокойствие. Она держала его руку, направляла на оживленную улицу и на заднее сиденье такси, назвав водителю место на быстром мандаринском. Потом они застряли в как будто бесконечной пробке.
– Ты приехал из самого Нью-Йорка, – сказала она.
– Прилетел несколько дней назад.
– Ты проделал такой путь! – Ее голос стал высоким и надрывным.
– Ну, сегодня я всего лишь приехал на поезде из Фучжоу.
Она достала из сумочки платок и промокнула лоб, потом глаза.
– Не люблю быть на сцене, когда все смотрят.
– Но ты отлично выступила. – Он заметил, как ходят ее желваки, с каким трудом она сохраняет самообладание. – А как же ты преподаешь перед классом?
– Это не так плохо. Впрочем, в последнее время я учу мало. Моя работа в основном административная. Хочешь есть? Ён мне написал, что ты приходил в квартиру.
– Хотел устроить тебе сюрприз.
– Какой-то гад украл у меня телефон в поезде. Пришлось купить новый, сменить номер. Такой геморрой. Надеюсь, твой у тебя еще с собой.
Он коснулся кармана.
– Прямо здесь.
– Ты еще никогда не был в Пекине, да?
– Не был.
– Я здесь уже второй раз за месяц. Стала больше путешествовать по работе.
– Тебе нравится в Пекине?
– Здесь многое меняется.
– Когда я был в Фучжоу, видел сплошные стройки.
– И здесь то же самое. Правительство сносит дома, где семьи жили много лет. Обещает достойно компенсировать, но потом распихивает по паршивым квартиркам на внешнем кольце.
– Очень похоже на Нью-Йорк. В Чайна-тауне теперь новые большие дома, со швейцарами и белыми.
Дэниэл смотрел, как дорога расчищается, как всё снова встает. Они продвигались десятисекундными урывками. Куда бы мать его ни везла, доберутся они туда только в следующем году.
По соседней полосе катили грузовики.
– Десять лет назад здесь была бы велодорожка.
– Ты бы лучше поехала на велосипеде?
– Ни за что, – рассмеялась она.
– В Риджборо – городе, где я жил после того, как ты ушла, – без машины никуда не доберешься. Один раз я сказал другу, что приеду к нему на метро, а потом вспомнил, что там и метро-то нет.
– Твой китайский стал намного лучше. Ты уже не такой безграмотный, как когда говорил по телефону.
Он наслаждался ее подколками, вспоминал ее суровую, самую что ни на есть несгибаемую любовь. Как она непохожа на Кэй с ее оголенными нервами. Его мать никогда не требовала от него развеять сомнения.
– Я провел в Китае уже почти неделю.
– Язык не забывается, – сказала она. – Нужно только опять столкнуться с языковой средой – и мозг вспомнит. – Такси проехало дальше. – Мозг очень гибкий.
– То же самое у тебя с английским?
– Если ты меня услышишь, то рассмеешься. Но в сравнении с другими учителями я практически носитель. Мало кто ездил за границу, так что они учатся по фильмам и слушают записи. Это не одно и то же.
– Я помогу тебе практиковаться, если хочешь.
– Да ничего.
– Когда тебе нужно вернуться на конференцию?
– Только завтра. Весь этот день я пропущу, проведу с тобой.
Он почувствовал, как расслабляются плечи. Такси остановилось перед группой старых зданий с замысловатыми крышами.
– Это Летний дворец, – сказала мать. Повела его через мост и по длинной тропинке, под потолком из изощренной мозаики синих и зеленых цветов.
Вдруг стало тихо, и Дэниэла заворожили краски. Они выбрались на площадь, где собирались тургруппы, говорил в мегафон на кантонском гид, и вошли в коридор потише, миновали еще один павильон, пока не оказались у обширного озера. Дэниэл остановился, ошеломленный таким количеством воды.
Они сели на скамейке, рядом друг с другом.
– Это мое самое любимое место в Пекине, – сказала мать. – Здесь проводила лето императрица во времена династии Цин.
Он увидел изогнутый мостик, лодочки с желтыми крышами. По телу пробежала усталость. Он выбился из сил. Четыре дня назад он был в Риджборо.
– Это искусственное озеро. Как и в Уэст-Лейк-парке в Фучжоу. Я хожу в него, когда смыкаются стены. Ты туда заходил, когда был рядом?
Что она имела в виду под «стенами»?
– Мы с Леоном только прошлись по району.
– А Леон, он хорошо поживает?
Ее пальцы сплетались друг с другом, как голуби, дерущиеся за выброшенную булочку от хот-дога. Дэниэл, когда нервничал, делал так же – хлопотал руками. Ему хотелось расцепить ее пальцы и успокоить ее.
– Хорошо. Я познакомился с его женой и дочкой. У них славная квартира.
– Ён написал, что приходили мой сын и его отец, и сперва я не могла понять, о ком он говорит. Я думала, о Хайфэне. Твоем настоящем отце.
– Хайфэн? – Она никогда не называла это имя.
– Я не разговаривала с ним много лет. Даже еще до того, как ты родился. Слышала, он теперь в Сямыне.
– Ён вроде бы хороший человек.
Выражение лица его матери просветлело.
– Так и есть. Когда я сказала, что хочу больше путешествовать по работе, ему это сперва не понравилось. Он сказал, что будет по мне скучать. Но в конце концов он меня понял.
– В смысле?
– Я не люблю подолгу оставаться дома. В одних и тех же стенах. Мне становится нехорошо. Начинаются кошмары.
– И он знал обо мне. Еще до того, как я с ним встретился.
– Да, знал.
Дэниэл улыбнулся. Его веки открылись и закрылись.
– Где работают твои родители? – спросила мать. – Которые тебя усыновили?
– Они преподаватели. В университете.
– Наверное, умные.
Он не знал, когда еще увидит Питера и Кэй. Он страшился перспективы нового разговора с ними, но не меньше боялся и того, что они не захотят разговаривать. Эта женщина рядом – его мать, незнакомка – была его единственной истинной семьей.
– Они хотят, чтобы я был как они, ходил в колледж и учил то же, что и они. – Он боролся с импульсом их защищать. – Но я не уверен, что сам этого хочу.
Они смотрели на плывущие лодки. Дэниэла тянуло в сон. Он гадал, когда они поговорят – поговорят по-настоящему. Мать взяла его руку, сжала так сильно, что он чуть не отдернул. Но перетерпел и накрыл ее ладонь своей. Вспомнил, что чувствовал себя как в ловушке, когда Кэй целовала его в щеку и говорила, что любит, – будто от него ожидали какого-то правильного ответа. Сейчас он не чувствовал того же.
Она ослабила хватку. Он не знал, когда была династия Цин, – знал только то, что давно, – и представил, как императрицу катают на длинной скользящей лодке по воде, среди павильонов и храмов, полных людей. Сейчас залы стояли пустые, и единственное, что он слышал, – крики экскурсоводов. Это было печальное место, дворец призраков.
– Хочешь есть? – Мать отпустила его ладонь и похлопала по ней. Правда ли они так похожи, как сказал Ён? – Я хочу тебя угостить.
Он не так уж и проголодался – наелся за завтраком на поезде. Но он позволил сводить себя в кафе в районе, где витрины были из стекла и хрома, а люди ходили с сумками с брендами магазинов и кожаными сумочками. У кафе было французское название.
– Присаживайся, – сказала мать. – Я зайду и закажу.
Дэниэл нашел в патио столик и смотрел, как она идет внутрь, как слегка покачнулась на каблуках. Она потерла виски и закрыла глаза, потом открыла, – ее лицо разгладилось в выражении беспечного удовольствия.
Здесь было как в «Старбаксе» в Сохо. Он откинулся на кресле и уже задремывал, когда мать вернулась с полным подносом.
– Это кафе славится своими сладостями. – Она передала ему тарелку с долькой шоколадного пирога – глазурь уже таяла – и тарелку с яичными тартами. Два кофе – для него и для нее – и кучка пакетиков с сахаром и пластиковых баночек со сливками.
– Спасибо. – Он взял ложку, которую она протянула, и попробовал пирог. Глазурь была такая сладкая, что язык свернулся в трубочку.
Мать следила за ним.
– Вкусный пирог?
– Вкусный.
Она съела маленький кусочек и запила кофе. Он видел, где размазалась ее подводка, и брови она обвела карандашом, который оставил крошки.
– Попробуй тарт.
Она подтолкнула к нему тарелку. Он послушался и откусил.
– Вкусно, – сказал он, хотя тарт уже начинал черстветь.
– Ты всегда любил сладкое.
Он прижал крошки пирога ложкой, смущаясь под ее взглядом.
– Кушай еще.
Он съел еще ложку. И правда – у нее были его глаза и рот. У их губ были одинаковый изгиб и ямочка в середине (он всегда думал, что для парня у него слишком нежные губы), а у глаз – одинаковые большие зрачки и толстые веки. Когда бы он ни смотрелся в зеркало в последние десять лет, казалось, что на него никто не похож. Но с ним всегда была она.
Она прикоснулась к его щеке. Просто коснулась. Ладонь у нее была теплая, и он не мог сдвинуться. Будто если он шелохнется, то под ними разверзнется земля.
Когда она убрала ладонь, на коже осталось теплое пятнышко. «Я здесь, мама», – сказал он, и она ответила долгим вздохом.
Они гуляли по старому хутону, бродили по Запретному городу, где одно здание чудеснее и страшнее другого. День шел, но мать не выказывала признаков нетерпения, не вела себя так, будто торопится вернуться в отель. Но, когда он говорил о Бронксе даже самые невинные пустяки – помнишь Томми? Миссис Джонсон? Продуктовый магазин, 4-й поезд? – или упоминал Леона, Вивиан и Майкла, она меняла тему, возвращала их в настоящее, рассказывала о Пекине, архитектуре, образовании.
На ужин они ели жареную утку в дорогом ресторане с плотными белыми скатертями, и он наелся до отвала, чем очень ее порадовал. Когда они вернулись в «Парк-отель», было уже девять. Номер матери находился на пятом этаже – на двоих, как у него в Фучжоу, но чище и не такой обшарпанный. Он принял душ, пока она писала письма с ноутбука, и, вытершись и почистив зубы, он изучил свое отражение в зеркале ванной. Перед уходом он с ней сфотографируется, для доказательства.
Она сидела на кровати в пижаме, снимала макияж ваткой.
– У каждого своя большая кровать. Совсем не так, как мы спали в Нью-Йорке. Я часто говорю, что не смогу снова жить так же, но мы же не считали себя нищими, да?
– Мы и не были нищими. – Он расстегнул рюкзак и достал старый снимок из Саут-Стрит-Сипорта. – Хотел тебе показать.
Мать взяла фотографию за уголки.
– Где ты ее нашел?
– У Кэй. Моей приемной матери.
– А у нее она откуда?
– Думаю, от Вивиан.
Мать не отводила глаз от фотографии.
– Ты еще такой маленький. И смотри, какая я была молодая.
Он должен был спросить. Так поздно ночью она уже не выгонит его из отеля. Он выдавил первые предложения, которые пришли ему в голову:
– Ты больше не хотела со мной общаться? Тебя это устраивало?
Она вернула фотографию.
– Я не знала, захочешь ли ты со мной разговаривать после всего, что я сделала.
– Конечно, захотел бы. Я же первый тебе позвонил, забыла? И перезвонил. Два раза.
– В последнем сообщении ты сказал никогда тебе больше не звонить.
Его лицо запылало.
– Я не хотел. Я сгоряча.
Она отмахнулась, обрывая его.
– Ты был прав, когда сказал, что я не могу делать вид, будто ни в чем не виновата.
Она ушла в ванную, потом вернулась в постель. Было поздно. Завтра в восемь утра у нее собрание с учителями на конференции, а после этого она оставит его. В любой момент она могла выключить свет – и он уже никогда не узнает, что случилось.
Он залез под одеяло, но сидел, а не ложился. Мать проверила, что жалюзи опущены, шторы задвинуты. Достала из сумки маску для сна с розовой подкладкой.
– Я не могу уснуть со светом, так что, если пока не ложишься, я подожду.
Тогда он не будет ложиться столько, сколько нужно.
– Не помню за тобой такого в Нью-Йорке. Мы всегда спали с незашторенными окнами.
Она откупорила флакон с таблетками.
– Мне снятся кошмары, – сказала она. – Однажды Ён встал в туалет и забыл выключить свет в коридоре, и я проснулась в криках. Тогда он тоже закричал, потому что услышал меня, и мы оба друг друга испугали. Даже смешно.
Смешным это не казалось.
– Часто снятся кошмары?
– Если принимать лекарства, то всё в порядке. – Она вытряхнула таблетку и потянулась за стаканом воды. – Они помогают мне спать.
– Подожди, – сказал он. – Можешь пока не принимать? Подожди, пожалуйста.
Она помедлила, потом вернула таблетку во флакон.
– Но всё равно должно быть темно. – Она щелкнула выключателем рядом с кроватью, так что теперь номер освещала только лампа рядом с ним. – В Ардсливиле свет горел всё время, собаки будили посреди ночи. Невозможно уснуть.
– Ардсливиль. Это…
– Лагерь. Так назывался лагерь.
По спине пробежал холодок. Он смотрел на картину на стене – репродукцию с тем же озером, которое они посещали сегодня.
– Расскажи мне.
Она нервно рассмеялась:
– Не могу.
– Я просто буду тихо слушать. Обещаю.
– Не могу, Деминь. Это слишком, я не хочу, чтобы ты знал.
– Я хочу знать правду. Как ты сюда попала? Что с тобой случилось в тот день, когда ты пошла на работу? Пожалуйста, я заслуживаю знать.
Она положила голову на руки.
– Приехал фургон. Устроили облаву на маникюрный салон.
Он наклонился вперед, задержал дыхание.
– Телефонов там не было, невозможно ни с кем связаться. Потом меня выслали в Фучжоу. Я уже была другой. – она замолкла. – Если я расскажу, ты не поймешь.
– Пожалуйста, попробуй. – Он дотронулся до деревянного изголовья за спиной. Он был в Пекине, Китай. Нью-Йорк, Риджборо и Дэниэл Уилкинсон отвалились, и мир состоял только из него и его матери, их голосов в номере отеля.
Она рассказала, что помнила людную комнату, где смотрела на цифры на телефоне.
– В Ардсливиле?
– Нет, это еще было в Нью-Йорке.
В фургоне, на котором меня увезли из салона, не было окон, так что я не представляла, пять кварталов мы проехали или пятьдесят. Я не видела других женщин из «Привет, красотка» – только кричащих незнакомцев, офицеров в форме. Один дал мне телефон и сказал, что можно позвонить.
Палец завис над кнопками, и я попыталась вспомнить номер Леона: 347 – в этом я была уверена. 453-86-85. Или 435? 8568? 445? Его номер был сохранен у меня на телефоне, но он остался в сумке.
– Где моя сумка? – спросила я по-английски.
Офицер не ответил.
Я набрала 347-453-86-85. Услышала гудки. Леон мог быть на работе, но тогда я оставлю сообщение.
Гудки все не кончались. Автоответчик не включился, и я попробовала набрать опять. 347-435-86-85.
Два гудка – и человек, который ответил, был не Леоном. Я попросила Леона, но мне ответили что-то на другом языке.
Офицер потянулся за телефоном.
– Только один звонок.
Я не обратила внимания и набрала опять. 347-453-86-58. Через несколько гудков включилась запись – компьютерная, которая повторила номер и попросила оставить сообщение после сигнала. У Леона был другой автоответчик, но я быстро заговорила. «Это Звездочка. Нас в салоне арестовала полиция. Я не знаю, куда мы едем, узнай и забери меня. Быстрей».
Потом я не сомневалась, что номер был 435-85-86. В палатке на стене висел один аппарат, но в нем не было гудков. Следующие четыреста двадцать четыре дня я каждое утро брала трубку в надежде, что они появятся.
– Но их не было, – сказала я. – Чертов телефон не работал.
– Ты провела там четыреста двадцать четыре дня? – Ты говорил так, будто не верил.
– Я считала.
– Это почти два года!
– Четырнадцать месяцев. Я же говорила – это слишком.
– Нет. Я должен знать.
Мне хотелось замолчать, но хотелось и рассказать. Я сказала:
– Кошмаром были часы между тем, как мы ложились, и тем, как поднимались.
Самолет сел во тьме и песке. В отдалении колючая проволока ограждала распухшие палатки – большие белые коробки в шершавой пустоте. Техас – хотя тогда я этого не знала. Конечная остановка, максимальный вайцзю. Слишком холодно зимой и слишком жарко летом – злая, палящая жара, изнывавшая по дождю.
На металлическом каркасе палатки был натянут тяжелый белый пластик. Неровные бетонные полы, будто цемент заливали в спешке. Еда казалась нездоровой – восковой хлеб, бледная овсянка, лапша с флуоресцентным сыром, – а так как столовая стояла рядом с туалетами, на вкус всё было как моча и говно. Резкий привкус мочи в итоге ушел, остался только голод, и я ела сыр с молоком, из-за которых потом корчилась на толчке.
Свет никогда не выключался, так что глаза ныли и пульсировали. Я лежала на койке и слышала, как рядом на нашей кровати во сне разговаривает Леон, на соседней кровати – вас с Майклом и ругалась на охрану по-фучжоуски. «Идите в жопу. Идите на хер». Самым худшим было, что ты подумаешь, будто я тебя бросила.
Когда сон приходил, он был зазубренным и беззвучным. Я просыпалась от голосов, не зная, часы прошли или минуты, и видела над собой охранника, ставившего галочку на бумажке.
«Проверка», – говорил охранник.
«Я здесь», – отвечала я по-английски.
Палатка была длиной с городской квартал, но уже. На двухэтажных койках, в восьми рядах по три койки в каждом, спали двести женщин. Мы ходили в темно-синих джинсах на резинке, мешковатых синих рубашках. Халтурное шитье; плохие подолы. Ни у кого не было денег, и мы никак не могли их получить, только если наши семьи знали, где мы. Можно было работать уборщицей – подметать полы, выскабливать туалеты, выносить мусор за пятьдесят центов в день, – но очередь туда была длинная, семьдесят три имени перед моим.
Туалеты и души находились на большом открытом пространстве, окруженном низкой стенкой, доходившей мне до пояса. В основном мыла не было, а часто – и воды. На лице вылезали прыщи, на руках сыпь, кожа стала воспаленной и сухой. Посреди палатки была стеклянная восьмиугольная будка с тонированными окнами, откуда за нами наблюдала охрана. Они видели нас, но мы не видели их. Я подходила к лестнице восьмиугольника и махала.
Я просила у охраны вызвать адвоката по иммиграции, но мне говорили подождать. Никто не давал советов или ответов. Некоторые женщины вообще не говорили по-английски, а некоторые говорили так быстро, что я за ними не успевала. Со дня на день, говорила я себе, Диди и Леон найдут меня и вытащат.
На двенадцатый день в очереди за овсянкой ко мне подошла китаянка с веснушками и сказала по-мандарински: «Пошли есть вместе. Я Лей». Я была так рада поговорить хоть с кем-то, что готова была ее расцеловать.
За овсянкой я узнала, что Лей родом из Шаньдуна и провела в палатке почти полтора года. Ее оштрафовали за превышение скорости в Чикаго и отправили к ICE.
– Полтора года? – Я изо всех сил старалась подавить панику мыслями о том, как вернусь домой к тебе и что эти двенадцать дней будут всего лишь сбоем в рутине. Воспоминания о наших делах меня успокаивали. Готовить ужин с Вивиан. Ездить на метро на работу. Говорить тебе с Майклом выключать телевизор и ложиться спать. Теперь эту надежду о возвращении отняли. – Я не могу здесь столько оставаться. Меня ждет семья, и они даже не знают, где я. – Я оглядела столы с женщинами, которые ели овсянку руками. Вилок и ложек постоянно не хватало.
– Некоторые здесь намного дольше, – сказала Лей. – Есть девушка по имени Мэри – она жила в Америке с шестимесячного возраста. Родилась в Судане. Училась в колледже, имела въездную визу, попала под арест в аэропорту, когда возвращалась после учебы во Франции. Правительство заявило, что родители так и не обновили ее иммиграционный статус, когда она была маленькой, и теперь ей нужно пройти медицинский осмотр. Только, конечно, осмотр стоит триста долларов, а в Ардсливиле таких денег не бывает. И она не может снять деньги в банке, потому что ICE заморозили ее счет. – Лей покачала головой. – Обычная история.
Никто ничего не знал. В судах по иммиграции слишком много дел, говорила Лей, и нам не доставались адвокаты – только судья, который решал, останешься ты или уедешь. Никто не знал, когда мы увидим этого судью, освободят ли нас, где мы в итоге окажемся.
Меня тянуло в сон, всё время жутко тянуло в сон. Оттого что я мало ходила, болели ноги. Раз или два в неделю охранники выпускали нас на час во двор – прямоугольник из колючей проволоки, достаточно большой, чтобы все бродили на расстоянии вытянутых рук друг от друга. За проволокой были гигантский американский флаг, хлопающий на горячем ветру, и открытый двор, тоже с проволокой, где, как сказала Лей, находилась отдельная тюрьма под названием Дыра. В ней, в других палатках, которых мы не видели, содержали мужчин.
Были дни, когда я не поднималась из постели, вся чесалась под одеялом. Я предполагала, что солнце всё еще меняется местами с луной каждые двенадцать часов, но откуда мне было знать – может, небо позеленело, солнце теперь квадратное, а звезды потухли или размазались, как комары на подошве тапочка. Де-минь, де-минь, – твое имя выбивало дробь. Я хотела переехать – и теперь ты подумаешь, что я ушла специально.
Я так расчесала руки, что кожа покрылась раздраженными красными ссадинами. Ты забудешь мое лицо. Когда я увижу тебя в следующий раз, твой голос уже будет ниже. Леон найдет другую женщину. У меня было его кольцо-подарок, и я крутила его на пальце, чувствовала, как оно подминает кожу.
Звездная ночь. Травянистое поле. Хор сверчков. Квохчущие куры. Ты. Я пыталась представить всё, что любила. Если бы во рту было больше слюны, я бы могла притвориться, что не хочу пить. Стакан воды. Чашка чая. Влажные поцелуи. Леон. Я пыталась расслабиться, надеясь, что посплю хотя бы несколько часов перед первой ночной проверкой. Теплые руки. Громкая музыка. Ты.
Я рассказала Лей о тебе, о том, какой у тебя хороший английский, как ты заботишься о Майкле. Но каждый день все больше переживала. Как ты учишься в школе, достаточно ли кормит тебя Вивиан, чистая ли у тебя одежда? Тебе нужна была новая обувь, у тебя же так быстро растет нога, ты не сможешь ходить, если обувь жмет, а кто тебе ее купит, как ты будешь ходить?
Шли недели, потом месяцы. Я лежала на спине на верхней койке. Места, чтобы лежать в любой другой позе, кроме как неподвижно на спине, не было – этот урок я усвоила, когда свалилась на пол. Я натянула одеяло на лицо – и обнажила ноги. Потом я встала и пошла завтракать с Лей.
Она сидела с женщиной по имени Самара, из Пакистана. Втроем мы могли общаться на своем обрывочном английском.
Несколько женщин планируют протест, сказала Самара. Перед лагерем устроила бдения какая-то католическая группа, и Мэри, которая жила в Америке с детства, как-то смогла с ними связаться.
– Охранникам плевать на наши протесты, – сказала я.
– Я видела, что делали с теми, кто протестовал до вашего прихода, – сказала Лей. – Три охранника били женщин ногами до крови. Потом их депортировали. С чего вы взяли, что теперь что-то изменится?
День 203-й. Солнце жарило крышу палатки. Я сидела на койке, лазила в рукава, впивалась ногтями в кожу и чесала. Я знала, что руки уже воспалились и покраснели, но, если чесаться, я чувствовала сладчайшую боль, изощреннейший огонь. Когда я чесалась, я могла добраться ногтями до всех невыраженных слов из прошедших месяцев.
Я начала ненавидеть Леона и Диди, хотела их забыть. Они вообще меня искали? Может, так даже лучше – притвориться, что их не существует. Скучать было хуже. Как и ждать.
У нас появился план. Когда охрана выпустит нас во двор, мы не вернемся назад. Одна женщина передаст список наших требований. Активисты вышли на связь с журналистами, которые приедут и снимут нас, чтобы американцы узнали о палатках. Правительство закроет Ардсливиль, и мы вернемся домой.
Я не думала, что всё будет так просто, но надо было что-то делать. Лучше участвовать, чем признать, что у нас нет выхода.
Лей отказалась присоединиться.
После обеда охрана открыла дверь во двор, мы вышли на улицу. Через несколько минут мы начали двигаться, из кучек – в линии и углы. Мы составили буквы. H-E-L-P. Чтобы сверху нас увидели новостные вертолеты.
Я встала за Самарой, закатав рукава на жаре.
– У тебя вся кожа в крови, – сказала Самара. – Страшно выглядит.
Я стянула рукава.
– Это ерунда, – ответила я.
Мы долго стояли, ждали чего-нибудь – активистов, журналистов. Но ничего не случилось – только разозлились охранники, кричали, чтобы мы возвращались. Лей и другие женщины на противоположной стороне двора вернулись в палатку. Мы с Самарой стояли дальше. Небо оставалось синим и неподвижным. В пустыне нет птиц, не ездят по ближайшей дороге машины, не ласкает лодыжки прохладный океан – только жаркое небо. И тогда я услышала рассекающий воздух гул. Он становился громче, и я что-то увидела в облаках – синее пятнышко не больше птички, и птичка увеличивалась, а гул оглушал.
Но, когда пятнышко улетело, тишина стала чудовищной.
– Мы не подумали, что делать дальше, – сказала я Самаре.
Во двор высыпали охранники в шлемах и с пластиковыми щитами, и, когда воздух наполнился газом, мои глаза обожгло, а на языке стало горько. Я видела только облака и мужчин в шлемах. Почувствовала удар палкой по боку и упала на землю бедром.
Размер моей новой камеры был одиннадцать ступней в длину и восемь в ширину. Столько месяцев в палатке я ждала очереди в туалет, а теперь могла спокойно просидеть на толчке хоть целую неделю. На бетонной полке лежал матрас, были стул из бетонного блока и маленькая лампочка, которая никогда не гасла.
Три раза в день в стене открывалась стальная дверца и в щель просовывался поднос, как язык изо рта. «Я завтрак, – представляла я, как говорит рот. – Привет, я обед!» На подносе была бурая жижа. Завтрак или обед – жижа. На ужин – жижа. На вкус как каша. Я разговаривала со ртом, запихивая обратно пустой поднос. «Что, нравится вкус, Большой Рот? Нравится. Ты это обожаешь».
Три раза в неделю охранники обвязывали одной цепью мою лодыжку и второй – талию. Три часа в неделю мне разрешалось быть на улице – в клетке во дворе, окруженной высокой стеной: ноги и руки болели от долгой неподвижности, глаза, непривычные к расстояниям дальше одиннадцати ступней в длину и восьми в ширину, ныли от необходимости смотреть вдаль. Иногда я замечала чужие следы. Это отпечаток Мэри? Самары? Но я ни разу никого не видела.
Против воли я думала о твоей улыбке, когда мы ездили на метро, о словах, которые так легко слетали и соскакивали с языка Полли, без напряжения или перевода. Я представляла, как Пейлан целует Хайфэна, как тело Пейлан стало настолько новым, что, замечая себя в витрине, она себе говорила: «Да, это я». Когда Пейлан должна была заниматься стиркой, она часами расчесывала волосы, пока те не начинали сиять, и оставалась на улице, чтобы волосы напитывались и упивались светом.
Стены были ложью, трюком. Я могла раздвинуть их руками, мягко и решительно – как снимать ребенку рубашку через голову, – подуть на пол, пока он не разрушится и я не окажусь снова на траве, где солнечный свет катится волнами по телу, ласкает пальцы. У солнца будет язык, славный и толстый, лижущий медленно и лениво, а от травы будет пахнуть червяками и почвой. Тело наберет скорость, я побегу, подскочу в небо, воспарю над холмами и океанами. Там будет мой дом, йи ба во дворе с курами. Я изогнусь, выброшу ноги вперед и приземлюсь.
Потому что на самом деле меня здесь нет. Это жизнь другого человека, которую я вижу в кино и говорю: «Какая жалость, ой, бедная женщина, ой, как я рада, что это не я».
Я давила в стены головой. Я бы их расколола, чтобы вернуться к тебе. Чтобы остаться с тобой.
Мне перевязали голову, цокая языком при виде ран и расцарапанных рук, и несколько дней казалось, что из мозга растут гвозди.
В зале с длинными рядами стульев и столов я слушала молодого человека в костюме, который говорил из-за защитной сетки: воротник мокрый от пота, слова приглушенные из-за перегородки. Я не понимала, на каком языке он говорит. Последний, с кем я разговаривала, был охранник, и до этого – охранник. Человек в костюме говорил на мандаринском «адвокат». При этом он жестикулировал, и я представила его руки на своей шее, и закричала.
Не знаю сколько дней спустя я ехала в фургоне по шоссе, и глаза слезились от внезапного солнца. Потом я была в зале без окон – помещении таком длинном, мне казалось, будто я падаю. Один за другим мужчины в синих штанах и рубашках выходили вперед, чтобы обратиться к старику, назвавшемуся судьей. Когда была моя очередь, судья заговорил со мной, но слишком быстро – я не понимала, что он говорит.
Рядом стояла белая женщина в коричневом костюме, ждала ответа. Я раскопала пару слов и повернулась к женщине: «За что?»
Судья ударил по кафедре. Нельзя. Разговаривать.
– Как вас зовут? – спросил судья по-английски.
– Гуо Пейлан, – сказала я. – Полли Гуо.
Он снова ударил кулаком. Женщина в костюме заговорила по-мандарински:
– Вы должны ждать моего перевода.
– Как вас зовут? – снова спросил судья, и снова я ответила раньше, чем заговорила женщина.
– Вы должны ждать моего перевода, – повторила женщина. – Нельзя отвечать, пока я не переведу.
– Но что я здесь делаю?
– Вас хотят депортировать, но сперва им нужны правильные документы.
– Меня нельзя депортировать. Где мой адвокат? У меня здесь сын, он американский гражданин.
Судья что-то сказал, что я не расслышала.
– Можете идти, – сказала женщина. – Вы говорили без разрешения. Он подпишет приказ о депортации на основании вашей неявки, потому что вы говорили без разрешения.
– Но я же явилась!
Дорога назад, в Ардсливиль, была жаркой и тряской. Мужчина в офицерской форме попросил меня подписать бумагу с английскими словами. Я написала на строчке свое имя.
В камере стены растворились, и я вышла наружу. Я снова становилась кем-то другим.
Я помню одинокий огонек, мигавший на кончике крыла, и как человек в соседнем сиденье дрыгал коленями так, словно сейчас выпрыгнет из штанов. Была ночь. Я тряслась, потела, не могла вспомнить, когда ела в последний раз, а потом меня скорчило и стошнило на ботинки.
Два человека в форме проводили меня с самолета и выдали банкноту в двадцать юаней и новые документы. Вокруг говорили на мандаринском, фучжоуском.
– Где мы? – спросила я одного мужчину на мандаринском.
– Фучжоу. Чанлэ.
– В Чанлэ нет аэропорта.
– Теперь есть.
Я нашла дверь и толкнула. Я стояла на тротуаре с головокружением, пока мимо ревели мопеды и машины, оглушал шум, такой громогласный, а когда я сделала шаг, мимо вжихнул мопед, чуть меня не сбил. Люди в форме сказали, что я могу идти – но куда? Вдруг охрана всё еще следит.
Это было пасмурное утро ноября или января, и воздух переполнился знакомыми запахами, напоминаниями о деревне: горящее дерево и бумажный пепел, жаркое и соль, и солоноватый привкус, болотный и отдающий гнилью. Аромат берега. Это всё по правде или очередной трюк? Мне нужно было найти тебя.
Подъехал микроавтобус до Минцзяна. Водительница с волосами, уложенными длинными кудрявыми полосами, открыла дверь. Я уставилась на нее. Она спросила: «Вы садитесь или как?»
Я заплатила за билет двадцатью юанями, села у окна и наблюдала, как, пока мы уезжаем от аэропорта, позади исчезает дорога. За нами никто не следовал. Еще недели, месяцы, годы, когда бы я ни сворачивала за незнакомый угол и ни открывала дверь, я ожидала засады охранников.
Даже сейчас я не до конца уверена, что однажды за мной не придут.
Въездные арки у деревни стали куда шире, чем двадцать лет назад, – их достроили сверху и по бокам, – и появились новые уличные знаки и фонари. Грунтовые дороги заасфальтировали. Я шла мимо кур, грузовиков и велосипедов, натянутого между шестами пластика, плакатов на стенах, объявляющих новые стройки. Я заглядывала в каждое встречное лицо, страшась кого-нибудь узнать и желая, чтобы кто-нибудь узнал меня, но, хотя некоторые казались знакомыми, я не опознала никого. После двадцати лет за границей все стали выглядеть по-другому.
Я взяла утреннюю газету в киоске и увидела сверху дату. Апрель, но год был другой. Я правильно вела счет дней. Пока я была в Ардсливиле, исчезли четырнадцать месяцев.
Мне стало дурно. Голова закружилась. Я заглянула в лицо газетчика, надеясь на узнавание, но нет.
На 3-й улице подмели дорогу, а на моем старом доме был слой свежей краски. Я подергала за ручку, но дверь была заперта. Я постучала, и открыла госпожа Ли, в лавандовом спортивном костюме с темным рисунком цветов.
– Пейлан? Что ты здесь делаешь?
– Что вы делаете в моем доме?
– Мы им пользуемся. Здесь живет мой двоюродный брат с семьей, но на прошлой неделе они уехали на праздники в деревню. Ты тоже вернулась на праздник?
– Какой праздник?
– Цинмин. – Госпожа Ли растягивала слова, разглядывая мою ардсливильскую униформу.
– Вы пользуетесь моим участком? Моим домом?
– Ты была в Америке. Мы не могли с тобой связаться.
– Я его вам не отдавала.
– Если хочешь, оставайся.
– Это не вам решать.
Я протолкнулась мимо нее. Внутри все тоже перекрасили. В моей бывшей комнате было множество вещей брата госпожи Ли и его жены. Господин Ли умер восемь лет назад, и у Хайфэна с женой родился сын – ему было уже пять, его фотографии мне показала госпожа Ли. Я с облегчением увидела, что он не похож на тебя.
Приходили соседи, хотя я не помнила большинство имен, и смотрели на меня с шоком. Неужели я так сильно изменилась? Я говорила, что вернулась домой, потому что в Нью-Йорке мало работы, и что ты живешь у родственников, пока не доучишься. Прожить в тюрьме больше года было чем-то постыдным, будто я попалась по глупости, – так что я не могла просто признаться.
Госпожа Ли дала мне розовый спортивный костюм. Я блуждала по деревне, не упираясь в заборы или стену, в полную волю болтая руками и ногами, глотая свежий воздух. В храме на табличке с именами селян, дававших деньги на ремонт, я увидела себя вместе с йи ба. Йи ба жертвовал деньги, которые я отсылала домой. Я ела мясо, рис и овощи, а не овсянку, слушала музыку, машины и людей, гуляла часами, и охрана не приказывала возвращаться. Я ловила стебли травы пальцами ног и гладила листья и кору. Почва пахла сладко, а ветер был мягким и чистым, как свежестираные простыни. Но дом уже не был моим домом. У брата госпожи Ли была маленькая дочка, и ее книги и одежда оказались разбросаны по всей комнате на первом этаже. Телевизор йи ба пропал – на его месте стоял новый. Я нашла – завалявшийся в уголке под кроватью – один из твоих старых ботиночков. Я их покупала в твою первую зиму в Нью-Йорке, перед тем как отправить сюда. Я держала на ладони маленький серый кроссовочек, вспоминала, как надевала его тебе на ножку, как затягивала шнурки. Должно быть, ты прилетел в них из Нью-Йорка. В протекторы набилась грязь, и ладонь осталась черной от подошвы. Второй ботинок я не нашла.
Той ночью я спала у себя дома. На следующее утро я поехала на автобусе в Фучжоу с пятью тысячами юаней, которые госпожа Ли отдала мне за дом. Потом я узнаю, что дом стоил по меньшей мере пятнадцать тысяч, даже двадцать, но к тому времени это уже не будет иметь значения.
За двадцать лет центр Фучжоу стал совсем другим. На площади забили фонтаны в окружении статуй мужчин и женщин с поднятыми руками, с удивительно европейскими лицами. Мимо ходили люди в деловых костюмах. В телефонной будке я набрала номер ростовщика, который узнала у соседа на 3-й улице, и сказала ему, кто я, свою дату рождения, сколько я заплатила до отъезда из Нью-Йорка, что я в Китае и хочу знать задолженность.
– Один момент, – сказал он. – Сейчас проверю.
Я подождала. Потом он снова взял трубку и сказал:
– Вы всё оплатили. У вас нулевая задолженность.
Я закусила пальцы. Должно быть, пока я была в Ардсливиле, мои взносы пересылал Леон, месяц за месяцем.
Я купила международную абонентскую карточку и набрала номер Леона – тот, который, как думала, помнила. Два гудка, и звонок оборвался – без ответа, без автоответчика. Я пыталась еще, и еще, и еще, и еще. Я стояла в телефонной будке, пробуя разные комбинации – все цифровые комбинации, которые могли принадлежать Леону, – но ни одна не подошла. Я даже звонила на свой старый телефон, чей номер точно помнила, и там ответила девочка-подросток. Я не запоминала номера Диди или «Привет, красотка». С каждым тупиковым звонком оптимизм убывал, пока я уже не плакала в рукав костюма от госпожи Ли. Ты потерян; моя семья потеряна. Пропали четырнадцать месяцев, и мне даже негде жить.
В конце концов меня прогнал голод – из телефонной будки к ближайшему продуктовому ларьку, где я ела, пока дрожь не унялась, а отчаяние не ожесточилось до амбиции. Госпожа Ли упомянула маникюрный салон – один из первых на площади Вуй, – и я его нашла и представилась хозяйке – женщине, у которой самой на кончиках ногтей облупился французский маникюр. «Я работала в Нью-Йорке, – сказала я. – Дайте мне десять минут – и я нарисую на ногте ваше лицо». К ночи у меня уже были работа и своя койка в общежитии сычуаньских работников.
В коридоре хлопнула дверь, послышались шаги. Я остановилась на полуслове и услышала, как разговаривают две женщины – их голоса угасали, направляясь к лифту, – и тут как будто очнулась от транса. Ты просил рассказать тебе правду – и теперь, когда я рассказала, ты словно жалел об этом.
– Ты не могла мне позвонить, потому что я уже был в Риджборо, – сказал ты.
– Теперь я это знаю. А тогда так переживала.
– Но ты нашла Леона. Даже с ним встречалась. Разве он не сказал, что меня усыновили?
Я пыталась понять, что сказать.
– Ты знала и ничего не сделала?
– Не я его нашла, – ответила я. – Он нашел меня.
Каждую неделю в свой единственный выходной я искала семью Леона. Если бы я их нашла, они бы помогли связаться с ним, а он бы помог связаться с тобой. Мне нужно было в это верить. И я ездила на микроавтобусе в деревню Леона, обходила все дома Чженов по телефонному справочнику. Представь, как долго это заняло. Но никто его не знал.
Чтобы добраться до районной администрации, приходилось ехать на двух автобусах, маршрутке и пройти пешком через пустырь с парковками. Потом я ждала на влажной жаре перед приземистым зданием, потея в единственном чистом костюме. Дверь всегда была закрыта, жалюзи опущены. Жуткая тишина, нигде ни тенечка – только солнце на голом асфальте. Наконец дверь открывалась и выходил чиновник.
– Прошу прощения, – говорила я, пока они проходили мимо. Я ждала, когда они вернутся со своего перерыва. Могло пройти пять минут, а могло и два часа, и перехватить их нужно было быстро, пока они не исчезли в здании. Я приучилась брать с собой на обед пакетик орешков и бутылку воды, говорить вежливо, но напористо, улыбаться, чтобы пробуждать сознательность и симпатию. «Я ищу семью Леона Чжена. Я его жена. Нас разлучили. Мне нужно найти его семью».
После нескольких первых визитов чиновники стали меня узнавать и морщились при моем виде, прятали глаза.
– Мисс Гуо, – сказал один. – Я уже сказал на прошлой неделе, что семейные регистрационные записи – не публичные документы. Только если вы придете со свидетельством о браке…
– Я снова вернусь завтра. Я позвоню.
Я ходила и звонила каждый день, пока мне не сказали, что если я не перестану спрашивать, то меня арестуют.
Несколько месяцев я разговаривала только при необходимости, избегала других женщин в общежитии, которые относились ко мне с подозрением и между собой общались на сычуаньском. У меня было два костюма, и после дня ношения я стирала каждый по ночам в раковине, вешала сушиться на вешалке, которую соорудила из шкантов и резинок. Я работала, сколько могла, пока не уставала и меня не одолевали вина, ярость и сокрушительная печаль. Иногда, пока я красила кому-нибудь ногти, мне внезапно хотелось закричать, и в перерывы я уходила в туалетную кабинку и именно это и делала – запихивая пальцы в рот, чтобы никто не слышал. Таяли недели. Выходные были хуже всего, потому что меня не отвлекала работа, а в памяти еще были свежи образы тебя, Леона и Ардсливиля. Часы ожидания перед районной администрацией стали моей повторяющейся казнью, иногда я мечтала о том, чтобы с улицы вильнул автобус и размазал меня по земле. Я начала работать по семь дней в неделю. Не сразу узнавала себя в зеркале ванной, когда видела скорбное, раненое выражение лица – будто меня вечно били, – и всё же одновременно это казалось достойным наказанием.
Однажды днем, когда я провела в Китае уже полгода, я красила ногти на ногах какой-то женщины, когда заметила в салоне странного мужчину. Я вернулась к ногтям, но чувствовала, что он подходит ближе, а когда подняла взгляд, увидела у него щербинку между зубами и капнула лаком себе на колено.
– Звездочка? – спросил он.
Я как можно скорее закончила педикюр, попросила коллегу подменить меня и вывела Леона на улицу. Он сказал, что в Мавее на него наткнулся один из Чженов из его деревни, которому я оставляла адрес салона.
Мы нашли переулок и обнялись, и, когда я прижалась к нему своей щекой, запах его кожи был таким, как я помнила. Мускусным и сладким, таким прекрасным, знакомым. Когда он обнимал меня в последний раз? Слишком давно. Это был Леон – из времен до того, как меня забрали в Ардсливиль. Я прижала его крепче, заговорила в его шею:
– Где Деминь? Он с тобой?
– Мне надо тебе кое-что рассказать, – говорил в стену Леон. И рассказал, что тебя усыновила белая пара, американцы из Нью-Йорка. Всё устроила Вивиан. Она не знала, как меня найти, и они решили, что я никогда не вернусь.
– Не надо было мне уезжать, – сказал он. – Если бы я не уехал, он бы еще был со мной. Это я виноват. Я не знаю, как с ним связаться.
Я услышала, как всхлипнул Леон, а потом – собственный плач. Я орала на него, обвиняла, называла самыми худшими словами. Последние полгода я то держалась за надежду, что найду тебя, то пыталась смириться, что ты ушел от меня навсегда.
Леон отвез меня в общежитие, и я собрала вещи. Мы отправились в маленькую квартирку на восточной окраине, принадлежавшую его другу, которого не было в городе. Я спросила, почему мы не поедем к нему в квартиру, и он ответил: «Мне нужно рассказать кое-что еще». И рассказал.
В нашу первую ночь вместе я проснулась рывком. Флуоресцентный свет, охранник с блокнотом – я почувствовала на себе чью-то руку и закричала.
– Звездочка, звездочка.
Я увидела лицо Леона. Это был повторяющийся кошмар – на мой крик во сне жаловались все соседки. Стены Дыры, вес наручников на запястьях и лодыжках.
Леон поцеловал меня. «Теперь ты со мной».
Из квартиры мы выходили только за едой навынос, ели голыми на кухне, бегали в душ, только чтобы снова оказаться в постели. Время от времени звонил мобильник Леона, но отвечал он редко, а когда отвечал, ему хватало такта уйти в другую комнату. На третий день он ушел из квартиры и вернулся с таблетками, и той ночью мои кошмары затмились, сон превратился в темный пустой квадрат.
Всего пять дней, лихорадочный сон, и в конце мы были без сил, но всё еще тянулись друг к другу, как два уставших магнита, сближавшихся по привычке, из-за отсутствия выбора. Пока мы оставались в этой комнате, время не двигалось. Мы могли притвориться, что не прошли два года с тех пор, как мы видели друг друга в последний раз, что мы не избегаем вопросов. Что ты не пропал.
То, что тебя так просто не стало, так просто отдали другой семье, словно бездомную собаку, было слишком неохватно; зависло, как и весь мир, вне моей досягаемости. Я слышала об одной деревенской паре, которая пыталась вернуть свою дочь у приемной семьи, но попала в тюрьму. Я думала о том, чтобы принять все таблетки сразу, вытряхнула из пузырька и пересчитала (их было тридцать пять) и сложила назад. Может, ты еще сможешь меня найти.
Пока мы оставались в той комнате, твое усыновление было ненастоящим. Но на следующий день домой возвращался друг Леона, и нам пришлось оставить квартиру.
– Я могу пойти с тобой, – сказал Леон. Мы завтракали в пекарне, когда вышли, чтобы постирать простыни и полотенца. – Мы снова можем быть вместе. – Он протянул руки через стол, сплел пальцы с моими.
Мимо проехала скорая помощь, и я подскочила от звука сирен. Последние пять дней были миражом. Он просил меня остаться с ним потому, что думал, будто это я хочу слышать, но у него уже была своя семья. Я видела облегчение на его лице, когда отказалась.
Потому что из-за жизни с Леоном твоя утрата делалась реальной.
– Отправляйся домой, к жене, – сказала я ему. В первый наш день вместе я еще думала, что смогу поставить его перед выбором, но на пятый уже не хотела этого сама. – Отправляйся домой, к своей девочке.
Ты соскользнул по стене, пока не закопался в отельное одеяло.
– И на этом всё? – спросил ты. – Ты меня забыла?
– Я не забыла. Я просто выживала.
Я пошла на курсы мандаринского для бизнеса, чтобы спрятать деревенский акцент и найти работу получше. Когда учитель услышал, что я жила в Америке, он сказал, что открывает еще и школу английского. Я рассказала, будто бы в Нью-Йорке училась и ездила в Америку по студенческой визе. Даже если мой английский был не очень, он всё равно оказался лучше, чем у некоторых учителей.
– Прямо сейчас работа в «Ворлд Топ» не обеспечит вас городским хукоу, – сказал начальник Ченг, когда я переехала в учительское общежитие. – Но в дальнейшем – посмотрим.
Я решила, что устроюсь сюда, заработаю побольше и придумаю, как вернуться в Нью-Йорк, чтобы найти тебя.
Я преподавала в «Ворлд Топ» почти год, работала и копила сколько могла, когда в классе появился Ён. Многому он у меня не научился, но вечером после последнего урока сказал по-английски: «Я бы хотел встретиться с тобой еще».
Он начал водить меня на ужин дважды в неделю – те несколько часов, когда моя скорбь уходила на задний план, небольшая передышка. Мне нравились его постоянство, амбиции и доброта; я забыла, как это, когда на меня обращают внимание, когда со мной разговаривают. Передо мной был человек, который мог стать мне парой. И это мой шанс выйти замуж за хукоу, получить постоянное разрешение на проживание в городе. Без него я всегда буду мигранткой. В любой момент меня могли вышвырнуть из города. Те пять дней с Леоном, ощущение, как земля уходит из-под ног? Это может никогда не повториться.
Через два месяца я поцеловала Ёна. Через шесть мы устроили свадьбу в отеле на площади Вуй. Подавали двенадцать перемен блюд, восемь из них – морепродукты.
– Я ничего не могла поделать, – сказала я. – Я не могла вернуться в Америку после депортации. Я не могла никуда податься. Если бы я постоянно думала о тебе, то не смогла бы жить дальше.
Я знала, как это прозвучит для тебя: я мало старалась, я мало тебя любила. Но я же могла проискать целую вечность. Мне было нужно, чтобы ты это понял.
– Ты меня забыла, – сказал ты.
– Нет. Никогда.
– Ты даже не рассказала обо мне мужу.
– Рассказала. Ты с ним виделся. Ты знаешь.
– Не рассказывала, пока я не позвонил.
Я опустила голову. Ты был прав.
– Я думала, он разозлится и уйдет от меня. – Но это тоже было ложью. Это я только говорила сама себе. И сама же никогда не верила.
– Я думал, ты ушла, потому что я сделал что-то не так. Я же был ребенком! – Ты бил по матрасу кулаками. Наверняка хотел ударить и меня.
– Ты всё делал так, – сказала я. – Когда я вернулась в Китай и узнала, что Леон заплатил по долгам, я поняла, что ты в порядке. Хоть мне и была ненавистна мысль, что ты зовешь мамой белую женщину.
Ты фыркнул:
– Не Леон платил ростовщику. Это платила Вивиан.
Теперь я правда почувствовала себя так, будто меня ударили.
– Но ты же был в безопасности, да? С приемными родителями? – Я слышала в собственных вопросах умоляющее отчаяние – как сильно мне хотелось верить, что ты всё это время был в порядке, что я сделала всё, что могла.
Долгое молчание. Наконец ты сказал:
– Я никогда не звал приемную мать мамой.
Ты выключил свет. Миг мы лежали вместе, на раздельных кроватях, пока твои слова накрывали нас теплым одеялом, делали не такими одинокими.
Он не ожидал, что ему так понравится преподавать. Сегодня он разбил студентов на группы по трое для ролевой игры: по-английски сделать заказ в ресторане, спросить дорогу. Другие педагоги – даже его мать – смеялись из-за того, что он сам себе усложняет работу и не учит по учебнику. Но его студенты не спали, увлекались, и он был не против стать предметом шуток и любопытства. Когда он сказал, что они могут спросить у него что угодно, но только на английском, они друг друга начали перекрикивать. Что носят в Нью-Йорке? Что едят? Есть ли у него девушка? Начальник Ченг делал ему выговоры, говорил, что в его классе слишком шумно, но, когда студенты Дэниэла рассказали о нем своим друзьям, а те зачислились и попросились в его класс, начальник Ченг перестал к нему приставать. «Начальник Ченг ни хрена не понимает, – сказала мать, смеясь своим прежним смехом. Дэниэл подался вперед, навстречу комплиментам, всегда жаждая еще. – Ты лучший учитель в этой школе. Это ты должен быть директором». Это и стало ее новым планом. Он останется в Фучжоу, пойдет по ее стопам. Из-за этого он испытывал гордость – но и неуверенность. Он не знал, хочет ли быть директором «Ворлд Топ Инглиш». Но потом она смотрела на него с улыбкой, он улыбался в ответ и думал: «Да, здесь мое место».
Он прожил в Китае три месяца, не общался с Питером и Кэй с самого отъезда из Риджборо в августе. Люди больше не смеялись над его акцентом; его мандаринский и фучжоуский вернулись на уровень носителя языка, и паузы между переводом и произношением становились всё меньше и меньше, пока не были уже почти незаметными – его мозг автоматически перестраивался на китайский.
Туристическая виза уже скоро кончалась, и мать была в процессе оформления для него настоящей рабочей визы. Анкеты пролежали в его комнате уже несколько недель, надо было их заполнить. До тех пор он не мог получать зарплату легально, не состоял официально в штате «Ворлд Топ Инглиш», но начальник Ченг платил премии его матери, которые она переводила на его банковский счет.
После утренних уроков Дэниэл пошел обедать с двумя другими учителями – Эдди и Тэмми. Обычно те настаивали на «Макдоналдсе» и «Пицце Хат» – местах, где по своей воле он бы есть не стал. Сегодня они отправились в ресторан спагетти, который Тэмми назвала утонченным, хотя Дэниэл был бы не против сходить в лапшичную и выхлебать миску дешевого супа. От «Ворлд Топ» до ресторана было три квартала – Дэниэл уже ознакомился с большинством улиц в центре Фучжоу, привык к несущимся со всех сторон мопедам. Лето в Риджборо, нью-йоркская зимняя прострация до него – всё это как будто осталось в другой жизни. Поразительно было понимать, что это он топал по льду на Канал-стрит, не зная, что к концу года не только увидит мать, но и будет с ней жить, видеть каждый день.
В динамиках ресторана зациклилась старая песня, где луна светила певцу в глаза, как большая пицца. Официантки носили красно-бело-зеленые формы. Это оказался «Макарони Гриль» на стероидах. Эдди сел на банкетку рядом с ним.
– Меню аутентичное? – Вне класса они разговаривали по-фучжоуски.
Дэниэл пролистал картинки пасты, утопленной в красных и белых соусах. Если они ели не в китайском ресторане, Тэмми и Эдди всегда просили заказывать его.
– Да, – ответил он.
Тэмми смахнула кудряшки с глаз. В отличие от Эдди, она избегала зрительного контакта любой ценой.
– Рестораны, где официантки в форме, всегда аутентичные. Деминь, закажи на всех.
Дэниэл попросил у официантки три миски спагетти с тефтелями и гренки с чесноком. Под немигающим взглядом Эдди он чувствовал себя как на перекрестном допросе. Тэмми сказала, что слышала, будто в этом ресторане подают лучшую американскую еду в Фучжоу.
– Это же не американская кухня, – сказал Эдди.
– Ну, так-то итальянская, – сказал Дэниэл. – Но блюда в американском стиле. Можно сказать, итало-американская.
– Так итальянская или американская? – спросила Тэмми.
– И то и другое.
– Но итальянцы же не американцы, – сказал Эдди.
– Бывают и италоамериканцы. Если твои родители родились в Италии, а ты – уже в Америке.
– В таком случае ты американец, – ответила Тэмми. – Ведь ты родился в Америке.
– Ну, можно быть американцем китайского происхождения. Я – американец китайского происхождения, потому что родился в Америке.
– Но у тебя же китайское лицо, значит, ты китаец, – сказала Тэмми.
– У американцев тоже бывают китайские лица. Это не только белые.
Тэмми и Эдди переглянулись, и Эдди что-то быстро пробормотал на фучжоуском, чего Дэниэл не разобрал.
– Эй, я же здесь, – сказал Дэниэл. – Я же слышу, как вы говорите обо мне.
– Мы не о тебе, – ответила Тэмми.
Томатный соус оказался слишком сладким, паста – переваренной, и Дэниэл тосковал по настоящей нью-йоркской тонкой пицце, которую складываешь пополам и жуешь за заляпанной маслом стойкой пиццерии. Сегодня он возьмет что-нибудь по дороге домой и будет есть перед телевизором. Будь он сейчас на Манхэттене или в Риджборо, друзья угощали бы его шотами, но вместо этого он вернется в пустую квартиру. Мать будет поздно – она ехала на скоростном поезде из Сямыня, где провела последние два дня по работе. Она больше не следила за ним так пристально, будто он мог в любую секунду испариться, и по выходным они часами гуляли по городу, долго ели что-нибудь несерьезное, после чего он чувствовал себя сытым и согретым. Но, когда она планировала за него, говорила о людях, с которыми он должен встретиться, или будущей поездке, куда они выберутся вместе, он чувствовал липкий страх – будто заспался в зимний день и, когда проснулся, обнаружил, что уже темно.
Ему не хотелось быть одному, только не сегодня.
– Чем занимаетесь сегодня вечером?
Они опять переглянулись.
– Ужинаем с семьями, – ответил Эдди.
После уроков он дождался автобуса до Уэст-Лейк-парка. Ён сегодня работает допоздна или на деловом ужине. Однажды вечером он водил Дэниэла на свою фабрику, и Дэниэл смотрел из офиса администрации на ряды женщин за швейными машинами. «Твоя мать не любит приходить ко мне на работу», – сказал Ён.
Раз или два в неделю Дэниэл ездил на автобусе к Леону, чтобы поужинать с ним и Шуан. Он играл в парке с Йимей, показывал, как бросать фрисби и кататься на заднем колесе велосипеда, и жалел, что она не его настоящая родная или хотя бы двоюродная сестра. Когда он упомянул об этих визитах матери, она сказала: «Может, когда-нибудь схожу с тобой». Но сегодня был занят и Леон; сказал, что ему придется работать допоздна.
Теперь, когда Дэниэл снова начал зарабатывать, он мало-помалу возвращал деньги Энджел. Он разрезал свою кредитку и потихоньку закрывал задолженность, но всё, что оставалось сверх того, – обычно не очень много – слал ей. Она никогда не отвечала, но принимала деньги.
От Роланда он тоже ничего не слышал. В последний раз, когда он гуглил Psychic Hearts, несколько недель назад, он прочитал отзыв на их последний концерт с заголовком «Не верьте хайпу»:
Хотя гитарист Нейт Лундстрем – бывший участник нескольких проектов «Меланхолии» – подкован технически и стилистически, новой, танцевальной конфигурации Psychic Hearts недостает клаустрофобной, маниакально-депрессивной и почти мистической целостности первоначальной пары. Зацикленные биты пообтрепались и стали мучительно однообразны, а завывания Фуэнтеса вымученные – будто пятисортный Lightning Bolt встречает баблгам-поп… Как что-то настолько хеви может звучать настолько минималистично? Нет, детишки, это, конечно, круто, но здесь нет ничего такого.
Приехал автобус. Конечно, все пассажиры были китайцами. Прошли недели, прежде чем он перестал удивляться, что все вокруг, включая людей по телевизору, включая самых красивых девушек, – поголовно китайцы. Как человек из Америки, он стал объектом желания, что одновременно льстило и казалось странным; девушки флиртовали с ним, как только слышали, что он из Нью-Йорка. Даже Тэмми, у которой был парень, шла слишком близко, когда они ходили на обед. Он встречался пару раз с девушкой, которая училась в старшей школе с одним из учителей «Ворлд Топ», – менеджером отдела продаж в компании, производящей пластиковые чешки. Была еще одна девушка, подруга подруги Эдди, – она жила с родителями в пригороде и спорадически ему писала.
Был какой-то незнакомый комфорт в жизни среди своих, но даже тут он чем-то выделялся. Водитель автобуса приглядывался к нему на миг дольше, когда он покупал билет, как и женщина через проход, с сумкой продуктов на коленях. Ён с матерью заверяли, что теперь его китайский звучит нормально, а не так причудливо, как когда он только прибыл, но Дэниэл решил, что дело в его одежде, осанке или том, как он выглядел, ходил или держался, – что-то выдавало, что он не отсюда. Хоть он и поощрял задавать вопросы, часто сам уставал оттого, что студенты и другие учителя в «Ворлд Топ» находят его источником непрестанного интереса. Студенты спрашивали, почему он такой высокий, – хотя Эдди был выше него, – и уговаривали петь песни на английском. Когда другие учителя спрашивали, чем он занимается на досуге, и он отвечал, что любит гулять в наушниках и слушать музыку, они смеялись.
Он позвонил матери, надеясь, что она все-таки вернется домой на ужин, а когда она не ответила, не стал оставлять сообщение. Не надо просить ее быть сегодня дома. Если она забыла, какой сегодня день, он знает, что делать. Боже, он надеялся, что она не забыла.
Он подключил наушники к телефону, почувствовав, как становятся ватными ноги, когда включается музыка – микс из старых любимчиков: Suicide, Артур Рассел, Queens of the Stone Age. Зажужжал телефон, и он ожидал увидеть имя матери, но это ошиблись номером – парень сказал на мандаринском: «Извините». Как глупо снова ждать ее. Разочаровываться в ней.
До этого, когда он остался один, он тщательно обыскал квартиру, прочесал ящики и шкафчики, даже шарил под кроватями и кожаным диваном (наконец у матери хороший диван, как она всегда хотела), но нашел только аккуратно сложенную одежду, папку с документами по работе и квартире. Он искал скрытые факты, знак, который укажет, что делать дальше. Но в квартире не было ни одной фотографии, никаких заныканных обувных коробок с сентиментальными сувенирами, никаких секретных дневников или предметов, которые раскрыли бы те стороны матери или Ёна, что они не представили сами. Они существовали только в настоящем, их жизни были такими же новенькими, как квартира. Он надеялся, что это поможет им довериться, но все-таки переживал, не хотел остаться в дураках.
Женщина через проход теперь открыто на него таращилась, и он заметил, как стиснул зубы, как крепко сжимал руки. Он включил музыку погромче, но уже не смог вернуть первоначальное удовольствие. Оставались опасения, страх, что он кого-то подводит, что подводят его.
У ворот дома Дэниэл с сумкой еды – из ресторана поблизости с автобусной остановкой – поприветствовал Чуна, охранника. «Приятного вечера», – сказал Чун и улыбнулся. Дэниэл открыл входную дверь собственным ключом и поднялся на лифте на двенадцатый этаж.
Он замешкался перед тем, как включить свет, – был в процессе того, что одной ногой прижимал пятку ботинка на второй, – когда услышал шорох. «Кто здесь?» – спросил он, и через секунду свет вспыхнул и раздался хор: «Сюрприз!» Там были мать, и Ён, и размазанное пятно из других лиц.
Она не забыла про его день рождения. Она не только помнила – ну конечно же, она помнила; как он мог думать иначе, – но и собрала в квартире всех, кого он знал в Фучжоу: Эдди, Тэмми и других учителей из «Ворлд Топ», его студентов из «Быстрого английского сейчас», друзей ее и Ёна. Здесь были даже Леон, Шуан и Йимей. Переполненная комната, привязанные к стульям шарики и еда на стойке – тарелки с фруктами, мясом на гриле и лапшой. Включили музыку. Кто-то сунул ему в руку пиво.
Настоящий праздник.
– Удивился? – спросила мать. – Когда я рассказывала про сюрприз, все думали, что это странно. Помню, видела такое в кино.
– Тэмми и Эдди помалкивали, когда я с ними обедал. И студенты ничего не выдали.
Она рассмеялась:
– А я сказала, всех уволят, если скажут хоть слово.
Дэниэл снова оглядел комнату. Люди сидели на диване, ели чипсы и орешки, кто-то пил пиво на кухне.
– Но ты же не любишь столпотворения, – сказал он.
– Ничего.
– Не любишь вечеринки.
– Неправда. Раньше я любила вечеринки.
– Раньше.
– И теперь.
– Ты пригласила Леона.
– Я хотела, чтобы пришли все, кто для тебя важен. Он недавно позвонил, и мы немного поговорили. Я познакомилась с его женой, дочерью…
Казалось, она действительно рада.
– Спасибо, – сказал он.
– С днем рождения, Деминь. – Она погладила его по руке. – Мой сын, будущий директор «Ворлд Топ Инглиш».
– Ну, – сказал Дэниэл, – и правда, начальника Ченга я здесь не вижу.
Он блуждал по квартире, тут и там останавливался поговорить. Из пары портативных динамиков орала поп-музыка с автотюном, на мандаринском языке. Шуан и подруга его матери Нин танцевали с Тэмми – старшие женщины следовали ее более замысловатым движениям.
Леон и Йимей разговаривали на кухне с Ёном, и Ён поманил его к ним:
– Давай сфотографируемся.
Дэниэл усмехнулся, разгоряченный и хмельной.
– Пришли потом мне, – сказал он и обнял Йимей, пока Леон встал сзади и Ён снял на телефон.
– У вас есть чем порисовать? – спросила Йимей.
Он спросил себя, похожи ли они хоть чем-нибудь – хоть они и не родственники.
– Мелков нет, зато есть бумага и ручки. Давай поищу.
В гостевой комнате матери, которая стала его спальней, яростно звенел его ноутбук. Он нажал на кнопку, и экран ожил, завалив его сообщениями из Риджборо и Нью-Йорка, даже Потсдама. Майкл прислал видео, где он, Тимоти и Вивиан поют «Хэппи бездей» на кухне в Сансет-парке. Роланд написал: «С днем рождения, Д. Скучаю». Даже Коди скинул: «чё когда там домой?»
Дэниэл читал и перечитывал одно сообщение за другим. Так много, и ему вскружило голову от печали. Его не забыли.
Из гостиной раздался округлый всплеск смеха, и он вспомнил, зачем пришел. Порылся в куче бумажек, отодвигая заявление на визу, которое обещал матери заполнить на прошлой неделе, нашел блокнот и несколько ручек для Йимей. Он уже хотел закрыть ноутбук, когда выскочило новое окно.
«Звонит “пкуилкинсоны”» – объявило оно. Появилось другое окно с сообщением: «Дэниэл, ты там?»
Окно пульсировало и светилось. Он закрыл дверь, приглушив вечеринку, потом вернулся, сел на кровать и щелкнул. Появились лица Кэй и Питера, щурившиеся в экран. Они были в кабинете в Риджборо. Он узнал книжные шкафы, синие обои, дипломы и награды в рамочках.
– Дэниэл? – сказала Кэй.
– Ты где? – спросил Питер.
– В Фучжоу. В Китае.
Они перебивали друг друга. В трансляции была секундная задержка, так что Дэниэл видел, как двигаются их губы, и только потом слышал голоса, и их движения слегка сбоили, за лицами следовали пиксельные цветные пятна. Он услышал, как Кэй переспросила: «Китай?», а Питер сказал: «С днем рождения».
Дэниэл кричал в экран. Его английский казался узловатым, необычным.
– Я живу с мамой – родной мамой. Я в порядке, работаю. Преподаю английский. Не играю в карты. Теперь у меня отличный китайский – в смысле, он вернулся.
Лицо Кэй было таким, будто она на грани срыва.
– Мы хотели пожелать своему сыну счастливого дня рождения, – сказала она.
Дэниэл почувствовал, как у него увлажнились глаза.
– Который у вас час? – спросил Питер.
– Восемь вечера. – Дэниэл слышал музыку из соседней комнаты. Ему хотелось остаться и поговорить, но не хотелось и пропускать веселье. – Мне тут закатили вечеринку. Как вы поживаете?
Кэй сказала, что недавно столкнулась с Коди в «Фуд Лайоне». Питер сказал, что смотрел на YouTube концерт Тома Петти 1980-го. Дэниэл рассказал, что он любимый учитель в «Ворлд Топ Инглиш».
– Может, ты нашел свое призвание, – ответил Питер.
– Ты вернешься домой? В Америку? – спросила Кэй.
– Не знаю.
– Ты же знаешь, тебе всегда здесь рады, – добавила Кэй.
– Рождество на носу, – сказал Питер.
Дэниэл сглотнул комок.
– Посмотрим.
Он услышал снаружи шаги.
– Деминь? – позвала из коридора мать. – Ты где?
– Минутку, – сказал он по-фучжоуски. Но дверь открылась, и в комнату влились свет и голоса, и уже было поздно прерывать звонок. Он обернулся и увидел в дверях мать.
– Торт готов, – сказала она. На глазах Питера и Кэй она подобрала анкету для визы, упавшую на кровать. – Ты еще не заполнил?
Она посмотрела ему через плечо на компьютер, и Дэниэл увидел ее лицо на маленьком экранчике, показывавшем то, что видели у себя Питер и Кэй. Его лицо и ее лицо рядом, глядящие в камеру вместе. Он увидел, как выражение Питера сменилось от замешательства к узнаванию. Губы Кэй сперва чуть застыли, потом она спохватилась и улыбнулась.
– Кэй, Питер? Это моя мать, Полли.
– Привет, – сказала его мать по-английски.
– Очень рады познакомиться, Полли, – сказала Кэй, поджимая губы.
Ему показалось, он заметил в ее словах медлительность, которой не было раньше. Все втроем разглядывали друг друга, пока Дэниэл пытался придумать, что сказать.
– Вы правда похожи, – сказал Питер. – Я это вижу.
– Спасибо, что заботитесь о Дэниэле, – сказала Кэй. – Он наверняка наслаждается жизнью в Китае.
Его мать кивнула, не сводя глаз с экрана, и Дэниэл заметил, что она стиснула зубы. Ему хотелось ее защитить, но от чего? Когда она рассказала об Ардсливиле, он вспомнил, что говорил Леон: что в ней что-то сломалось.
Он не мог точно сказать, то ли она не понимает Кэй и Питера, то ли ей не хватает слов на английском, то ли она не знает, что ответить, – но ему хотелось, чтобы она ответила, что угодно, чтобы она была такой же громкой, требовательной и всезнающей, как обычно. Ему было неприятно видеть ее так, как наверняка видят Питер и Кэй: безмолвная китаянка с сильным акцентом. Его злили их напряженные улыбки.
– Мне пора вернуться на праздник, – сказал он по-английски.
– Ладно, – сказала Кэй. – Мы скоро еще поговорим, Дэниэл.
– И может, увидимся на Рождество, – сказал Питер. – Может, поможем тебе оплатить билет.
Мать наклонилась, загородив его лицо на экране, и сказала по-английски:
– Его зовут Деминь, а не Дэниэл.
Дэниэл чуть не рассмеялся; пришлось прикусить язык. Но тут у Кэй пропала улыбка, и он ощутил потребность извиниться перед ней и Питером. Или извиниться он должен перед матерью?
Он попрощался и вышел из мессенджера. В комнате уже ждали с тортом друзья, и мать зажгла свечи, и он их задул, потом поднял взгляд и увидел Леона и Ёна, Эдди и Тэмми, Шуан и Йимей. Их аплодисменты звучали переливающимся желтым цветом, а голос матери, назвавшей его по имени – «Деминь!», – самым теплым золотом.
Он собрал тарелки и ложки, пустые бутылки из-под «Циндао»; завязал мусорные мешки; пропылесосил крошки с ковра; подмел на кухне. Если чем-то заняться, то он отведет вопросы матери о Питере и Кэй.
Ему не хотелось в Карлоу. Не хотелось представлять доклад на Конференции преподавателей английского языка. Питер и Кэй его поддерживали – по-своему, – тогда почему он на них злился? Но не мог Дэниэл подвести и мать, потому что, пока он играл с Роландом в компьютерные игры и слушал Хендрикса, она сидела в тюремном лагере. Ей до сих пор снятся кошмары. По самой меньшей мере он не хотел ее огорчать.
Все мы что-то себе рассказываем, чтобы жить изо дня в день. Например, Вивиан верит, что помогла ему, мать настаивает, что искала его, что смогла забыть о нем только потому, что с ним всё было хорошо. В номере в Пекине, когда он сказал правду о том, что долг заплатила Вивиан, этим ему хотелось сделать ей больно, так что потом он подарил ей ложь – что никогда не звал Кэй мамой.
– Увидела в твоей комнате. – Она зашла на кухню в пижаме, с анкетой на визу. – Похоже, ты забыл заполнить.
– Оставь на столе, – сказал он, оттирая пятно на стойке. – Потом разберусь. Прикольно было, что Эдди и мои студенты спели песню про день рождения и написали новый текст с моим именем? Я и не знал, что у Эдди такой хороший голос или что Тэмми так хорошо танцует.
– Хватит тебе тереть. Я потом уберусь.
– Мы выпили столько пива! Неудивительно, что соседи стучали.
– Присядь. Давай я.
– Ты уже устроила мне вечеринку.
– Потому что сама так хотела. Ты мне за это ничего не должен.
Она взяла апельсин с одной из тарелок с объедками и села за кухонный стол. Он отложил губку и смотрел, как она его чистит, снимает шкурку ногтем, делит на тарелке – половина для нее, половина для него. Он обнял ее сзади. В удивлении она взяла его за руки. Он многие годы думал, как бы они жили, если бы мама с Леоном не уехали, если бы Вивиан не сдала его в агентство по усыновлению. Это было как смотреть на воду, растекающуюся по сухому асфальту – разбегающуюся во всех направлениях. Питер и Кэй усыновили бы другого мальчика. Он бы жил в Сансет-парке, или Бронксе, или Флориде, или еще каком-нибудь месте, о котором никогда не слышал. Он представлял, как его доппельгангеры проживают жизни, которых у него не было, в других квартирах, домах, городах и поселениях, с разными родителями, разными языками, – но сегодня он видел только себя, там, где он был, в конкретных обстоятельствах, которые стеклись к конкретной жизни, которая потечет в новых направлениях.
Он сел. Мама дала анкету и ручку.
– Я пошлю завтра.
Он взял дольку апельсина. Всё это время он ждал, когда начнется его настоящая жизнь: когда его примут в свой круг друзья Роланда и группа прославится. Когда он найдет мать. Тогда-то всё изменится. Но жизнь не ждала его, протекала – в разряде апельсинового сока на языке или в двуязычных снах, в лицах студентов, когда они понимали новое слово, в дымке от свечей на торте, когда он их задул. В наплыве, повороте и хрусте идеальной мелодии.
– Поедешь в Нью-Йорк на Рождество? – спросила мать. – К приемной семье?
– Нет, конечно нет.
– Они тебе часто звонят?
– Не разговаривал с ними с тех пор, как приехал сюда. Это был первый раз.
– Но они хотят, чтобы ты вернулся.
Он был как Тэмми – не мог ответить на взгляд матери.
– Мой дом здесь.
– Значит, ты останешься? Со мной?
Забавная штука – прощение. Можно много лет на кого-нибудь злиться, а потом осознать, что чувства изменились, что обычный образ мышления ускользнул, пока ты сам того не заметил. Он увидел – во вспышке тревоги на лице матери, пока она ждала ответа, в дрожащих голосах Кэй и Питера, когда они только что с ним прощались, – что за прошедшие месяцы его страх быть никому не нужным растворился. Потому что и мама, и Кэй, и Питер пытались убедить его, что заслуживают его любви, а не наоборот.
Он съел апельсин, взял анкету и открыл ручку, поискал глазами, где подписать.
IV. Беспокойные
Весной, через четыре месяца после того, как от меня ушел ты, ушла и я. Не просто из дома в Фучжоу, но и от старой жизни: Ёна, работы, квартиры, всех, кого я знала. Я решила переехать в Гонконг. Пока ты оставался со мной, я притворялась, что мы никогда не разлучались, что Ардсливиля не было. Но, когда ты уехал из Фучжоу, я поняла, что тоже могу уехать – и что, может, для этого еще не поздно.
Рейс до Гонконга был короткий, меньше двух часов: стоило привыкнуть к полету, как стюардессы уже готовились к посадке. В аэропорту я прокатила чемодан – маленький, с самым необходимым – через проверку документов, потом на метро, на котором доехала до центра города. Вышла на улицу перед торговым центром, где машины ехали по левой стороне дороги, а не правой. Перешла я только с нескольких попыток. Даже вечером людей на улице было много – они говорили по-кантонски, вывески мигали на китайском и английском. У меня был адрес однокомнатной квартиры, которую я сняла не глядя; завтра утром я выйду на новую работу в Коулуне.
В терминале парома я купила билет, нашла себе место на верхней палубе. Паром качался на волнах, и, глядя на огни Коулуна, выходящие из тумана, я вцепилась в поручни, задыхаясь от смеха. Как же я ошибалась, когда думала, что это чувство утрачено навсегда. Эта легкомысленная неуверенность в жизни, все мои страхи и радости – я могла к ним вернуться, врезать со всей силы по небу. Потому что я нашла ее: Полли Гуо. Куда бы я ни отправилась дальше, я уже никогда ее не отпущу.
Ветер бросил волосы назад, потом вперед. Вода была Минцзяном, Нью-Йорком, Фучжоу, но больше всего – тобой. Я вспомнила последний раз, когда мы вместе ходили к воде в Нью-Йорке – в лето перед тем, как меня забрали в Ардсливиль. В конце августа, ближе к вечеру, когда жара ослабляла хватку, мы вышли на мост над рекой Гарлем, тянущейся через Бронкс и Манхэттен. Воздух был мягким и вязким, под ногами покачивался тротуар, когда мимо проезжали машины. Река внизу – бурая и мутная.
Мы стояли на середине моста. Тебе было десять, почти одиннадцать; ты уже предпочитал мне компанию своих друзей. Пришлось подкупать тебя шоколадкой, чтобы выманить от телевизора.
Я показала на здание на манхэттенской стороне.
– Видишь, кто там живет? – спросила я, вспомнив нашу старую игру.
Ты покачал головой и закатил глаза.
– Может, мать с сыном? – сказала я.
– Нет, бейсбольная команда, – наконец ответил ты.
– Вся команда? Может, только несколько человек.
– Все вместе живут в одной квартире. Квартира большая.
– Они играют по вечерам, – сказала я. – И спят днем.
Ты расплылся в улыбке.
– Едят картошку фри. Бросают мячик на крыше.
– Но никогда не падают.
Далеко внизу двигалась вода, обнажая зонтик, массу полиэтиленовых пакетов. Река казалась суровой, решительной, но всегда раскрывала свои секреты.
Теперь двигатель парома снизил обороты – мы приближались к причалу. Матрос бросил за борт веревку. «Коулун», – услышала я одну женщину. Мы остановились, и я подняла ручку чемодана, позволяя толпе увлечь себя. Скоро я сойду на берег, на новое место. В начале, знала я, обычно лучше всего.
На мосту над рекой Гарлем дилинькала песенка фургончика с мороженым, за которой последовали фырканье и остановка автобуса. Опустилось окно в машине, полилась музыка, женщина пела: «Некоторым нужно всё и сразу…»
Мы стояли на краю летней ночи и слушали. Потом ты сложил руки у рта, наклонился над перилами и прокричал свое имя. Я присоединилась, прокричала свое, и мы позволили голосам подняться, скакать и отдаваться эхом, лететь над городом. Мое сердце разжалось. Ты быстро рос и скоро станешь выше меня, но эта игра, эта песня останутся всегда.
Мы двинулись к дому – солнце заходило за крыши, – и, когда ты побежал, я последовала за тобой, под топот ног, отставая всего на миг.
В третий раз он играл в вечер вторника. Первым из четырех, он сидел на сцене с акустической гитарой и сэмплером со всеми бэк-дорожками, которые записал дома, у себя в комнате. Снаружи приближалась к припеву уже как будто двадцатая метель за зиму, а внутри был занят только один столик, причем участниками следующей группы. От основного бара забрела случайная пара и ушла через десять секунд после начала первой песни Дэниэла. Он слышал, как они разговаривали во время его короткого приветствия (просто назваться и поздороваться; он отказался от обязательной шутки про погоду), а когда они ушли, ему хотелось бежать со сцены за ними.
Он никого не приглашал на концерты, хотя, когда играл в последний раз, две недели назад, мимо бара как раз проходил Роланд и заметил имя Дэниэла на доске снаружи, напугал его, крикнув после последней песни: «Гребаный Дэниэл Уилкинсон!»
– Ты чего не палишься? – спросил потом Роланд. – Мы же встречались два дня назад – и ты ничего не сказал про концерт. – Это была не скрытность; это была самозащита. – Только слово скажи – и я передам про тебя Тэду, зарядишь альбомчик. Но долго не жди. Пока еще никто такого не играет.
На стенах бара висели рождественские гирлянды – синие, желтые и красные точки. Дэниэл слышал, как переговариваются парни из следующей группы, заметил, что барменша сидит в телефоне.
Первые две песни получились неуверенными – голос всё еще на взводе, темп сбивчивый, – но к третьей песне, о Демине и его доппельгангере, первоначальный страх почти прогорел, и он стал играть ровнее, голос окреп, он почувствовал слова, которые пел. Между песнями он ждал не дольше, чем звучало жалкое подобие аплодисментов от следующей группы, которая наверстывала отсутствие громкости энтузиазмом.
Что заставляло его так обнажиться, продолжать делать то, что пугало до жути? Когда он играл чужую музыку или выступал с кем-то еще, было не так страшно. А это было по-другому. Роланд назвал его песни свежими, безумно честными, реальной темой, и после каждого выступления Дэниэл думал: «Вот бы мне больше никогда не приходилось этого делать». Но через несколько дней уже рассылал ссылки на свою страницу, пытался договориться насчет следующего концерта.
Он дошел до последней строфы, когда взглянул на почти пустое помещение, чувствуя ворвавшийся страх. «Сделай публике одолжение, – подумал он. – Закругляйся пораньше». Он запнулся, забыл следующую строчку. Песня зависла в свободном падении. Хотелось сбежать, в безопасность и в унижение, но он знал, что это хорошие песни, что они достойны быть услышанными, и больше всего ненавидел, что его не слушают. Он вспомнил строчку, и песня выправилась, восстановила равновесие.
Когда он отыграл сет, никто его не поздравлял. Заканчивалась очередная зима, почти через год после первого концерта Psychic Hearts в лофте, и Роланд с Нейтом записывали первый альбом. К концу февраля, через несколько дней после того, как Энджел приняла его шестой денежный перевод, она ему написала – одну строчку, от которой он рассмеялся вслух:
Белая овца возвращается в родное гнездо.
Э.
В эти дни он редко бывал дома, работал в «Трес Локос» и давал частные уроки игры на гитаре школьникам из Верхнего Вест-Сайда. Несколько раз в неделю он пересекался с Роландом, а днем в среду и пятницу преподавал в музыкальном классе в общественном центре в Чайна-тауне, где семьи большинства студентов приехали из провинции Фуцзянь, а многих детей слали жить к бабушкам и дедушкам, пока не подрастут до школы. Дети из Верхнего Вест-Сайда бесились, что Дэниэл учит их держать гитару, а родители хотят вырастить из них нового Джека Уайта (но только в свободное время – оценки прежде всего), так что он с нетерпением ждал уроков в Чайна-тауне, где дети называли его йи го и радовались, когда получалось поймать ритм песни. Они еще не научились бояться того, что покажутся некрутыми.
От метро до бара было меньше десяти кварталов, но казалось, что больше – с гитарой и оборудованием под мокрым снегом, со скользящими по тротуару ботинками. За станцией метро находилась пиццерия, и он проголодался, но лучше подождет, пока не вернется на Манхэттен. В холодильнике была еда, а он уже становился хорошим поваром, обменивался рецептами со своим соседом по квартире, совершенствовал суп, который стал достойной вариацией супа из ресторана в Фучжоу, куда его водил Леон.
Через месяц после дня рождения, пока он ужинал в одиночестве, а мать с Ёном были на работе, Дэниэл увидел в статье, которую читал в сети, картинку – Нижний Бродвей в весенний день, доставочные грузовики и такси, тележки с халялем и пожарные лестницы. Той ночью, в первый раз после приезда в Китай, он слушал песни, которые написал за лето. Музыка звучала в наушниках серебряными волнами; знакомое чувство, когда он ощутил себя собой. Хотелось подретушировать партию, так что он набросал пару аккордов, жалея, что нет с собой гитары.
Когда он решил уехать, то объяснил матери, что это не из-за Питера и Кэй, что он не выбирает их вместо нее. Она плакала. Заявление на визу уже подали. «Но мы еще увидимся», – сказал он. В аэропорт приехал Леон, и, когда Дэниэл обернулся от стойки, он увидел их вдвоем в отдалении: мать в костюме и на каблуках, Леона в кроссовках и ветровке, болтавших и смеявшихся, как старые друзья. Он сомневался, что принял правильное решение, не знал, надолго ли там останется. Может, он вернется в Фучжоу после Нового года. Так или иначе, уже просто принять какое-то решение было невероятно. Раньше он никогда не позволял себе верить собственному выбору.
Три пересадки и больше суток пути спустя он прибыл в аэропорт Сиракуз на утро Рождества. Вокруг тяжелыми медными проводами звенел английский язык и не было никого похожего на китайца. Снаружи, где он ждал Питера и Кэй, стоял мороз, а куртки он не взял.
Они подъехали и вышли из машины. «Ты наверняка устал», – сказала Кэй, крепко его обнимая. «Столько перелетов!» – Питер тоже его обнял, постучав по спине.
По дороге в Риджборо, сражаясь с джетлагом, он развлекал их забавными наблюдениями о разнице между Фучжоу и Нью-Йорком, рассказывал о дорожном движении и смоге, о меню в «Пицце Хат», о своих студентах в «Быстром английском сейчас». О том, что так далеко на юге снега нет. Ему было неприятно выставлять Эдди, Тэмми и начальника Ченга в смешном свете, но это казалось проще, чем переводить внимание на маму или на себя.
Дома он не пошел в церковь и лег спать, а когда проснулся, достал из шкафа гитару. После нескольких месяцев простоя струны оказались по-прежнему настроенными. Сменяя аккорды, разрабатывая пальцы и запястья, он вызывал красочные колебания, которые уже успел забыть: коричневые и бирюзовые, диапазоны лилового и розового, самые писклявые зеленые. Блин, как же здорово. Хотя он мог поклясться, что на грифе раньше были трещинки, которые он хотел заделать, но руки не доходили. Или он с ними разобрался до отъезда и уже забыл?
По косяку постучал Питер.
– Наконец-то воссоединились, – сказал он.
Дэниэл поднял взгляд.
– Да уж, давно не брал ее в руки. Впрочем, еще играет.
– Ничего не заметил? – Питер показал на гриф. – Я носил ее на музыкальный факультет в Карлоу, и один из профессоров порекомендовал своего знакомого, специалиста по ремонту гитар. Я решил, ей не помешают тепло и забота.
На ужин Дэниэл помог Кэй нарезать овощи и почистить картошку. «Сто лет не ел картошку», – сказал он, пока она вываливала на корж тыквенную смесь из консервной банки. На ней был лавандовый свитер, которого он раньше не видел; у Питера – такой же зеленый. «Зато мы ели рис. Много-много риса». Слышать самого себя на английском было как-то странно.
Как легко было бы просто сказать: я так много узнал, пока там жил, – давай расскажу о ней. Я был ей нужен. Но каждый раз, начиная говорить, он осекался.
Кэй передала ему корж, чтобы Дэниэл поставил в духовку. Он задвинул и закрыл дверцу. Когда он распрямился, она смотрела на него, и он испугался, что она снова заговорит о возвращении в Карлоу или на собрания АИ.
– Трудно было? – спросила она. – Жить в Китае?
Он снял прихватку.
– Китайский вернулся не сразу, но, когда вернулся, стало уже намного проще.
– Но все-таки чужая страна.
Он не знал почему, но ему не хотелось говорить Кэй, что всегда чувствовал там себя посторонним, хоть и знал язык.
– Но Фучжоу большой город, очень современный.
– Мы с твоим отцом читали статью о том, что женщины в Китае всё еще граждане второго сорта. Пожалуй, это ожидаемо при культурном предубеждении против женщин. – Кэй покачала головой. – А Полли, твоя родная мать? Должно быть, она очень храбрая, если выбрала такую карьеру.
– Всё не совсем так, – сказал он. Хотя она и была храбрая – просто Кэй не знала, в чем именно. И да, женщинам в Китае могло быть трудно – труднее, чем здесь. Но ему не нравилось так говорить о маме, пока ее нет.
– Очень жаль, если представить, как процветали бы эти женщины, если бы имели доступ к возможностям и образованию. Они могли бы жить намного лучше, делать намного больше.
– Она отлично поживает. У многих женщин в Китае есть высшее образование.
– О, мне пришла идея. Может, предложить в Карлоу учредить стипендию для китайских студенток.
Она его не слушала. Он вспомнил, как они с Питером настаивали на английском языке, новом имени, правильном образовании. Что «лучше» и «больше» основывались на их представлениях об успехе, их планах. Мама, китайский язык, Бронкс, Деминь – этого всегда было мало. Он передернулся и на короткий ужасный миг увидел себя тем, кем – как он осознал теперь – видели его они: человеком, которого надо спасать.
Нет. Ему стало нехорошо, страшно. Он сжал кулаки, сунул в карманы.
Кэй наклонилась над духовкой, проверяя таймер.
– Хочешь сделать взбитые сливки? Ты всегда любил их делать. Облизывать миску и всё прочее. – Она достала из шкафчика миску. – Как хорошо, что ты вернулся. То есть я рада, что у тебя была возможность познакомиться с корнями, но еще рада, что ты дома. Без тебя здесь было одиноко.
Духовка согрела кухню, наполнила ароматом сдобы, сахара, масла и корицы. Питер зажег камин в гостиной, и Дэниэл слышал потрескивание огня, классическую музыку из музыкального центра. Наверху была его гитара, настроенная и отремонтированная, на кровати – навалены любимые одеяла.
– Хорошо, что я вернулся, – сказал он и достал из холодильника сливки.
Он спал по двенадцать часов, просыпался в четыре утра, подолгу дремал днем. На рассвете лежал без сна в постели, пока вокруг медленно проступала комната, и вспоминал, как гулял по Фучжоу с матерью, как катался на велосипеде в парке с Йимей, свои первые неопытные дни в отеле «Мин». Теперь всё казалось таким необычным и далеким, словно чья-то чужая жизнь.
Он неделю смотрел телевизор, почти не переодевая треники и не выходя на улицу. В канун Нового года Кэй и Питер уже легли к одиннадцати, и Дэниэл заснул перед телевизором, посмотрев опускание шара на Таймс-сквер и как поп-звезды поют толпам пьяных туристов. Проснулся под рекламу средства от прыщей.
Когда он обходил дом в темноте, его шаги приглушались шерстяными носками. Даже с закрытыми глазами он знал, что в любой комнате мог опустить руку на стену и точно найти выключатель, что в гостиной надо свернуть направо от книжного шкафа, чтобы не врезаться в угол столика, где Кэй складывала журналы, что до второго этажа – четырнадцать ступенек. Каждая половица, каждый квадратный дюйм дома остались с ним. И всё же было еще столько всего, чего этот дом, Питер и Кэй, никогда не узнают. Он прислонился к стене на кухне, слушая шум холодильника, собственное дыхание. Если он не чувствовал себя как дома в Китае, если ему не место в Риджборо, то что ему оставалось?
Три шага в столовую, налево, стена. Там, на косяке, всё еще были отметки его роста. Вмятина у плинтуса – от баскетбольного мяча, который он когда-то неудачно бросил. Пять шагов до серванта с фарфором – верхний ящик забит конвертами и почтовыми марками, старыми чековыми книжками, был там и высохший резиновый мячик-эспандер. Он протянул руку и закрыл глаза. Это его дом, это Дом, но он знал, что ему придется уйти и отсюда.
От выступления в Бруклине до Гарлема ехать было долго. Дэниэл и Майкл жили на севере города не только потому, что там дешевле, но и потому, что это ближе к Колумбийскому университету, где допоздна, после пар, оставался в лаборатории Майкл. На полученный грант он смог съехать из Сансет-парка.
Дэниэл поднялся по лестнице со станции метро, прошел четыре квартала до своего дома, поднялся на пять этажей в квартиру. Когда он открыл дверь, с радостью увидел, что свет горит, что здесь тепло и пахнет едой. Он расшнуровал ботинки, снял пальто и положил гитару на кровать.
У них не было ни дивана, ни телевизора, ни столовой, ни кухонного стола. Они ели на полу, на одеяле вместо скатерти. Места в каждой спальне хватало только для одинарной кровати и больше ни для чего, – еще пространство, чтобы протиснуться сбоку, – и не было шкафов, так что Дэниэл просто положил пружинный матрас на бетонные блоки и одежду складывал в пластмассовые корзины под ним. За прошлые три месяца он проигрывал в голове воспоминания о Фучжоу, пока они не лишились силы, не оставили только чувство восхищения: я туда ездил. Я это сделал.
Дверь в комнату Майкла была открыта. Дэниэл постучал по стене и спросил по-фучжоуски: «Как жизнь, брат?»
Майкл сидел у кровати и ел из большой миски.
– Долгий день в лаборатории. Я без сил. Как работа?
Дэниэл перешел на английский:
– Я сегодня не работал. Был на концерте. В смысле, играл на концерте.
– Правда? Где?
– В одном баре в Бруклине.
– Как прошло?
– Вообще-то реально неплохо.
– Чего не сказал? Я бы пришел.
– Скажу про следующий.
Майкл поднял миску.
– Я приготовил поесть. Посмотри на плите.
– Спасибо, умираю с голоду.
Кухня – на другом конце квартиры – состояла из плиты с двумя конфорками, раковины и маленького холодильника. На крышке микроволновки стояла полка для тарелок, на плите была доска для резки, а на ней – рисоварка. Дэниэл поднял крышку. Пахнуло паром вместе со сладким чесночным ароматом свиных сосисок, которые Майкл сварил так, чтобы они отдали вкус рису. Ждала Дэниэла и яичница.
Он взял другую миску, наложил яичницу, рис и сосиску и полил ложкой острого соуса. В воскресенье вечером они с Майклом ездили в Сансет-парк, где стирали белье в подвале и вооружились соусами. Когда Дэниэл помогал Вивиан готовить ужин, он вспоминал о матери в ее новой квартире, как она глядит на далекую гавань. «Я приеду к тебе в Нью-Йорк», – сказала она по видеочату на прошлой неделе, и он ответил, что будет рад, хотя сомневался, что она сможет попасть в страну после депортации.
Пока что его жизнь будет такой. Эта квартира. Этот город. Его лучший дом. Гремел водонагреватель, разрывали квартал сирены. Он вернул крышку на рисоварку и отнес миску в спальню, чтобы поужинать с Майклом.
Благодарности
Когда год за годом работаешь над романом, ты работаешь не одна. Моя благодарность безмерна.
Спасибо, Барбара Кингсолвер. Спасибо, PEN. Огромное спасибо моему агенту Аише Панде; моему редактору Кэти Порье; моему PR-специалисту Майклу Маккензи; фантастической команде Algonquin Books за их тяжелую работу по изданию этой книги. Невозможно передать, как я благодарна.
Передаю свою любовь диаспоре VONA/Voices. Особенно я благодарна за мудрость Элмазу Абинадеру, Дэвиду Муре и Джуно Диазу. Спасибо Эмили Работо, Линси Абрамс, Джуди Стернлайт и моим коллегам по писательским курсам за то, что разглядели потенциал уже в первые дни, и Писательским курсам для американцев азиатского происхождения, где я впервые нашла сотоварищей.
Этот роман не стал бы тем, чем стал, без Суниты Дхурандхар, Серены Лин и Мелиссы Риверо, которые читали черновики, писали вместе со мной и делились своими добротой и остроумием. Спасибо Лорелей Расс, Амелии Бланкере, Зоре Саид, Мелиссе Хунг, Глендализ Камачо, Грейс Ли и всем друзьям, которые меня поддерживали, выслушивали и смеялись со мной, пока я писала эту книгу, а также всем, кто терпел мои расспросы ради изучения матчасти, в том числе Вину Ферраро, Говарду Минту, Брендану Кросби, Майклу Маффеи, Рете Пауэрс и Линлин Лиан.
Моим родителями, Альфонсо и Лилиан Ко, – моей первой группе поддержки: спасибо за всё, в том числе за то, что гоняли, любили, заряжали энтузиазмом, за вашу любовь к музыке и танцам и за то, что научили меня задавать сложные вопросы и видеть в жизни сюжеты.
Джулману Толентино, чьи любовь и понимание изменили всё: спасибо за то, что создал со мной дом, и за долгие разговоры о Дэниэле и Полли.
Я бы никогда не смогла написать эту книгу без поддержки и общения с другими творческими людьми – всё это я получила благодаря программам «Проживание в рабочем пространстве» Культурного совета Нижнего Манхэттена (где я в итоге и перешла финишную черту в работе над романом), «Замок Хоторнден», «Колония Макдауэла», «Центр Блю-Маунтин», «Райтерс-Оми» в Ледиг-Хаусе, фонду «Ай-Парк», Андерсон-центру, фонду поддержки искусства Констанс Салтонстолл, институту Пэден, центру Киммель-Хардинг-Нельсон, фонду Ван Лира и Нью-Йоркскому фонду поддержки искусства.
Сю Пин Цзян, Сирила Бальтазар Круз, Энкарнасьон Бейл Ромеро – я в долгу перед вами. Вдохновением для книги стала статья Нины Бернстейн 2009 года «С психической болезнью и в иммиграционной тюрьме» (Mentally Ill and in Immigration Limbo) в «Нью-Йорк таймс». При создании романа руководством послужило множество других источников, как то: «Чужие среди нас: тексты о межрасовом усыновлении» (Outsiders Within: Writing on Transracial Adoption, 2006), ред. Джейн Джонг Тренка, Джулия Чинер Опара и Сан Юн Шин; «Заводские девушки» (Factory Girls, 2008) Лесли Т. Чан; «Контрабанда китайцев» (Smuggled Chinese, 1999) Ко-лин Чин; «Корабль “Золотая затея”» (Golden Venture, 2006), реж. Питер Кон; «Последний поезд домой» (Last Train Home, 2009), реж. Лисинь Фан; «Во ай ни, мама» (Wo Ai Ni Mommy, 2010), реж. Стефани Ван-Брель; веб-сайт Transracial Abductees; и статьи Патрика Рэддена Кифа, Джинджер Томпсон и Кай Чан. Я позволила себе творческие вольности с материалом, и любые неточности в романе – целиком под моей ответственностью.
Разговор Лизы Ко и Барбары Кингсолвер
«Беспокойные» – победитель премии PEN/Беллвезер 2016 года, учрежденной Барбарой Кингсолвер в 2000 году, чтобы придать огласку произведениям, обращающимся к вопросам социальной справедливости. Кингсолвер – автор бестселлеров Flight Behavior, The Lacuna и двенадцати других книг – поговорила с Ко о том, как она задумала свой дебютный роман.
БАРБАРА КИНГСОЛВЕР (БК): Культурные и эмоциональные проблемы усыновления – потенциальное минное поле как в литературе, так и в жизни. Почему вы решили углубиться в такую непростую тему?
ЛИЗА КО (ЛК): Минные поля – основа хорошей литературы! «Беспокойных» вдохновили недавние реальные истории нелегальных иммигранток, у которых отнимали рожденных в США детей и передавали на усыновление американским семьям, тогда как самих женщин отправляли в тюрьму или депортировали. Всё это делалось с миссионерскими настроениями: спасем детей от их собственной культуры и семей. Детей ассимилировать можно; матерей – нет.
Сегодня мы видим со стороны приемных родителей больше попыток подчеркнуть расовую разницу, а не замять. Но представление о межрасовом усыновлении как о символе этнокультурного разнообразия может само по себе стать либеральным расизмом.
В «Беспокойных» я хотела сместить фокус нарратива межрасового усыновления от приемных родителей. Нам пора прислушаться к голосам приемных детей, ведь они редко участвуют в дискуссии или вовсе сбрасываются со счетов как излишне злопамятные, если они рассказывают о своем опыте честно или критически.
БК: Полли – один из самых замечательных, запоминающихся, сложных персонажей, которых я встречала в литературе за очень долгое время. Как вы к ней относитесь? Можете рассказать о процессе создания этой на первый взгляд эгоистичной матери, к которой тянется Деминь?
ЛК: Лично я обожаю персонажа Полли. Она откровенная и дерзкая авантюристка, на которую мне самой хочется быть похожей, и нам нужно больше образов «эгоистичных» женщин – особенно матерей, которых в Соединенных Штатах часто одновременно и презирают, и обожествляют, отчего им сложно быть просто людьми. Мне хотелось создать персонажа, который был бы и иммигранткой, и матерью, был бы сложным, несовершенным и реалистичным.
БК: В этом романе вы много пишете о психологических раздвоениях – и у матери, Пейлан, и у ее сына, Деминя, появляются две личности. В какой-то момент они даже замечают мать и сына, которые являются их доппельгангерами. Вы согласитесь, что этот роман среди прочего – исследование формирования личности как производной семьи и культуры? Что вы узнали об этом процессе во время своих изысканий и написания?
ЛК: Определенно. Также я думаю, что это исследование того, что личность, культура и даже семья непостоянны, могут быть одновременно и плюсом, и минусом. В некоторых случаях мы можем выбирать, как изменить личность к своей выгоде, – Пейлан сама выбирает себе имя. Мы можем выбирать себе семью. В других случаях у нас нет такой свободы воли – у Деминя отнимают имя. Имя – это, конечно, больше, чем просто имя, и для моих персонажей имена привязаны к географическим, лингвистическим и культурным переменам. В Соединенных Штатах бытует фантазия о «плавильном котле», будто иммигранты могут органично вливаться в доминирующую культуру, одновременно привнося свою щепотку колорита – здесь кулинарный рецепт, там ресторан. Но в реальности ассимиляция проходит куда более жестоко. Я хотела исследовать, какие предательства могут совершить люди в этом процессе и какой ценой.
БК: Ваш роман переносит влияние жесткой иммиграционной политики Соединенных Штатов на территорию личного. Вы осознаете, что, когда книга выйдет в свет, вопрос иммиграции в нашей политике будет на первом плане?
ЛК: Я начала писать «Беспокойных» в 2009 году, но, оглядываясь на те статьи, что меня вдохновили, я вижу, как мало изменилось. Мы до сих пор каждый год депортируем тысячи иммигрантов или заключаем их во множество коммерческих изоляторов, которые американское правительство передает на управление частным тюремным корпорациям. (Одно изменилось точно – в тюрьмы стали чаще сажать детей.) Вы можете получить разрешение на работу, ваш легальный статус может быть на рассмотрении у властей после того, как вы последовали всем требованиям закона и подали все заявления, но вас всё равно могут арестовать и депортировать. Почти четверть из депортированных – родители детей, родившихся в США и оставшихся в стране, и так мы получаем множество семей, расколотых навсегда.
И всё это происходит не в вакууме: торговые соглашения и поддержка со стороны США войн и деспотичных государств создали у людей потребность искать экономические возможности в других местах.
Меня часто волнует мысль, будто литература не должна заходить на территорию политики. Как отделить искусство от мира, где оно создается, и зачем?
Лучшая жизнь. Эссе Лизы Ко
Я проработала над своим первым романом «Беспокойные» больше года, когда обналичила накопленные за десять лет летные мили и отправилась из Нью-Йорка в Фучжоу, Китай. Я заселилась в отель и неделю блуждала по городу в одиночестве, надеясь заглянуть поглубже в своих персонажей.
Этнически я китаянка, но у меня нет личных связей с Китаем. Мои родители родились и выросли на Филиппинах; они прибыли в Соединенные Штаты вскоре после утверждения Закона об иммиграции и гражданстве 1965 года, который перечеркнул почти вековые расистские квоты, по сути, запрещавшие иммиграцию из Азии, Африки и с Карибских островов, позволяя европейским иммигрантам посещать страну на законных основаниях. Мне повезло родиться в Нью-Йорке, вырасти в Америке в среднем классе, «легалкой». Мы с родителями жили в почти белом пригороде и регулярно ездили в манхэттенский Чайна-таун за продуктами, но чувствовали, что и там, среди более недавних иммигрантов, нам не место. «Тебе повезло», – говорили мои родители, и я знала, что должна быть за что-то благодарной, но еще это самое «повезло» казалось предупреждением – о том, каким зыбким может быть статус.
Я не умела читать и говорить по-китайски. В Фучжоу продавцы и таксисты, когда я лепетала им всякую чепуху, выпучивали на меня глаза и спрашивали: «Что ты за человек?» Я их не винила. Каждый вечер по дороге в отель я терялась. На прогулках я думала о множестве иммигрантов из Фучжоу, переехавших в Нью-Йорк. В отличие от многих из них, у меня были привилегии – американский паспорт, свобода передвижения.
Когда в 2009 году я начинала писать «Беспокойных», у меня была папка, набитая газетными вырезками об иммигрантках и их детях. Меня завораживало то, как этих женщин представляли в мейнстримных СМИ – то как трагических жертв, то как злобных пришельцев. И меня приводили в ярость коммерческие изоляторы – переданные частным тюремным корпорациям и во многом действующие вне закона, – где содержались сотни тысяч иммигрантов без прописки.
Меня притягивало к историям об одиноких матерях, отцах и детях. Среди них была Сю Пин Цзян, нелегальная иммигрантка из Фучжоу, которую агенты службы иммиграции арестовали в автобусе из Нью-Йорка во Флориду. Когда ее нашла репортер «Нью-Йорк таймс», Цзян удерживали в изоляторе для иммигрантов уже больше года, часто – в одиночной камере. Что меня больше всего поразило – она пыталась привезти в Соединенные Штаты из Канады восьмилетнего сына, но власти забрали его и передали на усыновление канадской семье.
Была Сирила Бальтазар Круз, мексиканская иммигрантка, выписанная из больницы в Миссисипи после родов – но без ребенка. Ребенка назвали брошенным, потому что Круз не выучила английский, и суд передал опеку американской паре. Были Джек и Кэсси Хе, китайские иммигранты, подписавшие документы на патронатное воспитание своей дочери, Анны Мэй, после того как Джека уволили с работы. Но приемные родители Анны, Бейкеры, отказались ее возвращать и хотели удочерить. Судья из Теннеси лишил Хе родительских прав, а юрист Бейкеров заявлял, что Хе не подходят на роль родителей и что Анну ждет лучшая жизнь в Соединенных Штатах: «Какой уровень жизни будет у ребенка в Китае?» Но никто не спросил, какая жизнь будет у ребенка в Соединенных Штатах, в разлуке с семьей.
Прообразом моего персонажа Полли – очень условным – послужила Сю Пин Цзян. Потом я дала ей одиннадцатилетнего сына Деминя; дом в Бронксе; работу в маникюрном салоне. Однажды утром она уходит на работу и больше не возвращается домой. Голос Полли, ее тяготы, ее путь – она заплатила пятьдесят тысяч долларов, чтобы ее тайно провезли в США в ящике, – всё это пришло ко мне в одном озарении. Но, когда я отправлялась в Фучжоу, ее линия уже много месяцев как зашла в тупик. Я так переживала из-за того, что неправильно покажу Китай, что избегала критически важных глав о нем.
В предпоследний день в Фучжоу я решила выбраться за город, села на первый же автобус, проходивший мимо моего отеля. Час спустя я сошла на конечной и осознала, что оказалась в прообразе деревни Полли. Вот недостроенные особняки, мимо которых ежедневно проходила Полли. Вот киоск со снеками, школа, рынок.
Вернувшись в Нью-Йорк, я воспользовалась подробностями из поездки, чтобы сдвинуть с мертвой точки главы романа: добавила в жизнь Полли дома, которые я видела, автобусы, которыми я ездила. И всё же я возвращалась к детям из газетных вырезок, разлученным с матерями и усыновленным американцами. Почему этих матерей так нужно было депортировать, а их детей – оставлять? Почему обеспеченные белые американские родители считались «пригодными», а родители-иммигранты, которые хотели растить собственных детей, – нет? И что именно считается лучшей жизнью? Приемные родители в этих случаях, похоже, верили, что они – и вся Америка – имеют на этих детей право. Приемная мать Анны Мэй Хе, Луиза Бейкер, заявила: «Если [мать Анны] действительно любит свою дочь, она оставит ее у нас».
Постепенно я осознала, что суть моего романа – не в одной Полли, но и в сыне Полли, Демине. Мне нужно было рассказать обе истории. Я решила перемежать историю Деминя об усыновлении белой парой и переезде на север с историей Полли о том, почему она покинула Китай, первых годах в Нью-Йорке и о том, что произошло после расставания с сыном. В двадцать один, десять лет спустя после исчезновения матери, Деминь переезжает обратно в Нью-Йорк и начинает искать Полли. Не буду спойлерить – чтобы узнать, найдет ли он ее, вам придется прочитать роман, – но в сердце «Беспокойных» лежат именно поиски Деминя его матери.
После статьи в «Таймс» Сю Пин Цзян отпустили из тюрьмы, а позже она получила статус беженки. Ей повезло. Почти четверть из 316 тысяч иммигрантов, депортированных из Соединенных Штатов в 2014 году, были родителями детей – граждан США, и сейчас в патронатных семьях находится свыше 15 тысяч детей, чьих родителей депортировали либо арестовали на неопределенный срок. «Беспокойные» – моя попытка заглянуть за газетные статьи, пользуясь деталями из реальной жизни как стартовой точкой, а не ориентиром. Это история за историей, посвящение поту, доброте и мучениям. Но на самом деле это история одной матери и ее сына – того, что свело их вместе и что их разлучило.