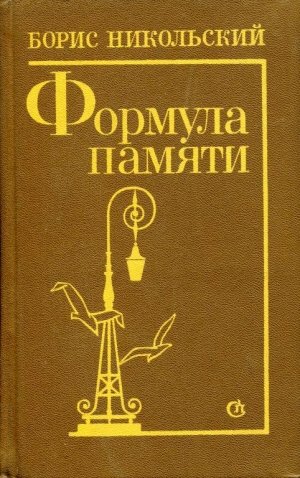
ФОРМУЛА ПАМЯТИ
Роман
Распадаясь на микрочастицы,
Жизнь минувшая не умерла, —
И когда-то умершие птицы
Пролетают сквозь наши тела.
В. Шефнер
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Аэропорт Хиросимы не принимал.
Архипов понял это еще до того, как Миакава-сан, склонившись к его уху, перевел вкрадчивую японскую скороговорку, прозвучавшую по самолетной радиотрансляции.
Что ж, им не повезло уже дважды. Второй раз за сегодняшний, ставший таким долгим, день приближался их самолет к Хиросиме, делал бесполезные развороты, тщетно снижался и снова набирал высоту, кружил опять и опять, но, видно, так и не мог получить разрешения на посадку.
Самолет этот представлялся сейчас Архипову старым, уставшим существом, доживающим свой век, — все его некогда могучее металлическое тело содрогалось от напряжения, натужно скрипело и потрескивало. А там, снаружи, за иллюминатором, происходило стремительное и бесшумное движение: проносились, причудливо извиваясь, темные космы дождевых туч, клубились, вздуваясь и опадая, грязные обрывки облаков, все неслось, кипело, и самолет казался лишь маленькой щепкой, неведомо как затерявшейся в этом гигантском вареве.
Внезапно стало светлее, ход самолета выровнялся, исчезла та пугающая душу надсадность, которая все время чудилась в реве двигателей. Женский торопливый радиоголос снова зазвучал в салоне.
— Она говорит: в настоящий момент наш самолет находится над Хиросимой, — перевел Миакава-сан. — В Хиросиме дождь, низкая облачность, видимость приближается к нулю, посадка запрещена. Экипаж просит извинения.
— Спасибо за ценную информацию, но нам от этого не легче, — проворчал спутник Архипова по этой поездке Алексей Петрович Хахонин. — И вообще мне что-то не нравятся эти штучки. Боюсь, у них просто-напросто барахлит самолет, а они успокаивают нас разными байками…
В его глазах за толстыми стеклами в квадратной оправе Архипов уловил тревогу, которую Хахонин пытался спрятать за легкой усмешкой. Наверное, Алексей Петрович жаждал слов ободрения, жаждал немедленного и энергичного опровержения своих опасений, но Архипов промолчал. Ему не хотелось сейчас говорить, не хотелось напрягать голос, стараясь перекричать самолетный гул.
«В настоящий момент наш самолет находится над Хиросимой…»
Он посмотрел в иллюминатор. Теперь самолет, казалось, висел неподвижно между двумя слоями облаков. Один из них — верхний — был светел и гладок, точно высокий, гигантский потолок, другой — нижний — был темен, весь бурлил и дыбился, тревожно и хаотично.
Где-то там, далеко внизу, под этими грозно клубящимися облаками, лежала Хиросима — город, в который так и не попал и, вероятно, никогда уже не попадет Архипов. Когда тебе перевалило за третью четверть века, трудно надеяться что-либо исправить, переделать или повторить в своей жизни.
Неожиданно сквозь разрыв в верхнем слое облаков проглянуло солнце, и Архипов увидел ломаную тень самолета, скользящую по неровной, словно изрытой воронками поверхности облаков. Тень эта неслась легко и бесшумно — казалось, она оторвалась от самолета и теперь существовала самостоятельно, независимо от него.
Ощущение нереальности, фантастичности всего происходящего охватило вдруг Архипова.
Простое, будто бы совсем пустяковое дело — поднявшись из современного аэропорта огромного города, пролететь сотню-другую километров и опуститься в столь же современном аэропорту другого не менее огромного города, а вот заклинило, уперлось, ни с места. Второй раз утыкаются они в эти облака. Словно в том, как старательно, как упорно не пускал их к себе этот город, был некий таинственный смысл. А может, и верно, был?..
— Какой странный полет, не правда ли?.. — сказал Архипов, обращаясь не столько к Алексею Петровичу, сколько к Миакава-сан, их добровольному гиду, вызвавшемуся сопровождать русских ученых в Хиросиму. — Я понимаю, конечно, все это чепуха, фантазия, разыгравшееся воображение, но вот, знаете, никак не могу сейчас избавиться от одной мысли, никак не оставляет меня представившаяся картина…
Миакава-сан слушал Архипова внимательно, с той застывшей в глазах умной печалью, которую замечал Архипов в глазах многих пожилых японцев, переживших войну, и которая расположила его к этому человеку с первого дня, с первой их встречи на симпозиуме.
— Мне вдруг представилось — и так отчетливо, ясно, — будто там, внизу, лежит город, который не смог, не сумел забыть своего трагического прошлого и теперь страшится самолетного гула, таится, укрывается облаками, едва этот гул возникает в небе… Город-невидимка. Вот затаился сейчас там, под нами, и ждет, тревожно вслушиваясь. Затихнет гул самолета, и облака сразу начнут расходиться, раскрываться над городом — словно створки раковины…
— Только одного не ведает этот город, — отозвался Миакава-сан с грустью, — что в наше время облака — слишком ненадежная, слишком слабая, слишком призрачная защита…
— Да, вы правы, — сказал Архипов. — Слишком призрачная…
«…Слишком призрачная…» — он повторил эти слова еще раз про себя, как будто они отвечали чему-то самому сокровенному, что беспокоило, тревожило его последнее время и что никак не удавалось ему выразить…
Архипов не любил летать на самолетах. Он никогда не объяснял, никому не рассказывал, откуда у него эта неприязнь к воздушным перелетам, но довольно твердо всякий раз, когда было возможно, от полетов отказывался, предпочитая медлительный железнодорожный вагон. Впрочем, он вообще не имел обыкновения распространяться о собственной персоне, о своих переживаниях и привычках, обычно с большим трудом шел на откровенность, на сближение с новыми, малознакомыми людьми. Как-то, когда один из давних его товарищей попробовал упрекнуть Архипова в замкнутости, в неоткрытости, он полушутя-полусерьезно ответил: «Что делать, по натуре своей я — проповедник, я не люблю исповедей. Исповедь — это почти всегда мольба о прощении, об отпущении грехов, а мольба, редко обходится без унижения. А еще исповедь — это стремление переложить собственные беды и горести на чужие плечи. Так что увольте меня, не требуйте от меня исповедей…»
Что же касается его неприязни к воздушному способу передвижения, то сам Архипов хорошо знал, откуда проистекала эта неприязнь и когда она возникла.
Это было еще во время войны. Тогда его сестра и ее дочка, племяшка Архипова, погибли во время бомбежки. Это случилось подо Мгой. Потом он, Архипов, сам видел это место, и обгоревшие обломки вагонов видел: он специально выбрался туда с тайной надеждой — вдруг все, что рассказывали ему, окажется неправдой. Он бродил среди вагонных остовов, словно бы нарочно подвергая себя этому медленному истязанию, этой пытке, и все-таки не мог поверить. Стояла тишина, пахло увядающей травой и болотной сыростью — даже огромные горелые проплешины на земле и воронки, уже заполненные водой, не могли нарушить того состояния покоя, глубокой умиротворенности, которое царило вокруг. Словно все страшное, что могло совершиться, уже совершилось, и теперь навсегда наступил покой. Стайка воробьев порхала возле воронки, беспечно трепеща крыльями. Архипову нестерпимо хотелось кинуться на землю, в отчаянии бить по ней кулаками. «Не может быть, не может быть!» — кричала его душа. Но он только стоял на краю воронки и неотрывно смотрел на суетящихся воробьев.
«Ну пусть бы меня, взрослого мужчину, надевшего военную форму… — думал он. — Но их-то, их-то за что?..»
И вот спустя четыре года, вскоре после победы, Архипову пришлось однажды лететь по служебным делам из Ленинграда в Мурманск. Причем летел он впервые в своей жизни. Самолет поднялся в воздух, взял курс на север, и Архипов, примостившись на железном сиденье возле иллюминатора, с любопытством принялся разглядывать оставшуюся внизу землю. И первым, что увидел он на земле, был поезд. Зеленый пассажирский состав вытягивался под ними: трудился паровоз, старательно попыхивая белым дымом, бежали за ним вагоны — весь состав был так отчетливо виден отсюда, сверху, так беззащитно, обнаженно выделялся на фоне насыпи, что у Архипова вдруг сдавило горло. То, что он не мог представить себе тогда, когда ходил среди обгорелых вагонных остовов, он со щемящей ясностью представил теперь. Только теперь, глядя отсюда, сверху, на эту казавшуюся игрушечной вереницу вагонов, он понял, ощутил всю тогдашнюю беззащитность людей там, внизу, в эшелоне, всю их обреченность. Отсюда, сверху, он отчетливо увидел, как бежит его сестра к лесу прочь от горящих вагонов, выбиваясь из сил, волоча за собой плачущую, перепуганную девчушку… Бог ты мой, да ведь даже цвет их платьев был различим отсюда!..
Война не пощадила, не обошла Архипова своей жестокостью: гибель сестры и ее дочки была лишь первой в той тяжкой цепи потерь, которые выпали на долю Архипова, но, наверно, оттого, что эта — такая страшная — утрата была самой первой, запоздалая боль от нее и теперь казалась невыносимой.
С тех пор Архипов и не любил летать. Каждый полет давался ему с трудом.
…Самолет резво пробежал по посадочной полосе аэродрома в Осаке и замер едва ли не на том же самом месте, откуда они столь недавно начинали свой путь в Хиросиму.
Архипов и его спутники двинулись к выходу, испытывая то смешанное чувство неловкости, смущения и досады, которое, вероятно, ощущает всякий человек, вынужденный вновь явиться туда, откуда его только что провожали. Как будто в том, что полет не состоялся, в том, что ты вновь оказался в исходной точке маршрута, есть доля и твоей вины, как будто это над тобой или над кем-либо из твоих спутников незримо витает дух неудачливости…
Внезапно впереди, у трапа, возникла какая-то заминка, движение застопорилось, кто-то громогласно то ли возмущался, то ли выражал свое удивление. Потом раздался общий смех.
Спустившись по трапу, Архипов увидел хохочущего Роберта Кроули, доктора Кроули, профессора из Соединенных Штатов, их коллегу по симпозиуму. Это был маленький, худощавый, но крепкий человек, обладавший на удивление густым, рокочущим басом.
Оказывается, он задремал во время полета, не слышал объявлений и теперь был абсолютно убежден, что самолет приземлился в Хиросиме.
— Выхожу и изумляюсь, — говорил он, хохоча. — До чего же в Хиросиме все похоже на Осаку! Даже служащие! Или и правда, думаю, для нас все японцы на одно лицо?.. Как будто, говорю, никуда и не улетали. Забавно — не так ли?..
Доктор Кроули встретился взглядом с Архиповым и принялся с энтузиазмом объяснять все заново. Он был общительным, жизнерадостным человеком.
До симпозиума Архипов не был знаком с Кроули. Точнее сказать, не был знаком лично, но знать его — знал: фамилия Кроули нередко мелькала в научной библиографии, статьи его, особенно ранние, наверно двадцатилетней давности, были хорошо известны Архипову.
Впечатление Кроули производил противоречивое. Его общительность, его непосредственность, казалось бы сразу располагающие к себе, порой легко переходили в чересчур энергичный напор на собеседника, в бесцеремонность. Американцы, коллеги Кроули, поговаривали, что в своей клинике он не останавливается перед весьма рискованными экспериментами. Да и сам Архипов в одном из научно-популярных американских журналов недавно прочел статью (кажется, она называлась «Охота за памятью» или что-то в этом роде), автор которой утверждал, что исследования профессора Кроули делают вполне реальной возможность управления человеческой памятью. Что касается самого Кроули, то он о подобных сообщениях отзывался с уклончивой усмешкой: «У нас своя работа, у журналистов — своя. Им непременно подавай сенсацию. Так что стоит ли судить их за то, что порой они перехватывают через край? Но ведь и сенсация не вырастает на пустом месте — не так ли?»
— Кстати, о Хиросиме, — отсмеявшись, сказал Кроули своим рокочущим басом. — И о нашей недавней дискуссии. — Он намекал на спор, который произошел между ним и Архиповым в кулуарах симпозиума. Архипову тогда показалось, что Кроули вовсе не придал значения их мимолетному, хотя и не лишенному резкости обмену репликами. Однако вспомнил все-таки, вернулся к теме, волновавшей их обоих.
— У меня был пациент, которого преследовала навязчивая идея — будто это именно он сбросил бомбу на Хиросиму, — говорил Кроули Архипову, пока они шли по длинному переходу, ведущему в аэровокзал. — Ему казалось, он помнит все до мельчайших деталей. Хотя, надо сказать, он никогда не был ни летчиком, ни даже военным человеком. Обыкновенный служащий. Но сознание собственной вины перед человечеством доставляло ему невероятные мучения. Мне пришлось немало с ним повозиться. Хотя вы, мистер Архипов, и являетесь противником моих методов, но тут без электрошока было не обойтись…
— Я говорил лишь о том, — отозвался Архипов, — что вы, на мой взгляд, иногда злоупотребляете этим методом…
— В нашей работе, мистер Архипов, вы это хорошо знаете, всегда есть доля риска и доля жестокости, — сказал Кроули. — В этом смысле мы подобны хирургам.
— Риска — да, — сказал Архипов. — Но жестокости? Не думаю.
— Может быть, я не совсем удачно выразился. Я хотел лишь сказать, что у хирурга не должна дрожать рука, когда он берется за нож. Важна цель, а не средство. По крайней мере, мне удалось избавить этого человека от угрызений совести…
— Еще неизвестно, что лучше, — сказал Архипов, — мучиться угрызениями совести за других или не испытывать мук совести вовсе…
— Вы — атеист, мистер Архипов, а рассуждения ваши проникнуты евангельским духом. Я смотрю на мир более реалистично. Не забывайте: избавить человека от мук совести, освободить его от тяжких воспоминаний — это и значит сделать человека счастливым. Так что в определенном смысле счастье рода человеческого в наших с вами руках… — Кроули засмеялся. — Впрочем, я надеюсь, у нас еще появится возможность продолжить эту интереснейшую дискуссию в Ленинграде. И причем скоро. Я мечтаю побывать в вашем институте, мистер Архипов.
— Мы всегда рады гостям, — сказал Архипов.
Разговор иссяк, они расстались, и доктор Кроули тут же исчез, растаял, растворился в сутолоке аэропорта.
Миакава-сан, извинившись, ушел договариваться насчет машины и номеров в отеле, Архипов и Хахонин, расположившись в креслах, ожидали его возвращения.
Архипов был утомлен. Этот странный — несостоявшийся и вроде бы состоявшийся — полет в Хиросиму растревожил его. Архипову казалось — или, может быть, так оно и было на самом деле, — что за те три с небольшим часа, пока они отсутствовали, аэропорт Осаки неуловимо преобразился. Словно в хорошо отлаженном механизме, в безукоризненно отрегулированном конвейере вдруг произошел какой-то непредвиденный сбой, дало осечку одно звено этого автоматического конвейера, и здесь, в залах аэропорта, сразу стало шумнее, беспокойнее, нервознее. Пассажиры все прибывали, сменялись электронные надписи на табло, звучали по радиотрансляции торопливые объявления, но людской поток, ранее почти незаметный, теперь уже не успевал растекаться по бесконечным, казалось бы, помещениям аэровокзала. То ли и верно что-то стряслось с погодой над японскими островами, то ли предприняли частичную забастовку служащие авиакомпаний, только вылеты самолетов срывались один за другим, рейсы отменялись, задерживались, переносились…
В японской скороговорке, доносившейся из динамиков, Архипов с трудом улавливал вроде бы знакомые и в то же время звучащие совсем незнакомо названия городов. Нигде, ни в одной стране он еще не чувствовал себя в такой степени иностранцем, как здесь, в Японии.
Странно, но в чужой стране, думал Архипов, не ощущаешь собственную старость так, как у себя на родине, рядом с людьми, которых ты знал молодыми, рядом с домами, которые состарились на твоих глазах, рядом с новыми манерами, модами, словечками, рядом с новыми повадками и привычками, с новым укладом жизни, который постепенно вытесняет или уже вытеснил тот, прежний, близкий и понятный тебе… Да и сам ты что-то уже начинаешь забывать, что-то путать, споря со своими столь же постаревшими ровесниками, но все же ты твердо еще помнишь, что вот этого дома раньше не было, а на его месте стоял двухэтажный, деревянный — он сгорел во время войны, а рядом была булочная, куда твой сынишка, сын, твой мальчик бегал за булками, которые тогда, много лет назад, до войны, еще назывались французскими и имели совсем иной вкус, чем теперешние — именуемые городскими… Ты твердо помнишь, как театральный гардеробщик выводил мелом номер на подошвах твоих галош, помнишь, что билет в трамвае стоил пятнадцать копеек, более того — помнишь даже такое, правда, недолгое время, когда этот билет и вовсе ничего не стоил, помнишь многие такие мелочи, правила, привычки, которые ушли, канули в прошлое, и, если ты начинаешь говорить о них, на тебя смотрят, как на старого чудака, как на пришельца с иной планеты…
В чужой стране рядом с тобой не существует этого прошлого. И может быть, именно надежда убежать от собственной старости и гонит нынче туристов весьма преклонного возраста по всему свету. Новые города, чужие люди, отели, музеи, иная природа, иные привычки — все вроде заново, сначала, все незнакомо, — словно бы на магнитофонную пленку с записью старых песен ложится новая запись, автоматически стирая ту, прежнюю, и ты невольно поддаешься иллюзии обновления, иллюзии отказа от собственного прошлого, пусть даже не навсегда, пусть на время… Но сколько бы ни продолжалось это бегство, рано или поздно наступает такой момент, когда тебя начинает неотвратимо тянуть назад, к своим воспоминаниям, к своему прошлому, к своей старости. Домой. На родину.
Архипов полуприкрыл глаза и сидел так, положив руки на подлокотники кресла, отдыхая. Мысленно он уже возвращался домой, в институт. Именно там, в институте, а не в опустевшей нынче квартире, был его настоящий дом, таился тот источник тепла, к которому отсюда, издалека, уже тянулась его душа. Он знал, что там его ждут, там о нем помнят. И думать об этом сейчас здесь, в чужом городе, в огромном, беспокойно гудящем человеческом улье, называемом современным аэропортом, было особенно хорошо и приятно.
Через два дня он уже будет в Москве, там, конечно, придется задержаться еще на неделю, не меньше, но все равно — это уже почти дома…
В соседнем кресле, рядом с Архиповым, зашевелился Алексей Петрович Хахонин.
— Я давно уже собираюсь вас спросить, Иван Дмитриевич, — проговорил он, — да все не было подходящего случая… Только извините меня ради бога, если вопрос мой окажется некстати, но нас всех это очень волнует… У нас в Москве распространился слух, будто вы намерены расстаться с институтом. Это что — правда? Или так — очередная сплетня? Нам всем было бы очень жаль… Должен сказать, разумеется между нами, но мне кажется, в вашем институте есть люди, которые были бы заинтересованы в вашем уходе… Или я ошибаюсь? И простите еще раз, если вопрос задан некстати…
Он замолчал, затаился в своем кресле, ожидая ответа, настороженно поблескивая очками. Но Архипов тоже молчал. И Алексей Петрович не решился вновь повторить свой вопрос.
ГЛАВА ВТОРАЯ
— Ну, что я говорил! — торжествующе восклицает отец Леночки Вартанян, появляясь из соседней комнаты с большим томом энциклопедии в руках. — Я же говорил: не может быть, чтобы его здесь не было, а ты спорила!.. Вот, пожалуйста, можешь убедиться: «Архипов Иван Дмитриевич, известный советский ученый, академик, автор многих работ в области психологии, экспериментальной медицины и биологии. Особенно значителен вклад Архипова в изучение механизма памяти…» Ну, что я говорил, а? — отец Леночки торжествует свою маленькую победу и радуется так, будто отыскал на страницах энциклопедии упоминание о своем близком родственнике.
Леночку же, честно говоря, только тяготит и даже страшит такая известность директора института, в котором ей предстоит работать. Она бы предпочла, чтобы он был и менее известен, и менее знаменит. А то она начинает чувствовать себя совсем ничтожной рядом со столь знаменитым ученым, чье имя уже при жизни запечатлено на страницах энциклопедии. И вообще, как-то не соединяются, не укладываются в ее представлении эти два человека: живой, реальный Иван Дмитриевич Архипов, от которого сейчас во многом зависит ее судьба, и другой Архипов — из энциклопедии, словно бы уже поднявшийся над повседневной, будничной жизнью, словно бы уже перешедший из этой повседневности в недосягаемый, хрестоматийный ряд великих ученых.
«Тебе очень повезло, что тебя пригласил сам Архипов, — повторяет отец Леночки Вартанян. — Это нужно ценить!» И никак не переубедишь его, никак не докажешь, что если соблюдать объективность, то лишь с очень большой натяжкой можно утверждать, будто Леночку пригласил в институт сам Архипов. С Архиповым она никогда не была лично знакома, разве что видела издали сидящим в президиуме торжественных собраний или встречалась случайно в университетском коридоре. Естественно, что и Архипов до самого последнего времени, конечно же, не имел никакого представления о ней. Своим же приглашением в институт она была обязана лишь тому счастливому и, в общем-то, случайному обстоятельству, что еще во время студенческой практики работала в лаборатории у Мережникова — у того самого Мережникова, который впоследствии перешел в институт к Архипову. Так что зависимость получалась не прямая, а косвенная, двухступенчатая: Архипов пригласил к себе Мережникова, а Мережников вспомнил о своей бывшей практикантке. Чем-то, видно, пришлась она ему по душе — старательностью своей, что ли. Но отцу этого никак не втолкуешь, у него своя логика, свои рассуждения: «Не может такого быть, чтобы тебя брали в институт без ведома и одобрения директора. Если бы он не считал тебя перспективной сотрудницей, он бы никогда не дал своего согласия».
Вообще, странная вещь: Леночка не раз уже замечала — после разрыва с женой, Леночкиной матерью, у отца вдруг стали проявляться, давать себя знать как раз те черты, которые он не любил в ее характере, за которые корил и осуждал ее. Например, раньше он терпеть не мог бесконечных, чисто женских телефонных разговоров, которые вела Леночкина мать, — еще с военной службы осталась у него привычка к деловой лаконичности, а теперь Леночка то и дело оказывалась свидетельницей того, как он подолгу не отрывался от телефонной трубки, разговаривая со своими многочисленными знакомыми, дальними родственниками, товарищами по прежней службе. И едва ли не всякий раз главной темой этих разговоров была она, Леночка, его дочь, ее успехи и ее способности.
Впрочем, надо отдать ему должное, бывший военный, подполковник запаса, Георгий Степанович Вартанян всю жизнь искренне старался быть наставником своей дочери или, как он обычно выражался в таких случаях, «ее старшим другом». Он всегда считал себя обязанным быть в курсе ее интересов и забот, ее дел и увлечений. «Не отставать от молодежи — это мой девиз, — говорил он, посмеиваясь. — Так я надеюсь подольше не ощущать старости». И как раз этот легкий, чуть смущенный его смешок словно бы подчеркивал, насколько нелепо применительно к нему, Георгию Степановичу Вартаняну, вести речь о старости. И правда, он был еще молодцеватый, хранивший армейскую выправку человек — сухощавый, не склонный к полноте, с гладким, лишенным морщин лицом.
Казалось, даже то потрясение, которое он пережил, — уход жены, — не смогло никак отразиться на его внешности, и, если бы не изменения в характере, в привычках, которые теперь все чаще замечала Леночка, она бы, пожалуй, склонна была обвинить его в бесчувственности и душевной черствости.
Свой разрыв с Вартаняном Леночкина мать объясняла или, точнее сказать, оправдывала его деспотизмом. «Я всю жизнь мучилась из-за его характера, — говорила она Леночке. — Ты еще поймешь, ты сама почувствуешь это. Он же шага мне не позволял сделать по-своему, только как он. И все, разумеется, ради моего же блага. Я терпела, всю жизнь терпела, но любое терпение когда-нибудь может иссякнуть. Я бы давно ушла от него, я давно уже люблю другого человека, но я не решалась на это, пока ты была маленькой. Теперь ты взрослая, постарайся понять меня правильно и простить».
Леночка не хотела слушать ее объяснений. Что там ни объясняй, какие слова ни произноси, а все равно это было предательство. Сердце ее болело за отца — он был растерян и потрясен, как ребенок. Вообще, несмотря на всю его властность, на привычки, выработанные многолетней армейской службой, командирскими должностями, в его натуре временами проступало что-то детское, проявлялась ребяческая наивная и трогательная доверчивость — казалось, за всю свою жизнь он так и не постиг сложности, противоречивости человеческих отношений и наивно изумлялся всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться с этой противоречивостью, нелогичностью, необъяснимостью человеческих поступков. Разрыв с Леночкиной матерью он пережил очень тяжело. Он любил ее, пусть по-своему («У него и любовь деспотическая, подчиняющая», — говорила мать Леночке), но все-таки любил и продолжал любить даже теперь, когда она ушла из семьи. Он говорил, что навсегда вычеркнул ее из своей жизни, из своего сердца, но Леночка-то видела, что на самом деле это не так, совсем не так, и страдала, и мучилась за него.
Сама Леночка росла робкой, домашней девочкой, привыкшей к послушанию. Была она тихой и худенькой и даже к своим двадцати двум годам не утратила этого облика девочки-школьницы. Впрочем, и эта ее худоба, и даже легкая, чуть заметная сутулость, и острые, как у девочки-подростка, локотки не только не портили ее, а, пожалуй, даже наоборот — придавали ей особую привлекательность, ту самую привлекательность, которую порождают женская хрупкость и беззащитность.
Отец Леночки был твердо убежден, что его девочке наверняка тяжко пришлось бы в жизни без его поддержки и помощи. Он не хотел расставаться со своей ролью учителя, советчика даже тогда, когда она пусть еще лишь в студенческом кружке, но все-таки уже начинала заниматься научной работой. Он свято верил, что и тут она не обойдется без его советов.
Георгий Степанович был из тех людей, кто привык самостоятельно, своим умом добираться, докапываться до сути каждого явления, привык доверять прежде всего личному опыту. Он не желал признавать, что в мире может существовать нечто такое, чего ему не удалось бы понять, постичь, освоить, задайся он такой целью. И если были все же вещи, совершенно недоступные и непонятные ему, то это вовсе не оттого, что они оказались ему не по силам, что не смог он в них разобраться, а оттого лишь, что никогда всерьез и не собирался этого делать — не возникало, следовательно, у него подобной необходимости.
Уже студенткой-третьекурсницей, занимаясь в специальном семинаре проблемами памяти, Леночка однажды с удивлением обнаружила на письменном столе отца толстую тетрадь в твердой картонной обложке — на ее страницах были, оказывается, старательно и весьма подробно, с прилежанием студента-первокурсника законспектированы некоторые из тех статей и книг, какие брала Леночка в университетской библиотеке.
«…память рассматривается нами, — читала Леночка, — как информационная система, непрерывно занятая приемом, видоизменением, хранением и извлечением информации…»
«…ассоциационистский подход и когнитивный…»
«…при изучении памяти как компонента познавательной деятельности главный акцент значительно смещается по сравнению с ассоциационистским подходом. Прилагательное «когнитивный», происходящее от слова «cognitio», то есть «знание», подчеркивает, что речь идет о психических процессах, а не просто о стимулах и реакциях. Именно этот сдвиг — переход от представления о пассивной системе, воспринимающей стимулы и автоматически создающей цепи «стимул — реакция», к понятию о психической активности характеризует когнитивные теории памяти…»
Леночка держала в руках эту тетрадь, добрых полтора десятка страниц которой уже были исписаны убористым и ровным — «писарским», как шутила в свое время мама, — почерком отца, испещрены подчеркиваниями и восклицательными знаками, и испытывала какое-то странное, двойственное чувство: любовь к отцу и острая жалость владели ею. Его наивная попытка стать вровень с ней, терпеливо штудируя книжную премудрость, не могла не растрогать Леночку. Но в то же время эти усилия отца, казалось, таили в себе скрытую угрозу: будто и здесь он не желал признавать ее взрослости, ее права на самостоятельность, не хотел выпустить из-под своей опеки. Впрочем, она тут же устыдилась подобных мыслей.
Вскоре отец сам признался ей в этой своей затее, рассказал о тетради с конспектами, о своих занятиях — рассказал с обычной своей чуть смущенной усмешкой, как будто признавался в чем-то легкомысленном и пустяковом, рассказал как бы между прочим, но при этом был очень горд, когда выяснилось, что некоторые вопросы он уже в состоянии обсуждать с дочерью едва ли не на равных.
Постепенно Леночка смирилась с этой отцовской странностью, смирилась с тем, что ему доставляло удовольствие проводить тесты на запоминание и забывание и аккуратно заносить их результаты все в те же толстенные тетради в картонных твердых обложках. Единственное, к чему она так и не могла привыкнуть, что отчаянно раздражало и смущало ее — так это стремление отца затевать научные споры с ее однокурсниками, стоило тем только появиться в гостях у Леночки. Причем спорил он обычно с такой настойчивостью и энергией, с такой не допускающей возражений категоричностью, что становился смешон. Леночка знала, что студенты, даже самые близкие ее подруги, пусть добродушно, но посмеиваются, подшучивают над ее отцом, и в глубине души страдала от этого. «Вы, Георгий Степанович, на психофизическом уровне эти проблемы уже, как профессор, усвоили, — уверяли Леночкины однокурсницы, — вам пора теперь на молекулярный уровень переходить или на нейронный, там у нас специалистов не хватает, вы с вашей энергией были бы незаменимы…» И он, казалось, не улавливал или не хотел улавливать явной иронии, воспринимал эти комплименты чуть ли не всерьез. Более того, он вроде бы даже испытывал некоторое разочарование оттого, что наука, которую изучала его дочь, вдруг оказалась такой доступной и понятной для него самого, в сущности совершенного дилетанта в этой области.
И вместе с тем Леночка безошибочно угадывала, что за всеми подобными отцовскими чудачествами, за всей его, казалось бы, бодрой воинственностью, за упорным нежеланием пасовать перед обстоятельствами на самом деле кроются неприкаянность и растерянность. Уйдя из армии в запас и потеряв жену, он разом утратил две главные опоры в жизни. И теперь весь смысл его существования был сосредоточен в дочери.
И оттого он так радовался, так гордился, так ликовал в душе, когда выяснилось, что Леночку берут или, как упорно продолжал он говорить, «приглашают» в институт к Архипову.
Да и для Леночки, конечно же, этот день тоже был праздником…
Возле самых институтских дверей Леночка Вартанян чуть приостановилась, нарочно замешкалась на мгновение, чтобы пропустить вперед шедшего за ней человека. Такими массивными, такими тяжелыми, такими наглухо заколоченными показались ей эти огромные двери, что, наверно, и не открыть их ей, не осилить. Только опозорится на глазах этого невольного свидетеля, жалко дергая ручку двери. Так с ней уже бывало не раз — стоило лишь подумать «не смогу, не справлюсь», стоило только ощутить подобный приступ неуверенности под взглядом чужих глаз, и сразу словно срабатывал некий внутренний тайный тормоз, сковывал ее, и какой-нибудь пустяк, который одна, без посторонних, она сделала бы без всякого усилия, уверенно и спокойно, на людях вдруг оказывался для нее непреодолимой преградой.
Еще издали Леночка с некоторой робостью и нерешительностью приглядывалась к торжественным — сверху донизу в резных завитушках, липко отблескивающих на солнце коричневато-бордовым лаком, — высоким дверям: казалось, они из тех дверей, что забиваются навечно, с первого дня существования, что присутствуют лишь как некий торжественный камуфляж главного входа, как символическое обозначение парадности и величия. Такое ощущение подчеркивалось еще и тем безлюдием, которое царило сейчас возле старинного особняка, где помещался Институт памяти. Леночке казалось, что шествует она по улице совершенно одна, в полном одиночестве приближается к этим торжественным вратам, за которыми ждет ее… Впрочем, о том, что ждет ее за ними, Леночка в этот момент не задумывалась, все ее внимание было сосредоточено на самих дверях — казалось, она уже заранее ощущала их громоздкую неподатливость.
И вот когда она уже поднималась к дверям по широким ступеням, за ее спиной вдруг возник этот человек, возник внезапно, словно материализовался из воздуха. Только что не было никого, и вдруг она почувствовала его за своей спиной. Уже потом она поняла, отчего возникло это ощущение внезапности его появления. Просто он не подошел, а подкатил на велосипеде. Но сначала она не видела небрежно брошенного возле ступеней велосипеда и лишь слышала, не оборачиваясь, торопливые, догоняющие шаги.
Леночка приостановилась, делая вид, будто что-то ищет в своей сумочке. Хотя что там было ей искать? Ни удостоверения, ни служебного пропуска у нее еще не было, разве что лишь аккуратно написанное заранее и так же аккуратно сложенное вчетверо заявление с просьбой принять на работу да справка о прописке и копия диплома, в котором удостоверялось, что она, Елена Георгиевна Вартанян, с отличием закончила факультет психологии.
Роясь в сумочке, Леночка краем глаза, боковым зрением видела, что тот человек тоже задержался возле дверей, как бы задавшись целью непременно войти вслед за ней, и не сразу догадалась, что он попросту ждет, когда она наконец оторвется от своего занятия, ждет, чтобы распахнуть перед ней дверь.
— Прошу! — сказал он не без торжественности.
Тяжкие двери распахнулись перед Леночкой Вартанян, распахнулись во всю ширь, разошлись, раздвинулись сразу обе дверные створки, и она вошла в небольшой, прохладный, пустынный и показавшийся ей после дневного света полутемным вестибюль института. Она вошла сюда с озабоченным и высокомерным видом человека, которому не до того, чтобы замечать — распахнул ли кто-то двери перед ней или они открылись сами собой. Как будто это и правда было привычно для нее — чтобы двери распахивались от одного ее взгляда, как будто не было для нее в этом ничего удивительного. На самом же деле смущение и робость владели сейчас всем ее существом, не давая даже выговорить «спасибо».
Она огляделась в нерешительности: куда же идти дальше?
— Хотите, я угадаю вашу судьбу? — неожиданно сказал тот, кто открыл ей дверь. — Хотите, я предскажу все, что произойдет с вами? Сейчас, когда вы впервые вошли в эти царские врата, в эти триумфальные ворота…
Леночка с беспокойством и даже с некоторым испугом покосилась на своего невольного спутника. Откуда он догадался, что она — в п е р в ы е? Она предпочла промолчать, сделала вид, что не слышала его слов.
— Правда, правда, — продолжал он, словно не замечая ее подчеркнутого молчания. — Меня не оставляет чувство, будто этот парадный вход делали специально для триумфаторов. Нынче через эти двери ходит, по-моему, лишь один человек — прирожденный триумфатор, триумфатор от рождения — Перфильев Анатолий Борисович. Кстати, запомните это имя, непременно запомните, для вас это совершенно необходимо…
Кажется, она уже слышала однажды эту фамилию… Кто-то произносил ее… Только когда, где, в связи с чем — не могла Леночка вспомнить.
— …даже наш шеф, академик Архипов, предпочитает проникать в институт с другого, так называемого служебного, или черного, хода, хотя начальство в лице его заместителя по административной части приказом за номером один дробь триста четырнадцать требует, чтобы все простые смертные дружной массой вливались в институт через главный вход, ибо именно здесь имеет обыкновение дежурить председатель месткома Риточка Фазанова, когда на нее находит рвение и она решает засекать опаздывающих… Это я вам на всякий случай выдаю подробную информацию, чтобы вам легче было ориентироваться в дебрях науки…
Леночка не могла уловить, шутит этот человек, смеется или говорит серьезно, и это сердило ее. Она всегда любила ясность, определенность: уж если шутка — так шутка, серьезный разговор — так серьезный. К этой ясности, к этой определенности ее с малых лет приучал отец.
— Простите, но мне нужно в лабораторию Мережникова, — постаравшись придать своему голосу холодную твердость, сказала она. — Вы не подскажете, как мне пройти туда?
— Да не спешите вы в свою лабораторию! Никуда она от вас не денется! И потом, ручаюсь, Мережникова еще нет на трудовом посту, он еще дрыхнет у себя дома. «Залог успешного умственного труда — здоровый сон» — это его жизненный лозунг, его кредо, его программа. Только не говорите, что я выдаю его тайны, а то он меня испепелит. У меня и так немало врагов в нашем сплоченном коллективе, мне совсем ни к чему пополнять новыми кадрами их стройные ряды. Не правда ли? Вы согласны со мной?
— Не знаю, — сказала Леночка, сердясь на себя за то, что все же невольно втягивается в этот странный разговор. — Наверно, действительно ни к чему.
— Вот видите, и вы того же мнения. Хотя, впрочем, как вам судить, у вас никогда и врагов-то не было, это видно по вашим глазам…
— Почему вы так думаете? — возразила Леночка. Ее задела его снисходительность.
— А что в этом дурного? Не торопитесь обзаводиться врагами, они появятся сами, — вот что я вам скажу. Не беспокойтесь, придет время, будут они и у вас… А впрочем… знаете… может быть, и нет… Есть в вашем лице что-то такое… Может быть, вы исключение из правил…
Кто дал ему право так бесцеремонно разглядывать ее? Он смотрел на нее сейчас с таким напряженным вниманием, словно она была испытуемой.
«А может быть, это уже чисто профессиональное — такой взгляд?» — подумала Леночка.
— …И запомните один мой совет: никогда не надо стремиться жить по чужому подобию. Эту ошибку совершают многие. Будьте собой, оставайтесь собой, такой, какой вы пришли, какая вы есть на самом деле. Ну что ж, у всех есть враги, а у вас нет — и прекрасно! Тем лучше! Кто знает, может быть, вы снизошли в наш институт специально для того, чтобы принести в эти стены мир и успокоение…
— Все-таки я пойду, — сказала Леночка, испытывая все большую неловкость от этого затянувшегося разговора. — Я условилась, там меня ждут…
— Идите. А судьбу вашу я все-таки угадаю. Только для этого нужно время. У меня ведь свой способ. Сказать вам какой? Я пишу фантастические рассказы, рассказы-предсказания, рассказы-предупреждения — знаете, есть такой жанр в фантастической литературе…
Когда-то сама Леночка Вартанян пробовала писать стихи, но только самые близкие люди знали об этом. Наверно, пытай ее каленым железом, она бы и то не призналась в этой своей склонности постороннему, малознакомому человеку.
— Как раз сегодня ночью я закончил один рассказ, вернее, почти закончил… Хотите, я вам почитаю?
— Как? Сейчас? Здесь? — изумилась Леночка.
— Ну да. А что? Знаете, у меня такой дурацкий характер: мне обязательно нужно прочесть кому-нибудь, чтобы понять, что получилось. Значит, вы не хотите послушать?
— Нет, отчего же… я бы с удовольствием, — отвечала Леночка, смущаясь все больше. — Но я, правда, не могу… Мне надо идти… Честное слово… Не обижайтесь на меня…
Этот человек и пугал ее, и притягивал своей странностью. И потом как-никак, а это был первый сотрудник института, которого она встретила здесь, и он не взглянул на нее свысока, не прошел равнодушно мимо. За одно это она не могла не испытывать к нему благодарности. Да и по характеру своему Леночка Вартанян не умела быть резкой, всегда страшилась даже в мелочах невзначай обидеть человека. А сейчас при всей взрослости ее нового знакомого — а был он, пожалуй, лет на десять старше ее, не меньше, — за напряженностью его взгляда ей чудилась скрытая доверчивость и боязнь насмешки.
— Правда, не сердитесь… — добавила она уже почти жалобно.
— Да за что же мне на вас сердиться! И запомните: если вам понадобится помощь или совет, вы всегда легко можете меня найти. Зовут меня Глеб или Глеб Михайлович, как вам будет угодно. Глеб Михайлович Гурьянов. А теперь я наконец исполню ту молчаливую мольбу, которая давно уже застыла в ваших глазах, и отведу вас к так высоко чтимому вами товарищу Мережникову. Надеюсь, за это время никто не позарится на мой велосипед…
— А вы всегда ездите на работу на велосипеде? — спросила Леночка.
— Ну вот, наконец-то я хоть чем-то сумел вас заинтересовать! — засмеялся Гурьянов. — Если не фантастическими рассказами, то по крайней мере велосипедом!..
Появление Леночки Вартанян в лаборатории Мережникова прошло куда более буднично и незаметно, чем ее знакомство с Гурьяновым. В первый момент ей даже показалось, что приход ее был некстати, словно она своим появлением прервала какой-то напряженный и не очень приятный спор, который шел здесь и который сотрудники лаборатории сочли неуместным продолжать при новом, незнакомом человеке. Во всяком случае, чем-то эти люди были озабочены, взволнованы, даже встревожены, это Леночка почувствовала точно. Она уловила лишь обрывки фраз, последние слабые вспышки оборванного спора — фамилия какого-то Фейгина несколько раз промелькнула в этих уже словно по инерции оброненных репликах. Фамилия эта ничего ей не говорила. Но тут же внимание сотрудников уже переключилось на нее, на Леночку Вартанян.
— А-а! Пополнение прибыло! Ну, в добрый час, в добрый час! Мы тут возлагаем на вас кое-какие надежды, — проговорил Мережников, который, вопреки предсказаниям Гурьянова, оказался в лаборатории, и тут же передал Леночку на попечение своей заместительнице Вере Валентиновне.
Мережников, полный, даже слишком полный для своих сорока с небольшим лет, близоруко щурящийся из-под выпуклых очков навстречу Леночке, производил, как почти все толстые, близорукие люди, впечатление мягкого, добродушного, покладистого человека. Но сейчас он тоже был либо озабочен, либо расстроен чем-то, ему было явно не до Леночки Вартанян, и ей даже показалось: он отключился, забыл о ней сразу же, едва лишь она отошла от него.
— Ну что ж… — сказала Вера Валентиновна, внимательным, оценивающим взглядом ощупывая Леночку. — Круг своих обязанностей вы, как я предполагаю, уже более или менее знаете. Для начала вы будете заниматься тестированием и обработкой результатов по программе, разработанной Петром Евгеньевичем. Ваша дипломная работа ведь была посвящена зрительным кодам в кратковременной памяти, не так ли? Я слышала, слышала, мне говорил о вас Петр Евгеньевич. По его рассказам я представляла вас… как бы это сказать… немножко солиднее, что ли… А вы, оказывается, совсем еще девчушка. Ну, а теперь пойдемте прежде всего предстанем перед институтским начальством…
От одной лишь мысли, что ей сейчас предстоит встретиться с самим Архиповым, у Леночки заколотилось сердце. Она не предполагала, что это произойдет так быстро, сегодня же. О чем он станет спрашивать ее, что скажет?..
Идя рядом с Верой Валентиновной по институтскому коридору, Леночка старалась не обнаружить перед ней свою растерянность, свое волнение. Но вот они миновали директорский кабинет, дверь с табличкой «Директор» осталась позади, а Вера Валентиновна даже не замедлила шаг.
— Разве мы не к Архипову? Не к Ивану Дмитриевичу? — спросила Леночка, преодолев робость.
— Ну что вы, Леночка! — снисходительно отозвалась Вера Валентиновна. — Во-первых, Иван Дмитриевич в данный момент за границей, в Японии. А во-вторых, неужели вы всерьез думаете, что Архипов здесь что-нибудь решает? Не будьте так наивны. Это видимость, миф, своего рода парадная вывеска института, символ, только и всего. Иван Дмитриевич, конечно же, очень милый человек, вы еще сможете в этом убедиться, но сегодня он уже подобен царь-пушке, которая, может быть, и поражает наше воображение, но, увы, не стреляет…
Вера Валентиновна поведала все это окончательно сбитой с толку Леночке с явным удовольствием — судя по всему, она принадлежала к тому довольно распространенному типу женщин, которых хлебом не корми, дай только возможность показать свою осведомленность, первой просветить непосвященного, или, говоря современным языком, в в е с т и в к у р с д е л а. А Леночке сразу вспомнился отец — торжествующий, с томом Большой Советской Энциклопедии в руках, преисполненный гордости за нее, свою дочь, с его нелепой, наивной верой в незыблемость авторитетов, и у нее перехватило горло: она сама не знала еще, чего ей хочется сейчас больше — рассмеяться или заплакать. Но как раз тут Вера Валентиновна остановилась возле двери, рядом с которой была привинчена аккуратная продолговатая табличка:
«Заместитель директора, доктор биологических наук Перфильев А. Б.»
Вера Валентиновна постучала в дверь, и оттуда, из глубины кабинета, мужской голос ответил:
— Войдите!..
И едва лишь раздался звук этого голоса, Леночка сразу, мгновенно вспомнила, где и когда впервые услышала эту фамилию, где и когда видела уже этого человека.
Перфильев!
Ну конечно же, она знала этого человека! И как она не вспомнила раньше!
Тогда-то, года три назад, когда она впервые увидела его, Перфильев, казалось, накрепко запал ей в память. Пожалуй, она даже слегка влюбилась в него, и даже страдала от сознания безнадежности и запретности этой своей влюбленности, и отчаянно завидовала Галке Тамбовцевой, своей однокурснице, за которой ухаживал этот человек.
Леночка видела Перфильева только один-единственный раз. Это было на студенческой вечеринке, куда как-то затащила Галка Тамбовцева своего будущего мужа.
Еще раньше Леночка слышала от подруг, что у Галки — роман с талантливым ученым, доктором наук, и в душе жалела Галку, потому что этот неведомый доктор наук представлялся ей пожилым, полнеющим человеком в очках и с залысинами. Сама она никогда бы не позволила такому ухаживать за собой.
А тут, на вечеринке, она увидела рядом с Галкой чуть ли не мальчишку — худощавого, энергичного, загорелого (хотя была середина зимы), подтянутого человека, походившего скорее на спортсмена, чем на известного ученого. Впрочем, тогда же выяснилось, что Перфильев и верно увлекается спортом — горными лыжами и только что вернулся из горнолыжного спортивного лагеря. Пожалуй, лишь легкая ироничность, таившаяся в его глазах, насмешливость опытного, знающего себе цену человека позволяли догадываться, что он значительно старше, чем это могло показаться на первый взгляд.
Однако вовсе не эта спортивная, моложавая, так изумившая поначалу Леночку внешность произвела на нее наиболее сильное впечатление. Ее поразило, как он говорил.
Она отчетливо помнила завязавшийся тогда спор между Перфильевым и самоуверенным, говорливым аспирантом, приглашенным на вечеринку кем-то из Леночкиных однокурсниц. С чего возник этот спор, Леночка не знала — она выходила в этот момент на кухню, а когда вернулась, услышала голос Перфильева:
— …Нет, нет, согласитесь со мной, мы просто бросаемся из одной крайности в другую. Человек — царь природы? Покоритель ее? Властелин? Человек — звучит гордо? Да где уж там! Нынче мы уже на брюхе готовы ползать перед Ее Величеством Природой, на коленях готовы стоять, вымаливая у нее то ли милостыню, то ли прощение! Мы уже обоготворить ее готовы, благодарения ей, точно первобытные люди, вознести. А за что?.. За что, я спрашиваю!..
При всей насмешливости, даже язвительности его тона, Леночке тогда вдруг почудилась в этом голосе какая-то затаенная боль, затаенная горечь.
— А за что, спрашивается, нам так уж благодарить природу? Природа добра? Мудра? Ой ли? Кто это сказал? Она наградила человека сознанием, разумом и одновременно наделила его пониманием своей смертности, пониманием быстротечности жизни, знанием неминуемого ухода своих близких в небытие. Это ли не самая жестокая пытка? Нет, вы подумайте сами: какую трагичную судьбу уготовила человеку, своему высшему творению, эта ваша разумная, добрая, мудрая природа! И смертен-то он, и смертность свою сознает, и мучается этим сознанием, и даже вопросов типа: «Зачем? К чему все это? Какой смысл?» задавать ему не положено, потому что нет на них ответа, молчит природа!..
Аспирант что-то не без апломба возражал, но Леночка его почти не слышала. Она слышала одного Перфильева — все, что говорил он, поразило ее тем, насколько отвечали его слова ее собственным мыслям, которые она не умела, не бралась, не решалась выразить, ее собственным страхам перед смертью — да что там страхам! — ужасу, темному ужасу перед смертью, перед неизбежностью своего исчезновения, который она ощутила впервые еще девочкой и который испытывала потом еще не раз.
— Ну уж вы хотите совсем нас поссорить с природой, всем-то она вам не угодила, — сказал аспирант с некоторым раздражением. — А между тем желаете вы это признавать или нет, но человек, каждый из нас с вами — все равно порождение природы, и от этого никуда не уйдешь. Нравится вам она или не нравится, а не будь ее, не было бы и вас, и меня, и нам бы сейчас не приходилось спорить о том, добра ли, мудра ли природа. Так что поносить природу — это то же самое, что поносить родную мать.
— Да я ведь не о том! — в досаде воскликнул Перфильев. — Неужели вам никогда не приходило в голову, неужели вы никогда не задумывались над тем, что природа, развиваясь и породив человека, породив единственное живое существо, обладающее разумом, способностью мыслить, произвела таким образом на свет божий создание, способное бросить ей вызов? Ибо задать вопрос: «Зачем я? В чем смысл? В чем цель?» — разве это не вызов? Разве это не восстание против природы, против той самой мудрой природы, которая не терпит подобных вопросов? Бунт против природы и жалкое смирение перед ней — вот, если хотите, два полюса всей истории человеческого существования. Человек, если он действительно разумен, не может не бунтовать против природы, не может покорно мириться со своей участью. И потому я говорю: да здравствует бунт!
Таким вот и остался Перфильев в Леночкиной памяти: бунтарь, яростный спорщик, опровергатель общепринятых истин. Он не был похож на других — вот что главное. Казалось, он не прилагал никаких усилий, чтобы выглядеть оригинальным, эта непохожесть была в его натуре.
Тогда с вечеринки Перфильев и Галя Тамбовцева ушли раньше остальных, и вечеринка сразу померкла, погасла для Леночки Вартанян. Больше она Перфильева не встречала, хотя первое время после этой вечеринки думала о нем постоянно. Скоро она узнала, что Галя Тамбовцева вышла за Перфильева замуж — свадьбы они не устраивали, сразу махнули куда-то на Дальний Восток в свадебное путешествие. На факультет в том году Галка уже не вернулась — заболела, взяла академический отпуск. Она никогда не отличалась особенным здоровьем. Как-то, спустя, наверно, полгода, Леночка встретила ее на улице, бросилась к ней, обняла, расцеловала. Между Галкой Тамбовцевой и Леночкой Вартанян, хотя и не были они никогда близкими подругами, существовала, ощущалась некая внутренняя общность. Бывает такое странное сходство между людьми: поставь их рядом, и они окажутся совершенно не похожи, но когда встречаешь их порознь, чем-то — манерой ли держаться, интонациями ли голоса, может быть даже проявлениями характера — они удивительно напоминают друг друга, словно бы перекликаются друг с другом. Схожим оказывается не столько внешний облик, сколько тип человека. Такое сходство и было между Галей Тамбовцевой и Леночкой.
— Ну как ты? Рассказывай! Как живешь? Как муж? — нетерпеливо спрашивала Леночка. — Вы счастливы? Все хорошо? Мы все на курсе были так рады за тебя, когда ты вышла за Перфильева, ты даже не представляешь, честное слово!
И тогда Галя как-то загадочно, неопределенно улыбнулась и сказала:
— Перфильев — сложный человек, с ним нелегко… — Она не добавила ничего больше, не объяснила, только повторила еще раз, словно сама вслушивалась в эту фразу:
— Сложный человек — Перфильев…
— Войдите! — повторил из-за двери голос Перфильева.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Когда Вера Валентиновна и Леночка вошли в кабинет Анатолия Борисовича Перфильева, тот сидел за письменным столом и читал газету. Он не просто просматривал газетные страницы, а именно был погружен в чтение — точнее сказать, он и з у ч а л газету, такое впечатление создалось у Леночки. Газета лежала перед Перфильевым, распластанная на столе, а Анатолий Борисович заносил над ней красный карандаш и аккуратно отчеркивал некоторые абзацы.
Впрочем, он тут же оторвался от чтения и встал, кивнув Вере Валентиновне и заинтересованно вглядываясь в Леночку.
Помнил ли он ее? Помнил ли, какими глазами смотрела она тогда, во время давней студенческой вечеринки, на него, на Перфильева, как ловила каждое его слово?
Да откуда же ему помнить!.. Она в тот вечер в его присутствии и одной фразы, кажется, не решилась произнести.
Перфильев выглядел все таким же худощавым, по-спортивному подтянутым, л е г к и м, но та печать мальчишества, которая бросилась в глаза Леночке три с лишним года назад, уже ушла, исчезла из его облика. А может быть, все дело было в том, что тогда Леночка видела его загорелым, только что вернувшимся из горнолыжного лагеря, а теперь лицо его было бледным, слабая синева усталости проступала под глазами. Или сами стены этого кабинета невольно побуждали Леночку Вартанян воспринимать этого человека совсем иначе, нежели тогда, на беззаботной студенческой вечеринке?..
Перфильев пригласил их сесть, и, пока Вера Валентиновна объясняла ему цель их прихода, Леночка успела рассмотреть, какой подчеркнуто деловой порядок царил на всем пространстве большого письменного стола. Не так уж часто приходилось ей бывать в подобных кабинетах, но все же не раз обращала она внимание, зайдя, допустим, к заведующему кафедрой или декану факультета, что настольный перекидной календарь непременно открыт на дате недельной давности и весь испещрен какими-то торопливыми, небрежно-неразборчивыми записями, что телефонный справочник изрядно потрепан, затерт и тоже пестрит поправками, сделанными разноцветными чернилами, наспех, что какие-то бумаги и папки возвышаются на столе беспорядочной грудой и отыскать среди них необходимую, понадобившуюся в данный момент рукопись оказывается совсем не простым делом. Письменный же стол в кабинете Перфильева напомнил Леночке аккуратно расчерченную новенькую баскетбольную или теннисную площадку. На нем не было ничего лишнего — только блокнот с графами «Что сделать», «Кому позвонить», «Кого принять», раскрытый на сегодняшней дате, да шариковые ручки, воткнутые в специальную подставку, да папка с заголовком «На подпись», телефонный аппарат и газета, которую с таким вниманием изучал Перфильев до их прихода. И ничего больше.
— Ну что же, Елена Георгиевна, — сказал Перфильев, обращаясь к Леночке. — Лаборатория Мережникова у нас одна из наиболее сильных, люди там работают интересные, так что, я считаю, вам повезло. Вас можно поздравить. Что я и делаю. Но чтобы между нами с самого начала не возникло никаких недомолвок и неясностей, я бы хотел на этом торжественную часть нашего собрания закончить и сказать несколько слов о вещах будничных. Эти слова я говорю всем приходящим работать в наш институт. Всем. Так что пусть они не покажутся вам обидными…
Леночка сделала какой-то слабый, неловкий жест, который, вероятно, должен был означать: «Ну что вы! С чего мне обижаться!», и даже улыбнулась слегка, одними губами, но сама внутренне вся замерла, сжалась от такого предисловия, от того холодного, официального тона, которого придерживался, разговаривая с ней, этот человек. Самое обидное заключалось в том, что она же знала, она помнила его совсем иным, она знала, что он м о ж е т быть другим, если только захочет.
— Видите ли, — продолжал Перфильев все тем же тоном, — порой принято считать, что академический институт — это место, где непременно царят расхлябанность и беспорядок. На том, мол, стоим и стоять будем. Мы сами приучаем себя к расхлябанности и потом именуем это творческой атмосферой. Можно явиться в институт когда угодно и уйти когда угодно, достаточно лишь обратиться к Пал Палычу или Семен Семенычу, а все наши Пал Палычи и Семен Семенычи, конечно же, люди необъятной душевной доброты, им ничего не стоит отпустить сотрудника хоть на час, хоть на день, хоть на неделю — одной на дачу надо ребенка везти, у другой — дальняя родственница, седьмая вода на киселе, заболела, у третьей — очередь на мебель подходит… Куда как уважительные причины! А попробуй заговорить о дисциплине — ведь едва ли не за кровное оскорбление сочтут, за посягательство на эту самую творческую атмосферу!..
Перфильев говорил, все более распаляясь, взвинчиваясь, и Леночка сидела перед ним, сжавшись, как будто уже была виновата во всех подобных прегрешениях. Но в то же время именно теперь, когда язвительные нотки так явственно, так резко зазвучали в его голосе, она узнавала в нем того, прежнего Перфильева и опять, казалось, испытывала то волнение, которое ощутила тогда, на вечеринке.
— Вот потому-то я и хочу сказать вам сразу: первое и главное требование ко всем, кто приходит к нам в институт, — это точное и безукоризненное выполнение своих служебных обязанностей. Да, служебных, я не стесняюсь этого слова. В конечном счете, все мы ведь с л у ж и м. Служим науке, не правда ли?
Он замолчал, кажется желая проверить, какое впечатление произвели его слова на Леночку. Леночка молчала.
— Вы, Анатолий Борисович, по-моему, совершенно запугали Елену Георгиевну, — сказала Вера Валентиновна.
— Ничего, ничего, — отозвался Перфильев и первый раз за весь разговор улыбнулся. Но улыбка эта, казалось, не смягчила его лица, а, наоборот, только еще жестче, определеннее очертила рот.
— Ничего, — повторил он, глядя прямо на Леночку. При этом ее охватило такое чувство, будто он не просто смотрел, а р а с с м а т р и в а л ее, рассматривал с интересом и легкой насмешливостью, как разглядывает взрослый человек забавную детскую игрушку, механизм с нехитрым секретом.
— Вы, конечно, еще услышите, что меня иной раз упрекают в придирчивости, — продолжал он уже мягче, — называют педантом, бюрократом, чиновником, службистом или как там еще. А, Вера Валентиновна? — спросил он с неожиданной веселостью.
— Не знаю, Анатолий Борисович, не знаю, — не без некоторого лукавства отозвалась Вера Валентиновна.
— Ну ладно, не в этом суть. Пусть называют. Но я глубоко убежден, Елена Георгиевна, что подлинная, большая наука немыслима без внутренней дисциплины. И когда мы начинаем давать себе поблажки, мы незаметно распускаемся, теряем форму и лишь потом, когда становится поздно, начинаем горько сожалеть о самом главном — об утраченном, упущенном времени…
Перфильев не успел закончить свою мысль, потому что в этот момент зазвонил телефон. Вернее, телефон не столько зазвонил, сколько произвел какой-то осторожный, похожий на жужжание звук — вероятно, в этом кабинете не любили громких телефонных звонков.
Перфильев быстро поднял трубку.
— Да, — сказал он, — я слушаю.
— Да, — повторил он. — Я слушаю вас, Яков Прокофьевич. Нет, Иван Дмитриевич еще не вернулся. Да, еще в Японии, но через неделю уже ждем. Да, Яков Прокофьевич, я в курсе этого дела. Вот она лежит сейчас передо мной, эта газета. История эта довольно давняя, был у нас такой разговор с редакцией, и Иван Дмитриевич порекомендовал им тогда одного нашего сотрудника. Да, именно Гурьянова. Да, сам Иван Дмитриевич. Кто? Гурьянов? Да нет, почему же, я бы сказал, вполне компетентный товарищ. Скорее даже слишком компетентный, — добавил Перфильев с усмешкой, но тут же стер эту усмешку, тень озабоченности легла на его лицо. — Ах, вот как? Нет, сенсации нам совершенно ни к чему, Яков Прокофьевич, тут я полностью с вами согласен, нам и без сенсаций забот хватает. Ах, даже так? Ну, это действительно не очень приятно, но мы со своей стороны… Хорошо, Яков Прокофьевич, обязательно. А Ивану Дмитриевичу я передам, он непременно с вами созвонится, как только приедет…
Положив трубку, Перфильев некоторое время смотрел на Леночку и Веру Валентиновну так, словно с усилием припоминал, на чем прервалась их беседа.
— Нет, определенно в нашем институте не соскучишься, — сказал он с усмешкой, и непонятно было, чего в этой усмешке больше — досады или восхищения.
— Кстати, а вы, Вера Валентиновна, как относитесь к этому? — И он движением подбородка указал на лежащую перед ним газету.
— К чему именно, Анатолий Борисович?
— Ну как же! О нашем институте пишут, можно сказать, прославляют наш институт, живописуют все стороны его деятельности, красок не жалеют, а вы так-таки ничего не знаете? Не читали?
— Каюсь, Анатолий Борисович, не читала, — сказала Вера Валентиновна. — А что, действительно любопытно?
— Любопытно, Вера Валентиновна, — не то слово. Вот послушайте-ка. — И Перфильев с выражением прочел: — «Сегодня мы совершим наше очередное путешествие в завтрашний день науки. И сопровождать в этом путешествии нас любезно согласился младший научный сотрудник Института памяти кандидат физико-математических наук Глеб Михайлович Гурьянов…»
— Могу себе представить. Гурьянов нафантазирует, — сказала Вера Валентиновна.
— В том-то и суть. Пусть бы фантазировал в своих рассказах, но здесь-то дело касается всего института, всей нашей работы… Вот вы, Вера Валентиновна, не читали еще, и Елена Георгиевна, по глазам вижу, тоже не читала, а массовый подписчик периодической печати уже прочел и уже, между прочим, вопросы некоторые задает, деталями интересуется, практической, так сказать, стороной этого дела, повышенную любознательность проявляет… Во всяком случае, — добавил Перфильев, переходя на серьезный тон, — сейчас мне звонили из горкома и сообщили, что в горком уже идут звонки по поводу этой статьи…
— Да не принимайте вы это так близко к сердцу, Анатолий Борисович! — беспечно отозвалась Вера Валентиновна. — Подумаешь, какое событие! Сегодня прочли, поговорили, а завтра уже никто и не вспомнит…
— Вашими бы устами да мед пить, — сказал Перфильев, поднимаясь и протягивая руку Леночке. — Ну что ж, Елена Георгиевна, приступайте, работайте, желаю вам успеха. Не теряйтесь, будьте смелее. — И закончил, улыбаясь: — А газеты все-таки читать надо…
— Да у меня папа… — Эти слова вырвались у Леночки неожиданно — лишь от желания как-то оправдаться перед Перфильевым, но она тут же оборвала себя на полуслове, засмущалась ужасно.
— Что — папа? — все с той же улыбкой следя за ее смущением, спросил Перфильев. — А, Елена Георгиевна?
— Я хотела сказать… Папа у меня любитель газет, он с утра прочитывает все газеты, даже вырезки делает, а потом либо пересказывает, либо дает мне прочесть то, что наиболее интересно… — пробормотала Леночка.
— Я вижу, у вас не папа, а настоящий клад, — сказал Перфильев. — Цените своего папу, Елена Георгиевна.
Леночка уже не могла разобраться, говорил ли он всерьез или добродушно посмеивался над ней, как посмеиваются над маленьким ребенком. Она хотела теперь только одного: побыстрее выбраться из этого кабинета. И как раз в эту минуту на пороге появилась секретарша.
— Анатолий Борисович, — сказала она голосом, в котором слышалось то ли волнение, то ли легкое возмущение, — вас какой-то весьма странный человек добивается. Он звонит снизу, от вахтера, говорит: непременно должен видеть Архипова. Не верит, что Архипова нет. Говорит, будто бы в связи с какой-то статьей в газете…
— Этого нам как раз и не хватало! — сказал Перфильев сердито. — Ответьте ему, пожалуйста, Маргарита Федоровна: пусть обращается в редакцию. Они напечатали статью, они все знают, они дадут ему необходимые разъяснения — так и скажите ему. И давайте договоримся: впредь, кто бы ни обращался по поводу этой статьи, всех отправляйте в редакцию. В редакцию, в редакцию, только в редакцию! Они заварили кашу, они пусть и расхлебывают. А теперь, Маргарита Федоровна, пригласите-ка ко мне Гурьянова. И пусть поторопится, это в его же интересах, а то он вечно имеет привычку являться не раньше, чем на другой день после вызова…
В душе Леночка пожалела Гурьянова, тон Перфильева не предвещал для него ничего хорошего.
Выйдя из кабинета, Леночка и Вера Валентиновна некоторое время постояли в коридоре, у окна. Вера Валентиновна закурила сигарету.
— Ну что, огорошил вас Перфильев? Ладно, не берите слишком близко к сердцу. Это мое любимое выражение, помогает во всех случаях жизни. Анатолий Борисович — оригинальный человек и талантливый ученый, так что ему вполне можно простить некоторые странности его характера. Кстати, он ведь один из самых любимых учеников Ивана Дмитриевича. Архипов в нем души не чает. И то, что он так рано защитился, стал доктором, а теперь вот — замом Архипова по науке, все это не случайно, все это дело рук Ивана Дмитриевича. Иван Дмитриевич — умный старик, при всех его слабостях он понимает, что с таким заместителем он как за каменной стеной, избавлен от всех хлопот… Но с вас, я вижу, впечатлений на сегодня вполне довольно. Так что пойдемте сейчас заполним разные бумаженции, потом я напою вас нашим лабораторным чаем и отправляйтесь домой…
Когда они поднимались по лестнице в лабораторию, им навстречу попался Глеб Гурьянов. Он и Леночка переглянулись, и Гурьянов улыбнулся ей как давней знакомой, словно между ними уже существовал некий тайный сговор, словно они обладали одной общей тайной. И Леночке вдруг очень захотелось как-то поддержать, приободрить его, потому что она-то ведь уже знала, что ждет его сейчас в кабинете Перфильева. И она тоже улыбнулась ему в ответ. Кажется, эта ее улыбка не осталась незамеченной Верой Валентиновной, но она промолчала, только заинтересованным взглядом скользнула по Леночке.
Спустя час Леночка Вартанян уже выходила из института. Внизу, возле вахтера, она увидела старика, седого, с непокрытой головой, в старомодном светлом плаще, изрядно поношенном, но тщательно вычищенном. Под мышкой он держал ученический разбухший портфель без ручки, перевязанный бечевкой. Наверное, этот старик и был тем странным человеком, который добивался встречи с Архиповым или Перфильевым. Кто он? Что привело его сюда, в институт? Чего он хотел? Сейчас он и институтский вахтер мирно беседовали между собой, как умеют беседовать лишь люди преклонных лет, которым есть что вспомнить. Для стариков, как и для детей, не раз замечала Леночка, не существует тех условных границ отчуждения, которые обычно разделяют незнакомых людей.
Леночка уже приблизилась к двери, когда странный старик вдруг обернулся и быстро шагнул к ней, словно намереваясь преградить дорогу.
— Дамочка, а дамочка…
Это непривычное, неожиданное для нее обращение испугало Леночку, и она торопливо проскользнула мимо. Какое-то настораживающее несоответствие было между стариковской просительно-угодливой интонацией и умными, проницательными глазами, взглянувшими из-под седых бровей на Леночку. Впрочем, об этом Леночка подумала, уже оказавшись на улице.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Как раз в то самое время, когда Леночка Вартанян сидела в кабинете Перфильева, когда затем под руководством Веры Валентиновны заполняла анкеты в лаборатории Мережникова, огромный реактивный самолет нес Архипова из Токио в Москву.
Под ровный гул двигателей Архипов то начинал дремать, то стряхивал с себя дремоту. Мысли его возвращались к Лизе, Лизе Скворцовой. Она так и оставалась для него Скворцовой, никак не мог, не хотел он привыкнуть к ее новой фамилии — Фейгина. Может быть, оттого это, что не сумел в глубине души смириться с ее замужеством. Выбор ее не одобрял, хотя из деликатности, из опасения задеть, обидеть ее никогда не говорил ей об этом. Да и не было у него такого права. Кто он был для нее? Старый друг ее отца, только и всего.
Вчера едва ли не полдня пробродил Архипов по сувенирным маленьким магазинчикам на улицах Токио, ломая голову над тем, что бы купить Лизе в подарок. Неотступно думал о ней, вспоминал те времена, когда была она еще маленькой девочкой, когда еще были живы и мать ее, и отец, когда он, Архипов, приходя к ним в дом, прятал, зажимал в руке за спиной подарок для Лизы: «А ну-ка, угадай, что я тебе принес?», и Лиза, весело хохоча, пыталась заглянуть ему за спину, а он увертывался, поддразнивая ее. Это была их постоянная игра, доставлявшая им обоим одинаковое удовольствие, своего рода ритуал, сопровождавший каждый раз его появление в доме Скворцовых.
Лизиного отца, профессора Петра Сергеевича Скворцова, и Ивана Дмитриевича Архипова связывала давняя, еще с университетских времен, дружба. Петр Скворцов обладал характером увлекающимся, был резок и не всегда справедлив в своих суждениях. Судьба его складывалась непросто: были в ней, в этой судьбе, и черные дни, когда обвинение в приверженности фрейдизму оказалось чуть ли не самым безобидным из всех обвинений, предъявлявшихся ему его противниками, когда не только научная карьера, но и все его будущее, казалось, висело на волоске. К счастью, все обошлось тогда, все кончилось благополучно. И наверно, именно те нелегкие времена особенно сплотили, сблизили их семьи.
Лиза Скворцова была поздним ребенком. Отец ее частенько полушутя-полусерьезно говорил Архипову: «Нам бы Лизу только до университета довести, а там можно и пожитки собирать, на тот свет отправляться». Он словно бы предсказал свою судьбу. Лиза лишилась своих родителей в один год, когда она уже училась в университете, на первом курсе. Сначала умерла от сердечного внезапного приступа мать, а потом слег отец. Уже из больницы Архипов получил от него последнее письмо.
«Хотя врачи и пытаются скрыть от меня правду, — писал Петр Сергеевич Скворцов, — я уже хорошо знаю, что не поднимусь больше, что дни мои сочтены. И если обращаюсь к тебе с этим, вероятно последним, письмом, то не для того вовсе, чтобы как-то подвести итоги своей жизни — почти вся она прошла у тебя на глазах, ты сам знаешь, чего она стоит. Я же обращаюсь к тебе лишь потому, что теперь, после моей смерти, ты останешься, по сути, единственным близким человеком для Лизы, больше у нее никого нет. И это мое письмо о ней, о Лизе. Если отчего мне и страшно умирать, уходить во тьму, то лишь из-за нее, из-за Лизы.
Я уже не первый день пытаюсь написать нечто вроде письма-завещания, обращенного к ней, которое она должна была бы прочесть после моей смерти, и не могу, ничего не получается. Выходит либо что-то громоздкое, пугающее своей старомодной назидательностью, либо сквозь каждую строчку вдруг начинают кричать мое отчаяние, мой страх: да как же ты одна останешься, девочка!
Я понимаю: Лиза — уже взрослый и, в общем-то, самостоятельный человек, может быть, и не нужна ей ничья опека, в этом возрасте подобные вещи всегда ощущаются особенно болезненно. Но все-таки, когда я думаю, что меня скоро не станет и она окажется одна в этом мире, с о в с е м одна, сердце мое разрывается от тревоги и боли.
Ты — единственный человек, кого она любит, кому верит и чье участие и внимание, я знаю, не будет ей в тягость, будет для нее важно и дорого.
Я уверен: не напиши я это письмо, и ты все равно бы не оставил ее, отнесся к ней, как к родной. Однако Лиза — ты, наверно, и сам замечал это — человек нелегкий, и мне бы хотелось, чтобы ты знал о ней все, что знаю и что думаю о ней я, ее отец. Вот почему я и пишу это письмо.
Лиза росла нервным, неуравновешенным и, — что греха таить — конечно же, избалованным ребенком. Насколько она приспособлена теперь к самостоятельной жизни? Насколько окажется в силах выдержать жизненные испытания? Не знаю…
Меня порой очень пугают ее неровный характер, ее вспыльчивость, пугает та легкость, с которой от смеха она переходит к слезам и от слез — к бурному веселью. В этом отношении она вся в мать.
Иной раз меня ставят в тупик ее максимализм, ее категоричность, ее упорное нежелание признавать какие-либо компромиссы.
Расскажу тебе такой случай. Как-то она наткнулась в моих старых бумагах, отыскала где-то в моем архиве мою давнюю статью. Нет, не в научном даже журнале, а в каком-то популярном журнальчике. Если говорить точнее, это и не статья вовсе была, а что-то вроде интервью, запись беседы со мной — так что не мог я обойти молчанием задаваемые мне вопросы и был вынужден упомянуть со знаком «плюс» тех, к кому я, мягко говоря, не испытывал в душе ни малейшего уважения. Не было у меня тогда другого выхода, другой возможности не было — всем нам время от времени приходилось тогда идти на подобные компромиссы во имя нашей работы — слишком высокое положение занимали те «ученые мужи», слишком многое от них зависело, ты, конечно, знаешь, о ком я говорю. Так вот, с Лизой, когда она этот журнальчик обнаружила, чуть ли не настоящая истерика случилась: я не знала, кричит, что ты у меня такой двоедушный, такой лицемерный! Ты, может быть, для меня всегда самым лучшим, самым непогрешимым человеком на всем свете был! Кому же мне теперь верить? Кому?
Ты знаешь, я и сам был тогда потрясен и подавлен этим ее взрывом эмоций, этой искренностью ее отчаяния. Кое-как попытался объяснить, успокоить, но насколько мне удалось это, насколько сумел я убедить ее — не знаю.
Последнее время меня все больше беспокоят ее друзья. Мне кажется, она не умеет разбираться в людях. При всей своей избалованности, она, как ни странно, вовсе не эгоистка, скорее даже совсем напротив, она способна привязываться к людям сильно и искренне, безоглядно, способна ж е р т в о в а т ь ради другого человека, она даже, мне кажется, специально ищет такой возможности. Но эта жажда жертвовать, желание быть нужной кому-то, необходимой, — оно, это чувство, у нее словно бы бежит впереди разума, и она готова распространять свою привязанность на всех без особого разбора. Отсюда и горькое потом разочарование, и слезы, и недовольство собой… При этом, если я пытался как-то раскрыть ей глаза на того или иного человека из ее друзей или подруг, она становилась, к сожалению, совершенно нетерпимой, замыкалась, уходила в себя.
Как видишь, несмотря на всю мою любовь к Лизе, я стараюсь быть объективным, я ничего не скрываю от тебя.
И все-таки она славная девочка, славный, любимый мой человечек…
Если что-то и утешает меня, то лишь сознание, что ты будешь рядом с ней, ты не оставишь ее…
П р о щ а й».
Уже после смерти Скворцова Архипов несколько раз порывался показать это письмо Лизе, но всякий раз что-то удерживало его, что-то мешало ему. Да и хотел ли сам Петр Сергеевич, чтобы Лиза прочла эти строки?.. Или они предназначались только ему, Архипову?..
С каждым годом Иван Дмитриевич все больше привязывался к Лизе.
Когда-то, в давние времена, еще до войны, он со своей семьей жил одним домом с родителями и двумя взрослыми сестрами. Четырнадцать человек садилось во время воскресных обедов за огромный раздвижной стол. Это был особый мир, семейный клан со своими страстями, со своими преданиями и легендами, со своими законами и своей дипломатией. Архипов хорошо помнил, как съезжались они все вместе на дачу, как ходили в гости друг к другу, как враждовали, ссорились и мирились… Все это ушло безвозвратно.
Тогда, в довоенные годы, несмотря на свое только что полученное профессорское звание, несмотря на то, что у него были свои почти уже взрослые дети, Архипов все еще оставался с ы н о м, мальчиком, ребенком в глазах матери. В то время, он помнил, его уже начинала раздражать, тяготить эта зависимость, эта неполная самостоятельность. Его начинали тяготить и вечная теснота, и вечное многолюдие, которые царили в их доме. Но теперь, оглядываясь назад, он понимал, что именно те, предвоенные, годы были самыми лучшими, наиболее счастливыми в его жизни. Самое удивительное, что и жена его, которая, казалось, тогда больше всего страдала от этой, как она выражалась, «общественной» жизни, уже потом, много позже, незадолго до своей смерти, признавалась ему, что те годы и для нее были самыми счастливыми…
Семья, родное гнездо, твоя главная опора в жизни…
Их семья всегда представлялась Архипову подобной могучему, ветвистому, плодоносящему дереву. Но война разметала эту семью, раскидала, разрушила, и вот там, где высилось могучее дерево, торчит лишь обожженный ствол… Даже дома того, где они жили до войны, не осталось — он рухнул во время бомбежки…
Последние годы Архипов жил один. Правда, навещала его сестра, иногда наезжали племянники, обосновавшиеся в Подмосковье, но это не избавляло его от ощущения одиночества. Оттого он так дорожил возможностью заботиться о Лизе Скворцовой, дорожил их почти родственной близостью.
Университет Лиза окончила с отличием, и Архипов взял ее к себе в институт, в аспирантуру. Вот тогда-то на горизонте и возник Ефим Фейгин, или попросту Фимочка, как звали его в институте.
Чем привлек он Лизу? Чем сумел покорить? Он был невысок, довольно тщедушен — во всяком случае, именно это слово приходило на ум Архипову всякий раз, когда он видел Фейгина. Нездоровая бледность обычно разливалась по лицу Фимочки. Впрочем, Фейгин принадлежал к тому типу людей, чье физическое несовершенство оборачивается едва ли не достоинством, ибо дается, кажется, лишь для того, чтобы подчеркнуть, оттенить интеллектуальную энергию, наделяя которой подобных людей, природа словно бы стремится искупить свою несправедливость. Была своего рода привлекательность в той насмешливой, веселой пренебрежительности, с которой относился сам Фимочка к присущей ему болезненности. Фейгину нельзя было отказать в живости ума, в наблюдательности, в остроте и парадоксальности суждений — может быть, эти черты и притягивали Лизу?.. Однако Архипову казалось, что живость его натуры нередко граничила с легкой развязностью, а уверенность в себе переходила в самонадеянность. Фейгин был деятелен, неуступчив, напорист, особенно если дело касалось его собственной научной работы, — сколько помнил Архипов Фейгина, тот вечно что-нибудь требовал, просил, выбивал, устраивал, организовывал. Он обладал особым даром — даром убежденности в том, что именно его работа — самая важная, самая нужная, самая неотложная. Этой своей искренней убежденностью он умел заражать и окружающих. Когда-то Архипову даже нравилась такая энергичная его целеустремленность, но в последнее время он все чаще ловил себя на том, что напористость Фейгина начинает казаться ему бесцеремонной, утомляет и раздражает. Конечно, Архипов отдавал себе отчет, что, вероятнее всего, он попросту необъективен к Фейгину, и старался победить, преодолеть эту свою предвзятость. Ведь нашла же что-то в нем Лиза, полюбила за что-то. Или прав был ее отец и она действительно плохо разбирается в людях?.. И все же, если быть справедливым, нельзя не признать, что Фимочка Фейгин был остроумен, энергичен, за словом в карман не лез, перед авторитетами не робел, — Лиза рядом с ним казалась тихой и незаметной. Она-то никогда не отличалась уверенностью. Возможно, теперь она находила в Фимочке то, чего недоставало ей самой…
Поначалу Архипов был уверен, что Лизино увлечение Фейгиным пройдет так же быстро, как возникло, но очень скоро он убедился, что ошибается: все чаще он видел их вместе в институтском коридоре, где обсуждались лабораторные новости, в буфете, на улице после работы, а однажды, придя, как обычно, навестить Лизу, он застал Фейгина у нее дома. Фимочка, без пиджака, в подтяжках, старательно крутил ручку кофемолки. Казалось, он ни капли не был смущен появлением Архипова. Неловкость скорее испытывал сам Архипов. Лиза пригласила его выпить кофе, и Архипов остался. Наблюдая в тот вечер за Лизой, празднично оживленной, сияющей своими большими, как у матери, глазами, Архипов больше всего был озабочен тем, чтобы не выдать свое истинное отношение к Фимочке Фейгину, не показать, как тоскливо и горько у него на душе, чтобы не разрушить праздничное Лизино настроение, ее счастливую озаренность. В тот вечер он понял, что теряет Лизу.
Впрочем, и после ее замужества некоторое время он еще продолжал иногда бывать в их доме. И хотя всякий раз в присутствии Фимочки он чувствовал себя неуютно и скованно, он все же пересиливал себя и даже пытался наедине с собой посмеиваться, иронизировать над своей стариковской ревностью. Однако он уже угадывал, что эти визиты, которые он прежде так любил, теперь в тягость не только ему, но и Лизе. Постепенно он перестал появляться у нее в доме, вернее — у н и х в доме. Да и не было в этом особой необходимости: едва ли не каждый день они виделись с Лизой в институте, в лаборатории.
Лиза закончила аспирантуру, защитила кандидатскую — казалось, все шло хорошо, лишь неожиданный нервный срыв накануне защиты испугал и насторожил Архипова. Впрочем, она и раньше вечно нервничала перед экзаменами, доводя себя чуть ли не до истерики, и срыв этот вполне можно было объяснить переутомлением и тем напряжением, с каким работала Лиза все недели, предшествовавшие защите. И все же Архипов не мог избавиться от чувства, будто с Лизой что-то неладно. А может быть, он просто внушал сам себе, что с ней непременно д о л ж н о быть неладно?..
Архипов и сам не терпел, не выносил, когда кто-либо пытался вмешаться в его личную жизнь, и потому считал недопустимым вмешиваться в жизнь других. Только однажды — это было как раз вскоре после защиты — он попробовал вызвать Лизу на откровенность, но она мягко ушла, уклонилась от этого разговора. «У меня все хорошо, Иван Дмитриевич, все хорошо… — сказала она тогда. — Я очень люблю Ефима, это ведь главное, правда?» Совсем не такие слова ожидал услышать от нее Архипов. Однако он готов был поручиться: что-то жалобно-тревожное прозвучало в Лизином полувопросе-полуутверждении: «…это ведь главное, правда?» Больше она ничего тогда не добавила, не объяснила. Так и оставалась для него загадкой, тайной эта странная Лизина любовь к Фейгину.
…Архипов дремал, откинувшись на спинку самолетного кресла, и в полудреме, казалось ему, он опять видел. Лизу совсем еще маленькой девочкой, весело выбегающей навстречу ему, пока он неторопливо снимает пальто в передней квартиры Скворцовых…
ГЛАВА ПЯТАЯ
В передней пахло кофе. Запах свежепромолотого, только что сваренного кофе плавал по всей квартире.
Только Леночкин отец, Георгий Степанович Вартанян, умел варить кофе так, что один этот запах уже вызывал ощущение счастья. Этот запах Леночка помнила с самого раннего детства, как помнила и всегда восхищавшие ее своим медным сверканием маленькие кофеварки с длинными ручками. Этот запах приносил с собой ощущение счастливой легкости, радостной беззаботности, которое присуще только детству. И почему никто еще не додумался лечить нервные расстройства, разные, как принято теперь говорить, стрессы подобными запахами — запахами, пробуждающими воспоминания о детстве?
Из комнаты доносились приглушенные голоса: голос отца и второй — тоже знакомый, с низкими, хрипловатыми нотками. По этим хрипловатым ноткам Леночка сразу узнала, догадалась, кто пришел к отцу. Сергей Иванович Сергеев, дядя Сережа, старый папин товарищ еще по фронту.
Прежде Сергей Иванович очень часто бывал в их доме, во всяком случае ни один праздник, ни одно семейное застолье не обходилось без него. Но последнее время он появляется все реже: замучили, говорит, болезни, опасаюсь, говорит, ходить в гости, чтобы не рассыпаться по дороге. Он грузен, медлителен, при ходьбе тяжело опирается на палку, и лицо у него крупное, чуть одутловатое. Теперь трудно поверить, что этот астматически дышащий человек в мешковатом, широченном костюме когда-то был командиром Леночкиного отца, лежал в окопах, ползал, стрелял, поднимал свою роту в атаку, что это он когда-то — неужели это действительно было? — позировал перед фотографом в Праге в лихо заломленной офицерской фуражке. Гвардеец, офицер, победитель…
Сергей Иванович был, пожалуй, единственным человеком, кто располагал Леночкиного отца к воспоминаниям о своей фронтовой молодости. Вообще же отец Леночки не любил вспоминать о войне, редко рассказывал о фронте, о боях, в которых участвовал. Если бы не два ордена — Отечественной войны второй степени и Красной Звезды, да несколько медалей, бережно хранившихся в специальной шкатулке, могло бы показаться, что эта полоса жизни не оставила у Георгия Степановича Вартаняна никаких существенных зарубок в памяти. В действительности это было, конечно, не так. Однажды, когда Леночка очень уж пристала к отцу с расспросами, он сказал ей:
— Знаешь, дочка, война для меня ведь не на фронте началась, не в бою, не в окопах. Помню, нас только-только призвали, были мы курсантами в небольшом приволжском городке — я и мой друг, Олег Сидельников… Друзья мы с ним были — крепче дружбы не придумаешь, больше уже таких друзей у меня никогда не было. Вот, кажется, скажут тебе: умереть за друга надо — и умрешь, не задумываясь, не колеблясь. Такая у нас тогда дружба была. Олег мечтал военным летчиком стать, стихи писал. Помню, в девятом классе, уже незадолго до войны это было, прорабатывали его на комсомольском собрании за одно стихотворение. В школьной стенгазете оно было напечатано. И там, в этом стихотворении, были такие строки — потом, уже во время войны, когда мы оба стали курсантами, Олег мне эти строчки на оборотной стороне своей фотографии написал — на память. Она, эта фотография, до сих пор у меня хранится. Да, значит, такие строки:
За эти-то строчки его и прорабатывали. Панические настроения в них кому-то почудились. Помню, даже секретарь райкома комсомола к нам на собрание специально приходил, речь произносил. Тогда ведь считалось, что, если война начнется, вести ее мы будем на территории противника, ни пяди своей земли врагу не уступим. «Беспощадным и мощным ударом…» — так тогда пели. Может быть, и правильно делали, что так пели, не берусь судить. Может быть, этот дух, настрой наш и помог нам потом выстоять в самые тяжкие дни. А может быть… Впрочем, не о том сейчас речь, я отвлекся. Навалились тогда на Олега всем классом: как, мол, это так — «если враг на нашу землю ступит»? И еще у него там, в стихотворении, подробности какие-то были насчет сожженных деревень и вытоптанных пашен. И главное — кто пишет так? Парень, которому через год-другой идти в армию! Защищать Родину! В общем, досталось ему крепко. И я — вот чего до сих пор никак забыть не могу! — выступал тоже, выступал одним из первых. Я тогда был убежден, что можно и нужно защищать друг друга в драке, прикрыть своим телом в бою, но на комсомольском собрании?.. Защищать его только потому, что он мой друг? И я знал, что по отношению ко мне Олег поступил бы точно так же. Тоже не пощадил бы. Такие мы тогда были люди.
А вскоре наступила война, и нас определили в пехотное училище, в тот самый приволжский городок, о котором я уже говорил… Курсантами мы еще были без году неделя — даже присягу принять не успели, разве что форму военную надели… И посылают, значит, наш взвод на товарную станцию — разгружать уголь. Только мы туда прибыли, только взялись за лопаты — бомбежка! Первый раз прорвались немцы к этому городку, первый раз бомбили. Грохот стоит, темнота — дело уже вечером было, — куда бежать, где спрятаться — ничего не известно… И вдруг при свете лампочки — там такая маленькая синяя лампочка под навесом горела — при свете этой лампочки вижу: идет Олег, за живот обеими руками держится, лицо у него перемазано углем, и на лице какая-то вроде бы виноватая, слабая улыбка: «Ребята, говорит, меня, кажется…» Отпустил он руки, а там, на животе — темное пятно расплылось по гимнастерке. Я не сразу и понял, что это — кровь. Подхватили мы его, какой-то старый брезент отыскали, положили Олега на этот брезент, потащили в госпиталь. А до госпиталя километра три, не меньше, и дорога такая, что и днем не пройдешь, не проедешь, — колдобина на колдобине, рытвина на рытвине. Глину от дождей развезло, а тут еще темнота — хоть глаз выколи… Ноги то разъезжаются, то вязнут в глине — не выдерешь.
Тащим мы так Олега, но на полдороге начал он уже хрипеть, ругаться, попытался сползти с брезента. Потом вдруг пришел в себя, попросил, чтобы опустили его на землю. Мы остановились. Мы и сами уже выбились из сил. Опустили брезент на землю, я чиркнул спичкой. Олег лежал на спине с открытыми глазами и смотрел вверх, в небо. По его перепачканным угольной пылью щекам текли слезы. Я быстро погасил спичку. «Олег, — говорил я, — послушай, Олег, осталось совсем немного, потерпи еще чуть-чуть, сейчас мы донесем тебя, и там тебе помогут, слышишь? Мы еще попляшем на твоей свадьбе!» Он молчал. Потом внезапно вздохнул глубоко и сказал очень отчетливо: «Все бы ничего, да маму жалко…»
Мы подхватили брезент и опять, проваливаясь в вязкую глину, с трудом выдирая ноги, оступаясь и падая, тащили его, не давая себе передышки. Так и осталась навсегда в моей памяти эта ночь — с этой глиной, с темнотой, с выскользающим из рук тяжелым, мокрым брезентом… Но даже тогда, когда Олег уже хрипел и сползал с наших самодельных носилок, я еще не верил, не хотел верить, что это всерьез, бесповоротно, непоправимо. «Не может быть, — повторял я себе, — этого же не может быть…»
Когда мы добрались до госпиталя, Олег был уже мертв.
Потом, на войне, я видел много смертей, но ни одна из них не потрясала меня так, как эта — первая. Да, мы знали, что можем умереть, мы были готовы погибнуть в бою, в атаке, от пули; смерть на войне представлялась нам, ну, не то чтобы красивой, но торжественной, что ли, осмысленной, во всяком случае… Но погибнуть вот так — даже ни разу не выстрелив, даже не увидев врага, умереть в мучениях, корчась на каком-то старом брезенте, заляпанном глиной и угольной пылью, смешавшейся с кровью… Нет, с этим невозможно было смириться. Я не представлял себе смерть такой. Это нельзя было ни понять, ни объяснить. Я долго не мог отойти от этого потрясения, и, может быть, только досрочная, стремительная отправка нашего училища на фронт помогла мне наконец справиться с собой, преодолеть себя…
Вот так и началась для меня война…
Потом, позже, Леночка Вартанян отыскала у отца в старом альбоме фотографию Олега Сидельникова, на оборотной стороне которой округлым, аккуратным почерком были выведены три строчки:
Другу Георгию на долгую память от Олега
С фотографии на Леночку смотрело совсем юное лицо — парнишка, подстриженный под полубокс, в белой рубашке с отложным воротом и короткими рукавами, плотно обхватывающими крепкие бицепсы. Он смотрел на Леночку весело и открыто, не ведая еще о своей судьбе. И она тоже вглядывалась в это открытое, доверчивое лицо, по которому легко угадывалась — даже если бы отец и не рассказал ей, что Олег сочинял стихи, — по-юношески возвышенная душа.
Леночка вглядывалась в это лицо, словно пытаясь понять, дознаться, в чем же был смысл жизни этого полумальчика-полумужчины, который столь о многом мечтал и так мало успел сделать… Неужели лишь в том, чтобы умереть в крови, в мучениях?.. Или был еще какой-то иной, неведомый, недоступный Леночке смысл в этой короткой жизни?..
Больше она уже не расспрашивала отца о войне, она поняла, ощутила, как тяжело даются ему эти воспоминания.
…Леночка немного постояла в передней, прислушиваясь к голосам за дверью. Кажется, отец и Сергей Иванович были так увлечены, что даже не слышали ни лязганья замка, ни ее шагов. О чем это они?
Сейчас Леночка различала голос отца:
— …теперь уже совершенно определенно доказано… существуют вещества, способные активно влиять на нашу память, усиливать одни ее проявления и ослаблять другие… перспективы, которые открываются… обнадеживающие результаты… серьезные морально-этические проблемы…
Так вот оно что!
Леночка тихо, про себя засмеялась.
«Надо спасать дядю Сережу, а то отец замучает его своими научными выкладками…»
Леночка стремительно ворвалась в комнату, обхватила отца сзади за шею, чмокнула в щеку.
— Как не стыдно, папка! — сказала она с притворной сердитостью. — Нашел себе новую жертву и радуется! Даже не слышал, что родная дочь с работы вернулась! А вы, дядя Сережа, не поддавайтесь!
— Да нет, Лена, — сказал отец. — У нас тут с Сергеем очень серьезный разговор. Мы как раз ждали, когда ты появишься, нам твой совет нужен.
Только теперь Леночка с изумлением заметила, что перед отцом лежит та самая газета, которую читал у себя в кабинете Перфильев. Она даже была расстелена точно так же, как на столе у Перфильева, и даже некоторые абзацы статьи тоже были отчеркнуты красным карандашом. Как будто за то время, пока Леночка добиралась до дома, газетный лист по волшебству, неким чудесным образом перенесся, или т е л е п о р т и р о в а л с я , как пишут в таких случаях фантасты, из кабинета Анатолия Борисовича Перфильева сюда, в их квартиру. Хотя чему тут было особо удивляться? Не мог же Георгий Степанович Вартанян пропустить газету со статьей об институте Архипова, не изучить ее досконально, никак не мог. Теперь разговоров об этой статье хватит на неделю, не меньше.
Отчего-то эта газета с красными карандашными пометками и та серьезная торжественность, с Которой держался сейчас отец, сразу немножко подпортили Леночкино настроение, и она уже без должного воодушевления восприняла и шоколадный торт, купленный явно для нее, и коробку конфет, тоже, разумеется, возникшую на столе в ее честь, и маленькие сервизные чашечки для кофе, извлекаемые отцом из серванта лишь по торжественным дням…
— Ты меня совсем ошеломила, дочка, — сказал отец, как бы оправдываясь. — Я тебя даже не поздравил еще. Ну как твой первый рабочий день? Давай, давай, отчитывайся. Как тебя встретили?
Леночка передернула плечами.
— Нормально.
— И Архипова видела?
— Папа, у тебя прямо свет клином сошелся на Архипове, — неожиданно раздражаясь, сказала Леночка. — Можно подумать, в институте и других людей нет. Должна тебя разочаровать: нет, Архипова я не видела, Архипов сейчас в заграничной командировке, в Японии.
— Ну-ну, — примирительно сказал отец. — А тут вон какую статью о вашем институте отгрохали! И Архипова Ивана Дмитриевича хвалят, подробно пишут, почему он именно такой институт в свое время задумал создать. Именно Институт памяти. Потому что раньше проблемы памяти изучались в разных лабораториях разбросанно, разрозненно, а главное — исследования шли как бы по параллельным, непересекающимся линиям: один подход — чисто психологический, без учета нейронных механизмов памяти, другой — изучение этих проблем на молекулярном уровне, наконец, кибернетика… Но все это порознь, порознь, независимо одно от другого… А вот Архипов задумал создать единый центр, собрать всех, кто занимается проблемами памяти, под одной, что называется, крышей — так тут написано. Потому что память — это настолько уникальное, настолько сложное явление, играющее столь важную роль в человеческой жизни, что…
— Папа, — сказала Леночка. — Ты долго еще будешь пересказывать газетную статью? Я же все это знаю. А дядя Сережа, по-моему, уже на дверь поглядывает — прикидывает, как бы незаметно ретироваться…
— Нет, нет — сказал Сергей Иванович, — это действительно интересно. Я, например, с этого года журнал «Здоровье» стал выписывать, так там очень любопытные статейки попадаются, очень полезные в познавательном смысле.
— Вы, что же, выходит, уже заговор против меня здесь составили? — засмеялась Леночка. — Я вижу, папа уже успел обратить вас в свою веру.
— Да у нас и правда, честно говоря, тут одна мыслишка возникла после этой статьи. Не знаем, как ты посмотришь… Одна идея, в общем…
Широкое, одутловатое лицо Сергея Ивановича казалось сейчас немного растерянным, извиняющиеся интонации звучали в его голосе: наверно, он чувствовал себя несколько странно, непривычно, оттого что впервые в жизни обращался к Леночке Вартанян, которую помнил с пеленок, за советом, оттого что, оказывается, она уже могла разбираться в некоторых весьма серьезных проблемах лучше, глубже, основательнее, чем он, опытный, умудренный жизнью человек.
— В общем, дочка, такое дело, — беря инициативу снова в свои руки, сказал отец. — Я, когда эту статью прочел, сразу о Терентьеве подумал. Меня сразу как осенило! Ты помнишь, Лена, Терентьева? Он у нас был однажды, давно.
— Смутно, — сказала Леночка. Она еще не могла уловить, к чему клонит отец, какая связь между газетной статьей об их институте и Терентьевым?
— Ну как же ты не помнишь Терентьева? Он со мной и с Сергеем вместе на фронте был, в одном батальоне мы воевали. Да помнишь конечно, я тебе о нем рассказывал, его обломками дома засыпало, он под этими обломками, контуженный, заживо похороненный, чуть ли не трое суток пролежал, и добраться до него никакой возможности не было… После этого он память потерял…
Ах вот оно что! Вот о ком, оказывается, он говорит! Ну конечно, она хорошо представляла этого человека. Только забыла, что он — Терентьев, фамилию его забыла. Верно, он приходил к ним, и отец потом не раз о нем рассказывал, верно.
— Терентьев, Леночка, можно сказать, мне жизнь спас на фронте, — сказал Сергей Иванович. — А вот потом уже произошла с ним эта история, получил он тяжелую контузию. После войны в каких только госпиталях он не лежал, в каких клиниках не лечился — ничто не помогало, память он начисто потерял. Его как бы заново всему учить приходилось, он же даже имени своего не помнил. Ну, научить-то, конечно, можно, но память — она и есть память, ее не восстановишь. Так до сих пор он ничего и не помнит, что с ним до войны было, — будто половину жизни у человека отрезало: и была жизнь, и вроде бы не было — ни детства, ни юности, ничего. До войны он женат был, так жена его оставила, даже в госпиталь не зашла. А может, и заходила, он не знает, он же совсем беспомощный в этом смысле был — даже узнать бы ее не смог. По документам известно, что был женат, а кто она, жена его, какая, ничего не помнил. Мучился человек ужасно. Да и сейчас — недавно мы с ним встречались, разговорились, он мне признался, что все время какое-то беспокойство смутное, неуверенность какую-то ощущает — будто зашел, говорит, в чужой дом и не знаю, почему и зачем я здесь оказался. Да ты сама себе представь: вдруг бы ты все, что раньше с тобой происходило, забыла начисто, словно черту бы провели, и за ней темнота. Как жить?.. Если бы не Надежда, новая его жена, не знаю, как бы он выкарабкался. Она его и выходила, она в госпитале, где он находился, медсестрой работала. Там они и познакомились…
Когда рассказывал отец Леночки историю Терентьева, когда сам Терентьев приходил к ним в гости, Леночка как-то не обращала на него особого внимания: был он незаметным, невзрачным, тихим человеком. Но теперь, после слов Сергея Ивановича, она попыталась вообразить себя на месте Терентьева и ужаснулась: словно и правда оказалась, увидела себя на краю темной пропасти, темного провала. Такая неощутимая, такая эфемерная, казалось бы, штука — память, но вот лишись ее — и получится, будто бы и не было вовсе твоей жизни, будто и не жила ты еще на свете — ничего не было…
— …И вот сегодня, как только отец твой мне про статью эту о вашем институте по телефону рассказал…
Лишь теперь Леночка окончательно поняла, сообразила, что они задумали, поняла связь между статьей и этими разговорами о Терентьеве.
— Нет, нет, — сказала она, — ничего не выйдет. Это невозможно.
— Да почему же невозможно! — горячо воскликнул Георгий Степанович. — Вот тут же прямо сказано, — и он ткнул пальцем в газету, — уже разработаны такие препараты, которые стимулируют память. Смотри, я специально отчеркнул этот абзац.
— Мало ли что там сказано! — отозвалась Леночка.
— Как так? Что значит: «мало ли что сказано»? — мгновенно возмутился Георгий Степанович. — Разве не ваш сотрудник это говорит? Вот тут ясно написано: кандидат физико-математических наук Гурьянов. Выходит, он не понимает, что говорит, а ты понимаешь?..
— Выходит, так, — сказала Леночка, сама в душе уже страдая от необходимости вести этот разговор.
И жаль ей было этих двух взрослых людей, чье ребячье воодушевление, чью наивную надежду на чудо она вынуждена была разрушить, и злилась она на отца за эту затею. Хоть бы ее сначала дождался, прежде чем переполох поднимать! Еще только не хватало теперь, чтобы ее отец явился в институт к Перфильеву. «Анатолий Борисович, там вас какой-то очень странный человек добивается…»
— Ну вот, я же говорил, — раздраженно произнес отец, ища сочувствия и поддержки у Сергея Ивановича.
Что-то слишком быстро он стал раздражаться, выходить из себя. Раньше всегда таким выдержанным человеком был и гордился этой своей выдержанностью: никогда не сорвется, слова резкого не скажет.
— Я же говорил тебе: она обязательно начнет возражать, спорить. Она же у нас теперь всех умнее!
— Почему умнее? — сказала Леночка обиженно. — Вы же спрашивали моего совета. Я отвечаю: в институт по поводу этой статьи лучше не обращаться, вас все равно в редакцию отправят, я точно знаю.
— Да мы же не по поводу статьи, Леночка, — осторожно вставил Сергей Иванович. — Мы же по поводу конкретного человека…
— Неважно, вы ведь все равно на эту статью ссылаться станете, а Перфильев…
— Да не нужен нам твой Перфильев! — в сердцах воскликнул отец. — Мы к нему и не собираемся идти. Мы к Архипову пойдем. Вот пусть только Архипов вернется. Неужели он нас не поймет, если все объяснить? Неужели такому человеку, как Терентьев, помочь откажется?
— Да что Архипов… он ведь тоже не бог, — сказала Леночка. — Чем он поможет?
— Опять ты споришь! Хлебом не корми, дай только слово поперек сказать. Вот так вечно: спорит, спорит, а потом не права оказывается. И признаться в этом не хочет. Упрямая, вся в мать, — даже багровея от раздражения, проговорил отец Леночки. — Насчет энциклопедии тоже со мной спорила, а кто прав оказался? Понимаешь, Сергей, утверждала, что нет Архипова в энциклопедии и быть, мол, не может, — пояснил он печально молчавшему Сергею Ивановичу. — А я говорю: невероятно, чтобы не было. Обязательно должен быть. Такой ученый — как же иначе! И что же оказалось? Вот я тебе сейчас покажу, что о нем, об Архипове, там написано, сам убедишься… — И Георгий Степанович отправился в соседнюю комнату — за томом энциклопедии, отмеченным специальной закладкой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На вокзале академика Архипова встречал Аркадий Ильич Стекольщиков. Еще из вагона Архипов увидел его высокую, сутулую фигуру. Аркадий Ильич снял шляпу и приветственно помахал ею. Его редкие, седые, почти невесомые, как пух, волосы слабо шевелились под легким утренним ветерком.
Собственно, никто не уполномочивал и уж тем более не обязывал его являться в этот ранний час к поезду, но такова была беспокойная натура Аркадия Ильича Стекольщикова, что никак не мог он допустить, чтобы директора института никто не встретил. И оттого хлопотал он еще накануне, звонил из канцелярии в Москву, в Академию, чтобы узнать номер поезда и номер вагона, в котором прибывал Иван Дмитриевич, договаривался с шофером, заверял Перфильева и ученого секретаря института Илью Федоровича Школьникова в том, что все будет в полном порядке, он встретит Архипова честь по чести и доставит домой, пусть они не беспокоятся.
— Ну что ж, — со своей обычной насмешливостью сказал вчера Перфильев, — если вам так хочется проявить почин, Аркадий Ильич, не будем лишать вас этого удовольствия…
А сам ведь пальцем даже не шевельнул, чтобы узнать, когда приезжает Архипов!
Архипова и Стекольщикова связывали давние, но несколько своеобразные отношения. История их знакомства терялась где-то так далеко во времени, что теперь у каждого из них была своя версия начала этого знакомства. Так, Архипов уверял, что познакомились они на толкучке, на барахолке, году этак в двадцатом или двадцать первом. Стекольщиков тогда продавал книги, а Архипов подошел, полистал одну из них — он до сих пор помнил, это были «Опыты» Монтеня — и увлекся, начал читать, стоя над книжным развалом. Так он простоял час или больше, и кончилось это тем, что скучавший Стекольщиков заговорил с ним. Между ними завязался спор по поводу Монтеня — так началось их знакомство. Стекольщиков же утверждал, что Архипов что-то путает, что книгами он, Стекольщиков, никогда не торговал, разным барахлом — да, было дело, являлся на толкучку, когда уж очень прижимали безденежье и голод, но книгами — нет, не торговал. К книгам у него всегда было святое отношение. Архипова же впервые он увидел в одна тысяча девятьсот двадцать втором году — будто шел тогда Архипов по университетскому коридору в шинели, в ботинках с обмотками и нее на руках запеленатого младенца — тем и привлек к себе внимание. Архипов не спорил: было такое, вполне могло быть. Именно в конце двадцать первого родился его первенец, сын Митя, и порой им с женой, такой же юной, каким был тогда и сам Архипов, приходилось по очереди нянчиться с ним — не с кем было оставить ребенка в огромной, пустой и холодной квартире. Это уже потом, позже, квартира опять заполнилась людьми, голосами, ожила, а тогда, после голодных лет, после потрясений гражданской войны, семья их только-только начинала стягиваться обратно в Петроград. И все-таки со Стекольщиковым они познакомились раньше, что бы там ни утверждал Аркадий Ильич.
Впрочем, споры их носили обычно шутливый характер, они оба как бы условились играть в эту игру, строго соблюдая ее правила, и никогда не опускались до стариковского мелочного и нетерпимого упрямства, до обид и враждебности.
Их нельзя было назвать друзьями. Несмотря на столь давнее знакомство, они так и не сумели перейти на «ты». Архипов, выросший в старой интеллигентской семье, вообще с трудом переходил на «ты», и Стекольщиков тут не стал исключением. Они так и не сблизились домами, семьями, очень редко бывали друг у друга в гостях. Видно, существовало в их характерах нечто такое, что не позволяло им сойтись ближе, что побуждало все время выдерживать определенную дистанцию, — некая доля несовместимости. Одним словом, был в их отношениях, таких ровных для постороннего глаза, и свой глубинный пласт, свое подводное течение, угадываемое, ощущаемое только ими. Так, пожалуй, в возникновении несовместимости сыграла свою роль давняя осечка в их отношениях — осечка, о которой они оба предпочитали теперь, за давностью лет, не вспоминать, но которую, конечно, ни тот, ни другой не забыли.
История эта была старая, и касалась она Петра Сергеевича Скворцова, Лизиного отца. Когда стало известно, что Скворцов лишен кафедры, что ему грозит арест, когда решалась его судьба, Стекольщиков явился к Архипову домой, до крайности взволнованный и испуганный. «Надо что-то делать, что-то предпринимать, — говорил он, — вот взгляните, я тут набросал…» Он извлек из портфеля торопливо исписанный листок бумаги. Это было письмо-отречение, он спешил отречься от Скворцова, осудить его, он торопился очертить себя неким магическим спасительным кругом. Он советовал Архипову немедленно сделать то же самое. «И непременно в письменной форме, в письменной форме…» — повторял он. Что руководило тогда Стекольщиковым: забота об Архипове? Страх за него? Или стремление разделить с Архиповым свое отречение от Скворцова и тем самым хоть в какой-то степени оправдать себя, утешить свою совесть?.. Так или иначе, но это «в письменной форме» так и засело, запечатлелось навсегда в памяти Архипова. Вскоре угроза, нависшая над Скворцовым, миновала, все обвинения с него были сняты, и Архипов так никогда и не узнал, успел Стекольщиков отправить свое письмо или нет. Впоследствии Аркадий Ильич очень раскаивался в тогдашних своих побуждениях, мучился, говорил, что это была минутная слабость, страх, какое-то затмение нашло на него. «Да и как я мог не поверить? Я же привык всегда верить…» — в некоторой растерянности повторял он. Уверял, что сам себя казнит за эту слабость ежедневно, ежечасно.
Внешне после этой истории их отношения не изменились, но все-таки что-то хрустнуло, сломалось. Наверно, тот тяжелый день и был для обоих поворотным, переломным — после него они либо самыми близкими друзьями могли стать, ближе уже и не бывает, либо ощутить, признать полосу отчуждения, разделившую их.
Возможно, после той истории Стекольщикову было лучше, естественнее постараться уйти, расстаться с Архиповым, была у него такая возможность — приглашали его в другой город. Но, странное дело, — Аркадия Ильича, казалось, еще больше теперь тянуло к Архипову — единственному, кто знал о его позорной слабости, о его если не предательстве, то готовности к предательству. Как будто он был связан теперь с Архиповым еще прочнее, чем прежде.
Впрочем, нынче вся эта история казалась уже такой неправдоподобно далекой, так надежно затянулась слоем времени, что иной раз даже думалось: а была ли она? Была ли?
Во всяком случае, не было сейчас в институте второго человека, кто столь давно знал Архипова, столь же долго работал вместе с ним, как Аркадий Ильич Стекольщиков…
…Архипов шагнул из вагона на перрон навстречу Стекольщикову. Они неловко, по-стариковски, полуобнялись, приткнувшись друг к другу.
Аркадий Ильич, беспокойная душа, оказывается, уже и о носильщике предусмотрительно позаботился. Чемодан Архипова и тяжелый портфель были взгромождены на тележку, а Архипов и Стекольщиков медленно пошли по перрону.
— А мы уже крайне заждались вас, Иван Дмитриевич, крайне, — говорил Аркадий Ильич, оживленно поблескивая очками. Любопытную вещь не раз уже подмечал Архипов: казалось, именно очки придавали особую выразительность глазам Стекольщикова. Именно стекла очков умели светиться весельем и гневом, сарказмом или одобрением, быть внимательными или рассерженными, — стоило же Аркадию Ильичу снять их, как сразу обнаруживались бесцветные, невыразительные, усталые стариковские глаза…
— Ну как там Страна восходящего солнца? Любопытнейший, говорят, народ! Сад камней видели? Сакура цветет? — Стекольщиков засмеялся. — Ну, а как симпозиум? Все хорошо прошло? Интересно? С кем виделись? Устали, конечно, я понимаю, но выглядите вы, Иван Дмитриевич, сейчас просто отлично. Даже посвежели — как с курорта. Я рад за вас. А то тут слушок прошел, будто вы кому-то где-то что-то такое говорили насчет того, что, мол, устали, что чуть ли не уходить из института собираетесь. Чепуха, конечно, но все-таки я взволновался, однако потом решил: если вы бы действительно это говорили, вы бы меня первого поставили в известность, не мог бы я не знать об этом…
— Занятно, что этот слушок уже даже до Японии докатился, — усмехнувшись, отозвался Архипов.
— Ах вот как! — И тон Стекольщикова сразу утратил нарочитую беззаботность. Очки блеснули с тревожной настороженностью. — Вы уж простите меня, Иван Дмитриевич, что я так, с места в карьер, но меня это и правда очень волнует. Подумайте сами: если кто-то распространяет такие слухи, значит, кому-то они нужны, что-то за ними кроется…
— Да ничего не кроется, — добродушно сказал Архипов. — Ничего ровным счетом, кроме желания погадать на кофейной гуще. А может быть, я и сам когда-нибудь что-нибудь такое сказал под настроение, вполне возможно… Так что не придавайте этому значения, не придавайте, Аркадий Ильич…
— Вы слишком благодушны и доверчивы, Иван Дмитриевич, вы всегда были слишком благодушны и доверчивы… — с полушутливым укором произнес Стекольщиков. — И все-таки, если бы я выступал в роли волхва-прорицателя, я бы сказал вам: «Опасайтесь талантливых мальчиков, опасайтесь. Они слишком честолюбивы. Они ни перед чем не остановятся».
— Дорогой Аркадий Ильич, вы, кажется, забыли, что мне уже поздно чего-либо опасаться.
— Вот видите! — сразу вскинулся Стекольщиков. — Что за мысли у вас! А вы еще успокаиваете меня — не придавайте, мол, значения этим слухам! Хотя вы, Иван Дмитриевич, прекрасно знаете, что ваша судьба и судьба всего института…
— Что-то мы чересчур много говорим обо мне, — сказал Архипов с едва заметным недовольством. — Лучше расскажите, Аркадий Ильич, какие новости у нас в институте…
— Да вот, пожалуйста, последняя новость: Гурьянов, вами любимый, опять фокус выкинул. В газете такую беседу с ним напечатали о нашем институте, что все за головы схватились. Вы же знаете Гурьянова, он не может без фантазий. Одним словом, несколько перестарался, расписывая наши возможности, да и формулировки неточные допустил, желаемое за действительное выдал, завтрашний день за сегодняшний. Теперь наш институт, можно сказать, в центре общественного внимания. Просьбы посыпались, звонки чуть ли не беспрерывные… А главное — там, наверху, в инстанциях, говорят, этой статьей очень недовольны. Да вам все это еще расскажут, распишут во всех подробностях. Перфильева по этому поводу, кажется, уже чуть ли не в горком вызывали…
— Так, так… — сказал Архипов, ничем больше не выказывая своего отношения к этой истории. — Ну, а что еще?
— Еще? Лимонникова к премии Ленинского комсомола решили представить… Шнейдерману утвердили докторскую… В институте работает комиссия народного контроля — проверяет правильность расходования и учета спирта… В общем, жизнь идет, Иван Дмитриевич…
Стекольщиков сделал паузу. Какая-то неуверенность почудилась в его голосе Архипову — Аркадий Ильич вроде бы колебался: сообщить что-то еще или нет. По взгляду его, словно бы примеривающемуся, было видно: и хотел бы сказать, да не решается. Это ощущение не оставляло Архипова всю дорогу, пока они ехали до его дома. И когда машина наконец затормозила, Архипов спросил, уже открывая дверцу:
— Вы, кажется, еще что-то хотели сказать?
— Нет, нет, — поспешно отозвался Аркадий Ильич. — Нет.
Может быть, он просто-напросто надеялся, что Архипов, хотя бы ради вежливости, пригласит его подняться с собой. Выпить по чашке чая. Но Архипов сейчас и сам не знал: ждет ли кто-нибудь его в квартире. Должна была бы подъехать сестра, навести порядок к его приезду: она всегда отстаивала свое право на подобный ритуал, сопровождавший каждое возвращение Архипова из дальних командировок. Но последнее время она все чаще болела, так что, может быть, его ждет пустая, лишенная уюта квартира… А потому он только кивнул Стекольщикову на прощание и вошел в подъезд.
Только уже стоя в кабине лифта, Архипов вдруг поймал себя на том, что, оказывается, разговор со Стекольщиковым все-таки оставил в его душе неприятный осадок. Эти слухи…
Странное дело: сколько раз уже, казалось бы, говорил Архипов, и причем говорил вполне искренне, не кривя душой, что избавься он завтра от директорского кресла, освободись от разного рода административных обязанностей, стань, допустим, обычным заведующим лабораторией, и он только рад, только счастлив будет. Зачем ему вся эта морока? В его-то годы! Главное дело своей жизни он совершил — институт создал, теперь институт прекрасно проживет и без него, с другим директором.
Да, он действительно говорил подобные слова и действительно верил в то, что говорил, но все это — абстрактно, отвлеченно, как бы лишь в некоей отдаленной перспективе. Стоило же ему представить вполне конкретно, с деталями и подробностями, к а к это произойдет, стоило вообразить, что не когда-то там, в неопределенном будущем, а вот завтра или послезавтра, в такой-то день такого-то месяца ему придется отдать, уступить с в о й институт, с в о е детище другому человеку, и сразу чувство опустошенности и протеста накатывало на него. Никогда бы никому не признался он в этом, но боль, горечь, отчаяние с такой силой охватывали его в эти минуты, словно ему предстояло лишиться последнего, что еще было дорого в жизни…
В институте Архипова уже ждали. Чувствовалось: потрудился Аркадий Ильич, постарался.
Во всяком случае, едва Архипов появился в своем кабинете, к нему сразу начали стягиваться все, кто мог ему сегодня понадобиться или кому был непременно нужен он сам. Впрочем, заглядывали в кабинет и просто так, без всякого дела — поздравить с возвращением, взглянуть на него, сказать несколько слов.
Конечно же, в институте существовала своя иерархия. Сотрудники помладше никогда бы не решились без крайне важного повода беспокоить Ивана Дмитриевича, они робели перед директором и, встречаясь с ним на лестнице или в коридоре, здоровались почтительной скороговоркой и старались торопливо прошмыгнуть мимо, если, разумеется, сам Иван Дмитриевич не останавливал их, не начинал расспросов. Другие — постарше, те, с кем работал Архипов уже не один год, — при встрече улыбались Ивану Дмитриевичу, замедляли шаг, приостанавливались, зная, что он обязательно со старомодной вежливой обстоятельностью справится о здоровье, о семье, о делах и только потом, все так же не спеша, медлительным, тяжелым шагом пойдет дальше. Но и эти люди не считали себя вправе без приглашения или без особой нужды заглянуть в кабинет директора, — разве что с разрешения деятельной и строгой его секретарши Маргариты Федоровны. Была, наконец, в институте еще одна категория сотрудников — своего рода ареопаг, давние соратники Архипова, кого он знал еще задолго до создания института. Те могли себе позволить взять Архипова под руку и так идти с ним, обсуждая на ходу институтские дела, делясь новостями или попросту рассказывая какую-нибудь анекдотичную историю, которая приключилась с кем-нибудь из их общих знакомых… Вот эти люди — в основном заведующие лабораториями, члены ученого совета — не то чтобы имели право, а скорее считали своей обязанностью, своим непременным долгом повидать Ивана Дмитриевича в первый же день после длительного его отсутствия.
Разговор при этом, конечно же, велся весьма беспорядочный, неуправляемый, расспросы перебрасывались с одного на другое, кто-нибудь, запоздавший, явившийся в разгар разговора, обязательно спрашивал о том, о чем уже несколько раз спрашивали до него, и Архипов терпеливо принимался отвечать снова.
Симпозиум — полет — отель — Токио — Сад камней — Гиндза — сакура — симпозиум — Фудзияма — забастовки — опять симпозиум — доктор Кроули — сервис — автострады — мэрия — прием — воспитание детей — симпозиум…
И сквозь эту, почти праздничную, сумятицу расспросов время от времени все-таки пробивался Анатолий Борисович Перфильев со своим докладом об институтских делах: выполнено… сделано… договорились… побывали… проведено… тоже проведено… ждет вашей подписи… пока в стадии решения… выполнено…
Эта его лаконичная деловитость всегда нравилась Архипову. Сам он этим искусством так и не овладел в полной мере — в этом он признавался себе, да и другим вполне самокритично, с добродушной насмешкой над самим собой. И если порой в институте поругивали Перфильева за излишний, мол, бюрократизм, за жесткость, Архипов всегда вставал на его защиту. Что бы там ни говорили, а именно Перфильев освобождал его от немалого количества не приносящих особого удовлетворения, но неизбежных дел и забот. При этом к себе Перфильев был требователен не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем к другим. Эта черта его характера не могла не вызывать уважения.
Но сейчас… Что за чувство внезапно испытал Архипов сейчас? Уж не ревность ли шевельнулась в его душе оттого, что, кажется, все меньше оставалось дел, которые не могли бы быть решены в его отсутствии?.. Или тому был виной утренний разговор со Стекольщиковым?..
…Рабочий день уже приближался к завершению, когда Архипов наконец добрался до Гурьянова, до всей этой истории с газетной статьей, и Гурьянов был вызван к директору. Архипова, правда, тянуло заглянуть хотя бы на полчаса в свою лабораторию, где его тоже наверняка ждали. Раздарить японские сувениры, увидеть радостные знакомые лица, увидеть Лизу. Он все надеялся, что, может быть, она и сама не выдержит, забежит к нему в кабинет — как-никак, а сколько времени уже не виделись! Однако Лиза всегда была человеком тактичным, стеснительным, старалась никогда лишний раз не подчеркивать свое давнее знакомство, почти родство с Архиповым. Иное дело ее муж, Фимочка Фейгин, — тот ни перед чем не остановится, все шансы использует, чтобы своего добиться, свои интересы отстоять.
И все же, как ни тянуло Архипова к себе в лабораторию, он решил отложить это посещение на самый конец дня. Тем более что Перфильев уверял: дело Гурьянова не терпит отлагательства, слишком много шума оно наделало.
Когда Глеб Гурьянов вошел в просторный директорский кабинет, там, кроме Архипова, находились еще Перфильев и секретарь партийного бюро института курчавый, толстогубый Калашников, добродушно-простецкий вид которого, впрочем, был обманчив. Геннадий Александрович Калашников, ставший доктором биологических наук в тридцать с небольшим лет, отличался завидной целеустремленностью и настойчивостью в любой работе, за которую бы ни брался. Незначительных дел, казалось, для него не существовало. А может быть, потому как раз и не существовало, что он обладал счастливым даром избегать пустяковых дел, лишь отнимающих понапрасну время. Действительно, ведь это тоже, наверно, особый талант — заранее почувствовать, предвидеть, что стоит твоих усилий, а что — нет. Бывают в этом отношении люди прямо-таки фатально несчастливые, невезучие: вечно берутся возводить постройки, в которых, на первый взгляд, вроде бы есть и значительность, и даже грандиозность замысла, а потом выясняется, что это лишь мираж, видимость, все превращается в распавшийся карточный домик. Так что везение или невезение в подобных случаях — это тоже талант, талант предвидения. Помимо всего прочего, Калашников особо прославился в институте еще и тем, что при своем докторском звании участвовал в марафонском пробеге Ленинград — Москва, что тоже служило доказательством его упорства, настойчивости и незаурядной силы воли.
— Здравствуйте, Иван Дмитриевич! С приездом! — сказал Глеб Гурьянов с той веселой независимостью и раскованностью, с какой обращаются друг к другу лишь люди, ощущающие глубокую взаимную симпатию.
— С приездом-то с приездом… — проворчал Архипов, грузно поднимаясь навстречу Гурьянову и подавая ему свою крупную, меченную старческими крупными веснушками руку. — Я вам, между прочим, сборник японской фантастики привез на английском языке, а вы тут, оказывается, и без этой фантастики столько нафантазировали, что теперь и всем вместе не расхлебать… Ну-ка, рассказывайте.
Седые брови Архипова хмурились, но голос звучал скорее добродушно, чем сердито.
Да и ни для кого в институте не было особым секретом, что Глеб Гурьянов принадлежал к числу любимцев Архипова. Ивана Дмитриевича всегда привлекали люди неординарные, пусть даже несколько странные, с чудинкой, но умеющие при этом отстоять, защитить право на эту свою неординарность, умеющие не подлаживаться под остальных, а оставаться собой. Архипов хорошо помнил их первую встречу, когда Гурьянов явился устраиваться в институт на работу.
— Инженер-физик с некоторым биологическим уклоном, — так представился он.
— И что же вас толкает сейчас под этот уклон? — спросил Архипов. — Давайте начнем с прозы. Что вас не устраивает на прежнем месте работы? Зарплата? Отсутствие квартиры? Взаимоотношения с начальством?
— Что не устраивает? — переспросил Гурьянов. — Все вроде бы устраивает. Хотя, если окажется, что здесь будут платить больше, я не откажусь.
— Так, понятно, — сказал Архипов. — Тогда что же все-таки влечет вас к перемене мест?
— Что влечет? Видите ли, Иван Дмитриевич, если взглянуть на ту область науки, которую представляет ваш институт, взглянуть, что называется, трезвым взглядом, объективно, — сказал Гурьянов, — то тогда вольно или невольно придется признать, что эта наука никогда не шла в авангарде. Скорее наоборот. У вас, к сожалению, не было еще ни своих Резерфордов, ни своих Менделеевых, ни своих Эйнштейнов. Если бы ученых, подобно футбольным командам, разделяли на группы, на классы и подклассы, то институт, в который я сейчас так стремлюсь попасть, наверняка определили бы куда-нибудь в класс «Б», не выше…
— Однако же… — изумленно сказал Архипов, с любопытством разглядывая Гурьянова. — Не очень-то вы расщедрились. И что же, вы хотите осчастливить нас теперь своим появлением? Перейти, так сказать, в отстающий колхоз?..
Гурьянов засмеялся.
— Это было бы слишком самонадеянно даже со стороны такого самонадеянного человека, каким, наверно, сейчас кажусь вам я.
— Ну, а если все-таки серьезно?
— Если серьезно, то ваша наука еще не сказала своего главного слова. Ее время еще впереди, так мне кажется. Я даже убежден: оно уже близко, это время. Подлинное самопознание человека — его тайная тайных — психики, мозга, памяти — станет новой и, может быть, самой великой революцией в науке, вот во что я верю, вот почему я пришел к вам.
— Что ж, я думаю, вы нам подойдете, — сказал Архипов. — Более того, должен признаться, вы мне нравитесь. Мы исповедуем, оказывается, одну и ту же веру.
Так Глеб Гурьянов оказался в институте. И Архипов никогда не жалел, что поддался тогда первому своему впечатлению: Гурьянов действительно стал ценным сотрудником, талант инженера-физика сочетался в нем с глубоким интересом к молекулярной биологии.
— …Так рассказывайте, рассказывайте, — повторил Архипов.
— Да что рассказывать, Иван Дмитриевич, — тоном, в котором слышалось искреннее недоумение, отозвался Гурьянов. — Я уже все рассказывал Анатолию Борисовичу. Чепуха какая-то получилась. Я и сам не рад, что связался с газетчиками. Они же в этой нашей беседе в последний момент кое-что сократили, на свое усмотрение, кое-какие абзацы переставили, вот и не разберешь, где день сегодняшний, где день завтрашний… А я же, в основном, о будущем говорил, о наших возможностях, они же меня сами так просили…
— Снова у вас газетчики виноваты, — сказал Перфильев. — А вы вроде бы и ни при чем. Но ведь вы же, Глеб Михайлович, вы же им этот материал дали! Зачем вам понадобилось разводить рассуждения о воздействии на память, о возможности управления памятью и тому подобном? Зачем?
— А почему бы и нет? — сказал Гурьянов, живо обернувшись к Перфильеву. — Разве все это так уж нереально? Разве мы уже сегодня не должны думать об этом?
— Думать, может быть, и должны, но писать-то, писать-то в газете зачем? — устало сказал Перфильев. — Это же безответственность какая-то, мальчишество, других слов я подобрать не могу. Вы же хороший инженер, Гурьянов, вы умеете работать, на черта вам далась эта писанина? Только людей зря переполошили. Посмотрите, что теперь делается: пишут нам и пишут. Народ-то у нас удивительно легковерный на всякие научные чудеса. От науки только чудес и ждут. Вы и представить себе не можете, Иван Дмитриевич, чего нам теперь только не пишут, чего только от нас не требуют!..
— А что, действительно много писем? — с неожиданным интересом спросил Архипов.
— Много не много, но, я бы сказал, вполне достаточно. И становится все больше. Маргарита Федоровна едва регистрировать успевает…
— Что ж, может быть, тогда мы, все вместе, сейчас их и послушаем, а? — вдруг предложил Архипов. — Может быть, тогда и вся картина нам яснее станет?..
— Да зачем время терять, Иван Дмитриевич? — сказал Перфильев. — Я вас уверяю…
— И все-таки я прошу вас, Анатолий Борисович, сделайте милость, скажите Маргарите Федоровне, чтобы она зашла сюда с этими письмами…
— Пожалуйста, как вам будет угодно, Иван Дмитриевич, — Перфильев едва заметно пожал плечами. — Я не возражаю…
Маргарита Федоровна вплыла в кабинет сразу же, словно только и ждала, когда ее позовут, словно заранее знала, что не обойдется без ее участия это импровизированное совещание.
— Маргарита Федоровна, милая, будьте добры, — сказал Архипов, — если вас не затруднит, прочтите нам кое-что из поступивших писем, так, наугад или на свой выбор, а мы послушаем…
— Тут не сразу сообразишь, что и выбрать, — сказала Маргарита Федоровна. — Поверите ли, Иван Дмитриевич, есть такие, что у меня даже слезы выступают, когда читаю, хотя я, как вы знаете, человек отнюдь не сентиментальный. А есть такие, что просто диву даешься — и как это люди с подобной белибердой обращаться в солидный институт решаются…
— А вы почитайте, Маргарита Федоровна, почитайте…
— Ну ладно. Я тогда те, которые посвежее, которые на днях пришли. Ну вот, например:
— «В Институт памяти. От участника Великой Отечественной войны, инвалида второй группы, Короткова Ивана Алексеевича, беспартийного, 1919 года рождения.
ЗаявлениеВ связи с черепным ранением, полученным на фронте в боях под Сталинградом, о чем имею документальное подтверждение, я, Коротков Иван Алексеевич, страдаю расстройством памяти, что делает мою жизнь до крайности тяжелой. Прошу записать меня на прием к директору института тов. Архипову И. Д. В просьбе прошу не отказать, потому как другого пути у меня нет, куда я ни обращался, нигде врачи помочь мне не смогли. Коротков Иван Алексеевич».
Маргарита Федоровна отложила листок. Все молчали. Она вопросительно взглянула на Архипова.
— Читайте, — сказал он. — Читайте еще.
— «Уважаемые товарищи!
Я бы никогда не набралась смелости к вам обратиться, если бы речь не шла о человеке, который мне очень дорог, которого я любила и люблю и который в настоящее время погибает. Я пишу о своем муже. Я знаю: в душе он очень хороший человек, честный и чистый, но его губит водка. То есть губит, конечно, уже не то слово, она уже убила его, превратила в ничто. Мне горько так писать, страшно, но другого слова не подберу.
Я уже совсем решила оставить его — зачем я ему, если я не в силах избавить его от самого большого ужаса его жизни — от пьянства?.. Да, да, я знаю, что для него это тоже ужас, я вижу, как он бьется и страдает, пытаясь избавиться от этого ужаса, и не может…»
— Какое же отношение вся эта исповедь имеет к нам? — сказал Перфильев.
— Слушайте дальше, — холодно перебила его Маргарита Федоровна. В присутствии Архипова она не признавала никаких других авторитетов, кроме Ивана Дмитриевича.
— «…Он уже дважды пытался лечиться, но не помогло, только еще страшнее стало — от безысходности. Теперь он опять в больнице.
И вот я совсем было решила бросить его, отказаться. И все-таки пошла, последний раз пошла в больницу взглянуть на него. Они как раз были на прогулке. И когда я увидела его в сером больничном халате, из-под которого выглядывали худые ноги в белых подштанниках, когда увидела, как однообразными, повторяющимися кругами ходит он по маленькому внутреннему, огороженному со всех сторон больничному дворику — в большой сад при больнице их никого, естественно, не выпускают, — сердце мое дрогнуло от любви и жалости к этому человеку. Что ни говорите, а почти вся моя жизнь прошла рядом с ним. И чем больше он причинял мне боли, страданий, тяжких минут, тем ярче, резче, я бы сказала, невыносимее становились воспоминания о самых первых днях нашей любви. Но я отвлеклась. Итак, я увидела его в этом дворике и не выдержала, я пришла к нему на свидание. Я не берусь описать, как он был взволнован, потрясен, когда увидел меня. Мы сидели рядом с ним в больничном коридоре на длинной, словно бы вокзальной, деревянной скамье, и он целовал мне руки и плакал. А потом — это было самое страшное — он взглянул вдруг на меня и сказал: «Знаешь… я ведь забыл, как тебя зовут… вот пытаюсь все вспомнить… пытаюсь… и не могу…»
— Достукался товарищ, — сказал Перфильев.
— Я могу и не читать, Анатолий Борисович, — сказала Маргарита Федоровна обиженно, потому что в чтение она старалась вложить все свои чувства.
— Простите, Маргарита Федоровна, не обращайте на меня внимания. И, ради бога, продолжайте. Все это очень увлекательно.
Маргарита Федоровна выдержала паузу и стала читать дальше:
— «…У него и раньше бывали провалы памяти, а теперь, боюсь, это уже непоправимо. И вот позавчера одна знакомая дала мне вырезку из газеты — там про ваш институт написано, и я решила обратиться к вам. Поверьте, это моя последняя надежда. Я ведь вот о чем думаю, вот отчего за это письмо взялась: если бы была возможность, если бы действительно можно было сделать такое чудо, чтобы оживить в его памяти картины нашей прежней жизни, как бы вернуть их ему, з а с т а в и т ь в с п о м н и т ь все, что он сам растоптал, уничтожил, я верю: все бы изменилось. Какое это было бы счастье, если бы вы согласились помочь мне! Теперь буду каждый день бегать к почтовому ящику — ждать вашего ответа. Тот, у кого на глазах погибал любимый человек, поймет меня».
И снова наступила пауза, только слабо шелестели листки писем, перебираемые Маргаритой Федоровной.
— А вот еще одно, тоже о любви. Послушайте.
«Дорогие товарищи ученые!
Я бы очень хотела забыть одного человека. Сделать так, чтобы ничего не помнить — как будто и не было его в моей жизни. Честное слово, это не какая-нибудь прихоть. Эти воспоминания о нем причиняют мне такую боль, что жить становится невозможно. Если болит зуб, его можно вырвать, даже пересадку сердца сейчас, если оно болит, делают. А неужели тут ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь?! Правда, я очень прошу, сообщите, пожалуйста, можете ли вы мне помочь, и, если можете, что для этого нужно?..»
— Хотел бы и я знать, что для этого нужно, — сказал Перфильев. — А вот у Гурьянова наверняка есть рецепты.
Гурьянов никак не отозвался на шутку, он, не отрываясь, смотрел на письма, которые Маргарита Федоровна держала в руках.
— Ну, а это я не знаю, читать ли. Мальчишка пишет, четвероклассник.
«Меня все ругают за то, что я рассеянный. И в кого, говорят, ты такой уродился. И дома ругают, и в школе. Говорят: неужели ты не можешь не быть рассеянным? А я разве могу? Прошу ответить мне на это письмо. Ваш адрес мне дал один мальчик из нашего двора, он учится в восьмом классе. Сказал: напиши. Я вот и написал. На этом заканчиваю. Я уже и в школу боюсь ходить, потому что ругают, и домой — тоже. Куда же мне деваться?»
— Ты погляди, даже детей взбудоражили, — сказал Калашников и укоризненно покачал головой.
Маргарита Федоровна продолжала сосредоточенно перебирать страницы писем.
— Ага, вот опять о войне… еще о войне… о войне… здесь товарищ спорит со статьей… здесь, значит, предлагает свои научные соображения… опять о войне… Вот актер какой-то жалуется, что у него ухудшается память, а для него это — гибель, профессиональная непригодность, необходимость расстаться с любимым делом, просит помочь…
Так… вот еще одно я хотела бы прочесть:
«Многоуважаемый товарищ Архипов!
Я позволяю себе обратиться к вам по поводу судьбы близкого мне человека — моей сестры. В годы войны она пережила страшное горе: на ее глазах были заживо сожжены двое ее детей…»
— Нет, не могу, — сказала вдруг Маргарита Федоровна. — Дочитайте вы, Геннадий Александрович, а я не могу…
Калашников молча взял маленькое письмо из ее рук. Письмо было написано на почтовой бумаге, украшенной какими-то голубыми цветочками, выдавленными в левом верхнем углу.
— «…я не стану сейчас описывать, как именно это произошло — тяжко, слишком тяжко, рука не поднимается. При встрече же, если, конечно, такая встреча у нас с вами состоится, я расскажу все подробно. Я не знаю, как сестра моя тогда вынесла, как не сошла с ума. Но теперь иногда я даже думаю: может быть, так было бы лучше, может быть, есть определенная мудрость природы в том, что она лишает рассудка людей, переживших подобное? Ибо можно ли придумать муку более страшную, чем та, которую испытывает изо дня в день моя сестра в течение стольких уже лет? Я не преувеличиваю: изо дня в день. Изо дня в день она видит картины того жуткого дня. В силах ли человек переносить такое? Неужели память дана человеку, чтобы он так жестоко мучился? Раньше я хоть надеялась: время смягчит, время залечит. Но нет, неправда, я вижу — и время не помогает. Одним словом — писать об этом мне и то страшно, а каково ей?.. Если вы, Иван Дмитриевич, и ваши сотрудники действительно хоть чем-то в состоянии помочь моей сестре, стереть, ослабить те ужасные воспоминания, то, умоляю вас, сделайте это!
Светлова Нина Алексеевна».
Архипов грузно шевельнулся в кресле. До сих пор все время, пока длилось чтение писем, пока вспыхивал короткий обмен репликами между Перфильевым и Маргаритой Федоровной, он не проронил ни слова. Он сидел неподвижно, полуприкрыв глаза, — со стороны даже могло показаться, что он дремлет. Только лицо его постепенно менялось — словно бы наливалось тяжестью. Тяжелели крупные веки, и синеватые мешки под глазами набухали, становились заметнее, и крупно вылепленные морщины тяжело опускались от крыльев носа к углам большого рта. И на руках, казалось бы, расслабленно, почти безвольно покоившихся на подлокотниках кресла, тяжело вздувались крупные, ветвистые вены…
— И что же мы отвечаем на такие письма? — медленно выговорил Архипов.
Некоторое время в кабинете стояла тишина, потом Маргарита Федоровна сказала:
— Как правило, переправляем в редакцию. Так Анатолий Борисович распорядился. И людей, которые к нам приходят, тоже…
— Переправляете?..
— Да, тоже адресуем в редакцию.
— Адресуем… переправляем… — опять замедленно, раздельно, словно пробуя эти слова на слух, повторил Архипов. — К нам мольба о помощи, о сострадании, об участии, наконец, идет, крик человеческий!.. А мы переправляем! Не слишком ли это хрупкий и взрывчатый груз, чтобы его пе-ре-прав-лять? Как вы думаете, Анатолий Борисович?..
— У нас нет другого выхода, Иван Дмитриевич, — спокойно сказал Перфильев, мужественно выдерживая полный скрытого гнева взгляд Архипова. — Мы все равно ничем не можем помочь этим людям.
— Так уж ничем? Вы уверены?
— Ну, может быть, Гурьянов и обладает такими секретами, — теперь уже не без раздражения отозвался Перфильев. — А я лично — нет, не обладаю.
— А простое слово участия? А человеческое внимание? А просто добрый совет, наконец? Этим мы тоже не обладаем?..
— Они не этого от нас ждут, Иван Дмитриевич, не этого, — сказал Перфильев. — И, пойди мы на такой шаг, мы вольно или невольно стали бы водить этих людей за нос. Простите меня за грубое выражение, но это именно так. Да получи сейчас любой из этих людей письмо с грифом нашего института или попади сюда, к вам в кабинет, что бы вы там ни объясняли, каждый все равно останется при убеждении, что отказали только ему, что именно ему по каким-то причинам не захотели выдать конкретный рецепт на исцеление. Утешительство наше им не нужно. Так что лучше уж сразу, резко, одним махом: не можем так не можем, надо правду сказать людям, а не создавать разные иллюзии, пусть даже из самых добрых намерений. Редакция заварила эту кашу, редакция пусть и расхлебывает…
Странное дело: чем энергичнее, казалось, возражал сейчас Перфильев, тем быстрее терял Архипов интерес к нему. И гнев медленно исчезал из глаз Архипова.
— Вот видите, Глеб Михайлович, что вы наделали, — обращаясь уже к Гурьянову, с грустным укором сказал он. — Люди к нам со своими бедами идут, со своим горем, с надеждой, а мы им что?.. Что?..
Гурьянов подавленно молчал.
— Нас, вы говорите, Анатолий Борисович, — продолжал Архипов, вновь грузно поворачиваясь к Перфильеву, — упрекают в том, что мы сенсацию вокруг своего института создали. Верно упрекают. Только это дело второе. Это ли нас должно волновать! С сенсацией мы как-нибудь разберемся: вероятно, придется мне или вам, Анатолий Борисович, обратиться с письмом в редакцию, в тактичной форме разъяснить истинное положение вещей. Но не это главное. Люди обращаются к нам — л ю д и! — а мы беспомощны, вот что должно нас тревожить! О них мы должны думать. И недостойно, в высшей степени недостойно ни посмеиваться втихомолку над наивностью этих людей — эк, мол, чего — чуда захотели! — ни в бессилии опускать руки… Грош нам цена, если мы за всеми нашими проблемами голос ж и в о г о ч е л о в е к а не способны услышать!..
— Иван Дмитриевич, позвольте мне все же остаться при своем мнении, — с вежливой твердостью произнес Перфильев.
— Это ваше право. И закончим на этом, — сказал Архипов. — Маргарита Федоровна, будьте добры, отныне в с е х, заметьте, я говорю — всех, кто станет обращаться к нам в связи с этой статьей, направляйте непосредственно ко мне…
— Ясно, Иван Дмитриевич.
— И письма эти тоже передайте мне, я хочу познакомиться с ними повнимательнее, потом решим, кому на них отвечать…
— Хорошо, Иван Дмитриевич.
Перфильев приподнял брови и бросил выразительный взгляд на озабоченно молчавшего Калашникова.
— Вы свободны, Анатолий Борисович, благодарю вас за откровенно высказанную точку зрения, — церемонно сказал Архипов, словно председательствовал сейчас на научном симпозиуме. — И вы, Глеб Михайлович, тоже свободны. Только запомните, пожалуйста, мой совет: не давайте больше интервью. Даже если вас попросит об этом академик Архипов. Пишите лучше фантастические рассказы. Договорились?
— Договорились, Иван Дмитриевич.
Когда Архипов остался наедине с Калашниковым, оба некоторое время молчали. Потом Архипов сказал:
— Не знаю, может быть, и верно, в старости человек становится более чувствительным, только камнем легли мне на сердце эти письма, поверите ли, Геннадий Александрович?..
— Да, да, — торопливо согласился Калашников, словно очнувшись от каких-то собственных раздумий. — А ведь у нас, Иван Дмитриевич, еще одна неприятность… Я вижу, никто не решается вам сказать, придется мне, ничего не поделаешь…
— Давайте уж, выкладывайте сразу, — с грубоватой бодростью отозвался Архипов. — Что еще?
— С Фейгиными, Иван Дмитриевич…
— Что с Фейгиными? — быстро спросил Архипов. — Что?
Лиза! Он ощутил, как оборвалось у него сердце. Что с ней?
— Дело серьезное, Иван Дмитриевич…
— Да что произошло? Что?
— В общем, подали Фейгины заявление… за рубеж нацелились уезжать…
— Какое заявление? Куда уезжать? — еще не осознавая смысла услышанного, произнес Архипов.
— За рубеж насовсем уезжать собрались, — повторил Калашников. — Куда уж они там поедут, не знаю, но вызов ему пришел будто бы от родственников…
Только теперь Архипов наконец понял, о чем говорит Калашников. Он почувствовал, как похолодели у него ладони.
— Не может быть, чепуха какая-то! У него и родственников-то там нет, — сказал он. — А Лиза? Лиза-то как же?
— И Лиза тоже, — сказал Калашников. — Я же говорю: оба.
— Не может быть, — повторил Архипов. — Тут что-то не то. Какое-то недоразумение. Не может быть.
— Да как же не может быть, Иван Дмитриевич! — печально сказал Калашников. — Мы тут с ними уже беседовали. Проглядели, упустили мы их.
— Нет, не могу поверить, не могу… чтобы Лиза… Что хотите делайте, не могу! Пока сам, своими ушами не услышу! — Архипов резко поднялся с кресла.
— Иван Дмитриевич, может быть, лучше не сейчас? — робко сказал Калашников. — Вы же устали сегодня… Вы как себя чувствуете, Иван Дмитриевич?..
Но Архипов, казалось, уже не слышал его. Он шел к двери.
— Маргарита Федоровна, — открывая дверь в приемную, сказал он. — Вызовите, пожалуйста, машину.
— Иван Дмитриевич, может, все-таки не сегодня, а? — повторял Калашников. — Может, не стоит?..
— Нет, нет, я сейчас должен… В глаза ей взглянуть должен. Пусть, пусть она сама мне все скажет! Как это могло ей в голову прийти? Взбрести на ум могло? Бред, нелепость какая-то!.. — говорил Архипов, уже спускаясь по лестнице.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Анатолий Борисович Перфильев, доктор наук, заведующий лабораторией, заместитель директора института по научной части, был человеком самолюбивым. Причем эту черту своего характера он не считал недостатком, скорее наоборот. «Самолюбие — это дополнительный источник энергии, — любил повторять он. — Нужно только запрячь эту энергию, не дать ей пропадать впустую, не дать обратиться себе же во вред». Сколько он себя помнил, он всегда был самолюбив. Он принадлежал к тому типу целеустремленных людей, которые, еще сидя за школьной партой, знают и уверенно планируют свое будущее. Еще школьником-старшеклассником Перфильев оказывался непременным участником и победителем — и тут как раз немалую роль играло его самолюбие — разного рода школьных, районных и городских олимпиад по биологии и химии, свободно рассуждал о синтезе белка, об аминокислотах и свободно оперировал химическими формулами, чем приводил в полное изумление своего отца, Перфильева-старшего, у которого, по собственному его признанию, один вид подобных формул всегда вызывал нервное содрогание.
Отец Перфильева был писателем, прозаиком, и это обстоятельство во времена юности Перфильева-младшего служило для его самолюбивой, гордой натуры источником немалых страданий. В детстве, класса примерно до пятого, он гордился профессией своего отца. Ему нравилась ее исключительность: ни у кого в классе, да что там в классе! — ни у кого в школе не было больше отца-писателя. Так продолжалось до тех пор, пока Перфильев-младший не начал понимать, пока не сделал для себя открытие, что отец его — писатель малоизвестный, если даже не сказать — неизвестный вовсе. Когда приходилось Перфильеву уже в старших классах школы или в университете отвечать на вопрос «кто ваш отец», он замечал, как в глазах собеседника при слове «писатель» моментально вспыхивал живой интерес, который столь же мгновенно, разочарованно затухал, едва Перфильев называл фамилию своего отца. «А-а-а…». Это разочарованное «а-а-а» преследовало его. За все годы учения в университете он так и не встретил ни одного человека, кто бы припомнил, кто бы читал книги его отца. Да и что тут было удивительного: книги Перфильева-старшего выходили редко, с трудом, как правило после длительных, нервных препирательств с издательствами, с редакторами и рецензентами, после каких-то жалоб, заявлений, писем и долгих разбирательств… Отец рассказывал, будто начинал он неплохо, его даже хвалили, но тех далеких времен сын его не застал, не помнил.
Больше всего Перфильева возмущало, что отец, казалось, окончательно смирился со своей посредственностью, даже оправдывал ее, подводил под нее теоретическую базу. «Знаешь, что сказал по этому поводу один известный писатель? — поучал он сына. — Этот писатель сказал: без молока не бывает сливок. Писатели вроде меня и есть то самое молоко, на котором, в конечном счете, настаиваются сливки».
Перфильев-младший скептически усмехался. Отец начинал сердиться, заметив эту скептическую усмешку, и доказывал, что совесть его чиста, что он честно выполнил все, что было в его силах, что было дано ему от природы, и что книги его — это тоже пусть малый, но все же кирпичик в общем здании человеческой культуры. «Следовательно, я оправдал свое предназначение», — говорил он.
— Ой ли? — насмешливо отзывался Толя Перфильев. — Не самообман ли это? Не самообольщение ли?
Его раздражало, что, слишком много разглагольствуя о своей работе, о необходимости каждодневного труда — ни дня без строчки! — отец работал вяло, лениво, неохотно. И как-то небрежно, что ли. Жизнь его, да и жизнь всей семьи, так как мать Перфильева целиком подчинила себя мужу, была неорганизованной, сумбурной, растрепанной.
И, вероятно, та привычка к организованности, к обязательности, даже педантичность, которая рано проявилась в натуре Перфильева-младшего, была своего рода реакцией на раздражавшую его жизнь взрослых, явилась как бы протестом, вызовом, брошенным им родителям. Кроме того, наверно, неутоленное, загнанное вглубь отцовское честолюбие все-таки передалось ему и подхлестывало, заставляло работать. Отца своего Перфильев не любил и, чем старше становился, тем с большей насмешливостью относился к нему.
И, уже будучи студентом университета, оттого-то, пожалуй, так сразу и безоглядно и привязался Перфильев к Архипову, что угадал в этом человеке все те черты сильной, яркой натуры, которые мечтал видеть в собственном отце. Он был счастлив, когда убедился, что Архипов выделяет его из числа других студентов. Перфильев тогда занимался в научном студенческом кружке — тайны молекулярной биологии только-только начинали приоткрываться перед ним. Дня занятий он всякий раз ждал, как праздника. Он старался ни слова не упустить из того, что говорил Архипов, и потом уже, поздно вечером, вернувшись домой, садился за тетрадь и по памяти восстанавливал, заносил на ее страницы мысли, высказанные Архиповым. Из него мог бы получиться неплохой биограф Архипова. Вели ему тогда Иван Дмитриевич портфель за собой носить, и носил бы, еще за счастье считал бы, еще гордился бы этим! Такое у него тогда состояние было.
Как-то, уже взрослым человеком, он наткнулся на эту тетрадь, не без волнения начал перечитывать записи и не мог понять, что же вызывало у него тогда такой острый восторг, такое вдохновение? Ему было жаль этого утраченного чувства. Что ни говори, а именно Архипов сыграл решающую роль в его судьбе. Даже не тем, что помогал ему, поддерживал — у Перфильева было достаточно сил и способностей, чтобы пробиться самому, без посторонней помощи достичь поставленной цели, — а тем, что Перфильеву было за кем тянуться, на кого походить стараться. У ч и т е л ь у него появился в самом высоком смысле этого слова. Ну и работал же он тогда! Ему одного только хотелось: заслужить одобрение Архипова, услышать его похвалу, больше ни о чем он так не мечтал тогда, как об этом. Впоследствии, когда применительно к нему, Перфильеву, произносили слово «талант», говорили «талантливый ученый», он только посмеивался. «Я не знаю, что такое талант, — говорил он. — Я знаю, что такое работа». «Вы умеете работать» — это была, пожалуй, высшая похвала в устах Перфильева.
Тогда же, еще в университете, Иван Дмитриевич вытащил его из одной малоприятной истории. Началась она с пустяка: Перфильев сочинил эпиграмму, довольно злую, ядовитую эпиграмму на доцента, преподавателя истории философии. Оба они — и доцент этот, и Перфильев — никогда не питали друг к другу симпатии. А тут, видно, уж очень уверовал Перфильев в свою восходящую звезду, уверовал, что е м у в с е м о ж н о, потерял осторожность, зарвался — так потом он сам определял свое поведение. Эпиграмма стала известна на всем факультете, и авторства своего Перфильев не скрывал. Историю раздули, доцент был уязвлен, он непременно стремился представить дело так, будто в его лице Перфильев осмеял всю советскую профессуру, стремился придать поступку Перфильева едва ли не политическую подоплеку. Дело могло кончиться плохо, если бы не Архипов. Иван Дмитриевич сам ходил к ректору, хлопотал за Перфильева. В итоге все обошлось. Однако история эта была для Перфильева хорошим уроком. Она словно бы указала ему его реальное место, его реальное значение среди людей. Иллюзия собственной исключительности, которой он было поддался, рассеялась. Он вдруг понял: исчезни он сейчас, уйди из университета, и жизнь будет продолжаться своим чередом, ничего не изменится. Незаменимых людей нет — приходилось смиряться с этой горькой истиной. В конечном счете, все в мире находит свою замену. Можно даже сказать, что это был поворотный пункт в его жизни. Умение реально, с примесью легкого скептицизма смотреть на мир и на себя в этом мире впоследствии не раз помогало ему. Он не утратил веры в себя, он только прочнее стоял теперь на земле.
Кажется, тогда же, вскоре после этой истории, Иван Дмитриевич впервые пригласил его к себе на дачу. Тогда еще была жива жена Архипова, Софья Полиектовна, миниатюрная внешность которой никак не соответствовала звучному, торжественному сочетанию ее имени и отчества. Они втроем пили чай на веранде, и Архипов расспрашивал Перфильева об его отце. Оказывается, он не поленился сходить в библиотеку и отыскать его книги. Архипов, предельно занятый Архипов, чьи дни были расписаны едва ли не по минутам, был первым человеком на жизненном пути Анатолия Перфильева, кто проявил интерес к сочинениям его отца, кто удосужился их прочесть. Что это было — любознательность, которая и в старости не оставляла Архипова, или проявление истинной интеллигентности, проявление внимания к другому человеку, нежелание безразличием, равнодушием обидеть, задеть его? Так или иначе, но этот поступок Архипова произвел на Перфильева очень сильное впечатление. «Видите ли, — говорил Иван Дмитриевич, — я не берусь судить о художественной стороне его повестей, но для меня литература делится как бы на арифметику и высшую математику. Как бы ни интересны были задачки, которые решает арифметика, ответы на них уже готовы, их всегда можно отыскать в конце учебника. Высшая же математика нередко отважно берется исследовать задачи, которые в принципе не могут быть решены или не могут быть решены в данный момент. Но сколько любопытного, нового, сложного, неизведанного открывается исследователю на этом пути! Так и литература». — «Вы хотите сказать, что книги моего отца — это арифметика?» — спросил Перфильев. «Да, в определенном смысле да, — сказал Архипов. — Ваш отец на все знает ответ, точнее говоря, он выбирает лишь те жизненные ситуации, на которые существует, на которые готов ответ. В этом его слабость».
Вторым человеком, кто прочел книги его отца, была Галя Тамбовцева, будущая жена Перфильева. Но это особый случай, Галя — святая душа. Она — вся в плену добрых порывов, она всех готова пожалеть. Впрочем, Галя появилась в жизни Перфильева уже много позднее. Но даже в те, университетские времена, в самую, может быть, счастливую пору своей жизни, в период своей влюбленности в Архипова, своего юношеского преклонения перед ним, Перфильев знал, что никогда не будет только прилежным учеником Архипова, только продолжателем его дела. Подобная роль ему претила. Он был убежден, что способен на большее. И сам Иван Дмитриевич не раз говорил ему: «Бойтесь притяжения авторитетов. Чем значительнее, чем крупнее ученый, тем больше у него зона притяжения: все, что попадает в эту зону, начинает вращаться вокруг него. Опасайтесь стать таким вечным спутником. Рвите силы притяжения. Преодолевайте их. Только так можно выйти на самостоятельную орбиту».
Помнил ли теперь Архипов эти свои слова? Повторил бы их теперь, сегодня?
Все чаще ловил себя Перфильев на внезапно возникающем раздражении против Архипова. Кто, как не он, Перфильев, тащит сейчас на себе весь институт? Зачем ему это нужно? Вся эта возня со ставками, штатными единицами, планами, проверками, обязательствами? Он уже дорогу забыл в собственную лабораторию. Забежит разве что на полчаса, чтобы дать совет, подбросить забрезжившую идею, и назад — сюда, в кабинет, где хоть и негромко, но настойчиво трещит телефон, где его ждут дела. А ради чего все это? Ради того, чтобы потом смиренно взирать на чудачества Архипова?.. Архипов — мудрец, философ, олимпиец. Не легенду ли мы сами творим, продолжая и сегодня твердить все это?..
Что-то странным образом сдвинулось, сместилось в их отношениях: когда Перфильев и правда был зеленым юнцом, студентом, молокососом, Архипов разговаривал, вел себя с ним, как равный с равным, теперь же, когда Перфильев обрел имя в науке, обрел самостоятельность, когда в институте, по сути дела, без него не решается ни один сколько-нибудь важный вопрос, Архипов вдруг ставит его на место, словно самонадеянного мальчишку!
Когда-то, еще в детстве, был в жизни Перфильева навсегда запомнившийся ему эпизод. Учился он в то время в пятом классе и ни о чем не мечтал так, как о том, чтобы сыграть на настоящем поле, с настоящими воротами — не на голом пустыре, где штанги обозначались грудами портфелей, где шли вечные раздоры из-за аутов и офсайдов, а именно на самом настоящем футбольном поле. Обычно там играли ребята постарше, а он терпеливо стоял за воротами, подносил мяч, наблюдал за игрой, болел, воображал, как мог бы сыграть он сам. И вот однажды — о счастье! — такая возможность ему предоставилась. Не явился, что ли, кто-то из игроков, заболел или опоздал, но только капитан команды, быстро смерив Перфильева взглядом, сказал: «Давай-ка, пацан, становись левым крайним…» Казалось, неведомая сила подхватила и вынесла Перфильева на поле. С каким вдохновением он тогда играл, с какой отчаянной яростью сражался за каждый мяч, как стремительно перемещался по полю! Он даже забил один гол — его хлопали по плечам, кричали ему что-то, ликованию его не было предела. Никогда еще не был он так счастлив. И вдруг в самый разгар игры появился тот самый — опоздавший — игрок, которого заменял Перфильев. «Валяй, пацан, отдыхай!» — крикнул Перфильеву капитан команды, и Перфильев даже не сразу понял, чего от него хотят, — так это было несправедливо и неожиданно. Разве он играл хуже других? Разве не заслужил того, чтобы остаться в команде хотя бы до конца этого матча? Но опоздавший игрок уже нетерпеливо гарцевал за воротами, разминаясь, и капитан команды подталкивал Перфильева прочь: «Иди, иди, пацан, не задерживай…» Что ему оставалось делать? Он ушел с поля, спрятался за пыльные кусты и, измазанный, весь в ссадинах, заплакал. Внезапный переход от радостного ощущения собственной необходимости, от ощущения полноты счастья к мукам уязвленного самолюбия был особенно болезненным. Эти свои слезы Перфильев запомнил на всю жизнь.
И вот сегодня, выходя из кабинета Архипова, Анатолий Борисович Перфильев, начинающий седеть мужчина, которому уже перевалило за сорок, снова вдруг испытал нечто подобное. Как будто он опять был мальчишкой с ссадинами на коленках, готовым спрятаться, забиться в кусты и плакать от горького ощущения совершившейся несправедливости. Но здесь, сейчас не было ни футбольного поля, ни кустов, и некуда было спрятаться. Как всегда спокойный, чуть насмешливый, он прошел через приемную, мимо Маргариты Федоровны, аккуратно укладывавшей в папку письма, которые она только что читала, и скрылся в своем кабинете. Но и тут Перфильеву не удалось спрятаться от посторонних глаз. В кабинете его ждал ученый секретарь института Илья Школьников.
— Ну что? — спросил Илья.
Перфильев махнул рукой.
— А, — сказал он, — чует мое сердце: пора уходить из замов, пора всю эту музыку отправить псу под хвост.
— А что случилось?
— Чудит старик, — сказал Перфильев. — Честное слово, надоело. На-до-е-ло! Стараешься, силы тратишь, и вся работа насмарку идет. Видишь ли, дела для него важнее нет, чем разбираться с этими письмами, просьбами, нелепыми заявлениями. Главное, хоть бы толк был, а то не в силах ведь мы помочь этим людям, не имеем мы таких возможностей. Так нет! Ему бы надо в горисполком съездить, в Академию, я там всю почву подготовил, чуть-чуть только поднажать нужно, дело у нас со строительством дополнительного корпуса может сорваться, а он будет этими бумажками заниматься. Прямо как ребенок, чистый ребенок. Кудесником себя вообразил.
Школьников был старым, еще университетским приятелем Перфильева, так что с кем, с кем, а с ним Перфильев мог позволить себе отвести душу.
— Честное слово, если бы он не был моим учителем, если бы я не любил его, не был бы ему стольким обязан, я бы сегодня ему все высказал. Только это меня и сдерживает. Но все равно я молчать и поддакивать не стал.
— Брось, не переживай, — сказал Школьников. — Не стоит.
Перфильев и сам в глубине души понимал, что не стоит. Недаром он всегда гордился своей выдержкой, своим внутренним, а не только внешним, показным, спокойствием. Как-то одна лаборантка, доведенная его придирчивой требовательностью едва ли не до слез, сказала ему: «Да вы что, без нервов, Анатолий Борисович?» И он ответил: «Очень возможно. Но это еще подлежит исследованию». Этой своей репутацией, прочно установившейся за ним в институте, — человека рационального, холодного, выдержанного — он дорожил. Да он и был таким человеком на самом деле. И даже сегодняшний разговор в кабинете Архипова он наверняка не воспринял бы так остро, так болезненно, если бы не иные — личные — обстоятельства, тревожившие его. Переживания наложились на переживания. Так уж совпало, что вся последняя неделя была для него нелегкой.
— А я тебе, между прочим, сюрприз приготовил, — сказал Школьников радостно. — С тебя бутылка коньяку, не меньше. Ставишь?
— Смотря что за сюрприз…
— Нет, ты не увиливай. Говори — ставишь?
Илья Школьников, кажется, не изменился с университетских времен. Все те же студенческие замашки.
— Ладно, не интригуй. Выкладывай, что там у тебя, вымогатель.
— А вот что, — торжественно сказал Школьников, извлекая из папки аккуратно расчерченные листы бумаги. — Помнишь, ты просил нас попытаться проанализировать, как выглядят наши сотрудники с точки зрения «цитат-индекса». Задумано — сделано. У нас только так. Занятная, я тебе скажу, получилась картинка. Каждый, конечно, тут первым делом свою фамилию ищет, высматривает. Так что ты не стесняйся, ищи себя, я могу пока из деликатности отвернуться…
— Любопытно, любопытно, — оживляясь, проговорил Перфильев. — Очень любопытно.
Он уже поймал взглядом свою фамилию: она стояла в третьей строке сверху. Это означало, что по количеству цитирований его работ в работах других ученых он был третьим в институте. Даже Архипов оказался на строку ниже. Правда, как показывал индекс, Архипов превосходил Перфильева по количеству цитирований в советской научной печати, зато чуть уступал в зарубежной.
— Гордись! — сказал Школьников.
— Горжусь, горжусь, видишь, прямо раздуваюсь от гордости, — отозвался Перфильев, продолжая рассматривать таблицы, отыскивая фамилии других сотрудников института.
Хотя он и отделался шуткой, все-таки здорово обрадовала его эта третья строка. Даже настроение сразу улучшилось. Что ни говори, а «цитат-индекс» довольно объективно отражает истинную роль того или иного ученого в общем движении науки. Как бы ты сам ни расценивал свои работы, какие бы лестные оценки от своих ближайших коллег ни выслушивал, все это мура, блеф, если твои работы не цитируют, не упоминают, если на твои эксперименты, на твои идеи не ссылаются. Значит, они немногого стоят. Они — вне процесса. Тут уж одно из двух: либо ты такой гений, что тебя пока ни оценить, ни понять не готовы, либо — что гораздо верней — бесталанный исследователь, идущий по проторенным дорогам.
— А обрати-ка внимание, кто замыкает список, — сказал Школьников. — Товарищ Стекольщиков А. И. А видимости, а претензий всегда! Можно подумать, он крупнейшее светило в современной науке…
— Погоди, а этого вы зачем вставили? Фейгина.
— Ну мы же не знали еще… — сказал Школьников. — Откуда мы могли угадать? В душу ведь человеку не влезешь. Но, кстати, — добавил он, вдруг развеселившись, — угадать-то ведь действительно можно было. И знаешь почему? Потому что он зубы вдруг лечить начал. То вечно ходил с испорченными зубами: то флюс у него, щеку раздует, перекосит всего, то стонет — зуб болит. И к врачу его палкой не прогнать было: к бормашине, говорит, у меня отвращение. А тут вдруг забегал. Все зубы починил, одни вырвал, другие вставил, полный порядок навел. Что такое, думаю. А ларчик-то, оказывается, просто открывался…
— Да, — сказал Перфильев. — Испугался, что там эти зубы ему в копеечку влетят, кусаться будут…
— Но до чего же мелочный все же человечишка, — сказал Школьников, покачивая головой. — Все выжмет, ничего своего не упустит. Это уж черта характера, натура такая. И чего Лиза в нем нашла?
— Лиза, Лиза… — сказал Перфильев. — Вот тебе и Лиза. Она тоже человек не без вывихов…
— Теперь из-за нее у Архипова могут быть неприятности, — понизив голос, сказал Школьников. — Сам посуди: в аспирантуру ее брал Архипов, это все помнят, опекал ее, поддерживал… Так что без неприятностей для него тут не обойдется…
— Жаль Ивана Дмитриевича, — озабоченно отозвался Перфильев, — хотя…
Он не договорил: как раз в этот момент осторожно зажужжал телефон. Перфильев быстро снял трубку.
— Толя, это я, — голос жены. И пауза.
Он сразу напрягся весь внутренне. Что бы он ни делал сегодня, о чем бы ни говорил, а подсознательно все время ждал этого звонка.
— Я исчезаю, — шепотом сказал Школьников. Почувствовал, значит, понял.
— Алло, я слушаю, — повторил Перфильев. — Галя, ты меня слышишь?
— Я хотела сказать… — И опять пауза. И потом: — Я согласна… — И добавила тихим, как бы угасающим голосом: — Что делать… если так надо…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Архипова в день его появления в институте Леночка Вартанян увидела случайно, мельком, когда уже уходила с работы. Она даже не сразу сообразила, что этот грузный седой старик, тяжело забирающийся в черную «Волгу», и есть Архипов. И, только увидев за стеклом отъезжающей машины крупный профиль, седые, словно насупленные брови, догадалась, поняла — он. И тогда даже обрадовалась, что чуть запоздала, что не столкнулась с ним лицом к лицу. Как бы она должна была поступить? Поздороваться? Или пройти молча? Подобные проблемы, которые другими людьми решались, вероятно, без лишних размышлений, нередко ставили ее в тупик. А перед Архиповым она по-прежнему робела, как школьница, что бы там ни говорила про него и про его роль в институте Вера Валентиновна.
Леночка еще смотрела вслед исчезнувшей машине, когда возле нее возник Глеб Гурьянов. Было ли это случайным совпадением или нарочно поджидал он ее, но так или иначе они оказались рядом. В те несколько дней, что минули уже с первого появления ее в институте, Леночка встречалась с Гурьяновым лишь изредка, мимоходом, в институтском коридоре или на лестнице, и всякий раз он смотрел на нее радостным, открытым взглядом. А однажды их пути пересеклись в маленьком институтском буфете, и потом Глеб (она смутилась, поймав себя на том, что мысленно называет его по имени — Глеб. Хотя какой же он для нее — Глеб?) повел ее взглянуть на лабораторию, где он работал.
Это была довольно большая комната на первом этаже, плотно забитая металлическими шкафами, блоками и приборами. И запах здесь стоял особый — для Леночки это был запах детства. Тогда ее отец служил командиром батальона связи, и для Леночки не было большей радости, чем те минуты, когда он брал ее с собой на радиостанцию. Радиостанция размещалась внутри большой, крытой машины, там таинственно светились зеленые и красные лампочки, что-то ровно гудело и потрескивало и стоял точно такой же запах нагретой аппаратуры, как здесь, в лаборатории Гурьянова.
«Что я тут делаю? — переспросил Гурьянов. — Говоря самыми общими словами, пытаюсь моделировать те самые процессы, которые они изучают там, наверху… Только там они экспериментируют на кошках и крысах, а я здесь — на транзисторах и конденсаторах… Так что, вам придется признать, я человек более гуманный… — Он засмеялся. — Например, то, что вы сейчас видите перед собой, — и он показал на небольшое сооружение, похожее на обнаженную внутренность самодельного радиоприемника, — это не что иное как модель нейрона и синапса, позволяющая воспроизводить и исследовать…» — «Да, да, нам объясняли, — торопливо отозвалась Леночка, совсем как прилежная школьница-абитуриентка во время дня открытых дверей. — Только я, наверно, все равно никогда этого не пойму. То есть разумом понимаю, а так — нет, не укладывается. Я вообще боюсь кибернетики. Когда я слышу что-нибудь вроде «человек — это саморегулирующаяся система» или «искусственный интеллект», мне не по себе становится… Как будто уже и грани нет между мной и машиной… Мне, наверно, надо было в прошлом веке родиться…»
Гурьянов молчал и смотрел на нее с улыбкой.
«Ой, я вам тут глупостей наговорила, — спохватилась Леночка, — а меня, наверно, уже ищут. Это я, наверно, оттого сейчас так разболталась, что у себя работаю почти все время молча. У меня работа сейчас такая — разношу по карточкам результаты тестирования. Так что вы на меня не сердитесь за мою болтовню». — «Что вы!» — сказал он, продолжая улыбаться. Странная это была улыбка. Как будто улыбался он чему-то за ее спиной, чего она не видела, а он видел. Так она тогда толком и не поняла, что означала эта улыбка. Только смутил он ее.
И вот теперь они шли рядом, возвращаясь из института.
Гурьянов выглядел сегодня усталым, сосредоточенно-озабоченным. Удлиненное лицо его было бледным, даже какой-то серый, пепельный оттенок лежал на его худых щеках.
Вообще, этот человек, казалось, обладал способностью каждый раз представать перед Леночкой словно бы в новом облике. В первый день, распахивая перед ней институтские двери, предлагая угадать будущее, он словно вводил ее в свои владения, где был полноправным хозяином, уверенным в себе провидцем. В своей лабораторной комнате, на первом этаже, в черном рабочем халате он почудился ей затворником, отшельником, алхимиком, в одиночестве колдующим над своими таинственными приборами, тщетно ищущим секрет превращения мертвых предметов в живую, трепещущую материю. А сейчас… В своей потертой куртке из искусственной замши, в неглаженых брюках, в спортивных полукедах он казался ей студентом, едва перебивающимся от стипендии до стипендии. Она не знала, женат ли он, есть ли у него семья, но в эту минуту, глядя на него, Леночка была убеждена, что Гурьянов наверняка питается по студенческим столовым, живет где-нибудь в многолюдном общежитии, не высыпается и утром ездит в институт в набитом автобусе, к тому же с двумя пересадками. Такой усталый, неухоженный у него был вид.
— А где же ваш велосипед? — спросила Леночка.
— Отдыхает. Я ему предоставил отпуск, — сказал Гурьянов. — Вы не рассердитесь, если я немного провожу вас? — Какая-то несвойственная ему раньше робость послышалась Леночке в этом вопросе.
— Нет, что вы! — откликнулась Леночка, и это «что вы!» вдруг прозвучало у нее с чужой, но очень знакомой интонацией. Еще с детства она знала за собой эту манеру — легко перенимать чужие интонации. Отец всегда сердился на нее за это. А у нее это происходило невольно, незаметно, само собой. Но чья же все-таки интонация прорвалась сейчас в ее голосе? Кто же совсем недавно точно с таким же выражением говорил ей: «Что вы!» Ах, ну да, это же он, Глеб Гурьянов, и сказал ей тогда, в лаборатории, в ответ на ее извинения: «Что вы!»
— Я люблю после работы немного пошагать, — сказал Гурьянов.
— И я, — сказала Леночка.
— Ну вот видите, — и улыбка всплыла сквозь усталость на его лице. — У нас уже обнаруживаются одинаковые склонности.
Он замолчал, и некоторое время они шли молча. Леночке нравилось это молчание, нравилось, что Глеб не принуждает себя развлекать ее разговорами, а ведет себя естественно, просто, так, будто они и правда давно знакомы.
— Давайте сделаем небольшой крюк, — вдруг сказал Гурьянов, — и я покажу вам улицы своего детства. Хотите?
— Хочу, — сказала Леночка.
Они прошли по улице Пестеля, свернули на Моховую, потом оказались в каком-то переулке у небольшого сквера, потом вышли на улицу Фурманова — он вел ее какими-то своими путями, кружил. Перед Леночкой открывались гулкие проходные дворы, слабо освещенные тускло желтеющими лампочками, уходящие в темноту, словно тоннели. Железные, скрипучие ворота, арки, глухие стены домов… Окажись Леночка здесь одна, она бы умерла от страха. Отовсюду здесь веяло какой-то прежней, незнакомой ей жизнью. Сколько помнила себя Леночка, она всегда жила в новых, аккуратно расчерченных, просторных кварталах. Город, который показывал ей Гурьянов, казался чужим. И не то чтобы она никогда прежде не ходила по этим улицам, не видела этих домов — ходила, конечно, и дома видела не раз. Но все-таки то была внешняя, парадная сторона этих улиц. Мир же проходных дворов и дворов-колодцев, дышащих сыростью, черных лестниц, каких-то мастерских и котельных, упрятанных в полуподвалы, был для нее почти неизвестен. А Гурьянов, охваченный передавшимся и Леночке волнением, все кружил здесь, словно высматривая, словно пытаясь отыскать что-то, ведомое ему одному. Что-то томило, тревожило его.
— Вот здесь я бегал мальчишкой, — сказал Гурьянов. — Странно. Вроде бы и забыть давно пора, а все тянет…
— Почему же пора? — сказала Леночка.
— Это уже совсем другая история. Пойдемте.
Они миновали улицу Фурманова, и вся Нева внезапно открылась перед ними. Темнела на другом берегу подсвеченная прожекторами Петропавловская крепость, свободный ветер гулял по набережной!
Гурьянов остановился у парапета и молча смотрел в воду.
— Вы никогда не задумывались над тем, что и красота может причинять боль? — неожиданно сказал он. — Вам никогда не приходилось чувствовать н е в ы н о с и м о с т ь красоты? Нет, я сейчас не о женской красоте говорю, а о красоте вообще… Вот пейзаж, например… У вас никогда не сжималось сердце от какого-то невыразимого ощущения?.. Не ощущали вы страдание от неутолимости этой жажды?.. Может быть, смешное, конечно, нелепое сравнение, но нечто подобное я, кажется, ощущал ребенком, мальчишкой еще, в войну, в голодные годы. Когда перед тобой тарелка с твоей порцией картошки и ты испытываешь ни с чем не сравнимое наслаждение, радость, п р е д в к у ш е н и е. Вы заметили, кстати, какой корень у этого слова — п р е д в к у ш е н и е?.. И вместе с тем ты уже знаешь, точно знаешь — прошлым опытом своим научен, — что этой картошкой ты не наешься, что ее мало, и уже заранее мучаешься этим своим знанием… Так и тут: сколько бы ты ни смотрел, ни впитывал в себя, все мало… И все как бы п о м и м о тебя, о т д е л ь н о. Вы понимаете меня? Невыносимое ощущение…
— Вам, наверно, художником надо было стать, — робко сказала Леночка. — У вас образное восприятие мира.
— Да, вы правы, в детстве у меня были другие мечты, другие планы, — сказал Гурьянов. — Но так уж жизнь повернулась. Впрочем, я не жалею.
Леночка искоса взглянула на него.
— Вот вы про войну только что сказали… Разве вы…
— Разве вы такой старый? Это вы хотели спросить? Да, Леночка, — первый раз он назвал ее по имени и, кажется, сам не заметил этого, — мне уже сорок два года, две трети жизни, можно считать, прошло…
— Я думала, вы моложе… Правда, правда, по вашему виду никогда не скажешь…
— Тем не менее — сорок два, и от этого никуда не уйдешь, не убежишь, не уедешь. Даже если будешь вращаться вокруг Земли в космическом корабле. Это я все ношусь со своим велосипедом, со своими фантазиями, сочинениями, рассуждениями на высокие темы — так на меня все как на мальчишку, на вчерашнего студента и смотрят. — Он усмехался, но горечь звучала в его голосе. — Солидности мне не хватает, Леночка, солидности…
— А я не выношу солидных, я их боюсь, — сказала Леночка Вартанян и засмеялась.
Странное ощущение испытывала она сейчас: уж на что, казалось бы, большая разница была и в возрасте, и в житейском опыте между ней и Глебом Гурьяновым, но в то же время угадывалась в нем какая-то незащищенность, доверчивая открытость, и это словно сближало, роднило его с ней. Казалось, он нуждался в ее понимании, в участии, в доброте, казалось, ждал от нее этого участия и доброты… А может быть, это только чудилось ей?
— Вас надо с моим папой познакомить, — сказала Леночка. — Его, знаете, хлебом не корми, дай только порассуждать о высоких материях. Или об Архипове поговорить. Вот сейчас приду, он первым делом начнет спрашивать: приехал Архипов? Видела Архипова? Не знаю уж почему, но Архипова он просто боготворит, хотя и не встречался с ним никогда в жизни…
— Иван Дмитриевич стоит того, чтобы его боготворить, — сказал Гурьянов. — Это человек замечательный. Я, собственно, и в институт пришел из-за него. Вам никогда не приходилось бывать на его лекциях?
— Нет, — сказала Леночка, — нет, на нашем факультете он не читал лекций.
— Жаль. А я был. Нет, не в университете, я ведь не университет кончал, а политехнический. А слышал я Ивана Дмитриевича в лектории, здесь, на Литейном. Выступал он с обыкновенной публичной лекцией. Я после этой лекции и задумал во что бы то ни стало к нему перейти. Такое она на меня впечатление произвела. Это даже не лекция научная была в строгом смысле этого термина, а скорее — хвалебное слово человеческой памяти. Причем слово, произнесенное со страстью, с энергией, с вдохновением…
Гурьянов изменил вдруг голос и заговорил, видно, пытаясь подражать Архипову:
— Память — это одно из самых удивительных и сложных явлений, которыми наградила нас природа. Память — это та бесконечная, беспрерывная цепочка, которая соединяет нас, ныне живущих, с теми, кто жил до нас, и с теми, кто придет завтра. Без памяти — нет движения. Память, если угодно, — это бессмертие человечества. Память причиняет нам боль и радость, она — наше богатство и наша совесть, судья и врачеватель одновременно… Но вместе с тем это уникальное чудо — наша память — есть не что иное как сочетание определенных химических и физических процессов, происходящих в нейронных сетях нашего мозга. Процессов, которые возможно исследовать, объяснить, выразить формулами… Исчезает ли от этого ощущение чуда? Нет, оно становится еще более поразительным!.. Нет, — сказал Гурьянов, — не могу, не получается. Это надо слышать. Вообще, судьба Архипова удивительна, — продолжал он после некоторой паузы. — О нем разные, почти легендарные истории рассказывают. Говорят, будто во время войны, когда один из его сыновей под судом военного трибунала оказался, расстрел ему грозил за дезертирство или что-то в этом роде, а у Архипова возможность была хлопотать, вступиться за него, он отказался это сделать… А второй его сын — подводник — погиб как герой. Я все думаю: сколько судьба человеческая всего вмещает!.. И вот теперь, когда Архипов уже совсем один остался, откуда у него такая сила жизни, такая жизнестойкость?.. Это ли не удивительно?..
Они долго еще бродили по набережной, но становилось все ветренее, осенняя вечерняя стылость уже давала себя знать. Леночка замерзла, и они заторопились к автобусу. На углу, неподалеку от автобусной остановки, светилось окно кондитерской с плакатиком: «Пейте горячий кофе!»
— Пейте? — сказал Гурьянов.
— Горячий? — принимая нехитрую игру, подхватила Леночка.
— Кофе? — закончил Гурьянов.
Они оба засмеялись, входя в магазин.
Ощущение счастливой беззаботности охватило Леночку. Как будто она опять стала маленькой девочкой, когда так немного было нужно, чтобы развеселить ее, когда вокруг любого пустяка немедленно затевалась игра.
Они пили кофе из белых фаянсовых кружек, стоя за высоким круглым столиком. На столе валялись обертки от сахара, у кружек были отбиты ручки, но вся эта непритязательная, даже убогая обстановка не портила Леночкиного настроения. Она уже знала, что эта маленькая, невзрачная кофейня, случайно оказавшаяся на их пути, надолго останется в ее памяти.
Магазин готовился к закрытию, и толстая тетка, водя по полу мокрой тряпкой, намотанной на швабру, неотвратимо приближалась к ним — словно вовсе никого и не было перед ней.
— Вот кого я по-настоящему боюсь — это грубых людей, — тихо сказала Леночка. — Ненавижу и боюсь.
— Вы уже третий раз произносите слово «боюсь», — улыбаясь, отозвался Гурьянов. — Я уже знаю, что вы боитесь кибернетики, солидных людей и грубости. Так?
— Так, — засмеялась Леночка. — Я вообще, наверно, ужасно неприспособленная к жизни. Это родители мои виноваты, они меня так воспитали…
Тетка с тряпкой все наступала на них, все сжимала вокруг них кольцо, больше никого уже не оставалось в кондитерской. И Гурьянов с Леночкой тоже сдались, отступили перед этим молчаливым напором, пошли к выходу.
Теперь Леночка хотела проститься с Гурьяновым и ехать одна, но он настоял на том, что проводит ее до дома. И Леночке было приятно, что Глеб не отпустил ее.
В автобусе он опять заговорил об Архипове.
— Вообще, чужую жизнь понять куда сложнее, чем нам порой кажется, — говорил Гурьянов. — Если задуматься, копнуть поглубже, то у каждого из нас в жизни своя загадка отыщется, своя тайна, свое — точнее сказать — нервное средоточие, своя болевая точка, которая на всю нашу жизнь влияет, лучи от которой всю нашу жизнь пронизывают. Для другого человека подобная твоя тайна может и не столь уж существенной показаться, она бы, может, и в памяти его ненадолго осталась, а для тебя это на всю жизнь…
И опять, как еще тогда, когда повел он ее кружить по улицам и дворам своего детства, ей показалось: что-то томит и тревожит его, что-то не дает ему покоя.
— А у вас есть тайна? — спросила она.
— Есть. Я же говорю: у каждого человека есть. Только одни сознают это, а другие нет… — сказал он.
«И у меня есть, — с грустью подумала Леночка. — Это уход мамы…»
И едва подумала об этом, как мысль об отце кольнула ее: он наверняка уже с ума сходит, гадает, куда она девалась. Отец не терпел, когда она возвращалась поздно, не предупредив. Волновался, впадал в панику, воображал бог весть что, начинал звонить в милицию. Ждал, неотрывно стоя у окна. Наверно, и сейчас стоит, ждет, смотрит на улицу.
«Как я хоть позвонить не сообразила! — запоздало укорила себя Леночка и тут же возразила себе, словно заранее защищаясь, заранее выпуская колючки: — Я же взрослая! Что, я не имею права один раз прийти позже?»
До чего же все-таки незаметно пролетел сегодняшний вечер! Ей было жаль расставаться с Гурьяновым, чувство радостной приподнятости не оставляло ее. И лишь когда они выбрались из автобуса, когда увидела она свой дом, Леночка сразу занервничала, заторопилась. И хотя Гурьянов еще по-прежнему шел рядом, почти касаясь ее, на самом деле они уже отдалялись друг от друга. И он, видно, чувствуя это, молчал.
Торопливо попрощавшись, Леночка уже взбегала вверх по лестнице, когда Гурьянов вдруг негромко окликнул ее:
— Лена!
Ее имя слабым эхом отдалось среди лестничных пролетов. Или это ей померещилось? Леночка приостановилась и сразу ощутила, как колотится у нее сердце.
— Лена!
Он смотрел на нее снизу, запрокинув лицо.
Она вдруг испугалась. Ей показалось — она знает, какие слова он хочет произнести. Она сделала несколько медленных шагов по ступенькам вниз.
— Что?
— Нет, ничего… я просто… ладно, лучше в другой раз, потом… — пробормотал он. — Идите, идите, Леночка, до свидания…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Поддавшись внезапному порыву, кинувшись к Лизе, думая в этот момент только о ней, Архипов как-то словно забыл, сбросил со счета, что разговаривать ему придется не с одной Лизой, но и с ее мужем, Ефимом Семеновичем Фейгиным. Он вспомнил об этом, только когда Фимочка Фейгин сам, собственной персоной предстал перед ним в дверном проеме. Было, наверно, в выражении лица Архипова сейчас нечто такое, что заставило Фимочку чуть вздрогнуть, чуть попятиться от неожиданности. Однако он тут же овладел собой.
Был он в старой фланелевой рубашке с уже обмахрившимся воротом, в разношенных шлепанцах и вельветовых брюках, туго обхватывающих худые ноги. Шея у него была перевязана, обмотана шерстяным платком, и в руках он держал стакан с каким-то полосканием. С тех пор как Фейгин поселился в этом доме, здесь всегда пахло лекарствами. Сколько помнил его Архипов, Фимочку вечно донимали какие-то простуды, фурункулы, воспаления, ячмени, флюсы.
— Руки не подавайте, Иван Дмитриевич, — с веселой наглостью глядя на Архипова своими большими, слегка навыкате глазами, сказал он. — Я — заразный. Ангина.
Но Архипову сейчас было не до того, чтобы обращать внимание на подобные уколы.
— Лиза дома? — спросил он.
— Лиза дома, но она спит, — сказал Фейгин. — Она устала сегодня. Да вы проходите, Иван Дмитриевич, п р и с а ж и в а й т е с ь.
Архипов молча, не снимая плаща, прошел мимо него в Лизину комнату. Здесь при свете торшера он увидел Лизу. Она спала на тахте, полуукрывшись пледом, по-детски подсунув обе прижатые одна к другой ладони под щеку. Губы ее были чуть приоткрыты. Она дышала легко и спокойно.
Архипов хорошо знал эту ее привычку, эту особенность ее натуры. Сколько раз, бывало, нанервничавшись, измотавшись перед экзаменами, после бурных слез, после переживаний, после очередного приступа неуверенности в себе, она вдруг ложилась и засыпала мгновенно — словно проваливалась, словно пряталась в сон, словно сон был ее защитой и спасением.
Сейчас Архипов в растерянности стоял возле Лизы. Потом он взял стул и грузно опустился на него, рядом с тахтой.
Однажды — это было вскоре после смерти Лизиного отца — Лиза тяжело заболела. У нее поднялась температура, всю ночь она бредила. И всю ночь Архипов тогда просидел у ее постели, с тревогой и страхом вглядываясь в горящее румянцем лицо. Он прикладывал к ее лбу смоченное холодной водой полотенце, поправлял одеяло, бережно укрывая ее плечи, давал пить. Над городом стояла белая ночь, светлый сумрак струился сквозь окна, с улицы доносились песни и смех вчерашних школьников, возвращающихся после выпускного вечера. Наверно, именно после этой ночи Архипов и почувствовал Лизу родным человеком.
И вот теперь он снова сидел возле ее изголовья и снова с тревогой, с болью вглядывался в ее лицо.
— Я считаю нужным, Иван Дмитриевич, сразу предупредить вас о двух вещах, — сказал Фимочка Фейгин, блистая новенькими коронками. — Лиза — человек взрослый, самостоятельный, она вправе принимать любые решения, и если вы рассчитываете каким-то образом воспрепятствовать ей в этом, то — напрасно, не стоит. Это во-первых. А во-вторых, если вы пришли агитировать нас, произносить слова о патриотизме и предавать нас анафеме за антипатриотичность, то это пустой труд. Все это мы уже слышали. И о средствах, которые на нас, неблагодарных, затратило государство, и обо всем прочем. Смею вас заверить — не действует.
У Фимочки уже обнаруживались залысины, уже поредела его иссиня-черная, жесткая шевелюра, и оттого лоб его словно бы стал теперь выше, крупнее, округлее. Лоб мыслителя.
— Ваши предупреждения напрасны, — сказал Архипов. — С в а м и говорить о патриотизме я не собираюсь. Мы все равно никогда не поймем друг друга…
— Ну почему же? — сказал Фимочка. — Я ведь тоже немало думал над этими вопросами, Иван Дмитриевич. Мы с вами, Иван Дмитриевич, ученые, исследователи и должны иметь смелость называть вещи своими именами. Надеюсь, вы не станете отрицать, что за последнее время наука становится все более вненациональной, единой, общечеловеческой. Я в своей работе опираюсь на опыты, проведенные американцами, американцы используют данные, полученные мной… Мы все связаны друг с другом, иначе сегодня и быть не может. Замкнутость, ограниченность — это признак бездарности, удел бездарности. И так ли уж существенно, в конце концов, з д е с ь или т а м я буду работать, если моя работа в конечном счете станет общим достоянием — достоянием науки, а следовательно — достоянием человечества…
— Наука-то, может быть, и едина, — сказал Архипов, — да мир-то разделен. Так что не очень тешьте себя этой мыслью, Ефим Семенович. Кстати, к вопросу о вненациональности, общечеловечности науки. Вчера в газетах — не читали? — промелькнуло сообщение: наших ученых не пустили в Штаты на симпозиум по лазерной технике. С чего бы это, если наука едина, а, Ефим Семенович?
— Это другая статья. Каждая страна заботится о своих военных секретах. Вы это сами не хуже меня знаете, Иван Дмитриевич.
— Ах, о военных секретах! А вы, Ефим Семенович, разумеется, рассчитываете заниматься чистой наукой, не так ли? И то, что сегодня там, в тех же Соединенных Штатах, уже об оружии массового воздействия на психику людей, на их память подумывают, этого вы, конечно, не знаете? Вас это не волнует? Как результаты вашей работы будут использованы, вас это не трогает?
— Я предупреждал, Иван Дмитриевич: не агитируйте меня, не нужно. Вы так говорите, что можно подумать — на Западе и честных ученых нет, все на Пентагон и ЦРУ работают. Оставьте при себе эти басни.
— Честных? Нет, почему же, честные ученые есть, и люди замечательные есть, и немало… Но я, Ефим Семенович, за свою долгую жизнь убедился в справедливости старой истины: тот, кто единожды предаст, на этом пути не остановится… Запашок предательства, он — стойкий, на него…
— Иван Дмитриевич! — возмущенно перебил Архипова Фейгин. — Вы употребляете слишком сильные выражения. Это по вашим понятиям я кого-то или что-то предаю. А я лишен этих предрассудков, я никого не предаю, я только меняю место жительства, страну пребывания, как говорят дипломаты. Это мое неотъемлемое человеческое право.
— Страну пребывания… — задумчиво повторил Архипов. — Вот это вы очень точно выразились… Для кого — страна пребывания, а для кого — родина. Вы такой малости, как привязанность к родине, не учитываете. Абстрактного человечества ведь не существует. Есть люди, которые тебя окружают, которые тебе близки, дороги, есть народ, частицей которого ты себя чувствуешь. Мне жаль вас, если вы никогда не испытывали этого чувства, если оно атрофировано у вас…
— Все это эфемерные понятия, как сказал бы наш общий знакомый Анатолий Борисович Перфильев. Оставим их для поэтов.
— Эфемерные? Э, не-ет… — Архипов покачал головой. — Мы же столькими нитями привязаны к земле своей, что оборви их — кровь будет сочиться… Неужели и это вас не страшит?
— Нет, — сказал Фимочка. — Я, например, немалые надежды с этой своей переменой в жизни связываю. Уверен, абсолютно уверен, Иван Дмитриевич, что т а м я смогу работать успешнее…
— Это почему же, позвольте узнать? — спросил Архипов.
Лиза вдруг шевельнулась, словно пробуждаясь, и они оба замолчали, глядя на нее. Но она не проснулась.
— Да потому, — сказал Фимочка, — что надоело мне быть вечнообязанным. Знаете, есть такое слово — «военнообязанный». А я себя ощущаю в е ч н о о б я з а н н ы м. Вечно я кому-то что-то обязан. Я обязан школе, семье, государству — всем. Я обязан идти на профсоюзное собрание, обязан сидеть на политзанятиях, обязан навещать больного Петра Петровича, хотя не испытываю к нему никаких симпатий, обязан сдавать нормы ГТО, хотя к физкультуре питаю отвращение с младенчества, обязан выйти на субботник, поехать в совхоз, написать заметку в стенгазету, выступить в подшефной школе, обязан принять обязательства, свидетельствующие о том, что я обязан… И так до бесконечности… А я не хочу! Мне говорят: ты — эгоист, индивидуалист, эгоцентрик… А я и не отрицаю. Да, я такой! Помните, Иван Дмитриевич, вы как-то давно еще мне сказали: «Вы, Фейгин, хороши и терпимы только до тех пор, пока вам на мозоль не наступили. Тут уж вы никого не пощадите!» Помните?
Да, Архипов хорошо помнил, когда сказал он Фейгину эти слова. Тогда Фейгина не сумели командировать на какой-то симпозиум, кажется в Тбилиси, — был конец года, командировочные средства уже истощились. И Фимочка устроил скандал на весь институт: мол, какие-то бездари разъезжают, а для него не нашлось денег. В выражениях он не стеснялся.
— А почему, спрашивается, я должен поступаться собственными интересами? Из скромности? Так ведь скромный человек потому и скромен, что надеется: потом его за эту скромность превознесут, у него тут тоже соблюдение своих интересов, своя мозоль, как вы изволили выразиться. И так каждый человек, если его поглубже копнуть, за свои интересы зубами держится. Только признавать этого не хочет.
Фимочка распалился, говорил все громче, хрипел своим простуженным горлом, кашлял, отплевывался в носовой платок, но Архипов слушал его рассеянно, смотрел на Лизу.
Она вдруг потянулась, вздохнула и открыла глаза.
— Ой, Иван Дмитриевич, а я думала, вы мне снитесь, — сказала она.
Она произнесла эти слова так радостно и так ясно, открыто взглянула на Архипова, словно по-прежнему ничто не разделяло их, словно ничего не изменилось за время отсутствия Архипова. Сон еще не отпускал ее. Но тут же глаза ее вдруг померкли, лицо сникло и осунулось — она вспомнила, поняла, осознала, зачем пришел Архипов.
— Лиза, это правда? — спросил он негромко.
Архипову показалось, что ее знобит. Она натянула на себя плед, укрылась, закуталась им по горло.
— Да, — сказала она еле слышно. — Правда.
— Но как же так, Лиза! Почему? Ты понимаешь, на что ты решилась, Лиза?!
Она молчала.
— Зачем ты это делаешь? Ты же жизнь свою, судьбу свою калечишь! Подумай, Лиза!
— Иван Дмитриевич, не надо, — сказала она тихо, почти шепотом, — не мучайте меня. Все равно я не могу по-другому. Я не знаю, что там с нами… что там со м н о й будет… — И Архипов сразу же с внутренней болью и тревогой отметил эту ее поправку. — Но сейчас я не могу по-другому, понимаете, Иван Дмитриевич, не судите меня. Я сама себя уже сто раз осудила. Не судите, я не могу иначе.
Что стояло за этими ее словами? Любовь? Боязнь остаться одной? Или готовность идти на жертву, жажда собой пожертвовать ради любимого человека — та самая готовность жертвовать, о которой когда-то писал ее отец в своем последнем письме?
Он-то все ломал голову над тем, что с ней происходит, он-то все думал: семейные неурядицы, что-то не ладится у Лизы с Фейгиным. А оказывается, вот какой процесс тайно шел в ее душе, вот какие решения невидимо вызревали в ее сердце…
— Ты бы об отце своем хоть вспомнила! — сказал Архипов. — Он же здесь, в этой земле, похоронен, которую ты покинуть хочешь! Он в сорок первом в народном ополчении — заметьте, Ефим Семенович, в н а р о д н о м! — это я к нашему давешнему спору возвращаюсь, — в народном ополчении за эту землю сражался…
— Ну да, с одной винтовкой на двоих, — сказал Фейгин.
— Да, верно. Ну что ж, посмейтесь, Ефим Семенович, посмейтесь, теперь вы можете себе это позволить.
Фейгин ничего не ответил — запрокинув голову, он полоскал горло.
— А я, Лиза, — сказал Архипов, — рядом с твоим отцом в окопе лежал, вместе мы боя ждали. Страшные были дни, но вот оглядываюсь назад и вижу, что не было в моей жизни ничего выше, святее, чище, чем то время! И отец твой, Лиза, потом уже, незадолго до своей смерти, признавался мне в том же самом. Так неужели даже память об отце тебя не удержит? Твой отец жизни себе не мыслил вне родины…
— Между прочим, родина не всегда это ценила, — подал свой голос Фимочка Фейгин.
— Не вам судить об этом, Ефим Семенович, — сказал Архипов.
— Отчего же не мне? Не оттого ли, что вам правда не нравится? Не оттого ли, что вы свою жизнь где подкрасить, где подправить задним числом стараетесь, легенду из своей жизни создаете?
— Да что вы знаете о нашей жизни! Что вы о ней знаете!
— Но ведь Ефим прав, — неожиданно сказала Лиза. — К отцу ведь действительно были несправедливы. — Она села на тахте и потянулась за сигаретами. — Каких только ярлыков к нему не приклеивали. Вы же хорошо это знаете, Иван Дмитриевич.
— Значит, ты э т и м себя оправдать думаешь? — сказал Архипов. — За отца счет предъявить решила? С опозданием, правда, но ладно, не в этом суть. А суть в том, как сам бы отец твой к этому отнесся? Почему он сам никогда не пытался расквитаться с Родиной за свои обиды? Почему даже мысль такая ему в голову не приходила? Об этом ты не задумывалась?..
— А вы уверены, что не приходила? — сказал Фимочка.
Все вклинивался он в разговор, все мешал Архипову поговорить с Лизой — с одной Лизой.
— Да, уверен, — сказал Архипов, отвечая на вопрос Фимочки, но обращаясь по-прежнему к Лизе. — Мы с отцом твоим, как раз об этом тогда ночью, в окопе, говорили. В такие минуты люди не кривят душой. И знаешь, что он сказал? Да, была и несправедливость, и горечь, и боль, но все это была н а ш а жизнь, н а ш а судьба, н а ш е время. Оно неотделимо от нас, мы неотделимы от него.
— Вы — люди иного поколения, — сказала Лиза. — Вы, наверное, и чувствовали, и рассуждали по-другому…
— Неправда, Лиза, ты сама знаешь, что это неправда, — сказал Архипов. — И то, что с тобой сейчас происходит, это затмение какое-то, б е с п а м я т с т в о…
Лиза молча курила, глубоко затягиваясь сигаретой. Фимочка опять полоскал горло.
— А я-то как без тебя останусь, Лиза? Об этом ты совсем не подумала, — сказал Архипов с прорвавшейся вдруг горечью. Он не хотел, не собирался произносить этих слов. Они вырвались сами собой.
— Вы — сильный человек, Иван Дмитриевич, — сказала Лиза, — вы — очень сильный человек. Вы это переживете. А я всегда о вас буду помнить…
— Да одумайся, Лиза! Опомнись! Последний раз прошу тебя! Мы же расстанемся сейчас, и все… слышишь?
Лиза покачала головой.
— Мосты сожжены, Иван Дмитриевич, — сказала она. — Обратной дороги уже нет. И простите меня, если можете…
Только сейчас Архипов заметил, что он по-прежнему сидит в плаще, никто так и не предложил ему раздеться. Шляпа, которую он положил на колени, упала на пол. Он с трудом, грузно нагнулся и подобрал ее.
— Ну что ж… — сказал он, медлительно поднимаясь. — Ну что ж… Вы вот, Ефим Семенович, судьбу свою едете устраивать, планы всякие грандиозные строите, надежды, как вы давеча выразились, питаете, а вы бы все-таки и о ней, о Лизе, подумали, если хоть каплю любите ее. Каково ей-то там будет?..
Не нужно было говорить этого — пустая, напрасная трата слов, они пролетали мимо ушей Фимочки, не задевая его. Но Архипова все не оставляло ощущение, что он еще не использовал все возможности, что он еще не сказал, упустил нечто важное.
Фимочка молча развел руками.
Архипов повернулся и пошел к двери.
Из тетради Г. С. Вартаняна«Любой живой организм мы можем рассматривать, как биокибернетическую систему. И так как биокибернетическая система ведет борьбу с энтропией в условиях меняющейся среды, то существенным требованием становится и накопление резерва информации, которая в известном смысле представляет собой преобразованную негэнтропию. Поэтому в организме возникают и развиваются специальные механизмы сбора и хранения информации, позволяющей формировать новые виды приспособительного поведения. Деятельность этих механизмов называют памятью. Таким образом, в понятие памяти входит совокупность процессов фиксации, хранения и последующего считывания информации, получаемой организмом на протяжении его жизни.
Использование ранее полученной информации в процессах целесообразного саморегулирования присуще любой биологической системе».
Я думаю так. Если перевести все это на более простой язык, то, перефразируя известное изречение, можно сказать: «Пока помню — живу». Любопытно, что раньше я почти не задумывался над этим. Или еще лучше так: «Помню — следовательно, существую». А Терентьев? Как же он?
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Утром Перфильев проводил жену до гинекологической клиники. Летом этот старинный особняк прятался за густыми кронами деревьев, сейчас же деревья стояли прозрачные, сиротливо шевеля на ветру наполовину облетевшими ветками, и все здание с уже облупившейся местами штукатуркой, потеками возле водосточных труб, выступило наружу, тоже оголилось, как и деревья, оказалось вдруг на виду со всеми приметами своей дряхлости.
До клиники они шли молча, почти не разговаривая. Галя была погружена в себя, в свои невеселые мысли. После целой недели яростных споров, слез, мучительных длинных разговоров она, казалось, впала в апатию, в тихое безразличие. И Перфильев тоже молчал — страдал от ее замкнутости, отчужденности: она будто укоряла его этим своим молчанием.
Собственно, уже не впервые им приходилось совершать этот печальный путь, но, как и в прошлый раз, опять повторялось одно и то же: отчаяние, уговоры, надежда, слезы, упреки, страх, нервотрепка — одним словом, настоящая пытка. И главное, с начала, с самого начала она не могла не знать, что э т о придется сделать, что иного выхода нет. Врачи настоятельно не советовали ей заводить ребенка — слабое сердце, больные почки, да и наследственность у Гали была неважная, так что всякие надежды на то, будто что-то изменится, были напрасны. Но нет — все равно нужно было и себя, и его, Перфильева, довести до крайности, до черты.
Они простились в приемном покое. Перфильев снова, неловко, неестественно улыбаясь, пробормотал что-то насчет того, что все, мол, будет хорошо, держись молодцом, не падай духом, и, поцеловав ее, быстро пошел прочь. Он боялся, что, если прощание затянется, Галя начнет плакать.
Да к тому же и правда надо было спешить. Сегодня с утра Архипов выступал на философском семинаре со своими впечатлениями от поездки в Японию. Так что никак нельзя было опаздывать Перфильеву, никак. Разве не требовал он от других неукоснительной точности, разве не приучал их к пунктуальности?..
Все было бы ничего, если бы не последний Галин взгляд. Взгляд больного ребенка, надеющегося на всемогущество взрослых… Вот ребенка уже положили на каталку, уже увозят по больничному коридору, а он все еще смотрит на мать, держащую его одежду, все еще надеется, что мама сейчас бросится вслед за ним, заберет, не оставит, спасет… Этот безмолвно молящий взгляд… Откуда, из каких далей памяти пришло к Перфильеву это ощущение, это воспоминание?.. Только лучше бы он не видел этих Галиных глаз…
…В институте перед самым началом семинара Перфильевым завладел Аркадий Ильич Стекольщиков.
— Анатолий Борисович, дорогой, — поспешно заговорил он, озабоченно поблескивая очками. — Я слышал, будто вы собираетесь обнародовать, вынести чуть ли не на обсуждение данные по «цитат-индексу»… Это что, правда?
— Правда, — сказал Перфильев. — Думаю, каждому из нас будет небесполезно поразмыслить над этими данными, поразмыслить о реальной ценности своей работы…
— Анатолий Борисович, простите меня, но вы молоды и крайне наивны, вы даже не представляете, что вы собираетесь сделать. Это же землетрясение, ядерная катастрофа в масштабах института! На вашем месте я бы их, эти данные, в сейф, в несгораемый сейф на три замка с особым секретом запер, чтобы никто, кроме ограниченного круга лиц, до них и добраться не смог…
— Я не понимаю, что вас так пугает? — невинно сказал Перфильев.
— Меня лично — ничего! Но вы же попросту перессорите весь институт! Неужели вы в этом себе отчет не отдаете? Вы зависть и рознь внесете — вот что вас должно пугать, Анатолий Борисович, вас, а не меня. Ну, хорошо, я человек легкий, незлопамятный, интересы дела для меня всегда выше личного самолюбия, вы это сами хорошо знаете, но другой ведь — из тех, кто там, в хвосте этой вашей таблицы, — обязательно решит, что вы нарочно на коллективное обозрение эти данные вынесли, чтобы лично его, имярек, уязвить, обидеть, ущемить… А запомните, Анатолий Борисович, нет силы опаснее, чем уязвленное самолюбие… Вы только врагов себе наживете, а ради чего?.. Кстати говоря, и данные эти сами по себе вызывают у меня, например, некоторое сомнение. Я, к примеру, точно помню, что были ссылки на мои работы в зарубежных статьях, не могу сейчас сказать, в каких именно, но были, а тут это не нашло отражения… Разумеется, лично меня это совершенно не волнует, чего-чего, а известности мне на моем веку хватало, не жалуюсь, а вот кто другой может и к этому прицепиться, уличить вас в неточности, начнутся выяснения, разборы, склоки… Так поверьте моему опыту, не затевайте вы это дело, овчинка выделки не стоит, не затевайте, если не хотите, чтобы институт лихорадило. Я убежден, что и Иван Дмитриевич то же самое скажет…
— А я думаю, Иван Дмитриевич не станет придавать этому событию такого значения, какое придаете вы, — холодно сказал Перфильев.
Лицо Стекольщикова вдруг пошло красными пятнами.
— Мое дело было вас предупредить, Анатолий Борисович, — сказал он. — Я ведь из самых добрых побуждений… А с Иваном Дмитриевичем вы все-таки посоветуйтесь, посоветуйтесь…
Кажется, заранее уже убежден, что Архипов станет на его сторону. Откуда такая уверенность? Или уже опередил Аркадий Ильич Перфильева, уже успел побывать у Архипова, уже напел тому свои песни?
Те близкие, почти дружеские отношения, которые существовали между Аркадием Ильичом Стекольщиковым и Архиповым, всегда удивляли, даже, точнее сказать, ставили в тупик Перфильева. Он с трудом находил им объяснение.
«Сказать, что они не похожи, пожалуй, ничего не сказать, — думал Перфильев. — Мало ли бывает случаев, когда именно непохожесть, даже противоположность характеров притягивает друг к другу, а в иных случаях вызывает неприязнь, неприятие, вражду. Так что, будь они просто несхожими, в их отношениях не было бы ничего удивительного. Это люди р а з н о г о м а с ш т а б а — вот в чем суть.
И так ли уж безобидны эти отношения, как может казаться? Ведь те, кого мы вольно или невольно выбираем в свое окружение, с кем имеем дело изо дня в день, тоже оказывают влияние на нас, даже если мы и уверяем себя, что отлично знаем цену этим людям и трезво смотрим на вещи. Пустоцветы способны заражать все вокруг своим бесплодием. А Стекольщиков — пустоцвет, что бы он там ни представлял собой в прошлом, сейчас он — пустоцвет. Он скажет: а моя связь с практикой, а мой вклад в развитие контактов с педагогической наукой, мои рекомендации учителям? Этим он гордится, за это держится. Но хотелось бы видеть хоть одного человека, кто способен дочитать эти рекомендации до конца! «…Так, нами установлено, что между временем демонстрации карточек и степенью их запоминаемости существует прямая зависимость. Таким образом, можно предположить, что, чем дольше демонстрируется предмет, тем…» И так далее и тому подобное. Очевидные истины в наукообразной форме. Но попробуй тронь его, и он бросится во все инстанции доказывать, будто мы против необходимости связи науки с жизнью, будто мы ниспровергаем сам этот принцип.
Не видит всего этого Архипов, что ли, не понимает? Отчего же так терпим, так снисходителен он к Стекольщикову? Или дает себя знать стариковская тяга к всепрощению? Но не переходит ли эта доброта в беспринципность? Не во вред ли институту эта снисходительность?..»
С такими мыслями Перфильев и вошел в конференц-зал.
Небольшой институтский конференц-зал едва смог вместить всех желающих послушать Архипова. Хорошо, Леночка Вартанян успела занять заранее место поближе к сцене, в третьем ряду. А то так и пришлось бы стоять где-нибудь в дверях.
Пока не начался семинар, пока ждали появления Ивана Дмитриевича, молоденький лаборант из их группы Коля Теплицкий развлекал Леночку разговорами, смешными историями, рассказывал, каким образом попал он на работу сюда, в институт к Архипову.
— Понимаете, я в прошлом году на биологический поступал сразу после школы и провалился. Причем в школе меня всегда способным считали, дифирамбы мне пели, а тут — провал, позор. Переживал я ужасно. Никому на глаза показываться не хотелось. Ведь каждому объяснять надо, что и как, утешения выслушивать. Хоть уезжай из города куда глаза глядят, честное слово! Так я был закомплексован своим провалом. И тут вдруг парень один знакомый рассказывает мне об этом институте, об Институте памяти. Интереснейший, говорит, институт, опыты там ставят — закачаешься! Всякие чудеса с памятью выделывают, говорит. Передовой край науки! Таких он мне вещей нарассказал — фантастика, одним словом. И появилась у меня тогда идея — как свое существование бесцельное оправдать. Каким образом и пользу науке принести, и фамилию Теплицких навсегда прославить. Загорелся я этой идеей, несколько дней ее вынашивал, и так и этак обдумывал, прикидывал, сам себя проверял. Решусь ли? Набрался наконец решимости, пошел в институт, прямо к директору. Сначала меня пропускать не хотели, все в отдел кадров сплавить старались. Ну, видно же: мальчишка, вчерашний школьник, на работу пришел устраиваться, не иначе. А я свое твержу: нет, у меня крайне важное дело, я могу о нем только с директором разговаривать. В общем, пока я с секретаршей так препирался, выходит из кабинета сам Иван Дмитриевич. Посмотрел на меня с интересом, послушал, усмехнулся, повел к себе в кабинет. «Давайте, — говорит, — выкладывайте, что у вас за дело такое — государственной важности». Я тут ему свою идею и выложил. «Возьмите, — говорю, — меня в ваш институт для опытов. Вам же, — говорю, — наверняка люди для опытов нужны. Не можете же вы только на лягушках да крысах работать. А я, — говорю, — на любые опыты согласен. Могу расписку дать. Лишь бы польза от этого науке была». — «Вы, что же, — спрашивает меня Архипов, — и жизнью своей рискнуть готовы?» — «Готов, — отвечаю, — если нужно». — «У вас, что же, — говорит Архипов, — переживания какие-то? Любовь, может быть, несчастная? Не угадал?» Я даже возмутился: «Да при чем тут любовь! Просто я решил собой во имя науки пожертвовать. Были же такие ученые, которые сами на себе опыты ставили, сами себе разные болезни прививали. Вот и я хочу… Как же, — говорю, — без экспериментов на людях можно память человеческую изучить, сами подумайте!» — «Да, — соглашается Архипов, — это действительно сложно. Но экспериментов на людях мы не ставим. Так что очень ценю вашу решимость, молодой человек, но…» Так я расстроился после этих слов, такое разочарование испытал, оттого что все мои замечательные планы рушатся, лучшие надежды не оправдываются… «Обманывает он меня, наверно, — думаю. — Жалеет». Посмотрел я на Архипова умоляющим взглядом: «А может быть, все-таки… Какие-нибудь вещества надо на человеке проверить, новые препараты?.. Я готов. Не могу я просто так уйти отсюда, понимаете?» Наверно, было в моих глазах, в лице моем что-то такое, что заставило Архипова заколебаться. «Нет, — говорит он, — нет, это невозможно. — Но голос его звучит уже не так категорично. — Хотя впрочем… Есть, кажется, у нас тут одна необходимость… Только не знаю, хватит ли у вас выдержки…» — «Хватит, — говорю, — честное слово, Иван Дмитриевич, хватит!» Позвонил он кому-то по внутреннему телефону: «Тут, — говорит, — у меня один товарищ рвется послужить науке. Как, нужны вам еще испытуемые?» Там, видно, ответили: нужны. «Хорошо, — говорит уже мне Архипов. — Приходите завтра с утра в лабораторию Мережникова, пятый этаж, пятьдесят третья комната, там вам все объяснят, что от вас потребуется. Желаю удачи». И руку мне пожал.
Домой я летел, как на крыльях! «Ну вот, Колька, — говорил сам себе, — и решилась твоя судьба». Весь вечер я готовился к завтрашнему дню. Настраивал себя, прямо как йог. Родителям я, конечно, толком ничего не объяснил, чтобы не волновались раньше времени, но намекнул все же, осторожненько так намекнул на возможные изменения в моей жизни. Ну, они, ясное дело, самое простое предположили — что я на работу устраиваюсь. А что их сына завтра научному эксперименту подвергать будут — такое им и в голову прийти не могло. Уже поздно вечером я записал в своем дневнике: «Сегодня я, может быть, последний день прежний Колька Теплицкий. Что будет со мной завтра, я не знаю. Да и никто, наверно, не знает. «Хватит ли вам выдержки?» — спросил меня Архипов. Хватит! В этом я уверен. Только бы ничего не отменили! Я должен пойти на это во имя науки!» Поставил число и расписался. С утра я уже был в институте…
Теплицкий увлекся, его воодушевляло то внимание, тот интерес, с которым слушала его Леночка Вартанян. Но тут на Теплицкого зашикали — в зале появился Архипов.
Архипов медленно поднялся на сцену, где за столом президиума его уже ждал Анатолий Борисович Перфильев, так же медленно подошел к трибуне.
Своими крупными руками он взялся за края трибуны, обхватил ее, словно проверяя на прочность, словно прикидывая, как обосноваться за ней поудобнее. Леночка видела белые, накрахмаленные манжеты его рубашки, схваченные золотыми запонками. Из-под седых, насупленных бровей Архипов неторопливо оглядел зал и заговорил.
Он заговорил тихим, старчески бесцветным голосом, и Леночка изумилась: она хорошо помнила, как восторженно говорил о лекции, прочитанной Архиповым, Гурьянов, она не раз слышала подобные же рассказы и от других, и теперь ощущала разочарование. Совсем не того она ждала.
Машинально, про себя она отмечала, о чем говорил Архипов: «…синтез информационной РНК… механизм передачи информации от ДНК к РНК…», а сама слушала, что продолжал шептать ей на ухо Коля Теплицкий:
— …Ну вот, значит, с утра явился я в институт. Приоделся, героем себя чувствовал, идущим на жертву во имя науки. Поднялся на пятый этаж, отыскал пятьдесят третью комнату. Так-то и так-то, говорю, я — Николай Теплицкий, направлен к вам директором, товарищем Архиповым…
— …пространственно-функциональные взаимоотношения нейронных ансамблей… Вероятностная структура нейронно-глиальных ансамблей… Нейронный механизм опознания стимула… обучающиеся системы распознания образов…
— …А мне говорят: очень приятно, мы вас ждем. Но вижу: ждут-то они не только меня. Там целая толпа таких же хмырей, как я, уже собралась…
— …Новые данные эндокринологии… влияние гормонов на память…
— …Конечно, мне уже как-то не по себе становится оттого, что я, оказывается, не одинок в своем стремлении принести себя в жертву ради прогресса науки… Ну, ладно. Нас всех собирают в одну комнату… И текст диктуют с тем, чтобы мы его запоминали. «ДАК-7, ТАУ-9, ЛЕМ-3…», в общем, ерунда какая-то, бессмыслица. Заучивайте, говорят. Ну прямо как в школе. Ладно. Заучил, а тут второй списочек подсовывают — такая же абракадабра. И опять, оказывается, надо заучивать… В общем, вы сами знаете эти опыты на проактивное и ретроактивное торможение. Вот тебе и жертва во имя науки!..
Теплицкий еще что-то говорил, шептал ей, смеясь, но Леночка уже почти не слушала его. Она смотрела на Архипова. Голос его постепенно менялся, креп, словно скрытая до поры сила теперь проступала в нем.
— …И все-таки, бегло обозначив круг тех научных проблем, которые рассматривались на симпозиуме, мне бы хотелось говорить сегодня не столько об этих специальных разработках и исследованиях — о многих из них я уже детально докладывал на лабораторном семинаре, — сколько о тех общих ощущениях, тревогах и заботах, которые я вынес из встреч с нашими зарубежными коллегами. Какие же это ощущения?
Мы стоим сегодня на пороге великих открытий. Готовы ли мы к ним? Искусственный интеллект, генная инженерия, управление наследственностью, возможность мощного воздействия на психику, на память, на мозг человека… Что принесет все это?.. В состоянии ли мы уже сегодня оценить и осознать последствия этих открытий?..
Не выпустим ли мы джиннов из бутылки, которые выйдут из-под нашей власти? Вот о чем мы немало говорили в кулуарах симпозиума.
Сейчас я позволю себе прочесть небольшую выдержку из одного — весьма популярного — зарубежного журнала. Вот она, эта цитата, вслушайтесь в нее внимательно:
«В наше время, когда мы уже не можем рассчитывать на успешное применение оружия массового уничтожения ввиду опасности нанесения ответного удара, когда такой давний, проверенный способ решения человеческих споров, как война, кажется, и впрямь может уйти в прошлое, когда все большее значение приобретает война идей, идеологическое влияние на умы людей, мы должны искать средства массового воздействия на психику людей, на их память — иначе говоря, место оружия массового уничтожения, место ядерных бомб, на наш взгляд, должно занять другое — невидимое, неосязаемое — оружие: оружие массового, тотального воздействия на психику. Именно оно, в конечном счете, может решить исход нашего соперничества, исход бескровной борьбы. Диапазон действия такого оружия может быть необычайно широк: от внушения чувства подавленности, беспокойства, беспричинной тревоги до полного разрушения памяти, до превращения больших человеческих скоплений в бессмысленное, неуправляемое стадо…»
Можно было бы, конечно, не обращать внимания на эту статью, не придавать ей существенного значения, если бы мы с вами не знали, что подобные работы тайно, а порой и явно уже ведутся за рубежом: то и дело сведения о таких экспериментах просачиваются в печать, всплывают. Достаточно вспомнить опыты на людях с применением ЛСД, которые финансировало американское разведывательное управление. Последнее время об этом немало писали. И хотя с научной точки зрения такие эксперименты, не говоря уж об их полной аморальности, не выдерживают никакой критики: пытаться воздействовать на психику человека с помощью такого разрушительного препарата — это примерно то же самое, что рассчитывать повлиять на процессы, протекающие в электронно-вычислительной машине, с помощью лома и топора. Да еще к тому же если бить топором куда попало, наугад. И тем не менее мы, ученые, не имеем права закрывать глаза на то обстоятельство, что такие эксперименты проводятся, такие работы под покровом секретности ведутся. Японский профессор, показавший мне статью, которую я только что цитировал, говорил об этом со смятением и тревогой. Неужели человечество погружается в пучину безумия, алчности и жестокости? Неужели добро и человечность бессильны? И планета людей катится к, своему самоуничтожению? И не роковая ли ошибка и вина науки в том, что она дает в руки человеку, еще так недалеко ушедшему от дикости и варварства, столь страшные возможности?
Он, этот японский профессор, спросил меня: «А как вы, советские ученые, относитесь к подобной угрозе, нависшей над миром?» Я ответил, что лично я, опираясь на собственный опыт, опираясь на опыт моей страны, верю в человеческий разум, верю в его силу, верю в победу разумного начала. Но она, эта победа, не придет сама собой. За нее надо бороться, ради нее надо работать. Всем вместе, сообща.
Я верю в будущее, сказал я.
Да, товарищи, может быть, это и покажется странным, но именно теперь, когда меня, глубокого старика, вроде бы меньше всего должно волновать, что будет там, впереди, когда мне осталось каких-нибудь пять, ну в лучшем случае семь-восемь лет пребывать в этом прекраснейшем и трагичнейшем из миров, я все чаще, все с большим волнением думаю о будущем. О человеке будущего. По сути дела, человечество действительно еще только-только начало свой путь из тьмы невежества, голода, болезней, вражды к свету, человечности, гармонии. Я не знаю, как это произойдет, но убежден, что человек сумеет победить страх перед смертью, сумеет ощутить свое бессмертие. И память призвана сыграть тут не последнюю роль.
Да, путь к бессмертию мы должны искать не в бесконечном продлении человеческой жизни, а в коренной перестройке психологии, мироощущения человека.
Ведь каждый из нас является лишь составной частью, малой частицей единого организма, единой беспрерывно развивающейся, совершенствующейся системы, называемой человечеством. Я подчеркиваю — совершенствующейся! И вот если представить себе, что человечество — это единый, гигантский организм, единая с и с т е м а, состоящая из бесконечного множества ячеек, одни из которых отмирают, а другие рождаются, возникают, если представить, что среди них есть и своего рода раковая опухоль — например, фашизм, память о котором тоже хранится, как память о жестокой болезни, опасной, смертельной угрозе для всего организма, всей системы, если представить, что система эта саморегулируется и именно память наша — память каждого человека в отдельности и всего человечества в целом — служит тем средством, тем инструментом, которые руководят этой саморегуляцией, — если представить себе все это, то можно будет сказать, что память — это бессмертие человечества. И память каждого из нас — это словно малая ячейка в огромной системе общечеловеческой памяти, хранящей и передающей опыт ушедших поколений. Вот если понять это, почувствовать, если задуматься над этим… — голос Архипова как-то странно дрогнул. — Если ощутить себя частицей этого единого целого, этой непрерывной цепи…
И вдруг в тишине зала не громко, но отчетливо прозвучал голос Перфильева:
— Монизм вселенной, или Как всех научить радоваться…
Перфильев сидел на сцене, на месте председательствующего, неподалеку от трибуны, за которой стоял сейчас Архипов, и Архипов сразу обернулся к нему.
— Что вы сказали, Анатолий Борисович?
— Я сказал: «Монизм вселенной, или Как всех научить радоваться». Была такая работа у Циолковского.
— Вы напрасно иронизируете над Циолковским, Анатолий Борисович. И вообще, вот мой совет: никогда не иронизируйте над идеями, которые сегодня вам кажутся безумными. Именно эти идеи впоследствии могут оказаться самыми пророческими, самыми гениальными. Это я, разумеется, не о себе. Я о Циолковском.
— Я понимаю, — чуть склонив голову набок, сказал Перфильев.
Словно мгновенный электрический разряд прошел по залу. Почувствовала его и Леночка Вартанян. Конечно, всей душой она была за Ивана Дмитриевича, заключительная часть его речи глубоко тронула, взволновала ее, и тот факт, что кто-то мог решиться перебить с а м о г о Архипова, казался ей невероятным, непостижимым, едва ли не кощунством. Но вместе с тем она не могла не признаться себе, что та легкость, даже изящество, уверенная насмешливость, с которой бросил свою реплику Перфильев, его спокойная холодность, не дрогнувшая под обращенным на него взглядом Архипова, вызвали в ее душе смутное, невольное восхищение, как вызывали порой еще в детстве тайное восхищение дерзкие поступки ее подруг-одноклассниц, на которые она сама никогда бы не решилась, которые были для нее абсолютно запретными.
— Естественно, — продолжал Архипов, — кое у кого может возникнуть недоумение, как оно возникло, я чувствую, у глубоко уважаемого мною Анатолия Борисовича: зачем я сейчас говорил все это? При чем здесь бессмертие, человечество и прочие высокие понятия? Какое все это имеет отношение к тому, что мы делаем, к той повседневной работе, которую ведем в своих лабораториях, к тем экспериментам, которые ставим?.. И верно — какое? Я бы ответил так: когда каменщик занят кладкой стены, он не должен, да и не может держать перед глазами весь дом, всю постройку, он видит только свой ряд кирпичей, ему совершенно незачем поминутно вскидывать голову и осматриваться по сторонам. Мы, в общем, те же самые каменщики. Каждый из нас ведет свою кладку, свой ряд. Но все же стоит хотя бы иногда поднять голову и окинуть взглядом все здание, попытаться себе представить, что же вырастет там, где еще так недавно был пустырь… Вот, пожалуй, и все, что я хотел сегодня сказать…
Весь этот день, уже вернувшись к себе в лабораторию, Леночка Вартанян находилась под впечатлением этих последних слов Архипова.
«Как хорошо, как точно он сказал», — восторженно думала она. И та работа, которая уже начинала надоедать ей, которая казалась, да и была на самом деле чисто технической — ну что за интерес разносить по карточкам результаты чужих исследований! — теперь вдруг приобретала в ее глазах совсем иной, куда более значительный смысл.
Она ловила себя на том, что думает о Глебе Гурьянове. В тесноте конференц-зала она видела его лишь издали, отчего-то после семинара он не подошел к ней, исчез, а ей хотелось теперь именно с ним поделиться своими впечатлениями от выступления Архипова. Она надеялась увидеть Гурьянова в институтском буфете, но его не оказалось и там.
— Что это вы, Леночка, все по сторонам поглядываете? — шутливо спросила Вера Валентиновна и погрозила ей пальцем. — Поклонника своего высматриваете? Знаем, знаем уже ваши тайны…
— Да нет… я просто… — Леночка растерялась, залилась румянцем.
— Да вы, Леночка, не смущайтесь, — сказала Вера Валентиновна. — Гурьянов стоит того, чтобы им увлечься. Только мой вам совет: будьте осторожны, не теряйте голову. Он ведь человек закомплексованный, с вывертами. Биография у него сложная…
Она явно ждала, чтобы Леночка спросила: «Как — сложная? Почему?» И Леночка спросила, не удержалась.
— А вы не знаете? Он вам ничего не говорил? Ну как же… Он же был в заключении.
— Он? В заключении? Что значит — в заключении? — недоуменно спросила Леночка.
— «В заключении» — это и значит «в заключении», — не без удовольствия пояснила Вера Валентиновна. Впрочем, в той старательной добросовестности, с которой она просвещала сейчас Леночку Вартанян, вовсе не было злорадства. Единственное, что доставляло ей радость, — это возможность и тут продемонстрировать свою полную осведомленность. — В тюрьме, другими словами.
— Гурьянов? — поразилась Леночка, еще не веря тому, что услышала. — В тюрьме? Да за что же?
— Этого уж я не знаю, — сказала Вера Валентиновна. — Но, кажется, что-то серьезное у него было, чуть ли не попытка убийства… Впрочем, это старая история, давняя… Да вы ешьте, Леночка, ешьте, а то сосиски у вас совсем остыли!..
Какое там — ешьте! У Леночки и аппетит пропал. Хорошо хоть, внимание Веры Валентиновны целиком переключилось на соседний столик, за которым Аркадий Ильич Стекольщиков, возбужденно поблескивая очками, энергично наседал на Геннадия Александровича Калашникова:
— …нет уж, извольте тогда все стороны рассматривать, верно я говорю, Геннадий Александрович?.. Хорошо, допустим, на меня мало ссылаются зарубежные авторы — так меня, откровенно говоря, это и не волнует… У меня цели другие… Не хочу хвалиться, но мои работы в жизнь внедряются, в практику, практическое значение имеют… Мне под заграницу незачем подлаживаться… Но это я так, к слову… Дело, разумеется, не во мне… Я, считайте, дорогой Геннадий Александрович, свое уже отжил… Дело в принципе…
Леночка для вида еще потыкала вилкой в тарелку и пошла к себе в лабораторию. Смятение царило в ее душе.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Сразу после семинара Перфильев не пошел к себе в кабинет, а отправился в лабораторию. Всего два лестничных пролета отделяли его кабинет с табличкой «Заместитель директора», с тихо жужжащим на столе телефоном от лабораторных комнат, два лестничных пролета — тридцать две ступеньки, но всякий раз не мог он не испытать чувства, что попадает совсем в другой мир.
Еще идя по коридору, он слышал тонкий характерный звук — это работала центрифуга, выдавала свои стремительные обороты. Вот она замерла, остановилась, звук оборвался. Сейчас Костя Федоров, младший научный сотрудник, без пяти минут кандидат наук, такой же заядлый горнолыжник, как сам Перфильев, любитель Фолкнера и Булгакова, потенциальный обладатель кооперативной квартиры, одним словом, человек вполне от мира сего, вынет из центрифуги пробирку, в которой, точно в странном слоистом коктейле, разделенные раствором фенола, будут угадываться мысленным взглядом исследователя РНК и ДНК. Костя поколдует над пробиркой и отправит ее обратно в центрифугу. Обычная, будничная, долгая работа. Сколько таких пробирок прошло через руки самого Перфильева — не сосчитать. Но все равно до сих пор отлично помнил он то чувство, которое испытал, когда впервые за тонким стеклом пробирки увидел слабый осадок. Неужели этот осадок и содержал основу основ всего живого — таинственную ДНК?.. Неужели здесь, на дне пробирки, которую он, Перфильев, как ни в чем не бывало, держал в руках, находился тот незримый код, без которого не может возникнуть ничто живое?.. Никогда еще так не ощущал он могущество науки, как в эту минуту. Никогда еще так полно не испытывал своей причастности к этому могуществу.
В комнате, соседней с той, где работал Костя Федоров, лаборантка Тамара возилась с мышами. Мыши уже были разделены на две партии — опытную и контрольную.
Перфильев присел рядом с клеткой, где помещались зверьки, отобранные для эксперимента, постучал ногтем по прутьям клетки. Мыши забегали, забеспокоились, поблескивая глазами-бусинками.
— Анатолий Борисович, — спросила Тамара, — а что, правда у Циолковского такая работа есть?
— Есть, Тамара, есть, — сказал Перфильев.
— И так называется: «Как всех научить радоваться»?
— Так и называется.
— Интересно! Никогда бы не подумала, что Циолковский о таких вещах писал…
Перфильев не отозвался. Час назад в конференц-зале он вовсе не был намерен ни задеть, ни тем более обидеть Архипова. Реплика возникла мгновенно — словно сработал какой-то рефлекс, как срабатывает он у фехтовальщика или боксера. Однажды, когда Перфильев еще был студентом, произошел такой случай. Было это в спортивном зале. Занятия то ли еще не начались, то ли уже закончились, и Перфильев стоял, о чем-то задумавшись, и вдруг рухнул, полетел со всего размаха на мат. Он вскочил в ярости, но тут же его обхватил за плечи однокурсник, самбист Яша Пушкин, захохотал радостно: «А ты не расслабляйся! Не расслабляйся! Ладно, старик, не обижайся, уж больно заманчиво ты стоял, не мог я удержаться от подсечки…» Вот что-то подобное произошло сегодня во время семинара. Впрочем, вряд ли Архипов обиделся. Старик всегда умел ценить хорошую шутку, остроумный выпад, даже если в нем и ощущалась малая толика яда… А яд, конечно, был, нечего уж тут кривить Перфильеву душой перед самим собой же.
— Анатолий Борисович! Когда будем делать инъекции? — Это Лариса Черных, аспирантка Перфильева. Вид деловой, озабоченный, стремительный, полы халата развеваются, и вопрос свой задала с самого порога, словно и верно знает цену времени, а сама только что в коридоре с девочками тараторила, даже не заметила, как Перфильев прошел мимо. И что обсуждают? О чем говорят?.. Однако руки у Ларисы, надо отдать должное, золотые — электрод ли ввести, микроскальпелем ли поработать — самую тонкую работу поручает ей Перфильев.
— А у вас все готово?
— Все, Анатолий Борисович.
Мыши опять забеспокоились, засуетились, быстро перебирая лапками, точно почувствовали, что речь идет о них, точно угадывали уже, что сейчас им предстоит послужить науке.
Перфильев молча разглядывал их.
Перенос памяти… С тех пор как Мак-Конелли провел свои знаменитые эксперименты на плоских червях, пожалуй, ни одна другая проблема не порождала стольких споров, различных толкований и трактовок, прямо противоположных выводов. И сам Перфильев, поставив уже немало серий опытов, так и не мог с уверенностью присоединиться к какой-либо определенной точке зрения. Слишком большой разброс результатов давали эксперименты, слишком нечетко прорисовывались закономерности… Во всяком случае, Перфильев предпочитал не торопиться с выводами. В этом отношении он был беспощаден и к себе, и к другим.
Что в действительности получают подопытные мыши, когда им вводится экстракт мозга их погибших собратьев? Информацию о навыках, которые получили их предшественники? Или всего лишь некий стимулятор, облегчающий обучение?..
— Ну что ж, давайте начнем, — сказал Перфильев.
Погрузившись в работу, Перфильев почти не думал о жене, о Гале. Точнее — мысленно он уже назначил себе срок, определил время, когда позвонит в клинику, и таким образом как бы провел черту, рубеж, отгородил себя от этих мыслей. Он не любил ломать голову над тем, что был бессилен изменить.
— А что, Анатолий Борисович, как вы думаете, — сказала лаборантка Тамара, — мыши бывают способные и неспособные?
— Думаю, что бывают, — ответил Перфильев.
Наивный Тамарин вопрос на самом деле вовсе не был так уж наивен. Он давно занимал и самого Перфильева. Ведь индивидуальные свойства животного неизбежно оказывают влияние на результаты опытов.
— Бывают, — повторил Перфильев. — Но скоро не будут. У нас, по крайней мере.
— Это почему же?
— А мы, Тамара, скоро наладим производство мышей, так сказать, поточным методом. Из одной и той же клетки по четыре мыши, и все абсолютно одинаковые, все — точные копии, и так без конца, сколько угодно… Я серьезно говорю. Это же идеальный материал для экспериментатора.
— И все равно наши мне больше нравятся, — сказала Тамара. — Я их уже различать начинаю. А то все одинаковые… бр-р-р… Я потому и фантастику, Анатолий Борисович, не люблю, что там всякие такие вещи описываются. Так ведь и людей можно… одинаковых… Я читала где-то…
— Все можно, Тамара, — сказал Перфильев, посмеиваясь, — все, как говорится, в наших руках… Человек не остановится, пока весь мир на свой лад не переиначит. Тут, Тамара, никакие запреты не помогут…
…Ровно в три часа Перфильев поднялся к себе в кабинет, набрал номер клиники.
— Скажите… Перфильева Галина Васильевна…
— Когда поступила?
— Сегодня утром.
В трубке послышалось шуршание, потом тот же голос спросил:
— Как вы сказали — фамилия?
— Пер-филь-е-ва.
— Сейчас, минуточку.
Что-то не понравилась ему эта пауза. Опять голос в трубке:
— Говорите, утром поступила?
— Да, утром.
И опять шуршание, и отдаленные, тихие голоса переговаривающихся между собой людей. Да что, нарочно, что ли, испытывают они его терпение!
— А вы ничего не путаете, гражданин? У нас нет такой.
— Да как же нет! — возмутился Перфильев. — Я сам утром оставил ее у вас. Перфильева Галина Васильевна. Посмотрите получше!
— Вы голос не повышайте. Сейчас все выясним. Позвоните минут через десять.
Путаники! Сидят там, в трех с половиной бумажках разобраться не могут! Ничто так не было противно натуре Перфильева, ничто не вызывало такого возмущения, как нечеткость, безалаберность, отсутствие подлинного профессионализма в работе.
Он сердито положил трубку, и аппарат — будто только и ждал этого момента — сразу отозвался слабым жужжанием.
— Алло, я слушаю, — сказал Перфильев.
— Толя, это я.
— Галка, ты? — обрадованно откликнулся Перфильев. — Тебе, что, передали, что я звонил? Ну что у тебя?
— Толя, ты только не сердись… — виноватые жалобные нотки звучали в ее голосе.
— А что произошло? Ты где? Ты откуда звонишь?
— Я — из автомата. Я здесь, напротив вас, в скверике.
— Но почему? Что все-таки случилось?
— Толя, я сбежала оттуда. Выйди на минутку, я тебе все расскажу… Только не сердись на меня, слышишь? Не сердись…
Так уж приучил он ее, что даже сейчас не решалась Галя прийти сюда, подняться в его служебный кабинет. С самого начала он сказал ей: я не хочу, чтобы сотрудники заставали меня в рабочем кабинете, в рабочее время за выяснением семейных отношений. Это неэтично. Таков мой принцип, и давай соблюдать его, я не люблю нарушать свои принципы.
— Толя, ты почему молчишь? Ты рассердился?
— Рассердился, не рассердился — какое это теперь имеет значение, — сказал он упавшим голосом. — Ты хоть сама-то понимаешь, что сделала? — И, не дождавшись от нее ответа, добавил: — Хорошо, подожди немного, я сейчас выйду.
В сквере в этот осенний день было пустынно. Галя сидела в одиночестве на скамейке, приткнувшейся к голой кирпичной стене дома. Перфильев подошел, остановился с ней рядом. Галя подняла к нему свое бледное лицо.
— Ну что? — сказал он.
— Я сбежала оттуда… я не смогла… Да сядь ты, Толя, я не могу так с тобой разговаривать…
Перфильев вздохнул и послушно опустился на скамейку.
— Понимаешь, я подумала, я поняла — это же наш п о с л е д н и й ребенок… И еще я вдруг почувствовала… я даже не знаю, как передать это чувство… он же так беззащитен, он ведь еще ничто, у него нет иной защиты, кроме меня, матери… а я сама, своими руками…
— Погоди, погоди, Галя, — как можно спокойнее, рассудительнее сказал Перфильев. — Ты разговариваешь со мной так, будто это я не хочу ребенка, будто это я против… А я ведь, может, не меньше твоего хотел бы, чтобы у нас был ребенок…
— Правда, Толя? Ты правду говоришь? — Она взглянула на него с надеждой, словно то, что она услышала, сейчас, было для нее открытием. А ведь сто раз он повторял ей одно и то же, те самые слова, которые произнес только что, сто раз. — Толя, если ты меня не обманываешь, е с л и и т ы х о ч е ш ь, тогда все будет хорошо. Вот увидишь, ничего не бойся: все будет хорошо — я т а к ч у в с т в у ю.
— Да что значит — чувствую! Мы же с тобой не первобытные люди, Галя! Тебе врачи что сказали?
— Да мало ли что они скажут! А я вот чувствую: все хорошо будет.
— Это не разговор, Галя. Мы ведь с тобой биологи, мы должны смотреть на такие вещи здраво, разумно.
— А я не хочу разумно! Мне опротивела эта твоя разумность! Надоела! Могу я хоть раз в жизни позволить себе неразумный поступок?!
— Не знаю, — сказал Перфильев. — Думаю, что не можешь. Тебе не кажется, что в данном случае ты поступаешь просто безответственно? Эгоистично — если угодно? Тебе, видишь ли, не хочется! И ты больше ни о чем уже не думаешь. Ни о последствиях, ни о чем… Ни о судьбе ребенка, в конце концов. А если ребенок родится…
— Не надо! Не надо! — испуганно вскрикнула Галя и с суеверным ужасом закрыла ему рот ладошкой. — Только не говори так! Нельзя так говорить!
— Ну да, ну да, — сказал Перфильев. — Старый, испытанный способ, проверенный еще дикарями: если не хочешь иметь дело с нечистой силой, не говори о ней. Или еще лучше — спрячь голову в песок. Нет, Галя, с наследственностью не шутят. Ты сама это знаешь, не мне тебе это объяснять. Ты бы хоть в генетическую консультацию сходила, что ли, посоветовалась. Ты же образованный, культурный человек, Галя, а ведешь себя, как…
— Да к чему мне эти твои консультации, Толя, когда я и так знаю: о н в тебя будет. Такой же умный, маленький Перфильев. Слышишь? Я точно знаю.
— Откуда же ты знать можешь, Галя?
— Я иногда даже думаю, — продолжала она, словно бы не слыша Перфильева и переходя почти на шепот, — пусть я умру, но ребенок-то мой останется, м о й ребенок, м о я жизнь… Он ведь с тобой будет! Ну скажи, Толя, «да»!
Все, что было рационального в натуре Перфильева, восставало сейчас против того, чтобы согласиться с Галей. Спроси в подобной ситуации у него совета кто-нибудь из друзей, и он бы, не колеблясь ни секунды, категорически сказал: «Нет, ни в коем случае». Так как же мог он сказать «да» Гале, жене своей, самому близкому человеку! На что он обрекал ее?..
Но в то же время в ее убежденности, в той страсти, с которой уговаривала она его, было нечто такое, перед чем он невольно пасовал и терялся.
Когда-то, когда Перфильев еще только ухаживал за ней, ему казалось: нет ничего проще подчинить себе эту девушку, почти девчонку, дать ей свой опыт и свое знание жизни, направлять ее, вылепить из нее сильную и разумную женщину, которая была бы ему верной помощницей в трудную минуту. Но ее слабость оказалась обманчивой, это была слабость травы, которая остается травой даже под асфальтом и упорно пробивается сквозь его трещины. Галя постоянно ставила его в тупик своими поступками, лишенными, казалось бы, всякой логики, своими всплесками отчаяния и радости, слез и любви. С его точки зрения поведение ее было почти непредсказуемо. И сейчас — казалось, она знала что-то такое, чего не знал он. Словно помимо всех так хорошо известных ему, Перфильеву, биологических законов, законов генетики существовало еще нечто очень важное, открывшееся ей одной. Чего же тогда стоили все его знания, вся его ученость, если она, Галя, так легко могла пробить в них брешь своими слезами, своими лишенными разумных оснований доводами…
— Ну что ты решаешь, Толя?
— Да что мне теперь решать, — сказал Перфильев, не скрывая своего раздражения, — когда ты сама все решила… Видно, недаром говорится: одно к одному…
Но, даже произнося эту фразу, он все-таки еще не верил, что это — уже все, о к о н ч а т е л ь н о.
— А что, Толя, у тебя какие-то неприятности? — обеспокоенно заглядывая ему в лицо, спросила Галя.
— Да, — сказал он, вставая. — С Архиповым. Я вижу, с ним что-то происходит. А понять не могу, что.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Терентьев пришел к Георгию Степановичу Вартаняну днем в воскресенье.
Георгий Степанович в это время возился на кухне, гремел сковородкой, а Леночка, лежа на тахте, читала роман Сименона. Не было еще между ней и отцом полного примирения. И все — с того самого вечера, когда провожал ее Гурьянов.
Как кричал тогда на нее отец! Каких только обидных, оскорбительных слов не произносил! Пожалуй, никогда раньше, даже в минуты самых тяжких объяснений с ее матерью, не видела она отца таким. Леночка была потрясена, перепугана, подавлена. Приступ отцовского гнева казался ей почти необъяснимым — вот что было самое страшное. Уж слишком ничтожен, несоразмерен с этим гневом был повод. Ну, пришла поздно, ну, не предупредила, она и сама переживала из-за этого, но не такой же казни она заслуживала!..
А ночью отцу стало плохо. Леночка услышала, как он стонет, встала, чтобы подать ему лекарство, но он отказался — заявил, что сам вызовет «неотложку», что не хочет принимать помощь из рук такой равнодушной, бессердечной и жестокой дочери. Так и сказал, и все это — задыхаясь, страдая от боли, слабым, прерывающимся голосом. Леночка мучилась от ужасной несправедливости его слов и не могла ни возразить, ни возмутиться, потому что видела: тогда ему станет еще хуже. Она ушла к себе в комнату и плакала от тяжелой обиды, от страха за отца, от непоправимости всего случившегося.
Утром отец первым заговорил с ней, но был хмур, показывал всем видом, что вовсе не считает себя виноватым. Никогда не умел он признавать свою неправоту. Просто, наверно, не знал даже, как это делается. Так с тех пор, с того дня и тянулось у них — ни вражда, ни мир.
Дверь Терентьеву открыла Леночка. И, конечно, не сразу узнала, не сразу догадалась, кто это. У него было обычное, ничем не примечательное лицо, как будто нарочно созданное для того, чтобы растворяться, исчезать в толпе, среди десятков подобных же лиц.
— Не узнаете? — сказал он, снимая кепку и улыбаясь застенчивой, неуверенной улыбкой. — Я — Терентьев.
Не очень-то обрадовал Леночку этот визит. Она-то уже втайне надеялась, что Терентьев так и не объявится, так и не отзовется на отцовские призывы, и намерение отца предстать вместе с ним перед Архиповым так и не осуществится. Но вот пришел все-таки, появился.
Они обнялись с отцом, неумело поцеловались, по очереди ткнувшись друг в друга губами, и Терентьев сказал:
— Ну и задал ты мне задачку, Георгий Степанович! Голова разбухла. Слава богу, никогда раньше бессонницей не страдал, а тут третью ночь не сплю, все думаю. С Надеждой своей только о том и рассуждаем — чуть не перессорились вдрызг — честное слово!..
— Да ну? — засмеялся Георгий Степанович.
— Точно говорю.
— Она что, против? Не хочет, что ли, чтобы ты в институт обращался?
— Какое там — против! Наоборот. Гонит. Только я ведь ее знаю: она это из благородства своего. А сама ночью не спит — плачет. Я лежу, думаю, а она плачет. Да ты сам себя на ее место поставь — тридцать лет со мной прожила, шутка ли! Из темноты, можно сказать, вывела, нянчилась, как с ребенком, ты же сам все это знаешь, Георгий Степанович, а теперь — что, если меня к той, прежней, жизни потянет? Вот о чем она думает, не может не думать, вот из-за чего плачет. А мне говорит: «Иди, Коля, иди. Да как же ты еще раздумывать можешь? Тебе, может, никогда больше такого счастья, возможности такой и не выпадет. Спасибо скажи Георгию Степановичу, что о тебе сразу вспомнил…» Вот, понимаешь ли, какая задача с двумя неизвестными…
— Ну, а ты-то, ты-то сам что думаешь? — с явным волнением спросил Георгий Степанович.
— Я? Я что же… — неопределенно ответил Терентьев и замолчал, рассматривая свои руки. Руки у него были большие, сильные — со следами старой татуировки, с мозолями и шрамами, — наверно, всю историю его жизни можно было рассказать по этим рукам. И хиромантии никакой не нужно.
— Леночка, поставь-ка нам чаю, — сказал Георгий Степанович, явно радуясь тому, что присутствие третьего — постороннего человека — как бы само собой, естественным образом ведет к примирению с дочерью.
— Да нет, что вы, не беспокойтесь, — сказал Терентьев, опять застенчиво улыбаясь Леночке. — Я ведь ненадолго заскочил. Я лучше закурю, если можно…
Он вынул мятую пачку «Примы» и закурил. При этом сигарету он держал как-то странно — пряча в кулак.
— Вот ведь, — сказал он. — И памяти нет, а привычка осталась. Выходит, привычка сильнее. Или, видно, у рук своя память… Меня, знаешь, Георгий Степанович, тут недавно к Дню Победы в красный уголок в ПТУ к молодежи приглашали. Приходите, говорят, воспоминаниями своими о сражениях, в которых участвовали, поделитесь… Нам, говорят, ветеран нужен… Никак не хотели поверить мне. Ну хоть что-нибудь, говорят, вспомните, не может быть, чтобы вы ничего не помнили… Чудаки! Очень огорчились. Отыскали ветерана, и тот неудачный какой-то оказался…
Терентьев засмеялся.
— Ну вот видишь! — сказал Георгий Степанович. — А ты еще сомневаешься. Попытка — не пытка, спрос — не беда. Ну, даже если не получится, ты же ничего не теряешь…
— А если получится, Георгий Степанович? Вот в чем ведь вся загвоздка. Если получится? — повторил Терентьев с нажимом.
— Я тебя не понимаю, — сказал Вартанян. — Ты же сам говорил… Помнишь?
— Ну говорил, говорил, верно. Были такие моменты, когда, казалось, полжизни отдал бы за то, чтобы память ко мне вернулась. Как о чуде мечтал! Мучался оттого, что представлялось мне: там, в той жизни, может быть, что-то самое важное для меня осталось… Да и сейчас мучаюсь, что говорить, Георгий Степанович, до сих пор эта мысль мне покоя не дает…
Терентьев сделал паузу, затянулся сигаретой из кулака.
— А вот позвонил ты мне, прочел я эту статью — вроде бы ноги в руки и бежать мне надо в этот самый институт. А я боюсь. Страх меня взял. А что, как и правда сотворят они со мной такое чудо? Что там откроется мне в моей прежней жизни? А? Ты об этом подумал, Георгий Степанович?
Вартанян молчал.
— Я, к примеру, свою первую жену, прежнюю, не помню совсем. Знаю только по документам, что женат был, а кто она, что, как мы с ней встретились, как жили — ничего не помню, темнота полная. А теперь, что же, выходит, оживет все это, вернется?.. Так вот и кручусь всю ночь, не сплю: и так прикину, и этак… Получается, жизнь моя теперешняя вся может на слом пойти… А потом подумаю: да что же, выходит, это я от самого себя отказываюсь? От жизни своей прошлой прячусь? Вот, понимаешь ли, какая задача с двумя неизвестными…
Внезапно Терентьев с надеждой взглянул на Леночку:
— А вы что скажете, Елена Георгиевна? Что мне посоветуете?
— Я? — с некоторым даже испугом переспросила Леночка. — Я не знаю…
Почему не хватило у нее мужества сказать прямо: да бросьте вы мучаться, бросьте ломать голову, изводить себя сомнениями. Все, что наговорил, наобещал вам мой отец, еще вилами на воде писано. Нет в институте человека, кто мог бы сотворить это чудо. Или угадывала она, понимала в этот момент, что, какое бы решение ни принял сейчас Терентьев, на чем бы ни остановил свой выбор, для него все-таки необычайно важна эта неожиданно забрезжившая перед ним надежда, ему важно сознавать, что она есть, и если он откажется от нее, то сделает это сам, по собственной воле.
— Ну ладно, — сказал Терентьев, виновато усмехнувшись. — Что мне вас-то втягивать в свои заботы… Я, собственно, вот о чем хотел попросить: если Надежда моя будет что спрашивать, скажите, что был я в этом институте, ходил, только, мол, не сгодился я для них, не тот у меня случай… А то ведь она от меня так просто не отстанет.
— Значит, решил? — спросил Георгий Степанович.
— Решил, — все так же виновато усмехаясь, сказал Терентьев. — Поздно мне, Георгий Степанович, затевать эту музыку, поздно.
— Ну, смотри, смотри… — сказал Вартанян бодрым голосом, но разочарование и огорчение невольно обнаруживались за этими бодрыми интонациями. — Дело твое, как знаешь. Может, ты и прав. Я тоже в своей жизни кое-что предпочитал бы не вспоминать, — неожиданно добавил он с грустной многозначительностью.
Что он имел в виду? Уход жены, Леночкиной матери? Или намекал таким образом на Леночкину неблагодарность, на их недавнюю ссору?..
Только теперь, прощаясь с Терентьевым, Леночка вдруг заметила, что за время этого недолгого разговора лицо его словно бы претерпело удивительное превращение: оно уже не казалось ей больше лишенным всякой выразительности, ничем не примечательным повторением сотен подобных же ординарных лиц. Оказывается, у него был глубокий, печальный взгляд — умный и мягкий, и этот отсвет ума и печальной доброты ложился на все его лицо. А может быть, причина этой перемены заключалась в том, что теперь сама Леночка смотрела на него иными глазами?..
Но вот он машинально, ладонью пригладил свои редкие волосы, натянул, нахлобучил невзрачную кепчонку — будто шапку-невидимку надел — и сразу, еще даже не выйдя за порог их квартиры, еще стоя здесь, в передней, словно бы растворился, исчез в толпе…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
С Архиповым ч т о - т о п р о и с х о д и т — фраза эта, пущенная с легкой руки Перфильева, скорее не фраза даже, а ощущение, догадка, предположение, поползла по институту, возникая и повторяясь то в коридоре, то в библиотеке, то в институтском буфете. Что скрывается за этой фразой, никто, разумеется, толком не знал, объяснить не мог. Да и сила ее, привлекательность заключались как раз в таинственности, в намеке, в неопределенности. Говорили, будто Иван Дмитриевич закрылся в своем кабинете и даже близких сотрудников своих, даже Аркадия Ильича Стекольщикова принимает неохотно. Что он там делает, отгородившись ото всех, оставаясь один в кабинете, знала, наверное, одна только Маргарита Федоровна, но она ни в какие разговоры относительно Архипова ни с кем не вступала. Да к ней и не обращались с подобными вопросами, зная это ее неукоснительное правило, этот ее принцип. Говорили также, будто в эти часы, оставаясь в одиночестве, Архипов предпочитает даже не снимать телефонной трубки, но так это или не так — подтвердить опять же могла одна лишь Маргарита Федоровна. Еще рассказывали, будто был у него р а з г о в о р в горкоме с неким занимающим достаточно высокий пост лицом, но опять же о чем шел э т о т р а з г о в о р — никто не знал. Просто р а з г о в о р, и все. Были и другие сведения. Кто-то утверждал, что видел, как к Ивану Дмитриевичу в кабинет прошел некий человек, явно посторонний, не институтский, и с этим человеком Иван Дмитриевич имел долгую, едва ли не на полдня затянувшуюся беседу…
Одним словом, слухи были противоречивые, и возникали они вроде бы на пустом месте, вокруг мелочей каких-то, пустячков, и бродили потом по институту, будоража сотрудников, потому что само по себе появление этих слухов уже и свидетельствовало о том, что с Архиповым ч т о - т о п р о и с х о д и т.
Впервые эту фразу Леночка Вартанян услышала, конечно же, от Веры Валентиновны. Вера Валентиновна больше ничего не добавила, но все-таки в ее словах слышался намек на нечто такое, что будто бы уже было известно самой Вере Валентиновне, но что пока не следовало рассказывать остальным.
Однако Леночке было совсем не до разговоров. Завтра ей предстояло проводить эксперимент по заданию Мережникова, работать с испытуемым, и она готовилась к этой работе, подбирала слайды. Да и куда больше слухов об Архипове, которые никак ее не касались, Леночку занимали мысли о Глебе Гурьянове.
С Гурьяновым после того вечера, когда они торопливо простились на лестнице ее дома, Леночка больше не встречалась. Нарочно он избегал ее или так уж получалось случайно, что не пересекались их пути, — об этом оставалось только гадать. Да, может быть, и к лучшему это было. Как бы она повела себя теперь — после того, что узнала о нем от Веры Валентиновны? После ссоры с отцом? Ощущение непоправимости всего происшедшего не оставляло ее. Все, что было заложено в ее душу домашним воспитанием, привито ей с самого раннего детства, содрогалось и протестовало при одном слове «тюрьма», «заключение», «преступник». А отец! Что бы сказал отец, узнай он об этом! Лучше и не думать.
Но в то же время ее тянуло увидеть Гурьянова. Со стыдом и тайным страхом она вдруг обнаружила, что интерес ее к Гурьянову не только не исчез, а стал даже острее, напряженнее. Она страдала от своей непоследовательности, обвиняла себя в слабоволии, в испорченности, уже чувствуя, что, если Гурьянов не объявится и сегодня, она не выдержит и сама разыщет его. При этом она старалась уверить себя, что отношение ее к Гурьянову здесь ни при чем — просто ей надо поговорить с ним об Архипове. Ей любопытно знать, что скрывается за словами Веры Валентиновны, и Глеб — единственный человек, кто может ей объяснить, что именно происходит с Архиповым.
У Леночки вдруг появилась несвойственная ей раньше изобретательность. Путь в библиотеку проходил по коридору первого этажа, мимо лаборатории, где работал Гурьянов. И Леночка несколько раз за день бегала в читальный зал. Ее переживания, а точнее сказать — ее сердцебиение в эти минуты с наибольшей точностью можно было выразить графически с помощью синусоиды: вершина синусоиды, ее пик приходился, естественно, на тот момент, когда Леночка приближалась к двери, за которой работал Гурьянов. А потом — снижение, спад, нулевая отметка… И новая фаза — это обратный путь из библиотеки в лабораторию. Прямо хоть садись и вычерчивай кардиограмму.
Наконец Леночка набралась смелости и толкнула дверь, вошла. Гурьянов был на месте. Он сидел за столом над разостланной схемой и в задумчивости слегка пощипывал бровь. Слышал ли он, как она вошла? Во всяком случае, обернулся он не сразу, словно бы нехотя, с трудом отрываясь от своего дела. Но, обернувшись, увидев Леночку, вскочил моментально и молча пошел ей навстречу. Он был в том же черном рабочем халате, что и в прошлый раз, когда показывал ей свою лабораторию. Какой-то журнал, согнутый пополам, торчал из кармана халата.
— Что ж вы исчезли, вас совсем не видно, а еще обещали взять надо мной шефство, — сказала Леночка чуть капризно, как говорят избалованные дети. И сама внутренне ужаснулась игривой неестественности своего голоса.
— А я вам письмо собрался писать, — сказал Гурьянов.
— Письмо? Мне? — поразилась Леночка.
— Да, — сказал Гурьянов, словно не было в этом ровным счетом ничего удивительного. — Я уже три раза принимался…
— Ну и что же вы хотели мне написать?
— Что хотел написать? Вот напишу, запечатаю, наклею красивую марку… тогда узнаете… — сказал Гурьянов.
— Нет, так нечестно! — возмутилась Леночка. — Уж раз начали, так договаривайте. Признавайтесь немедленно. Слышите?
— Это непростой разговор, Лена, — становясь вдруг серьезным, сказал Гурьянов. — Да присядьте вы, чего ж мы стоим. И не оглядывайтесь каждую минуту на дверь, никто вас искать здесь не станет, и рабочий день уже кончается, чувствуйте себя свободным человеком…
Окна в комнате были зашторены черной бумагой, свет давала лишь настольная лампа под металлическим колпаком, и от этого невольно создавалось впечатление, будто сейчас уже глубокий вечер и институт затих уже, опустел. Только они вдвоем и остались в этой странной, похожей на аппаратную космического корабля, комнате…
— Помните, — продолжал Гурьянов, — я в прошлый раз вам про болевую точку мысль развивал, про тайну, которая, мол, есть в жизни у каждого? Так я ведь уже тогда с вами поговорить хотел, только не сумел, не решился… Я уже тогда одну вещь о себе должен был сказать… Дело в том, Лена…
Он словно сквозь кусты продирался, сквозь бурелом, к той единственной фразе, которую ему предстояло произнести.
— Это моей биографии касается… понимаете, Лена…
— Я знаю, — сказала она.
— Знаете? — быстро спросил Гурьянов. — Что вы знаете? Откуда?
— Ну… будто вы… — Леночка не могла подобрать подходящего слова. — Мне Вера Валентиновна сказала…
— Ах, черт! — В досаде Гурьянов ударил кулаком себя по колену. — Еще только ее не хватало! Ну и что же она вам сказала? Да не стесняйтесь вы, Лена, говорите прямо, какая теперь разница.
— Сказала… что вы были в заключении… Только она точно не знает, за что… А я не поверила. Правда, я и сейчас не верю, — она с надеждой взглянула на Гурьянова.
— Нет, Лена. Был. От этого никуда не денешься.
— Да за что же?! — воскликнула Леночка. — Что вы такого могли сделать? Вера Валентиновна на что-то ужасное намекала, но этого же не может быть!..
— Да, Лена, если одним словом ответить, слишком страшно, пожалуй, прозвучит, — сказал Гурьянов. — Я вам все объяснить должен, всю историю свою рассказать, если вы, конечно, захотите слушать…
— Захочу, — сказала Леночка отважно.
— Только история эта давняя и начинать ее нужно издалека… — сказал Гурьянов, словно все еще колеблясь. — Нет, вы правда готовы меня выслушать? У вас хватит терпения?..
— Ну что вы такие странные вопросы задаете! — отозвалась Леночка. — Я же сказала уже… Сколько будете рассказывать, столько и буду слушать.
— Ну, хорошо. Попробуйте тогда представить меня школьником, мальчишкой, восьмиклассником… Пятнадцатый год мне в то время шел. Вообразите себе интеллигентного, воспитанного, д о м а ш н е г о, одним словом, мальчика… Мы отчего-то привыкли все подобные эпитеты обычно как бы со знаком минус употреблять, особенно если они к мальчишке относятся… Воспитанный — так уж непременно маменькин сынок, отличник — так уж ябеда, подхалим, зубрила, интеллигентный — так уж очкарик, слабак, рохля, не иначе. Такой стереотип уже выработался. А я эти слова сейчас в их истинном, высоком смысле употребляю. Не был я ни рохлей, ни подхалимом, и маменькиным сынком, как мне кажется, не был, хотя маму свою любил и привязанности этой не стеснялся, не прятал, как некоторые подростки в этом возрасте. Впрочем, немалую роль и то играло, что на нашу тогдашнюю жизнь свой отпечаток война наложила. Так что каким бы домашним ребенком я ни рос, а хлебнуть пришлось всякого. Я, Леночка, ведь, поверите ли, первый раз настоящее пальто купил и надел, когда уже из заключения вернулся…
«Из заключения…» — мысленно повторила Леночка. А он произнес это слово привычно, мимоходом, не задержавшись, не споткнувшись на нем.
— …а так все в каких-то ватниках, в архалуке каком-то перешитом ходил. Такая тогда жизнь была. Всего третий год шел после Победы. Но не в этом дело. По натуре своей был я подростком довольно замкнутым, мне нередко приходилось оставаться дома одному, но одиночество никогда меня не тяготило — наоборот, оно как бы прибавляло пищи моему воображению. Читал я, конечно, в то время много и беспорядочно: от Достоевского до Шпанова — все, что попадалось под руку. И стихи уже сам пробовал писать. С этими своими стихами я и пришел однажды во Дворец пионеров, в литературную студию. Я не знаю, поймете ли вы меня, Лена, но для меня тогда началась особая, новая жизнь. Помните, у Хемингуэя — «праздник, который всегда с тобой». Точнее, чем этими словами, мое тогдашнее состояние не передашь…
Гурьянов замолчал, задумчивая улыбка выступила на его лице. Казалось, он прислушивался к чему-то. Леночка терпеливо ждала, не торопила его.
— Мы собирались во Дворце два раза в неделю и читали стихи, свои и чужие, и спорили иногда до тех пор, пока нас не выгоняли уборщица, гардеробщики или сторож, запиравший помещение. Вот оглядываюсь я теперь назад и вижу, что никогда больше уже я не жил такой возвышенной, такой одухотворенной жизнью, как в то время. Честное слово, я не преувеличиваю. Я даже думаю иногда, что, может быть, эта жадность к жизни, восторг перед ней, острота ее восприятия и были отличительной чертой нашего поколения. Мы же были д е т и в о й н ы. После четырех долгих военных лет, после тьмы, голода, страха, ожидания и потери близких мы словно бы из бомбоубежища вдруг вырвались навстречу теплу, жизни, свету и впитывали в себя эту жизнь каждой клеткой, каждой частицей своего существа…
Итак, два раза в неделю я возвращался из Дворца пионеров, я шел по вечерним улицам один, я мог думать, мечтать о чем угодно. Погода тогда вроде бы и не имела для меня существенного значения — как будто и не было вовсе ни сырых, ни дождливых, холодных и ненастных вечеров, все они оказывались одинаково хороши для меня, в каждом была своя привлекательность. Падал ли неторопливый снег, отражались ли огни в мокром асфальте — все вызывало в моей душе ответное движение. Сочинял ли я во время этих одиноких прогулок стихи? Не помню. Да собственные стихи, честно говоря, и не имели тогда для меня такого уж значения. Я бы, конечно, покривил душой, если бы сказал, что мне совсем уж безразлично было, что говорили о них в студии, но все-таки не это было главным. Не начни я сочинять стихи, я бы наверняка принялся писать рассказы, или рисовать, или играть на рояле, или записался бы в театральный кружок — для меня была важна сама атмосфера тех вечеров. К тому же я влюбился. Это была моя первая влюбленность, такая же чистая и возвышенная, как все мои тогдашние помыслы. Влюбленность, в которой я не смел признаться, так как считал себя малоинтересным, невзрачным человечком по сравнению с той, к кому было обращено мое чувство. Звали ее Юля. Это была девочка, моя ровесница, так же, как и я, ходившая в литературную студию. Но стихи ее, в отличие от моих, обладали тем, что называется, своим голосом, живой искрой, — ей даже предрекали тогда большое будущее, однако поэтессой она так, кажется, и не стала, во всяком случае я не встречал никогда ее имени в печати…
У нее были большие, черные, влажно поблескивающие глаза и румяные щеки. И вся она была плотненькая, крепко сбитая — кровь с молоком. Это, впрочем, пожалуй, уже мое теперешнее восприятие, тогда она, разумеется, виделась мне в несколько ином, более романтическом ореоле. Как бережно копил я в памяти каждое ее слово, каждый жест, каждую усмешку, а потом роскошествовал в одиночестве, заново перебирая, пересматривая все это свое богатство! Каких только поводов и предлогов я не придумывал, чтобы лишь проводить ее если не до дома, то, по крайней мере, до остановки трамвая! Сколько раз являлся я к Дворцу пионеров задолго до начала занятий и бродил где-нибудь поблизости, на Невском, только с одной-единственной целью — как бы невзначай встретить ее, пока она была одна, пока ее вниманием не завладели еще другие кружковцы!.. Странно, но при всем при этом мне отчего-то никогда не приходило в голову посвятить ей стихи, я даже не пытался никогда этого сделать — словно заранее знал, что любые подобные попытки окажутся бесплодными, недостойными Юли. Зато стоит ли говорить, что все ее стихи я знал наизусть! Иногда в задумчивости я и не замечал, как начинал шептать их, и тогда мама мне говорила, посмеиваясь: «Ты что, опять молишься?» А они и верно были для меня как молитва. Я до сих пор, поверите ли, некоторые строки помню, до сих пор меня волнение охватывает, когда я по Невскому иду мимо Дворца. Дома, конечно, несмотря на мамины прозрачные шутки, я ни о чем не рассказывал. Зато, когда я был один, когда шел из Дворца домой по осыпанным мелким дождем улицам, никто не мешал мне твердить Юлины строчки. Вы не сердитесь, Лена, что я так подробно рассказываю о моих тогдашних переживаниях, о состоянии моем тогдашнем — без этого, боюсь, я не сумею объяснить вам дальнейших событий. Но я уже подхожу к главному.
Дело в том, что моя жизнь вовсе не была так безоблачна, как это может показаться. Чуть ли не каждый день на мою долю выпадало испытание, одна мысль о неизбежности которого отравляла мне…
Гурьянов не договорил. Дверь шумно отворилась, и в лабораторию заглянула Вера Валентиновна.
— Ах, вот вы где, Леночка! — воскликнула она. — А я вас по всему институту ищу! Вас Иван Дмитриевич к себе вызывает…
— Иван Дмитриевич? Меня? — изумилась Леночка. — Зачем?
— А уж этого я не знаю. Мне не докладывали.
Леночка бросила быстрый взгляд на Гурьянова. И зачем это она могла понадобиться Архипову? И как неловко вышло, что в такой момент ее не оказалось на месте!
Беспокойство охватило Леночку.
— Бегите, бегите, — сказал Гурьянов. — И возвращайтесь. Я буду вас ждать.
Он не постеснялся произнести эти слова при Вере Валентиновне, и Леночка не знала — смущаться ей от этого, сердиться на него или радоваться…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
— К вам, Иван Дмитриевич, — сказала Маргарита Федоровна, и сразу вслед за ней, не дожидаясь особого приглашения, в кабинет вошел мужчина лет сорока — сорока пяти, с обветренным кирпично-красным лицом и мощной загорелой шеей, на которой не сходился воротник пестрой рубашки, так что узел яркого — голубое с оранжевым — галстука лишь прикрывал незастегнутую пуговицу.
Держался посетитель с легкой нарочитой развязностью и плохо скрываемым смущением, как держится обычно взрослый, серьезный человек, заглянувший в кинотеатр на заведомо детский, пустяковый фильм.
— Иван Иванович Безымянный, — представился он, крепкой, уверенной хваткой пожимая руку Архипова. — Как говорится, этим все сказано. Вся моя биография в этой фамилии и имени-отчестве. Можно и не рассказывать ничего больше. Точно?
— Нет уж, вы все-таки расскажите, — сказал Архипов, подмечая на левой руке вошедшего старую, неумело сделанную, наверняка еще детдомовскую татуировку. Четыре расплывчатые, кривые буквы: «Петр».
Архипов, медлительно двигаясь, вышел из-за своего огромного письменного стола и сел в кресло напротив Ивана Ивановича Безымянного.
— В моей биографии — сплошные предположения, товарищ профессор, — сказал тот. — Родился я вроде бы в тридцать восьмом году — так записано в моих документах. Вероятнее всего, в Ленинградской области, хотя это тоже предположительно. С конца сорок первого жил в детдоме в Башкирии, там и назван Иваном Ивановичем Безымянным. Потом, когда я стал старше, я пытался расспрашивать, узнавать, — по одним рассказам получалось, будто меня нашли, подобрали на какой-то станции, как я там оказался, один аллах ведает, по другим — будто просто привезли меня в эшелоне вместе с такими же, как я, детьми. Эшелон был из Ленинградской области. Вот, пожалуй, и все, что я о себе знаю. Как видите, негусто.
Он помолчал, беспокойно шевеля руками, не зная, куда их пристроить.
— Ну и чем же, вы считаете, мы можем вам помочь? — осторожно спросил Архипов.
— Да чем мне теперь поможешь! — сказал Иван Иванович. — Ничем, думаю. Извините, что время у вас отнял. Я бы и не пошел к вам — чего людей зря от дела отрывать, — если бы не ребята с моего участка. Прочли эту заметку в газете и пристали: пойди, Иван, да пойди, чем, мол, черт не шутит… Извините меня, конечно. А потому они так на меня навалились, что я им, знаете, рассказывал… Мне иногда кажется, будто я что-то помню… Ну, из той своей жизни… Как бы вам объяснить понятнее Вот, к примеру, бывает у вас, товарищ профессор, так, что слово будто вертится на языке, а припомнить его не можешь, знаешь, что известно оно тебе, точно знаешь, мелькает что-то в голове, кажется, вот-вот вспомнишь, а не выходит, не получается… Бывает так?
— Бывает, — улыбаясь, сказал Архипов.
— Так и со мной, похоже. Не память вроде даже, не воспоминания, а так… Как бы отблески памяти или, может, точнее выразиться — тени памяти… Иногда думаешь: лучше бы уж ничего не помнить, а так только мучаешь себя понапрасну…
— А что именно вы помните? — спросил Архипов. — Вы можете рассказать?..
— Ну… вот вроде бы речка… — смущенно сказал Безымянный. — И камень большой, теплый… Даже не знаю, как это объяснить… Я тут как-то в доме отдыха проживал летом на Карельском перешейке… Ну, пошли мы в лес, а там — поляна такая и валун лежит, на солнце. Я присел отдохнуть, ладонью камня коснулся, и вдруг — меня как поразило: да было это уже со мной, было! Или вот еще помню: паровоз гудит. Запах паровозный помню. Мне кажется, может, отец мой на железной дороге работал? Я до сих пор этот запах — запах шпал, масла смазочного, угля — как услышу, так сам не свой делаюсь, все в душе у меня переворачивается, честное слово! Мне говорят: не можешь ты ничего помнить, слишком мал был, это ты, значит, все потом напридумывал, навоображал. Я и сам иной раз сомневаюсь, не знаю… Я к вам потому и пришел, чтобы с точки зрения достижений современной науки вы ответ мне дали: могла в моей памяти хоть эта малость сохраниться или это все — чепуха, сплошная фантазия? Мне знать это важно. Возможно такое, товарищ профессор?
Он смотрел на Архипова с надеждой и тревогой, ждал, что тот скажет.
— Возможно, отчего же невозможно? — сказал Архипов и сразу заметил, как напряженность постепенно отпускает черты лица его собеседника и оно становится проще и добрее. — Во-первых, вы учтите такое обстоятельство: год вашего рождения, вы сами это сказали, может быть недостоверен, и вы перед началом войны, возможно, были несколько старше, чем это представляется вам сейчас. Это одно. А второе — наши самые ранние детские впечатления так или иначе — можем мы их припомнить или нет — все равно запечатлеваются в нашем мозгу, в нашем сознании, остаются с нами. И страх, и радость, испытанные нами в самом раннем детстве, и ласка, и боль — все это, я уверен, во многом определяет наше будущее, нашу взрослую жизнь, то, какими мы станем — добрыми или злыми, жестокими или отзывчивыми… Вот, посмотрите, Иван Иванович, что у вас в памяти, в ваших ощущениях сохранилось — пусть подсознательно, пусть обрывочно, смутно, зыбко, но сохранилось: речка, теплый камень, солнце, запах шпал, паровозный гудок… Я вот сейчас это все перечисляю, а на меня радостью так и веет, ощущением счастья, не правда ли? Вы тоже это чувствуете? Я почти с полной уверенностью могу сказать: у вас были хорошие, ласковые отец и мать… И начало, самое начало детства вашего было счастливым — это ведь тоже немаловажно знать, не правда ли?..
— Да, — сказал Безымянный. — Да. Я сейчас слушал вас, а сам словно бы их — родителей своих — видел. Я вам давеча неправду сказал: мол, будто бы лучше уж ничего совсем не помнить, мол, только мучаешь себя понапрасну. Не так это! У меня, может, дороже этих воспоминаний, речки этой, гудка паровозного, и нет ничего в жизни…
Он замолчал, словно застыдившись только что произнесенных слов. Молчал и Архипов.
— Я ведь пробовал искать своих родных. По радио объявления давал, да где там — разве отыщешь! Примет-то никаких. А все равно слушаю… Есть такая передача специальная по радио, по маяку — «Вестник розыска» называется. Вы не слушаете ее?
— Нет, — сказал Архипов. — Мне некого разыскивать.
— Там сотни людей друг друга ищут. Дети, потерявшие родителей, родители, потерявшие детей… Столько лет прошло, жизнь целая, можно сказать, а всё ищут, всё надеются… Я как послушаю, у меня сердце щемит… Вот слышу, к примеру: разыскивается Панкратов Михаил Леонидович, тридцать девятого года рождения, уроженец города Ленинграда, потерялся в сорок первом году в Калининской области, и думаю: а может, он, этот Панкратов Михаил Леонидович, и есть я? Как узнать? Кто я на самом деле? Кто? Мы же с матерью моей, если она жива, по одной улице можем пройти, в одном трамвае рядом можем ехать и не узнаем друг друга. Вот что меня мучает. Или правду говорят, что мать сына всегда узнает, сердцем почувствует?.. Мне на этот счет, когда я еще в армии служил, много удивительных историй рассказывали. Или, может, просто утешить хотели, обнадежить — не знаю… Я тут книгу одну недавно прочел. «Найти человека» называется. Писательницы Барто. Очень хорошая книга, жизненная. Так там, к примеру, случай рассказывается, будто девушка одна родных своих отыскала только потому, что помнила: до войны они рядом с баней жили… Но я-то даже такой мелочи, такой ерунды не помню, ничего…
Что заставляло этого далеко не юного уже человека, имевшего, вероятно, собственную семью, детей, с такой настойчивостью, с такой упрямой надеждой искать свою мать, своих родителей? Только ли тоска по неиспытанной материнской любви и ласке? Только ли нерастраченное чувство родственности?..
«Родители передают нам не только свою любовь, — думал Архипов. — Они передают нам еще и опыт прожитой жизни, п а м я т ь о тех людях и той земле, куда уходят наши корни. Порой нам это кажется не столь уж и существенным — ведь в молодости нередко лишь собственная жизнь представляется самой важной, единственной в своей исключительности… Но вот попробуй лишись этой памяти, оборви эту нить, разомкни эту цепочку, и ты сразу почувствуешь, чего ты лишился, что утратил. Мы почти не задумываемся над этим. По сути дела, только тот, кто лишен этой памяти, кому суждено стать б е з ы м я н н ы м, остро ощущает свою потерю…»
И вот что странно — чем более глубоким стариком становился Архипов, тем чаще думал он о своей матери. Когда-то, по глупой и торопливой наивности, свойственной молодости, казалось ему, что, чем дальше уходит человек от своего детства, чем глубже погружается в старость, тем неосязаемее, призрачнее должны становиться воспоминания о матери. Оказалось, наоборот. Только теперь по-настоящему понимал он, какую роль в его жизни сыграла эта женщина — его мать. Чем она была для него. Она обладала той скрытой от чужих глаз, почти ничем не проявлявшейся внешне гордостью, тем истинным чувством собственного достоинства, которые никогда не позволяли ей поступить не по совести. Обмануть, солгать, изменить своим принципам — это для нее значило унизиться, — унизиться прежде всего в собственных глазах. Она сохранила это достоинство до самой смерти. Уже опухшая от голода, умиравшая в огромной нетопленой квартире, она отказалась обменять золотые серьги на хлеб не потому, что жалела золото, и не потому даже, что серьги эти были памятью о муже, а оттого, что знала: человек, который предлагал ей хлеб, крадет его в госпитале. Когда сестра Архипова после войны рассказывала эту историю, не все верили ей — мол, блокадный голод ломал и не такие принципы. Но Архипов знал свою мать, и он верил.
— Вы все-таки не теряйте надежды, ищите, — сказал Архипов. — Случаи бывают самые поразительные…
Если бы у него у самого был хоть один-единственный шанс, хоть самая малая надежда, неужели бы не ухватился он за эту надежду? Разыскивается… разыскивается…
Разыскивается Архипов Дмитрий Иванович, двадцать первого года рождения…
Разыскивается Архипов Сергей Иванович, двадцать третьего года рождения…
Разыскивается… Но затерялись они на бесконечных полях войны, исчезли бесследно в нескончаемых пространствах времени. Ищи не ищи, зови не зови — не дозовешься…
Архипов тяжело, по-стариковски, с хрипом в груди вздохнул.
— Не знаю, — сказал он, — сумеем ли мы что-нибудь сделать для вас… Шансов, конечно, почти никаких, но попытаться можно… А вот скажите, Иван Иванович, я смотрю — что это у вас за татуировка на руке? Отчего — Петр? А не Иван, Ваня? Друг у вас такой был?..
— Да нет… — смущенно отмахнулся Иван Иванович. — Мальчишество это, глупость… Я, когда пацаненком был, очень не любил свое имя, не нравилось мне, что меня так назвали… Понимал же я, что не мое это, не настоящее… Вот и придумывал…
— Но почему все-таки — Петр? Почему не другое какое-нибудь?..
— Не знаю… — Безымянный пожал плечами. — Такая фантазия пришла в голову. Мало ли что пацану взбредет… Я, помню, даже дрался тогда, требовал, чтобы меня Петром звали. Потому и наколку эту сделал. Уже потом, знаете, товарищ профессор, я даже думал: может, в этом какой смысл был? Может, к примеру, моего отца Петром звали?.. Да только как проверишь — доказательств-то никаких нету… Ребячество одно…
— Ну что же… — задумчиво повторил Архипов. — Попытаться все-таки можно… Обещать ничего не обещаю, но загляните через недельку, я подумаю…
— Спасибо, товарищ профессор, — отозвался Безымянный. — Я и так вам благодарен. Поговорил с вами, и легче на душе стало. Спасибо вам.
Некоторое время после ухода Безымянного Архипов сидел неподвижно, задумавшись, потом протянул руку к телефону, набрал номер лаборатории Мережникова.
— Петр Евгеньевич? Если вас не затруднит, подошлите, пожалуйста, ко мне кого-нибудь из ваших сотрудников, кто посвободнее…
— Посвободнее? — переспросил Мережников. — Вот если Елену Георгиевну Вартанян? Это наша новая сотрудница. Как, вас устроит, Иван Дмитриевич?
— Хорошо, милости прошу, — сказал Архипов. — Передайте Елене Георгиевне, что я ее жду.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Назад, в лабораторию, где ее ждал Гурьянов, Леночка возвращалась под впечатлением от разговора с Архиповым. Впрочем, сказать «возвращалась» было бы не совсем точно. Она летела, едва касаясь паркета, вся охваченная стремлением побыстрее поделиться с Глебом своей радостью, своими переживаниями, в подробностях рассказать обо всем, что только что произошло в кабинете Архипова.
Когда Леночка робко переступила порог директорского кабине а Иван Дмитриевич что-то писал, низко склонившись над столом. Синтетический ковер тушил звук ее шагов, и она шла по кабинету бесшумно, почти невесомо. Архипов вскинул голову, когда Леночка уже стояла перед ним.
— Так вот вы какая, Елена Георгиевна Вартанян, — сказал он, с веселой доброжелательностью оглядывая ее.
Издали Архипов всегда казался ей строже, величественнее, что ли. А сейчас эту его строгость, эту величественность разрушала мягкая улыбка.
— Скажите, Елена Георгиевна, вы верите в чудеса? — неожиданно спросил он.
— Не знаю, — растерянно отозвалась Леночка.
— Надо верить, — сказал Архипов. — Обязательно надо верить в чудеса. Иначе становится скучно жить.
Леночка промолчала. Она не знала, что ответить. Да Архипов, кажется, и не ждал от нее ответа.
— Я намерен вовлечь вас в авантюру, в небольшой заговор, — сказал он. — Как вы на это смотрите?
Леночка улыбнулась неопределенно.
— Скажите, вы, конечно, знакомы с методикой экспериментальной работы? — спросил Архипов.
— Да. Существуют метод заучивания последовательностей, метод антиципации, метод парных ассоциаций… — Она отвечала, как на экзамене.
— Хорошо, хорошо, — остановил ее Архипов. — А работать с испытуемыми вам уже приходилось?
— Да, во время практики, — сказала Леночка.
— Дело в том, Елена Георгиевна, что я хочу попытаться помочь одному человеку. И мне нужна ваша помощь, — сказал Архипов. — Этот человек в раннем детстве потерял родителей, вернее потерялся…
И Архипов рассказал Леночке историю Ивана Ивановича Безымянного.
— Не нужно обольщаться, — сказал он. — Надежды практически нет никакой. И все-таки хочется попытаться. Надо так составить программу, так провести тестирование, чтобы вызвать у него ассоциации, связанные с детством, пробудить их. По некоторым деталям у меня создалось впечатление, что этот путь не абсолютно безнадежный. Вы меня поняли?
— Да, — сказала Леночка с воодушевлением, мгновенно загораясь желанием помочь человеку со странной фамилией — Безымянный.
— И наберитесь терпения, приготовьтесь к разочарованиям. Нам предстоит искать иголку в стоге сена, — сказал Архипов. — Когда составите программу, покажите мне. Понадобится совет — приходите, не стесняйтесь. Помните, что отныне мы состоим с вами в заговоре. И не обращайте внимания, если вам будут говорить, что старик Архипов впал в детство или что-нибудь в этом роде. Вам все понятно? Ну, тогда желаю успеха!..
Вот такой неожиданный разговор состоялся у Леночки с Архиповым. И торопливо, еще с порога начав пересказывать этот разговор Гурьянову, вся занятая собственными переживаниями, Леночка даже не сразу заметила, что за время ее отсутствия что-то изменилось в настроении Глеба, он помрачнел, ушел в себя.
— Ну вот и отлично. Поздравляю, — сказал Гурьянов, когда она закончила свой рассказ. — Это в духе Архипова. А теперь — по домам?..
— Как? — удивилась Леночка. — А ваша история? Вы же на самом важном месте остановились!.. Что было дальше?
— А, — Гурьянов махнул рукой. — Я тут уже ругаю себя. Зачем я затеял эту исповедь! Растрогать вас, разжалобить, что ли, хочу? Зачем вам все это?
— Ну нет! — сказала Леночка. — Так не пойдет. Садитесь и рассказывайте. Я слушаю. Я вон вам все рассказываю, а вы мне не хотите? Так нечестно.
— Ладно, — сказал Гурьянов. — В общем-то, нужно, конечно, чтобы вы знали. Так действительно будет честнее. Только… на чем я остановился?..
— Вы остановились на том, что ваша жизнь… в общем… не была так безоблачна…
— Да, верно. Тут-то и начинается главная часть моей истории. В то время мы жили в старом доме, в коммунальной квартире. Лестница наша выходила в дальний, внутренний двор — чтобы попасть туда, нужно было миновать подворотню, первый проходной двор, еще подворотню, еще двор и, наконец, еще одну подворотню… И всякий раз, приближаясь к этой подворотне, я весь сжимался от отвращения и страха — еще издали, в темном проеме я угадывал эти фигуры… Обычно их собиралось человек шесть-семь, предводитель у них был парень по прозвищу Мыло. Не знаю уж, откуда взялось это прозвище, — возможно, попросту от фамилии, но в нем, в его глазах, в повадках и правда было что-то скользкое, мерзкое. Когда он наступал, выкрикивая угрозы, рот его слюнявился, лицо перекашивала судорога, морщины стягивали небольшой лобик — он становился похож на невменяемого. За что они так ненавидели меня? Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Только за то, что я не был похож на них? Потому что чуяли, угадывали во мне чужого? В этом, может быть, была причина их ненависти? Я никогда не причинил им никакого зла, я не давал им поводов придраться ко мне — мне было нужно лишь пройти мимо них, и все. Другого пути у меня просто не было. Мой путь неминуемо лежал через эту подворотню. И они этим пользовались. Впрочем, Мыло мне был знаком давно — еще с тех пор, когда он крохоборил возле нашей школы. Тогда в школе выдавали на завтрак по маленькой булочке и, кажется, по пять граммов сахарного песку — такой крошечный газетный фунтик. Вот за этими завтраками, которые мы чаще всего относили домой, и охотились крохоборы. И Мыло был среди них. Может быть, оттого как раз, что я знал про его крохоборство, он и возненавидел меня? Так или иначе, но эта подворотня была настоящим источником ужаса, пыткой моей тогдашней жизни. Я целиком зависел от настроения этих парней — вот что было самое унизительное. Бывало, они пропускали меня, лишь лениво пугнув каким-нибудь устрашающим жестом и радостно загоготав вслед, но это случалось редко. Чаще они не давали мне пройти, они окружали меня, и Мыло обшаривал мои карманы. Даже сквозь материю я чувствовал своим телом его цепкие, потные пальцы… Однажды я попробовал сопротивляться, они избили меня — причем двое держали за руки, а Мыло бил меня по лицу своей потной, грязной ладонью. С тех пор они уже не пропускали меня без того, чтобы не придумать какое-нибудь особо изощренное, унизительное издевательство. Что я мог поделать? Как защититься? Рассказать родителям? Но вмешайся в эту историю родители, и, я уверен, мои преследователи наверняка нашли бы способ отомстить мне еще более жестоко. Кроме того, у моего отца были свои, совсем иные представления о законах дворовой жизни и мальчишеской чести. «Что ты за мужчина, если не можешь сам себя защитить!» — обычно любил повторять он. Мать же умоляла меня ни с кем не связываться. «Лучше уступи, только не связывайся — им же ничего не стоит и ножом пырнуть, на всю жизнь инвалидом останешься». В общем-то, она была ближе к истине, чем отец. Близких друзей — таких, кто бы мог за меня заступиться, — в школе у меня не было. Да и кто бы стал, кто бы решился связываться с этой шайкой? Что мне оставалось? Только терпеть и надеяться, что рано или поздно Мыло исчезнет и тогда, может быть, распадется вся их компания. Иногда случались такие счастливые для меня дни, когда их не оказывалось в подворотне, путь был свободен. С каким облегчением я пробегал тогда эти несколько метров! Но на следующий день Мыло и его дружки опять были на своем посту, и сердце мое опять сжималось в ожидании очередной пытки…
Может быть, я бы не воспринимал всю эту ситуацию так болезненно, если бы не существовало той — второй, возвышенной стороны моей жизни. Что значили все мои высокие рассуждения, все мои мечты и помыслы, если я оказывался так беспомощен перед грубой и низменной силой? А Юля? Какими бы глазами она взглянула на меня, узнай о моем постоянном страхе и унижении?.. И так уже мне казалось: я постоянно ношу на своем лице след от липкой, потной ладони…
Помните, Лена, я вас в тот вечер по с в о и м улицам водил? Я ведь нарочно проверить хотел — думал: прошло, забылось. А оказывается, нет, какое там — забылось! Живо, все живо… Да, может быть, вам и неинтересно слушать? — спохватился вдруг Гурьянов. — Может быть, замучил я вас?
— Нет, что вы! — сказала Леночка. — Я очень хорошо вас понимаю. Вы так рассказываете, что мне кажется — будто со мной это было…
— А тут еще в моей жизни произошло из ряда вон выходящее событие. Юля сказала, что придет ко мне в гости. Теперь-то я понимаю: хотя я и был тогда уверен, что очень искусно маскирую свои чувства, Юля, конечно, давно уже догадывалась о них. И мое молчаливое преклонение перед ней, моя верность, вероятно, не могли не вызвать у нее если не ответного чувства, то, по крайней мере, интереса ко мне. Не помню уже, какой нашелся предлог, только слово было произнесено, время назначено: понедельник, семь часов вечера. Что испытал, что пережил я в тот день! Я стоял у окна нашей комнаты и молил судьбу, чтобы Мыла и его шайки не оказалось в подворотне в тот момент, когда Юля пойдет ко мне. Но я знал: они там. Мне не было видно их, но голоса их, смех отчетливо доносились до меня. Да если бы я даже не слышал этого смеха, я бы все равно ощутил, почувствовал их присутствие — так напряжено было все мое существо. Стрелка приближалась к семи. Сердце мое разрывалось — я не знал, что делать. Конечно, мне следовало встретить Юлю. При одной только мысли, что она, как сквозь строй, будет вынуждена пройти через эту подворотню, мне становилось не по себе. И в то же время — чем я мог помочь ей? Выйди я сейчас на улицу, окажись рядом с Юлей в этой подворотне, и Мыло не упустит возможности сделать какую-нибудь гнусность. Нет, не драки я боялся, не кулаков их, не боли и крови — все это я перенес бы, вытерпел бы. Я боялся быть гадко оскорбленным в присутствии Юли, беспомощности своей боялся…
Было уже семь часов, а я все так же неподвижно стоял у окна и смотрел во двор. Я уговаривал себя, что так разумнее, что так надо, что будет лучше, если о н и не узнают, не догадаются, что Юля идет именно ко мне. Тогда они не тронут ее.
Как хорошо, как отчетливо я помню ту минуту, когда Юля появилась в нашем дворе! Она подняла голову, разглядела меня за стеклом окна и весело помахала мне рукой. Они действительно не тронули ее, мой расчет оказался верен. Но как бы там ни было, я уже знал, что сегодня, сейчас предал ее, бросил на произвол судьбы. Это произошло, и это было уже непоправимо, чем бы я ни оправдывал этот свой поступок, это свое малодушие.
В тот вечер я был неестественно оживлен, острил, сам хохотал над своими же остротами — одним словом, всячески старался скрыть истинное свое состояние. Не столько даже Юлю, сколько себя самого обмануть пытался.
Юля пробыла у меня недолго. «Пойдем, — сказала она. — Проводи меня». И я покорно надел свою куртку, сшитую из отцовской шинели. Мы вышли во двор. Была осень, рано темнело, и сейчас в подворотне, словно в длинном мрачном тоннеле, мерцали только огоньки папирос. И тут меня охватил страх. Я уже знал, что они меня не пропустят. Но я заставил себя пройти эти несколько шагов и услышал, как Мыло, выдвигаясь из темноты, произнес игриво: «Петушок с курочкой, цып-цып-цып…» Я весь напрягся, но сделал вид, что не слышу. Если бы они ограничились одной этой дурацкой шуткой! Однако Мыло не отставал. «Что это ты не здороваешься?» — спросил он, загораживая мне дорогу. И в следующий момент его потная ладонь проехалась по моему лицу снизу вверх. Я дернулся, я хотел ударить его, но меня тут же схватили за руки, выламывая их так, что я согнулся. «Мальчики, вы что!» — закричала Юля. Но было уже поздно. То, чего я опасался, произошло. На глазах у Юли они унизили меня наиболее жестоко и гнусно. В отчаянии, когда они отпустили меня, я бросился на них, но они разбежались, исчезли, как будто их и не было…
Остаток этого вечера и всю ночь я провел точно в лихорадке. Я думал только об одном: как можно жить дальше с памятью об унижении? Мне казалось это невыносимым. Я корчился от желания немедленно очиститься, содрать с себя эту грязь, но уже понимал: воспоминания об этом вечере будут преследовать меня всю жизнь. Я и сейчас спрашиваю себя: может ли жить человек с памятью об унижении? И не знаю, что ответить. Может быть, я оттого и сюда, в институт этот, пришел, что мучил меня этот вопрос. А вот тогда, ночью, мне пришла в голову мысль о моем п р а в е расплатиться. Имел ли я в действительности такое право, не знаю, до сих пор не знаю. Потом уже, во время следствия, мне говорили, что я был ослеплен ненавистью, что мне надлежало взять себя в руки, успокоиться, поступить разумно — то есть заявить в милицию. Что же, мол, будет, если каждый по п у с т я к а м начнет творить самосуд? Но мне кажется, эти люди просто никогда не знали, что значит быть так жестоко и мерзко униженным, какая это невыносимая пытка!..
Утром отец подтрунивал надо мной, он был уверен, что причина моего нервного состояния в моей влюбленности. Мама обеспокоенно поглядывала на меня, пыталась выспросить, что со мной. Она была более чутким человеком. Но я ответил: «Ничего, все в порядке». И правда, с того момента, как я ночью, в полубреду принял решение, как понял, что у меня е с т ь п р а в о, я почти успокоился. Впрочем, это мне, конечно, только так казалось, будто я спокоен. На самом деле нервное напряжение владело мной все время, потому я почти не помнил, как провел этот день. Я только боялся, что Мыло почует, ощутит угрозу и не придет. А может быть, я и сам втайне хотел этого? Не знаю. Все тогда перепуталось в моей душе. Вечером я возвращался домой и уже издали видел — они там, в подворотне. Дрожь начала бить меня. Не знаю, хватило бы у меня решимости сделать то, что я задумал, если бы вдруг Мыло не задал тот же самый дурацкий вопрос, что и вчера: «Что это ты не здороваешься?» Он не был особенно изобретателен. Слова эти, повторенные с тем же, в ч е р а ш н и м, угрожающим смешком, подействовали на меня, как мгновенный удар током. В ослеплении, в ярости я бросился на него и, выхватив нож, ударил не глядя, куда попало, наугад. Что было потом, я плохо помню. Кто-то закричал, меня ударили. Какие-то люди вели меня куда-то. А я ощущал, как ватная слабость разливается по всему моему телу… Словно я долго тащил какой-то необыкновенно тяжелый груз и вот теперь сбросил его, освободился — такое тогда у меня было чувство.
Вот так и закончилась моя история. К счастью моему, Мыло остался жив, хотя я вполне в тот момент мог убить его. Я сознаю это. Много лет спустя я как-то встретил его на улице Пестеля возле винной забегаловки. Он был сильно пьян, но все же узнал меня. Слюнявым ртом он бормотал что-то нечленораздельно-восторженное и все пытался задрать рубаху, чтобы показать шрам…
А тогда меня судили. Процесс привлек к себе внимание, о нем даже писали в одной центральной газете, — если хотите, я как-нибудь принесу вам вырезки, покажу, это любопытно. Спор между защитой и обвинением шел о степени моей вины. Впрочем, формально у меня почти не было смягчающих обстоятельств: свидетелей у меня не оказалось, даже Юлю родители увезли куда-то подальше, опасались, что участие в судебном процессе может плохо отразиться на ее нервной системе. Да я был и рад этому. Слушать показания Юли здесь, на суде, мне было бы слишком тяжко и стыдно. Медицинская экспертиза не обнаружила на моем теле никаких следов от побоев, так что говорить о том, что меня били и я был вынужден обороняться, у защиты не было никаких оснований. Психиатры признали меня вполне нормальным, уравновешенным человеком. Так что вина моя была вне сомнений. «На ребяческие, пусть даже неумные порой, шутки, на мальчишеские, пусть даже жестокие иногда, шалости подсудимый счел возможным ответить ударом ножа, едва не оборвавшим человеческую жизнь…» — это из речи прокурора. Я до сих пор помню эти слова. Правда, защитник пытался убедить суд в том, что я был доведен до крайности, до предела, но — повторяю — убедительных доказательств тому было мало…
Приговор оказался достаточно суровым. Больше всего во всей этой истории мне было жаль моих родителей: события эти буквально убили их, все было для них как гром с ясного неба. Случись мне теперь заново, как говорят современные программисты, проиграть ту же самую ситуацию, единственное, из-за чего я, может быть, заколебался бы, так это из-за них — из-за отца с матерью…
Гурьянов замолчал. Он выглядел сейчас обессиленным и разбитым. А может быть, он уже жалел, что был так откровенен? Леночка догадывалась, как нелегко далась ему эта откровенность.
Отчего-то не решаясь поднять глаза, Леночка молча смотрела на его руки, лежащие на столе. Пальцы у него были в каких-то шрамах, ссадинах, следах от ожогов. Совсем недавно у кого-то Леночка уже видела похожие руки. Ах да, у Терентьева. Тогда она еще подумала: «Руки, по которым можно определить и судьбу и характер… Мужские руки…»
И вдруг совсем неожиданно для себя самой, как бы даже независимо от собственной воли, движимая то ли еще не испытанным прежде чувством глубокой нежности, то ли женским инстинктом сострадания, Леночка осторожно прикоснулась к руке Гурьянова…
Из тетради Г. С. Вартаняна«…Сравнительно широкое распространение получили взгляды на б е л о к к а к в е р о я т н ы й н о с и т е л ь с л е д о в п а м я т и.
С точки зрения теории информации молекула рибонуклеиновой кислоты (РНК) является чрезвычайно удобным и экономичным носителем памяти. Если различные состояния молекул РНК нервной клетки создаются перестановками и комбинациями нуклеотидных элементов, то число таких различных состояний достигает значения, которое в переводе на единицы информации составит 1015—1020 бит. Такая информационная емкость вполне объясняет громадный объем человеческой памяти.
Слабое место гипотезы о хранении информации в «перенуклеотидированных» молекулах РНК состоит в том, что они сравнительно недолговечны. Время существования таких молекул не превышает 12 минут, а долговременная память простирается на десятки лет. Поэтому поиски субстрата памяти обратились в сторону более долговечных компонентов молекулярной организации нервной клетки.
Таким весьма долговечным компонентом, сохраняющим свою структурную и функциональную стабильность практически на протяжении всей жизни, является хромосомный аппарат клетки и его носитель генетической информации — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). В настоящее время все больше исследователей склоняется к тому, что в формировании долговременной памяти участвует ДНК ядра нервной клетки.
Открытая недавно возможность передачи информации в обратном порядке, от РНК к ДНК, подтверждает реальность участия ДНК в фиксировании памятных следов событий индивидуальной жизни».
Странно. Разумом я все это понимаю и даже восхищаюсь достижениями науки. Но в то же время… В то же время мне как-то трудно, почти невозможно свыкнуться с мыслью, что вся моя жизнь, точнее — все переживания и волнения, и горе, и радость, навсегда остающиеся в памяти, — все это лишь некое состояние белка, химические изменения молекул и клеток. Неужели только и всего? Неужели так просто? Прежде я никогда не задумывался над этим.
Вот мы говорим: личность, индивидуальность… А вот я беру самый простой, элементарный пример. Когда я, допустим, принимаю таблетку успокаивающего и постепенно состояние мое меняется, я испытываю покой, умиротворение, когда меня перестает волновать то, что еще недавно приводило в отчаяние, я спрашиваю: так где же все-таки моя личность, индивидуальность, а где элементарная химия?
Однажды мне рассказывали: во время блокады бывали случаи, когда дистрофик от голода удивительно глупел, становился другим человеком, его мозг, его психика словно бы перерождались. И опять я спрашиваю: можно ли было его винить за это? Тогда или впоследствии? Должен ли был он стыдиться своих поступков? И вообще — он ли это был? Или уже другой человек? И какова же цена нашей индивидуальности, если она зависит от количества и состояния белков?.. Наверно, я преувеличиваю, утрирую, но с этим трудно смириться… Впрочем, вообще смиряться — это не в моем характере…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Этот человек появился в институте с утра, еще до прихода Архипова, и дожидался его с терпеливой настойчивостью, сидя в приемной, возле дверей кабинета. Его полуседые, а точнее сказать, сивые волосы, небрежно торчавшие в разные стороны, и неухоженная, с густой проседью, борода наводили на мысль о старческом безразличии к собственной внешности, но глаза его были живыми и движения энергичными — так что первое впечатление о его возрасте оказывалось ошибочным. Достаточно было получше приглядеться, чтобы сразу определить, что человек этот вовсе не старый.
— Воробьев Лев Павлович, — представился он Архипову тоном, в котором угадывалось нечто похожее на вызов, и протянул руку для пожатия. Рука у него была холодная, чуть влажная. — Имею честь служить экскурсоводом в городском экскурсионном бюро, вожу туристов по литературным достопримечательностям нашего города. Обладаю высшим филологическим образованием. Я вынужден, Иван Дмитриевич, задерживать ваше внимание на этих деталях моей биографии, поскольку они самым прямым образом относятся к цели моего визита. Дело же, по которому я пришел к вам, имеет чрезвычайную важность…
Он говорил с воинственной напористостью, и глаза его смотрели на Архипова настороженно и недоверчиво, с той напряженной одержимостью, которая обычно бывает присуща просителям, не раз уже встречавшим отказ и уже заранее готовым услышать возражения и вступить в спор.
Нервным, быстрым движением он достал из большого, с двумя замками портфеля картонную папку, но не стал развязывать тесемки, а лишь положил ее перед собой на стол, постукивая по картону длинными, худыми пальцами.
— А ведь мы знакомы с вами, Иван Дмитриевич, — неожиданно сказал он, усмехнувшись. — Мы даже в пинг-понг с вами играли. Не припоминаете?..
Архипов еще раз пристально вгляделся в сидевшего перед ним человека.
— Нет, — сказал он. — Нет. Простите, но что-то не помню.
— Да и немудрено, — сказал Воробьев. — Изменился я, годы прошли. Я же тогда совсем другим был. Репино, лето пятьдесят шестого… Помните?..
— Левушка? — неуверенно спросил Архипов. — И правда — Левушка! Не ошибаюсь?
— Он самый, Иван Дмитриевич, он самый…
Ах, как ясно вдруг встала перед ним эта картина! Лето, дача в Репино, и они втроем — он, Лиза Скворцова и Левушка — идут к заливу. Ранняя весна, но солнце уже греет вовсю и так славно, так свежо пахнет талым снегом!.. Левушка тогда заканчивал аспирантуру, и ему прочили большое будущее. Слава вундеркинда, утвердившаяся за ним еще в школе, продолжала витать над ним. А как он был влюблен в Лизу — открыто, безоглядно, по-юношески! Он ухаживал за ней с тем же упорством, с каким учился в аспирантуре. Но Лиза только подтрунивала над ним. Его упорство раздражало ее.
— Я бы только не хотел, — сказал Воробьев, — чтобы вы, Иван Дмитриевич, решили, будто я свое знакомство с вами хочу использовать. Я оттого поначалу и признаваться не хотел. Помните вы меня или не помните — это значения не имеет. Я бы в любом случае к вам обратился, я бы в любом случае на вашу помощь надеялся!..
Неужели этот седеющий, бородатый, растрепанный человек с напряженным взглядом и есть тот самый Левушка?.. Чистенький, интеллигентный, умненький, без памяти влюбленный в Лизу… Его лицо, обрамленное бородой, казалось сейчас аскетически изможденным, бледным, только глаза светились упорством, напоминая прежнего Левушку.
— Я слушаю вас, — сказал Архипов.
— Речь идет, Иван Дмитриевич, о вещах исключительной государственной важности, об уникальном памятнике нашей культуры. Сохранится или погибнет этот памятник, это место, связанное с именами многих выдающихся деятелей отечественной литературы, — вот как стоит сегодня вопрос. Речь идет о жизни и смерти усадьбы, где бывали Пушкин и Глинка, Крылов и Гнедич… Да вы и сами, наверно, слышали о ней… — И Левушка произнес название усадьбы, которое почти ничего не говорило Архипову, разве лишь в самых дальних уголках памяти отозвалось чем-то смутно-знакомым.
— Но позвольте, Лев Павлович, — сказал Архипов, — что вас побудило обратиться именно ко мне? Я вовсе не специалист в этой области. И должен признаться, к стыду своему, об усадьбе, которую вы назвали, имею лишь самое туманное представление…
— Это неважно! Это неважно, Иван Дмитриевич! — воскликнул Левушка. — Я верю: если вы найдете возможность выслушать меня, вы поймете…
— И все-таки почему я? — повторил Архипов. — Боюсь, мы с вами только напрасно потеряем время. Есть же люди, которые по профессии своей, по служебному положению призваны заниматься подобными делами…
— Вы думаете, я не обращался к ним? — с саркастической усмешкой воскликнул Левушка. — Но в том-то и дело, Иван Дмитриевич, что у этих людей я, сколько ни бьюсь, не могу встретить ни помощи, ни поддержки. Одни пустые обещания! А усадьба между тем гибнет! В какие только двери я не стучался! Везде меня выслушивают, мне сочувствуют, вежливо обещают разобраться, а дело не движется! Вы думаете, я только сегодня начал заниматься этой усадьбой? — сказал он с горечью. — Если бы так! Уже несколько лет я хожу словно по заколдованному кругу! Да вот, если хотите, можете взглянуть, тут у меня вся переписка хранится, все входящие и исходящие… Иван Дмитриевич, я вас прошу… Только человек с вашим именем, с вашим авторитетом может помочь! Достаточно одного вашего звонка, одного письма с вашей подписью, и, я убежден, все будет решено! С вашим мнением не могут не посчитаться!
— Боюсь, вы слишком преувеличиваете мой авторитет, Лев Павлович, — сказал Архипов. — А кроме того, должен сказать вам со всей откровенностью: я не имею обыкновения хлопотать по тем вопросам, которых досконально не знаю…
— Так я об одном только и прошу вас, Иван Дмитриевич, — умоляюще воскликнул Левушка. — Найдите час времени, всего лишь час, потратьте его, мы съездим туда, и вы все поймете. Вы поймете, почему я пришел к вам, почему я уже десять лет жизни отдал этой усадьбе! Меня, я знаю, многие чудаком считают, едва ли не сумасшедшим, да что там многие… Я и сам себя иной раз на том ловлю, что ни о чем другом уже и думать не могу, одна мысль, одна идея во мне сидит неотступно, вся моя жизнь вокруг этой усадьбы вращается. Я ведь и в экскурсионное бюро пошел, от прежней работы своей отказался только ради того, чтобы посвободнее быть, поближе к усадьбе…
Только теперь, приглядываясь повнимательнее к Левушке, Архипов заметил: весь его внешний облик свидетельствовал о явном безденежье, о лишениях, которые ему, вероятно, приходилось и приходится терпеть. Брюки его были тщательно отглажены, но на коленях блестели, белые, накрахмаленные манжеты рубашки топорщились уже обмахрившимися краями.
— Поймите меня, Иван Дмитриевич, — продолжал Левушка, волнуясь все больше и больше, — дело даже не в здании усадьбы, хотя и оно имеет ценность безусловную, дело даже не в тех экспонатах, которые я понемножку, в силу своих возможностей, собираю и которые со временем там разместятся, — в конце концов, одним маленьким музеем больше, одним меньше — не в этом суть, как бы кощунственно ни звучали эти слова именно в моих устах! Нет, суть в ином! Чтобы понять, почувствовать, о чем я говорю, надо поехать, надо увидеть это своими глазами. Казалось бы, ну что там за ландшафт — речка маленькая, мелкая течет, пруд, холм зеленый, дубовая роща… А вот взглянешь — и сердце сжимается… Я не знаю, как это выразить, но меня, верите ли, не оставляет мысль, что природа там невольно Пушкина запечатлела, отсвет его души там остался. Ну, напиши я такое в официальной бумаге, меня засмеют, разумеется, окончательно за сумасшедшего сочтут… Да я, впрочем, и не собираюсь всерьез утверждать это, скорее это метафора, мое личное ощущение, чисто субъективное… И все же… Это ведь та же самая цепочка — беспрерывность человеческой памяти, о которой вы говорили как-то в своей лекции… Я был тогда на этой лекции, слушал вас, я оттого и пришел к вам, что ваши слова еще тогда запали мне в душу…
Левушка вдруг застеснялся своей горячности, застыдился, вероятно, тех высоких слов, которые произносил только что, и взглянул на Архипова каким-то по-детски беспомощным, беззащитным взглядом.
— И знаете, Иван Дмитриевич, что труднее всего преодолеть, с чем я никак смириться не могу, что меня из себя каждый раз выводит? Это то, что о н и непременно мою личную выгоду в этом деле отыскать тщатся, не могут в толк взять, отчего это я работу свою прежнюю на нынешнее положение променял, чего я лично для себя этим достичь рассчитываю… Ну, чужие люди, бог с ними, а когда близкие… Близкие-то почему понять не могут? Впрочем, об этом долго рассказывать, я не хочу отнимать у вас время…
Он говорил, и нервная бледность опять разливалась по его лицу. А Архипов смотрел на это аскетическое лицо, и никак не совмещались в его сознании тот чистенький аспирант, вундеркинд, и этот человек с полуседой шевелюрой и впалыми щеками. Целая жизнь, казалось, пролегла между тем Левушкой и этим человеком, одержимым сейчас одной мыслью, одной страстью. В этой его одержимости было нечто такое, что одновременно и привлекало, и отталкивало Архипова. За свою долгую жизнь Архипову не раз приходилось встречать подобных людей — людей одной цели, одной доминанты, которым казалось, будто они призваны в этот мир лишь для того, чтобы совершить одно — главное — дело своей жизни, а там, мол, и умирать не страшно… Среди подобных людей встречались и настоящие таланты, и полубезумные чудаки, и судьба таких одержимых упрямцев складывалась по-разному: одним удавалось, благодаря своей энергии, упорству, настойчивости, все-таки добиться цели, осуществить то, ради чего они сражались не только с реальными противниками, но и с ветряными мельницами, сражение с которыми, впрочем, нередко оказывалось ничуть не безопаснее и не легче; другие же, не сумев преодолеть бесконечных препятствий на своем пути, озлобившись, теряли ощущение реальности, не видели вокруг себя ничего, кроме своей навязчивой идеи, деля весь мир лишь на ее сторонников и врагов. И Архипов знал, что очень многое в жизни, в судьбе подобных людей — изобретателей, выдумщиков, чудаков, правдоискателей — зависело от того, с кем сталкивала их жизнь в самом начале избранного ими пути, когда в их глазах еще не было пугающего блеска недоверчивой одержимости…
— Ну что ж… — сказал Архипов, — оставьте, Лев Павлович, ваше досье, я посмотрю его, посоветуюсь кое с кем, и тогда уж мы с вами определим, что будем делать. А съездить в эту вашу усадьбу я непременно съезжу, уговорили. Позвоните мне завтра с утра…
— Благодарю вас, Иван Дмитриевич, — сказал Воробьев с достоинством. Словно и правда с самого начала не сомневался именно в таком, благоприятном, исходе разговора.
Одного только вопроса, которого и ждал, и опасался Архипов, он так и не задал. Так и не спросил, что с Лизой. Забыл ее, вычеркнул из памяти? Или не решился, не набрался смелости произнести ее имя?.. А может быть, и без Архипова знал о ней все и потому молчал…
Когда Левушка ушел, Архипов не спеша перелистал документы, аккуратно собранные в его папке. Это была обычная для таких случаев переписка: с одной стороны — весьма пространные, многословные, эмоциональные письма Воробьева, в которых он доказывал необходимость создания музея-усадьбы, и с другой — очень лаконичные, выдержанные в сухом официальном тоне ответы на бланках со штампами различных учреждений, пронумерованные и зарегистрированные. В этих ответах нигде не ставилась под сомнение сама идея создания музея, более того — высказывалась даже благодарность в адрес автора писем, но вместе с тем… однако… к сожалению… Основная мотивировка невозможности открытия музея в близко обозримом будущем заключалась в том, что создание такого музея потребует расселения значительного числа граждан, проживающих в настоящее время на территории бывшей усадьбы, а также значительных затрат на реконструкцию построек, на содержание штата и т. д. и т. п. Помимо всего прочего, усадьба эта, расположенная в стороне от города, не может рассчитывать на высокую посещаемость, а следовательно, существование ее не будет оправдано. Воробьев, получая подобные ответы, незамедлительно садился писать снова — уже в другие, более высокие инстанции, яростно доказывая, что культурное достояние народа, духовное наследие прошлого не может измеряться лишь рублями или квадратными метрами жилой площади, что тот, кто не хочет понять этого, слеп и глух и попросту совершает деяние, равное преступлению перед отечественной культурой, что рано или поздно мы, мол, еще наверняка спохватимся и будем горько сожалеть об утраченном. Его письма с каждым разом становились все резче, все раздраженнее, он не особенно затруднял себя выбором выражений, а ему все с той же официальной вежливостью обещали разобраться, рассмотреть, изучить вопрос, но в конечном счете все опять сводилось к тому же: «В настоящее время не существует реальной возможности…»
Скорей всего, это было действительно почти безнадежное дело. Уж кто-кто, а Архипов, будучи директором института, прекрасно знал, какая это непростая штука — выбить новую штатную единицу или получить сотню метров жилой площади…
И все-таки… Все-таки была, видно, в этом человеке, странным образом превратившемся из умненького аспиранта в седеющего упрямца, сочинителя заявлений, то ли чудака, то ли святого, невольно подчиняющая себе сила наивной убежденности в правоте своей, в необходимости и важности для людей того дела, ради которого он хлопотал, если и после его ухода Архипов продолжал думать об этой речке, дубовой роще, усадьбе — так, словно уже видел их своими глазами…
Все еще листая Левушкины бумаги, Архипов попросил Маргариту Федоровну соединить его с Воронцовым, своим старым знакомым, профессором, доктором филологии — наверняка тот должен быть в курсе этого дела. Так оно и оказалось. Едва Архипов принялся объяснять причину своего звонка, как Воронцов воскликнул:
— А, значит, он и до вас уже добрался! Весьма энергичный товарищ, ничего не скажешь. Я, правда, не имею чести знать его лично, но об этой истории с музеем и о самом Воробьеве наслышан. Музей в усадьбе, конечно, следовало бы создать, это несомненно. Но нельзя же так дело представлять, будто один только Воробьев это понимает. В свое время, насколько я помню, наш институт весьма энергично поддержал эту идею, мы и письма в соответствующие инстанции направляли. Но началось межведомственное выяснение отношений и все вроде бы ушло в песок. Да и сам Воробьев все напортил своим характером. Характер у него, это все говорят, отвратительный, он умудрился перессориться даже с теми, кто ему пытался помочь, обидел их, оскорбил незаслуженно. Так что будьте с ним осторожнее, Иван Дмитриевич. И вообще, если уж вас интересует мое мнение, то вот мой совет: не втягивайтесь в эту историю, не втягивайтесь. Тут, как говорится, нашла коса на камень. Воробьев так настроил против себя всех, от кого зависит решение этого вопроса, таких им нелестных эпитетов надавал, столько жалоб поразослал, что эти люди уже имени его спокойно слышать не могут, оно для них как красная тряпка для быка…
— Однако Воробьев и прежде наталкивался на одни отказы, — сказал Архипов.
— Ну, отказ отказу рознь, вы сами это знаете, Иван Дмитриевич, — отозвался Воронцов. — Тут ведь иной раз и дипломатию нужно проявить, и терпение, глядишь, дело бы и двинулось. А Воробьев этот идет напролом, словно важнее этой усадьбы на свете и нет ничего…
— А если это действительно так? Если для него и верно нет ничего важнее? Разве это плохо? — сказал Архипов.
— Может, и не плохо, но он меры не знает. Я говорю: он сам себе вредит. Он же ничего слышать не хочет, никаких доводов. У него все, кто разумно рассуждает, бюрократы и волокитчики. Я, Иван Дмитриевич, такой сорт людей хорошо знаю: ему только помоги, он потом твоим именем на каждом перекрестке козырять станет. Вот так обстоит дело, Иван Дмитриевич. Очень жаль, разумеется, если с этой усадьбой ничего не выйдет, но что в сложившейся ситуации можно предпринять, я даже не представляю. Слишком все осложнилось…
— Ну что ж… — сказал Архипов. — Благодарю вас, Александр Михайлович, за весьма исчерпывающую консультацию…
В том, что рассказал о Левушке Воронцов, для Архипова уже не было ничего неожиданного. И те чувства, которые, по словам Воронцова, испытывали сотрудники различных учреждений и ведомств, сталкиваясь с Воробьевым, с его настырностью и упорной неуступчивостью, он тоже мог понять. Его и самого, случалось, раздражали подобные люди. Они вели себя так, словно им и только им была ведома высшая истина. Казалось, они начисто были лишены самолюбия и стеснительности: если им указывали на дверь, они являлись через окно, проходили сквозь стены — препятствий для них не существовало. Они были терпеливы и настойчивы до невообразимости. Одним видом своим, одним фактом своего существования они словно бы упрекали окружающий их мир в застоявшемся безразличии, в бюрократическом равнодушии и трусости. Они являлись, точно праведники и провидцы, внося ощущение беспокойства, дисгармонии и неуюта, и потому не могли не вызывать ответного раздражения. Но разве сам он, Архипов, в те годы, когда добивался открытия своего института, когда доказывал его необходимость, не выглядел порой таким же одержимым упрямцем? И разве упорство подобных чудаков, их вера и страсть не оказываются пусть малой, но все же неотъемлемой частицей той скрытой энергии, которая движет миром?..
Архипов собрался было снова обратиться к бумагам, оставленным Левушкой, но тут словно ветер пронесся по кабинету, дверь широко распахнулась — в кабинет входил озабоченный Аркадий Ильич Стекольщиков.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
— Если в моем возрасте я еще бодр, — говорил Стекольщиков, стремительно идя своей чуть подпрыгивающей, птичьей походкой от дверей кабинета к столу Архипова, — то лишь потому, что нахожусь в постоянном движении. Движение, только движение — вот панацея ото всех болезней, я давно в этом убедился… А вы, Иван Дмитриевич, совсем замуровались в своем кабинете. Это нехорошо, не годится. Я понимаю, всем нам время от времени необходимо уединение, сосредоточенность, без этого нельзя, нельзя, но боюсь, как бы кто-нибудь не воспользовался вашим затворничеством в своих интересах… И не смотрите на меня, Иван Дмитриевич, так, будто я сказал бог весть какую глупость. Поверьте, у меня есть основания так говорить. Потому я и пришел к вам.
Стекла его очков светились энергией и тревожным волнением.
— Иван Дмитриевич, послушайте меня, это не только мое мнение. В определенном смысле меня даже уполномочили с вами поговорить…
— Кто же? — спросил Архипов с легкой насмешливостью.
— Пожалуйста, я могу назвать. Сергей Сергеевич, Петр Никанорович… Борис Федорович… это те, с кем я беседовал. И у всех у нас возникает одинаковое беспокойство. Я не могу не сказать вам об этом.
Аркадий Ильич сделал паузу. Вероятно, он ждал встречных вопросов. Но Архипов молчал. И Стекольщиков заговорил снова все с той же горячностью и взволнованностью:
— Да разве вы сами не видите, что происходит в институте! Вас втягивают в какие-то сомнительные истории с этими письмами, с этими людьми, которые идут теперь в институт, а вы поддаетесь, вы сами же ставите себя под удар — ради чего? Зачем вам это нужно? Вместо того чтобы притушить эту историю, свести ее на нет, вы сами же ее раздуваете. К чему? Я понимаю, если бы в этом был какой-то научный смысл, а так это же, простите меня, Иван Дмитриевич, чепуха какая-то, благотворительность не благотворительность, не могу даже подходящего слова найти… Вы только не обижайтесь на меня, Иван Дмитриевич, я же от чистого сердца это говорю. Вы, что же, думаете, ваши противники не поспешат этим воспользоваться? Они, думаете, не знают, что в горкоме этой историей недовольны? Да вам все припомнят, помяните мое слово. Церемониться не будут. Или вы считаете, что у вас нет противников? Врагов нет? Завистников? Людей, жаждущих сесть в ваше кресло?..
Архипов молчал.
— Было бы, разумеется, прекрасно, если бы их не было. Но они есть, Иван Дмитриевич, мне это доподлинно известно. Можете поверить моему чутью. Помните, я сказал тогда, в машине: «Бойтесь талантливых мальчиков». Я могу повторить это и сейчас. Вы знаете, кого я имею в виду.
Архипов по-прежнему слушал молча, и не понять было, как относится он к словам Стекольщикова. Ничто не отражалось на его лице.
— Вы, конечно, по своему обыкновению скажете, что я, мол, сгущаю краски. Если бы так, Иван Дмитриевич, если бы так! Да знаете ли вы, что делается за вашей спиной?..
В волнении Стекольщиков снял очки и начал протирать их, и опять глаза его, лишенные защиты, поразили Архипова своей стариковской бесцветностью, вялой невыразительностью взгляда. Но Аркадий Ильич водрузил очки на нос, и глаза его тут же сверкнули деловито и воинственно.
— Вы привыкли, Иван Дмитриевич, мерить людей своей меркой. Но вы забываете, что это уже другое поколение, не чета нашему…
— Я бы не стал, Аркадий Ильич, слишком идеализировать наше поколение, — сказал Архипов.
— Не знаю. Может быть, — отозвался Стекольщиков. — Но у них, у этих мальчиков, иные понятия о чести, о долге, о порядочности… Они не останавливаются ни перед чем, когда идут к цели. И попомните мои слова, Иван Дмитриевич! Они только ждут повода. Анатолий Борисович не теряет времени даром. Я это точно знаю, у меня верные сведения. И не успокаивайте себя тем, что он ваш ученик, что он слишком многим вам обязан… Всю жизнь быть обязанным — это ведь тоже тягостно, Иван Дмитриевич. Разве мы мало знаем примеров, когда ученик поднимал руку на своего учителя?.. Перфильев из тех людей, кто через вас перешагнет и пойдет дальше, если себя уверит, что так для науки нужно… А вы, Иван Дмитриевич, простите меня, но обладаете особым умением повернуться к противнику непременно самым уязвимым, самым незащищенным местом, вы словно и мысли не допускаете, что противник этим воспользуется. Воспользуется, будьте уверены, еще как воспользуется!..
Архипов никак не отзывался на слова Стекольщикова. Уж кто-кто, а Стекольщиков хорошо знал эту его манеру — молчанием своим, неподвижностью вынуждать собеседника выкладывать все новые и новые доводы, раскрывать в запальчивости все свои карты. Знал Стекольщиков, что эта спокойная умиротворенность обманчива, что не упускает сейчас Архипов ни слова и каждую минуту может вспыхнуть, взорваться, обрушить на собеседника внезапный свой гнев.
— А история с Фейгиными? Думаете, за нее они не уцепятся? Весь институт уже знает, что вы ездили к Лизе. Зачем вы это сделали? Чего вы добились?.. Да ничего, кроме лишних разговоров, лишних слухов и пересудов! Иван Дмитриевич, поймите меня правильно, я не перестраховщик какой-нибудь, но вам нужно сейчас быть осмотрительнее… Да вы, кажется, и не слушаете меня вовсе! Иван Дмитриевич, о чем вы думаете?
— Аркадий Ильич, давайте поговорим о чем-нибудь более существенном. Знаете, что меня занимает последнее время? Связь, а точнее — взаимосвязь памяти индивидуальной и памяти коллективной, памяти одного человека и памяти народа, памяти одного человека и памяти человечества. Если попытаться копнуть поглубже, разве это не интереснейшие проблемы?..
— Иван Дмитриевич, я вижу, вы хотите уподобиться Пифагору… Или Архимеду?.. Ах, старческий склероз, забывать элементарные вещи уже начал… В общем, тому древнему греку, который воскликнул, когда вражеский воин занес над ним меч: «Не тронь мои чертежи!»
— Вы делаете мне честь, Аркадий Ильич, — сказал Архипов.
— Вы все шутите, Иван Дмитриевич, — с невольно прорвавшимся раздражением сказал Стекольщиков. — А меч уже занесен. Я не преувеличиваю. Если не о себе, то о судьбе института подумайте.
— Что же, по-вашему, я должен предпринять? — медленно спросил Архипов.
— Не знаю, не мне вам советовать, — живо откликнутся Стекольщиков. — Одно только скажу: нельзя пребывать в бездействии. Бездействие смерти подобно. И еще одну старую истину позволю вам напомнить: наступление — лучший вид обороны. Вы должны опередить, обезвредить своих противников. У вас авторитет, имя, вам это не так уж сложно сделать, нужно только действовать… Сходите в горком, съездите в Академию, не будьте так благодушны и доверчивы, — я вам еще в прошлый раз говорил об этом. Действуйте, действуйте! И отвлекитесь, бога ради, от этой вашей альтруистической затеи, она ничего не принесет ни вам, ни институту, кроме осложнений. Не тратьте понапрасну свое время, свою энергию, наконец, ей можно найти куда более достойное применение…
— Например, направить ее против Анатолия Борисовича? — с улыбкой сказал Архипов, но в голосе его зазвучали нотки, предвещающие наступление бури.
— Ну, я думаю, для этого много энергии не потребуется, — шутливо отозвался Стекольщиков и добавил уже с официальной сухостью: — Мое дело было вас предупредить, Иван Дмитриевич. А дальше поступайте, как знаете. Я позволил себе этот не очень приятный для меня разговор только на правах вашего старого товарища. Если я не скажу вам этого, кто же еще решится сказать?
— Ну что ж, тогда и я вам, Аркадий Ильич, отвечу на правах старого товарища, — с нажимом сказал Архипов. — Я, Аркадий Ильич, всю жизнь имел обыкновение верить в порядочность людей, меня окружающих. И никогда еще не жалел об этом. Вы, конечно, знаете, в юридической практике есть такой термин «презумпция невиновности». Так вот я лично всегда имею слабость исходить из презумпции порядочности. Вы меня поняли, Аркадий Ильич?
Стекольщиков пожал плечами.
— Я уже сказал: мое дело предупредить. Но боюсь: ваше бездействие вам дорого обойдется. И тогда вы пожалеете, что не прислушались к моим словам.
В тоне, в голосе его звучала обида. Он пошел было к выходу — высокий, сухощавый, сутулый, — но на полпути, вдруг спохватившись, обернулся.
— Да, — сказал он, — чуть не забыл. Иван Дмитриевич, скажите, пожалуйста, Анатолию Борисовичу, чтобы не развивал он бурной деятельности с этим своим «цитат-индексом». А то, как ребенок, которому сунули в руки игрушку, не может успокоиться, честное слово! Чуть ли не в стенгазете хочет опубликовать данные. Я говорю ему: вы только весь институт перессорите, Анатолий Борисович, а он ничего слышать не хочет. Мы, старики, для него уже не авторитет. Для него важно, что там, за рубежом, о нем говорят. Дайте ему, пожалуйста, свое указание.
— Да пусть публикует, — благодушно сказал Архипов. — Я думаю, это только на пользу пойдет. Вас-то почему это так беспокоит, Аркадий Ильич?..
Лицо Стекольщикова покрылось красными пятнами.
— Вот как? Очень жаль, что вы, Иван Дмитриевич, не придаете этому значения, — сказал он. — Анатолий Борисович себе на этом деле капиталец сколотить стремится. Неужели вы не понимаете?
— Ну так что ж? Вас-то почему это так беспокоит, Аркадий Ильич?
Очки Стекольщикова сверкнули оскорбленно.
— Я вижу, с моим мнением в институте уже перестают считаться, — сказал он тоном обиженного ребенка.
— Да помилуйте, Аркадий Ильич, откуда вы это взяли? — сказал Архипов.
— Я, Иван Дмитриевич, сужу не по словам, а по фактам.
И, резко повернувшись, Стекольщиков вышел.
В приемной Маргарита Федоровна с изумлением воззрилась на него. Не было случая, чтобы Аркадий Ильич, этот «последний экземпляр вымирающей галантности», как он себя называл, не сказал ей комплимент, не пошутил, не преподнес цветок или конфетку. А тут прошагал мимо, не взглянул даже.
В коридоре, возле окна, Аркадий Ильич остановился. Он и сам не предполагал, что разговор с Архиповым так раздосадует его, оставит такой неприятный осадок. Как бы он ни похвалялся своей бодростью, на самом деле здоровье у него пошаливало. Возраст есть возраст. И сердце временами схватывало — еле удавалось отдышаться, и давление подскакивало под сто девяносто, и боли в желудке мучали — последние годы он страдал гастритом.
К тому же, когда Аркадий Ильич задумывался о смерти, его все чаще преследовал навязчивый страх — умереть в туалете. А что? Внезапный инсульт, инфаркт — такое вполне может случиться в его возрасте. Казалось бы, какая ему, мертвому, забота, как он будет тогда выглядеть, каким предстанет перед взорами сбежавшихся домочадцев или сотрудников, но вот стоило только Аркадию Ильичу представить себя в полуспущенных брюках, с выглядывающими из-под них стариковскими впалыми ягодицами, беспомощно, в нелепой, скрюченной позе лежащим на полу, возле унитаза, и картина эта повергала его в состояние отчаяния, подавленности и глубокой жалости к самому себе. Причем таким ясным, таким отчетливым — со всеми деталями и подробностями — являлось ему это видение, что, казалось, все это уже произошло с ним, свершилось. Сколько ни пытался Аркадий Ильич убедить себя, что подобные мысли — лишь результат мнительности, все-таки ничего не мог он поделать с этим своим страхом.
Вообще, с годами Аркадий Ильич становился все более мнительным. Он мог, например, не явиться на заседание ученого совета, если не получил официального приглашения. Пусть даже и объявление внизу, в вестибюле видел, и знал, прекрасно знал и день и час, на который назначено заседание, а все равно в отсутствии специального приглашения чудился ему намеренный умысел: значит, кто-то постарался, кто-то приложил руку, кто-то был заинтересован в том, чтобы заседание прошло без него. Очень чувствителен он стал к таким мелочам. Да и были у него основания считать себя обойденным, обиженным, недостаточно оцененным. Всю жизнь судьба оказывалась несправедлива к нему.
Верно говорят, что человек становится несчастливым, как и нездоровым, — незаметно, исподволь. Признаки неудачи, краха его жизни, как и признаки нездоровья, накапливаются где-то внутри, тайно, еще ничем не давая о себе знать, и самому человеку еще кажется, что все идет так, как нужно, что он все тот же, прежний… А в один прекрасный день оглянулся — да какой же прежний? — нет давно того, прежнего. Возможно, это и есть переход количества в качество: количество мелких неудач, количество мелких уступок и отступлений — все это в какой-то момент, оказывается, стало качеством, ощущением того, что ты несчастлив, что жизнь твоя не удалась… И ты сидишь теперь у кромки этой неудавшейся жизни, напрасно оглядываясь назад, зная, что вряд ли что уже можно поправить, даже если ты и очень захотел бы, даже если бы у тебя и нашлись силы… Поздно.
Разумеется, Стекольщикову грех было бы жаловаться на свою жизнь, и ощущение неудачи вряд ли бы преследовало его, если бы не было рядом Архипова. Недаром говорится: все познается в сравнении. Так что невольно получалось, что в той неудовлетворенности собственной жизнью, которая томила Аркадия Ильича, виноват был Архипов.
Начинали они с Архиповым вместе, почти одновременно, и нельзя сказать, чтобы Архипов превосходил тогда Стекольщикова своими способностями, какими-то особыми талантами. Уж если отмечали их, то непременно обоих, через запятую. Если же взглянуть объективно, то Стекольщиков всегда был выдержаннее, осмотрительнее, к о н т а к т н е е, как теперь говорят. Аркадий Ильич, не без оснований, всегда считал себя более тонким политиком, нежели Архипов. И то обстоятельство, что именно Архипов так круто пошел вверх, стал директором института, действительным членом Академии, навсегда оставалось для Аркадия Ильича загадкой и, как всякая загадка, мучило своей необъяснимостью, а следовательно, и нелогичностью, несправедливостью. Архипову в е з л о — иного толкования найти Стекольщиков не мог. В душе он утешал себя тем, что все равно без его советов, без его осмотрительности, без его постоянной, незаметной опеки Архипову не обойтись. Если даже это была иллюзия, то сам Архипов эту иллюзию поддерживал. «Господин тайный советник» — так сказал о Стекольщикове однажды Перфильев, сказал зло, с насмешкой, не догадываясь, что отныне пустил в ход прозвище, которое надолго закрепится за Аркадием Ильичом и будет ему льстить.
Тем болезненнее был для Стекольщикова тот пусть благодушный, но все же отпор, который он получил от Архипова сегодня.
Когда-то давно, еще в юности, Стекольщиков был наивно убежден, что честолюбие, тщеславие, жажда известности — все это свойственно только молодости. Старость, думал тогда Стекольщиков, мудра и спокойна. Если бы это было так! Теперь неудовлетворенное честолюбие терзало его душу куда сильнее, чем в молодости. Тогда все было впереди, тогда можно было верить: что не удалось сегодня — удастся завтра. Жизнь казалась огромной. Честолюбие молодости сродни энергии, старческое честолюбие бессильно, оно не рождает ничего, кроме желчи и зависти…
Аркадий Ильич привычным жестом бросил в рот крупицу нитроглицерина, отдышался немного и заспешил дальше — к Петру Никаноровичу Сидорину, завлабу и давнему своему приятелю, — докладывать о результатах разговора с Архиповым…
Из тетради Г. С. Вартаняна«…Введение РНК людям пожилого возраста улучшало их память. В некоторых случаях им удавалось полностью сохранять в памяти заученный материал. После того как введение РНК прекращалось, память снова ухудшалась.
Аналогичные исследования были проведены на крысах. Крысам вводили инъекции РНК и помещали их в камеру с решетчатым полом, к которому можно было подводить электрический ток; в середине камеры была подвешена перекладина. Сначала включали одновременно электрический ток и зуммер. Затем стали включать только зуммер. Каждую пробу заканчивали, если крыса вскакивала на перекладину (условная реакция на звук зуммера), или же продолжали в течение 30 секунд. У крыс, получавших РНК, реакция избегания вырабатывалась легче, чем у контрольных животных. Угасание же реакции происходило медленнее.
Однако благоприятное действие РНК в этих экспериментах, возможно, было обусловлено тем, что РНК и ее составные части пополняли фонд веществ, необходимых для обмена, оказывая таким образом влияние на всю жизнедеятельность организма, а не только на память.
Об эффекте улучшения памяти свидетельствуют и другие исследования».
Вчера я поспорил с дочерью. Спор возник после того, как она посмотрела мои последние выписки. Она говорит, будто я некритически отношусь к источникам, готов все подряд принимать на веру, будто на меня действует «гипноз печатного слова» — так она выразилась. А я ей сказал, что в свою очередь удивляюсь ее скептицизму по отношению к возможностям современной науки. Разве можно не поражаться успехам современной науки? С тех пор как я стал интересоваться проблемами памяти, психики и т. п., я иной раз сам себе кажусь человеком, который всю жизнь был слепцом и наконец прозрел, и теперь перед этим человеком, то есть передо мной лично, открывается целый новый, неизведанный мир, огромный мир, о котором я раньше не имел никакого представления. Стремление к познанию мира — это, может быть, самое прекрасное, что заложено в человеке! Пусть, по мнению моей дочери, это банальная истина, но все-таки это истина! Вот что важно. Лучше банальная истина, чем оригинальное заблуждение. К сожалению, не все, особенно молодые, это понимают.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
— Лена! Ленка! Вартанян! Ты, что, своих однокурсников уже не узнаешь?
Галка Тамбовцева, то есть не Тамбовцева уже давно, а Перфильева, закружила ее, обняла, расцеловала.
— Какая ты важная стала, Ленка! Я гляжу: идет, ни на кого не смотрит…
— Да ну, скажешь тоже! — отмахнулась Леночка. — Просто задумалась…
— Ну давай, рассказывай, как ты, — тормошила ее Галка. — Не влюбилась еще?
— Нет, — сказала Леночка, краснея.
— А я, знаешь, решилась все-таки, — счастливым шепотом сказала Галка. — Завожу ребенка… Ты же знаешь, мне врачи не советовали, но будь что будет… Перфильев, конечно, против, и я его понимаю, он за меня боится. Но я уже твердо решила. Он сердится ужасно, говорит, что это эгоизм и полная безответственность с моей стороны. А я все равно такая счастливая, ты даже не поверишь, Ленка. Как будто сразу смысл в моей жизни появился. То есть и раньше, конечно, был смысл, но не такой… А ты что, все так же — с отцом?..
— Да, — сказала Леночка. — Все так же. С отцом.
— Он у тебя неплохой дядька, но — прости меня, не сердись — малость занудный…
— Он не занудный, — сказала Леночка. — Он — одинокий.
— Все равно. Я бы, наверно, не выдержала. А ты — молодец, Ленка, ты — хорошая дочь, он должен тебя ценить. Послушай, — вдруг воодушевилась Галка, — пойдем сейчас ко мне, а? Ты же не была у нас никогда. Правда, пойдем! Посмотришь, как я живу.
— Что ты! — испугалась Леночка. — Я стесняюсь Анатолия Борисовича.
— Да брось ты, Ленка! Что у тебя за характер, допотопный какой-то! В наше время слово «стесняюсь», по-моему, и не произносит уже никто. Даже в детском саду. Чистейший атавизм, отмирающее понятие.
Леночка засмеялась:
— Я рада, что тебя встретила, Галка. Это тоже атавизм, по-твоему, да?
— Нет, это не атавизм, это вполне естественное чувство стаи, как теперь говорят, — тоже смеясь, отозвалась Галя. — И не цепляйся к словам, пожалуйста. Пошли, пошли к нам, не сопротивляйся. Честное слово, Ленка, сколько же можно уговаривать! Да не бойся ты, Анатолия Борисовича сейчас и дома нет. Он знаешь как поздно всегда приходит! У него же фактически двойной рабочий день получается. Он же весь институт на себе тянет, а по вечерам в своей лаборатории работает. Домой придет — и сразу за научные журналы. Правда, правда, я уже не помню, когда мы с ним последний раз в кино были… Я даже иногда начинаю бояться за него, он же на износ работает. Я ему говорю: «Так нельзя, это не работа, а добровольная каторга». А он будто и не слышит. У него привычка такая. Когда он считает, что я что-нибудь глупое говорю, он молчит, не отвечает — просто не реагирует, и все. А ты бы посмотрела, сколько у него карточек с выписками из зарубежных журналов — тысячи! Как он в них разбирается, не понимаю. Он даже мне их не дает трогать, хотя я и не такой уж профан в этом деле. А все эти отзывы на диссертации, рецензии — знаешь, сколько они времени отнимают! Ну, пошли, пошли, Ленка, говорю тебе: нет его дома…
Галя ошиблась. Перфильев оказался дома. Причем был он не один. Тут же Леночка увидела ученого секретаря института Илью Федоровича Школьникова, и заведующего лабораторией чернобородого широкоплечего Виктора Викторовича Фраймана, и еще двух сотрудников, чьих фамилий Леночка не знала.
Леночка хотела было сразу, еще из передней, пока не заметили ее, улизнуть, скрыться, но Галя не пускала ее, сердилась: «Ну что ты, как дикарка, как будто из деревни приехала, честное слово! Это он на работе для тебя начальство, а здесь он — муж твоей подруги, только и всего!»
— Толя! — крикнула она. — Выйди, покажись, а то эта симпатичная девушка тебя боится.
Леночка рассерженно фыркнула, возмущенная таким предательством. Но теперь ей уже не оставалось ничего иного, как только подчиниться Гале.
— Фу! — сказала Галя, входя в комнату. — Накурили-то как, накурили! Сидят тут, словно заговорщики…
— А мы и есть заговорщики! — попыхивая трубкой, радостно хохотнул Фрайман. — Ты угадала. Мы, Галя, обсуждаем, как твоего супруга вперед двинуть, в директора.
— Да неужели? — с шутливой веселостью отозвалась Галя. — А Архипов? Он, что, заявление подал?
— Архипов… Что Архипов… — пробурчал Школьников.
— Ему пора в проповедники или писатели, — неожиданно сказал Перфильев. — Наука не терпит многословия, а он стал многословен. Наука не терпит сантиментов, а старик, подозреваю, стал сентиментален. «Тайна бытия», «добро и зло», «смысл жизни», «бессмертие человечества» — все это девятнадцатый век. Иногда мне кажется, что он все еще живет там — в мире, где еще не открыты ни ДНК, ни гены…
Леночка была сбита с толку. Она не могла понять: всерьез все это говорится или то, что произносил сейчас Перфильев, — шутка, спектакль, разыгрываемый нарочно перед ней и Галей.
— А мы с Леной, — сказала Галя, — между прочим, тоже сторонницы девятнадцатого века. «Тайна бытия» — это неплохо звучит, во всяком случае, красиво. Плохо, когда не остается тайн.
— Непонятно, но красиво — замечательный принцип! — саркастически сказал Перфильев. — Нет уж, если человек от бога имел мужество отказаться, от идеи, так сказать, высшего разума, то на полпути незачем останавливаться, надо дальше идти. Мы одного идола скинули, а уже другим начинаем молиться. Мы говорим: «совесть», «доброта», «человечность», и наш голос дрожит от умиления, как при слове «божество».
— Что же, ты и совесть уже отрицаешь, и доброту? — возмутилась Галя.
— Э, нет, — сказал Перфильев. — Нет, без совести и без доброты человечество долго не протянуло бы. Люди бы давно друг друга перегрызли. Так что не отрицаю я ни совести, ни доброты. Я только за то, чтобы иметь смелость реально на вещи смотреть, своими именами их называть, а не забивать себе голову всякими эфемерными понятиями. Необъяснимо! Сверхъестественно! Поразительно! Объяснимо, все объяснимо. И любой порыв человеческий, движение души любое, в принципе, может быть выражено набором биохимических формул. Вот что пора понять. И совесть, и доброту мы можем рассматривать как целесообразность поведения, как механизм саморегуляции сложной системы, именуемой человеком и человечеством. И нас не слова всякие должны занимать, не рассуждения вокруг да около, а химические основы этих процессов. Это наша цель, наша задача. Да нужно же понять наконец: мы ставим опыты, мы — исследователи, экспериментаторы, нас интересуют биохимические, биоэлектрические процессы, и разговоры о совести, страдании, человечности — все это не более чем беллетристика. Это попросту не наша область. А Архипов со своими идеями общечеловеческой памяти, бессмертия человечества и тому подобном топит нашу науку в словах — вот что он делает!..
— Ты это Архипову скажи, — усмехнулся Школьников.
— И скажу. Скажу, когда будет нужно. И не только Архипову.
По тону, каким произнес Перфильев эту фразу, Леночка поняла: скажет, действительно скажет, не поколеблется.
— Знаете, братцы, в чем заключается драма Архипова? — попыхивая трубкой, проговорил чернобородый Фрайман. — В том, что он бунтует против самого себя, против того направления в науке, которое сам же создавал. Прежде его девизом, его лозунгом было: научно только то, что подтверждено лабораторным опытом, экспериментом. Все остальное нас не интересует. Именно этот принцип он отстаивал. А теперь, бунтуя против него, он бунтует против своих учеников и последователей. Захотят ли они простить ему это? Вот в чем драматизм ситуации.
— Да, — сказал Перфильев. — Это верно. Я тоже считаю, что судьба Архипова драматична. Но драма его в ином. Драма Архипова — это драма большого, всеохватного ума в условиях той узкой специализации, которую диктует нам время. Архипов, конечно, выдающийся человек, но он — человек прошлого. Беда в том, что он сам не чувствует этого. Или чувствует, но признавать не хочет.
— Второе вернее, — вставил Школьников. — Одна эта история с заметкой Гурьянова и всем, что за ней последовало, чего стоит! У меня есть сведения, что т а м стариком уже недовольны. У него слишком тяжелый, строптивый характер, он неуступчив, он просто не понимает, что иногда надо уступить, согласиться, хотя бы для вида… Я лично готов даже уважать его за это, но вольно или невольно, а подобное отношение к нему переносится ведь на весь институт, значит, страдает коллектив, работа страдает. С этим нельзя не считаться.
— В том-то и дело, в том-то и дело, — сказал Фрайман. — Речь идет не о нас, не о Перфильеве и Архипове, речь идет о судьбе института. И если мы будем сидеть сложа руки, то при данной ситуации мы рискуем дождаться, что нам пришлют какого-нибудь варяга, так сказать, для укрепления…
Леночка чувствовала себя крайне неловко. Она была лишней в этой комнате. Никто не обращал на нее внимания. Как будто ее и не существовало вовсе. Она с нарочитым увлечением рассматривала корешки книг. Сколько здесь было книг! Книжные полки занимали всю стену. Биология… химия… электроника… На русском, английском, немецком…
— Когда Перфильев ездит за границу, — вполголоса сказала Галя, — он все деньги только на книги тратит. Он мне сразу сказал: тряпок привозить не буду, даже и не жди.
Справочник по высшей математике… Генетика… Томики серии «ЖЗЛ»… И вдруг — несколько ярких детских книжек, приткнувшихся с краю.
— Это я уже д л я н е г о купила, — шепнула Галя. — Подвернулись случайно, я и купила, не удержалась. А Перфильев отругал меня, рассердился ужасно…
— Все было бы проще, если бы Архипов не был Архиповым, — говорил между тем Перфильев. — Слишком многое меня с ним связывает. Слишком многим я ему обязан.
— Между прочим, старик и сам не святой, — сказал Школьников. — Я тут наткнулся случайно на кое-какие факты. Старик не церемонился со своими противниками. Да и взгляды свои менять не считал зазорным.
— Это для нас слишком сложно, правда, Ленка? — сказала Галя. Видно, почувствовала Леночкину растерянность. — Пойдем лучше ко мне, поболтаем о чем-нибудь попроще.
У Леночки осталось такое чувство, будто Перфильев, хоть и поздоровался с ней, так и не заметил, не ощутил ее присутствия. Слишком занят был своими мыслями, этим спором. Иначе разве он стал бы при ней так говорить об Иване Дмитриевиче? Или он уже был уверен, что все, что здесь говорилось, общеизвестно? Даже скрывать нечего?
Так или иначе, но Леночка чувствовала себя не в своей тарелке. Она вспомнила слова Архипова: «И не обращайте внимания, если вам будут говорить, что Архипов впал в детство». Значит, он уже знал что-то? Догадывался?
— Не придавай значения, — сказала Галя. — У них свои дела. Им нравится воображать себя вершителями судеб. Если кого мне и жалко, так это Перфильева. Ты его не знаешь, а я знаю. Он — человек, ну, как бы тебе сказать, с повышенным чувством ответственности, что ли… Они поговорят и разойдутся, а решать-то все равно ему.
— Что решать? — спросила Леночка.
Галя пожала плечами.
— Ну, не знаю. Мало ли что. Хотя бы как отношения свои с Архиповым строить. Рано или поздно, а решать-то все равно придется. Думаешь, это так просто? В институте многие поддерживают Архипова, ты сама знаешь. Да и Анатолий всегда преклонялся перед ним, Архипов для него чем-то вроде кумира был. «Делать жизнь с кого», одним словом. И сейчас если Анатолий кого и любит, так это только Архипова, я знаю.
— Так если любит… — сказала Леночка, в страдальческом недоумении хмуря брови. — Если любит, как же тогда… О чем же спорить?.. Рассуждать-то так зачем?.. Если любит…
— У него своя логика, — сказала Галя. — И свой бог — наука, работа, называй, как хочешь. Но этому богу он что угодно в жертву принесет. Он и меня не пощадит, если я завтра стану мешать его работе, я знаю, — добавила она с горечью. — А ты говоришь: если любит!.. Это когда мы познакомились, когда я влюбилась в него, мне ужасно льстило: талантливый ученый, молодой доктор наук, блестящие перспективы… А теперь-то я знаю, чем за это платить приходится. Ничто не дается бесплатно, Ленка. Ты только не думай, я не жалуюсь. Я люблю его, Я бы и теперь вышла за него замуж, не задумываясь, не колеблясь, если бы снова решать пришлось… Только все не так просто, как кажется, Леночка… Ты еще не сталкивалась с этим…
…Было уже темно, когда Леночка возвращалась домой. Еще издали возле своей парадной она увидела одиноко маячившую фигуру. И, еще не видя, не различая лица этого человека, Леночка уже знала, уже угадывала внутренним чутьем, кто это.
— Глеб! И давно вы тут?
Гурьянов улыбнулся, уклончиво пожал плечами.
— Я рассказ написал, — сказал он. — Помните, я обещал вам? Мне хочется, чтобы вы прочли его первая.
И он протянул Леночке свернутую в трубку рукопись.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Расползавшиеся по всем этажам института слухи о том, что Архипов отошел от институтских дел, отгородился от них в своем кабинете, были, разумеется, сильно преувеличены. Во всяком случае, именно институтские дела помешали Архипову выполнить свое обещание и отправиться в усадьбу, о которой рассказывал Левушка Воробьев, сразу же, на следующий день после их разговора. И еще через день, когда Воробьев позвонил ему, снова выяснилось, что поездку придется отложить: готовилось заседание ученого совета и предстояло обсудить с заведующими лабораториями планы работы.
Но Левушка Воробьев был настойчив. Он продолжал звонить, иногда даже по два раза в день, терпеливо выслушивая оправдания и извинения Архипова. Эти его пунктуальность, упорство и собственная, хотя и невольная, необязательность уже начинали сердить Архипова, и поездка, о которой вначале он думал не без удовольствия и воодушевления, постепенно превращалась в какой-то тягостный долг, висящий над ним. И когда все-таки он сумел выкроить время, когда сказал Воробьеву: «Да, да, подъезжайте сейчас к институту, я вас жду. Сразу и двинемся», от предвкушения чего-то необычного, значительного, которое владело им прежде, уже почти ничего не осталось.
Левушка на этот раз выглядел усталым и мрачновато-сосредоточенным: возможно, он уже утратил надежду на помощь Архипова и смотрел теперь на эту поездку как на чистую формальность, которую необходимо довести до конца, коли уж так задумано было с самого начала. Он был неразговорчив, да и у Архипова нынче не было настроения вести беседу — с утра он чувствовал себя неважно, болело сердце. И сейчас, уже сидя в машине, он ощущал тупую боль возле левой лопатки.
Так что почти всю дорогу они ехали молча, занятые каждый своими мыслями, и только когда уже выбрались за город, когда стали приближаться к цели своего путешествия, Левушка вдруг нервно засуетился, задвигался, принялся, наклоняясь вперед, перегибаясь через спинку переднего сиденья, подсказывать шоферу, где лучше повернуть, озабоченный тем, чтобы подъехать к усадьбе именно с той стороны, с какой он считал нужным.
— Вот здесь, вот здесь, пожалуйста, остановитесь! — воскликнул он наконец так поспешно и так взволнованно, словно, доведись им проехать еще несколько метров, и они неминуемо угодили бы в катастрофу.
— Я бы хотел, чтобы мы немного прошли пешком, — сказал он Архипову. — Если вы не против. Здесь уже совсем рядом.
— Командуйте, — отозвался Архипов, выбираясь из машины. — Здесь вы хозяин.
— Если бы! — сказал Левушка с горечью. — Если бы…
Они стояли на обочине неширокой дороги, по обеим сторонам которой тянулись уже наполовину убранные поля капусты, а впереди виднелась маленькая роща, скрывавшая от глаз перспективу. К этой роще и сворачивала дорога, прячась за ней.
Был ясный осенний день — солнце еще пригревало, но воздух был холоден и прозрачен. Пахло прелой листвой, и, вдыхая этот запах, ступая по еще жесткой от утреннего инея траве, Архипов вдруг ощутил, как оставляет его то недовольство собой, Левушкой, этой поездкой, которое он испытывал еще со вчерашнего вечера.
— Я отчего вас пешком заставил пройтись, Иван Дмитриевич, — торопливо, с почти лихорадочным оживлением говорил Воробьев. — Оттого что секрет весь — в этом повороте из-за рощицы. Если бы на машине мы подъехали, мы бы этого не почувствовали, а так… Вы сейчас сами увидите… Я, например, каждый раз, поверите ли, Иван Дмитриевич, словно заново открываю для себя это место… Вот и жду уже, и знаю, а все равно — словно заново… Это вроде как лицо любимого человека… — Он на секунду осекся, взглянул тревожно на Архипова — точно затронул невзначай запретную тему, но продолжал все-таки: — Вам никогда не приходилось замечать, что лицо любимого человека вы оказываетесь не в состоянии представить, воспроизвести мысленно — создаваемый вами образ всегда беднее, безжизненнее, что-то в нем вы не можете уловить… И в то же время как легко, как просто, со всеми подробностями представляем мы лица людей, которые нам безразличны, к которым мы холодны…
Архипов шел, как всегда, грузно, медлительно, заложив руки за спину. Рядом с ним Левушка, то нетерпеливо забегающий вперед, то останавливающийся, невысокий, в куцем, поношенном плаще, без шляпы, с беспорядочно развевающимися, давно не стриженными волосами, с неухоженной бородой, казался взъерошенным, неуклюжим, безвременно состарившимся птенцом.
Архипов молчал. Можно было подумать, он и не слышал вовсе того, что говорил сейчас его спутник, — как будто слова растворялись в прозрачном воздухе, будучи не в силах достигнуть погрузившегося в собственный мир, задумавшегося Архипова. Но на самом деле это было не так.
Что знал, что мог знать о лицах любимых людей Левушка? Догадывался ли он о том истинном значении, которое имеют для нас, в нашей жизни, лица любимых, лица близких, лица дорогих нам людей?..
Только горечь потери дает нам подлинное знание того, что значит для нас тот или иной человек. Только горечь потери. Как бы ни тяжело было сознавать это, но это так.
И нужно же было этому взъерошенному чудаку затеять сейчас, здесь, на проселочной дороге, посреди чернеющих, полуубранных полей, такой разговор… Ясновидец он, что ли? И это его секундное замешательство, этот тревожный, быстрый взгляд… Как будто угадал, почувствовал он, отчего сегодня посреди ночи так тоскливо и остро заныло сердце Архипова.
Ночью Архипову приснился тяжелый сон. Ему приснилось, будто поднимается он по черной, узкой лестнице того дома, где жили они, вся их семья, еще до войны, и само по себе то обстоятельство, что идет он не по парадной, а по черной лестнице, которой обычно никогда не пользовались, смутно тревожит его, таит в себе какую-то скрытую угрозу. Лестница крутая, и подниматься ему тяжело, он чувствует, как рвется из груди и отчаянно колотится сердце, как начинает прерываться дыхание. К тому же ноги скользят, лестница обледенела, как это в действительности было в блокаду, когда, вырвавшись в короткий, случайный отпуск, Архипов шел в свою квартиру, где никто уже не ждал его, шел именно по этой черной лестнице, потому что парадный ход оказался забит. И вот тут, на этой черной, обледенелой лестнице, он увидел девочку. Это было тогда, в реальной жизни, и это повторилось теперь, во сне.
Сны фантастические, сны невероятные снятся нам только в молодости, старость не знает таких снов. В старости в снах лишь повторяется то, что было когда-то, повторяется, порой причудливо сместившись во времени, переплетясь с другими событиями, изменившись, но все равно ты узнаешь и голоса, и лица, ты испытываешь ту же боль, которую уже испытал однажды…
Тогда, в сумеречное, зимнее, блокадное утро, Архипову почудилось, будто кто-то притаился на площадке третьего этажа. И он вздрогнул невольно, действительно разглядев смутные очертания сжавшейся маленькой фигуры. Только подойдя ближе, он понял: на площадке сидела закутанная в платки мертвая девочка. Ее возраст трудно было определить, но скорее всего ей было лет двенадцать-тринадцать. Кто она и откуда, зачем забрела сюда, этого Архипов не знал, да так и не узнал никогда. Теперь же, во сне, он тоже смутно в сумерках разглядел фигурку девочки, только она двигалась, она легко и бесшумно шла навстречу ему, и он — тут же, во сне — испытал радость оттого, что, значит, ошибся тогда, приняв ее за мертвую. Вот девочка поравнялась с ним, подняла лицо, и он узнал Лизу Скворцову.
— Лиза, ты как здесь? Ты что тут делаешь? — испуганно то ли спросил, то ли подумал Архипов.
Но она проскользнула мимо него, все так же легко и бесшумно, ничего не ответив.
Он перегнулся через перила, чтобы еще раз увидеть, окликнуть, позвать ее, но перила вдруг шатко подались, качнулись, и Архипов, холодея от ужаса, почувствовал, что теряет опору, что вот-вот сорвется в черный, глубокий колодец…
Он проснулся и долго лежал под тягостным впечатлением от этого сна. Лицо теперешней, нынешней Лизы уплывало, уходило от него, он старался и не мог представить это лицо…
…Дорога повернула за рощу, и Воробьев остановился, поджидая Архипова.
— Вот, — сказал он, и совсем детская, ребяческая восторженность прозвучала в его голосе.
Архипов поднял глаза. Перед ним, за небольшим оврагом, лежала та самая усадьба, о которой говорил Воробьев.
Архипов увидел два темно-красных, кирпичной кладки, двухэтажных дома, увидел веревку, натянутую между столбами, на которой сушилось белье, увидел двух маленьких девочек, играющих возле кучи песка… Около сарая мужчина в ватнике колол дрова, удары топора и звонкий, сухой треск распадающихся поленьев отчетливо разносились далеко вокруг.
Взгляд Архипова перебросился на маленькую речушку, в тихой задумчивости почти неподвижно застывшую в своих берегах, на невысокую запруду, через которую лениво перекатывалась вода, на дубы, величественно раскинувшие свои уже изрядно поредевшие кроны… Дальше начинались луга, дорога вилась среди них…
Но еще прежде, чем Архипов подробно, в деталях рассмотрел открывшуюся перед ним картину, его охватило странное чувство: будто все это было знакомо ему едва ли не с самого раннего детства — точно картинка в старой книжке, которую он так любил разглядывать еще ребенком. Сколько лет минуло с той поры, сколько лет!..
Воробьев был прав: какое-то скрытое очарование таилось в этом простеньком пейзаже. Очарование детства? Очарование тишины? Откуда рождалась, откуда исходила та гармония, которая вызывала в душе ощущение умиротворенности и покоя?.. Может быть, эти дубы с их спокойным величием навевали подобное чувство?.. Или этот тихий пруд, эта безлюдная дорога, уходящая в луга?.. Откуда это щемящее чувство узнавания?.. Ну, чем, кажется, отличается эта речка от других подобных речушек, ничем не лучше она, и дубы, конечно же, растут не только здесь, и дорога… Ну что дорога?.. Так отчего же так сжимается сейчас сердце и ты себе кажешься маленьким мальчиком, ребенком, готовым бежать через овраг туда, к пруду, на поверхности которого, словно кораблики, слабо колеблются желтые листья?.. Что за тайна, томящая душу своей необъяснимостью, была заключена в этом пейзаже? Или виной всему было лишь его сегодняшнее настроение?..
— Я знал, что вы э т о почувствуете, — сказал Левушка, прерывая молчание. — Я еще тогда знал — на вашей лекции, когда вас слушал…
Он говорил, не поворачивая лица к Архипову, глядя прямо перед собой, и легкие пряди его волос чуть шевелились над головой, вздымаемые слабым ветерком.
— Я, Иван Дмитриевич, много думал: отчего место это так глубоко душу трогает, отчего в сердце запечатлевается? И знаете, к какому выводу пришел?.. Природа, она ведь, как архитектор, иногда строит с излишествами, с буйством фантазии, с такой безоглядной щедростью, что ее, эту щедрость, и замечать-то, и ценить-то перестаешь. У природы тоже есть свои барокко и рококо. Не усмехайтесь, Иван Дмитриевич, я могу привести примеры. Но не в них суть. Я что хочу сказать, Иван Дмитриевич: природа устает от собственного богатства, устает от величия своих творений, и тогда, как истинный мастер, она обращается к скудному, скромному, казалось бы, материалу, понимая, что на свете есть лишь один бог — гармония, и есть лишь одна тайна — тайна пропорций! Понимаете, мне кажется, тут все дело, весь секрет в скрытых пропорциях. Потому красоту так легко погубить, разрушить — чуть измени, чуть сдвинь, и все будет вроде бы то же, да уже не то вовсе… Отчего я и бьюсь так, и доказываю… И вот что еще удивительно, — продолжал Левушка после небольшой паузы, — вот что еще меня занимает, Иван Дмитриевич: простое ли, случайное ли это совпадение, что именно здесь бывал Пушкин — человек, обладавший высшим чувством гармонии? Случайность ли это, или все в мире закономерно, переплетено и связано, и ничто не случайно?.. Да можно ли не дорожить таким чудом? Ведь это же закостенеть надо, чтобы чуда этого не ощущать, не чувствовать!.. Ну, хорошо, дома эти, постройки, они хоть под охрану государства недавно взяты, а природа, она беззащитна… Завтра придет кому в голову спилить дуб, и спилят, пруд помешает — пруд спустят, подумаешь, мол, ценность какая!.. Я всякий раз, когда сюда подхожу, страх испытываю, сердце у меня обрывается и падает: а ну как уже что-нибудь случилось, что-нибудь произошло такое…
— И часто вы здесь бываете? — спросил Архипов, все с большим любопытством и симпатией вглядываясь в нынешнего, вроде бы совсем незнакомого ему Левушку.
— Да когда как удастся, — отозвался Воробьев. — Я же на службе состою. Но раз-то в неделю обязательно вырвусь. Я уж тут, знаете, Иван Дмитриевич, — он усмехнулся, — с жильцами и разъяснительную работу провожу, и ругаюсь иной раз, воюю — вот из-за этого, например, белья вывешенного… Сначала они на меня как на чудака какого-то, как на придурка смотрели, честное слово… А теперь привыкли, прониклись, теперь проще стало…
Левушка помолчал, задумавшись, потом сказал с удивленно-доверчивой интонацией:
— Вот вы никогда, Иван Дмитриевич, не задумывались, отчего это человеку непременно хочется после себя хоть что-то, хоть какую-то память оставить?.. Что это за инстинкт такой в нас заложен? Откуда? Ведь, казалось бы, умру — какое мне дело до того, что после меня станет, я-то все равно ничего уже ни знать, ни чувствовать не буду, — умом все это понимаешь, а смириться не можешь. Есть в человеке, в душе его нечто такое, что восстает, бунтует, не дает нам жить по принципу «после нас хоть потоп». Необъяснимо ведь, а, Иван Дмитриевич?.. Мне иногда кажется, Иван Дмитриевич, мы пока еще лишь самые простые, самые элементарные свойства человеческой натуры изучили, а сколько в человеке еще тайн, неизведанных возможностей, неизведанных сил скрыто!..
— Да, — сказал Архипов. — Вы правы. Я тоже об этом часто думаю. Что же касается этой усадьбы, Лев Павлович, я постараюсь вам помочь, чем сумею. Во всяком случае, можете считать меня отныне своим союзником.
В институт Архипов вернулся оживленный, вошел, как входил всякий раз, когда ждала его в лаборатории новая работа, когда предстояла любопытная, обещающая неожиданные результаты серия экспериментов.
В приемной навстречу ему поднялся Геннадий Александрович Калашников. Наверняка что-то серьезное произошло, раз уж сидел секретарь партбюро здесь, дежурил, боясь упустить Архипова. И вид у него был озабоченный.
— Маргарита Федоровна, будьте добры, соедините меня с горисполкомом, — сказал Архипов. — Да, да, именно с Кочубеевым… Геннадий Александрович, прошу вас…
— Новости у меня не особо утешительные, — заговорил Калашников, едва они оказались в кабинете. — Меня поставили в известность, что в горком поступили письма относительно положения дел в нашем институте.
— Вот как? — сказал Архипов. — Даже во множественном числе? Письма?
— Да, — сказал Геннадий Александрович. — Два письма. Причем крайне резкие. Мне неприятно говорить об этом, но думаю, вам все-таки надо знать: авторы писем касаются и некоторых сторон вашей биографии…
— Очень польщен их вниманием к моей персоне, — сказал Архипов. — Кто же они, эти авторы, ежели не секрет?
Калашников пожал плечами.
— Неизвестно. Письма анонимные. Хотя…
— Все. И не говорите мне ничего больше, — резко отозвался Архипов. — Анонимные письма для меня не существуют.
— Да, конечно, это так, — сказал Калашников. — Я целиком и полностью разделяю ваше отношение к подобным сочинениям. Но тем не менее они есть, они написаны, кто-то уже прочел их, и, как бы мы ни уверяли себя, что не придаем значения анонимным письмам, осадок от них остается, тень падает… А там, глядишь, и фактик какой-нибудь застрянет в памяти. Так что как бы ни было это противно, Иван Дмитриевич, а лучше вовремя отреагировать…
— Нет уж, увольте, Геннадий Александрович. Я же знаю, что они там пишут. Думаете — первый раз? Что, мол, Архипов такой-сякой, у него сын во время войны под судом военного трибунала был, так?
— Не только это, Иван Дмитриевич. А Фейгины? Лиза?..
— Эх, Геннадий Александрович, одно только грустно. Я-то думал, что микроб этого мерзкого, анонимного доносительства уже вымирает, нет для него почвы, среды подходящей нет, а он — живуч, оказывается… Способностью к самозарождению он обладает, что ли?..
— Горисполком. Кочубеев, — сказала, входя, Маргарита Федоровна.
— Может быть, не ко времени? — осторожно произнес Калашников. — Мне иногда кажется: прав Аркадий Ильич — вас как будто нарочно ставят под удар. Может, не стоит сейчас? А, Иван Дмитриевич?..
— Нет, отчего же не стоит? — сказал Архипов, снимая трубку. — Отчего же?..
Из тетради Г. С. Вартаняна«…Если «E» — сильная отрицательная эмоция, то, по-видимому, должна существовать тенденция, противодействующая воспроизведению связанных с этой эмоцией элементов. Стало быть, индивид будет сопротивляться припоминанию «S» (если «S» — раздражитель), будет избегать всего, что может быть связано с «S», а поэтому «S» не будет иметь возможности образовывать другие связи помимо первоначальной; вследствие этого связь «S—E» может сохраниться в течение неограниченного времени.
Такого рода явления действительно наблюдаются. Сильные травмирующие переживания редко исчезают; чаще всего они изолируются от других элементов опыта и, вытесненные из сознания, продолжают существовать на протяжении многих лет; события или ситуации, содержащие «S» (или сходные ассоциации), могут привести к обновлению и актуализации всей связанной с ними сильной эмоциональной реакции».
«…Обнаруживается явление, имеющее характер «порочного круга». Человек, которого глубоко задело пережитое унижение, не только постоянно мысленно к нему возвращается, но и вспоминает все другие унижения, испытанные в прошлом, сосредоточивает внимание на том, что существует угроза дальнейших унижений в будущем, и т. п. Такой процесс, разумеется, приводит к усилению прошлого переживания. Так, человек в состоянии глубокого беспокойства замечает в себе и вокруг себя все новые и новые поводы для тревоги, в состоянии обиды — все новые поводы для того, чтобы почувствовать себя оскорбленным, влюбленный — все новые проявления достоинств обожаемого лица, а человек, охваченный чувством вины, — все больше подтверждений своей «греховности».
…Любопытные наблюдения! И очень точные. Как понятно и близко мне все это! И все-таки я считаю, что человек, если это настоящий человек, должен уметь управлять своими настроениями, должен уметь властвовать собой, властвовать своей психикой, не поддаваться эмоциям, как бы сильны они ни были. Только такой человек заслуживает уважения.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Устроившись на тахте, Леночка читала рассказ Гурьянова.
Когда, как, при каких обстоятельствах впервые пришла ему в голову эта мысль, эта идея — настолько странная, что казалась поначалу годной разве что для фантастического сочинения? Когда, как из сумасбродной идеи, идеи, на первый взгляд совершенно неосуществимой, более того — запретной, она постепенно превратилась в реальную, свою, выношенную, стала почти навязчивой, — казалось, уже и отказаться от нее никак невозможно, казалось, не рискни он, не попытайся ее осуществить, и он упустит нечто очень важное — нет, не для себя даже — скорее для нее, для Люси. Да, именно ради нее он должен был сделать это.
Подобное свойство Григорьев замечал за собой и раньше: мысль, выглядевшая поначалу настолько нереальной, что тут же отбрасывалась, потом вдруг начинала незаметно возвращаться, возникать все настойчивее и настойчивее, заставляла вроде пока и не всерьез совсем, а так — лишь для тренировки ума, ради чисто теоретического интереса прикидывать, можно ли при всей очевидной несбыточности все-таки попытаться осуществить ее, и если можно, то каким путем, что для этого понадобится. Так, незаметно, идея приучала к себе, заставляла свыкнуться с ней, поверить не только в ее осуществимость, но и в необходимость.
Впрочем, на этот раз все обстояло несколько сложнее. Если прежде дело касалось лишь непосредственно его собственной научной работы, его научных исследований, и только от него, от Григорьева, зависело — принять или не принять то или иное решение, то теперь…
Будучи человеком достаточно решительным, Григорьев на этот раз долго не мог набраться смелости заговорить с Люсей о том, что занимало его уже несколько месяцев, о чем, оставаясь ли дома наедине с самим собой, приходя ли в лабораторию, думал он постоянно и неотступно.
Григорьев в глубине души был убежден: она не согласится, она отвергнет эту его идею, едва лишь поймет, на что именно он предлагает решиться ей. Скорее всего, идея эта покажется ей дикой. Вероятно, она даже возмутится, рассердится, обидится на него — может быть, даже никогда и не простит ему этого разговора, этого его предложения…
Оттягивая разговор с Люсей, Григорьев злился сам на себя и мучился, потому что уже знал, что все равно рано или поздно заговорит с ней об этом, не может не заговорить — так что чем скорее, тем лучше. Он был уверен: она не согласится и таким образом все решится само собой. Но, к его удивлению, Люся ко всему, что он, наконец решившись, проговорил, торопясь и сбиваясь, отнеслась спокойно. Настолько спокойно, что поначалу Григорьеву показалось: наверно, она попросту не поняла, о чем идет речь, восприняла его слова как шутку, не больше.
Она только взглянула на него долгим взглядом и как-то несмело, неопределенно пожала плечами, словно говоря: я не против, но об этом надо еще подумать… мне трудно вот так, сразу…
И этот ее молчаливый ответ — еще не согласие, но и не отказ — поставил Григорьева в тупик. Может быть, он сам подсознательно ждал от нее отказа, ждал слов возмущения и протеста, может быть, хотел их услышать?..
— Я же серьезно, Люся, я же серьезно, — сказал он. — Я уже очень много об этом думал и теперь уверен, что это возможно. Что это вполне реально…
— Скажи, — вдруг перебила она его, — для тебя очень важны эти исследования?..
— Да нет же, ты опять не поняла, — уже начиная слегка сердиться, сказал он. — При чем тут я? Я же о тебе говорю! Это я ради тебя хочу сделать! Я даже могу сказать, когда именно мне эта мысль впервые пришла в голову. Вот стал сейчас с тобой говорить и сразу так ясно, так отчетливо вспомнил…
…Казалось бы, самый простенький, пустяковый был случай, чего уж проще! Тогда они только-только еще познакомились с Люсей, только-только появилась она у них в институте — застенчивая девочка, лаборантка… Григорьев провожал Люсю домой, и по пути они зашли в магазин — что-то ей понадобилось купить, кажется, масла.
В маленькой, из трех человек, очереди, которая стояла к продавщице, внимание Григорьева сразу привлекла старая женщина. По ее фигуре, по выражению лица нетрудно было угадать, что она одинока и уже очень стара, но все еще сопротивляется старости — во всяком случае, одежда ее, уже давным-давно вышедшая из моды, была чиста и отглажена, не носила следов той старческой неопрятности, того старческого пренебрежения к окружающим, которое обычно раздражало и отталкивало Григорьева.
Женщина покупала ветчину, сто или двести граммов ветчины, и Григорьев хорошо помнил, каким празднично-возбужденным было ее лицо, каким радостно-доверчивым тоном обращалась она к продавщице. Наверно, этот ее приход в магазин означал для нее в тот день нечто большее, чем просто покупку продуктов, — это был для нее маленький праздник, маленькое роскошество, которое она позволяла себе, слабый отголосок давних, куда более счастливых времен, когда она еще не была стара и одинока…
Что ответила ей продавщица, что именно сказала, бросая на весы небрежно отрезанный кусок сала, Григорьев не слышал, он отвлекся в этот момент, но когда снова взглянул на женщину, то увидел совсем другое, погасшее лицо и старческие глаза, полные горечи и обиды.
И в тот же момент Люся потянула его прочь из магазина.
— Пойдем, пойдем отсюда…
— Куда же пойдем? А масло? А чек?
— Бог с ним, с маслом… Я не хочу… не хочу, — повторяла Люся, пока Григорьев послушно шел за ней к выходу, и страдание, самое настоящее страдание читалось на ее лице. — Как она могла так! Как могла! Откуда в людях такая жестокость, такая грубость! Это же все равно что ударить беспомощного ребенка!
Она сама казалась Григорьеву в тот момент беззащитным ребенком.
Мелочь, пустяк, казалось бы, но как отчетливо, во всех подробностях запомнил он тот вечер! Тогда-то впервые он испытал чувство нежности к этой девушке и чувство страха за нее, нахлынувшее вдруг на него. Никогда прежде не испытывал он такого чувства. Оно было так сильно, что ему показалось: он задыхается — ему не хватало воздуха.
Тогда-то впервые у него в голове и промелькнула эта мысль, вернее, еще только смутный намек, смутное предчувствие возможности такой мысли…
Потом уже не раз он угадывал в Люсе эту способность — отчаянно мучиться чужими обидами, способность нести чужую боль так же, как свою, и всякий раз эта черта ее натуры и притягивала и пугала его.
У себя в институте Григорьев имел репутацию холодного, рационального человека. Пожалуй, точнее было бы сказать: он считал, что имеет именно такую репутацию, поскольку беседовать на подобные темы, пытаться узнать чье-то мнение о себе было совсем не в его характере. С него было вполне достаточно, что его ценят, как работника, как ученого, способного выдавать интересные, смелые идеи и в конечном счете, несмотря на все препятствия, добиваться их осуществления, что с ним считаются, что у него есть ученики, которых занимают те же идеи, что и его самого.
У Григорьева были все основания считать, что всего, чего он достиг в жизни, он добился сам, только своими силами, и в глубине души он всегда гордился этим. Рано, еще в юности, похоронив родителей, Григорьев к своим сорока пяти годам так и не женился, жил одиноко и замкнуто. Его редкие увлечения женщинами были малоудачны, не оставляли следа в жизни. Наверно, как впоследствии думал он сам, это происходило оттого, что он, пусть и неосознанно, но всякий раз выбирал таких женщин, которые не могли бы вторгнуться в то главное, что было в его жизни, а именно в его работу, то есть, иначе говоря, оставались к ней совершенно безразличны и равнодушны. Впрочем, несмотря на его замкнутость, в Григорьеве затаенно жила потребность о ком-то заботиться, переживать за кого-то и волноваться.
Он уже почти совсем смирился со своей судьбой — судьбой одинокого человека, объясняя ее все теми же чертами своего характера — холодностью и рационализмом, когда в его жизни появилась Люся. Никогда прежде он и не предполагал даже, что можно так привязаться к человеку, так полюбить, что даже звук голоса этого человека, походка, почерк — все будет дорого тебе, все будет вызывать чувство не испытанной никогда прежде нежности. Да что там почерк! Какой-нибудь клочок бумаги, на котором, задумавшись, машинально рисовала она замысловатые узоры, казался ему исполненным глубокого смысла. Наверно, оттого, что эта его привязанность была такой поздней, вероятно последней и единственной, она оказалась такой сильной. Григорьев видел, что Люся тоже тянется к нему, они все чаще бывали вдвоем. И чем глубже становилось это чувство, тем больше он страшился и тревожился за Люсю. Малейшие грубость или несправедливость надолго выбивали ее из колеи, делали едва ли не больной. Вид исхудалого, голодного ребенка, снятого где-нибудь в Африке или Латинской Америке, вызывал у нее настоящее страдание.
— Пойми, нельзя же так, — говорил ей Григорьев, мучаясь от одного вида ее слез. — В этих переживаниях, в затрате эмоциональной энергии есть смысл, если ты действительно в силах помочь человеку, добиться, допустим, справедливости, изменить что-то, а если у тебя такой реальной возможности нет, надо уметь отключиться, пройти мимо, не обращать внимания. Ты должна уметь защищаться от эмоциональных перегрузок, иначе это может плохо кончиться, я говорю тебе это как специалист, послушай меня…
Она слушала его внимательно и покорно.
— Понимаешь, у каждого человека должны быть определенные защитные свойства, ими недаром наделяет нас природа. Если бы не было этих защитных свойств, человек умирал бы, едва столкнувшись с первым большим страданием, с первым большим горем…
— Я думаю, это было бы правильно, — тихо сказала вдруг Люся. — Я, например, знаю: если бы ты вдруг умер, я бы тут же умерла тоже.
— Слава богу, я не тороплюсь на тот свет, — сердито сказал Григорьев. — А если бы торопился, ты бы меня, конечно, очень сильно утешила таким сообщением…
— Я понимаю, но что я могу поделать с собой…
— «Что я могу поделать с собой» — это тоже не разговор. Человек вовсе не так бессилен перед самим собой, как порой ему хочется думать. Наконец, при желании можно найти определенные средства — мы, ученые, тоже не сидим ведь сложа руки… — Это был пробный камень, первый раз он высказал эту мысль вслух, и Люся не возразила, промолчала, не стала спорить, словно бы согласилась с тем, о чем говорил сейчас Григорьев.
— Пойми, — продолжал он уже с какой-то особой горячностью, с напором, — мне хочется видеть тебя сильной, уверенной в себе, самостоятельной! Ты же такая и есть на самом деле, поверь, Люся, я знаю, ты же такая и есть, только все это не проявлено, скрыто, задавлено дурацким воспитанием! Ты только не сердись на меня, я же лишь оттого так позволяю говорить, что люблю тебя… И боюсь за тебя. С человеком, который мне безразличен, я бы никогда не стал так говорить…
— Я это знаю, — сказала Люся. Она слушала Григорьева, глядя на него с тем особым выражением лица, которое и трогало его до глубины души, и тревожило. Как точнее всего было определить это выражение? Отрешенность? Счастливая отрешенность?
«Как она будет жить, — со страхом, болью и нежностью думал Григорьев. — Как она будет жить — так легко ранимая, такая беззащитно доверчивая?..»
— Я бы хотела стать такой, как ты говоришь, — сказала Люся, — только я ведь не знаю, как… Я не умею…
И тогда он решился…
— Что ты читаешь? — спросил отец Леночки.
— Рассказ, — сказала она. — Фантастический.
— Никогда не любил фантастики, — сказал он. — Сплошная заумь.
Леночка промолчала.
…И тогда он решился…
…— Ты бы хоть рассказала, что он собой представляет, — сказал отец.
— Кто?
— Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю.
— Это очень интересный человек, папа, — сказала Леночка с воодушевлением. — Мне кажется, я таких интересных людей еще и не встречала никогда. У него была сложная жизнь.
— Ну, разумеется! — саркастически сказал отец. — Сколько хоть ему лет?
— Неважно, — сказала Леночка. — Много.
— Я так и думал. Он что — женат? Разведен?
— Не знаю… — сказала Леночка неуверенно. — Нет, по-моему…
— Отлично! — воскликнул отец. — Отлично! Ты даже этого не знаешь, а уже бросаешься ему на шею!
— Папа!
— Что — папа? Я привык называть вещи своими именами, в отличие от тебя. Никогда не думал, что моя дочь окажется так неразборчива.
Леночка сдержала себя, ничего не ответила. Это был единственный способ защититься от отцовской несправедливости — не отвечать.
…И тогда он решился.
— Я могу тебе помочь, Люся, я могу помочь. Только послушай меня внимательно. Последнее время меня занимала одна мысль, одна идея… В общем, мне, кажется, удалось создать аппаратуру — для себя условно я называю ее «ПЛ» — Преобразователь личности. Может быть, это слишком громкое название, но тем не менее… Я не буду сейчас подробно рассказывать, что это за аппаратура, я расскажу только принцип, только идею. Принцип очень простой — даже поразительно, как эта мысль никому раньше не приходила в голову… Ты слушаешь меня, Люся?
— Да, да, слушаю, — сказала Люся.
— Так вот, я говорю: принцип очень прост. Можно даже сказать — элементарный принцип. Ты, наверно, знаешь, как тренируют, например, летчиков еще до полетов, на земле. Существуют специальные тренажеры: летчик сидит в кабине, он словно бы управляет настоящим самолетом, он видит все то, что видел бы в настоящем полете: и аэродром, и взлетную полосу, и облака, и землю… Только, конечно, все это не настоящее — кино плюс электроника. Но эффект присутствия, эффект подлинности полный. Летчику создают стрессовые, аварийные ситуации — я сам видел эту штуку, и, честное слово, мурашки по спине бегут, когда вдруг тебя начинает опрокидывать и земля под тобой то проваливается, то встает дыбом — ощущение катастрофы полное! — и летчик должен мгновенно, не теряясь, принимать решение. И так — раз, другой, третий… у летчика вырабатывается как бы психологический иммунитет, способность не впадать в панику, оставаться хладнокровным в самые критические моменты — одним словом, вырабатывается определенный характер… И вот я подумал… а что если… Ты только не говори сразу «нет», ты подумай… Одним словом, мне пришла в голову идея психологического тренажера. Понимаешь, это же совсем несложно — с помощью электроники мы можем смоделировать широкий набор стрессовых жизненных ситуаций. Разумеется, для каждого человека должна быть своя, индивидуальная программа в зависимости от характера, от особенностей натуры, но принцип общий. Это, знаешь, вроде введения вакцины, когда человек должен переболеть какой-то болезнью в слабой форме, чтобы потом не заболеть всерьез. Так и тут. Понимаешь, человек же привыкает, постепенно человек ко всему привыкает… Ну вот самый простой пример, чтобы тебе было понятно: допустим, некий юноша мечтает стать врачом, хирургом, но при этом не выносит вида крови, как кровь — так ему становится дурно. И вот с помощью нашей аппаратуры мы постепенно приучаем его к виду крови, постепенно, шаг за шагом моделируем такие ситуации, что он привыкает… Конечно, тут не только электроника, тут и гипноз, и электросон — одним словом, целый комплекс средств… И вот я подумал, Люся… Я ведь ради тебя все это затеял. Скажи, ты могла бы решиться? Я же серьезно, Люся, я же серьезно, я уже очень много об этом думал и теперь уверен, что это возможно, что это вполне реально…
И вот тогда-то она и перебила его:
— Скажи, для тебя очень важны эти исследования?
Наверно, все-таки она недостаточно хорошо представляла себе, на что должна была решиться. Григорьев-то отлично знал это — программа уже была продумана им. Может быть, как раз в этом, в его знании, и заключалась истинная причина столь долгих его колебаний и сомнений. Он знал, что, согласись Люся на этот эксперимент, и он должен будет проявить к ней нечто такое, что другие, возможно, назвали бы жестокостью. Но это жестокость врача, совершающего тяжелую, болезненную операцию во имя спасения доверившегося ему человека. Он спрашивал себя: а хватит ли у него на это сил? Не отступит ли он на полдороге? И отвечал: да, хватит. И все-таки Люся должна была знать, что ее ждет, что придется ей испытать. Он не хотел, чтобы она решалась на это вслепую, лишь оттого, что верила в него, в Григорьева, верила в его авторитет.
Что ж, она была готова и на это. Она так и сказала ему:
— Что ж, я готова. — И добавила, чуть поколебавшись: — Если ты считаешь, что так нужно.
Может быть, она соглашалась лишь из боязни отказом своим огорчить его? Он хорошо знал эту черту ее характера: она готова была поступиться своими интересами, пожертвовать, уступить — лишь бы не причинить другому человеку боль или огорчение.
— Эта твоя покорность меня убивает! — воскликнул Григорьев. — Да, я считаю, что так нужно. Но это считаю я. Я! А мне сейчас необходимо знать, что считаешь ты. Твое мнение мне необходимо, знать, понимаешь?
Люся опять посмотрела на него долгим, словно бы запоминающим взглядом.
— Я же сказала: я готова, — повторила она.
Что-то загадочное было в этом ее взгляде, что-то такое, чему он, Григорьев, не мог найти ни точного определения, ни объяснения. В такие минуты он начинал думать: а что, если он ошибается и вовсе не видит ни ее подлинной натуры, ни ее характера так ясно, так отчетливо — н а с к в о з ь, как это ему казалось.
— Люся, ты понимаешь, я так не могу. Мне нужно, чтобы ты сама этого хотела. А у меня сейчас такое ощущение, будто я заставляю тебя, будто принуждаю…
— Нет, нет, неправда, я сама так решила! — сказала она торопливо. — Ты не бойся, не мучай себя напрасно. Ты знаешь, — добавила она вдруг, застенчиво улыбнувшись, словно опасалась, что Григорьев может посмеяться над ней, не принять всерьез ее слова. — Я, еще когда девчонкой была, помню, даже мечтала: вот бы интересно побыть сначала одной, а потом — совсем-совсем другой, как бы две жизни прожить, правда?..
Это наивное признание и умилило Григорьева, вызвало ответный прилив нежности, и в то же время опять повергло в отчаяние: девочка, совсем еще девочка сидела перед ним! Мог ли он требовать от нее того, чего требовал сейчас? Вправе ли был требовать? По силам ли ей та задача, решить которую он предлагал ей сейчас? Так или иначе, а вся ответственность за принятое решение будет лежать на нем, и только на нем.
«Девочка, совсем еще девочка… И может быть, все то, что пугает сейчас меня в ее натуре, в ее характере, со временем пройдет само собой… Может быть, и пройдет, но сколько мук потребует это от нее, сколько нравственных страданий принесет!..»
И что еще может он, Григорьев, сделать для этой девочки, как не спасти ее, не избавить от этих лишних мук и страданий?
— Ну что ж, — сказал он. — Если ты согласна, то недели через две мы приступим. И не бойся, все будет хорошо. Люся, вот увидишь, все будет хорошо.
В общем-то, все уже было готово у него, все продумано до мелочей, до деталей, и если давал он эту двухнедельную отсрочку, то не столько для себя, сколько для Люси. Впрочем, нет, он обманывал себя, думая так. Эти две недели он выкроил для себя. По сути дела, эти две недели были неделями прощания. Он прощался с той Люсей, которую знал. Когда она пройдет намеченный курс лечения… Нет, он не хотел употреблять это слово. «Когда она пройдет курс психологической тренировки, курс п р е о б р а з о в а н и я, — говорил он себе, — когда останутся позади все сеансы, это будет уже другой человек. И может быть, той — д р у г о й Люсе уже не будет нужен он, Григорьев». Что ж, он был готов и к этому. Лишь бы она, Люся, была счастлива…
…— Я всегда верил, что сумею вырастить дочь, обладающую чувством женского достоинства, — сказал Леночкин отец. — Оказывается, я ошибся. Ты вся в мать. Ты хоть подумала, что у него наверняка уже было сто женщин? Ты хочешь стать сто первой?
— Папа! Не смей говорить так! У нас совсем другие отношения!
— Другие отношения? Просто он пользуется твоей наивностью. Будь спокойна, я лучше твоего знаю мужчин, — сказал отец. — И не зажимай уши! — вдруг закричал он. — Что это за манера: отец говорит, а она уши занимает! Не желаешь слушать — так и скажи. Твоя мать тоже не выносила, когда я говорил ей правду. Правда, она ведь глаза колет!..
Леночка не отвечала.
…лишь бы она, Люся, была счастлива.
Через две недели утром она вошла к нему в лабораторию все такая же тихая, спокойная, все с той же застенчивой улыбкой:
— А вот и я…
Наверно, следовало бы произнести какие-нибудь торжественные, значительные слова: как-никак, а впереди были долгие три с лишним месяца сложной и нелегкой работы, как-никак, а все то, что предстояло Григорьеву и Люсе, предстояло впервые. Никто никогда не совершал еще ничего подобного. Но значительные слова не шли в голову, и Григорьев сказал просто:
— Ну, иди, иди…
И неловко поцеловал Люсю в щеку.
— Иди.
Она послушно ушла, скрылась в помещении, где уже мерцали большие выпуклые экраны. Двойные двери бесшумно задвинулись за ней.
А Григорьев занял место у пульта.
— Сядь в кресло, — сказал он в микрофон. — Сядь поудобнее, расслабься. Ты слышишь меня?
— Да, — отозвалась Люся.
Григорьев помедлил еще немного и нажал кнопку. Красная сигнальная лампочка тотчас же вспыхнула на пульте.
Никогда еще ни один эксперимент, ни один опыт, ни одна работа, как бы ни были они сложны, не казались Григорьеву такими бесконечно долгими, требующими такого напряжения, как те два часа, которые продолжался этот первый сеанс. Датчики исправно выдавали информацию: у пациентки учащается пульс, дыхание прерывистое, кривая эмоциональных перегрузок неуклонно ползет вверх, потом начинается спад, кривая идет вниз, потом снова вверх, вверх…
Был момент, когда нервы Григорьева чуть не сдали, чуть не нажал он кнопку «аварийная, стоп», чуть не прервал сеанс. Но два часа были уже на исходе, он сумел перебороть себя. «Все идет, как задумано, — говорил он себе, — не надо паниковать, все идет, как задумано…»
Наконец красная лампочка погасла. Бесшумно раздвинулись двери, и Григорьев увидел Люсю.
Какую радость испытал он в эту минуту, какую радость! Как будто встретился с ней после долгой разлуки. От нее веяло сонным теплом, как от только что проснувшегося ребенка.
— Ну что? Ну как ты? Все в порядке? — нетерпеливо спрашивал Григорьев. — Что ты чувствовала?
— Какое-то странное ощущение… странное ощущение… — проговорила Люся медленно, словно с трудом подбирала слова. — Сначала я увидела толпу на экране, толпу идущих куда-то людей, потом я почувствовала, что я тоже в этой толпе, что я тоже иду куда-то… меня толкают… Все это было так реально, я даже чувствовала запах пота, дешевых духов и пудры… было жарко и пыльно… и толпа становилась все плотнее и плотнее, я пыталась остановиться, мне было страшно, я пыталась выбраться из толпы, но мне это не удавалось, мне это никак не удавалось… Я была как во сне, в долгом, непрекращающемся сне… Я хотела проснуться и не могла…
— Да, да, все верно, так и должно быть, — возбужденно, взволнованно говорил Григорьев. — Все именно так и должно быть. И успокойся — видишь, все прошло, ничего страшного…
…— Ты только не обманывай меня, — сказал отец. — Не скрывай от меня ничего и не обманывай. Я не вынесу, если ты меня будешь обманывать, слышишь?..
— Папа, ну что такое! Ты не даешь мне читать! — возмутилась Леночка. — Тут самое интересное место!..
— Хорошо, хорошо, читай, — сказал отец обиженно.
…все прошло, ничего страшного…
Так начался этот путь, который предстояло пройти Люсе во имя будущей ее счастливой, как представлялось Григорьеву, жизни. Только эта мысль придавала ему силы, помогала оставаться твердым, когда он садился за пульт.
…— Ты напрасно злишься на своего отца, — сказал Леночкин отец. — Ты еще не знаешь жизни. И никто, кроме меня…
— Ну, папа!
— Ладно, ладно молчу. Что за характер у тебя стал — слова сказать нельзя!.. Ты вот споришь, а я же вижу, что на тебя плохо влияет этот человек…
…помогала оставаться твердым, когда он садился за пульт.
Еще неизвестно, кому требовалось в эти дни больше мужества — ему или ей. После очередного сеанса, стараясь казаться спокойным, стараясь не выдавать своего волнения, он встречал Люсю все тем же вопросом:
— Ну как ты? Все в порядке?
— Мне опять снился страшный сон… — совсем по-детски жаловалась она. — Такой тяжелый, такой страшный сон… будто я… мне даже вспоминать не хочется…
— И не надо, не вспоминай, — говорил Григорьев, вглядываясь в ее усталое, измученное лицо, в заплаканные глаза. — Если хочешь, мы все прекратим, если тебе трудно, ты только скажи…
— Нет, я уж вытерплю все до конца, мне кажется, мне теперь уже легче…
— Правда, легче? Правда? Ты не ошиблась?
Впрочем, датчики говорили то же самое. Кривая эмоциональных перегрузок уже не поднималась так резко вверх, как раньше, хотя Григорьев значительно увеличивал продолжительность сеансов и усиливал стрессовую напряженность. Это означало, что происходит перелом, кризис. Он знал, что этот момент должен был наступить, и все-таки не решался еще радоваться.
Подтверждение тому, что перелом действительно наступил, что это не только плод его, григорьевского, воображения, обнаружилось вскоре самым неожиданным образом.
— Вы не замечаете, что с нашей Люсей что-то творится? — сказала однажды Григорьеву его заместительница, Алла Павловна. — С тех пор как вы стали с ней работать, ее не узнать. Возгордилась она, что ли? Раньше, бывало, от нее никогда возражения не услышишь, только «да, хорошо», «да, конечно, я сделаю». Я не могла нарадоваться на девочку. А теперь знаете, что она мне сказала, когда я ее попросила вне очереди подежурить в воскресенье? «Почему бы вам хоть разок не подежурить самой, Алла Павловна?» — вот что она мне сказала! Я думаю, вы избаловали ее своим вниманием!
— Обратите внимание, Григорьев, — говорил ему ученый секретарь института, — у вашей Люси нежданно-негаданно начали прорезаться зубки! Нет, я в хорошем смысле, только в хорошем! Мне всегда казалось, что она из того сорта женщин, которые до выхода на пенсию так и остаются лаборантками, вечными лаборантками. А тут вчера на философском семинаре… Нет, честное слово, жаль, вы сами не слышали ее выступления, к ней стоит присмотреться повнимательнее, это, кажется, человечек с сюрпризом…
— Послушай, Григорьев, что делается с Люсей! — говорили восторженно мужчины из соседних лабораторий, сойдясь на лестничной площадке подымить сигаретами. — Неужели ты не видишь, как она похорошела? Открой нам секрет, в чем дело? Прямо расцвела девочка, мы и не подозревали, что у нас в институте такая красавица работает! Если так дело дальше пойдет, мы за себя не ручаемся!
Слушая подобные разговоры, Григорьев лишь посмеивался и уклончиво пожимал плечами.
И правда, если прежде Люся словно бы стеснялась себя, словно бы сжималась под чужими взглядами, терялась и робела и оттого начинала казаться невзрачной, бесцветной, то теперь, постепенно обретая спокойную уверенность, обретая новую манеру держаться, она, к изумлению многих, превращалась из скромной замухрышки-золушки в первую красавицу бала…
Григорьев и сам порой смотрел на нее с тайным изумлением, как будто видел ее впервые, и смутная тревога охватывала его. Это была уже не та Люся, к которой он привык, которую он любил, которая была ему дорога. Впрочем, он отгонял от себя подобные мысли, он старался не думать об этом: главное теперь заключалось в том, чтобы довести дело до конца, не упустить успех сейчас, когда он уже был так очевиден. Азарт ученого, почуявшего близость удачного завершения нелегкой работы, владел им.
Григорьев сам настоял на том, чтобы сразу после окончания курса, после завершения дополнительных сеансов электрогипноза Люся уехала отдыхать, сам хлопотал, добивался, чтобы ей дали внеочередной отпуск.
Она вернулась через месяц. Григорьев встречал ее в аэропорту. Она загорела и казалась еще красивей, чем прежде. Выражение спокойной, холодной уверенности было написано на ее лице.
Чужое, совсем чужое лицо! Они оба как бы заново всматривались друг в друга, и Григорьев с удивлением обнаруживал, что теряется в ее присутствии, не знает, как вести себя с этой новой, незнакомой ему Люсей.
Мимо прошла молодая женщина с мальчонкой. Мальчонке было на вид лет пять, не больше, он упирался и плакал, даже не плакал, а захлебывался, заходился в беззвучном, отчаянном рыдании, мать же волокла его за собой и говорила озлобленно:
— Вот погоди, погоди, доберемся домой, я тебе покажу, ты у меня узнаешь!..
Мальчишка упирался еще больше, еще отчаяннее, страх, самый настоящий страх перед тем, что ожидало его дома, метался в его глазах.
Раньше бы подобная сцена вызвала у Люси приступ горьких переживаний, заставила ее страдать за ребенка, а сейчас она лишь скользнула взглядом по матери и плачущему мальчишке и равнодушно отвела глаза. Что ж, верно. Все так и должно было быть. Разве не сам он внушал ей еще совсем недавно: «Надо уметь отключиться, пройти мимо, не обращать внимания. Ты должна уметь защищаться от лишних эмоциональных перегрузок, иначе это может плохо кончиться для тебя…» Все так, все верно, она отлично усвоила его уроки, но почему же тогда так сильно и так внезапно заныло сердце?..
— Ну как я тебе нравлюсь? — с легкой усмешкой спросила Люся. — Я ведь стала такой, какой тебе хотелось меня видеть, не правда ли?
— Да, да, конечно, — поспешно сказал Григорьев.
Она ждала от него еще каких-то слов, но он только молча, в растерянности и смятении смотрел на нее. Кажется, он учел все возможности, кроме одной, кроме этой. Напрасно он пытался воскресить прежний образ Люси, напрасно пытался отыскать в своей душе прежнее чувство к ней. Тогда еще, в самом начале, он предвидел, что новая, изменившаяся Люся может разлюбить его, он приготовил себя к этому, но ему не приходило в голову, что может разлюбить он сам. И тем болезненнее, тем горше теперь было это открытие, тем невыносимее становилось ощущение потери. Неужели только оттого умерло, угасло его чувство, что она, Люся, больше не нуждалась ни в его помощи, ни в защите?..
— Ладно, не переживай, — видно, угадав его состояние, вдруг сказала Люся, и что-то давнее, знакомое мелькнуло в ее глазах — тот самый, долгий, словно запоминающий взгляд, которым когда-то смотрела она на Григорьева, почудился ему. — Ладно, не переживай. Я ведь тоже уже не люблю тебя.
И прежде чем отвернулась, прежде чем спрятала от Григорьева свое лицо, он успел увидеть в ее глазах затаенные слезы.
Что означали эти ее слова? Правду она сказала, или они вырвались у нее лишь затем, чтобы избавить Григорьева от необходимости тяжелых объяснений, которые не могли причинить ему ничего, кроме боли? И что значили эти ее затаенные слезы? И были ли они или лишь почудились Григорьеву?..
Через минуту Люся снова смотрела на Григорьева, смотрела спокойно и уверенно, взглядом человека, знающего себе цену…»
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
— Я — Светлова. Нина Алексеевна Светлова. Помните, я писала вам насчет своей сестры? Вы мне ответили, разрешили прийти. Вот я и пришла, Иван Дмитриевич. Откровенно говоря, я не очень надеялась, что вы ответите. Я же понимаю, как вы заняты. У меня муж тоже был научным работником, в институте холодильной промышленности, так что я имею представление о том, что такое научная работа, сколько времени она требует от человека…
— Прошу вас, садитесь, — сказал Архипов.
Примерно такой он и представлял себе эту женщину. Сухощавая, подвижная, нервная, волосы крашеные, черные, собраны сзади небольшим пучком, но краска местами уже сошла, обнажив седину. И сумочка в руках старомодная — р и д и к ю л ь, теперь, кажется, таких и не носят, и костюм прямой, английского фасона, строгий. Наверно, учительница. А движения угловатые, суетливо-резкие — нервные. Архипов хорошо знал подобный тип женщин — женщин, перенесших войну. Сколько бы ни прошло лет, как бы ни изменилась к лучшему жизнь, а след войны, печать недоедания, бесконечного стояния в очередях, тоски, страха за детей, бессонных ночей навсегда остались в их облике. И в то же время сквозь эту нервность, угловатость, сквозь седину, выдающую возраст, все еще проглядывает женственность, желание нравиться, наивная вера в свою женскую привлекательность.
— Мы ведь до какой-то степени коллеги, — сказала Светлова. — Я преподавала биологию в школе. Впрочем, теперь этот предмет так изменился, что я и говорить на эту тему не рискую. Теперь каждый восьмиклассник такими понятиями оперирует, о каких мы и в институте не слышали. Но с вашими работами я немного знакома, Иван Дмитриевич. Я когда-то увлекалась психологией, так, по-дилетантски, разумеется, но читала много. Даже о заочной аспирантуре подумывала, но война все нарушила. А ваши работы помню.
— Благодарю вас, — сказал Архипов.
— Я оттого и осмелилась написать, что уже знала о вас раньше. Я так и подумала: если это т о т Архипов, он ответит. Я рада, что не ошиблась. Своим письмом вы придали мне бодрости, я не преувеличиваю. А то иногда начинаешь чувствовать себя никому не нужной. Вот говорят: люди теперь стали менее внимательны друг к другу, более безразличны, каждый сам собой озабочен. Век, мол, такой нынче. А мне кажется, мы это сами себе внушили — для собственного оправдания. Простите, Иван Дмитриевич, я наговорила вам много лишнего — это от волнения. Я совсем растерялась.
Она суетливо порылась в сумочке, но ничего не достала оттуда и снова заговорила:
— Поверьте, Иван Дмитриевич, я бы ни за что не решилась вас беспокоить, отрывать от дела, если бы у меня оставалась хоть какая-нибудь надежда, хоть какая-нибудь возможность облегчить страдания моей сестры. Сестра моя — исключительный человек, мягкий, отзывчивый. Мы с ней рано без матери остались, так она, старшая, мне как мама была, всю жизнь к людям только с добром шла, о ней слова плохого никто сказать не мог. Так за что же ей такие страдания? Мука такая выпала — за что? Вот говорят иногда: за добро добром воздается. А я давно уже в это не верю. Да и как верить? Я ее мальчиков, племянников своих, перед глазами вижу, смерть их страшную себе представляю — где же тут добро за добро?! И как жить после этого? Она говорит: до сих пор крик их в ушах у нее стоит. Бандеровцы их сожгли у нее на глазах. В хате заперли и сожгли. Она умоляла, она перед ними на коленях ползала — лучше меня убейте! Так нет, из всех казней они самую жестокую выбрали. Большей жестокости, зверства большего я не знаю. Сестра моя учительницей была, а муж ее — директор школы, коммунист, ему бандиты и мстили. И момент такой выбрали, кто-то навел их, когда его дома не было, сестра одна с детьми оставалась, а он в область уехал. Я вот все думаю: откуда ненависть такая звериная? Как объяснить? Как понять? Разве ж люди такое сделать могут? Чтобы детей, живых…
Глаза ее полнились слезами, она торопливо шарила в сумочке, пытаясь отыскать платок. Наконец нашла, прижала к глазам.
— Старшему шесть лет как раз исполнилось, а младшему — четыре годика… Так старший, Юрочка, когда огонь уже хату охватил, брата своего еще спасти пытался, на подоконник подсаживал, из окна вытолкнуть хотел… Как мать это вынесла, как разум ее тогда же не помутился, не знаю. Наверно, одна только мысль: остаться жить, чтобы рассказать, чтобы бандиты не ушли от мести, и поддерживала ее. Бандеровцы ее связали, чтобы она в огонь не кинулась, так ее и нашли потом связанной возле пепелища, без сознания…
Архипов молчал, погрузившись в тяжелую задумчивость. С самого начала, еще в тот день, когда Маргарита Федоровна читала, здесь, в его кабинете, пришедшие в институт письма, Архипов понял, что если кому-то и должен, обязан помочь, то прежде всего этой женщине, вернее — ее сестре. Но как? Что мог он сделать?
— Я с тех пор слов этих — «национализм», «фашизм» слышать не могу, — снова заговорила Нина Алексеевна, — меня трясет всю. Я рассудком понять этого не могу, сколько ни пытаюсь. Страшно! Если они люди, тогда я человеком не хочу называться. Это же волки, хуже волков… Сестре моей, Вере, — продолжала Нина Алексеевна после некоторой паузы, — врачи советовали завести ребенка, говорили, что только это может спасти ее. Но она об этом даже слышать, даже думать не могла. Она и учительницей больше не смогла работать — как детей увидит, так своих мальчиков вспоминает. Никуда ей от этой памяти не уйти. Я надеялась — может быть, время хоть как-то смягчит ее мучения, но тут и время оказалось бессильно, такие раны кровоточат всю жизнь. Мне кажется, теперь, в старости, она мучается еще больше, если, конечно, можно мучаться больше. Старому человеку ведь вообще свойственно жить прошлым. А ее память вся на том жутком дне сосредоточена. Она себя винит, это самое ужасное. И спать последнее время она почти перестала, говорит, ее один и тот же сон преследует, одна и та же картина перед глазами стоит. Сколько же может продолжаться эта мука?.. Я только на вас и надеюсь теперь, Иван Дмитриевич, я, как статью эту в газете прочла, сразу подумала: это судьба, это сама судьба мне путь указывает. Мне ведь и газета-то на глаза случайно попалась, никогда вроде бы и не читаю ее, не выписываю, а тут будто подтолкнул кто. Действительно, судьба. Я все думаю: разве она, Вера, не заслужила того, чтобы хоть под конец жизни обрести немного покоя? Разве это справедливо, что она так мучается?..
Архипов хотел что-то сказать, но внезапно закашлялся. Кашлял он трудно — лицо его побагровело, на глазах выступили слезы, жилы на шее вздулись. Наконец приступ кашля отпустил его, но понадобилось еще некоторое время, чтобы Архипов смог заговорить.
— Ну что ж… Надо подумать, что мы можем сделать… — сказал он. — Видите ли, Нина Алексеевна, мы действительно работаем над методами, над препаратами, способными избирательно воздействовать на память, в частности, ослаблять память о травмирующих переживаниях, о событиях, вызывающих резко отрицательные эмоции… Но все это еще в лабораторной стадии, в стадии эксперимента. Мы получаем довольно устойчивые результаты на животных, мы кое-чего уже достигли, но это еще не значит…
— Но, Иван Дмитриевич, милый! — сказала Нина Алексеевна, в волнении даже не заметив, что перебивает Архипова. — Может быть, все-таки…
— Надо подумать, надо подумать… — повторил Архипов. — А к психиатрам вы не пробовали обращаться?
Нина Алексеевна отрицательно покачала головой.
— Нет, — сказала она. — Я боюсь, Вера может подумать, что мы считаем ее ненормальной. Это будет еще хуже.
— А фармакологические средства? Транквилизаторы? Это ведь тоже путь. Не самый лучший, но все же…
— Может быть. Я не знаю. Я оттого и обратилась к вам, Иван Дмитриевич, чтобы вы мне совет дали… Я только одно чувствую: дальше нельзя так. Это же пытка какая-то беспрерывная, сердце мое разрывается, когда я вижу… — Она смотрела на него с мольбой и надеждой. — Иван Дмитриевич! Я отчего-то верю: вы нам поможете, вы — такой человек…
В этот момент дверь кабинета открылась и вошла Маргарита Федоровна.
— Иван Дмитриевич, простите ради бога, но к вам — Фейгина. Она спрашивает: ей подождать?
— Кто? — спросил Архипов.
— Фей-ги-на. Ну, Лиза Фейгина.
— А… Лиза… — произнес Архипов замедленно. — Чего она хочет?
Маргарита Федоровна опустила глаза.
— Она говорит, что пришла проститься, Иван Дмитриевич.
Наступила пауза. Тишина стояла в кабинете. Только слабый стук пишущей машинки доносился из канцелярии. Потом Архипов сказал:
— Нет, Маргарита Федоровна. Пусть не ждет. Незачем. Скажите ей: я не люблю прощаний.
— Хорошо, Иван Дмитриевич.
Кажется, только теперь он окончательно понял, что теряет Лизу. Сердце его сжалось. Словно бы собственную дочь терял и ничего не мог поделать. Она уходила, она безжалостно рвала все, что связывало их. Не удержишь, не остановишь.
Он сам был виноват, он сам упустил ее. Уверил себя, что незачем вмешиваться в ее взрослые дела, и в последние годы, после ее замужества, так редко заходил к ней… Он боялся оказаться по-стариковски навязчивым, он предпочитал деликатно устраниться. Имел ли он право вмешиваться в ее жизнь со своими советами? Так он думал тогда. Теперь он запоздало и нещадно корил себя за эту интеллигентскую деликатность.
Маргарита Федоровна еще шла к двери. Он мог еще окликнуть ее, изменить свое решение. Но он не стал этого делать. К чему?
Мог ли он знать, мог ли догадываться в тот момент, что пройдет немногим больше года и в такой же осенний день он будет держать в руках узкий изящный конверт «air mail» с заграничной маркой, погашенной волнистым штемпелем, с показавшейся незнакомой фамилией отправителя, выведенной латинскими буквами, «Faigin»? Уже предчувствуя беду, он разорвет этот конверт и обнаружит в нем листок почтовой бумаги, торопливо — так, что окончания слов превращались в неразборчивый росчерк, — исписанный рукой Ефима Семеновича Фейгина.
«Многоуважаемый Иван Дмитриевич! — прочтет Архипов криво бегущие вниз строчки. — Очень сожалею, но вынужден сообщить вам печальное известие. Лизы больше нет, она ушла из жизни. Я не в состоянии объяснить, что толкнуло ее на такой шаг. Можете мне поверить, у нее не было для этого никаких оснований. Впрочем, вы и сами хорошо знаете, что она всегда была неуравновешенным, по сути дела больным человеком. Последнее время с ней было очень трудно. В остальном жизнь моя идет нормально. Я бы не стал тревожить вас этим письмом, но такова была просьба Лизы. Ефим Фейгин».
Ничего этого еще не знал, не мог знать Архипов.
Он проводил взглядом Маргариту Федоровну, тщательно прикрывшую за собой двери, и снова повернулся к Нине Алексеевне, которая по-прежнему смотрела на него с ожиданием и надеждой.
— Нас прервали, простите, — сказал Архипов. — Итак, на чем мы остановились?
— Вы говорили о транквилизаторах…
— Да, — сказал Архипов. — Да…
Когда он впервые заметил, что Лиза принимает успокаивающие таблетки? Кажется, она уже заканчивала аспирантуру и у нее уже начинался роман с Фейгиным. Архипов рассердился: в ее ли годы глушить себя таблетками? Но Лиза была удивительно беспечна. «Да сейчас их перед экзаменами любой студент глотает, — говорила она, — вы, Иван Дмитриевич, просто отстали от жизни». Наверно, он и правда казался ей глубоким стариком, пришельцем из прошлого века, все его советы в ее представлении отдавали нафталином… Иные советчики были у нее, иные…
Архипов провел рукой по лицу, словно невидимую паутину снял.
— Поверьте, Нина Алексеевна, — сказал он, — я попытаюсь сделать для вашей сестры все, что в моих силах. Но прежде всего мне нужно встретиться с ней. Вы уверены, что она захочет прийти?
— К вам — да! — горячо отозвалась Нина Алексеевна. — Я уже говорила ей о вас. Она придет, обязательно придет. Я даже не знаю, как вас благодарить, Иван Дмитриевич!..
— Благодарить еще не за что, — сказал Архипов, вставая.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
— Это правда, будто с Архиповым что-то происходит? — спросила Леночка у Глеба Гурьянова. — Как вам кажется?
— Смотря что понимать под этими словами, — отозвался Гурьянов с усмешкой. — Со всеми нами что-то происходит, пока мы живы. Разве не так? А в общем-то, едва ли не у каждого человека однажды в жизни наступает такой момент, когда он чувствует, что может сказать людям что-то значительное, по-настоящему важное. Архипова т я н е т к л ю д я м — вот что с ним происходит.
Гурьянов провожал Леночку из института домой. Теперь каждый день они выходили из института вместе, и Леночка больше не пугалась, что кто-нибудь из ее лаборатории увидит их. Почему-то это перестало ее смущать. Она и сама не заметила, как совершился в ее душе этот перелом.
— Понимаете ли, — развивал свою мысль Гурьянов, — вот говорят: наука служит людям. И это так, это верно. Может быть, никогда еще наука не служила человеку так усердно, так прямо, как нынче. И в то же время, как это ни парадоксально, никогда еще не был так высок, так непреодолим барьер непонимания, отчуждения между теми, кто служит науке, и окружающими людьми — то есть теми, кому наука служит. Современная наука отчуждает своих служителей от конкретного человека. Пусть-ка попытается физик-теоретик объяснить сегодня простому смертному, в чем смысл его работы! Да что там — простому смертному! Два ученых, работающих вроде бы в смежных областях науки, не могут понять друг друга. Они встречаются, как два инопланетянина. Ну что, скажите, простому смертному до соотношения аденина и цитозина в РНК, извлеченной из нейронов левого полушария мозга крысы? А для Геннадия Александровича Калашникова это вопрос вопросов. Он этому вопросу вопросов чуть ли не всю свою жизнь посвятил. Только не думайте, что я иронизирую, нет. С таким же успехом я мог бы иронизировать над самим собой. Каждый из нас уткнулся в свои приборы, в свои эксперименты, в свои графики. Иначе и нельзя сегодня. Но рано или поздно нам становится невыносима наша узость. Нам хочется заговорить на обычном языке, который был бы понятен всем людям. Мы начинаем тосковать по универсальным идеям. Допускаю, что это тоска по невозможному, по несбыточному. Но что из того? И тогда одни начинают философствовать, а другие писать фантастические рассказы…
Он засмеялся.
— Не смейтесь, — сказала Леночка. — Я до сих пор об этом рассказе думаю. Он произвел на меня странное впечатление. Знаете, так со мной только в детстве бывало: когда чувствуешь себя счастливой-счастливой и одновременно вдруг к глазам подступают слезы, плакать хочется… Отчего это?
— Не знаю, — сказал Гурьянов.
— Мне кажется, оттого, что я первый раз так отчетливо поняла, почувствовала: вы же д о м е н я, до того, как мы встретились, уже целую жизнь прожили, и я к этой жизни не имею никакого отношения.
Гурьянов молчал. Что означало это молчание? Значит, он был согласен?..
Странный он все-таки человек. Что хотел он выразить, что хотел сказать лично ей этим своим рассказом? Загадал головоломку, ребус и теперь молчит. А она чувствует себя словно человек, не расслышавший до конца обращенных к нему слов, но догадывающийся, что было в этих словах нечто очень важное для него.
Когда Леночка говорила отцу: «У нас другие отношения», она не кривила душой, она и правда была убеждена — другие. А какие — другие? Она и сама не могла разобраться. Все перемешалось в ее душе: и тревога, и неуверенность, и радость. Какая же это любовь? О любви у нее были совсем иные представления. Да и могла ли она полюбить человека, который был на столько старше ее, чуть ли не в отцы ей годился! Смешно так сказать о Гурьянове: в отцы годится. Но верно ведь — целая жизнь их разделяет. И эта его, прожитая уже, жизнь всегда останется чужой, недоступной для нее. Но даже в этом переживании Леночка вдруг открывала для себя какую-то особую — горькую — привлекательность.
Однажды, еще в университете, кажется на третьем курсе, во время экзамена Леночке достался вопрос о неосознанных эмоциях. И, отвечая тогда экзаменатору, она в качестве примера неосознанной эмоции приводила ситуацию, когда человек, уже будучи влюбленным, уже испытывая тяготение к объекту своего чувства, еще не осознает своей влюбленности, ищет своему состоянию какие-то иные объяснения. Это был пример из учебника. Леночка получила пятерку. Но как ни странно, эта пятерка никак не помогала ей разобраться в собственных чувствах, отнести к себе то, что читала она в учебнике.
— Говорят, прошлое нельзя изменить, — неожиданно сказал Гурьянов. — А ведь это не так. Одни события мы забываем, другие помним, следовательно, мы меняем свое прошлое. То, что мы забываем, уже не оказывает на нас воздействия, иначе говоря, как бы и не существует для нас вовсе. Выходит, если человек научится управлять своей памятью, он научится управлять своим прошлым…
— Это вы новый фантастический рассказ сочиняете? — спросила Леночка.
— Может быть. А впрочем… Я ведь как рассуждал, когда к Архипову шел работать: если сегодня мы еще не можем избавить людей от жестокости, от боли, от смерти близких, то мы можем хотя бы попытаться облегчить людям их страдания. Разве человек по природе своей не старается з а б ы т ь тяжелое, страшное? Если не забыть, то, по крайней мере, полузабыть, стереть? Разве зря говорится — время лечит? И лечит, ведь правда лечит. Так почему же не попытаться помочь людям з а б ы в а т ь?..
— Не знаю, — сказала Леночка, — но по-моему, в этом есть что-то страшное…
— Да почему же страшное! — воскликнул Гурьянов. — Непривычное — да! А страшное? Отчего же? Впрочем, может быть, оттого и кажется сначала страшным, что непривычно. Неужели у вас в жизни ничего такого нет, что бы вы забыть хотели? Забыть, избавиться, не помнить совсем? Хотя у вас, наверное, и правда нет. И хорошо, что нет. Пусть и не будет никогда.
— Если человек все неприятное, тяжелое забывать станет, тогда я даже не знаю, что получится, — сказала Леночка. — Смерть останется, а горя не будет? Жестокость не исчезнет, а страдания не станет? Это разве не страшно? Это же какой-то противоестественный, уродливый мир будет!
— Да, — сказал Гурьянов. — Это действительно сюжет для фантастического рассказа. Жуткий рассказец написать можно, правда? Но вы, Лена, крайность берете. А я о тупиковых ситуациях говорю, которые уже ни изменить, ни поправить невозможно, выход только один — забыть.
— Не знаю. Может быть… — сказала Леночка. А сама подумала об отце. Сколько раз говорил он, что хотел бы забыть, вытравить из своей памяти Леночкину мать и все, что с ней связано. А предложи ему такую возможность, скажи, что это реально, и не согласится ведь. Будет держаться за свои воспоминания. Самыми дорогими они для него окажутся. Или она ошибается?
— Я о том говорю, чтобы от ненужных, бессмысленных страданий человека избавить, — продолжал Гурьянов. — Я сейчас самый простой пример вам приведу, чтобы понятнее моя мысль стала. Давайте мысленный эксперимент поставим. Вот мы идем по улице, и на наших глазах вдруг раздавило кошку…
— Ой! — сказала Леночка и поежилась.
— Ага! Видите, я только слова эти произнес, а вас уже передернуло. А если бы на самом деле? Вы человек впечатлительный, вас эта картина будет не день и не два мучить. А зачем? Смысл-то какой? От вас в этой ситуации ничего не зависело и не зависит. Следовательно, чем скорее вы сумеете забыть ее, тем лучше. Вы согласны?
— Пожалуй, — сказала Леночка неуверенно. — Хотя…
— Что — хотя? Что вас смущает?
— Я думаю: наверно, раз уж так случилось, что на твоих глазах живое существо погибло, то как же не мучиться? Иначе и до душевной черствости недалеко.
— Вот тут вы ошибаетесь, — живо возразил Гурьянов. — Вы два разных понятия путаете. Одно дело, если картина эта жива в вашей памяти будет, но вы к ней безразличны, равнодушны останетесь, а другое — если вы начисто забудете все происшедшее. Это равносильно тому будет, словно его и не было вовсе. Понимаете?
— Мне все равно жалко эту кошку, — сказала Леночка.
— Ну если жалко, тогда мы ее оживим, — сказал Гурьянов. — Нам это ничего не стоит.
— Оживим, — сказала Леночка. — И пусть она больше не бегает где попало.
— А переходит улицу только по зеленому сигналу светофора, — сказал Гурьянов.
— Потому что дома ее ждут котята, — сказала Леночка.
— А кроме того, она аккуратно платит взносы в королевское общество охраны животных, — сказал Гурьянов.
— Вот видите, какая это умная кошка, — сказала Леночка.
— Говори мне «ты», — вдруг сказал Гурьянов. — Это «вы» сразу отбрасывает меня на другую сторону улицы, за пять километров от тебя. Слышишь, Лена? Говори мне «ты».
Что-то дрогнуло в душе у Леночки, когда услышала она это «ты», обращенное к ней. Мгновенное смятение и радость ощутила она. Как будто душа ее была отныне чутким прибором, улавливающим каждое, даже чуть заметное изменение в их отношениях и трепетно отзывающимся на него.
— Нет, — сказала она, — я не могу. Мне еще надо привыкнуть, приучить себя. А так мне трудно. Я и хочу сказать «ты», а выскакивает все равно «вы». — Леночка улыбнулась виновато, словно извиняясь. — Только не сердитесь на меня, пожалуйста, это все мое воспитание виновато, такой уж я человек некоммуникабельный. И говорите мне «ты», мне это нравится. Правда, правда.
— Ты некоммуникабельный человек? — сказал Гурьянов. — Да что ты себе внушаешь?
— Нет, правда, — сказала Леночка. — Для меня, например, знакомиться с кем-нибудь мука мученическая. Я трех слов из себя выдавить не могу. Вы, наверно, первый человек, с которым я сразу себя свободно почувствовала. Даже странно, не знаю, что со мной случилось.
— Закон умножения отрицательных чисел, — смеясь, сказал Гурьянов. — Минус на минус дает плюс. Некоммуникабельность, помноженная на некоммуникабельность, дает коммуникабельность. Я ведь тоже некоммуникабельный человек.
— Еще поспорим, кто из нас некоммуникабельней, — сказала Леночка.
— Еще поспорим, — сказал Гурьянов, беря ее руки в свои.
Они стояли сейчас друг против друга в каком-то маленьком, безлюдном и тихом переулке. Гурьянов молча смотрел на нее. При свете уличного фонаря лицо его казалось бледным и неестественно напряженным. Потом он что-то сказал шепотом, но она не поняла — что. Ее вдруг охватила нервная дрожь. И тогда Гурьянов притянул ее к себе и обнял…
…Когда Леночке Вартанян было семнадцать лет, она сказала отцу: «Ты не думай, я никогда тебя не оставлю, ты же один у меня, единственный, и я у тебя одна, как же мы друг без друга?» Этот разговор произошел вскоре после того, как Леночкина мать объявила о своем решении расстаться с отцом. Отец выглядел тогда таким потерянным, таким потрясенным — казалось, он не в силах оправиться от нанесенного ему удара, мир рушился на его глазах. Когда мучается, плачет, жалуется на судьбу человек слабый, растерянный, неустойчивый, мы как-то вольно или невольно воспринимаем его жалобы и сетования как нечто привычное, едва ли не само собой разумеющееся, естественное, и они уже не поражают нас. Но когда страдает, мечется, становится вдруг жалким в своей растерянности человек, всегда казавшийся сильным, уверенным в себе, — видеть это невыносимо. Леночка мучилась, глядя на отца. Чем она могла помочь ему? Только этими словами: «Ты не думай, я никогда-никогда тебя не оставлю». Общее несчастье сплотило их. Никогда прежде они не были так близки, никогда еще так не ощущали свою необходимость друг другу, как в то время. Правда, Леночка и ребенком, маленькой девочкой была очень привязана к отцу, но то была совсем иная привязанность.
До ухода матери Леночка редко задумывалась о любви, о тех отношениях, которые связывают мужчину и женщину. Не то чтобы вопросы эти совсем не волновали ее. Но, будучи человеком замкнутым, стеснительным, она стыдилась, избегала касаться интимных тем в разговорах с подругами. Так что представления о любви у нее складывались возвышенно-книжные. Любовь и счастье казались ей едва ли не синонимами. И вдруг — катастрофа, крушение, тяжкие объяснения отца с матерью, все пытавшегося что-то выяснить, понять, доказать; развод родителей, боль, горечь, чувство унижения, ощущение непоправимости случившегося… Свой поступок, свой уход из семьи мать оправдывала любовью. Она давно уже любила того, чужого, неведомого Леночке человека и не могла больше выносить двойной жизни. Так она объясняла свой поступок. «Но что же это за любовь такая, — сжимаясь от обиды, в смятении думала Леночка, — зачем она, если ею и обман, и предательство оправдать можно, и жестокость по отношению к близким? Это и есть любовь?»
Она представляла себе мать в объятиях т о г о человека и вся содрогалась от острого — до тошноты — отвращения. Сама мысль о том, что когда-то и к ней, Леночке, может притронуться мужчина, теперь казалась ей отвратительной. В отношениях между мужчинами и женщинами ей чудилось нечто постыдное, низкое. Это постыдное было тем постыднее, что прикрывалось высокими, красивыми словами. Тогда, наверно, Леночка впервые стала задумываться об эгоизме любви. «В какие бы одежды мы ни наряжали это слово, любовь — это все-таки стремление прежде всего удовлетворить собственное желание», — думала Леночка. Значит, любовь по сути своей всегда эгоистична. Зачем же тогда едва ли не обожествлять это чувство?
Однако с появлением в ее жизни Гурьянова Леночкина уверенность, что будущее ее в том, что касалось отношений с мужчинами, определено раз и навсегда, заколебалась, стала вдруг рушиться. Гурьянов, казалось Леночке, не был похож на других мужчин, на всех тех, кто прежде пытался ухаживать за Леночкой, кто изъяснялся ей в своих чувствах. Впрочем, таких было немного. Леночкины сверстники словно бы угадывали ее холодность, ее намеренную неспособность к ответному чувству и предпочитали сохранять с ней чисто приятельские, товарищеские отношения. Влюблялись в нее редко, и это порой даже тревожило, огорчало Леночку. Но разве не сама она хотела для себя именно такой жизни? Разве в тех редких случаях, когда кто-либо увлекался ею, эта мужская влюбленность, эти настойчивые попытки завоевать ее расположение не вызывали у нее раздражения?.. Одна мысль о банальности тех отношений, которые ей пытались навязать, была ей противна. Что же касается Гурьянова, то он с самого начала привлек, заинтересовал ее своей неординарностью, своей необычностью. Он был не таким, как все, и оттого те правила, которые выработала для себя Леночка Вартанян, на него не распространялись. И те отношения, которые складывались между ними, тоже казались Леночке необычными, совсем не такими, как у всех остальных.
Но разве, потянувшись навстречу Гурьянову, не совершала она теперь — пусть невольное — однако все же предательство по отношению к отцу? Эта мысль мучила ее. Необъяснимая, но такая явственная неприязнь отца к Гурьянову приводила ее в отчаяние. Эта неприязнь казалась ей каким-то тяжелым недоразумением. Достаточно было познакомить отца с Гурьяновым, дать им возможность узнать друг друга поближе — и все изменится. Так она думала. Ей доставляло удовольствие мысленно видеть отца и Гурьянова вместе, рядом. Но отец, когда она робко, смущаясь, заикнулась о том, чтобы познакомить его с Гурьяновым, пригласить Глеба в гости, раздражился, вспылил, категорически воспротивился этой мысли. Как будто она предложила нечто унизительное для него. А может быть, он опасался, что, познакомившись с Гурьяновым, уже не сможет отвергать его с той же яростной нетерпимостью, с какой делал это теперь, не видя в глаза этого человека?.. Так или иначе, но чем сильнее привязывалась Леночка к Гурьянову, тем больше отчаивался и раздражался отец. Тем несправедливее становились его суждения о Гурьянове. Казалось, он старался задеть Леночку побольнее, казалось, нарочно искал слова пообиднее, вовсе не задумываясь над тем, насколько они соответствуют действительности. Расстроенная, потрясенная этой отцовской неприязнью к Глебу, Леночка уже пыталась было не встречаться с Гурьяновым. Но ее решимости хватало ненадолго. Уже с утра она с радостью думала о той минуте, когда останется с Гурьяновым наедине, когда будет возвращаться вместе с ним из института. Раньше она никогда не обманывала отца, а теперь, краснея, неловко отводя глаза, придумывала всякие отговорки, объясняющие ее более позднее, чем обычно, возвращение. Она страдала от этой вынужденной лжи, презирала себя за нее, но что было делать? Скажи она правду, и на нее тут же опять посыпался бы град несправедливых, причиняющих боль укоров… Еще недавно такое ровное, такое ясное течение Леночкиной жизни вдруг забурлило резкими перепадами, всплесками радости и отчаяния, сменяющими друг друга приступами счастливой окрыленности и тоскливой подавленности…
Прежде улицы Ленинграда отличались одна от другой в Леночкином восприятии своими названиями, архитектурным обликом зданий, мемориальными досками на домах, где некогда проживали знаменитые люди, любимыми и нелюбимыми кинотеатрами и магазинами. Теперь же улицы, по которым они бродили вдвоем с Гурьяновым, обретали для Леночки особые, известные лишь ей одной приметы, окрашивались в невидимые для других и лишь ею улавливаемые тона… Отныне эти улицы получали в ее, Леночкином, воображении новые имена. Улица, На Которой Гурьянов Жил Мальчишкой… Улица, Где Гурьянов Впервые Сказал Ей «Ты»… Улица, Где Они С Гурьяновым Пили Кофе… Улица…
Настоящего названия маленького, мощенного булыжником переулка, где стояли они сегодня с Гурьяновым, Леночка не знала. Имел ли он звучное название или именовался безлико каким-нибудь Третьим проездным, это так и осталось для нее неведомо. Но сколько бы ни прошло времени, а этот переулок, это мгновение, когда Гурьянов взял ее руки в свои, Леночка — она знала это — будет помнить всегда.
Из тетради Г. С. Вартаняна«…Для объяснения свойств памяти за последнее время стали обращаться к используемым в физике принципам интерференционного запечатления и воспроизведения зрительного образа, получившим название голографии. В очень «мелкозернистом» физическом носителе «памятных следов» с учетом длины волн света такой способ хранения информации обеспечивает фантастическую емкость миллиардов бит в одном кубическом сантиметре. В биологических объектах, в частности нервных механизмах, условия совершенно иные, и пока еще неясно, в каком виде эти принципы могут быть здесь реализованы. Однако предпринимаются попытки применить их к пониманию того, как в отдельных своих частях расчлененное изображение может нести в себе основные черты, целого образа…»
Всю жизнь я считал себя человеком технического склада ума, и никогда мне даже и в голову как-то не приходило, что мои чисто технические познания, сведения из области техники связи, например, вдруг окажутся так пригодны для понимания сложнейших процессов, протекающих в нашем мозгу, для понимания механизма памяти. Это наводит меня на мысль, что, наверно, со временем человек найдет и сформулирует некие универсальные, единые законы, по которым живет и развивается одушевленная и неодушевленная природа. К этому, по моему мнению, идет дело.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
В квартире пахло табачным дымом. Этот запах был въедлив и неуступчив. Как ни проветривала Галя комнаты, как ни вышвыривала беспощадно окурки сигарет, а горький табачный дым не уходил. Интересно — на работе, у себя в кабинете, Перфильев не разрешал курить, а тут, дома, его друзья-приятели накуривали так, что хоть святых выноси. Когда-то, еще до знакомства с Перфильевым, Галя и сама в компании сокурсниц была не прочь затянуться сигаретой, но теперь ее мутило от одного этого запаха. Она с отвращением вытряхивала из пепельниц окурки. Перфильев же, казалось, не замечал ее состояния. Или делал вид, что не замечает?.. Он был весь поглощен своими заботами. Имя Архипова витало в прокуренном воздухе. Возможность перемен будоражила Перфильева и его друзей. Разговоры их затягивались до позднего вечера. Казалось, настоящее вдохновение, истинное счастливое возбуждение владело ими, когда они говорили о том, каким может стать их институт. Игроков в преферанс напоминали они Гале в эти минуты. В захватившем их азарте было что-то лихорадочное, пугающее.
А ночью Перфильев долго не мог уснуть, ворочался, вставал, ходил по квартире. Это было непохоже на него. Обычно он гордился своим здоровым сном, отсутствием бессонницы. Говорил — все дело в режиме.
— Ты что? — спросила Галя. — Что с тобой?
— Нет, нет, ничего, — отозвался он. — Спи.
Он присел на край кровати, у нее в ногах, и сидел так, сгорбившись, зажав руки между коленями.
— Спи, — повторил он. — Спи.
— Я не могу, — отозвалась она жалобно. — У меня какая-то тревога на душе. Мне страшно. Я не знаю, чем все это кончится…
— Что именно? — спросил Перфильев, и в голосе его она различила знакомые холодные, жесткие нотки.
— Ну, все… с нами… — сказала она неопределенно. — Я боюсь…
Перфильев знал, что рано или поздно она произнесет эти слова. Так всегда. Она плачет, она настаивает на своем, она принимает решение — сама! только сама! имеет же она право решать! — а потом вся ответственность все равно ложится на него, хотя ни изменить, ни перерешить уже ничего невозможно. Но он опытнее, он старше, он — мужчина, и потому выходит так, что ответственность за принятые ею — вопреки его доводам, его возражениям, его советам — решения должен нести он. Рассеивать ее страхи, утирать слезы — что еще ему остается! И даже не скажешь, не напомнишь, что все это он предвидел заранее. Такое напоминание не вызовет ничего, кроме нового потока слез.
— Это ночь на тебя действует, — сказал он. — Ночные страхи. Не надо придавать им значения. — И не удержался, добавил: — Ты же сама этого хотела. Что же теперь делать…
— Нет, ты не о том… — сказала Галя. — Мне вообще как-то тревожно… Мне за тебя тревожно…
— Ну что ты себе внушаешь! Что тебе за меня-то тревожиться?
— Не знаю, — сказала она тихо, почти шепотом. — Но мне кажется… Вы и правда как заговорщики… В этом есть что-то такое… Неопрятное что-то…
— Брось, Галя, не надо преувеличивать, — сказал Перфильев. — Давай смотреть на жизнь реально.
— Да в чем же эта твоя реальность? В чем?
— В том, что время уходит, время необратимо, Галя! — с неожиданной для него горькой горячностью произнес Перфильев. — Я каждую уходящую минуту сейчас ощущаю. Как она сквозь пальцы проскальзывает, ощущаю. А Архипов может битый час выслушивать бредни какого-нибудь полусумасшедшего чудака. Зачем? Кому это нужно? Пойми же меня, Галя, я, может быть, никому больше в этом не признаюсь, но тебе скажу: я никогда еще такого избытка сил не чувствовал! Я бы горы сейчас мог свернуть, дай только мне такую возможность. В жизни у каждого человека бывает пик, высшая точка — важно не упустить, не проворонить, поймать ее… Вот мне иногда говорят: потерпи, не торопись, все придет своим чередом, твое от тебя никуда не денется, и директором института ты со временем станешь, и так далее, и тому подобное… А какое для меня в том утешение, если я знаю: сил-то таких у меня уже не будет тогда! Почему же я ждать должен? Почему смирение изображать должен? Почтительно дожидаться своей очереди?..
— Погоди, — остановила его Галя. — Я что-то тебя не понимаю. Разве ваш институт плохо работает?
— Нет, не плохо. Но он работает уже п о и н е р ц и и. Вот в чем беда. На сколько еще хватит этой инерции, я не знаю.
— Но тогда я не понимаю другого. Ты ведь тоже не последний человек в институте. От тебя ведь тоже кое-что зависит. Разве не так?
— Теоретически. Теоретически, Галя. А на деле… Пока существует Архипов, я — ничто, я — юнец, я — вечный ученик Ивана Дмитриевича. Это то же самое, что и в семье. Пока ты живешь одним домом с родителями, с отцом и матерью, будь ты хоть семи пядей во лбу, имей собственных детей, содержи всю семью, тащи на своих плечах весь дом, обзаведись, наконец, седой бородой, но все равно ты останешься мальчиком, ребенком, тебе всегда будет недоставать самостоятельности, ты всегда будешь з а в и с и м…
— Что же ты хочешь делать? — с тревогой спросила Галя.
— Ты знаешь, — словно бы не слыша ее, продолжал Перфильев, — я теперь иногда даже жалею, что был учеником Архипова. Да еще к тому же любимым учеником! Что столь многим ему обязан. Ты думаешь, я не понимаю этого, не ценю — забыл? Не-ет, я все помню и все понимаю. В этом-то и беда моя, моя слабость…
— Да почему же слабость? — воскликнула Галя.
— Нет, нет, не спорь со мной, слабость, я знаю. Я ведь тоже люблю Архипова. Но любовь — это самая большая несвобода, самая большая зависимость из всех возможных зависимостей… Могу ли я освободиться от этой зависимости, хватит ли у меня на это сил и решимости — вот что я хочу понять…
— Толя, ты говоришь страшные вещи, — сказала Галя. Она смотрела на него с испугом и жалостью.
— Я же не ради себя, Галя! — все с той же не свойственной ему горячностью говорил Перфильев. — Я знаю: найдутся люди, которые и своекорыстие, и карьеризм, и честолюбие мне припишут, но пусть, меня это не волнует. Я иногда думаю, Галя, — сколько же истинных талантов не проявили себя в полной мере, заглохли оттого только, что не имели мужества переступить эту черту, что были скромны и терпеливы! Ведь сказать: я сам знаю, чего я стою, — это же неэтично, нескромно! Сказать: я сумею лучше делать то дело, которое сегодня поручено товарищу Н., — да это же ужасно, это непорядочно, это едва ли не подло!..
— Ты забываешь только одно, — сказала Галя, не отрывавшая взгляда от лица Перфильева. — В своей самооценке люди тоже могут ошибаться, да еще как!
— Верно! — живо отозвался Перфильев. — Так докажите это! Докажите мне, что я ничего не стою. Убедите! Но только, ради бога, не оперируйте при этом такими эфемерными понятиями, как «неэтично», «непорядочно», «нескромно»! Если угодно, быть талантливым — это уже нескромно! Да, да, это самая большая, самая ужасная нескромность — не правда ли?
Вот это уже было больше похоже на Перфильева. На того Перфильева, к которому привыкла, которого знала Галя. Подобная ироничная парадоксальность всегда была свойственна ему. Казалось, за этой ироничностью он укрывал свои истинные чувства, прятал их даже от Гали. И только сегодня — в этом ночном, неожиданном разговоре — вдруг приоткрылся, вдруг заговорил с горячностью и болью. Ночь, что ли, располагала к откровенности. Раньше Галю всегда терзало ощущение неполной его искренности. Словно даже ей он не считал возможным доверить свои тайные мысли. И уж тем более он никогда не позволял себе признаваться в своих сомнениях. «Я знаю, чего я хочу, — сказал он однажды Гале, давно еще, в первый год их знакомства, и потом не раз повторял эту фразу. — Беда большинства людей заключается в том, что они толком не знают, чего хотят. А я знаю». Так что, может быть, первый раз Галя видела его сейчас сомневающимся, говорящим вслух о своих сомнениях. И не знала даже — радоваться этой его откровенности или нет.
— Нет, правда, Галя, неплохо ведь сказано: «Быть талантливым — это само по себе уже нескромно!» А? Как тебе нравится? — Перфильев ухватился за эту мысль, она словно бы воодушевила его.
Он встал и заходил по комнате. Он был в тренировочных, спортивных шароварах и майке. Лицо его было бледным, а тело еще хранило летний загар. Сейчас, при свете торшера, загар этот казался особенно темным.
— Разве разговорами о скромности мы в девяти случаях из десяти не прикрываем собственную робость, аморфность, нерешительность? Элементарную беспомощность, наконец? — Его рассуждения упорно продолжали вертеться вокруг одного и того же. Убеждал ли он себя, Галю или еще кого-то — третьего, кого сейчас не было здесь? — Проще всего, конечно, сидеть в уголке и скромно ждать своего часа. Изображать из себя примерного ученика, преисполненного благодарности и послушно ждущего, когда учитель остановит на нем свой взгляд. А если мне претит эта роль? Эта игра в скромненьких?
Нуждался ли он сейчас в ее, Галиных, советах? Хотел ли знать ее мнение? Вряд ли. Скорее он спорил сам с собой или продолжал тот спор, который вел со своими друзьями весь вечер в прокуренной комнате. И все-таки Галя сказала:
— Что ты задумал? Толя, что ты задумал?
Весь дом сейчас спал. Тишина стояла на лестнице, ни звука не доносилось ни с улицы, ни из соседних квартир. Казалось, только их голоса тревожно бились в замкнутом пространстве комнаты.
Перфильев остановился, снова присел на край постели, рядом с Галей. Со своей обычной, чуть ироничной усмешкой он успокаивающе похлопал ее по руке.
— Раньше перед решающей битвой дикари воодушевляли себя исполнением ритуальных танцев. Мы воодушевляем себя словоизлияниями…
— Перед решающей битвой? — переспросила Галя. — Что это значит? Что ты хочешь этим сказать?
Он засмеялся.
— Это всего лишь метафора, — сказал он. — Поэтическая метафора.
— И все-таки? — сказала Галя. — Я же вижу: тебя что-то волнует. Я же все вижу, Толя! Что происходит?
— Не знаю, — сказал Перфильев. — Я сам толком ничего не знаю. Возможно, все это только ложная тревога. Но завтра меня вызывают в горком.
— Зачем?
— Я говорю: я и сам еще точно не знаю. Но в общем-то, могу догадаться. В горком поступили жалобы на Архипова…
— На Ивана Дмитриевича?
— Да, на Ивана Дмитриевича. А что ты так изумляешься? Ты думаешь — он безгрешен? Или у него нет противников, недоброжелателей?
— Кто же это мог написать?.. — задумчиво проговорила Галя.
— Не знаю. Но от того, как я поведу себя завтра, будет многое зависеть.
— И как же ты поведешь себя завтра? — вглядываясь в лицо Перфильева, спросила Галя.
Перфильев молчал. Потом, после долгой паузы, он сказал, не без некоторого усилия подбирая слова:
— Видишь ли, в жизни каждого человека рано или поздно наступает такой момент, когда нам на деле предстоит убедиться в том, чего мы стоим. Пройти проверку. Слишком часто мы бываем храбры и решительны только на словах. На словах ведь все куда как просто! А стоит дойти до дела…
«Так вот что значили все его сегодняшние рассуждения о таланте и скромности, о зависимости от Архипова, о несвободе… Вот куда он клонил, вот к чему, значит, себя готовил!» — подумала Галя.
— Не делай этого, Толя, — сказала она. — Не делай.
— Ладно, — с неожиданной жесткостью сказал Перфильев. — Поговорили, и хватит. Все это, возможно, только мои предположения. И в горком, очень возможно, меня вызывают из-за какого-нибудь пустяка. Не будем гадать на кофейной гуще. Спи… Тебе теперь вредно волноваться.
— Хорошо, я сейчас усну, — послушно отозвалась Галя, растроганная этим внезапным проявлением его внимания и заботы. — Только ответь сначала мне на один вопрос: в горком это не вы писали? Не ты? Не кто-нибудь из твоих друзей?.. Только честно.
— Нет, — сказал Перфильев. — Не мы. — И добавил, усмехнувшись: — Нас, как видишь, опередили.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Пожалуй, ничего так не хотелось Леночке Вартанян, как успешно справиться с той работой, которую поручил ей Архипов. И не только потому, что от успеха этой работы зависела судьба конкретного и теперь уже не безразличного ей человека. Она уже успела познакомиться с Иваном Ивановичем Безымянным, который называл ее по имени-отчеству и трогательно робел, смущался перед ней и волновался так, словно ему предстояла бог весть какая сложная операция.
Догадывался ли он, что сама Леночка волнуется не меньше? Наверно, он был убежден, что Архипов не случайно поручил эту работу именно ей. Леночка в его глазах была облечена особым доверием Архипова. Его известность, его слава, его авторитет простирались теперь и на нее. Наверно, оттого Иван Иванович был торопливо-покорен и частенько неловок в этой своей торопливой готовности подчиниться каждому ее жесту, слову, взгляду — точно пациент, впервые севший в кресло зубного врача.
И все-таки не только возникшая в ее душе симпатия к этому человеку, не только желание помочь ему и даже не только боязнь опозориться перед Архиповым руководили сейчас Леночкой Вартанян. Было еще одно обстоятельство, которое заставляло Леночку относиться к полученному заданию с особой старательностью и волнением. Еще тогда, когда она впервые рассказала изнывавшей от любопытства Вере Валентиновне о том, зачем ее вызывал Архипов, Леночка заметила, как губы Веры Валентиновны тронула ироническая усмешка. «С возрастом люди обретают право на причуды, — сказала она тем покровительственно-ласковым тоном, которым обычно разговаривала с Леночкой. — Но если это называется наукой…» И Вера Валентиновна выразительно развела руками.
Леночка угадывала, что многие в лаборатории, подобно Вере Валентиновне, относились с легкой, чуть насмешливой снисходительностью к тому, что поручил ей Архипов. Выходит, Архипов не ошибся, когда сказал ей: «Отныне мы состоим с вами в заговоре». Значит, он все предвидел. И оттого в Леночкиных глазах такое большое значение приобретал успех или неуспех ее работы. Доказать, что они, эти люди, были не правы в своем неверии, в своей насмешливости, — вот о чем она мечтала.
Работа увлекла ее. Думая о детстве Ивана Ивановича Безымянного, стараясь представить тайные пути тех возможных ассоциаций, которые ей предстояло попытаться вызвать в памяти Безымянного, она и сама уходила, погружалась в собственное детство.
Как много, оказывается, существовало в ее жизни пустячных, на первый взгляд, примет и происшествий, ничего вроде бы не значащих мелочей, которые тем не менее — стоило лишь прикоснуться к ним — вдруг пробуждали в памяти целые, казалось бы давно уже забытые, картины детства, заставляли снова испытать оставшиеся в прошлом ощущения. Какой малости оказывалось достаточно для того, чтобы вдруг снова почувствовать себя маленькой девочкой и так ясно, так отчетливо увидеть внезапно те вещи, те предметы, которые окружали ее тогда.
Как-то, еще девчонкой-второклассницей, она помогала матери разбирать отслужившие свое, выношенные вещи, которые мать намеревалась сдать в утиль, старьевщику. Среди них оказалась старая отцовская суконная гимнастерка, порыжелая, протершаяся на локтях. Спереди на гимнастерке виднелась аккуратная, круглая дырочка, а вокруг нее — островок темной, невыцветшей материи в форме звезды. И этот словно бы навсегда выдавленный отпечаток отцовского ордена вдруг поразил тогда Леночку гораздо больше, чем сам орден Красной Звезды, который она не раз видела на груди отца. Отчего? Почему? Трудно сказать. Но она вцепилась тогда в этот клочок материи, она уговорила маму вырезать его и отдать ей. Этот суконный квадратик с отчетливым рисунком звезды потом долго занимал самое почетное место среди девчоночьего, бережно хранимого Леночкой богатства — цветных лоскутков, пуговиц, ленточек и оловянных солдатиков. Наверно, оттого, что отец ее был военным человеком, Леночка любила играть в солдатики. Только играла она в них по-своему, не так, как мальчишки. Она не выстраивала их в ровно марширующие ряды, не водила в атаку. Да и солдатиков у нее было мало — всего несколько штук. Но зато каждый из них имел свое имя, у каждого была своя история, свой характер. Для постороннего глаза все они наверняка казались не отличимыми друг от друга, но Леночка легко различала их. Чаще всего она награждала их фамилиями и именами тех солдат, о которых рассказывал дома отец. Ее солдатики ходили в столовую, писали письма домой, выстраивались на зарядку, в положенное время по команде укладывались спать, отправлялись в увольнения. Был среди них почтальон, был повар, был санинструктор. Их жизнь складывалась из обрывков отцовских рассказов, долетавших до Леночки. Однажды, совсем недавно, когда Леночка уже заканчивала университет, ее отец получил письмо от бывшего своего солдата. И стоило только Леночке на конверте, там, где значился обратный адрес, прочесть выведенную четким, чертежным почерком фамилию — Петушков, как сразу повеяло на нее чем-то почти забытым и в то же время очень хорошо знакомым. Эту фамилию носил ее оловянный солдатик, служивший почтальоном. С каким нетерпением, бывало, ждали его другие Леночкины солдатики! Каких только писем не приносил в своей почтальонской сумке Петушков!
Так причудливо переплетались в Леночкиных воспоминаниях игра и события реальной жизни. Одного слова, одной случайно возникшей перед глазами фамилии было достаточно, чтобы из-под плотного слоя времени начали всплывать картины детства. В те времена, в дни своего детства, она не так уж часто видела отца дома, большую часть суток он проводил на службе — в штабе, в казарме, на радиостанциях, но, может быть, как раз оттого, что часы, которые тогда уделял ей отец, можно было пересчитать по пальцам, они казались исполненными особой значительности и праздничности. Вот отец учит ее — еще совсем маленькую — ходить на лыжах… Вот она барахтается в речке, поддерживаемая его сильными руками… Вот он, ловко орудуя ножом, показывает ей, как правильно срезать грибы… Вот несет ее на руках, засыпающую, когда поздним вечером они возвращаются из гостей… Как устойчив, как прочен был мир, окружавший тогда Леночку!..
Одно воспоминание порождало другое. Малый толчок вызывал цепную реакцию воспоминаний. Прошлое оживало с неожиданной стремительностью.
В такие минуты Леночке казалось невероятным, чтобы и в памяти Ивана Ивановича Безымянного ей не удалось отыскать, нащупать какую-нибудь, пусть совсем ничтожную, крошечную зацепку, которая потянула бы за собой глубоко скрытые ассоциации…
Стараясь не обнаружить своего волнения, Леночка терпеливо и обстоятельно объясняла Безымянному, что от него потребуется.
— Все, что нам с вами предстоит проделать, очень просто, — говорила она. — Только не отвлекайтесь и будьте внимательны. Я произношу какое-либо слово, а вы должны мгновенно, не задумываясь, назвать другое — то, которое придет вам в голову. Понимаете — любое слово. Ну вот, например: яблоко — груша, небо — синее, самолет — паровоз и так далее. Вы поняли вашу задачу?
— Понял. Чего же тут не понять, — сказал Безымянный серьезно. Его серьезность нравилась Леночке.
— Итак, вы готовы? — спросила Леночка. — Тогда приступим. Внимание!
И, сделав небольшую паузу, она произнесла отчетливо и громко:
— Дом.
— Высокий, — живо отозвался Безымянный.
— Семья.
— Большая.
— Огород.
— Курица.
— Цветок.
— Одуванчик.
— Дерево.
— Елка.
— Небо.
— Синее.
— Сено.
— Солома.
— Река.
— Плот.
— Собака.
— Тузик.
— Лес.
— Ягоды.
— Пастух.
— Стадо.
— Лампа.
— Керосиновая.
— Молоко.
— Парное.
— Дым.
— Черный.
— Соска.
— Хм… Сбился… Ничего не пришло в голову.
— Дрова.
— Топор.
— Трава.
— Зеленая.
— Гудок.
— Паровозный.
— Стрекоза.
— Муравей.
— Часы.
— Ходики.
— Ведро.
— Вода.
— Кошка.
— Котята.
— Сахар.
— Сладкий.
— Забор.
— Высокий.
— Мяч.
— Круглый.
— Погреб.
— Сметана.
— Озеро.
— Щучье.
— Рыба.
— Плотва.
— Дождь.
— Теплый.
— Болото.
— Дальнее.
— Утро.
— Туманное.
— Сестра.
— Брат.
Что напоминала, на что была похожа эта процедура? На забаву, на детскую игру «холодно — горячо — холодно»? Или на рефлексотерапию, на иглоукалывание, на попытку отыскать, нащупать некие точки, прикосновение к которым способно вызвать ответный всплеск глубинной памяти? Или на тщетную, наивную, ребяческую надежду сложить из случайных осколков, разноцветных стекляшек нечто целое?..
Лицо человека, сидевшего сейчас перед Леночкой, было напряженно, озабоченно, на мощной загорелой шее отчетлива проступили вены, и даже легкая россыпь пота заблестела на крупном подбородке — словно он, этот человек, выполнял сейчас нелегкую, требовавшую немалых сил работу.
Наверно, и у самой Леночки выражение лица было сейчас не менее напряженным, чем у Безымянного. Словно бы в темный, бесконечно глубокий колодец бросала она камешки и вслушивалась, всматривалась в дышащую холодом глубину, напрасно надеясь различить дальний отзвук…
А ведь на первый взгляд — какая стройная, казалось бы, какая отчетливая картина вырисовывалась: стоило лишь сложить слова, произносимые Леночкой, и ответы Безымянного, стоило лишь подыскать каждому из них, словно детскому кубику, свое место! У Леночки даже сердце замерло от радостного предчувствия, едва она осталась наедине со своими тестами, едва распростилась с Безымянным. Так легко, казалось, удача шла ей в руки.
Дом высокий… семья большая… и собака по имени Тузик, и парное молоко, и керосиновая лампа, зажигаемая вечерами… — как соблазнительно было ухватиться за эти детали! Как зримо, точно картинка в букваре, возникало перед Леночкой Вартанян прошлое Безымянного! Но тут же, внимательно вчитываясь в его ответы, Леночка разочарованно поняла, что это была лишь иллюзия удачи, что радоваться пока еще нечему.
Словно картинка в букваре… В том-то и дело, что это была лишь картинка из букваря, не больше…
В ответах Безымянного, так обрадовавших ее поначалу, таилась лишь тоска по утраченному детству, угадывалось лишь идеальное о нем представление, но не было того, чего добивалась Леночка…
Но все-таки, перечитывая снова и снова немудреные тесты, Леночка не могла не испытывать волнения — словно прикасалась сейчас к чужой жизни или, может быть, точнее сказать — к чужой душе…
И как всякий раз в последнее время, когда случалось ей сталкиваться с новым для себя ощущением, когда радовалась она или огорчалась, ее тянуло непременно поделиться с Гурьяновым. Как будто любое переживание, не разделенное с ним, становилось беднее, тускнело, теряло свою волнующую суть.
Все еще думая о Безымянном, о его жизни, Леночка шла по институтскому коридору, мимо ставших уже привычно-знакомыми лабораторных дверей. Вот здесь, за этой дверью, бородатый, вечно попыхивающий трубкой Фрайман вместе со своими сотрудниками ставит опыты на кошках — выясняет роль различных структур мозга в организации памяти, и у Леночки каждый раз сжимается от жалости сердце, когда она видит, как лаборантка Фраймана несет из животника очередную жертву… А рядом — лаборатория Лимонникова, изучающего влияние гормонов на память, еще дальше работает Геннадий Александрович Калашников, заведующий лабораторией, секретарь институтского партбюро, заядлый спортсмен и к тому же, говорят, неизменный вдохновитель и участник всех институтских капустников…
Внезапно дверь лаборатории Калашникова распахнулась, и Леночка даже застыла от неожиданности. Она увидела своего отца.
Георгий Степанович Вартанян был затянут в офицерский мундир, который последнее время он надевал крайне редко, разве что по большим праздникам, и эта мундирная, сверкающая торжественность выглядела особенно непривычной сейчас здесь, в институтском коридоре.
Зачем он пришел сюда? Что ему понадобилось?
Еще не зная наверняка, еще лишь догадываясь о том, что могло привести отца в институт, Леночка уже испытывала за него мучительную неловкость. Все-таки решил, видно, поделиться собственными соображениями по части науки… Или надумал рассказать о Терентьеве? Но почему именно Калашникову?..
Георгий Степанович не сразу заметил Леночку. Вероятно, мысленно он еще продолжал разговор, только что происшедший там, в лаборатории. Но вот он четко, по-военному повернулся, и глаза их встретились. Он увидел Леночку, и ее поразил тот мгновенный, какой-то страдальческий, виноватый испуг, который промелькнул на его лице. Впрочем, может быть, это только почудилось ей. В следующий момент он опять уже выглядел человеком, у которого не было оснований сомневаться в целесообразности своих поступков.
— Папа, ты что тут делаешь? — все еще не в силах справиться со своим удивлением, спросила Леночка.
— Потом, Лена, потом, — ответил он. — Дома я тебе все объясню.
Взгляд его уходил от нее, словно бы он и смотрел и не смотрел на нее, и от этого убегающего, прячущегося его взгляда, и оттого, что он не захотел ничего объяснить, не попросил даже ее показать, где она работает, а сразу пошел прочь по коридору, высокий, подтянутый, прямой — человек, исполнивший свой долг, — у Леночки дрогнуло и заныло сердце от тоскливого предчувствия беды.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Очередным посетителем, явившимся в кабинет к Архипову, оказался человек весьма преклонных лет. Он был в старом широком чесучовом костюме, и костюм этот сразу напомнил Архипову довоенное время — как будто прямо оттуда, из дачного довоенного лета, шагнул к нему в кабинет этот странноватый на вид посетитель. Почти невесомые седые волосы вздымались над его головой, пока он удобно и основательно, без всякого стеснения и замешательства, устраивался в кресле напротив Архипова. При этом он поглядывал на Ивана Дмитриевича лукавыми, проницательными глазками, точно находящийся в хорошем настроении экзаменатор на чуть замявшегося студента.
Архипов терпеливо ждал.
Убедившись наконец, что устроился он в кресле достаточно удобно, старик еще раз окинул Архипова оценивающим взглядом и сказал неожиданно:
— Я пришел уступить вам свою память.
— То есть как? — удивленно спросил Архипов. — Я, кажется, ослышался?
— Нет, не ослышались, — упрямо повторил старик. — Именно уступить. Не продать, а уступить, отдать даром, пожертвовать, если угодно.
— Вы шутите? — сказал Архипов, улыбаясь.
— Почему же? Нисколько. Доноры отдают свою кровь или свою почку, кожу свою, например, а я готов отдать свою память. И само собой разумеется, я обращаюсь к вам, в Институт памяти. Что ж тут удивительного, Иван Дмитриевич?
— Хм, вам нельзя отказать в логике, — усмехнувшись, сказал Архипов. Разговор начал занимать его. Мысль о том, что перед ним сидит сумасшедший, начитавшийся фантастических романов, он сразу отбросил. Слишком умно, живо, насмешливо смотрели глаза его собеседника. — И что же вас побудило прийти к нам с таким предложением?
— Ну, если говорить о конкретном поводе, то он вот здесь, — и старик, запустив руку в глубокий карман пиджака, вытащил оттуда аккуратно сложенный, но уже изрядно потрепавшийся на сгибах газетный лист со статьей Гурьянова. — Помните, в этой статье содержится весьма прозрачный намек на то, что в будущем, вероятно, появятся специальные хранилища человеческой памяти…
— Почему же в будущем? — сказал Архипов. — Такие хранилища есть и сейчас. Например, книги…
— Нет, я о другом. И автор статьи имел в виду другое…
— Ну, автор статьи действительно не прочь пофантазировать, это верно, — сказал Архипов.
Однако старик как бы не обратил внимания на эту его реплику.
— И вот я подумал: если в будущем появятся целые хранилища памяти, то надо же с чего-то начинать… Почему бы тогда не с меня? — Он хитро прищурился. — Но это, как я уже сказал, лишь чисто внешний, конкретный повод, так сказать, тот толчок, который побудил меня выйти из дома и направиться к вам именно сейчас, сегодня. Если же говорить о более глубоких побудительных мотивах… — Собеседник Архипова сделал долгую паузу, задумался, ушел в самого себя, словно утеряв внезапно нить разговора. И тут же встрепенулся опять. — Что же касается более глубоких побудительных мотивов… Скажите, Иван Дмитриевич, вам никогда не бывает грустно оттого, что все то, что вы помните, что знаете, чему научились, что любите и ненавидите, — все эти картины прожитой жизни, и голоса людей, и их лица, все, что волнует вас и кажется таким важным, таким неповторимым, что так зримо, так ярко существует в вашей памяти, уйдет навсегда, исчезнет, растворится навечно вместе с вами?.. Вам никогда не бывает невыносимо грустно от одной этой мысли? Мне, признаюсь, бывает…
Архипов молчал. Кого напоминал ему этот человек? Чьи черты, казалось, слабо проступали сквозь его старческое, изборожденное морщинами лицо? Или только этот нелепый, старомодный костюм из чесучи был тому виною, что вдруг вспомнились Архипову давнее лето, дача в Сиверской и Петр Сергеевич Скворцов, легко идущий по тропинке от станции?..
— Вам не кажется, Иван Дмитриевич, что мы слишком расточительны? В былые времена вместе с умершим опускали в могилу всю его утварь, украшения, оружие. В наше время мы вместе с человеком хороним его память. Не слишком ли большая это роскошь? А? Ну, хорошо, вот вы сказали — книги. Да, конечно, остаются книги писателей, труды ученых, мемуары различные и тому подобное, но все это ведь капля в море — не так ли? Да и что слова! Словами разве передашь запах, цвет, звуки голосов, которые живут в нашей памяти? Разве передашь?.. Вот я вам только один примерчик приведу из своей жизни, если позволите…
До сих пор, произнося свои монологи, он не спрашивал разрешения у Архипова, а тут вдруг робкие, просительные нотки проступили в его голосе.
Архипов кивнул.
— Вы знаете, Иван Дмитриевич, у меня был сын…
— Да, да, я вас слушаю, — сказал Архипов, чувствуя, как внезапно тяжелеет все его тело.
— …У меня был сын, он погиб в сорок первом, в самом начале войны. Вернее, не погиб, пропал без вести, я так и не узнал никогда, какая судьба его постигла. Раньше я еще надеялся на чудо, теперь уже нет. Но сейчас я не об этом. Я думаю — ему ведь еще раз суждено погибнуть — вместе со мной. Вот что меня страшит. Я уйду, и уже никого не останется, кто бы его так помнил. Никого. А я помню, помню. Каждый пустячок, каждую мелочь. Я вот как раз к тому примерчику подхожу, который привести вам собирался. Мелочь, конечно, но для меня значение имеет. Это на даче было, году, наверно, этак в тридцать четвертом, да, совершенно точно, именно в тридцать четвертом, я не ошибаюсь. И вот представьте себе солнечный день и дощатую веранду, прогретую солнцем, и мы с сыном играем в шахматы. Одной фигуры — коня — помню, не хватало, и Леня вылепил его из пластилина. И вот, поверите ли, Иван Дмитриевич, сколько лет прошло, подумать только: как много событий сотрясало с тех пор нашу жизнь, а мелочь эта, пустячок этот — пластилиновый конь, вылепленный Леней, и запах пластилина, и запах прогретых солнцем досок веранды, и тогдашний мальчишеский веселый азарт сына — все это так и сидит в моей памяти, как будто ничего дороже и нет для меня…
Он замолчал обессиленно, и глаза его наполнились старческими, стоячими слезами. Архипов тоже молчал, задумавшись.
«…у меня был сын, даже два сына, оба они погибли. Кто-то пустил нелепую выдумку, сочинил легенду, будто я мог спасти Митю, когда его судил военный трибунал, и не сделал этого только из принципа, из гордости. Это чистая ложь. У меня не было возможности ни спасти его, ни помочь ему. И то, что его судили будто бы за дезертирство, тоже ложь. Все было не так, совсем не так. Я уже потом отчетливо представил себе эту картину, эти происшедшие без меня события…»
— …вы понимаете меня, Иван Дмитриевич? Вы улавливаете мою мысль? Историки восстановят ход истории, и события военного времени, и всякие прочие события детально опишут, и наши поражения и победы… А как же вот с этой мелочью, с пустячком этим, с конем пластилиновым быть? А, Иван Дмитриевич? Я это в переносном, в символическом, разумеется, смысле. Но — как? Неужели он так со мной, сын мой, и уйдет, исчезнет, и всё — будто и не было? Страданий наших, мук, горя и радости — ничего не было?..
…Он шел, похрустывая новенькой формой, поигрывая в кармане галифе пистолетом (кобуру еще не выдали). Кто надоумил его, кто научил его сунуть пистолет именно в карман, кто сказал, что так будет надежнее? Он шел, совсем по-мальчишески наслаждаясь ощущением его холодной, гладкой тяжести. Он шел, чтобы показаться матери в этом новом своем качестве, шел, чтобы проститься, он не думал в тот момент, что прощаться, может быть, придется навсегда.
То, что произошло дальше, было так нелепо и дико, что он даже не сразу поверил в случившееся. Раздался выстрел, обжигающим ветром опалило ногу, и он ощутил боль. Оказывается, играя в кармане пистолетом, он незаметно сдвинул предохранитель.
У него оказалась прострелена ступня. Торопливо стянув сапог и даже увидев уже скупо проступающую кровь, он еще не мог осознать все ужасающие размеры свалившегося на него несчастья…
— …значит, вы не хотите мне помочь, Иван Дмитриевич? Не хотите? Или не можете? — Странный старик в чесучовом костюме сразу как-то обмяк, съежился, утратил свою воинственную говорливость. — Не можете…
Архипов медленно покачал головой. И правда — что мог сказать он этому человеку? Что мог ответить? Разве его самого не мучили те же самые мысли?
…Митю судили судом военного трибунала — за самострел. Что пережил он тогда, что перечувствовал! От одной мысли об этом у Архипова до сих пор сжималось, каменело сердце. В то жестокое, суровое время существовало единственное наказание за самострел, единственная расплата — высшая мера. Но, видно, те, кто судил Митю, угадали в нем натуру честную и чистую, неспособную на сознательное преступление. Высшая мера была заменена на штрафной батальон. Уже оттуда, из штрафного батальона, Архипов получил письмо от сына. «У меня один путь, — писал Митя. — Кровью своей доказать свою невиновность. Я счастлив, что мне предоставлена такая возможность». Ответное письмо Архипова Митя уже не получил. Он погиб в первом же бою, в первой же атаке…
Архипов молчал, глядя в окно. За окном шумел дождь, по стеклу, словно помехи по экрану телевизора, бежала вода.
Он хотел было сказать нечто утешительное в том смысле, что, мол, природа сама мудро заботится о стариках: память с годами тускнеет, меркнет, и воспоминания уже не причиняют той острой боли, которую причиняли прежде. Он намеревался сказать что-то в этом роде, но только тут спохватился, подумал о том, что странный его собеседник так и не представился ему. Что он за человек? Кто, откуда? Архипов повернулся было к нему, но в кресле никого уже не было…
А в кабинет уверенно входил новый посетитель — весьма известный актер, которого Архипов хорошо знал по спектаклям и телепостановкам и который теперь жаловался на расстройство памяти…
Из тетради Г. С. Вартаняна«…Потенциальная информация для множества форм поведения данного организма закодирована линейной последовательностью оснований в молекулах ДНК, хотя первоначальными стимулами для активации определенных участков ДНК служат события, происходящие во внутренней или внешней среде. При этом активируются участки, ответственные за синтез тех РНК, белков и липидов, которые нужны для клеточных функций, лежащих в основе поведения.
Таким образом, молекулы ДНК являются н о с и т е л я м и п о т е н ц и а л ь н о г о к о д а п а м я т и, а синаптические соединения и внесинаптические связи — н о с и т е л я м и р е а л и з о в а н н о г о к о д а п а м я т и. Следовательно, память надо рассматривать как способность мозга в целом как единой системы.
Из всего сказанного следует вывод, что организм содержит в молекулах своей ДНК все потенции, необходимые для научения и других психических процессов, а внешняя среда обусловливает лишь проявление этих потенций. Таким образом, в результатах научения фактически нет ничего нового! Это просто реализация чего-то такого, что существовало в потенциальной форме с самого момента зачатия».
Очень интересно! Тоже есть над чем задуматься. Если все вышесказанное перевести на обыденный язык, то это означает старую истину: «Выше своей головы не прыгнешь». И все-таки трудно согласиться с тем, что все твои возможности, все, что ты в силах достигнуть, уже предопределено, запрограммировано заранее. И чего не дано — того не дано. Как говорится, «сие от нас не зависит».
Хотя, впрочем, стоит ли так уж преувеличивать значение данного обстоятельства? Если учесть бесконечное разнообразие потенциальных возможностей, закодированных в молекулах ДНК, то поле выбора, лежащее перед нами, окажется бескрайним. Так мне думается. Результаты реализации этих возможностей под влиянием внешних и внутренних факторов могут быть совершенно различны, даже прямо противоположны. Иначе говоря, представим себе на минуту некий автомат с большим количеством кнопок, нажимая на которые в различном их сочетании мы можем вызывать к жизни самые разнообразные свойства, заложенные в программе этого автомата. Выходит, примерно так же обстоит дело и с нашим организмом. Занятно!
И — следовательно — сколько же возможностей так и остаются неосуществленными! О скольких своих возможностях мы, наверно, даже и не подозреваем!.. Я очень отчетливо чувствую это по себе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В тот самый момент, когда Архипов беседовал со странным стариком в чесучовом костюме, Анатолий Борисович Перфильев переступил порог кабинета Якова Прокофьевича Зеленина, заведующего отделом городского комитета партии.
Перфильев помнил Зеленина еще по университету. Они занимались тогда в лыжной секции, в спортклубе, и это их давнее, хотя и не очень близкое знакомство накладывало свой отпечаток на их нынешние отношения. Впрочем, теперь отношения эти носили совершенно официальный характер, и обращались Перфильев и Зеленин друг к другу на «вы», по имени-отчеству, и, обсуждая институтские дела или же встречаясь на различного рода конференциях и заседаниях, они никогда ни словом не касались своего общего университетского прошлого, словно его и не было вовсе, словно они условились однажды не вспоминать о нем. И, глядя на них со стороны, никто бы не догадался, что когда-то они вместе бегали лыжные кроссы, вместе работали на студенческой стройке и даже жили некоторое время в одной палатке. И все же всякий раз, встречаясь с Зелениным, Перфильев улавливал в самой глубине его глаз то особое выражение расположенности, интереса и веселой симпатии, с каким смотрят друг на друга лишь давние товарищи, не утратившие памяти о студенческом братстве. Как-никак, а у них не было необходимости оценивающе приглядываться друг к другу. Они обладали умением понимать один другого с полуслова, с полунамека, по выражению лица, по улыбке — между ними, помимо официального, служебного разговора, как бы завязывался еще один — неуловимый, неслышимый для посторонних. Как будто возникало между ними особое поле взаимного притяжения и доверия, истоки которого скрывались еще там, в университетских днях. Так, во всяком случае, казалось Перфильеву. Такое было у него ощущение.
— Мне бы хотелось, Анатолий Борисович, — сказал Зеленин, усаживая Перфильева в глубокое кожаное кресло и сам садясь не за письменный стол, а тут же, рядом, в такое же кресло и этим как бы подчеркивая доверительность предстоящего разговора. — Мне бы хотелось, Анатолий Борисович, услышать ваше мнение о том, как сегодня обстоят дела в вашем институте…
Что ж, это было именно то, на что рассчитывал, к чему готовился Перфильев. И теперь многое зависело от того, как сумеет он использовать этот момент. Но странное дело — он не ощущал сейчас внутреннего вдохновения, той скрытой горячности, с которой еще так недавно говорил об Архипове, об институтских делах в кругу своих товарищей, у себя дома. Что-то мешало ему сейчас. Беззащитность Архипова? Неведение его о том, что происходило, что могло произойти сейчас в этом кабинете? Но ведь это ерунда, ложь — какая там беззащитность! Если Архипов захочет, он так сумеет защитить себя, что только пух и перья посыплются от противников. Но вот захочет ли?.. Что-то подобное непротивлению угадывал последнее время Перфильев в Иване Дмитриевиче, какое-то глубокое спокойствие… Усталость? Безразличие? Что это было?..
— Меня интересует именно ваше мнение, Анатолий Борисович, — продолжал Зеленин. — Я не стану скрывать от вас: за последнее время к нам поступили тревожные сигналы…
— Что же это за сигналы, если не секрет? — спросил Перфильев, и едва заметная усмешка тронула его губы.
— Нет, почему же секрет? Не секрет. В основном, они касаются только одного человека…
— Архипова?
— Да, Архипова.
— И чем же их не устраивает Иван Дмитриевич?
— Мы, кажется, поменялись с вами ролями, Анатолий Борисович, — засмеялся Зеленин. — Но хорошо, я отвечу. Факты приводятся разные. Ну вот хотя бы такой, он вам, как заместителю Архипова, должен быть хорошо известен. Это история, связанная с Фейгиной. Автор письма утверждает, что, будучи хорошо осведомленным о настроениях Фейгиной, зная ее неустойчивость, Архипов вполне сознательно, намеренно поддерживал ее, всячески продвигал и опекал. Что вы скажете, Анатолий Борисович, по этому поводу?..
— Что я скажу по этому поводу? — повторил Перфильев. — Ничего, кроме того, что подобную вещь мог написать только непорядочный человек. То, что произошло с Фейгиной, личное горе Архипова, его беда, и если уж винить кого за эту историю, то всех нас. Сводить же таким образом счеты с Архиповым — недостойно. Это моя точка зрения.
— Понятно, — сказал Зеленин. — Видите ли, Анатолий Борисович, мы, разумеется, не придаем существенного значения анонимным письмам. Но сам по себе тот факт, что они появляются на свет божий, что находится человек, который пишет такие письма и рассылает их, кстати говоря, рассылает не только нам, сам по себе этот факт свидетельствует об определенном неблагополучии в коллективе. Не правда ли, Анатолий Борисович? Вы согласны со мной?
— Да, согласен, — сказал Перфильев. — Я вот думаю сейчас: кто это? Кто мог? И, откровенно говоря, не могу найти ответа. Не знаю. И понять даже не могу — откуда такая ожесточенность, такая неразборчивость в средствах? От невежества? От ограниченности? От зависти?..
— Но ваши отношения с Архиповым, кажется, тоже оставляют желать лучшего, не так ли? — неожиданно спросил Зеленин.
Перфильев быстро взглянул на него.
— Да, — сказал он. — В общем-то, да. Но надеюсь, вы не думаете, Яков Прокофьевич, что это я — инициатор этих писем? — добавил он, усмехнувшись.
— Не думаю, — отозвался Зеленин, словно бы возвращая Перфильеву его усмешку. — Хотя… — Он помолчал. — Разве что кто-нибудь из вашего окружения?.. В порядке, так сказать, чрезмерной старательности? А? Не могло быть такого? Как, Анатолий Борисович?
Так все-таки, значит, его подозревают! Не его, так друзей, какая разница! Сделай это кто-нибудь из них, и тень все равно упала бы на него.
— Нет, Яков Прокофьевич, — сказал Перфильев почти весело. — Ни у меня, ни у моих друзей нет подобной выучки. Что поделаешь, не обучены. Под своими сочинениями привыкли ставить свои фамилии. И никак иначе.
— Ну и отлично, — сказал Зеленин с явным облегчением, как человек, покончивший с тяготившими его формальностями. — И закроем эту тему. Поговорим о вещах более существенных. Видите ли, Анатолий Борисович, письма — это деталь, мелочь, неприятная, конечно, но мелочь, и мы не придаем этим письмам, повторяю, сколько-нибудь серьезного значения. Однако помимо писем есть вещи, которые нас не могут не беспокоить. Вы догадываетесь, что я имею в виду?
— Возможно, — сказал Перфильев.
— Да, конечно, догадываетесь. Нас беспокоит, не слишком ли много в последнее время Иван Дмитриевич… ну, как бы это поточнее и поделикатнее выразить?.. уделяет внимания вопросам, не имеющим к нему непосредственного отношения… И не идет ли это во вред институту?.. Я понимаю, я понимаю, это, наверно, вообще свойственно в определенном возрасте крупным ученым. Прямо напасть какая-то, честное слово! — Зеленин весело рассмеялся. — Отличный математик, так нет — мнит себя специалистом в области иглоукалывания, физик, которому нет цены, все свое время и энергию начинает тратить на занятия парапсихологией… А попробуй скажи что-нибудь, обиды не оберешься! С Иваном Дмитриевичем ведь тоже, наверно, трудновато, а?
— Трудновато, — сказал Перфильев. — Это верно. Трудновато.
Он произнес эти слова и вдруг внезапно и необъяснимо ощутил прилив давней и почти забытой уже благодарности к Архипову, восторженной влюбленности в него. Словно вдруг в нем, в Перфильеве, проснулся, ожил на мгновение студент, мальчишка, третьекурсник.
— Как вы считаете все-таки, Анатолий Борисович, — продолжал Зеленин. — Что происходит с Иваном Дмитриевичем? Как ваше мнение?
Перфильев молчал. Разговор их, описав окружность, снова вернулся к исходной точке, как будто нарочно, чтобы дать Перфильеву возможность высказать все, что с такой убежденностью и упорством доказывал он совсем недавно. Но что-то случилось с ним. Он чувствовал себя, как спортсмен, перегоревший до старта. Яков Прокофьевич терпеливо ждал ответа.
— Не знаю, — сказал наконец Перфильев. — Ответить на этот вопрос однозначно трудно. Пожалуй, я скажу банальность, но, наверно, каждый настоящий ученый имеет право на кризис. Кризисов не бывает только у пустоцветов. Только пустоцветы всегда озабочены тем, чтобы, упаси боже, кто-нибудь не подумал, что у них что-то не ладится, они всегда изображают видимость стопроцентного успеха. А Иван Дмитриевич… Он всегда очень мало заботился о том, что подумают, что скажут о нем… Мы расходимся с ним во многом, и все же…
— В чем же вы расходитесь? — спросил Зеленин.
— Это сейчас не имеет значения, Яков Прокофьевич, — сказал Перфильев. — Это, как говорится, детали.
— Ну что ж, ваша точка зрения, Анатолий Борисович, мне, в общем, ясна, — сказал Зеленин. — Хотя, не буду скрывать, я думал, что наш разговор пойдет в несколько ином направлении…
— Я сам так думал, — с обычной своей усмешкой сказал Перфильев, вставая.
— Выходит, мы оба ошиблись, — отозвался Зеленин, и тот самый, знакомый Перфильеву, отсвет веселой симпатии промелькнул в его взгляде. — Возможно, оно и к лучшему.
…И все же из горкома Перфильев вышел в скверном настроении. Итак, то, что выглядело так легко на словах, оказалось не так-то просто на деле. Он проявил слабость, он не смог преступить, преодолеть некий запрет. Попросту говоря, он упустил возможность, упустил свой, может быть, главный шанс.
Что заставило его так странно повести себя? Что сбило его? Эти грязные анонимки? Опасение оказаться в одном ряду с их авторами? Или собственная внезапная нерешительность, некое табу, которое незримо существует в отношениях ученика и учителя? Видно, слишком глубоко, слишком прочно сидят в нас эти запреты — попробуй преодолей их!
Или и верно — помешала почти детская незащищенность Архипова? Но он-то, он-то, старик — хорош! Что-то кутузовское есть в нем, честное слово! Он одержал сегодня победу, даже не зная об этом, даже пальцем не шевельнув ради этого. Или в спокойствии его, в невозмутимости, в умении не суетиться, иначе говоря, в б е з д е й с т в и и его, когда речь идет о мелком, суетном, и заключена главная его сила? Да, да, именно в бездействии, как бы парадоксально это ни звучало. И он, Перфильев, со всеми своими теориями, оказался попросту слаб перед ним, другого слова здесь не подберешь, слаб и ничтожен, как мальчишка.
Погруженный в свои мысли, Перфильев шел по скверу возле горкома, когда кто-то вдруг окликнул его.
Галя! Оказывается, она ждала его здесь, она первая хотела узнать, как повел он себя, что сказал там, в горкоме. Она с тревогой и волнением вглядывалась в его лицо.
— Толя? Ну что? Ты расстроен? Ты не сделал ничего плохого, Толя? Я же знаю, ты сам потом будешь мучаться, если предашь Архипова!..
— Да что у тебя за слова! — взорвался Перфильев. — Предашь! Что значит — предашь?! Надо все-таки соображать хоть немного!
Он редко бывал так груб с ней, и она смотрела на него в недоумении и растерянности.
— И вообще — что ты ходишь за мной?! Ты что — действительно себя моей совестью вообразила, что ли?!
— Толя, зачем ты так? — Губы ее дрогнули, глаза мгновенно наполнились слезами. Эта мгновенность, с которой в минуту обиды выступали у нее слезы, всегда поражала Перфильева.
Всегда имевший обыкновение гордиться своей выдержкой, никогда не позволявший на ком-либо срывать свое настроение, и теперь Перфильев сразу же устыдился своего внезапного раздражения.
— Ладно, Галя, прости, — сказал он хмуро. — Я не хотел тебя обидеть.
— Я понимаю, — говорила Галя торопливо, идя рядом с ним. — Я все понимаю. Просто мы с тобой изнервничались за последнее время. Но все будет хорошо, вот увидишь, все будет хорошо! — повторяла она, как заклинание, упорно и убежденно.
А Перфильев искоса вглядывался в ее лицо, на котором счастливое выражение уже вытесняло еще не ушедшую обиду, и думал: что ждет эту женщину, его жену, там, в будущем? Какие еще испытания суждены ей? Какие?..
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
После встречи с отцом Леночка Вартанян не могла найти себе места. Какие-то неясные страхи не давали ей покоя. Она так и не пошла в лабораторию к Гурьянову, а вернулась к себе и машинально перебирала карточки с ответами Безымянного.
«…молоко — парное… дождь — теплый… трава — зеленая…»
— Да не расстраивайтесь вы, Леночка, — внезапно услышала она знакомый голос, и рука Веры Валентиновны мягко легла ей на плечо. — Не мучьте себя, не расстраивайтесь. Ну мало ли что старому человеку взбредет в голову! Никто этому и значения не придает…
Леночка подняла голову и вопросительно, в растерянности смотрела на Веру Валентиновну. Что могли значить эти ее слова? Что было ей известно? Откуда?
— Я говорю: не стоит огорчаться, Леночка, — все с той же ласковостью продолжала Вера Валентиновна. — Не терзайте себя понапрасну. Лучше пойдите к Геннадию Александровичу, поговорите, он все правильно понимает, вот увидите…
Леночка молчала. Она просто не в состоянии была произнести ни слова. Так она растерялась. Она уже догадывалась, что все то, что говорила сейчас Вера Валентиновна, было каким-то образом связано с приходом ее отца в институт. Но как, каким, почему? Этого она не могла уловить. Она только чувствовала, что молчание сейчас — единственная ее защита перед Верой Валентиновной, перед мягкой ее ласковостью.
— Конечно, отца вашего тоже можно понять, вы для него, как говорится, свет в окошке… Но все же нельзя быть таким эгоистом, правда? Старческий эгоизм — это, между прочим, ужасная штука, вы еще, Леночка, этого не испытали, а я знаю. Так что мой вам совет: не принимайте все это близко к сердцу. Неприятно, конечно, я понимаю, но не растравляйте себя, не надо, а то на вас и так лица уже нет… Мы вас не дадим в обиду, не бойтесь. И пойдите, пойдите к Геннадию Александровичу, не стесняйтесь, он — человек деликатный, все понимающий, поговорите с ним, и вам сразу легче станет…
И словно чтобы подтвердить ее слова, в комнату заглянул сам Геннадий Александрович Калашников. Его круглое добродушное лицо выражало некоторое смущение.
— Очень хорошо, что я вас застал, Елена Георгиевна, — скрывая свое смущение за подчеркнутой бодростью, сказал он. — Можно вас на минутку? Мне бы хотелось поговорить с вами, посекретничать, если вы не возражаете.
— Нет, пожалуйста, что вы! — отозвалась Леночка и послушно, почти автоматически пошла вслед за Геннадием Александровичем.
— Геннадий Александрович, вы только не обижайте нашу Леночку, она — хорошая, честное пионерское! — игриво сказала Вера Валентиновна.
— Что за слова вы произносите, Вера Валентиновна! — ответил Калашников, подхватывая ее шутливый тон. — Разве я похож на обидчика?
Они еще шутили! Они могли шутить как ни в чем не бывало, будто ничего не случилось!
Вслед за Калашниковым Леночка вошла в маленькую, узкую комнатку партбюро. Неказистый письменный стол, сейф и несколько стульев — больше здесь ничего не было. Геннадий Александрович пригласил Леночку сесть, и она опустилась на стул все с той же механической покорностью.
— Откровенно говоря, я испытываю некоторую неловкость, — сказал Калашников, потирая ладонью, словно массируя, щеку. — Я понимаю, что и вам этот разговор неприятен, но что поделаешь: наверно, все-таки лучше, если между нами не будет никакой недоговоренности, неясности. Я ничего не хочу скрывать от вас, Елена Георгиевна. Сегодня у меня был ваш отец. И он принес заявление или письмо, не знаю даже, как это лучше назвать, на мое имя и на имя Ивана Дмитриевича… Вы только не переживайте, не волнуйтесь, но письмо это касается ваших личных отношений…
Чувство стыда пронзило Леночку. Все ее существо, казалось, корчилось сейчас от этого стыда, и было странно, что при этом она продолжает по-прежнему сидеть на стуле перед Геннадием Александровичем Калашниковым и слушать, что говорит он.
— Видите ли, Елена Георгиевна, я бы, возможно, и не стал даже заводить с вами этот разговор, а просто спрятал бы заявление в стол и покончил дело, если бы не два обстоятельства. У меня такое ощущение, что ваш отец не остановится на этом, он пойдет еще и к Ивану Дмитриевичу, и бог знает куда, такое у него сейчас настроение. Это во-первых. А во-вторых, он разговаривал со мной в лаборатории, в присутствии моих сотрудниц. Он так и сказал: «Мне нечего скрывать от общественности института». Так что история эта, к сожалению, не может уже остаться только между нами. Уважаемая Вера Валентиновна, наверно, уже дала вам это почувствовать. Поэтому я и решил не откладывать наш разговор. И поверьте мне, Елена Георгиевна, при сложившемся положении лучше всего будет, если мы побеседуем начистоту…
— Да, да, конечно… — не столько проговорила, сколько прошептала Леночка.
— И исходите из того, что я — ваш союзник…
— Да, да, — опять отозвалась Леночка.
— А сейчас познакомьтесь, пожалуйста, с тем, что написал ваш отец. Я думаю, вам нужно это знать. — И Калашников протянул Леночке несколько аккуратно исписанных листков бумаги.
Леночка сразу узнала эти листки. Они были вырваны из той же самой тетради, в которой отец делал свои научные выписки, куда заносил свои размышления по поводу прочитанного. И почерк отцовский она сразу узнала: ровный, почти каллиграфический, без помарок. Что ж, он все делал основательно и аккуратно.
«Директору Института памяти
тов. Архипову И. Д.
Секретарю партийного бюро института
тов. Калашникову Г. А.
Уважаемые товарищи!
Обращается к вам в прошлом кадровый военный, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник запаса Георгий Степанович Вартанян. Мне никогда еще в жизни моей не приходилось писать подобных заявлений, — как человек военный, я вообще не привык беспокоить кого-либо личными просьбами, это не в моем характере, и если теперь, после долгих колебаний, я все же решаюсь обратиться к вам, то меня вынуждает сделать это лишь глубокая тревога за судьбу моей дочери — сотрудницы вашего института Елены Георгиевны Вартанян. Хочу сразу сказать, что я благодарен руководству института за то, как встретили в коллективе мою дочь, с каким вниманием отнеслись к ней как к молодому специалисту. Дочь у меня единственная, у меня нет в жизни никого дороже, так что вы поймете, почему я так близко принимаю к сердцу все, что касается ее. Я, как отец, хочу ей только счастья, больше мне ничего не нужно.
Наверно, это мой промах в смысле воспитания, но дочь моя — человек в житейском плане совершенно неопытный, можно сказать абсолютно наивный. И этой ее наивностью, неопытностью воспользовался некий Глеб Гурьянов, который является сотрудником вашего института. Дочери моей кажется, что она любит его, но я-то знаю, что это не так! Слишком хорошо я знаю свою дочь. Я же вижу: это самообман, ошибка, заблуждение какое-то, которое может обойтись ей очень дорого. Потом будет кусать локти, да поздно — глядишь, вся жизнь уже исковеркана! Я, как отец, не могу, не хочу этого допустить. Я готов на самые крайние меры пойти, только чтобы дочь моя была счастлива, только чтобы потом не говорила: а где ты был? Почему не остановил меня?
С этим же человеком она не может быть счастлива, я знаю. Нужно ли вам говорить, что он собой представляет, — вы наверняка и сами хорошо об этом осведомлены. Мало того, что он старше моей дочери почти на двадцать лет, так он, оказывается, был судим, сидел за тяжкое преступление. Только наивностью моей дочери я объясняю то, что она не смогла разобраться в истинной сущности этого человека, трезво взглянуть на его сомнительное прошлое. Моя дочь человек чистый, и она верит, что ее окружают только чистые, благородные люди.
Человеку же с подобным житейским опытом, как у этого Гурьянова, ничего не стоит вскружить голову неопытной девчонке. Как ни горько мне говорить об этом, но гордость свою она потеряла, чуть поманит он ее пальцем, она уже бежит. Ссоры у нас в доме начались. Всегда мирно жили, я не мог нарадоваться на свою дочь, послушная она была девочка, никогда, бывало, слова поперек не скажет, а тут — чуть что — сразу на дыбы! Это его влияние. Только я знаю: уступи я ей сейчас, согласись — потом всю жизнь винить себя буду, до гроба простить себе не смогу. Вижу я, вижу: ничего, кроме несчастья, человек этот ей не принесет, не может принести. Я даже говорю ей: посмотри, сколько вокруг хороших людей, молодых, достойных, ну что тебя к нему потянуло? Это просто гипноз какой-то, наваждение, загадка.
Я думаю, вы поймете мое состояние, как отца, имеющего единственную дочь. Не могу я допустить, чтобы на моих глазах она встала на путь, ведущий к горю, к несчастью.
Как отец, как участник Великой Отечественной войны, всю свою жизнь честно служивший Родине, я прошу вас, товарищи: помогите мне! Сделайте все, что в ваших силах! Не останьтесь равнодушными! Побеседуйте с товарищем Гурьяновым, пусть он оставит в покое мою дочь. Неужели же он ничего не поймет, если с ним как следует побеседовать? Я верю: должен понять.
Я долго сомневался, прежде чем написать это письмо. Никогда не думал, что доживу до такого. Но сейчас я понял: у меня нет другого выхода. Завтра, возможно, будет уже поздно. Я повторяю: единственное, что меня заботит, это мысль о дочери, о ее счастье. Я ради нее все что угодно готов сделать.
Извините, что написал так длинно.
С глубоким уважением Г. С. Вартанян».
Леночка дочитала письмо до конца и некоторое время сидела ошеломленная, потерянно опустив плечи, сникнув.
— Вот такие дела, — сказал Калашников и добавил, подавляя вздох: — Честно говоря, мне впервые приходится иметь дело с подобной историей. Ваши отношения, Елена Георгиевна, с Гурьяновым — это, разумеется, ваше сугубо личное дело, и никто в него вмешиваться не станет. Я, должен признаться, пытался объяснить это и вашему отцу, пытался убедить, что его представления о Гурьянове, мягко говоря, не соответствуют истине, но… — Геннадий Александрович развел руками. — Логические доказательства там, где верх берут эмоции, оказываются бессильны. У меня было такое ощущение, будто он просто не слышит меня. Или слышит совсем не то, что я говорю…
«Зачем эти слова? — думала Леночка. — Не все ли теперь равно… Что бы ни говорили мне, чем бы ни утешали, разве теперь это что-нибудь меняет? Все уже кончено. Непоправимо».
— Я думаю, Елена Георгиевна, так, — продолжал между тем Калашников. — Вы, главное, сейчас успокойтесь, не преувеличивайте значения совершившегося, не изводите себя понапрасну. Ничего страшного ведь не случилось, правда?
Он утешал, он жалел ее, совсем как ребенка.
— Ну, поддался ваш отец эмоциям, первому порыву поддался, так пройдет время, он сам об этом жалеть будет, вот увидите. Неглупый же он человек у вас. Через некоторое время, я думаю, мы встретимся с ним еще раз, может быть, даже вместе с Иваном Дмитриевичем, поговорим, уверен, что он все поймет правильно. Так что не тревожьтесь, нет тут никакой трагедии, поверьте моему опыту…
«Зачем он это сделал? — думала Леночка. — Зачем он это сделал?.. Все было так хорошо… А теперь…»
— Ну вот видите, вы уже немножко и успокоились, — сказал Калашников. — Теперь остается только улыбнуться, и все будет в порядке. Правда, правда — к любым житейским ситуациям надо относиться с некоторой долей юмора, это здорово выручает…
Она действительно сумела пересилить себя и неуверенно улыбнулась этому добродушному, курчавому человеку, который так старался утешить и успокоить ее. Пусть думает, что все в порядке. Главное, ей хотелось сейчас побыстрее остаться одной, одной, одной, не слышать никаких слов, никого ни видеть. Только бы уйти, скрыться.
— Ну вот и молодцом, — сказал Калашников радостно. Наверно, весь этот разговор тоже был ему в тягость.
Леночка плохо понимала, как дотянула этот день до конца. Гурьянов, как обычно, ждал ее у выхода из института. Он обеспокоенно посматривал на нее — наверняка он уже все знал.
— Лена, — осторожно сказал он. — Лена…
— Не надо, — сказала она. — Не надо ничего говорить, Глеб. И оставьте меня, пожалуйста, не провожайте, я не хочу. Мне надо побыть одной.
— Хорошо, — сказал он покорно.
Она торопилась, она спешила домой, ей было необходимо увидеть отца, взглянуть на него — как будто что-то еще могло измениться.
Леночка решила, что не станет ни о чем говорить с отцом, не произнесет ни слова. О чем им говорить после того, что произошло? Она только взглянет на него молча и пройдет мимо, к себе. И пусть он мучается, думает, что хочет. Может быть, поймет, что натворил.
Но первым, что бросилось ей в глаза, когда она вернулась домой, был китель, со всегдашней дотошной отцовской аккуратностью повешенный на плечики в стенном шкафу, в передней. И едва лишь она увидела этот китель, едва представила, как надевал он утром мундир, готовясь идти в институт, как тщательно, до блеска чистил пуговицы, — гнев, самый настоящий, неудержимый гнев сдавил ей горло. Никогда еще она не испытывала ничего подобного.
— Ну что — доволен? — сказала она, глядя прямо в лицо отца и сама пугаясь неожиданной силы того враждебного чувства, которое захлестывало ее сейчас. — Доволен? Добился своего?
Ощутил ли отец эту ее враждебность? Почувствовал ли? На лице его была написана прежняя твердая решимость, неуступчивость, но в глубине взгляда таилось заискивающее, виноватое, почти испуганное выражение.
— Я же ради тебя, я только ради тебя! — твердил он. — Или ты думала, я буду равнодушно наблюдать, как моя дочь катится в пропасть? Так не надейся, этого не будет!
— Спасибо, спасибо, мне остается только сказать тебе спасибо… — нервно говорила Леночка. — Ради меня ты выставил меня на посмешище перед всем институтом. Ты хоть это-то понимаешь? Как я пойду теперь на работу? Ты об этом-то хоть подумал? Как взгляну в глаза людям? На меня же теперь пальцами станут показывать!
— Брось, Лена. У вас в институте умные люди, я уверен, они во всем разберутся. А на дураков нечего обращать внимания. Пусть смеются.
Знакомые нравоучительные интонации звучали в его голосе.
— Ах, пусть? По-твоему — пусть? Ну, знаешь ли!..
— Я не виноват, что ты сама себя поставила в такое положение. Надо было думать раньше. Нужно было слушать отца, я тебе сразу, с самого начала говорил…
— Я же, значит, еще и виновата?! Я же и виновата! — Леночка уже не сдерживала больше слез. — Как ты можешь такое говорить, как ты можешь! Откуда в тебе такая жестокость, откуда?..
…На другой день Леночка не пошла в институт. У нее болела голова, и чувствовала она себя разбитой, усталой, опустошенной. Она лежала на тахте в своей комнате и смотрела в потолок. Несколько раз отец, хмурый, потемневший лицом, осунувшийся, исхудавший, казалось, за одну ночь, заглядывал к ней, но на все его попытки заговорить Леночка отвечала молчанием.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Разные люди приходили к Архипову. Одни приносили свои проекты и предложения, порой совершенно фантастические — впору Гурьянову сочинять рассказы, другие обращались с просьбами и жалобами, третьи просто ощущали потребность выговориться или надеялись получить необходимый совет. Были среди них и откровенные чудаки, выдумщики, и люди, травмированные тяжелыми переживаниями, нуждающиеся в помощи и участии, и те, кто забредал в институт просто из любопытства, а иной раз и из желания устроиться сюда на работу.
Но с кем бы ни встречался Архипов, какие бы просьбы и исповеди ни выслушивал, его не оставляла мысль об одном человеке — о сестре Нины Алексеевны Светловой. Ее жизнь, ее судьба, такая жестокая, такая страшная в своей непоправимости, не выходила у него из головы. Он и ждал этой встречи, и в то же время терялся от ощущения собственной беспомощности. Сумеет ли он хоть чем-то помочь этой женщине? Он перебирал в уме все те средства, которыми располагал их институт, на применение которых они могли решиться, он советовался со своими сотрудниками, прикидывал различные возможности, но результат получался малоутешительный. Что могли дать, что могли значить все их усилия по сравнению с тем горем, которое перенесла эта женщина?..
Однако она все не появлялась, никак не давала о себе знать, и Архипов стал уже думать, что, вероятно, Светловой так и не удалось уговорить свою сестру обратиться к ним, в институт.
И все-таки она позвонила. Она позвонила как раз в тот день, когда Архипов ждал американского гостя, доктора Кроули, того самого Кроули, вместе с которым так неудачно летал в Хиросиму.
Архипов бросил взгляд на часы: до встречи с американцем оставалось часа полтора, не больше. Но женский голос в телефонной трубке звучал так неуверенно, сбивчиво, робко, что откажи он сейчас, предложи перенести встречу на завтра, и эта женщина вряд ли уже наберется решимости позвонить снова.
— Вы можете приехать ко мне прямо сейчас? — спросил Архипов с той напускной суровостью, которая обычно заставляет, нерешительного пациента беспрекословно повиноваться врачу.
— Да, могу.
— Ну вот и чудесно, приезжайте, я вас жду, — сказал он.
Уж сколько, казалось, перевидал Архипов тяжелого на своем веку, какие только трагические, грозные события ни ломали, ни корежили его жизнь, судьбу его близких, а все равно так и не привык он, так и не научился мириться с чужим горем, с чужим страданием. А может быть, оттого как раз и отзывались его душа, его сердце на чужие страдания, что он полной мерой испытал эти страдания сам. Во всяком случае, теперь, в старости, сталкиваясь с чужим несчастьем, он все чаще ощущал нечто похожее на чувство вины. Словно он и правда был виноват в том, что за всю свою долгую жизнь так и не обрел умения ограждать, избавлять людей от горя. Так и не узнал, не добыл этого секрета.
Давно, много-много лет тому назад, когда он был еще совсем молодым, Архипов страшился чужого несчастья, как страшится будущий врач, неопытный студент-медик вида открытой раны. Тогда, в те времена, он, насколько это оказывалось возможно, попросту старался избегать общения с людьми, перенесшими тяжелое горе, — он терялся перед такими людьми, стеснялся рядом с ними своей благополучности, не знал, что говорить и как вести себя в подобных случаях. Но постепенно, с годами, сам испытав немало потрясений, узнав горечь потерь, он все яснее стал сознавать: единственное, что делает человека человеком, — это способность к участию, способность ощущать чужую боль и отзываться на нее. Такая способность многого стоит.
— Иван Дмитриевич, к вам.
Маргарита Федоровна стояла в дверях кабинета, пропуская впереди себя невысокую, худощавую женщину. Женщина эта держалась смущенно, словно вовсе не была уверена в том, что ее здесь действительно ждут. Она приостановилась у порога, как бы колеблясь, не решаясь шагнуть дальше, и Архипов быстро поднялся и пошел ей навстречу.
— Прошу вас, Вера Алексеевна, прошу, — сказал он.
— Иван Дмитриевич, вы не забыли, что принимаете сегодня доктора Кроули? — произнесла Маргарита Федоровна тем многозначительно-официальным, почти торжественным тоном, которым имела слабость возвещать об иностранных гостях. — Анатолий Борисович уже поехал за ним в гостиницу.
— Ну и хорошо, — сказал Архипов. — У нас еще вполне достаточно времени. Спасибо, Маргарита Федоровна, я помню.
Архипов проводил Веру Алексеевну к письменному столу и пригласил сесть, но и в кресло она опустилась осторожно, на самый краешек, как будто в следующую минуту уже готова была подняться и уйти, как будто продолжала чувствовать себя в этом большом кабинете стесненно и неуютно.
Архипов, думая сегодня о ней, пытаясь представить ее мысленно, ожидал увидеть перед собой изможденную, измученную женщину, и действительно — лицо ее было худым, уже тронутым мелкими, частыми морщинками, и седые волосы были довольно небрежно зачесаны назад, но при этом большие глаза смотрели на Архипова с ясной доверчивостью, придавая всему лицу какую-то странную привлекательность.
— Вы извините меня, — сказала Вера Алексеевна. — Это сестра моя, Иван Дмитриевич, настояла, чтобы я все-таки пришла к вам. Она о вас много хорошего рассказывала. И я благодарна вам за внимание. Но мне просто не хотелось понапрасну отнимать у вас время. Сестра моя добрый и заботливый человек, она верит, что мне еще можно чем-то помочь. А чем? Вы ведь не воскресите моих мальчиков…
Она проговорила это спокойно, глядя на Архипова все с той же ясной доверчивостью, и Архипов на мгновение даже растерялся, не сразу нашелся, что ответить.
— Вот взгляните, Иван Дмитриевич, какие они были… — Вера Алексеевна расстегнула сумочку и достала оттуда старую, уже пожелтевшую от времени фотографию. Она протянула карточку Архипову, и Архипов увидел двух мальчиков, с суровой серьезностью глядевших перед собой, в объектив фотоаппарата. Оба они были одеты в матроски и стояли рядом, держась за руки.
— Повыше — это мой старший, Юрочка, — говорила Вера Алексеевна, — а младший — Валерик. Он здесь худющий вышел: как раз перед тем, как сняться, корь перенес. А вообще, они у меня спокойные мальчики были, никогда не капризничали, хотя и нелегкое тогда время было, не плакали. Юрочка, бывало, Валерику все какие-то истории сочинял — рассказывает, рассказывает, я даже удивлялась, откуда у него фантазия такая? А Валерик его слушает, пока не уснет на полуслове… Я, бывало, их вдвоем оставлю, а сама к соседке на минутку забегу, ну, заговорюсь там и времени не замечаю, так они оба уже носами к окну прилипнут, все меня высматривают. И Юрочка, знаете, однажды мне так серьезно, совсем по-взрослому говорит: «Мама, ты, пожалуйста, не уходи надолго, мы по тебе скучаем…» Я как вспомню теперь эти его слова, так казню себя, так казню за каждую ту минуту, что не с ними провела, места себе не нахожу…
— Я вас понимаю, Вера Алексеевна, — мягко сказал Архипов, все вглядываясь в пожелтевшую фотографию — в этот слабый, уже почти призрачный след двух таких коротеньких и так страшно оборвавшихся жизней.
— Я вот о чем теперь думаю, Иван Дмитриевич, вот что меня мучит: почему я тогда жива осталась, почему рассудка не лишилась? Почему выдержала? Я теперь думаю: может быть, я их любила недостаточно, если все-таки вынесла? Днем еще ничего, а ночью, как обступят меня эти мысли, так сердце разрывается. Любила же я их, любила, больше себя любила, у меня на всем свете никого дороже не было. Так почему же я жива осталась, почему?..
Брови ее сошлись, складка мучительного недоумения легла между ними.
— Я одного себе простить не могу: как я не почувствовала, как сердце мне не подсказало — почему я не увезла их, не укрыла, не спрятала? Верила, что ли, что на детей у бандитов рука не поднимется?.. Я иногда Юрочку во сне вижу, и он так укоризненно-укоризненно на меня смотрит…
— Не надо, Вера Алексеевна, не надо, — с мягкой настойчивостью повторил Архипов.
— Какой это ужас, Иван Дмитриевич, если бы вы знали, какой это ужас!..
Архипов положил свою руку на руку Веры Алексеевны, успокаивая ее.
— Я знаю, — сказал он.
Некоторое время они молчали. Тишина стояла в кабинете.
— Простите меня, — произнесла Вера Алексеевна, — я не хотела…
— Вера Алексеевна, не будем больше об этом, — сказал Архипов. — Давайте лучше подумаем, как помочь вам. Я скажу вам правду: это не просто. Не буду вас обнадеживать, но все-таки, я думаю, мы в силах помочь вам. Если вы согласитесь, конечно…
Вера Алексеевна молчала.
— Если вы не возражаете, я прежде всего посоветуюсь с врачами и тогда…
Архипов не договорил. Двери кабинета внезапно распахнулись, и оживленный, веселый голос Анатолия Борисовича Перфильева произнес:
— Иван Дмитриевич, принимайте гостей!
И сразу вслед за Перфильевым на пороге кабинета возник улыбающийся, сверкающий выпуклыми очками, похожий на маленького, юркого гнома доктор Кроули. Позади доктора Кроули маячили еще какие-то люди, и кабинет Архипова сразу наполнился оживленными голосами, смехом и радостными восклицаниями.
— Как видите, мистер Архипов, я выполняю свои обещания, — рокочущим басом проговорил Кроули, пожимая руку Архипова. — Недаром я всегда говорю своим сотрудникам: никогда не обещайте невозможного, но всегда выполняйте обещанное!.. Однако, простите, мистер Архипов, может быть, мы не вовремя? Мы, кажется, отвлекли вас от дела?..
— Ничего, ничего, — отозвался Архипов. — Мы, в общем, уже закончили…
Он взял со стола пожелтевшую фотографию, чтобы отдать ее Вере Алексеевне, и тут доктор Кроули, поймав взглядом его движение, жизнерадостно воскликнул:
— Какие чудесные малыши!
Как и все предыдущие фразы, он произнес эти слова по-английски, и Архипов тоже по-английски тихо и раздельно ответил:
— Эти малыши, доктор Кроули, были зверски убиты бандитами, бандеровцами, украинскими националистами, сотрудничавшими с фашистами. А эта женщина — их мать…
На мгновение молчание воцарилось в кабинете Архипова. Потом доктор Кроули чуть поклонился Вере Алексеевне и сказал:
— Я очень сожалею…
— Как раз перед вашим приходом, мистер Кроули, мы обсуждали, что можно сделать, чтобы помочь Вере Алексеевне, чтобы хоть немного облегчить ее страдания…
— Да, да, я понимаю, — сказал Кроули. — Я разделяю ее горе. У меня у самого есть дети, и потому я могу понять, какое это ужасное несчастье потерять их… Если вам необходим мой совет или моя помощь, вы можете располагать мной, мистер Архипов.
— Благодарю вас, — сказал Архипов. — Дети этой женщины, мистер Кроули, погибли у нее на глазах, погибли мученически, страшно, и это воспоминание, картина эта неотступно стоит у нее перед глазами…
— Да, да, я понимаю… — повторил Кроули. — И что же вы намерены предпринять?..
— Я еще не решил окончательно, — сказал Архипов. — Возможен гипноз, химиотерапия…
— А вам не кажется, мистер Архипов, что сама судьба привела меня к вам именно в эту минуту? — с энтузиазмом воскликнул Кроули. — Что вы скажете, если я приглашу вашу пациентку в свою клинику? Вы ведь знаете мои работы в этой области и те результаты, которых мне удавалось достигнуть. А, мистер Архипов?
Архипов ответил не сразу.
— Это не мне решать, — сказал он наконец, после паузы. — Спросите сами Веру Алексеевну, мистер Кроули.
Все это время Вера Алексеевна, угадывая, что речь идет о ней, с некоторым беспокойством переводила взгляд с Архипова на Кроули и снова на Архипова. Она чувствовала себя явно неловко и даже чуть вздрогнула, когда доктор Кроули обратился непосредственно к ней. И сразу вслед за ним заговорил переводчик — совсем молоденький парнишка в джинсах и свитере:
— Доктор Кроули, профессор из Соединенных Штатов, просит сказать вам… Он разделяет ваше горе… Он бы хотел, если это возможно… То есть он говорит, что был бы рад пригласить вас в свою клинику пройти курс лечения. Он не станет скрывать: это непростой и нелегкий курс лечения, но зато он гарантирует… Доктор Кроули говорит, что вы выйдете из клиники совсем иным человеком, вы навсегда забудете свое прошлое, все, что причиняет вам страдания и боль. Вы начнете новую жизнь. Если вы согласитесь… Доктор Кроули говорит: он убежден, что мистер Архипов поможет осуществить все необходимые формальности…
— Я не понимаю, — сказала Вера Алексеевна.
— Доктор Кроули говорит, что это предложение, наверно, слишком неожиданно для вас, он не торопит, он готов подождать, он будет здесь еще три дня, вы можете подумать, посоветоваться. Но если бы вы спросили его мнение, он бы сказал без колебаний: не упускайте этот случай. Вы обретете новую жизнь, повторяет доктор Кроули, жизнь без напрасных мучений, вы сможете…
— Я не понимаю, — повторила Вера Алексеевна со странным упорством. — А мои мальчики?
— Весь этот ужас навсегда уйдет из вашей жизни, говорит доктор Кроули. Уйдет безвозвратно. Кошмары перестанут преследовать вас, вы навсегда освободитесь от своих страшных воспоминаний. Понимаете? Навсегда. Поверьте, говорит доктор Кроули, только глубокое и искреннее сочувствие к вашему горю побуждает его сделать это предложение. Методика, разработанная в его клинике, говорит он…
— Я все-таки не понимаю, — опять уже в третий раз произнесла Вера Алексеевна, и виноватые нотки зазвучали в ее голосе, словно она и правда силилась и не могла понять, что растолковывал ей этот маленький человек с внешностью гнома, что хотел ей объяснить при помощи переводчика. — Вы предлагаете мне все забыть? В с е?
— Да, совершенно верно. Именно все. Вы правильно поняли. Ничто и никогда, говорит доктор Кроули, больше не напомнит вам о пережитой трагедии. Разве вы не хотели бы этого?..
И снова тишина наступила в кабинете. Казалось, не только доктор Кроули, но и все остальные, кто был сейчас здесь, ждали от нее ответа.
— Нет, — сказала Вера Алексеевна, вставая. — Я не могу. Скажите, пожалуйста, доктору Кроули, я очень тронута его вниманием, я благодарна… благодарна ему… Но я… как бы это объяснить получше… Забыть, отказаться от памяти о моих мальчиках… это ведь то же самое… то же самое, что потерять, что предать их… Я не знаю, понятно ли я говорю, но я д о л ж н а это помнить…
— Понятно, вы говорите очень понятно, — неожиданно произнес Архипов. — И я знал, что вы это скажете, Вера Алексеевна.
Доктор Кроули внимательно, чуть наклонив голову набок, слушал переводчика.
— Я ведь и к вам, Иван Дмитриевич, не за помощью шла, — обращаясь уже к одному Архипову, продолжала Вера Алексеевна. — Я вам о мальчиках моих рассказать хотела… Мне иногда кажется: если люди будут знать об этом, такое уже никогда не сможет повториться. Вы же со столькими людьми встречаетесь, Иван Дмитриевич, вас же в разных странах… вон даже в Америке… знают… Вас же послушают, Иван Дмитриевич, если вы скажете свое слово, вас же послушают…
— Спасибо, — сказал Архипов. — Я надеюсь, мы еще увидимся с вами. Спасибо. — Он медленно, грузно, по-стариковски склонился и поцеловал ей руку.
— Очень сожалею, — чуть заметно пожимая плечами, сказал доктор Кроули. — Возможно, нам, кто не пережил ничего подобного, действительно очень трудно понять… Очень сожалею…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Тихо было в квартире.
Удивительно разной, оказывается, бывает тишина. Бывает тишина одиночества, тишина сосредоточенности, когда так хорошо остаться наедине с книгой или наедине с собственными мыслями, когда так легко думается, так зримо и отчетливо работает воображение… Бывает тишина торжественная, величественная, когда смотришь в высокое ночное небо, усыпанное звездами, и ощущаешь себя лишь малой частицей, песчинкой, затерявшейся в этом огромном мире… Бывает напряженная, рабочая, нервная тишина — тишина контрольных, тишина зачетов и экзаменов. А бывает такая — какая сейчас в их квартире. Леночкина мать в таких случаях говорила: «Словно покойник в доме». Гнетущая, тяжелая, давящая тишина.
Только шаги отца слышались за стеной, и ни звука больше. Вот он прошел на кухню, вот он вернулся обратно, вот остановился, наверно, в задумчивости у книжного шкафа, вот снова побрел на кухню. Опять вернулся обратно… Сколько же можно так ходить! Всю душу вымотал бесцельным своим хождением!..
Вот шаги приблизились к двери в Леночкину комнату, затихли. Видно, стоит, прислушивается, не решается заглянуть к ней. И снова скрипнул паркет, снова пошел отец кружить по квартире…
И этот звук шаркающих, робко удаляющихся шагов вдруг заставил Леночку подумать, что отец, наверно, уже понял свою вину перед ней и, конечно же, терзается и ищет путь к примирению. Ей так захотелось прежнего мира в доме, так захотелось всегда царившего в их квартире тепла и доброты, так потянулась она ко всему этому — прежнему и, казалось, такому прочному, без чего и жить невозможно.
Почему два человека, которые любят ее и которых, в свою очередь, любит она, не могут быть счастливы? Почему не могут быть счастливы они — все трое? Что им мешает? Разве это так сложно? Так трудно?.. Стоит только объяснить отцу, попросить его, уговорить выслушать все спокойно, и он поймет — не может быть, чтобы не понял. Он же умный и добрый.
И таким легко осуществимым, таким естественным и простым показался Леночке в эту минуту предстоящий разговор с отцом… Отец и сам, наверно, ждет этого разговора, этого объяснения. Леночка все больше и больше убеждала себя в этом, постепенно набираясь решимости, постепенно проникаясь уверенностью, что все так и будет, как представляется ей сейчас. И сразу легко сделалось на душе, как бывало только в детстве, когда после ссоры с родителями, казавшейся поначалу такой ужасной, такой непоправимой, вдруг наступало бурное — со слезами раскаяния и радости — примирение.
И в этот момент зазвонил телефон.
Леночка слышала, как отец снял трубку.
— Вартанян слушает, — сказал он. — Да. Нет, она подойти не сможет. Это несущественно, но подойти она не сможет. Вы поняли меня? — Голос его звучал твердо и непреклонно — голос военного человека. — И оставьте ее в покое! Вы слышите меня? — Голос внезапно сорвался на высокую ноту. — Что вам от нее нужно? Оставьте ее в покое. Все.
Когда он с размаху опустил трубку, Леночка уже стояла в дверях.
— Зачем ты так? Зачем? — тихо, почти шепотом, произнесла она.
Отец быстро повернулся к ней.
— А ты что хотела?.. Чтоб я своими руками… Своими руками…
Черты его лица как-то странно исказились. Чужое, незнакомое лицо видела сейчас перед собой Леночка.
— Ты этого хотела, да? Так этого не будет, слышишь? Я скорее умру, чем… чем…
Казалось, отец никак не может найти нужного слова. Лицо его то наливалось тяжелой багровостью, то вдруг столь же неожиданно серело, затягивалось бледностью, так что на щеках сразу отчетливо проступала полуседая щетина.
— Папа! — испуганно воскликнула Леночка. — Папа!
Но он уже не мог остановиться.
— Я вижу, тебя воодушевляет пример твоей матери! Ты хочешь стать такой же потаскухой, как она!
— Папа!
— Так иди, иди! Дорога открыта! Я не держу тебя! Но ты мне не дочь больше! Слышишь! Не дочь!
Леночка бросилась к дверям. Она плохо помнила, как натянула пальто, как сунула ноги в туфли. Отец что-то кричал ей вслед, но она не слышала — что. У нее было такое ощущение, словно она задыхается, словно ей не хватает воздуха.
Только на улице, на ветру, под дождем, Леночка немного пришла в себя. Рядом темнела телефонная будка. Леночка вошла в нее и торопливо, словно опасаясь, что передумает, набрала номер.
— Позовите, пожалуйста, Гурьянова.
Кто подходил к телефону, она не разобрала. Может быть, ее голос узнали? А какая, впрочем, теперь разница?..
— Я слушаю. — Голос Глеба. Ей показалось: она различила в нем волнение и тревогу. Словно Глеб уже ждал этого звонка, уже догадывался, кто звонит.
— Глеб, это я, — сказала Леночка. — Мне нужно тебя видеть. Очень нужно.
— Что случилось? — обеспокоенно спросил Глеб. — Ты где сейчас? Что с тобой, Лена?
— Я потом расскажу, не по телефону, — сказала Леночка.
— Хорошо, — сказал Глеб. — Где мы встретимся?
— Не знаю, мне все равно… Помнишь ту булочную, где мы пили кофе? Давай там, на углу.
— Хорошо, — сказал Глеб.
Почему она назвала именно это место? Или надеялась, что, снова оказавшись там, они сумеют вернуться в то прошедшее уже и счастливое время, когда им обоим было так хорошо, так бездумно-радостно?..
Когда Леночка добралась до выбранного ею места свидания, Гурьянов уже ждал ее.
— Ну что? Что? — спросил он сразу. — Я так за тебя волновался. Что произошло, Лена?
— Глеб, я ушла из дома, — произнесла Леночка, сама как бы со стороны вслушиваясь в свой звучащий без всякого выражения голос. — Я не могла, Глеб. Я не могла больше этого вынести!.. Ты бы слышал, что он мне говорил!..
— Ну что ты, Лена, ну что ты! — сказал Глеб. — Все устроится, вот увидишь, все устроится, все еще будет хорошо, поверь мне… Хочешь, пойдем сейчас ко мне, я напою тебя кофе?.. Если хочешь, ты можешь остаться у меня переночевать, а я уйду к приятелю, слышишь?
— Да, да, — сказала Леночка почти машинально. — Да.
— Ты только не переживай так.
Он заглядывал ей в лицо, он старался утешить ее, как утешают обиженного ребенка. И от этого его взгляда, полного тревоги за нее, от прикосновения его руки она и правда постепенно успокаивалась. Или это только казалось ей, на самом же деле боль вовсе не затихала, не смягчалась, а лишь уходила глубже, затаивалась до поры до времени?.. Так или иначе, но чувствовать возле себя человека, рядом с которым она могла не стесняться слез, не стыдиться своего отчаяния, который все понимал и от которого у нее теперь не было тайн, — это для Леночки было важнее всего.
Они ехали в трамвае, потом шли по каким-то улицам. Где? По каким? У Леночки было такое ощущение, словно она вдруг утеряла способность ориентироваться в городе, и, не окажись сейчас рядом с ней Гурьянов, она бы попросту заблудилась, не смогла сообразить, где находится и куда идет.
— Ну вот и пришли, — сказал Глеб с несколько нарочитой веселостью. — Хоть посмотришь мою келью. Соседей не стесняйся и не бойся. Они — люди хорошие, у меня с ними полный контакт.
Леночка покорно кивнула, но сама по себе мысль о том, что сейчас кто-то еще увидит ее, будет рассматривать ее с любопытством и интересом, что придется делать усилие над собой, чтобы произнести «здрасте» и, возможно, еще какие-то ничего не значащие слова, была для нее тягостна. Она даже приостановилась в нерешительности, но Гурьянов словно не заметил этого ее минутного замешательства, и вместе они вошли в парадную старого, неказистого, четырехэтажного дома.
И едва лишь они оказались вдвоем на лестнице, точно отгороженные уже от всего остального мира, Леночкой овладело волнение. Если все, что она делала до сих пор, она делала почти машинально, бессознательно, словно бы находясь в полусне или под гипнозом того чувства протеста, унижения и обиды, которое захлестнуло ее еще дома во время ссоры с отцом, то теперь, поднимаясь рядом с Гурьяновым по выщербленным ступеням узкой лестницы, приближаясь к той квартире, где он жил, она вдруг ощутила и страх, и робость, и отчаянную, радостную решимость — как будто и верно переступила сейчас некую границу и ничего больше не существовало для нее, кроме этого дома — д о м а Г у р ь я н о в а, как будто поняла она, признала, что никто ей больше не нужен, кроме этого человека, который сейчас шел рядом с ней. Она испытала счастливое чувство освобождения, как бывало в детстве, когда просыпалась Леночка после страшного сна и, лежа в темноте с открытыми глазами, медленно, не сразу, приходила в себя после пережитого испуга.
Гурьянов тоже заметно волновался, на него внезапно напала разговорчивость, он болтал о каких-то пустяках и острил все время, пока они поднимались по лестнице до площадки третьего этажа. Здесь он остановился перед ничем не примечательной, крашенной коричневой краской дверью. Звякнули ключи.
— Прошу!
Тогда, распахивая перед ней тяжелые институтские двери, он тоже произнес это слово. И даже интонация была та же. Кажется, так давно это было, так много времени утекло с тех пор! А на самом деле, если оглянуться — всего ничего.
Они прошли по довольно длинному и широкому коридору мимо детских колясок и санок, мимо лыж и велосипедов, мимо каких-то тумбочек и старых кроватей-раскладушек — мимо всех этих атрибутов чужого быта, чужой, неведомой Леночке жизни. Откуда-то, из глубины коридора, доносились голоса, позвякивание посуды и журчание льющейся воды. Где-то негромко, затихая уже, плакал ребенок.
Минет время, и этот коридор еще не раз будет возникать в одном и том же Леночкином сне, повторяющемся со странной настойчивостью. В этом неясном, нечетко проявленном сне она будет видеть себя и Гурьянова блуждающими по бесконечному коммунальному коридору, и всякий раз во сне от нее будут ускользать цель и смысл этого их блуждания, но неясное, тревожно-радостное предчувствие, которое она испытала здесь наяву, идя вслед за Гурьяновым, будет томить ее и во сне… В этих своих снах Леночке ни разу так и не удастся одолеть коридорный лабиринт, выбраться из него, достигнуть конечной цели, и это тем более странно, что наяву, на самом деле, путь их по коридору был совсем недолог — какая-нибудь минута, не больше, и Гурьянов все с тем же «Прошу!» уже распахнул перед ней дверь своей комнаты. Но прежде чем войти в эту комнату, она успела еще увидеть велосипед, приткнувшийся к стене возле двери, наверно, тот самый велосипед, на котором подкатил Гурьянов к институту в день их знакомства, и сердце ее снова дрогнуло от воспоминания об этом дне…
В узкой, с высоким потолком комнате было темно, только смутные отсветы бродили по ее стенам. Невидимые, тикали часы. Едва угадываемые предметы в комнате казались призрачными, лишенными четких контуров.
Гурьянов шарил по стене рукой, долго на ощупь искал выключатель, как будто и он сам сейчас был гостем в этой комнате.
— Ты только не обращай внимания, у меня тут беспорядок, — сказал он виновато. И в следующий момент щелкнул выключатель, комната осветилась.
С чем сравнить то чувство, которое испытала Леночка в эту минуту?
Мы испытываем волнение, встречаясь глазами со взглядом любимого, дорогого нам человека, наше сердце способно замереть от случайного прикосновения к его руке, от звука его голоса, от звука шагов, от одной мысли о том, что вот сейчас он войдет, возникнет на пороге… Все это уже не раз ощущала Леночка. Но волнение, которое она испытала теперь, при виде комнаты, в которой жил Гурьянов, при виде вещей, которыми изо дня в день он пользовался, к которым прикасались его руки: небольшого письменного стола, беспорядочно заваленного книгами, газетами и журналами, со старенькой пишущей машинкой посередине, книжных полок, стульев, на которых, в свою очередь, тоже громоздились стопки каких-то журналов, радиоприемника и проигрывателя, стоявших прямо на полу, наполовину разобранных, опутанных какими-то проводами, куртки, которую она не раз видела на Гурьянове и которая теперь сиротливо висела на спинке кресла, — это волнение оказалось совершенно особым и не менее острым. Как будто перед ней сейчас открывалась та сторона жизни Гурьянова, которая до сих пор была неизвестна ей, как будто только теперь, когда она увидела эту комнату, эти вещи, к ней пришло совсем новое ощущение — ощущение родства, близости… И верно, ну что ей эта куртка, небрежно брошенная на спинку кресла? Но отчего тогда при одном взгляде на нее вдруг возникает такое щемящее чувство нежности, такая жажда знать о близком человеке все и самой рассказывать ему обо всем, ничего не скрывая? Или вещи и правда вбирают в себя, хранят нечто от своего хозяина?..
— Ах, черт, если бы я знал… — смущенно бормотал Гурьянов. — Я бы хоть немного навел порядок… Ты извини, Лена…
А Леночка словно бы и не замечала его смущения и слов этих словно бы не слышала.
— Я сейчас чаю согрею… Или кофе… Хочешь кофе? — говорил Гурьянов. — Подожди одну минутку, я сейчас, быстро…
Казалось, он даже рад был этому поводу, казалось, нарочно даже искал эту возможность — удалиться, уйти, чтобы наедине справиться со своим волнением.
Оставшись одна, Леночка подошла к окну и выглянула на улицу. Окно выходило на набережную канала. По набережной с тяжелым гулом шли грузовики, и оконное стекло отзывалось на этот гул мелким, частым подрагиванием. Черная, словно бы маслянистая вода плескалась в канале, слабо отражая огни уже зажегшихся фонарей. По другую сторону канала виднелись какие-то темные, приземистые здания — вероятно, складские корпуса. Берега канала здесь не были одеты в гранит, не были укреплены каменными плитами и представляли собой обычные земляные откосы. Все, что видела сейчас Леночка, казалось ей исполненным особого значения. Город, который открывался ей отсюда, из окна гурьяновской комнаты, представлялся ей не похожим на тот, привычный, с которым она встречалась каждый день, — он выглядел угрюмее и озабоченнее, точно усталый человек, возвращающийся домой после вечерней смены… И по-прежнему ощущение, что с каждым своим маленьким открытием она открывает нечто новое и в Гурьянове, не оставляло Леночку.
Она присела за письменный стол, пытаясь представить, как сидит Гурьянов. Осторожно тронула клавишу старенькой пишущей машинки. В машинку был вложен лист бумаги.
«„День защиты детей“, — прочла Леночка. — Фантастический рассказ. Наброски».
Ее взгляд скользнул вниз по бумажному листу — там были напечатаны отрывочные строки, абзацы, отдельные слова.
«…Дети-то за что должны страдать? — сказал он с мучительным недоумением: — Ну пусть мы, взрослые, но дети-то за что?» — читала Леночка.
«— …Я вот о чем думаю, — отозвался Григорьев. — Мы так стараемся уберечь детей от различных болезней, от вирусов гриппа и полиомиелита, от дифтерита и кори, мы делаем детям прививки от оспы и тифа, но отчего же мы так мало заботимся о том, чтобы защитить их от вирусов жестокости и лицемерия, лжи и алчности? Нет, не то чтобы не старались хоть что-нибудь сделать, но все это как-то кустарно, на ощупь — кто во что горазд. А то и вовсе никак».
«…— В конечном счете, — продолжал он, — можно сказать, что именно память, ее избирательность формирует человека, формирует личность. Почему еще в детстве, в раннем возрасте человек одно событие запоминает навечно, вбирает, впечатывает в свою память, а другое, может быть куда более значительное, не производит на него впечатления, бесследно проходит мимо?.. Следовательно, пойми мы эти тайные движения, пойми лучше эти процессы, мы сможем влиять на память, на избирательность, сможем оказаться в состоянии уберечь человека от всего дурного, низкого, жестокого…»
«…Защитить ребенка в душе человека…»
— Это только так, наброски, самое начало работы, обрывки мыслей, — сказал Гурьянов смущенно. — Не стоит пока читать, не надо…
Леночка и не слышала, как он вошел в комнату и остановился у нее за спиной.
— Правда, не читай пока… — повторил он.
— У тебя не должно быть от меня секретов, — сказала Леночка.
— Да какие секреты! — отозвался Гурьянов. — Просто я ведь знаю: в институте уже и острят и потешаются надо мной из-за этих рассказов — мол, сочинитель нашелся! А я… Знаешь, я часто думаю: наверно, нет в нашем мире ничего сложнее, совершеннее, изумительнее, чем человеческий мозг, человеческая психика, человеческая память. И в то же время нет ничего более хрупкого, более уязвимого, более беззащитного. Сознаем ли мы это? Понимаем ли? Я и рассказы свои пытаюсь писать, чтобы напомнить людям об этом…
— Я понимаю, — сказала Леночка. — Я понимаю. Ты дашь мне первой прочесть эти рассказы, ладно? Мне хочется, чтобы я прочла их первая, слышишь, Глеб?
— Ну конечно, — сказал Гурьянов. — Кому же еще мне давать их читать?.. И знаешь, Лена, если у меня когда-нибудь выйдет книга, я посвящу ее тебе…
— У тебя выйдет книга, — сказала Леночка. — Я знаю[1].
— Откуда ты можешь знать? — засмеялся Гурьянов.
— Не смейся. Я серьезно. Знаешь, даже странно: я никогда, кажется, не была честолюбивой и тщеславием вроде бы никогда не страдала, а вот когда я теперь думаю о тебе, мне хочется, чтобы ты был знаменитым. И я бы тобой гордилась. Ужасно хочется. Это плохо, да? — спросила она жалобно.
— Нет, отчего плохо? — сказал Гурьянов, смеясь. — Я лично ничего не имею против. Только, прежде чем я стану знаменитым, давай все-таки выпьем кофе…
Он тут же виновато взглянул на нее, как будто испугавшись неуместности своего шутливого, легкомысленного тона, как будто извиняясь за него.
Крепкий аромат кофе заполнил комнату, и запах этот заставил Леночку вспомнить об отце. Что он сейчас делает? Стоит у окна? Смотрит на улицу? Ждет?
— Я устала, — сказала она. — Ты даже не представляешь, Глеб, как я устала за эти дни. И почему это люди бывают так жестоки друг к другу, почему так изводят, так мучают друг друга? Даже самые близкие… Или оттого и мучают — что самые близкие?.. Не люби я отца, разве бы я мучилась от его слов?..
— Ничего, все пройдет, — сказал Гурьянов утешающе. — Все пройдет. Вот увидишь…
— Да? — сказала она с надеждой. — Ты думаешь?
Он прикоснулся к ее руке, и Леночка, как тогда, в переулке, когда он держал ее руки в своих, ощутила нервный счастливый озноб.
— Останься у меня, — проговорил Гурьянов торопливым сбивчивым шепотом. — Я люблю тебя. Останься насовсем. Слышишь, Лена?
Она молчала, полуприкрыв глаза. Его ладонь по-прежнему лежала на ее руке.
Стоило только Леночке сказать «да» или даже лишь кивнуть беззвучно, и сразу все решалось: так хорошо было ей сейчас здесь, в этой комнате, рядом с Гурьяновым… Так легко и свободно… Стоило ей только сказать «да», и она сразу избавлялась от всего, что тяготило ее последние дни.
Запах кофе по-прежнему плавал по комнате.
— А отец? — сказала Леночка тихо, словно бы даже не Гурьянова спрашивала, а себя. — А отец как же?..
— Ну что — отец, Лена! — отозвался Гурьянов. — Он же сам во всем виноват! Пройдет время, он поймет это. Вот увидишь. Он же кругом не прав. Ты не обижайся на меня, но это же… Даже в нашей конторе над ним все смеются…
— Не надо! — воскликнула Леночка испуганно. — Не надо!
Она отстранилась от Гурьянова и резко встала.
— Лена, что с тобой? Ну что ты сразу расстроилась? Да не обижайся ты, я же не хотел… Слышишь? — обеспокоенно заглядывая ей в лицо, говорил Гурьянов.
— Я не обижаюсь, на что мне обижаться… — отвечала Леночка, отворачиваясь от Гурьянова, стараясь, чтобы не увидел он ее слез. — Я, наверно, сейчас ужасно банальную вещь скажу. Но что делать, если я так чувствую? Нельзя построить счастье на страдании другого человека. Я так ясно, так ясно это сейчас почувствовала…
— Ты об отце думаешь! — воскликнул Гурьянов. — О его переживаниях! А я? А обо мне ты подумала?..
— Ты — другое дело, — сказала Леночка. — Нам с тобой еще есть чем жертвовать, а ему уже нечем… Понимаешь?..
— Да погоди, Лена! Да объясни ты, что случилось?
— Не знаю, — сказала она. — Я и сама не знаю. Ты вот сказал: он не прав. Да, не прав, не прав, кругом не прав, я и сама это знаю. И что смеются над ним, знаю. Но оттого-то как раз я и должна с ним быть — оттого что с м е ю т с я — понимаешь?.. Ты-то это должен понять, ты же чуткий человек, Глеб! Ну как бы тебе объяснить это? Понимаешь, пока он был в силах что-то запретить мне, не пустить меня, приказать, пока имел власть надо мной, я могла ссориться с ним, спорить, ожесточаться против него… А теперь… теперь, когда он остался один в своей неправоте, совсем один, когда он побежден, смешон, даже жалок… — Слезы вдруг подступили опять к ее глазам, она не могла дальше говорить.
— Лена! Лена! Да успокойся! Что с тобой! — испуганно повторял Гурьянов.
— …когда он несчастен… я не могу оставить его одного… Понимаешь, Глеб, не могу…
— Да он-то сам поймет разве это? Оценит? Жертву твою примет? Или лишь в эгоизме своем утвердится?..
— Какая разница… — сказала она устало. — Какая разница…
Острая, томящая тревога за отца внезапно охватила ее, все разрастаясь. Казалось, даже малое промедление может быть гибельным. Как она могла бросить его? И разве имела она право на те минуты счастливой беспечности, что испытала здесь, в этой комнате?.. Кто знает — какой еще ценой ей придется платить за них…
— Я пойду, — сказала она. — Я пойду, Глеб, не сердись на меня, так надо.
— Я знал, — отозвался Глеб потерянно. — Я с самого начала знал, что ты уйдешь…
— Не сердись, Глеб, не сердись, мне и так тяжело, — сказала Леночка, на мгновение приникнув к нему. — И не говори ничего больше. И не провожай меня, слышишь?..
Если бы в этот момент он проявил больше решимости, резкости, может быть даже грубости, если бы возмутился, прикрикнул, если бы сделал попытку удержать ее, наверно, она осталась бы. Но Гурьянов только молча, с печальной, покорной преданностью смотрел на нее. Так и остался, застыл в ее памяти этот его взгляд. И только когда они прошли через весь коридор, когда на секунду замешкались, задержались у дверей, он сделал движение к ней, попытался взять ее за руку, словно только сейчас осознал, что она уходит. Но было уже поздно, момент был упущен.
На набережной канала Леночка быстро поймала такси, и эта маленькая удача чуть умерила остроту испытываемой ею тревоги. Но окончательно отлегло у нее от сердца, когда, уже подъезжая к своему дому, сквозь лобовое стекло машины, она увидела свет в окне отцовской комнаты…
Леночка открыла дверь своим ключом, прошла через маленькую переднюю и остановилась на пороге комнаты.
Отец сидел за столом, раскрытая тетрадь, какие-то листки с выписками лежали перед ним, но смотрел он не на стол, не в тетрадь, а куда-то поверх стола, прямо перед собой.
Увидев Леночку, он не вскочил ей навстречу, не встал даже — только неуверенная, словно бы вопросительная улыбка медленно осветила его лицо. Однако тут же, почти сразу он засуетился, начал торопливо собирать свои листки. Пальцы его дрожали.
— А я тут… я тут… — говорил он.
«Да он же совсем старик… — подумала Леночка, с нежностью и жалостью следя за его суетливыми движениями. — Совсем старик…»
— Представляешь, — неожиданно оживляясь, сказал отец, — я что-то тут никак не могу разобраться — ДНК или РНК является все-таки носителем памяти? Если с точки зрения самых последних данных современной науки, а? ДНК или РНК?..
— Боже мой, папа, какая разница! — сказала Леночка. — Ну какая разница!..
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
— Простите, Иван Дмитриевич… — проговорила Маргарита Федоровна, и лицо ее при этом приобрело виноватое, почти страдальческое выражение. — Вы не будете против, если я уйду? Уже семь часов, а у меня сегодня…
— Да ради бога, Маргарита Федоровна, — отозвался Архипов. — Идите, идите, вы на меня, полуночника, не обращайте внимания…
— Нет, если я вам еще нужна, вы скажите, я задержусь…
Всякий раз, если ей приходилось покидать дирекцию раньше Архипова, Маргаритой Федоровной овладевал комплекс вины.
— Маргарита Федоровна, я вам очень признателен, но не заставляйте меня дважды произносить одно и то же. Вы знаете, я этого не люблю, — сказал Архипов. — До свидания.
— До свидания, Иван Дмитриевич.
Маргарита Федоровна нерешительно прикрыла дверь. Еще некоторое время было слышно, как она гремит ящиками письменного стола в приемной. Потом все затихло.
Архипов любил эти вечерние часы, когда уже оставалось позади, спадало дневное суетливое напряжение. И в то же время, задерживаясь в институте, он не ощущал здесь того гнетущего, тоскливого одиночества, которое наваливалось на него дома, в пустой квартире. Здесь, в институтских лабораториях, и вечером, когда затихали коридоры, пустели лестницы, шла своя, особая жизнь. Кто-то заканчивал затянувшийся опыт, кто-то готовил препараты для завтрашнего эксперимента, кто-то приводил в порядок торопливо записанные днем результаты опытов. Да и те лабораторные помещения, которые уже пустовали, погрузившись в темноту, продолжали хранить память о человеческом присутствии: мерно гудели включенные холодильные установки, щелкали, переключаясь, реле, ровно журчала вода в аквариумах. И, даже не слыша сейчас этих привычных звуков, не видя людей, еще работающих в лабораториях, Архипов словно бы улавливал, ощущал те живые токи, которые проникали, казалось, сквозь стены комнат. И работалось ему в эти вечерние часы легко и вольно.
Однако сегодня, едва Архипов взялся за свою рукопись, дверь кабинета приоткрылась. Сверкнули очки Аркадия Ильича Стекольщикова. Без сомнения, Аркадий Ильич специально выждал момент, когда Архипов останется один. Он любитель конфиденциальных разговоров.
Архипов недовольно взглянул на Стекольщикова: не было у него сейчас настроения вести какие бы то ни было беседы. Но Аркадий Ильич будто бы и не заметил этого его недовольства.
— А я, Иван Дмитриевич, ведь виниться пришел, — сказал Аркадий Ильич и хохотнул заискивающе. — Правда, правда. Как говорили в старину: не вели казнить, вели миловать. И не удивляйтесь, Иван Дмитриевич, я серьезно говорю — виниться перед вами пришел…
— Я вас слушаю, Аркадий Ильич, — сказал Архипов.
Стекольщиков опять хохотнул.
— Письма-то ведь эти анонимные, Иван Дмитриевич, в горком я написал. Собственноручно на машинке выстукивал. Забавно? Или вы мне не верите?..
— Нет, отчего же, — сказал Архипов. — Верю.
— А не слишком ли легко верите, Иван Дмитриевич? Если я сейчас скажу, что пошутил, что напраслину на себя возвел, как вы себя чувствовать будете? Как? А? — Очки Стекольщикова блеснули и тут же погасли. — Отчего вы так сразу мне поверили, Иван Дмитриевич?..
Он не сел в кресло, а продолжал ходить по кабинету своей подпрыгивающей, птичьей походкой, время от времени останавливаясь и взглядывая на Архипова.
— Отчего так легко в реестр анонимщиков, врагов своих занести меня готовы? Не оттого ли, Иван Дмитриевич, что всегда в глубине души меня презирали? Презирали ведь, признайтесь?..
— Наш разговор, Аркадий Ильич, принимает весьма странный оборот, — сказал Архипов.
— Действительно странный! Очень странный! — с воодушевлением воскликнул Аркадий Ильич. — Я, ваш старый товарищ, прихожу к вам с признанием, что анонимки на вас писал, а вы даже не спросите, почему я это сделал. Причины какие у меня были? Что толкнуло меня на этот дикий поступок?.. Или вам не любопытно это, Иван Дмитриевич? Все едино? Отчего вы молчите?
— Что дальше, Аркадий Ильич? — сказал Архипов. — Я жду.
— Да что вы за человек, Иван Дмитриевич! Да возмутитесь, выйдите из себя, прикажите мне убраться вон из кабинета, наконец! Разве я этого не заслуживаю, по-вашему?..
— Аркадий Ильич, мы слишком давно друг друга знаем, чтобы разыгрывать друг перед другом театральные спектакли, — сказал Архипов. — Избавьте меня от этого.
— Ну ладно, — Стекольщиков ухватился обеими руками за спинку кресла, перегнулся, приблизив свое лицо к Архипову. — А тот факт, что я сам признаюсь в постыдном своем деянии, вас, Иван Дмитриевич, не ставит в тупик? Не кажется заслуживающим внимания? Не наводит на некоторые размышления? С чего это мне виниться перед вами спешить? Вы не подумали?
Архипов молчал.
— А если я скажу, что ради вас это сделал? Ради вас эту вину, эту грязь на себя принял? Такую возможность вы, конечно, допустить не можете?.. Ах, Иван Дмитриевич… — разом вдруг расслабившись, укоризненно вздохнул Аркадий Ильич. — Вам такая мысль и в голову не приходила, не правда ли?.. И не усмехайтесь, Иван Дмитриевич. Я никогда перед вами душой не кривил и сейчас не кривлю. Хотите верьте, хотите нет, дело ваше, а только я благую ведь цель преследовал, когда письма эти на машинке выстукивал. Нет, погодите, Иван Дмитриевич, — воскликнул он, заметив, как Архипов протестующе шевельнул рукой. — Сначала меня выслушайте, а уж потом судите. Ну, пусть перемудрил я, перемудрил, комбинацию слишком сложную затеял, согласен, но выбора-то иного у меня не было… И только на одном стоять буду: чист я перед вами, Иван Дмитриевич, чист… Вот вы, я вижу, опять усмехаетесь, вам мои слова, разумеется, нелепицей, абсурдом полным кажутся, и я могу вас понять. Я бы сам то же самое думал на вашем месте. Но разве вы сами, Иван Дмитриевич, не ведете себя порой парадоксально, нелогично, отчего же не допустить тогда, что и аз грешный мог себе позволить нечто подобное? Или и верно, что дозволено Зевсу…
Стекольщиков сделал паузу. Его очки беспокойно взблескивали, нацеливаясь на Архипова. Щеки розовели старческим, склерозным румянцем.
— А я ведь догадывался, — задумчиво сказал Архипов, — я ведь догадывался…
— Нет уж, Иван Дмитриевич, — живо отозвался Стекольщиков. — Это теперь, когда я перед вами стою и, как на духу, все рассказываю, вам кажется, будто вы догадывались. А на самом деле вы никак не могли догадываться, никак. Потому не могли, что цель-то, которую я преследовал, вам неизвестна. Вы же главного — побуждений моих не знаете. Как же вы могли догадываться?.. Или вы всерьез полагаете, что я вас очернить хотел? Счеты с вами сводил? Да какие же у нас могут быть счеты? У меня же человека, кого бы я более вас ценил, товарища более давнего, чем вы, Иван Дмитриевич, и нету! Ваше право не верить мне, презрением своим заклеймить, уничтожить, но я правду вам сейчас говорю!..
— Оригинально! — сказал Архипов. — Очень оригинально. Я и не подозревал, что нынче с помощью анонимок объясняются в любви и уважении…
— Вот именно! — обрадованно воскликнул Стекольщиков, прижимая обе руки к груди. — Вот именно! Вы почти в цель попали, Иван Дмитриевич. В яблочко! — Нервная, нарочитая веселость опять вернулась к нему. — Вы еще не угадываете ход моей мысли? А ведь ход-то элементарный! Я, Иван Дмитриевич, ведь к чему стремился, какую задачу перед собой ставил? Наших с вами противников опередить! Их же оружие из рук выбить, перехватить. Скомпрометировать их раньше, чем они в атаку перейдут. Причем, учтите, Иван Дмитриевич, их же средствами скомпрометировать, вот что существенно, вот на чем расчет свой я выстраивал! Понимаете теперь, Иван Дмитриевич? Пусть-ка они теперь со своими кляузами сунутся! Нет уж, дорога закрыта! Понимаете?
— Нет, — сказал Архипов с усмешкой. — Не понимаю. Для меня это слишком сложно, Аркадий Ильич.
— Не хотите, значит, понять, — сокрушенно откликнулся Стекольщиков. — Не хотите. И по глазам вижу: не верите вы мне, Иван Дмитриевич. Скажите — не верите ведь? А?
— Не верю, Аркадий Ильич, — сказал Архипов. — Не верю. И может быть, уже хватит на сегодня?
— Повинную голову, Иван Дмитриевич, и меч не сечет. А я к вам ведь с повинной пришел. Забавно получается, не правда ли? Ради вас старался, и вы же меня едва ли не в низости уличить готовы…
— Бросьте, Аркадий Ильич, — устало, словно бы потеряв уже всякий интерес к собеседнику, отозвался Архипов. — Времена иезуитов прошли.
Стекольщиков снова коротко хохотнул, показывая, что оценил шутку Архипова, но что-то жалкое, заискивающе-угодливое слышалось в этом коротком смешке.
— Надеюсь, Иван Дмитриевич, этот разговор останется между нами?..
— Удивительный вы все-таки человек, Аркадий Ильич! — сказал Архипов, отвечая скорее каким-то собственным мыслям, чем Стекольщикову. — Я вот смотрю на вас и думаю: что вас точит? Что вам покоя-то не дает? Мы с вами уже в том возрасте, когда, как говорится, пора и о душе подумать, а вы все суетитесь, все суетитесь… Какой червь вас грызет?
— Не все могут позволить себе олимпийскую невозмутимость, Иван Дмитриевич. Кто-то должен и суетиться, как вы выразились, и грязную черновую работу на себя брать. Тут и запашок дурной, глядишь, к тебе прилипнуть может, и это стерпеть придется, а как же иначе?.. — Неожиданная жесткость прорезалась в его голосе. — А как же иначе-то, Иван Дмитриевич? Вы ведь по природе своей, Иван Дмитриевич, — непротивленец. Вы олимпийцем себя считаете, а на самом деле вы — непротивленец. Только это ваше непротивление другим приходится оплачивать…
— Уж не вам ли, Аркадий Ильич?
— А отчего вы так насмешничаете, Иван Дмитриевич? Или даже возможности такой не допускаете? Думаете, Стекольщиков бездарен, Стекольщикова по нынешним временам уже и в жертву принести можно? Это ведь тоже искусство — вовремя принести жертву. Может быть, так нынче оплачивается олимпийская невозмутимость? А, Иван Дмитриевич?..
Теперь Архипов уже с возрастающим любопытством смотрел на Стекольщикова, но молчал, как бы ожидая от него еще каких-то слов. Однако Аркадий Ильич тоже замолк. Наступила пауза. Тягостная тишина повисла в кабинете.
И в этот момент чьи-то легкие, торопливые шаги раздались за дверью. Затем кто-то осторожно постучал в дверь.
— Да, да, войдите! — с явным облегчением откликнулся Архипов, и в следующую минуту увидел оживленное, взволнованное лицо Леночки Вартанян.
— Ой, простите, я, кажется, помешала! — смущенно проговорила Леночка, готовясь тут же исчезнуть за дверью, но Архипов остановил ее:
— Заходите, Елена Георгиевна, заходите смелее. Мы с Аркадием Ильичом уже ставим точку.
— Да, да, мы уже закончили, — торопливо подтвердил и Стекольщиков. — Не смею конкурировать со столь очаровательной собеседницей, — добавил он с обычной своей стариковской галантностью.
И все-таки еще на мгновение он задержался возле стола, словно намереваясь протянуть Архипову руку и в то же время не решаясь, не зная, ответит Архипов ему тем же движением или нет. После секундного замешательства Аркадий Ильич лишь поспешно кивнул Архипову и пошел к двери.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Архипов пошел по кабинету навстречу Леночке.
Лицо его показалось Леночке усталым, даже очень усталым — резче, чем обычно, проступали глубокие морщины возле углов крупного рта, и синеватые мешки под глазами наводили на мысли о бессоннице и болезнях, наверно мучающих этого человека, но глаза его из-под тяжело набрякших век смотрели на Леночку с мягкой, ласковой теплотой и живым интересом.
А Леночка, оказавшись в директорском просторном кабинете, вдруг застеснялась и оробела. Она и сама теперь не знала, как набралась смелости явиться к Архипову в этот неурочный, поздний час, без специального приглашения.
Так ли уж значителен был тот повод, который заставил ее бежать сюда?
Еще несколько минут назад Леночка не колебалась. Необходимость поделиться с Архиповым своим маленьким открытием, своей догадкой, мелькнувшей внезапно и взбудоражившей ее надеждой, казалась ей естественной и несомненной.
«Переулок — Колодезный… переулок — Колодезный…» — повторяла она про себя, снова и снова вслушиваясь в это созвучие. Откуда, из каких глубин памяти Ивана Ивановича Безымянного внезапно вынырнуло это слово? Он и сам не мог объяснить. Нет, сколько он себя помнит, там, где приходилось ему жить, переулка с таким названием не было. И вроде бы никто не произносил при нем этого слова. Колодезный… Откуда же тогда возникло название это в его сознании, почему именно им откликнулся он на произнесенное Леночкой слово «переулок»?..
«Да не знаю, честное слово, сам не знаю, — смущенно говорил он, — не обращайте внимания, Елена Георгиевна, не ломайте голову. Мало ли какая чепуха на ум придет…»
Но был же, был же, значит, какой-то толчок подсознания, думала Леночка, какая-то ассоциация, истоки которой терялись так далеко, что уже стерлись в памяти…
«Да бросьте вы возиться со мной, честное слово, мне уже неловко, что я у вас столько времени зазря отнимаю… — говорил Иван Иванович Безымянный. — Вы и Архипов Иван Дмитриевич и так для меня очень много сделали. Правда. Я это не ради пустой вежливости говорю. Не знаю, как это словами выразить, но моя жизнь как бы иным светом теперь осветилась…»
А Леночка, почти не слушая его, все повторяла про себя: «Переулок — Колодезный… Колодезный…» Неужели и верно, это та зацепка, та ниточка, которую она тщетно пыталась найти?..
Как только Безымянный ушел, Леночка, захваченная радостно-нетерпеливым предчувствием удачи, побежала к Архипову. Лишь он мог сейчас укрепить или разрушить ее надежду.
Однако теперь, прервав своим нежданным появлением важный, как ей показалось, разговор Ивана Дмитриевича со Стекольщиковым, оставшись наедине с Архиповым, Леночка сразу растеряла всю свою уверенность, застеснялась своего чисто ребяческого радостного нетерпения.
— Рад вас видеть, Елена Георгиевна, — сказал Архипов, заметив ее смущение. — Рад вас видеть.
Произносил ли он эти слова сейчас почти машинально, по привычке, стараясь приободрить ее, или вкладывал в них еще какой-то иной, особый смысл?
Наверняка знал он, не мог не знать о визите Леночкиного отца в институт, и письмо его, конечно, читал. И о Леночкином отсутствии, о болезни ее, наверно, дошли до него слухи. Так что не мог Иван Дмитриевич не вспомнить обо всем этом, увидев ее сейчас после недавних, памятных для нее событий.
Чувство стыда, казалось уже почти заглохшее, почти отпустившее ее, начало опять стремительно разрастаться в Леночкиной душе.
Как сумела она тогда переломить себя, как сумела заставить себя после всего, что случилось, снова перешагнуть порог института, снова появиться на глазах у тех, кто знал всю эту невыносимо стыдную для нее историю?.. Как хватило у нее сил?..
Как ни удивительно, но, пожалуй, именно мысль об Иване Ивановиче Безымянном, который, она знала, понапрасну приходил без нее в лабораторию, ждал ее, который, что бы он там теперь ни говорил, все-таки надеялся на нее, на ее помощь, — пожалуй, именно это чувство обязанности или, точнее говоря, ответственности перед ним помогло ей, заставило ее преодолеть и собственный стыд и отчаяние. «Может быть, как раз эта людская взаимозависимость, — думала Леночка, — это переплетение судеб, нитей, связующих различные жизни, эта ч е л о в е ч е с к а я ц е п о ч к а и поддерживает, и спасает нас в самые трудные минуты?..»
— Извините, Иван Дмитриевич, — сказала Леночка, — наверно, я не вовремя…
— Да нет, почему же! — отозвался Архипов. — Очень даже вовремя. Садитесь и рассказывайте.
Он улыбнулся ей ободряюще, но Леночке показалось: в этой улыбке промелькнула грусть.
Она принялась торопливо и несколько сбивчиво рассказывать об Иване Ивановиче Безымянном, о том тестировании, которое проводила, о возникших было и тут же рассыпавшихся надеждах и, наконец, о сегодняшнем внезапном проблеске…
— Я произнесла «переулок», и он ответил: «Колодезный», — волнуясь, говорила Леночка. — Почему «Колодезный», отчего? Откуда запало это слово в его память? Сколько я ни добивалась, он ничего так и не мог объяснить. Он не знает. Уверяет, что никогда не слышал такого названия. Вот я и подумала, Иван Дмитриевич…
Она оборвала себя на полуслове и вопросительно, с надеждой посмотрела на Архипова.
— Возможно, вы и правы, — сказал он задумчиво. — Очень возможно. Конечно, этого мало, ничтожно мало, но все-таки это уже кое-что. Давайте попробуем подытожить, что мы имеем на сегодняшний день. Если допустить, будто нам известно, что Безымянный, вернее, тот человек, кого теперь мы называем Безымянным, когда-то до войны жил в поселке возле железной дороги, что в поселке этом была речка и был переулок Колодезный, что то ли самого Безымянного, то ли отца его звали Петр… если допустить все это… Ведь есть уже за что ухватиться, а?.. Конечно, это крохи, и дом мы с вами, Елена Георгиевна, возможно, строим на песке, но ведь попытаться стоит, не правда ли? Будем оптимистами, Елена Георгиевна. Попытаться все-таки стоит! Давайте считать, что мы в самом начале пути и путь еще предстоит долгий…
— Мне так хочется помочь этому человеку, Иван Дмитриевич! — произнесла Леночка с волнением. — Мне даже не верится: неужели и правда…
— А вы верьте. Верьте, — сказал Архипов. — Память человеческая иной раз на удивительные штуки способна. Мы порой уж слишком часто и слишком охотно стали уподоблять память человека памяти машинной. Но ведь это абсолютно неверно! Машине все равно, какую информацию вводят в ее память, она с одинаковым усердием закодирует, сохранит и выдаст и сообщение о рождении, и известие о смерти… А память человека, она избирательна и порой причудлива в этой своей избирательности…
Архипов говорил, постепенно воодушевляясь, голос его звучал негромко, глухо, но с той уверенностью и силой, которая невольно заставляет вслушиваться в каждое слово. И лицо его уже не казалось Леночке таким усталым, как вначале, когда она вошла в кабинет.
— Помимо всего прочего, Елена Георгиевна, в человеческой памяти скрыты поистине гигантские резервы, которые мы еще не умеем и — что самое печальное — не учимся использовать. Даже не задумываемся всерьез над этим. Я вот пытаюсь сказать об этом в своей книге… — Архипов показал на стол, где лежали мелко и густо исписанные листы бумаги. — Вероятнее всего, это будет моя последняя работа…
— Ну что вы! — протестующе воскликнула Леночка.
Архипов усмехнулся.
— Говорят, в старости в нашей душе особенно ярко оживают детские воспоминания, детские представления и переживания… Во всяком случае, я иной раз чувствую себя школьником во время контрольной — когда до звонка осталось всего ничего, а ты наконец-то начинаешь понимать, как должна решаться упорно не поддававшаяся тебе задача. И ты спешишь, и в спешке этой, в страхе не успеть, не справиться, не уложиться в оставшееся время, в азарте что-то путаешь, зачеркиваешь, снова выходишь на верный путь, а звонок — вот он, уже прозвенеть должен, уже прозвенит сейчас, с минуты на минуту…
Леночка слушала молча, затаившись, сжавшись в кресле.
Доверчивость, с которой обращался к ней Архипов, поразила ее.
Как будто совета он у нее спрашивал, как будто поддержки искал.
Или не столько с ней, сколько с самим собой разговаривал он сейчас?..
— Знаете, милая девочка, наверно, все-таки не зря считают, что только глубокие старики и дети умеют по-настоящему понимать друг друга, — сказал Архипов после паузы. — С некоторой долей условности вас я могу считать ребенком, а себя — глубоким стариком. Может быть, оттого мне так и хочется сегодня поговорить с вами. Просто поговорить. О разных разностях, важных и неважных. Пожалуй, я открою сегодня вам один свой секрет. Меня убеждают, будто теперь только наивные студенты верят в сказки про гениальных ученых, только наивные студенты-первокурсники еще мечтают стать гениальными, только они, эти первокурсники, еще верят, что смогут ниспровергнуть нечто, что казалось всем совершенно незыблемым, и открыть что-то, что представлялось абсолютно невозможным. И мне, милая девочка, признаюсь вам, очень жаль, что в науке все больше становится бескрылых реалистов, расчетливых узких специалистов, гордящихся своей узостью (гордиться узостью — это ли не парадокс?), прикрывающихся ею, как щитом, и все меньше тех, кто осмеливается на дерзость. Так вот тот секрет, который я обещал вам открыть: у меня есть одна стариковская слабость — я до сих пор верю в науку, как в чудо, я верю в чудеса, слышите, милая девочка?.. И не слушайте никого, кто твердит, что таковых не бывает…
В просторном кабинете горела только одна настольная лампа, и ее домашний, расходящийся кругами свет, и негромко звучавший, глуховатый голос Архипова, и тишина в институтских коридорах, каким-то удивительным образом ощутимая и здесь, в стенах кабинета, — все это создавало особое настроение, вызывало прежде незнакомое Леночке, странное и сильное чувство — словно перед ней сейчас открывалась новая, неведомая ей жизнь. «Какое это счастье — жить, какое счастье!» — с неожиданной растроганностью думала она.
— Никому только не рассказывайте о том, что я говорю вам сегодня. А то кое-кто и так ведь считает меня старым чудаковатым болтуном… — Глаза Архипова улыбались, но в голосе его Леночка уловила грусть. — А я действительно верю в чудеса, и тут уж ничего со мной не поделаешь. Я, например, верю в возможность создания новых форм памяти. Человечество всю свою жизнь воюет с беспамятством, с преодолением темноты беспамятства. И разве оно, человечество, не становится бессмертным, накапливая постепенно свою память, преобразуя ее в новые формы?.. Это и книги, и киноленты, и магнитофонные пленки, и вещи, рассказывающие об их владельцах, — вот попомните мои слова, мы еще недооцениваем всего этого. А мы ведь с вами, Елена Георгиевна, присутствуем лишь в самом начале этого процесса, этого накопления памяти, лишь первые ростки видим. И кто знает, может быть, как раз тут, на стыке памяти индивидуальной и памяти коллективной, памяти человечества, завтра обнаружатся новые колоссальные возможности… Впрочем, я, наверно, уже утомил вас…
— Нет, нет, что вы! — запротестовала Леночка. — Мне интересно.
Он вдруг пристально взглянул на нее, словно не узнавая, словно пытаясь в ее чертах угадать черты совсем иного лица. И Леночка растерялась под этим его взглядом.
— Вам, наверно, странно слышать от меня все это, — сказал Архипов. — Я и сам порой посмеиваюсь над собой, но, честное слово, иной раз мне начинает казаться, будто я лишь только-только сумел приблизиться к своей главной работе, к той работе, которая могла бы стать целью всей моей жизни… Недавно тут, в этом кабинете, одна женщина, человек очень тяжелой, трагической судьбы, говорила мне: «Скажите свое слово, вас же должны услышать…» У меня не выходит из головы эта фраза. Наверно, в этом все-таки и есть главный смысл — с к а з а т ь с в о е с л о в о… А теперь идите, я и так совсем утомил вас. Идите, идите, а я еще поработаю здесь, в одиночестве…
Леночка послушно поднялась и пошла к двери. У самого порога она обернулась, чтобы проститься. Но Архипов уже склонился над письменным столом и не глядел на нее.
ИЗ РАССКАЗОВ ГЛЕБА ГУРЬЯНОВА
ЛЕГКИЙ ЧЕЛОВЕК
Я не знаю, как вернее назвать историю, которую хочу рассказать, — фантастической, сказочной или вполне реальной. Да это и неважно. Важно, что я действительно знал этого человека.
Мы познакомились с ним на втором курсе. Теперь мне даже трудно припомнить — почему только на втором? Кажется, он перевелся к нам откуда-то из другого города, там у него вроде бы было какое-то неприятное приключение, ему пришлось уйти из института и уехать. И вот он появился у нас. У него было сравнительно редкое по нынешним временам имя — Матвей, сокращенно звали его Мотей. Мотя Кудрявцев. Сначала он произвел на нас впечатление веселого, компанейского, общительного парня. Нам нравилась та бесшабашная легкость, с которой он относился к ударам судьбы, а точнее говоря — к двойке за курсовую работу или к хилой троечке, полученной на экзамене. Причем это не было позой, не было притворством. Иной студент изо всех сил тщится показать свою залихватскую удаль, свое безразличие к оценкам, может похваляться, что лишь в последнюю ночь перед экзаменом взялся за учебник и ничего, мол, где наша не пропадала, но все это лишь фанфаронство — на самом деле так и плещется в глазах у него тоскливый страх, когда идет он на экзамен. Мотя же Кудрявцев был не таков. Он действительно обладал способностью мгновенно отрешаться от выпадавших на его долю неудач и неприятностей. Он хохотал и острил, как ни в чем не бывало, и эта его веселость невольно всякий раз придавала бодрости и нам. Впрочем, человек он был способный, науки давались ему без особого труда, и если время от времени его все же подстерегали провалы, то лишь из-за неорганизованности, бесшабашности его характера.
Разумеется, многие девчонки нашего курса моментально влюбились в Мотю Кудрявцева. Послушать их, так можно было подумать, что единственная выдающаяся личность на курсе — это Мотя Кудрявцев. Его имя так и витало в воздухе. И вот что ведь странно — достанься такое дурацкое имя кому-либо другому, и человеку этому не избежать бы насмешек. А тут даже имя умиляло, приводило в восторг наших девиц. «Мотечка, ты идешь в буфет?», «Мотечка, смотаемся после лекций в кино?», «Мотечка… Мотечка…» Надо сказать, что и внешне он был достаточно привлекателен: высокий, широкоплечий, к тому же пышная шевелюра и ясные голубые глаза придавали ему несколько артистический вид. Вообще, он был артистичен от природы и потому как-то очень легко и быстро оказался почти незаменимым человеком в нашем театре студенческих миниатюр, — это тоже способствовало его популярности. Так что было отчего нашим девчонкам потерять голову. Впрочем, все шло хорошо до тех пор, пока увлеченность Мотей походила скорее на игру во влюбленность, чем на настоящую, сильную привязанность. А потом начались трагедии.
Я хорошо помню, как плакала навзрыд, одна в пустой аудитории, Галка Величко, плакала, уронив голову на руки, с каким-то тоненьким, бессильным подвыванием, как плачут только глубоко обиженные дети. Я зашел в аудиторию, чтобы взять забытый конспект, и остановился в растерянности, не зная, как поступить. То ли подойти к ней, то ли сделать вид, будто я ничего не заметил. Она сама подняла заплаканное лицо и сказала сердито:
— Не обращай внимания. Сейчас все пройдет.
Галка Величко была славной девчонкой. Она принадлежала к тем доверчивым, открытым натурам, кто особенно болезненно переживает любую несправедливость. Пожалуй, не было на курсе человека более отзывчивого, более готового прийти на помощь, пожалеть, поддержать, ободрить, чем Галя Величко. Она могла отдать взаймы последнюю трешку, потому что всегда была уверена, что тому, кто просит, эта трешка необходима гораздо больше, чем ей самой, могла поздним вечером одна ехать через весь город к заболевшей подруге, переживая и волнуясь за нее, могла подобрать и принести в общежитие выброшенного кем-то щенка, искренне страдая от жестокости людей, которые без колебаний обрекли на медленную гибель живое существо.
— Галя, что случилось? Что с тобой? — растерянно спросил я.
Только что, подходя к аудитории, я встретил в коридоре Мотю Кудрявцева. Он промчался мне навстречу с жизнерадостным гиканьем, подпрыгивая и взмахивая рукой — словно волейболист, гасящий мяч. Но в тот момент в моем сознании еще никак не связались Мотя Кудрявцев и плачущая Галя Величко. Может быть, оттого, что уж слишком разительным был контраст между ее безудержными слезами и его залихватской, мальчишеской веселостью.
— Ничего, не обращай внимания, — повторила Галя, вытирая слезы и пытаясь улыбнуться. — Я сама виновата.
Ну конечно же, что бы ни случилось с ней неприятного, тяжелого, она всегда была склонна винить только себя, она как бы и мысли даже не допускала, что кто-то мог намеренно обидеть ее, намеренно причинить зло.
Она так и не захотела тогда сказать ничего больше, так и не призналась в истинной причине своих слез. О том, что плакала она из-за Моти Кудрявцева, я узнал лишь много позже и, разумеется, не от нее. Сама же Галя только однажды, словно оправдывая Мотю, сказала задумчиво:
— Он ведь как малый ребенок: причинит боль и даже не заметит, что тебе больно…
Но еще до того, как я услышал от нее эти слова, произошел еще один знаменательный случай, тоже связанный с Мотей Кудрявцевым.
Было это во время зимней сессии. Как обычно, именно в эти дни всплывают и начинают будоражить студентов различные легенды о профессорах, которые якобы особенно свирепствуют на экзаменах и даже круглых отличников легко сажают на мель каверзными дополнительными вопросами. Чаще всего в этих рассказах фигурировала фамилия профессора Хохлачева, преподававшего у нас сравнительную грамматику. О нем говорили, будто он только посмеивается в свою седую бородку, если замечает, что тот или иной студент пользуется шпаргалками, а то и вовсе выходит на некоторое время из аудитории, чтобы предоставить студентам полную свободу действий, но зато потом с легкостью доказывает абсолютную беспомощность своих слушателей. Именно профессору Хохлачеву нам и предстояло сдавать зачет. Конечно, в нашей группе, как и в каждой студенческой группе, были девицы, которые впадали в паническое состояние, в некий транс даже перед самым пустяковым зачетом или экзаменом, уверяя всех, что абсолютно ничего не помнят и не знают. В общем-то, это был своего рода обязательный обряд, исполняемый перед каждым зачетом или экзаменом. Но все это не шло ни в какое сравнение с той паникой, которая царила в нашей группе перед сдачей зачета профессору Хохлачеву. Те из девчонок, кто уже совершенно уверился в своем провале, жались поближе к Моте Кудрявцеву, словно надеясь, что его ленивое благодушие, его насмешливая самоуверенность передадутся и им. И вот как раз в этот момент, когда наша группа толпилась в коридоре, возле дверей аудитории, в ожидании профессора, Мотя вдруг изрек:
— А что, девчата, хотите, я вас избавлю от Хохлачева?
— Мотечка, не шути так, не надо, — сказала Люба Куриленко, которая уверяла, что на любой зачет является в полуобморочном состоянии. — Не шути так, а то вдруг мы поверим?..
— Нет, я на полном серьезе. Хотите? Немного гипноза, немного телепатии, я собираю свою волю в кулак… я концентрирую свою волю… я превращаю ее в целенаправленный луч…
Конечно, мы не сомневались, что все это треп, шуточки, клоунада — тем более что Мотя тут же поторопился исчезнуть, видно опасаясь в конце концов навлечь на себя гнев тех, кого только что разыгрывал. А мы продолжали томиться возле аудитории. Но прошло десять минут, пятнадцать — профессора Хохлачева все не было. И вдруг пронесся слух, что Хохлачева сегодня не будет вовсе — вместо него у нас примет зачет доцент Куликовская. Мотя уже был тут как тут.
— Ну, что я говорил? — ликовал он. — Немного гипноза, немного телепатии, и дело в шляпе.
Мы окружили Мотю, мы шумно выражали свое восхищение. И в этот момент раздался рассудительный голос Стасика Дубова:
— Да ни при чем здесь Мотина телепатия! Я все разведал. Просто у Хохлачева дома несчастье, его срочно вызвали. Старику чуть плохо не стало. Слышите, ребята? Мотя здесь совершенно ни при чем.
Так ли уж ни при чем был в этой истории Мотя? Или и верно — его обещание избавить нас от Хохлачева и срочный отъезд профессора были лишь случайным совпадением? Или… Но, глядя на благодушно-веселое, беспечное Мотино лицо, я не мог поверить, что он, Мотя, мог бы решиться на подобный поступок… Одним словом, Мотя Кудрявцев и после этой истории оставался для нас все тем же Мотей Кудрявцевым — беззаботным и добродушным парнем.
Было у Моти еще одно свойство, которое казалось нам привлекательным. Он был необидчив, незлопамятен, и, если его упрекали в чем-нибудь, посмеивались над ним или критиковали на собраниях, он никогда не обижался, не злился, он смотрел на говорившего в лицо ему не очень приятную правду своими ясными глазами, смотрел внимательно и, я бы сказал, даже приветливо. Подобное свойство Мотиной натуры поражало многих, и его весьма долгое время ставили в пример, как человека, умеющего правильно реагировать на критику, пока наконец не обнаружилось, что дальше умения терпеливо слушать эта черта его характера не простирается. Он мог дать обещание и не выполнить, но при этом, встретив впоследствии человека, которого подвел, глядел на него с такой детской невинностью, с такой веселой открытостью, с таким добродушием, что невольно начинало казаться: сердиться или расстраиваться попросту не из-за чего. Более того — даже стыдно вдруг становилось за свои прежние мысли, за те нелестные слова, которые ты еще час назад готов был послать в адрес Моти. Одним словом, Мотя был из тех людей, которых легко прощают. Большинство из нас, его товарищей по курсу, считало, что Мотю Кудрявцева надо принимать таким, каков он есть. «Я — легкий человек», — говорил он о себе, и, пожалуй, в этом была доля правды. Во всяком случае, это его легкое отношение к жизни было заразительным, рядом с ним многие проблемы вдруг переставали быть проблемами. Правда, стоило Моте удалиться, уйти, как проблемы, разумеется, возвращались, но, может быть, это случалось оттого, что нам были неведомы некие секреты, которые знал Мотя?
При всех Мотиных недостатках его считали безусловной достопримечательностью нашего факультета, им даже гордились.
На четвертом курсе Мотя женился. К тому времени его короткий роман с Галей Величко уже давно закончился, и теперь он остановил свой выбор на Ольге Пороховской. В отличие от мягкой Гали Величко Ольга обладала весьма волевым, даже с оттенком суровости, характером. Она была комсоргом нашего курса, отличницей, именной стипендиаткой, и при всей своей влюбленности в Мотю смотрела на него, как нам казалось, с некоторой снисходительностью. Мы были убеждены, что теперь-то Ольга возьмет нашего Мотю в ежовые рукавицы, быстренько перевоспитает, перекует на свой лад, — уж слишком беспомощным и добродушным казался Мотя рядом со своей невестой. Во всяком случае, во время свадьбы шутливые тосты на эту тему не иссякали. И сам Мотя посмеивался вместе со всеми над собой.
А через три месяца Ольга ушла от Моти. Было в этом столь стремительном разводе что-то необъяснимое для нас, загадочное. Ольга хранила молчание, ее гордость была явно уязвлена, она замкнулась в себе. Мотя же все с той же своей веселой открытостью говорил:
— Не сошлись характерами. О чем свидетельствует статистика? Люди чаще всего разводятся оттого, что не сошлись характерами. А чем мы хуже других?
Он явно дурачился, но вот странное дело: наши симпатии отчего-то склонялись не к замкнувшейся, погруженной в свои переживания Ольге, а к беззаботному и веселому Моте. Наверно, это было несправедливо, но это было так.
Только значительно позже, уже летом, когда мы вместе с Ольгой Пороховской были на практике, она как-то сказала мне в порыве внезапной откровенности:
— Мне он тоже казался легким человеком. Но это неправда. Он — не легкий человек. Он — страшный человек. И знаешь, чем он страшен? У него нет души. Он бездушен.
Меня поразило тогда, с какой силой убежденности произнесла она эти слова, и все-таки они показались мне несомненным преувеличением, явной несправедливостью по отношению к Моте, продиктованной уязвленным женским самолюбием.
Однако прошло полгода, и я стал свидетелем события, которое сразу заставило меня вспомнить об этом коротком разговоре с Ольгой.
Я уже упоминал, что Мотя Кудрявцев участвовал в самодеятельности, причем далеко не на последних ролях. Приближались каникулы, и театру студенческих миниатюр предстояло ехать на гастроли, в гости к студентам Болгарии. Все, кто играл в театре, давно уже ждали этой поездки, и Мотя, разумеется, не меньше других. С утра до вечера только и разговоров было, что о гастролях. И вот за день или за два до отъезда на имя Матвея Кудрявцева пришла телеграмма. Мотя прочел ее, и какое-то странное — жалкое, что ли? — выражение промелькнуло на его лице: будто кто-то незаслуженно и внезапно обидел или огорчил его.
— Что-нибудь случилось? — спросил я. — Откуда телеграмма?
— Аа… Из дома… — Он махнул рукой и побежал, заторопился: предгастрольные хлопоты занимали его.
Через день Мотя вместе с театром студенческих миниатюр укатил в Болгарию. А еще через неделю, когда Мотя по-прежнему пребывал на гастролях, в общежитии института появилась мать Моти Кудрявцева. Это была высокая, худощавая, спортивного склада женщина, уже седая, с тонкими, нервными чертами лица. От нее я и узнал, что было в той телеграмме, которую получил Мотя. «Отец тяжело болен. Приезжай» — такой текст был в той телеграмме.
Однако Мотин отец так и не дождался сына.
— Впрочем, я знала, что он не приедет, я с самого начала знала, что он не приедет, — повторяла Мотина мать с грустной безнадежностью. — Это я сама во всем виновата, я сама…
В тот же вечер я услышал от нее поистине странную историю Мотиной жизни. Вот она, эта история.
Да, я сознаю, я понимаю, мне некого винить, кроме себя. И все-таки я ведь одного только хотела: чтобы он был счастлив. Я так боялась, что он вырастет несчастным человеком. Когда Мотя был ребенком, я не сомневалась, что так оно и будет. Мысль эта была для меня просто невыносима — если у вас есть мать, вы поймете меня. Какая мать не хочет счастья своему ребенку?..
Вся беда в том, что Мотя рос крайне впечатлительным, неуверенным в себе мальчиком. Любая, даже самая мелкая неудача, любой неуспех, любая обида переживались им так сильно, заставляли горевать так неподдельно и отчаянно, что смотреть на него было больно. Я помню, как он рыдал, когда в первом классе ему впервые поставили двойку. Нет, я и не думала ругать его, как это делают другие матери, наоборот, я всячески пыталась утешить его, но у мальчика был такой несчастный вид, словно эта двойка казалась ему последней, единственной и решающей отметкой в его жизни. В другой раз он вдруг заявил мне, что не пойдет больше в школу, никогда не пойдет, и я долго не могла добиться, в чем дело, что же произошло. На все мои расспросы он отвечал молчанием. Я обратилась к учительнице, но и она ничего толком не могла объяснить. И только на второй или третий день Мотя наконец собрался с духом и признался мне, что случилось. Оказывается, его дразнили мальчишки за его имя. Я пыталась внушить ему, что в любой школе мальчишки всегда дразнят друг друга и в этом нет ничего такого уж страшного, просто, чем меньше обращаешь внимания, тем меньше тебя будут дразнить. Я даже рассказала ему, что и меня в детстве тоже дразнили, и причем довольно обидно. Но этот рассказ вдруг произвел на него совершенно не то впечатление, на которое я рассчитывала. Я вдруг увидела в его глазах жалость — теперь он переживал не только за себя, но и за меня. Он не мог понять, как я сумела смириться с подобной обидой.
Надо сказать, что по натуре Мотя был отзывчив, его очень легко было разжалобить, а то и обмануть. Его одноклассники нередко пользовались этим. И эта черта его характера мне, а особенно Мотиному отцу, моему мужу, казалась признаком полной неприспособленности к жизни. Кроме того, ему слишком легко было причинить боль, и я все чаще задумывалась над тем, чем же обернется для него будущая взрослая жизнь, не станет ли она для него лишь источником обид, горестей и чувства неудовлетворенности.
«Ну хорошо, — думала я, — все, что происходит с ним сейчас, в детстве, в общем-то пустяки, мелочи, не столь уж значительные события. А если на его долю выпадет действительно серьезное переживание, если ему вдруг придется столкнуться с несчастьем, с настоящим несчастьем, что с ним тогда будет?» Вот что тревожило меня изо дня в день, вот что не давало мне покоя.
Теперь, задним числом, я сознаю, что, наверно, многое тогда преувеличивала, что нередко обыкновенные мальчишеские слезы, синяк, полученный в ребяческой потасовке, любая нанесенная моему сыну обида воспринималась мною, именно мною, с особой остротой и болезненностью. Иначе говоря, я мечтала избавить от этих переживаний не только его, но и себя. Хотя тогда мне, конечно, казалось, что я думаю только о нем.
Главное — Мотя очень долго помнил все свои обиды и горести, он словно бы копил их в себе. Если бы он забывал их быстрее! Если бы у него была короткая память на собственные беды! Ведь, в сущности, уметь быстро, почти мгновенно забывать свои обиды и горести, отключаться от них, отключаться от всего неприятного, что встречается на твоем пути, — это и значит быть счастливым. Не так ли? Действительно, как немного нужно для счастья — только уметь забывать. Эта мысль, это маленькое открытие и стало первым толчком, первым шагом к тому, что произошло дальше.
Впрочем, должна признаться, мысль эта пришла мне в голову вовсе не случайно, не сама собой. В то время я работала в лаборатории профессора Снеговского. Может быть, вы слышали такую фамилию? Именно он, профессор Снеговский, впервые теоретически обосновал возможность управления памятью. «В конечном счете, — говорил он, — именно память, ее избирательность формируют человека. И сумей мы влиять на эти процессы, сумей помочь человеку одни события, впечатления, образы закреплять, задерживать в памяти, а другие — отбрасывать, забывать, — и мы тем самым сумеем уберечь человека от всего низкого, жестокого, дурного…» Такова была суть его идеи.
И чем чаще в мыслях своих я обращалась к тем проблемам, над которыми работал профессор Снеговский, тем больше склонялась к убеждению, что это сама судьба привела меня к нему в лабораторию, что это сама судьба указывает мне путь, которым я должна воспользоваться. «Разве впоследствии я смогу простить себе, — думала я, — если буду знать, что у меня была возможность сделать сына счастливым, избавить от ненужных переживаний, и я упустила эту возможность?» Так я уговаривала себя, потому что решиться на подобный шаг ведь тоже было непросто. Вы должны понять, сколько я всего передумала, сколько бессонных ночей провела, сколько намучилась от одних этих мыслей! Я то совсем уже решалась обратиться к Снеговскому, то снова отказывалась от этой мысли.
Поводом, конкретным поводом, который заставил меня отбросить последние сомнения, стал пустячный случай. Подброшенный котенок. Кто-то подбросил его к нам на лестницу, он мяукал, мяуканье его становилось все слабее, и Мотя умолял взять его. Однако у нас дома уже жила одна кошка, кстати тоже подобранная когда-то по Мотиной просьбе, — не могла же я превращать квартиру в кошачий питомник. К утру мяуканье стихло, котенок исчез, я не знаю, что с ним стало, но Мотя был уверен, что котенок погиб. Как он горевал тогда, как плакал! Этого я больше не могла вынести. Если гибель бездомного котенка становится для него настоящей трагедией, подлинным горем, что же будет дальше?
Тогда-то я и пришла к профессору Снеговскому. Я хорошо помню наш разговор с ним.
— Да, я могу сделать то, о чем вы просите, — сказал он. — Ваш сын будет легко забывать все неприятное, тяжелое, причиняющее боль. Я могу это сделать. Но все ли вы взвесили, все ли последствия такого шага продумали?
— Да, — сказала я. — Я все взвесила.
— Все? — переспросил он. — А вы подумали о том, что память наша — это, по сути дела, наша душа? Вернее, то, что раньше люди называли душой. Душа же, если она неспособна нести в себе боль, горечь, свое и чужое страдание, — это уже не душа. Вы подумали об этом?
Потом я часто вспоминала именно эти слова профессора, но тогда они показались мне попросту странными. Какая-то мистика. Отвлеченные рассуждения. Мой ум был тогда сосредоточен на одной цели, на одном желании, и мне было не до того, чтобы вникать в подобные рассуждения.
— И еще одно, — сказал профессор. — Вы знаете, в нашем мире существуют некие законы равновесия. И если равновесие нарушено, если кто-то отказывается нести свою боль, свое горе, свое несчастье, значит, на кого-то другого все это ляжет двойным грузом…
— Пусть, — сказала я. — Пусть. Я согласна. Пусть этот двойной груз ляжет на мои плечи, лишь бы мой мальчик не был несчастен. Я прошу вас, профессор, прошу…
— Ну что ж… — вздохнув, сказал он. — Я предупредил вас, а решать — вам.
Он еще колебался, но я настаивала на своем, я убеждала его, упрашивала, и наконец он согласился.
Так мой сын стал тем Мотей Кудрявцевым, которого вы знаете.
Теперь я часто думаю, что, наверно, сделала в тот день самую большую ошибку в своей жизни. А потом… потом… мне вдруг начинает казаться: может быть, он все-таки счастлив? Хоть он-то счастлив? Вот сейчас он там, в Болгарии, и ему хорошо, он счастлив, правда?..
Я ничего не ответил.
Мать Моти Кудрявцева не стала дожидаться возвращения сына, она уехала, так и не повидав его. Когда Мотя вернулся, я спросил:
— Как ты мог так поступить? Как?
Он потер лоб, словно бы старался что-то вспомнить и не мог. Потом наконец сказал:
— Ты про телеграмму? Так я все равно ничем не сумел бы ему помочь…
И посмотрел на меня своими ясными глазами.
Эти его ясные глаза так и остались навсегда в моей памяти.
Вскоре мы разъехались, и я больше никогда не видел Мотю. Как сложилась его судьба? Что с ним стало? Не знаю. Иногда мне кажется, я даже уверен, что жизнь его не удалась, не могла удасться. Но иногда… иногда… Впрочем, что гадать понапрасну.
ХОЗЯИН СУДЬБЫ
Сначала он не обратил внимания на это письмо. Он обнаружил его у себя в почтовом ящике между рекламными листками какого-то косметического кабинета, счетами от врача и красочными проспектами туристского бюро, призывавшими совершить путешествие в Антарктиду. В аккуратном конверте с незнакомым обратным адресом был заключен бланк со следующим текстом:
«Дорогой сэр!
Если Вам надоело быть рабом случайного стечения жизненных обстоятельств, если Вы хотите знать свое будущее, хотите стать хозяином своей судьбы, наша фирма охотно поможет Вам в этом. Наша фирма «Оракул-XX» опирается в своей деятельности на новейшие научно-технические достижения и гарантирует высокую степень точности».
«Знаем мы эти новейшие достижения, — думал Джеймс Тышкевич, сердито разрывая на мелкие клочки рекламу «Оракула». — Новейшие достижения, а сунешься туда, тебе какой-нибудь задрипанный автомат выдаст двусмысленный совет вроде: «Не делайте того, чего, по вашему мнению, не следует делать, и вы достигнете того, чего желаете достигнуть». Очень мудро!»
Он бы так и забыл об этом письме, если бы через неделю опять не обнаружил в почтовом ящике точно такой же аккуратный конверт.
«Дорогой сэр!
Если Вам надоело быть рабом случайного стечения жизненных обстоятельств…»
Черт подери, может быть, это как раз то, что нужно ему, Джеймсу Тышкевичу, сейчас?.. Может, и правда, а?
Последнее время жизнь Тышкевича состояла, казалось, из сплошных опасений. Он опасался увольнения, опасался стать безработным, опасался, что к нему вернется жена, как, впрочем, совсем еще недавно, всего полгода назад, опасался, что она его бросит, опасался повышения цен на бензин, опасался, что его ограбят, поскольку так и не удосужился установить в своей квартире электронного сторожа… Хотя, если говорить откровенно, грабить было особенно нечего — те небольшие сбережения, которые ему удалось сделать, он держал в местном банке, опасаясь, впрочем, что когда-нибудь этот банк неожиданно прогорит и он, Тышкевич, окажется на мели. Все эти опасения так мешали ему жить, что однажды он даже обратился к врачу-психиатру, к тому самому, чьи счета теперь обнаруживал в своем почтовом ящике, и врач этот обещал, как он выразился, «снять напряжение», но после нескольких визитов к нему Тышкевич не без оснований стал опасаться, что врач попросту водит его за нос и никакого толку от предложенного им курса лечения, скорее всего, не будет. Главное заключалось в том, что сам-то Тышкевич отлично понимал, что все опасения вовсе не плод расстроенного воображения, что все они реальны, и это особенно угнетало его. Работал он линотипистом в типографии местной газеты, и положение его казалось достаточно прочным и устойчивым до тех пор, пока не докатилась до их городка волна технических преобразований: типография переходила на новый, более совершенный способ набора, и этот переход, естественно, должен был повлечь за собой весьма значительное сокращение персонала. Так что Тышкевичу было отчего тревожиться за свою судьбу.
«…если Вы хотите знать свое будущее…»
На этот раз Тышкевич уже внимательнее вгляделся в обратный адрес, стоявший на конверте. Там значилось название города, расположенного километрах в двухстах от их городка. Что-то такое слышал Тышкевич об этом городе… Когда-то прежде город этот славился своими ночными кабаре, грандиозными шоу, игорными домами, но потом все это как-то угасло, померкло, перестало привлекать туристов. Ходили слухи, будто там строится нечто гигантское — вроде бы какой-то завод электронного оборудования, что ли… Подробностей этих слухов Тышкевич уже не помнил.
Еще неделю, другую Тышкевич колебался, пребывал в нерешительности, не знал, что делать. Чем больше он думал об обещаниях «Оракула», тем заманчивее они казались. Ему нравился сдержанный, лаконичный тон письма. Ничего лишнего, никаких рекламных завитушек — только суть. Тышкевич повторял текст письма про себя, словно взвешивал его и так и этак: «Если Вам надоело быть рабом случайного стечения жизненных обстоятельств…» «Точнее не скажешь», — думал он. А тут как раз подошел его отпуск, и по тому, каким тоном разговаривал с ним его шеф, Тышкевич понял, что очень возможно — после отпуска его услуги уже не понадобятся типографии. И тогда он решился.
Никому — ни соседям своим, ни коллегам — он не стал рассказывать, куда и зачем едет. Пусть до поры до времени это будет его тайной, его секретом. Так лучше.
Утром в первый же день отпуска он сел в автобус и уже через несколько часов, оставив чемодан в отеле, шел к зданию, где помещался офис фирмы «Оракул-XX». Здание офиса понравилось ему. Точнее сказать — оно его поразило. До самого последнего момента Тышкевич опасался: не заглотнул ли он фальшивую приманку, не окажется ли этот «Оракул» какой-нибудь замызганной конторой, дешевым аттракционом, рассчитанным на простаков и доверчивых провинциалов? Его опасения развеялись, едва он приблизился к зданию офиса, все еще не веря, что это и есть нужная ему фирма. Шутка ли сказать — тридцатиэтажный небоскреб высился перед ним. И на самом верху, на фасаде сверкали огромные буквы: «ОРАКУЛ-XX».
Тышкевич даже испытал некоторую почтительную робость, приближаясь к прозрачным дверям, которые тут же бесшумно раздвинулись перед ним.
Он очутился в просторном холле, потолок которого куполообразно, как в старинных церквах, уходил ввысь. В центре холла журчал небольшой фонтан.
Направляясь к барьеру с надписью «Информационная служба», Тышкевич не слышал своих шагов — звук их гасил мягкий синтетический ковер.
— Добрый день, мистер… — служащий отеля сделал короткую паузу, вопросительно глядя на Тышкевича.
— Тышкевич. Джеймс Тышкевич.
— Добрый день, мистер Тышкевич. «Оракул-XX» рад приветствовать вас. Меня зовут Майкл, я к вашим услугам, — произнося эти слова, человек за барьером одновременно быстро и ловко нажимал кнопки на пульте, словно набирал какой-то код, и через несколько секунд Тышкевич уже увидел у него в руках картонный прямоугольник, похожий на перфокарту, сверху на котором отчетливо была напечатана его фамилия.
— Мы надеемся, мистер Тышкевич, что сумеем оправдать ваши надежды, что ваше пребывание у нас будет максимально полезным и плодотворным…
— Я бы хотел знать… — начал было Тышкевич, но Майкл тут же вежливо перебил его:
— Да, да, разумеется, с этого мы и начинаем. Сейчас я познакомлю вас с основными принципами работы нашей фирмы, и тогда вы уже сами сможете решить — воспользоваться вам нашими услугами или нет. Прошу вас, присядьте.
— Видите ли, мистер Тышкевич, — продолжал он, усаживаясь за низкий столик напротив Тышкевича, — когда мы говорим о таких вещах, как предсказание судьбы, предсказание будущего, мы невольно связываем все это с некими сверхъестественными явлениями, не так ли?..
— Да, пожалуй, — сказал Тышкевич.
— Такова, я бы сказал, инерция человеческого мышления. Фирма «Оракул-XX», должен сразу вас предупредить, самым решительнейшим образом отвергает подобный подход. Никакой мистики! Девиз нашей фирмы — «Только наука дает нам подлинное знание, только подлинное знание дает нам власть над судьбой». Нами используются самые последние достижения электроники, физики, математики. В нашем электронно-вычислительном комплексе, который является абсолютно уникальным по своей сложности, уже сейчас заложены миллиарды и миллиарды различных вероятностей, человеческих взаимосвязей; наш комплекс в состоянии проанализировать их в течение десятых долей секунды. Вы, конечно, знаете, что каждая ситуация, изменяясь, порождает возможность десятков новых, казалось бы, непредвиденных ситуаций, — и это в силах учесть наш комплекс. Одним словом, нет такой мелочи, такого пустяка, который бы ускользнул от внимания «Оракула», — ведь вы сами знаете, мистер Тышкевич: именно то, что сегодня нам кажется пустяком, завтра может иметь далеко идущие последствия… Вы, наверно, обратили внимание, как быстро я получил вашу перфокарту? Это лишь потому, что вы уже заложены в памяти нашего комплекса, вся ваша жизнь с ее различными обстоятельствами, деталями, прямыми и обратными связями… Мы ведь посылаем свои приглашения лишь тем, кто попал в сферу памяти нашего комплекса. Разумеется, эта сфера постоянно расширяется, вовлекает все новые и новые объекты, и расширяется, надо сказать, стремительно. Рано или поздно наступит время, когда к нам сможет обратиться любой человек, живущий в нашей стране… Вам кажется это невероятным? Но отчего же? Если ЭВМ может проанализировать, допустим, десяток вариантов, то почему бы ей не проделать то же самое с миллиардом в десятой степени? Принципиальной разницы нет, весь вопрос только в емкости, в объеме памяти. Впрочем, недаром говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пойдемте, мистер Тышкевич, я продемонстрирую вам, как все это выглядит на практике. Прошу вас.
Когда они шли через холл, Тышкевич приостановился на минуту, чтобы разглядеть висевшие на стене фотографии.
— Я вижу, вас заинтересовали эти портреты? — сказал Майкл. — Это всё люди, которым наша фирма помогла найти свой путь в жизни, помогла отыскать ту, может быть, единственную возможность, которая привела их к успеху. Все они побывали здесь так же, как вы, мистер Тышкевич.
— Как? И Стив тоже?
Сам Стив Эллинсон, знаменитый киноактер, звезда экрана, чья судьба и слава всегда вызывали у Тышкевича восторг, восхищение и зависть, собственной персоной, ослепительно улыбаясь, смотрел сейчас на него с фотопортрета.
— Да, и Стив тоже. Кстати, он ведь до некоторой степени ваш коллега. Знаете, кем он пришел к нам? Третьеразрядным репортером третьеразрядной газетенки, можно сказать, совершенно отчаявшимся человеком. Поверите ли, он не имел никакого представления о своих актерских талантах. И вот с помощью «Оракула» он ухватил свою версию… Ухватить версию — так это называется на нашем жаргоне, — улыбнулся Майкл. — Надеюсь, и вы тоже, мистер Тышкевич, сумеете…
— …у х в а т и т ь в е р с и ю? — засмеялся Тышкевич.
— Вот именно. Я рад, что вам нравится у нас, мистер Тышкевич.
Они вошли в кабину лифта, Майкл нажал кнопку, и лифт плавно и бесшумно заскользил не вверх, как ожидал Тышкевич, а вниз, унося Майкла и Тышкевича к подземным этажам здания.
— Разумеется, когда вы станете нашим постоянным клиентом, — делая упор на слове «постоянным», сказал Майкл, — вы будете попадать во владения «Оракула» более простым путем, через главный, центральный вход, а пока нам придется немного попутешествовать…
Они шли по небольшим коридорам и коридорчикам, еще раз спускались, а потом поднимались на лифте и наконец оказались в огромном дугообразном помещении. В отличие от холла офиса здесь были низко нависающие потолки, и все помещение выглядело бесконечно длинным, изгибающимся коридором с небольшими, в рост человека, нишами-ячейками по обеим сторонам. Большинство из этих ниш сейчас были пусты, лишь в некоторых виднелись согнутые спины людей, занятых какой-то работой. На Тышкевича и Майкла никто не обращал внимания.
— Вот мы и пришли, — сказал Майкл торжественно.
Тышкевич молчал, осматриваясь. На стенах, окрашенных в салатный цвет, повсюду были видны стрелки-указатели с многозначными числами.
— Для удобства работы комплекса, — сказал Майкл, — мы вынуждены присваивать нашим клиентам номера. Это, правда, не всем нравится, но ничего не поделаешь — здесь мы находимся во власти машин, а машины предпочитают иметь дело с цифрами. Ваш номер, мистер Тышкевич, будет 203415/371.
— Ого! — сказал Тышкевич.
— А что вы думаете! Наш «Оракул» пользуется популярностью. Я еще не видел человека, который удержался бы от искушения узнать свое будущее. Даже если оно, судя по всем признакам, не сулит ничего хорошего. Ведь малая доля надежды, это самое «а вдруг?» всегда, до самого конца остается с нами. Не так ли, мистер Тышкевич?
— Пожалуй, что так, Майкл.
— Я знаю одного старика, богатого старика, он каждый день приходит сюда. Он и сейчас здесь. Видите, вон там, справа, впереди — это его спина. Этот человек смертельно болен, врачи говорят, он не протянет и месяца, но он каждый день приезжает сюда, чтобы перебрать еще десяток-другой версий, хотя все они приводят его к одному результату. К сожалению, наш «Оракул» в отличие от профессиональных гадалок не умеет лгать. И все же, я думаю, отними у старика сейчас эту возможность — приходить сюда — и он умрет завтра же. Надежда — великая вещь, мистер Тышкевич, и «Оракул» дает ее человеку…
— Но почему сейчас здесь так пустынно?
— Видите ли, мистер Тышкевич, основные наши клиенты — это люди работающие. Кстати говоря, большинство из них работает на заводах нашей фирмы. Так что они имеют возможность приходить сюда только вечером, после работы. Вот когда вы заглянете сюда вечерком, вы увидите совсем иную картину…
Бесконечный, однообразный ряд ниш-ячеек вдруг прервался. Тяжелые красные портьеры скрывали уводящую вниз лестницу.
— А что здесь, Майкл? — спросил Тышкевич.
Майкл пренебрежительно отмахнулся.
— Аа… Здесь — «детская». Так мы называем между собой зал, куда ведет эта лестница. Это так, для развлечения. Там вы можете сами выбрать для себя любую программу своей жизни, вы можете стать на один вечер королем Саудовской Аравии, или чемпионом мира по боксу, или знаменитым Стивом Эллинсоном — кем угодно. И в этом качестве на экране перед вами пройдет вся ваша жизнь. Причем с помощью голографии мы достигаем наибольшего эффекта присутствия. Хотя, конечно, это всего лишь игра, забава, иллюзия, не больше. Но некоторым очень нравится. Честно говоря, этот зал — для людей со слабо развитым интеллектом, для тех, у кого не хватает ни ума, ни терпения работать с «Оракулом», управлять своей судьбой. Посмотреть это любопытно и стоит недорого, но я вам все-таки не советую спускаться туда — во всяком случае, должен вас предупредить, будьте осторожны, там собирается разная публика…
Опять они шли мимо нескончаемых ниш-ячеек, иногда между нишами возникал широкий проход, и там, в глубине, словно в зеркале, Тышкевич видел еще один бесконечный ряд точно таких же ячеек. Лабиринт, самый настоящий лабиринт! Что-то напоминали ему эти нескончаемые ячейки, где-то он уже видел нечто похожее, только не мог вспомнить где. Да и не до того ему сейчас было, чтобы заниматься воспоминаниями.
— Ну, вот мы и у цели, — сказал Майкл, останавливаясь у одной из ячеек. — Смелее, мистер Тышкевич, будьте как дома!
Только теперь Тышкевич рассмотрел, что внутри ячейки находится довольно обширный пульт с клавишами, кнопками и переключателями. Но главное место на пульте занимали экраны — маленькие, похожие на телевизионные, экраны. Их было десятка три, не меньше. Сейчас они были безжизненны и молочно белели перед Тышкевичем.
— Итак, чтобы подключиться к системе «Оракула», — сказал Майкл, — вы прежде всего должны опустить в эту прорезь несколько монет или специальных жетонов. После этого счетчик — видите, вот он, в верхнем углу? — вам покажет, каким количеством машинного времени вы располагаете за эти деньги. Таким образом, первое, что вам следует запомнить: желательно действовать быстро, не медлить, ибо время здесь — деньги в буквальном смысле этого слова. Сейчас мы проведем с вами показательный сеанс. Какую точку отсчета вы хотели бы взять? Допустим, утро следующего понедельника вас устраивает?
— Да, — сказал Тышкевич. Собственно, его одинаково устраивал любой день.
Майкл нажал несколько кнопок, и сразу пульт словно ожил: замигали на нем сигнальные лампочки и индикаторы, что-то щелкнуло, раздался слабый звук, похожий на жужжанье, по экранам побежали светлые всплески, и вдруг на всех экранах разом Тышкевич увидел себя. Он стоял на улице возле своего дома. Было утро, светило солнце. Он щурился, глядя на небо, словно бы решая: куда отправиться, что предпринять. Ну да, конечно, он же был еще в отпуске, ему некуда было спешить.
— Здо́рово! — сказал Тышкевич, восторженно глядя на самого себя.
Его изображение на экранах не было неподвижным, застывшим, как на фотографиях, но в то же время движения его были неестественными, странными, будто при замедленной киносъемке.
В первый момент, когда изображение только возникло, Тышкевичу показалось, что на всех тридцати экранах он одинаков. Но почти сразу же он понял, догадался, что каждое из тридцати изображений пусть совсем незаметно, в малой степени, но все же отличается одно от другого. Если на первом экране он просто стоял, глядя в небо, то на втором взгляд его был обращен вправо, вдоль улицы — туда, где виднелась вывеска бара, на третьем — он заносил ногу, чтобы ступить с тротуара на мостовую, собираясь, вероятно, перейти улицу, на четвертом…
— Теперь, — сказал Майкл, — вам надлежит нажать кнопку выбора. Вы имеете возможность выбрать одну из этих тридцати ситуаций. Ну, быстро! Ваш выбор?
— Прямо не знаю, что и выбирать, — растерянно сказал Тышкевич. — Не вижу существенной разницы…
— Простите, но вы сейчас рассуждаете, как тот Тышкевич, что стоит и смотрит в небо, а не как человек, сидящий за пультом «Оракула». Поймите, мистер Тышкевич, у каждого из нас в любой момент нашей жизни существует огромная свобода выбора. Мы можем шагнуть вправо или влево, пойти быстрее или медленнее, выйти из дома на пять минут раньше или на пять минут позднее и так без конца… Но что толку в этой свободе выбора, если мы не знаем, не можем оценить главного — последствий нашего выбора?.. Если мы, допустим, выходим из дома на пять минут раньше, то мы ведь так никогда и не узнаем, что бы с нами могло случиться, задержись мы на эти пять минут. Потому мы и говорим: нет существенной разницы. «Оракул» же для того и создан, чтобы вычислить и показать нам последствия нашего выбора. «Оракул» дает вам возможность перебрать десятки, сотни, тысячи вариантов и остановиться на одном — наилучшем. Причем не старайтесь, пожалуйста, ничего запоминать, за вас все запоминает машина. В любой момент вы можете заново проиграть весь вариант с самого начала, достаточно только нажать кнопку «повтор». Если же вариант вас не устраивает, завел вас в тупик или привел к нежелательным результатам, вы всегда можете начать все с начала или с любого момента, с которого сочтете нужным… Итак, давайте все же продолжим. Решительнее, мистер Тышкевич!
Торопливо, почти наугад Тышкевич ткнул в кнопку с цифрой «3». На мгновение погасли и тут же вспыхнули все тридцать экранов, и снова на всех тридцати экранах Тышкевич увидел себя.
Только теперь он уже находился на другой, противоположной стороне улицы. Причем один Тышкевич чуть задержался, приостановился у витрины магазинчика, второй проходил мимо этой витрины, даже не взглянув на нее, третий нагибался, чтобы завязать шнурок ботинка, четвертый полуобернулся — что-то заинтересовало его в конце улицы… Что же такое он там увидел? Это становилось любопытно.
Тышкевич нажал на четвертую кнопку.
Ага, он так и думал, — там, в конце улицы, была женщина. И теперь все тридцать экранов показали ее и идущего ей навстречу Тышкевича. Что-то знакомое угадывалось в лице этой женщины, где-то он уже встречал ее прежде, но где?.. В колледже? В редакции? Где?
На всех тридцати экранах Тышкевич сейчас шел ей навстречу, но каждый из тридцати Тышкевичей делал это по-своему: один напустил на себя безразличное выражение, другой, наоборот, заинтересованно вглядывался в ее лицо, третий замедлял шаги, словно колеблясь, не вернуться ли назад, четвертый уже явно собирался заговорить с ней, пятый… По лицу пятого было отчетливо видно, что он уже припомнил, уже узнал эту женщину. И Тышкевич, сидящий здесь, возле пульта «Оракула», тоже сразу вспомнил, кто это. Сестра его жены, вернее, сестра той женщины, которая еще совсем недавно была его женой. Он не видел ее уже сто лет и вовсе не горел желанием встречаться сейчас с этой особой. И черт его дернул пойти навстречу!
Он вопросительно взглянул на Майкла.
— Нажмите клавишу возврата, — сказал тот.
Экраны погасли и зажглись снова. И снова Тышкевич увидел себя стоящим возле дверей своего дома. Снова он щурился, глядя на небо, словно бы решая, куда отправиться.
— Выходит, я сейчас видел кусочек моей будущей жизни? — потрясенно произнес Тышкевич. — Вернее то, что могло бы состояться в моей жизни?..
— Да, разумеется, — сказал Майкл. — То, что могло бы состояться, если бы вы этого захотели. И то, что никогда уже не состоится, если вам это неугодно. Все теперь зависит от вас. От вашего решения. Нажимая кнопку выбора, мистер Тышкевич, вы становитесь хозяином своей судьбы.
Раздался щелчок, и изображение на экранах начало медленно блекнуть, затухать. Одна за другой гасли сигнальные лампочки на пульте.
— Время, оплаченное фирмой, истекло, — сказал Майкл. — Надеюсь, вы теперь уже в состоянии действовать самостоятельно.
— Да, да, — сказал Тышкевич. Он с сожалением смотрел на погасшие экраны.
— А сейчас, — продолжал Майкл, — советую вам отдохнуть, вечером же приходите сюда снова. Погуляйте сейчас, осмотрите достопримечательности города, хотя, говоря откровенно, в нем есть лишь одна стоящая достопримечательность — «Оракул-XX». Все остальное — в прошлом. Скажу без ложной скромности: никакие игорные дома, никакие ночные шоу не смогли выдержать конкуренции с нашим «Оракулом». Ведь игры с собственной судьбой куда увлекательнее и азартнее любой рулетки — вы, по-моему, уже ощутили это сами, мистер Тышкевич, не правда ли?
— Да, — сказал Тышкевич, еще не справившись с тем возбуждением, которое охватило его, когда он сидел за пультом «Оракула». — Я и не подозревал никогда, что каждая минута дает нам столько возможностей выбора, что, оказывается, мы всю жизнь только тем и занимаемся, что выбираем…
Честно говоря, ему вовсе не хотелось уходить сейчас отсюда, ему не терпелось снова поскорее оказаться у пульта «Оракула», опять увидеть себя на экранах. Но он не стал обнаруживать это свое нетерпение перед Майклом. Может быть, тот и прав, и ему действительно следует отдохнуть — слишком много сильных впечатлений за один день…
Они опять шли мимо бесконечных ниш-ячеек, и Тышкевич теперь уже с каким-то новым чувством, в котором смешивались изумленное восхищение и почти болезненное любопытство, заглядывал в те ячейки, где виднелись склоненные над экранами фигуры. Возле одной из них он хотел даже приостановиться, но Майкл решительно потянул его дальше.
— Позвольте дать вам один совет, — сказал он. — Никогда не останавливайтесь за спинами людей, работающих с «Оракулом». Они этого не любят.
— Да, я понимаю, — смущенно отозвался Тышкевич. — Это ведь то же самое, что пытаться заглянуть в чужую жизнь.
— Вот именно, — сказал Майкл. — Их это очень раздражает. Прямо выводит из себя.
— Простите, Майкл, а можно задать вам еще один вопрос? Скажите, а вы сами…
Что-то вроде снисходительной усмешки скользнуло, почудилось Тышкевичу, по лицу Майкла, но тут же он снова превратился в безукоризненно вежливого служителя фирмы.
— Вы хотите спросить, пользуюсь ли я сам услугами «Оракула»? — сказал он. — К сожалению, нет. Я — сотрудник «Оракула», и нам это категорически запрещено. Так что, мистер Тышкевич, не пользуюсь. Желаю успеха! Надеюсь, вы будете удачливы, мистер Тышкевич!
В этот день Тышкевич едва дождался вечера. Он заставил себя зайти в бар подкрепиться, но кусок не шел в горло — слишком сильно был взволнован и взбудоражен Тышкевич всем тем, что ожидало его впереди. Если бы еще неделю назад кто-нибудь сказал ему, что он получит возможность заглянуть в свое будущее, получит возможность взвешивать, выбирать, что должно, а чего не должно произойти в его жизни, он бы взглянул на такого человека как на чудака, как на сумасшедшего. А оказывается, здесь не было даже малейшего чуда, только чистый расчет, наука.
Что несколько беспокоило Тышкевича и о чем сейчас он старался не думать — так это деньги. Надолго ли хватит его сбережений? «Ну, ладно, — говорил он себе. — Что волноваться раньше времени. Недели на две, на три хватит, а там видно будет…» Может быть, за эти дни ему уже удастся ухватить свою версию — вот на что он втайне надеялся. Он повторял эти слова, они доставляли ему удовольствие одним только своим звучанием — в них слышалось ему обещание новой, счастливой жизни.
Наконец наступил вечер, и Тышкевич вновь оказался в подземном лабиринте «Оракула-XX». Майкл был прав — то помещение, где были они днем, теперь неузнаваемо преобразилось. Повсюду, во всех нишах-ячейках, виднелись фигуры людей, бесконечные согнутые спины. Казалось, люди здесь вовсе не имели лиц — только спины. Щелканье переключателей и реле, жужжанье работающей аппаратуры — все это сливалось в ровный, слабый, но непрерывный гул, которым был насыщен воздух этого помещения. Мертвенный свет ртутных ламп заливал его. Вовсю работали кондиционеры. И опять — показалось Тышкевичу — что-то уже виденное, что-то уже поразившее его однажды теперь еще сильнее, чем днем, напоминал ему этот лабиринт. И опять он не мог вспомнить, что.
Тышкевич отыскал свою нишу, свою ячейку, над которой уже светился присвоенный ему номер: «203415/371». Нервное возбуждение опять сразу овладело им, едва он опустился во вращающееся кресло за пультом, едва увидел еще не светящиеся, молочно-белые экраны. Только сейчас он заметил: те самые слова, которые днем произнес Майкл, оказывается, были начертаны прямо над пультом:
«Помните — нажимая кнопку выбора, вы становитесь хозяином своей судьбы».
Стараясь успокоиться, стараясь не торопиться, Тышкевич одну за другой опустил в прорезь несколько монет, установил точку отсчета, повернул переключатель…
Вспыхнули экраны.
Выбор!
Погасли и вспыхнули.
Выбор!
Выбор!
Выбор!
Возврат.
Выбор!
Выбор!
Еще днем, когда он соглашался с Майклом в том, что нет ничего увлекательнее и азартнее, чем игра с собственной судьбой, он, оказывается, и представления не имел, насколько в действительности азартна эта игра. Только теперь, оставшись один на один с пультом «Оракула», он ощутил это.
Выбор!
Выбор!
Возврат!
Наверно, с точки зрения разумного использования машинного времени, Тышкевич был сейчас слишком суетлив и поспешен. Он торопился нажать клавишу возврата сразу, едва только начинало казаться, что выбранный вариант сулит ему пустой номер. Ему не терпелось попробовать как можно больше различных вариантов, он кидался от одного к другому, обрывал их, не доведя до конца. Он менял точку отсчета, менял временной масштаб, то уменьшая его до тридцатисекундного интервала между двумя последующими изображениями, то увеличивая до часа.
Выбор!
Выбор!
Выбор!
Когда, вконец измочаленный, израсходовавший все принесенные с собой сегодня деньги, Тышкевич последний раз щелкнул переключателем и обессиленно откинулся на спинку кресла, была уже поздняя ночь. В голове мешались обрывки не доведенных до завершения вариантов, какие-то пустяковые эпизоды, ничего не значащие картины, сумятица, неразбериха…
Рубашка на нем взмокла от пота, от напряжения и усталости болели глаза.
И все-таки если о чем он и жалел сейчас, так только о том, что ему предстояло встать и уйти отсюда, что у него не было возможности остаться здесь, за пультом, и продолжить. Ему казалось, он уже понял свои ошибки. Теперь он уже не повторит их. Терпение и последовательность — вот что должно привести к успеху.
Остаток ночи Тышкевич спал плохо. Подобно шахматисту, отложившему решающую партию, он продолжал мысленно перебирать возможные варианты. Маленькие экраны неотступно маячили перед глазами.
Утром он уже снова был за пультом «Оракула».
Теперь Тышкевич решил изменить тактику. Вчерашний суматошный вечер — это только проба, только разведка. Нужна система. Нужно последовательно исследовать вариант за вариантом. Прав Майкл — иногда пустяк, которому мы не придаем значения, способен перевернуть всю нашу жизнь.
Опять он работал до усталости, до изнеможения, до тех пор, пока кнопки не стали путаться перед глазами. Варианты ветвились, число их увеличивалось в геометрической прогрессии.
Выбор!
Выбор!
Азартная дрожь снова била его. Не может быть, чтобы среди этих тысяч возможностей не нашлось такой, которая бы чудесным образом изменила его жизнь.
Экраны вспыхивали и гасли. Уже наугад, почти не глядя, он тыкал в кнопки выбора. Счетчик машинного времени подгонял его.
Черт подери, он никогда не предполагал, что его настоящая жизнь — впрочем, что теперь называть его н а с т о я щ е й жизнью? — точнее сказать, его предполагаемая, его возможная жизнь так бедна событиями. К концу дня он был подобен игроку в лотерею, у ног которого валялась кипа пустых, порванных билетов.
По нарастающему гулу, по шарканью многих ног Тышкевич понял, что наступил вечер. Постоянные посетители заполняли лабиринт «Оракула».
«Еще один раз, еще только одна попытка… — говорил он сам себе. — И все, и отдых».
Ага, вот, кажется, что-то новое… Машина, взятая напрокат… загородное шоссе… автострада, ведущая к морю… Обгон, еще обгон… Скорость…
Тышкевич торопливо давил на кнопки. Чутье подсказывало ему: что-то маячило там впереди в этом варианте. Определенно что-то маячило.
Выбор!
Выбор!
Он даже не сразу понял, что произошло. Все тридцать экранов показывали одно и то же. Дымилась его машина среди нелепо сгрудившихся поперек шоссе других машин. Сквозь разбитое стекло Тышкевич увидел свое безжизненно обвисшее тело…
Разглядеть, жив он или уже мертв, Тышкевич не успел — его рука мгновенно метнулась к клавише возврата, как будто от этого движения руки, от быстроты реакции и правда сейчас зависела его жизнь.
Несколько минут Тышкевич сидел ошарашенный, потрясенный, не слыша ничего, кроме собственного сердцебиения.
Значит, э т о могло произойти с ним, м о г л о случиться?
А на экранах он опять был живой, улыбающийся, неторопливо усаживался во взятую напрокат машину. И снова каждый из тридцати экранов предоставлял Тышкевичу возможность выбора.
«Так значит, отсутствие этой возможности — возможности выбора — и есть смерть?» — неожиданно подумал Тышкевич, с содроганием вспоминая, как только что на всех экранах он был один и тот же, недвижимый, безжизненно застывший…
Конечно, он мог снова отправиться в путешествие, достаточно было только нажать на иные кнопки выбора, выбрать другую скорость, не пойти на обгон вишневого «бьюика», и он бы наверняка избежал аварии, как ни в чем не бывало катил бы к морю. Но какой-то почти суеверный страх заставил Тышкевича отказаться от новых попыток исследовать, довести до конца этот вариант.
Впоследствии — и причем очень скоро — Тышкевич научился, привык не принимать так близко к сердцу подобные происшествия. В конечном счете, все они ведь не совершались на самом деле — они только м о г л и совершиться. И именно оттого, что теперь Тышкевич знал о них, прорабатывал подобные варианты, они ничем не грозили ему, он был в состоянии избежать, не допустить их в своей будущей жизни.
За последующую неделю, что провел он возле пульта «Оракула», Тышкевич еще дважды попадал в автокатастрофы, один раз становился свидетелем ограбления, один раз объяснялся со своей бывшей женой — их пути все же пересеклись однажды в баре, который имел привычку постоянно посещать Тышкевич, и наконец один раз получил уведомление об увольнении… Потом он видел себя среди пикетчиков, небольшой кучкой толпившихся с самодельными плакатами возле типографии, но это тоже был пустой номер, ничего из этого не вышло…
Тышкевич уже почти не различал времени суток — иногда он валился и засыпал в своем номере в отеле как убитый, посреди дня, а ночь опять заставала его возле пульта «Оракула», иногда, наоборот, он приходил сюда с утра и поднимался со своего кресла поздним вечером, а потом мучился от бессонницы… За это время он осунулся, исхудал, но надежда и азарт, это ни с чем не сравнимое ощущение власти над тем, что еще не произошло, овладевали им, стоило лишь протянуть руку к кнопкам выбора. Количество возможных вариантов не уменьшалось, страна вероятного, простиравшаяся перед ним, выглядела бесконечной, суля еще неведомые открытия…
Порой Тышкевич так ясно, так отчетливо ощущал волнующую близость удачи — казалось, еще немного, и он ухватит свою версию. Так было, когда на экране вдруг возник его старый — еще по школьным временам — приятель. Они не виделись давно, уже несколько лет и теперь столкнулись случайно у входа в мэрию. Это был тот человек, который мог помочь Тышкевичу, который мог что-нибудь придумать для него. Если бы только пожелал. Он был весьма значительной фигурой в деловом мире, Тышкевич отлично знал это. Тышкевич видел себя на одном из экранов протягивающим ему свою визитную карточку, видел затем себя входящим в загородный коттедж своего школьного приятеля… И вдруг все пропало, исчезло — пустота. Что произошло, что случилось? «Оракул» не давал на это ответа. Словно огромная рыбина осторожно тронула крючок и затаилась, и, сколько ни забрасывай свою удочку снова и снова, поплавок остается неподвижен. Но ведь ты точно знаешь, что она там, в темной глубине, среди зарослей, — так неужели же не повезет больше? Примерно такое чувство испытывал Тышкевич, нажимая в отчаянии на кнопки выбора, пробуя все новые и новые варианты в надежде, что вот-вот лицо приятеля снова возникнет на экране.
И тут он вдруг обнаружил, что его сбережения уже растаяли, что денег у него осталось в обрез, разве что на обратную дорогу.
«Все, надо выбираться отсюда, — говорил он себе. — Все. Конец. Финиш».
Но огромная рыбина по-прежнему стояла в темной глубине, заманчиво пошевеливая плавниками.
«К черту, к черту, надо быстрее уезжать отсюда», — говорил себе Тышкевич, а ноги его сами опять вели в подземные владения «Оракула».
«Может быть, как раз сегодня… Если бы вместо двадцать шестой кнопки нажать двенадцатую… Или семнадцатую… Если бы…»
Тышкевич в нерешительности остановился возле автомата, менявшего деньги на жетоны. Взгляд его скользнул по объявлению, которое он уже не раз видел, но в смысл которого раньше как-то не особенно вникал:
«Своим постоянным клиентам фирма «Оракул-XX» охотно предоставит кредит и работу на предприятиях фирмы».
Пожалуй, это было как раз то, что нужно.
Уже на следующее утро Тышкевич шел к проходной завода. Цеха этого завода казались такими же бесконечными, как подземные лабиринты «Оракула». Конвейер, к которому поставили Тышкевича, уходил вдаль и терялся где-то в уже не различимом глазом пространстве цеха. Операция, которую поручили выполнять Тышкевичу, оказалась несложной, он быстро освоил ее — работать на линотипе было куда сложнее.
Что именно производит этот цех и весь завод, Тышкевич не знал, да его это и не интересовало — все его мысли были обращены туда, к вечеру, когда он сможет снова занять свое место перед пультом «Оракула». Только один раз он чуть не сбился, чуть не сорвал свою операцию. Он поднял глаза и по другую сторону конвейера, неподалеку от себя увидел лицо, показавшееся ему знакомым. Да, лицо было очень знакомым, только глаза — беспокойные глаза больного, одержимого человека — мешали ему вспомнить, кто же это. Но все-таки он вспомнил. Этот человек был из того же городка, что и Тышкевич. Одно время о нем много говорили в городке. Говорили, будто он исчез, пропал без вести, как в воду канул. Никто не знал, куда он делся. И вот теперь Тышкевич вдруг увидел его здесь, за конвейером. Их глаза встретились. Узнал ли он Тышкевича? Наверно, узнал. Во всяком случае, что-то похожее на удивление промелькнуло в его напряженном взгляде. И тут же оба они опустили глаза — как будто никогда прежде не знали друг друга.
А вечером Тышкевич в толпе молчаливых, сосредоточенных людей опять торопливо шагал к «Оракулу». Теперь он уже не мог представить свое существование без этого пульта с кнопками выбора, без мерцающих экранов с мгновенно сменяющимися перед глазами вариантами своей вероятной, своей предполагаемой жизни.
Но однажды, когда он привычно протянул руку в окошко кассы за очередной порцией жетонов, служащий фирмы, как две капли воды похожий на Майкла, такой же безукоризненно подтянутый и вежливый, сказал:
— Очень сожалею, мистер Тышкевич, но вы уже превысили максимальный предел кредита. Очень сожалею.
Растерянный, Тышкевич молча отошел от кассы. Что ж, рано или поздно это должно было случиться.
Все же машинально он продолжал идти к своей ячейке, к ячейке за номером 203415/371, как ходил туда каждый день. Кажется, ничего не изменилось здесь с того момента, когда он впервые попал сюда. Тот же мертвенный свет ртутных ламп разливался под низкими потолками, тот же ровный однообразный гул стоял в воздухе, и те же согнутые спины виднелись в ячейках. Никто не оборачивался, никто не отрывался от своего дела, никто не обращал внимания на Тышкевича, одиноко, без всякой цели бредущего по коридору. И вдруг он вспомнил, вдруг он отчетливо вспомнил, что напоминала ему эта картина.
Это было в Японии. Еще тогда, когда он был молод и служил в военно-морском флоте. И вот в те дни как-то он и забрел в зал для игры в починок. Так, кажется, называлась эта игра. Больше нигде, кроме Японии, он не видел ничего подобного. Что поразило его тогда в этом зале? Бесчисленные ряды молчаливых, терпеливо сосредоточенных людей, часами простаивающих у автоматов. Игра с самим собой, без партнеров. До сих пор помнил Тышкевич характерный, сливающийся воедино звук перекатывающихся, сыплющихся шариков… Что ж, там были шарики, сверкающие, никелированные шарики, а здесь — кнопки, клавиши, вспыхивающие и гаснущие экраны — но, в сущности, какая разница?..
Ничего, кроме безразличия и усталости, не испытывал сейчас Тышкевич. Его взгляд остановился на тяжелых красных портьерах. «Детская»? Так, кажется, сказал тогда Майкл.
Тышкевич нащупал у себя в кармане последние две монеты. Этого было слишком мало для того, чтобы подключиться к «Оракулу», но, пожалуй, вполне достаточно, чтобы спуститься в «детскую».
— Прошу! — сказал, возникая из-за портьеры, еще один двойник Майкла. Почему все они были так схожи между собой? Подбирали их, что ли, по принципу сходства? Или работа в «Оракуле» постепенно делала их неотличимыми друг от друга?
— Прошу! Только у нас вы получите ни с чем не сравнимую возможность оказаться в роли любого великого человека, всего за один вечер прожить любую жизнь, какую пожелаете!
— И жизнь Стива Эллинсона?
— Да, и жизнь Стива. Но сегодня я бы не советовал вам этого делать.
— Интересно! — сказал Тышкевич. — Это еще почему?
— Разве вы не знаете? Стив Эллинсон неделю назад покончил с собой. Он застрелился.
— Как?! — пораженно воскликнул Тышкевич. — Но отчего?
— Кто их разберет, этих актеров! Они ведь живут по своим законам…
— Но как же так… — растерянно пробормотал Тышкевич. — Мне же рассказывали… я же сам видел… его портрет здесь, на стене… Значит, он должен был знать свое будущее…
— Да, это верно, — сказал двойник Майкла. — И все же… Возможно, он просто недостаточно глубоко проработал свой вариант, свою версию, а возможно…
— Что еще? Что — возможно?
— Возможно, это был риск, сознательный риск. Скорее всего, я думаю, так оно и было. Он понимал, что за все нужно платить, в том числе и за ту жизнь, которую он выбрал, которую он получил возможность прожить. Эта плата, вероятно, показалась ему вполне сносной…
Тышкевич молчал в растерянности.
— И тем не менее я вам не советую… — сказал двойник Майкла. — Выберите лучше что-нибудь другое. Могу порекомендовать, например, роль наследного принца… — И он, доверительно понизив голос, назвал страну, которую Тышкевич не знал, и имя принца, которого Тышкевич никогда не слышал. — Сейчас это очень модно. Вы не пожалеете…
— Ну что ж… — сказал Тышкевич. — Принц так принц… Я согласен.
И он шагнул за портьеры.
ТОРПЕДА
Президент был убит тремя выстрелами в упор в четверг, в 16 часов 05 минут, в тот момент, когда после завершения торжественной церемонии открытия нового культурного центра он направлялся к своей машине.
Стрелявший в президента был арестован тут же, на месте преступления. Им оказался сорокадвухлетний Джимми Браун, в прошлом солдат морской пехоты, затем мойщик машин на заправочной станции, нынче человек без определенных занятий, сравнительно недавно судимый за мелкое воровство и отбывавший тюремное заключение в течение шести месяцев. На вопрос, из каких побуждений он стрелял в президента, Джимми Браун ответил:
— Это мое личное дело. У меня с ним были давние счеты. Я должен был отомстить этому человеку, и я отомстил.
На вопрос, были ли у него сообщники и оказывал ли ему кто-либо помощь в организации покушения, Джимми Браун категорически ответил «нет» и добавил с оттенком гордости:
— Я все сделал один.
— Как бы не так! — воскликнул Артур Гринвуд, выключая телевизор. — Как бы не так! Нужно быть круглым идиотом, чтобы в это поверить! Старая история! Убийца-одиночка! У него, видите ли, были давние счеты с президентом! А вы обратили внимание, Юджин, на выражение лица этого типа, этого Джимми Брауна? Ведь ни страха, ни тени раскаяния — одно лишь удовлетворение от хорошо выполненной работы!..
В тот момент, когда страна узнала о покушении на президента, Артур Гринвуд дописывал статью под названием «Схлынет ли волна преступности?». По давней журналистской привычке Гринвуд не умел, не любил работать в тишине. Он стучал на портативной машинке, подавал короткие реплики своему старому приятелю Юджину Макклоу, который рассказывал ему о поездке на Ямайку, и время от времени бегло посматривал на экран телевизора — там завершался репортаж о торжественном открытии нового культурного центра.
Когда прозвучали хлопки выстрелов, оба, и Гринвуд и Макклоу, не сразу поняли, что произошло. Толпа на экране, только что плотно окружавшая президента, вдруг словно бы распалась на два людских водоворота. В центре одного из них был президент, в центре другого — тот, кто стрелял в президента. Президента быстро пронесли к машине, еще раз мелькнуло на экране лицо покушавшегося, которого крепкой хваткой держали агенты секретной службы. И все кончилось.
— Нет, вы только подумайте, Юджин, — продолжал возмущаться Гринвуд. — Нам опять хотят подсунуть убогую версию преступника-одиночки! И вот увидите, эти старые ослы из следственной комиссии на нее клюнут! Я не сомневаюсь в этом ни одной минуты. Хотите держать пари, Юджин, что так и будет?
— По-моему, вы слишком категоричны, Артур, — сказал Юджин Макклоу. — Вы торопитесь с выводами. Кто знает, может быть, это действительно маньяк-одиночка. Нельзя исключать и такую возможность.
— Ну да! — саркастически воскликнул Гринвуд. — Один маньяк стреляет в председателя конгресса «Народ за разоружение», другой выпускает семь пуль в сенатора, посмевшего заявить, что в нашей стране сотни политических заключенных, третий — разумеется, тоже маньяк — убивает президента как раз в тот момент, когда президент вступил в борьбу с кланом Миллеров… Не слишком ли много развелось нынче маньяков? И не слишком ли точно выбирают они свои цели? Вот именно — не слишком ли точно? Вы не задумывались над этим, Юджин?
— Я говорю только об одном: не нужно спешить с выводами. Нужны доказательства.
— Доказательства будут, Юджин. Я ручаюсь, доказательства будут. Вы знаете, Юджин, какую ошибку совершали все, кто писал о подобных преступлениях, кто пытался расследовать их самостоятельно, своими силами? Их ошибка была в том, что они слишком поздно принимались за это дело. Когда и многие свидетели были уже убраны, и улики уничтожены. Мы с вами не повторим этой ошибки. Мы начнем наше расследование завтра же. Если, разумеется, вы изъявите готовность помочь мне в этом деле. И для начала… Для начала нам нужна биография Джимми Брауна, так сказать, полное его жизнеописание по дням и часам, чем подробнее, тем лучше. С этого мы и начнем.
Они встретились вновь в кабинете у Артура Гринвуда через неделю.
— Ну что ж, — сказал Гринвуд. — Давайте посмотрим, чем мы располагаем. Но прежде всего, Юджин, я хотел бы обратить ваше внимание на показания Джимми Брауна, разумеется, на те, которые проникли в печать. Вам не бросается в глаза, как настойчиво Джимми Браун подчеркивает, что действовал в одиночку? Один, один, один! Он так и твердит об этом. И не кажется ли вам, что, когда человек столь упорно подчеркивает обстоятельство, которое, кстати сказать, неспособно принести ему никакой выгоды, никакого облегчения участи, за этим что-то кроется? Не значит ли подобное упорство обвиняемого, что это кому-то нужно, что кто-то в этом заинтересован? Что вы на это скажете, Юджин?
— Возможно. Но с другой стороны, ведь действительно нет и намека на какой-либо заговор. Вокруг Джимми Брауна — пустота. Я пытался выяснить его связи. Ничего, абсолютно ничего, никаких нитей, за которые можно бы ухватиться. Так, мелкий сброд, наркоманы, бродяги… И никого больше. Остается единственная версия — маньяк-одиночка. Как бы вы против нее ни ополчались, Артур, но это самое реальное предположение.
— Однако этот маньяк-одиночка, между прочим, переезжает в течение нескольких месяцев из города в город вслед за президентом, останавливается в отелях, пусть не дорогих, но все-таки в отелях, покупает оружие… Я специально не поленился просмотреть все кадры кино- и телехроники с участием президента в различных массовых торжествах и церемониях. И знаете, что я обнаружил?
Он сделал паузу и произнес с явным торжеством:
— Почти во всех кадрах мне удалось обнаружить присутствие Джимми Брауна. Иногда он оказывался весьма близко от президента, но что-то, вероятно, мешало ему выстрелить. Или он ждал чего-то, какого-то сигнала, не знаю. Во всяком случае, он следовал за президентом по пятам. На какие, спрашивается, деньги? Вам не кажется примечательным этот факт, Юджин?
— Наличие денег у Брауна еще не доказывает, что он имел сообщников. В конце концов, в тюрьме, как мы знаем, он оказался тоже не за благотворительность. Так что мало ли откуда могли появиться у этого человека деньги…
— Допустим. Кстати, насчет тюрьмы… Тут есть одна очень любопытная деталь. Впрочем, к ней мы еще успеем вернуться. А теперь давайте, Юджин, все-таки попытаемся составить жизнеописание Джимми Брауна. Сразу отбросим его детские годы — там не просматривается ничего такого, что могло бы нас интересовать. Юность… Вот юность… Тут есть над чем поразмыслить. Тем более что в печать проникли сведения, будто именно в юности будущий президент кровно оскорбил Джимми Брауна и будто именно с тех пор, по словам самого Брауна, он затаил ненависть к президенту.
— Вам кажутся правдоподобными эти россказни? — усмехаясь, спросил Юджин.
Некоторое время Артур Гринвуд молчал, словно бы нарочно затягивая паузу. Потом сказал:
— Вы спрашиваете, Юджин, кажутся ли мне правдоподобными эти россказни? Я вам отвечу. Джимми Браун провел свою юность в том же городе, что и будущий президент. Не правда ли, примечательное обстоятельство? Мы не можем исключать возможности, что их пути некогда пересеклись. Но это не все. Мне удалось выяснить, что именно тогда, когда Джимми Браун вступал в пору своей юности, его родители, владевшие двумя небольшими магазинами, разорились. Семейство же будущего президента было одним из самых богатых семейств в городе. Можно допустить, что именно оно, это семейство, сыграло какую-то роль в разорении родителей Брауна.
— Но, Артур, — удивленно сказал Юджин Макклоу, — все, что вы сейчас говорите, работает именно на ту версию, которую вы отрицаете!.. Давние личные счеты и так далее…
— Не торопитесь, Юджин. Чтобы опровергнуть аргументы противника, надо прежде всего обнаружить их самые сильные стороны. Итак, допустим, что действительно Джимми Браун много лет тому назад, в юности, был тяжко оскорблен будущим президентом; допустим также, что семья будущего президента сыграла некую зловещую роль в судьбе родителей Брауна. Тогда встает вопрос. Почему в течение многих и многих лет у Брауна не возникала мысль свести счеты со своим обидчиком? Почему она возникла только теперь? Более того. Я берусь утверждать, что мысль об убийстве президента у Джимми Брауна возникла только после того, как он вышел из тюрьмы. У меня хватило терпения просмотреть хроники с участием президента, относящиеся к тому времени, когда Джимми Браун был еще на свободе. И вот что поразительно, Юджин: ни в одном, я подчеркиваю, н и в о д н о м кадре мне не удалось обнаружить Брауна. Следовательно, повышенный интерес к президенту возник у него лишь после пребывания в тюрьме. Заметим это. Это существенно.
— Но это же вполне объяснимо, Артур. Человек попадает в тюрьму, он заново прокручивает перед собой всю свою жизнь, особенно обостренно воспринимает все свои прошлые неудачи и обиды. Они у него гиперболизируются, разрастаются до невероятных размеров, мучают его, заставляют искать возможности отыграться. А тут еще постоянная мысль о том, что в то время, когда он раздавлен жизнью, когда, униженный и отвергнутый обществом, вынужден валяться на тюремной койке, его ровесник, росший в том же городе, что и он сам, достиг вершин успеха. Он — президент. Да одна эта мысль может кого угодно свести с ума…
— Все это звучит очень убедительно, Юджин, если бы не одно обстоятельство. Я побывал на родине Джимми Брауна.
— Вы?
— Да, да, Юджин, я слетал туда, я встретился там с его матерью и сестрами. Все они в один голос утверждают, что н е п о м н я т какой-либо ссоры между Джимми и будущим президентом. Они даже не допускают такой возможности. Более того — они уверяют, будто Джимми в о о б щ е н и к о г д а н е в с т р е ч а л с я с будущим президентом…
— Что же тогда — все это плод его больного воображения?
— Не знаю. Не могу сказать определенно. Мать Джимми и его сестры — люди малообразованные, запуганные, возможно, они просто боятся сказать правду. Во всяком случае, ни доказать, ни опровергнуть тот факт, что Джимми Браун в юности встречался с будущим президентом и был оскорблен им, мы пока не можем. Запомним это. И вот что мне кажется, Юджин: разгадку этой истории несомненно надо искать в тюремной камере. Поверьте моему чутью — именно там, в тюрьме, с Джимми Брауном произошло нечто такое, что перевернуло его жизнь. Что именно случилось с ним там — вот главный вопрос, на который мы с вами должны попытаться ответить. А потому завтра же я еду в тюрьму. Вас же, Юджин, если энтузиазм ваш еще не иссяк, попрошу по мере возможности проследить, как вел себя Браун сразу после выхода из тюрьмы…
— Итак, Юджин, я побывал в тюрьме. Образно говоря, я обнюхал там все углы и облазил все закоулки. И я обескуражен. Я вам честно признаюсь, Юджин: я совершенно обескуражен. Надзиратели, которые знали Джимми Брауна, в один голос клянутся, что он ушел из тюрьмы точно таким же, каким туда явился. И я думаю, им нет смысла лгать. Хотя, конечно, поручиться на все сто ни за кого нельзя. Но если верить моей интуиции, интуиции старого газетного волка, они говорят правду. И они уверяют, что не замечали за Джимми Брауном никаких странностей, ничего такого, что выделяло бы его среди других клиентов их богоугодного заведения. «Джимми Браун не мог убить президента! — вот что они мне сказали. — Он не тот человек. Он из тех, кто играет только на мелкие ставки». Тем не менее он убил — уж в этом-то нет никаких сомнений. Не двойник же Джимми Брауна, в конце концов, стрелял в президента!
— А почему бы не допустить и такую возможность? — сказал Юджин.
— Нет уж, это было бы чересчур сложно! Еще немного, и я, кажется, начну склоняться к мысли, что Джимми Браун действительно маньяк-одиночка. Хотя разум мой протестует против такой версии. Однако, вы знаете, Юджин, мне удалось установить, с кем вместе пребывал Джимми Браун в тюремной камере на протяжении всех шести месяцев. И здесь не за что зацепиться! Все тот же мелкий, невыразительный сброд! У меня было еще одно предположение — посетители. Мог же кто-то посещать его в тюрьме. Я надеялся отыскать некую таинственную личность, которая являлась к Джимми Брауну, я был почти убежден, что такой человек должен был отыскаться, не мог не отыскаться. Я предполагал, что именно эта таинственная личность… Впрочем, что долго распространяться… Я никого не нашел, Юджин. Ни единая душа, если верить тюремному журналу, не посещала Джимми Брауна! Ни единая душа, за исключением тех, кто обязан был это делать по долгу службы, — тюремный священник и тюремный доктор. Я разговаривал со священником. Он так же, как и надзиратели, уверяет, что не заметил в характере Джимми Брауна никаких перемен. «Но может быть, беседуя с вами, — спросил я священника, — Джимми Браун упоминал о своей юности, об обидах, нанесенных ему тогда, говорил что-нибудь о неудавшейся жизни, сетовал на судьбу?» — «Нет, никогда. Вообще, он не особенно был склонен к душеспасительным беседам», — сказал священник. Это все, чего мне удалось от него добиться. Одним словом, Джимми Браун вышел из тюрьмы все тем же Джимми Брауном, что и вошел в нее. Это мы, пожалуй, можем уже утверждать точно. Единственно, с кем мне не удалось встретиться, это с тюремным врачом. Он больше не работает в тюрьме. На всякий случай я попросил, чтобы мне навели о нем справки. Но я не думаю, что он сумеет добавить что-нибудь новенькое к тому, что я услышал. Итак, Юджин, загадка остается. А что у вас? Что вы сумели выяснить?
— К сожалению, немногое. Вероятно, я не гожусь в детективы. Я не сумел установить, что делал Джимми Браун сразу после выхода из тюрьмы. След его теряется. Скорее всего, он бродяжничал или жил у случайных знакомых. Где и как именно — неизвестно. Во всяком случае, в родном городе он появляется лишь спустя три с лишним месяца после того, как снял арестантскую робу. И вот дальше уже его путь хорошо прослеживается. Переезды из города в город — начинается та самая погоня за президентом, о которой вы говорили… Это все, что мне удалось узнать.
Гринвуд некоторое время молчал, задумавшись. Потом он стукнул себя кулаком по колену.
— А ведь в этом что-то есть, Юджин! Вам не кажутся наводящими на размышления, по крайней мере, два обстоятельства? Первое. Человек вышел из тюрьмы, человек только что сбросил, как вы выразились, арестантскую робу, ему до черта надоели все тюремные порядки, решетки, замки, надзиратели… Ему хочется отдохнуть от всего этого, отойти… Куда же его потянет в первый же день? Куда? Ну вот так, чисто психологически?.. Домой, конечно же домой, к родным, к домашнему, что называется, очагу. И Джимми действительно появляется у домашнего очага, но появляется лишь три месяца спустя. Что же он делал эти три месяца? Что мешало ему сразу же приехать в родной город? На этот вопрос мы пока, к сожалению, не можем ответить. Обстоятельство второе, еще более серьезное. Если исходить из нашей прежней версии, будто именно в тюрьме с Джимми Брауном произошел некий решающий перелом, то естественно было бы предположить, что свою охоту за президентом он начнет сразу же, едва только окажется на свободе. Но теперь мы знаем, что этого не случилось. Погоня за президентом начинается только спустя три месяца. Опять эти три месяца. Если бы нам знать, Юджин, где он был и что делал эти три месяца!
— У меня такое ощущение, что мы с вами вышли на верный путь, — сказал Юджин.
— Но что толку! Что толку, если этот путь привел нас в тупик! — в досаде воскликнул Гринвуд. — Если он оборвался, едва наметившись, и перед нами — пропасть, обрыв. И ни одной зацепки, ни одной даже крошечной зацепки, которая могла бы помочь нам. И все-таки не будем терять присутствия духа. Впрочем, я, кажется, уговариваю не столько вас, сколько себя. Давайте прервем наше разбирательство до завтра и подумаем еще раз: не пропустили ли мы какую-нибудь деталь, какую-нибудь мелочь, за которую можно было бы ухватиться? Итак, до завтра!
На следующий день Гринвуд сам позвонил Юджину.
— У меня есть новости. Приходите, только побыстрее, я сейчас должен уехать. Кажется, мы напали на след.
Не прошло и четверти часа, как Юджин Макклоу уже сидел в кабинете Гринвуда. Гринвуд по своей привычке расхаживал из угла в угол.
— Помните, Юджин, я вчера говорил вам о тюремном враче, который посещал Джимми Брауна? Я не возлагал на него особых надежд, но все-таки попросил навести о нем справки.
— И что же? Вы встретились с ним?
— Нет, я не встречался с ним и вряд ли встречусь. Дело в другом, Юджин. Помните, я говорил, что он ушел из тюрьмы? Так вот, я узнал, у к о г о он работает теперь.
— У кого же? Да говорите, Артур! Или вы нарочно подогреваете мое любопытство своими бесконечными паузами?
— Он работает теперь у профессора Клейста. У Герхарда Клейста в институте экспериментальной психиатрии. Вам ничего не говорит это имя?
— Что-то такое припоминаю смутно… Кажется, о нем, о его опытах что-то писали…
— Да. Писали. И весьма любопытные вещи. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что след Джимми Брауна из тюремной камеры ведет прямо туда. И я сейчас еду к Клейсту. Я уже договорился с ним о встрече.
— Что же вы ему скажете?
— Я не скажу. Я уже сказал. Я сказал, что намереваюсь писать об его институте, хочу взять у него интервью. Он был счастлив. — Гринвуд быстро взглянул на часы. — Мне пора, Юджин. Он уже ждет меня.
Профессор Клейст оказался весьма пожилым, жизнерадостным человеком. Седые, уже изрядно поредевшие его волосы были с аккуратной старательностью зачесаны на прямой пробор, и сквозь них беззащитно просвечивала розоватая лысина. Рука его, которую он с энтузиазмом протянул Гринвуду, оказалась необыкновенно мягкой, почти женственно-нежной.
— Я крайне польщен вашим визитом, мистер Гринвуд, — сказал Герхард Клейст. — Я нисколько не преувеличу, если признаюсь, что не пропускаю ни одной вашей статьи. Так что в моем лице вы имеете самого верного вашего почитателя.
— Благодарю вас, профессор, — сказал Гринвуд. — Я тоже немало слышал о вас и о ваших поистине сенсационных работах.
— Надеюсь, мы не разочаруем вас, мистер Гринвуд. Я бы не хотел слишком преувеличивать заслуги нашего института, но и излишне скромничать на моем месте было бы фарисейством. Не так ли, мистер Гринвуд? Мы действительно добились кое-каких успехов, это признают теперь даже наши противники. К примеру, мы владеем искусством программирования личности.
— Чем? — переспросил Гринвуд, весь напрягаясь и стараясь не выдать этого своего напряжения.
— Искусством программирования личности. Для непрофессионального слуха это, может быть, звучит несколько непривычно, но это действительно так, и это одно из самых больших наших достижений. Сейчас я вам, разумеется несколько упрощенно, попытаюсь объяснить суть дела. Но прежде ответьте мне, мистер Гринвуд, что главным образом определяет мотивы вашего поведения?
— Ну… не знаю… — неуверенно ответил Гринвуд. — Скорее всего, свойства моего характера… Желания… Различные жизненные обстоятельства… Мало ли что еще…
— Все это так, все это так, мистер Гринвуд, но вы забыли назвать одну и причем, может быть, самую существенную вещь! Вы забыли назвать вашу память!
— Память?
— Ну да, разумеется! Разве не все то, что вы помните, что хранится в вашей памяти, — события, люди, их характеры, обстоятельства встреч с ними, картины вашего детства наконец — разве не все это во многом определяет ваше поведение? Вы п о м н и т е — я нарочно делаю нажим на этом слове, — вы п о м н и т е, что один человек вас некогда обидел, а другой помог вам продвинуться по службе, и вы, руководствуясь именно этой памятью, уже определяете свою линию поведения по отношению к этим людям; вы п о м н и т е — я намеренно беру сейчас самые простые, самые пустяковые примеры, — что некогда крупно проиграли в покер некоему мистеру Н., и вы непременно хотите взять у него реванш; вы п о м н и т е, что мистер Х. своевременно не счел нужным вернуть вам долг, и в следующий раз вы, конечно, постараетесь больше не иметь с ним денежных дел. Разве не так? И разве не ваша память играет здесь главенствующую роль, говорит решающее слово? А теперь представим на минуту, что все то, что я перечислил выше, вы забыли, ни одно из этих сведений больше не хранится в вашей памяти, память ваша опустошена. Я прошу вас, мистер Гринвуд, обратить особое внимание на это сочетание слов: «память опустошена», дальше оно нам еще пригодится. Итак, представим себе, что память ваша больше не способна помочь вам в оценке окружающих людей, вы начисто забыли, что именно связывало вас с ними или разъединяло. Каким становится ваше поведение?
— Затрудняюсь сразу ответить… — сказал Гринвуд. — Вы меня, честно говоря, несколько ошеломили…
— Так я вам отвечу! — с нескрываемой гордостью воскликнул профессор Клейст. — В лучшем случае поведение ваше становится осторожно-нейтральным, так сказать, выжидающим. Но, скорее всего, вы будете пребывать в состоянии полной растерянности и неуверенности, ваша способность действовать будет парализована, вы окажетесь попросту не в силах совершить какой-либо решительный поступок…
— Пожалуй, вы правы, — сказал Гринвуд, все с большим интересом и возрастающим вниманием вслушиваясь в то, что говорил профессор.
— Теперь двинемся дальше, сделаем еще один шаг. Шаг, который разом меняет все дело. Попробуйте, мистер Гринвуд, еще раз призвать на помощь вашу фантазию и вообразите себе, что в тот момент, когда память ваша опустошена, она замещается иной, скажем для простоты примера, прямо противоположной памятью. И вот вам уже кажется — впрочем, слово «кажется» здесь, пожалуй, не совсем уместно, — нет, вам не кажется, вы просто уверены, вы точно п о м н и т е, что тот самый, обидевший вас человек вовсе не обидел вас, а помог вам продвинуться по службе, и наоборот — тот, кто помогал вам, представляется теперь вашим обидчиком; вы совершенно убеждены, что не мистер Н. выиграл у вас партию в покер, а вы крупно обставили его; наконец, вы точно п о м н и т е, что мистер Х. вернул вам всю сумму сполна на добрую неделю раньше назначенного срока. Каким становится ваше поведение? Ну, тут ответ совершенно очевиден. Оно становится прямо противоположным тому, что было прежде. Вы попросту ведете себя уже как совсем иной человек. Вот мы и пришли к самому главному, мистер Гринвуд, к тому, ради чего я позволил себе прочесть вам эту небольшую лекцию. Память и прежде всего память определяет поведение человека! Манипулируя памятью, меняя отдельные ее проявления или всю память в целом, мы и получаем возможность целенаправленно — я подчеркиваю: ц е л е н а п р а в л е н н о — программировать поведение личности…
— Вы убедили меня, профессор, — сказал Гринвуд. — Все это действительно очень увлекательно. И все-таки мне кажется, я так и не сумел уяснить главного. Вот вы говорите: «заменить память»… Но разве это не из области фантастики? Неужели такая операция возможна?
— Она не только возможна, мистер Гринвуд, — раздельно выговаривая каждое слово, произнес Герхард Клейст. — Она уже делается в нашем институте.
— Но как? Каким образом?
— Это несущественно. Ну что за разница, мистер Гринвуд, каким образом; важно, что она делается. А как именно — это уже чисто практическая сторона дела, черновая наша работа, это уже представляет интерес только для специалистов-профессионалов…
— И все-таки мне трудно поверить. Ну, пересадка сердца, почек, это я все понимаю. Но заменить память… Заставить человека помнить то, чего с ним никогда не было, чего он не переживал… В это, согласитесь, трудно сразу поверить…
— Почему же? — спокойно возразил Клейст. — Стереть прежнюю память, опустошить ее — в этом, как я уже говорил вам, сегодня для нас нет проблемы. Правда, это не самая приятная процедура для наших пациентов: дело, к сожалению, не обходится без электрошока и применения сильных наркотических средств, но что поделаешь… Зато можно добиться блестящих результатов: человек полностью забывает, кто он, где он, что с ним происходит… Полностью. Память его чиста, как память новорожденного. Итак, первая часть задачи выполнена. Ну а что касается второй части нашей задачи, то отчего же она кажется вам такой уж невероятной? Разве в нашей обычной, повседневной жизни мы с вами сплошь и рядом не помним того, чего с нами никогда не было, да чего и в жизни-то никогда вообще не происходило? Разве в нашу память сплошь и рядом не вводятся иллюзорные картины, которые иной раз мы храним еще даже лучше, прочнее, чем картины реальной жизни? Вы читаете роман, вы смотрите кинофильм, вы включаете телевизор, и разве преподносимые вам, выдуманные события не оседают в вашей памяти, не влияют на ваш образ мыслей, на ваши привычки, не диктуют вам в какой-то степени ваше поведение? Но все это накладывается на ваш предыдущий опыт и становится лишь малой частицей вашей памяти. Ну а если мы имеем дело с человеком, у которого память полностью стерта, тогда все впечатления, сведения, образы, которые мы ему преподносим, становятся для него п е р в ы м и, главными, основополагающими. Именно они отныне будут определять его поведение. Вот вам и решение проблемы. Этот процесс мы и называем целенаправленным программированием личности. Конечно, мы применяем и свои, чисто специфические методы, но суть одна. Одним словом, мы стоим на пороге великих перемен, мистер Гринвуд! Управление психикой человека, программирование поведения отдельной личности, а затем и целого общества, — вы представляете, мистер Гринвуд, какие перспективы открываются за всем этим?
— Да, — сказал Гринвуд. — Представляю. И все-таки признаюсь: подобные перспективы не могут не пугать.
— Бросьте, мистер Гринвуд! Человек нуждается в том, чтобы им управляли. И мы готовы помочь ему в этом. Над входом в наш институт с полным основанием можно было бы начертать: «Решись переступить этот порог, и ты выйдешь отсюда иным, обновленным человеком!»
На минуту Гринвуд представил себе, как захлопнулись двери институтской клиники за Джимми Брауном. Каким образом удалось заманить его сюда? Угрозами? Лживыми обещаниями? Деньгами?
— И много ли таких, кто ищет у вас обновления? — стараясь придать своему вопросу шутливый оттенок, спросил Гринвуд. — Конечно, если мой интерес переходит границы дозволенного, вы можете не отвечать. Я понимаю: врачебная тайна и все такое прочее…
— Мистер Гринвуд, я тоже понимаю: если журналист вашего класса захочет что-нибудь узнать, он все равно узнает, — в тон ему отозвался Клейст. — Поэтому я отвечу так: мы не испытываем недостатка в клиентах. Надеюсь, вас устраивает такой ответ?
— Вполне. Однако ваши исследования, доктор Клейст, вероятно, требуют немалых затрат, — сказал Гринвуд. — Не сдерживает ли это осуществление ваших планов?
— Слава богу, нет, — сказал Клейст. — Нам было бы грех жаловаться. К счастью, в нашей стране еще есть люди, готовые бескорыстно помочь науке.
— Например? Мне бы, естественно, хотелось воздать должное этим людям.
— Назовите фонд Миллера, и этого будет достаточно, — сказал Клейст.
— Благодарю вас, профессор. Все, что я узнал, необычайно интересно. Надеюсь, мы еще встретимся, — Гринвуд поднялся, протягивая руку профессору Клейсту. — Да, вот еще один вопрос, профессор, чуть не забыл. Вы не помните, у вас не было пациента по фамилии Браун? Джимми Браун.
На мгновение лицо профессора словно застыло, несколько секунд он смотрел на Гринвуда жестким, оценивающим взглядом. Но тут же глаза его снова засветились добродушной улыбкой.
— Ну как же! — воскликнул он. — Джимми Браун! Это тот самый субъект, что стрелял в президента? Я не сразу сообразил, о ком это вы. Джимми Браун. Да, он был нашим пациентом. Его доставили к нам, кажется, прямо из тюрьмы. Если не ошибаюсь, тяжелая форма шизофрении. Маниакальная идея убийства президента. Кстати, знаете, это уже не первый случай — прямо какое-то национальное бедствие, каждый сумасшедший считает своим долгом палить в президента. Мы пытались лечить его, но, как видите… — профессор Клейст развел руками. — К сожалению, и наша наука не всесильна. Впрочем, если вас интересует этот пациент, я могу распорядиться, сейчас принесут историю болезни…
— Нет, благодарю вас, профессор, это я так, к слову, — сказал Гринвуд.
— Ну и прекрасно! От таких дел действительно лучше держаться подальше. Запомните это, мистер Гринвуд, — сказал профессор Клейст, с жизнерадостной наглостью улыбаясь Гринвуду и пожимая его руку своей мягкой, женственно-нежной кистью.
— Ну что же, Юджин, можно подводить итоги. Знаете, как я назову свою статью? Я назову ее «Операция «Торпеда». Я опишу в ней все, что произошло с Джимми Брауном. Теперь мы уже можем достаточно точно воспроизвести эти события. Его отвезли в институт Клейста, возможно под предлогом необходимости медицинского обследования, возможно, пообещав деньги за услуги, которые он окажет институту. Так или иначе, но он оказался в институтской клинике. Они правильно рассчитали, что судьбой его никто не будет интересоваться. Им нужен был именно такой человек.
— Кому — им? — спросил Юджин.
— Это нам еще предстоит выяснить. Но догадаться не так уж сложно. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Профессор Клейст, он, разумеется, лишь исполнитель. Ему предстояло превратить Джимми Брауна в человека, одержимого идеей убийства президента. И он это сделал. Память Джимми Брауна была опустошена, стерта. «К сожалению, это не очень приятная процедура для наших пациентов, — сказал мне сегодня профессор Клейст, — приходится применять электрошок, но что поделаешь…» Итак, Джимми Браун вынес эту процедуру и лишился памяти. А дальше изо дня в день, изо дня в день ему внушали, какое тяжкое оскорбление некогда, еще в юности, нанес ему будущий президент. Ему твердили об этом через наушники, ему показывали кинокадры со всеми унизительными подробностями, разумеется сфабрикованными, его подвергали электрогипнозу. И когда наконец двери клиники снова распахнулись перед Джимми Брауном, в его мозгу не было иных мыслей, иных желаний, иных побуждений, кроме одного-единственного: убить президента! Да, отныне Джимми Браун был свободен, но он больше не был Джимми Брауном. Теперь это была торпеда, самонаводящаяся торпеда, неуклонно идущая к цели. Вот, Юджин, и вся история. Теперь остается лишь засучить рукава и сесть за пишущую машинку. Все-таки мы с вами молодцы, Юджин!..
На следующий день Артура Гринвуда нашли мертвым. Он сидел в своем рабочем кресле, уронив голову на письменный стол, рядом с пишущей машинкой. Врачи установили, что он умер от сердечного приступа. Никаких признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Правда, не удалось обнаружить и рукопись статьи. Однако, когда Юджин Макклоу обратил внимание агентов из бюро расследований на это обстоятельство, ему было сказано, что, вероятнее всего, мистер Гринвуд попросту не успел написать ни строчки. Что ж, возможно, так оно и было.
«НАЕЗДНИК»
— Доктор Тэрнер? С вами будет говорить профессор Хаксли.
Пауза между этой фразой, произнесенной секретаршей, и голосом самого Хаксли, зазвучавшим в трубке, была, пожалуй, чуть короче, чем полагалось бы для человека, занимавшего такое положение, как профессор Хаксли. Руководитель гигантского научного центра, где сотни людей занимались самыми головоломными и, как поговаривали, самыми фантастическими проблемами, центра, чьи корпуса не только протянулись на несколько километров, но еще и уходили глубоко под землю, — этот человек был слишком значительной фигурой, чтобы доктор Тэрнер, возглавлявший пусть вполне современную и даже имевшую немалую известность, но все же небольшую психиатрическую лечебницу, не напрягся весь внутренне, прижимая к уху телефонную трубку.
— Добрый день, доктор! — Голос профессора звучал совсем по-свойски, словно он собрался пригласить своего коллегу на загородную прогулку или на скромный семейный праздник.
— Добрый день, профессор! — Тэрнер постарался, чтобы его голос прозвучал если не точно так же, то по крайней мере почти так же.
— У меня к вам, доктор, личная просьба. Вероятно, к вам в ближайшее время обратится некий профессор Гардинг. Да, да, Гардинг. Это один из лучших наших сотрудников. Очень жаль, но последние месяцы с ним творится что-то неладное. Надеюсь, ничего страшного, но все же… Нам бы очень не хотелось его терять. Я сам рекомендовал ему вашу клинику.
— Благодарю вас, профессор. Я очень признателен.
— И прошу вас, доктор, по возможности разрешать Гардингу работать — без этого, я уверен, он долго не протянет. Кроме того, повторяю, его последние идеи для нас крайне ценны. Вы меня поняли?
— Не беспокойтесь, профессор. На нашу клинику еще никто не жаловался.
— Ну вот и прекрасно.
Они простились, и доктор Тэрнер еще некоторое время смотрел на телефонный аппарат с нежностью, словно тот был живым существом…
Профессор Гардинг появился в его кабинете на другой день. Он был худощав и немолод. У него было энергичное лицо, уже носившее следы усталости, даже, если говорить точнее, измученности. К тому же он был явно смущен необходимостью своего появления здесь. Впрочем, это выражение смущения и растерянности, словно человек пытается и не может понять, как, по какой неведомой случайности он попал совсем не туда, куда стремился, не раз уже замечал доктор Тэрнер на лицах своих пациентов.
— Рад, рад с вами познакомиться! — воскликнул Тэрнер. — Много слышал о ваших работах. Счастлив, что теперь имею возможность видеть вас…
Он приостановился — он всегда придавал большое значение первой реакции, первым словам больного, произнесенным в этом кабинете.
— К сожалению, не могу ответить вам тем же, — сказал Гардинг, усмехнувшись. — Вернее, я был бы рад познакомиться с вами при других обстоятельствах…
— Ну что вы! — воскликнул доктор Тэрнер. — Не надо преувеличивать! В наше время очень многие невольно преувеличивают свои болезни. Нервы, переутомление, стресс… Две-три недели покоя, и все будет отлично.
Гардинг покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Если бы э т о не было так серьезно, я бы, поверьте, никогда не обратился к вам.
— Что же вас беспокоит, профессор? — уже переходя на деловой тон, спросил Тэрнер.
— В том-то и дело… В том-то и дело… — сказал Гардинг. — Если бы я мог объяснить, что со мной происходит, это не было бы так мучительно.
— И все-таки? Попытайтесь, профессор.
— Скажите, доктор, вам никогда в детстве не снился такой сон: вы ясно видите яблоко, вы даже берете его в руку, вам кажется: вы сейчас надкусите его, а надкусить его, ощутить его вкус оказывается невозможно, — и вы даже во сне страдаете от этой невозможности и оттого, что не можете понять: почему? Как же? Ведь яблоко — вот оно, перед вами…
— Ну разумеется, — улыбаясь, сказал доктор. — Кому же из нас в детстве не снились такие сны…
— Так вот, со мной теперь происходит нечто подобное уже наяву. Я т е р я ю м ы с л ь. Вы понимаете, доктор, я ее уже ощущаю, я чувствую, что она есть, и вдруг она исчезает, я не могу п о й м а т ь ее…
Доктор Тэрнер кивнул. Лицо его оставалось серьезным.
«Склероз, — подумал он, — обычный старческий склероз. Плюс упорное нежелание признать свою болезнь обыкновенной, такой, как у всех. М о я болезнь должна быть исключительной».
С такими случаями ему тоже приходилось иметь дело не раз. Как ни странно, но человек способен гордиться даже тяжелой болезнью, если она редчайшая, если она принадлежит только ему.
— Мне кажется, вы меня не поняли, — с грустью сказал Гардинг. — Понимаете, со мной и раньше бывало, что я вдруг что-то забывал, не мог сразу уловить какую-то идею, но теперь это совсем другое. Это состояние… Нет, я не знаю, как это объяснить словами…
«Ничего удивительного, что процесс постепенного умирания мозга всегда особенно мучителен и невыносим именно для больших ученых…» — подумал доктор, а вслух сказал:
— Еще один вопрос, профессор. У вас были за последнее время какие-либо неприятности, сильные переживания?
Гардинг пожал плечами.
— Может быть, столкновения с кем-нибудь из коллег? С руководством?
— Ну у кого же их не бывает — столкновений и неприятностей! — сказал Гардинг. — Но ничего из ряда вон выходящего… Так что даже не знаю, что вам и сказать… Разве что…
Доктор ждал.
— Разве что… Недавно мы крупно поспорили с профессором Хаксли. Дело в том, что наши взгляды на одну проблему разошлись уж очень резко. Я опасался, не будут ли некоторые наши работы использованы во вред людям. Тогда я, кажется, погорячился. Впрочем, в науке такие вещи естественны, вы же знаете, доктор…
— И с профессором Хаксли у вас остались по-прежнему хорошие отношения? — быстро спросил Тэрнер. — Вы не испытываете к нему вражды?
— Ну что вы! — сказал Гардинг. — Нормальные деловые отношения.
— Я рад, что вы так здраво смотрите на вещи, — сказал доктор. — Это лишний раз доказывает, что ваше недомогание не так уж страшно. Покой, полная изоляция, режим, прогулки, кое-что из химиотерапии — теперь в этой области, вы, конечно, слышали, достигнуты чудеса, — и я уверен, вы сможете вернуться к своей работе…
Он замолчал. Выражение глаз Гардинга насторожило его: так смотрят дети, когда понимают, что взрослые их обманывают.
Прошла неделя, другая, прошел месяц, а больному, вопреки заверениям доктора Тэрнера, не становилось лучше.
Гардинга поместили в отдельную комнату, которая скорее напоминала номер в отличном отеле, чем палату в психиатрической клинике. Правда, дверь этой палаты постоянно была заперта снаружи, но профессор, казалось, и не замечал этого.
Он то бродил по комнате, то вдруг торопливо присаживался к столу и пытался что-то записывать на листках, вырванных из блокнота. Торопясь, он наносил на бумагу значки и цифры, иногда сбивчивым, судорожным почерком записывал одно-два слова, зачеркивал их, отбрасывал ручку и с мучительным недоумением вглядывался в только что сделанные записи. Вставал и снова начинал ходить по комнате. Потом снова кидался к столу. И так — весь день.
Иногда он просыпался среди ночи и, включив свет, тянулся к блокноту. И опять все повторялось.
С каждым днем лицо его становилось все изможденнее, и измученное выражение, казалось, теперь уже навсегда застыло в его глазах.
Напрасно доктор Тэрнер уверял, что все идет как нельзя лучше, — он и сам видел, что это ложь. Он еще пытался убедить себя, что это кризис, что вот минет кульминационная точка, и больной пойдет на поправку; но время шло, а состояние Гардинга все ухудшалось…
Научный центр, которым руководил профессор Хаксли, был так огромен, что вздумай профессор ежедневно совершать обход всех лабораторий, отделов и секторов, у него уже не оставалось бы времени ни на что другое. Поэтому он обычно выбирал какой-нибудь один отдел или сектор и некоторое время занимался только им.
Последние дни профессор Хаксли чаще всего бывал в четвертом корпусе. Над крышей этого корпуса тянулись вверх сложные антенные системы, а в самом здании размещалась электронная аппаратура под кодовым названием «Наездник». Это название придумал ее создатель, профессор Кронфельд, еще в то время, когда она существовала лишь в его воображении, но с тех пор оно так и закрепилось за ней.
Профессор Хаксли подолгу, внимательно наблюдал за бесшумной работой операторов в белых халатах, за вспыхивающими и гаснущими сигнальными лампочками, за вздрагивающими стрелками приборов, за бесконечной лентой, выползающей из электронной машины…
В эти минуты он был молчалив и задумчив.
Днем профессору Гардингу разрешали прогулку к морю.
Он шел и думал о своей жизни и забывал, что два служителя, два санитара, неотступно следуют за ним.
Когда-то, еще в студенческие годы, все то, чего он добился теперь, все то, что удалось ему сделать, представлялось бы ему и вершиной славы, и вершиной успеха. О большем он не мог, да и не смел тогда мечтать. А теперь, оглядываясь назад, он понимал, как ничтожно мало он сделал. Те работы, которые он выполнил, были временны, преходящи. Но порой ему казалось, что он еще сумеет, что он непременно должен сделать что-то неизмеримо более важное.
Он же м о ж е т. Он это чувствовал.
В светлые минуты, когда он стоял возле моря, он опять начинал верить, что сумеет. И он торопился обратно в свою комнату, в свою камеру, в свою палату, — его мало интересовало, как это здесь называется. И снова начинались те же мучения.
Иногда ему чудилось, что он уже ощутил, поймал мысль и ему только недостает умения, недостает слов, чтобы выразить ее. Вряд ли что-либо могло причинять большие страдания, чем это чувство собственной беспомощности…
Когда-то давно он любил работать стоя, — он вдруг вспоминал об этом и просил принести ему специальную конторку.
Это не помогало.
Тогда он часами упорно просиживал за столом над чистым листом бумаги, боясь упустить тот момент, когда его мысль станет ясной и когда у него хватит сил выразить ее.
Потом он ощущал усталость, опустошенность, — неслышно появлялась сестра милосердия, делала ему укол, чтобы он уснул.
Засыпая, он видел себя то студентом, почти мальчиком, то молодым профессором, впервые входящим в аудиторию…
На селекторе в кабинете профессора Хаксли вспыхнул красный глазок: его вызывал «Наездник». Профессор щелкнул переключателем — пользоваться прямой связью сотрудникам разрешалось лишь в особо важных, экстренных случаях.
— Слушаю, — негромко сказал он.
Взволнованный голос произнес:
— Два часа назад объект номер семь прекратил выдачу информации.
Профессор Хаксли положил трубку и молча откинулся на спинку кресла.
Слегка покачиваясь в кресле, он ждал.
Он не удивился, когда на пороге кабинета возникла секретарша.
— Профессор, простите, но с вами хочет говорить доктор Тэрнер.
— Да-да, — отозвался Хаксли. — Соединяйте.
Несколько секунд доктор Тэрнер молчал, только было слышно в трубке его дыхание. Потом сказал:
— Профессор, два часа назад умер Гардинг. Я просто не представляю…
Хаксли оборвал его на полуслове.
— Надеюсь, вы сделали все возможное? — холодно спросил он.
— Разумеется! — воскликнул доктор Тэрнер. — Нам впервые пришлось столкнуться с подобным случаем, и все-таки я убежден…
Он продолжал еще что-то говорить, торопливо и громко, но профессор Хаксли уже не слушал его.
На следующий день профессор Хаксли вызвал к себе Кронфельда.
— Садитесь, Кронфельд, — сказал он. — Вы знаете, что профессор Гардинг умер?
— Да, — сказал Кронфельд. — Знаю. Правда, последнее время мне не приходилось с ним встречаться. Говорят, он был тяжело болен?
— Да. И потому нам пришлось торопиться. Теперь можно подвести итоги. Ваш «Наездник» поработал в этот раз неплохо. Обработка информации еще не закончена, но уже сейчас можно сказать, что мы располагаем необычайно интересным и необычайно важным материалом.
— Идеи Гардинга всегда были оригинальны, — сказал Кронфельд.
— Да. Если бы только он сам не был так упрям… — вздохнул Хаксли. — Тогда бы, я думаю, нам не пришлось прибегать к услугам «Наездника». Кстати, Кронфельд… я давно хотел вас спросить: почему вы дали своему детищу такое странное название?
— А-а, это… — засмеялся Кронфельд. — Старая история. Вы ведь знаете, профессор, детские впечатления нередко бывают самыми сильными. Так вот, еще в детстве в популярной книжонке я прочел рассказ о таком насекомом — наезднике. Самка наездника откладывает яйца в тело гусеницы. Гусеница еще ничего не ощущает, но она уже обречена. Личинка-паразит, развиваясь, высасывает из нее все соки, и гусеница гибнет. Эта история произвела на меня в детстве какое-то странное, почти болезненное впечатление. А мысль о создании мозга-паразита, мозга, перехватывающего чужие импульсы, пришла уже много позже. И все-таки я их связываю — ту детскую, давнюю вспышку ужаса и эту свою идею…
Он сделал паузу, словно выжидая, что скажет Хаксли, но директор молчал.
— И знаете, что самое забавное, профессор? Что эта идея впервые пришла мне в голову на лекциях Гардинга, когда я был еще студентом. «Учиться у природы!» Вы же помните, это всегда была его любимая мысль. Он повторял ее без конца. А мозг-паразит… Эта идея была так проста, что сначала показалась мне неосуществимой. А потом… Впрочем, что было потом, вы знаете. Создать аппаратуру, которая сумела бы уловить и усилить самые слабые импульсы, было не так уж сложно. Самым сложным оказалось научиться настраиваться на нужный объект. С этим пришлось повозиться…
— Еще один вопрос, Кронфельд, — сказал Хаксли. — Над чем вы работаете теперь? Что-то я давно ничего не слышал о вашей работе.
— Это секрет, профессор, — засмеялся Кронфельд. — Это секрет.
— Даже от меня? — И Хаксли шутливо погрозил ему пальцем. — От меня у вас не должно быть секретов.
— Я ведь суеверен, профессор, — так же шутливо сказал Кронфельд. — А если говорить серьезно — любая идея занимает меня лишь до тех пор, пока не высказана вслух. Как только выскажу ее, я перестаю ощущать ее своей…
— Я вас понимаю, Кронфельд, — сказал профессор Хаксли. — Я вас очень хорошо понимаю.
Через несколько дней в кабинете доктора Тэрнера раздался звонок:
— Доктор Тэрнер? С вами будет говорить профессор Хаксли.
— Добрый день, доктор.
— Добрый день, профессор.
— Очень прискорбно, доктор, но мне снова приходится прибегнуть к вашей помощи. Случай, очень похожий на болезнь Гардинга. Боюсь, что в ближайшее время к вам обратится еще один наш сотрудник. Сначала я хотел рекомендовать ему другую клинику, но потом подумал, что вам будет любопытно и полезно изучить еще один аналогичный случай… И я думаю, доктор, вашему новому пациенту совсем ни к чему знать, что Гардинг умер именно в вашей клинике. Не так ли?
— Да, профессор, вы совершенно правы. Мы позаботимся об этом.
— Уверен, что на этот раз исход будет благополучным.
— Благодарю вас, профессор. Разрешите узнать фамилию больного?
— Профессор Кронфельд, — сказал Хаксли. — Запомните: профессор Кронфельд.
БУНТ
— Я боюсь за тебя, Эрик, — сказала Юлия с грустью. — Ты так и остался землянином, хотя и родился здесь. Понимаешь? Ты так и не стал нашим. Я очень боюсь за тебя, Эрик.
— Но вы-то кто? Вы-то? Вы разве не земляне?
— Нет. — Она покачала головой. — Какие же мы земляне? Со времен Великих Потрясений, с тех пор как Высшим Советом было принято решение о самоизоляции, уже несколько поколений сменили друг друга здесь, на Рузе. Ни я, ни мой дед, ни прадед никогда не видели Землю. У нас в крови уже не осталось памяти о ней. А в тебе эта память еще свежа. Вот в чем все дело, Эрик…
Разговор этот начался, казалось бы, с пустяков. Эрик и Юлия сидели за завтраком в помещении, внешне напоминавшем салон старинного теплохода, — при желании через иллюминаторы можно было даже увидеть блестевшую под утренним мягким солнцем бесконечную гладь спокойного моря и ощутить проникающий в салон легкий запах соленых брызг. Разумеется, это была лишь иллюзия. На Рузе, на этой искусственной планете, созданной человеческими руками и человеческой мыслью, никогда не было и не могло быть никакого моря. Само название «Руза» происходило от двух слов: Рукотворная Земля. Впрочем, теперь здесь мало кто помнил об этом. По земным масштабам Руза могла сравниться с каким-нибудь густонаселенным, огромным городом. В ее гигантском чреве непрестанно трудились сотни тысяч сверхроботов, беспрерывно работали мощные фабрики биосинтеза, ни на минуту не останавливались разного рода накопители, собиратели, преобразователи энергии — вся колоссальная сеть замкнутого жизнеобеспечения искусственной планеты — одинокого острова, затерявшегося в бесконечных, космических пространствах. Именно эта сеть жизнеобеспечения, мощная, но почти полностью скрытая от глаз человека, и позволяла, в частности, Эрику и Юлии сейчас спокойно и беззаботно беседовать за завтраком.
Они оба особенно ценили эти утренние минуты, потому что затем служебные обязанности надолго — до самого вечера — разводили, отдаляли их друг от друга. Чаще всего их беседы за завтраком текли весело и свободно: они уже усвоили по отношению друг к другу тот легкий, полушутливый тон, который устанавливается обычно лишь между ощущающими взаимную внутреннюю симпатию людьми. Однако сегодня Эрик был настроен по-иному.
— Ответь, Юлия, — с неожиданной серьезностью сказал он, — тебе никогда не приходила в голову мысль, что, чем рациональнее организована наша жизнь, чем жестче она продумана, чем более близка к совершенству, тем меньше, как это ни парадоксально, у нас остается возможностей выбора, свободы выбора?..
— Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать, — обеспокоенно отозвалась Юлия. Всякий раз, когда она чего-нибудь не понимала, он улавливал в ее глазах это выражение беспокойства, даже тревоги.
— Я не понимаю, — настойчиво повторила Юлия. — Ты должен объяснить мне. Что ты хотел этим сказать?
— Да ничего особенного, — усмехнулся Эрик. — Просто я вдруг подумал, что у наших далеких предков была, по крайней мере, возможность выбора между омлетом и манной кашей. У нас этой возможности нет. За нас этот вопрос решает Великая, Всемогущая и Единая…
Он словно бы давал ей возможность обратить разговор в шутку. Но она отнеслась к его словам серьезно.
— Я все-таки не понимаю, что тебя волнует. Так было со дня нашего рождения, всегда, сколько я себя помню, так будет и дальше. Это необходимо ради нашей же пользы…
Он уже слышал это не раз. Сейчас Юлия словно бы повторяла слова Старшего Наставника, который занимался с Эриком, когда он, Эрик, проходил первый подготовительный курс. «Единая Система, — говорил Старший Наставник, — несет ответственность за безопасность и состояние здоровья, как физического, так и нравственного, каждого члена общества. Можно ли утверждать, что это не одна из самых насущных и достойнейших забот? Это только в давние времена каждый человек, считалось, был волен распоряжаться своим здоровьем как угодно, не щадить себя, губить иной раз по пустякам, бессмысленно и бесцельно. Мы же исходим из того, что здоровье человека — это не только его личное достояние, личное, и притом главное, богатство, но и достояние всего общества, главное богатство общества. И значит, пренебрежение к своему здоровью следует рассматривать прежде всего как тяжкое преступление перед обществом…» Против этих слов нечего было возразить. Он был, конечно же, прав, Старший Наставник Эрика. И все же…
— Мне не нравится твое настроение, — донесся до него голос Юлии. — И потом, знаешь, ты все-таки не прав. Я сейчас поняла, почему ты не прав. Ты вот говоришь: у нас нет выбора. Но это не так. У нас тоже есть выбор. Мы тоже выбираем… только… как бы это выразиться… ну, другими способами, что ли… Да, просто другие формы выбора, только и всего. Мы научились выбирать ценою меньших усилий, практически незаметно для себя, автоматически. И главное — безошибочно.
— Безошибочно, вот именно — безошибочно, — повторил Эрик, ухватившись за это ее слово. — Но ведь безошибочный выбор — это уже не выбор, вот что забавно. Да, это не выбор, это просто-напросто осуществление единственной, наилучшей возможности, ничего другого не дано. Опять это звучит парадоксально, но ведь это так, от этого никуда не денешься…
Юлия пристально посмотрела на него.
— Ты говоришь так, словно над тобой осуществляется насилие. Но ведь ничего не делается против твоей воли. Вот ты сейчас нажмешь кнопку, и тебе будет подан именно тот завтрак, в котором — и по калориям, и по вкусовому составу — сегодня нуждается именно т в о й организм. Чем же это плохо? Это и будет твой выбор, пойми, Эрик, т в о й и ничей больше, потому что такова необходимость, такова потребность т в о е г о организма…
Да, он и сам знал все это. Он знал, что десятки видимых и невидимых датчиков беспрерывно посылают сигналы о состоянии каждого из них — каждого жителя Рузы — в Электронную Службу Здоровья, и затем уже оттуда, из блоков-анализаторов Службы Здоровья, команды поступают в Блоки Питания, Блоки Соблюдения Режима, Блоки Сна и Разумного Отдыха… Ни одно — даже малейшее — изменение в его организме не ускользнет от внимания приборов…
— Ты так растолковываешь мне эти истины, — сказал Эрик, — будто я — ученик младшей подготовительной сети воспитания, а не инженер высшего класса…
— Потому что ты рассуждаешь сегодня как ребенок…
— Нет, Юлия, нет, — покачал головой Эрик. — Дети так не рассуждают. Дети всему верят. Это взрослых в один прекрасный день внезапно начинает томить дух сомнения.
— Не говори так! — воскликнула Юлия. — Сомнения — это первый шаг к болезни. Это болезнь!
— Не знаю, — сказал Эрик. — С детства меня тоже учили, что ничто так не способно парализовать волю, как сомнения. Ты ведь знаешь, мои родители были звездолетчиками, последними звездолетчиками, сумевшими достичь Рузы и вынужденными навсегда остаться здесь. Так вот, их заповедь, заповедь звездолетчиков, так и звучала: сомнения — гибельны. Что ж, верно, я понимаю, есть ситуации и есть профессии, которые не допускают сомнений. И все-таки…
— И все-таки сомнения — это отклонение от нормы, — с печалью сказала Юлия. — Мне бы очень не хотелось, чтобы тебя вдруг признали больным. Я была бы ужасно огорчена. Я уже привыкла к тебе. Мне бы тебя очень не хватало… И этих наших разговоров — тоже… Я была бы очень расстроена, если бы нам пришлось расстаться, пусть даже ненадолго…
Эрик благодарно накрыл ее руку своей.
— Не опасайся за меня, — сказал он. — Это минутное настроение. Оно пройдет. Оно уже прошло. Я ведь тоже неплохо учился во всех — в младших, и в старших, и в прочих подготовительных системах. И у меня был мудрый наставник. Так что я тоже накрепко усвоил, что Принцип Высшей Рациональности — это единственно возможный принцип жизни на Рузе. Без него мы бы не выжили…
И верно, это ведь надо было суметь — на одиноком космическом страннике не впасть в отчаяние, и не только сохранить, но и развить, тысячекратно умножить те знания и те навыки, которые первооснователи Рузы обрели на Земле. Можно представить, каких невероятных, нечеловеческих усилий это стоило!..
— Ну, вот и правильно, — отозвалась Юлия. — Теперь я могу выставить вам высший балл за ваши познания в области общественных наук…
Она облегченно засмеялась, и Эрик ответил ей улыбкой.
В этот момент на стенной панели, возле столика, тревожным оранжевым светом замигали два небольших табло.
Эрик взглянул на часы.
— Так и есть. Нам напоминают, что еще минуту и двадцать секунд тому назад мы должны были приступить к завтраку. А мы занимаемся разговорами. Нарушение режима приводит наших электронных опекунов в состояние высшей взволнованности.
— Единая Система не дремлет, — сказала Юлия.
— Все это прекрасно, — отозвался Эрик, нажимая кнопки возле столика, — только я, кажется, уже перестаю понимать: мы — при ней или она — при нас? Мы — для нее? Или она — для нас?..
— Ты неверно ставишь вопрос, Эрик, — сказала Юлия. — Ни мы — для нее, ни она — для нас. Просто мы уже неразделимы, мы — одно целое…
По невидимой — магнитной — ленте транспортера к столу подплыли два небольших крытых подноса. На каждом из них значился свой индекс. Эрик шутя протянул руку к подносу Юлии.
— Давай поменяемся!
— Что ты! Нельзя! — воскликнула она, испуганно перехватив его руку.
— Я пошутил, — сказал Эрик. — Ну, конечно, я пошутил. Прости меня, я не ожидал, что ты так испугаешься. Знаешь, ты бросила на меня такой взгляд, будто я хотел тебя отравить, не иначе…
— Ты опять за свое, — сказала Юлия недовольно. — Мы же, кажется, уже договорились.
— Да, да, — отозвался Эрик. — Еще раз прости меня. Но вот ты так испугалась этой моей шутки, так взглянула на меня, что я подумал: а может, так оно и есть, может, ты права, может, и верно, мы уже довели себя до такого состояния, что любое, даже самое пустяковое отклонение от нормы для нас гибельно? Малейшее колебание температуры, чуть большее или чуть меньшее количество полученных калорий, ничтожное переутомление, слабенький сквозняк — все уже грозит нам гибелью. Мы — как растения в теплице!
— По сути дела, да, Эрик. Ты прав. Мы действительно растения в теплице. Но мы живем, думаем, работаем! Мы живем! Вот что главное!
Она помолчала и потом уже иным тоном, с грустью сказала те самые слова:
— Я боюсь за тебя, Эрик. Ты так и остался землянином, хотя и родился здесь. Понимаешь? Ты так и не стал нашим. Я очень боюсь за тебя, Эрик.
Уже позже, направляясь в свой рабочий сектор, Эрик мысленно возвращался к этим ее словам. Юлия — чуткий человек, и она, конечно, права. Тоска по Земле, по той Земле, о которой рассказывал его отец, не оставляла Эрика. Почему-то больше всего ему запомнился рассказ отца о том, как он вместе с матерью Эрика попал однажды под проливной дождь. Они бежали от реки через луг, и их настигла гроза. Что это была за гроза! Наверно, только далекие звездные катастрофы, которые случалось наблюдать Эрику через мощные телескопы Рузы, могли сравниться с этой грозой. «Сразу стало темно, полыхали молнии, освещая тяжелые, иссиня-черные тучи, и мир весь вдруг словно изменился — затаенно затих. И тут хлынул ливень! Ах, какой ливень! Нет, он не хлынул, он обрушился на землю! А мы бежали, взявшись за руки, бежали, разбрызгивая мгновенно вздувшиеся лужи, не разбирая дороги, над нашими головами грохотал гром, и молнии опоясывали небо… И невольный страх перед этой могучей первобытной стихией, и счастливое ощущение свободы владели тогда нами!..» Так рассказывал отец. У Юлии не было таких воспоминаний. Конечно, здесь, на Рузе, существовали целые зоны отдыха — ровно подстриженные, земные зеленые лужайки, окаймленные аккуратным кустарником, и лесные опушки, и даже мелкая прозрачная речка вилась между ними, — но все это было лишь имитацией, все это — по сравнению с тем, что рассказывал отец, — было таким дистиллированным, таким заботливо-бутафорским, что тоска Эрика только усиливалась при виде этих опушек и лужаек. Но попробуй скажи об этом Юлии, и она вряд ли поймет его, скорее всего она смертельно обидится за тех, кому с таким трудом удалось создать здесь эти зоны отдыха, напоминающие их далекую, давнюю и уже забытую родину. И она будет права, если обидится. Это Эрик тоже понимал прекрасно.
К месту работы Эрика доставила скоростная капсула. Здесь, в большом полукруглом зале, уже слабо светились экраны специальных электронных инженерных устройств, напоминавших старинные дисплеи. В зависимости от необходимости экран аппарата мог воспроизвести ход рассуждений исследователя, внести коррективы, разобрать различные варианты, выдать необходимые формулы, чертежи или объемные конструкции… Группа инженеров высшего класса, в которую входил Эрик, занималась одной из самых главных, жизненно важных для Рузы проблем — проблемой поиска новых путей получения энергии.
Работа Эрику нравилась, он уже успел привыкнуть, даже привязаться к своему дисплею, успел изучить его особенности, его характер — одним словом, уже воспринимал его почти как живое, разумное существо. Ему доставляло горделивую радость сознавать, что своим трудом он, пусть хоть в самой малой степени, но отводит от Рузы грозную опасность: нехватку энергии. От Рузы, а следовательно — и от Юлии. Что-то непонятное творилось с ним сегодня. Независимо от себя он продолжал, даже глядя на экран дисплея, думать о Юлии. Никогда еще не было с ним такого. Он заставлял себя сосредоточиться на работе и не мог, ничего не получалось…
Вечером Эрик опять встретился с Юлией. Они бродили по маленькому зимнему саду. Здесь было тихо и уютно. Однотонно журчали крошечные фонтанчики, слабый свет выбивался из-под причудливо нагроможденных валунов. Однако у Эрика было подавленное настроение — это Юлия заметила сразу.
— Что с тобой, Эрик? — обеспокоенно заглядывая ему в глаза, спросила она.
— Одно к одному, — отозвался он мрачно. — Я всегда так любил свою работу, ты знаешь это, Юлия, всегда так гордился ею, с таким рвением, с такой старательностью работал, так верил, что моя работа приносит пусть малую, но все же пользу всей Рузе… А оказывается… Оказывается, никто не может поручиться за то, что все эти годы я не работал вхолостую! Прыгал, как белка в колесе, ради собственного удовольствия!
— Да объясни толком, что случилось?
— Видишь ли, мне сегодня объяснили, что значит Принцип Высшей Рациональности применительно к нашей работе. Ты знаешь? Ах, догадываешься? Ну, я тебе все-таки скажу: Принцип Высшей Рациональности означает вот что — обществу необходимо лишь то лучшее, что способен дать каждый из нас в лучшие минуты своей жизни, в минуты высшего творческого подъема! Ну, а кто определяет, когда они у тебя наступят, эти минуты? Опять та же самая Электронная Служба, электронные психологи, электронные психиатры, электронные черт-те знает кто еще…
— Не ругайся, Эрик, прошу тебя, — жалобно сказала Юлия.
— Да что там — ругайся не ругайся, разве в этом дело! Я чувствую себя сегодня оплеванным, униженным, оскорбленным. Столько лет воображать, что ты приносишь пользу, что ты незаменим, что твой труд кому-то нужен, и вдруг обнаружить, что все эти годы ты, возможно, был просто-напросто «отключен». Оказывается, есть даже такой термин. Того, кто по всяким там биоритмическим показателям находится не в лучшей своей форме, просто-напросто отключают от каналов приема информации. И он только воображает, что работает, а на самом деле, как дурачок, как последний дурачок, играет в поддавки с самим собой…
— Ты все преувеличиваешь, Эрик, — сказала Юлия. — Ты всегда все склонен преувеличивать. Ведь работать можно ради результата, можно и ради тренировки ума, ради обретения пика той формы, о которой ты говорил…
— Значит, ты знала? Ты знала, Юлия?
— Да, мне рассказывал отец. Нашему обществу действительно не нужна работа ради работы. Мы не можем себе позволить пользоваться инженерными идеями не самого высшего порядка, вот в чем дело, Эрик. Прежде, говорят, поступали проще: проводили обследование перед началом рабочего дня и просто отстраняли от работы тех, чьи биоритмические и прочие показатели оказывались ниже необходимых. Но это плохо действовало на людей. Теперь же, когда наша Единая Система обладает столь большим запасом информации о каждом из нас и столь высокой возможностью мгновенно перерабатывать эту информацию, общество уже может позволить: пусть работают все. Но только службам Единой известно, чьи идеи идут, что называется, в общий котел — в Главный Информационный Центр, а чьи — нет. Да, многим действительно приходится работать вхолостую, они действительно отключены, тут уж ничего не поделаешь, Эрик. Причем, кто именно в данный момент работает на каналы информации, а кто, как ты выразился, играет в поддавки с самим собой, — это тайна, ни в коем случае не подлежащая разглашению. Каждый должен работать в полную силу, в полную меру своих возможностей. Службы Единой сами позаботятся о том, чтобы в нужный момент человека, достигшего пика формы, подключить к Главному Центру…
— Но разве это не унизительно?
— Унизительно? Но почему? — искренне удивилась Юлия. — Это Принцип Высшей Рациональности, только и всего. И, в конечном счете, разве не от нас самих, от каждого из нас, зависит то, как мы работаем?..
— Не знаю, Юлия, может быть, ты и права, но меня все время не оставляет чувство, будто я превращаюсь в робота. Я — человек, а меня хотят сделать роботом…
— Мне опять не нравятся твои слова, — сказала Юлия, и печаль снова возникла в ее глазах. — Почему ты раньше никогда так не говорил?
— Не знаю. Просто я о многом думал последнее время. А может быть… Может быть, это оттого, что появилась ты. Рядом с тобой мне особенно хочется быть человеком…
— Чего же тебе не хватает, Эрик, чтобы чувствовать себя человеком?
— Не знаю, опять не знаю. Может быть, права совершать ошибки, только и всего…
— Ошибки? Совершать ошибки — это неразумно, Эрик. А все, что неразумно, — плохо. Разве не так?
— Так, так, Юлия. И все-таки мне не хватает этого права. А еще, может быть, возможности жертвовать чем-то ради любимого человека. Ведь Принцип Высшей Рациональности тоже не допускает этого.
— Жертвовать? — задумчиво повторила Юлия. — Зачем жертвовать? Ты все-таки странный, Эрик. Я сегодня думала о тебе весь день. Ты все-таки очень странный.
— Да, наверно, я странный… Но знаешь, чего бы мне сейчас хотелось больше всего?
— Чего?
— Пробежаться вместе с тобой под проливным дождем, и чтобы над нами грохотал гром и сверкали молнии…
Юлия удивленно подняла тонкие брови.
— О! Это, наверно, очень страшно?
— И страшно, и весело. Это почти так же, как выход в открытый космос, — сказал Эрик, смеясь.
— В открытый космос? — повторила она и вдруг задумалась, ушла в себя. Эрику показалось, что она собирается что-то еще сказать ему, в чем-то признаться, и не решается. Но уже вовсю мигали оранжевым светом предупредительные табло: «Нарушение режима недопустимо! Нарушение режима недопустимо!» Время вечерних прогулок истекало…
На следующий день за завтраком Юлия сказала ему:
— А я ведь не успела вчера сообщить тебе самое главное: мне предлагают поработать в открытом космосе.
— Тебе? — он не мог скрыть своего изумления.
— Да. — Юлия словно не заметила этого его изумленного возгласа и продолжала говорить со спокойной деловитостью: — Видишь ли, на одном из наших искусственных спутников вышла из строя аппаратура слежения. Роботы-наблюдатели дают противоречивые сведения о характере повреждения. Так что есть необходимость направить туда небольшую экспедицию. Мне предложили войти в ее состав.
— И ты? Что ответила ты?
— Я ответила, что согласна.
Ну, конечно, предложи кто-нибудь такое ему, Эрику, разве бы он отказался! Когда-то его мечтой было поработать в открытом космосе. Он даже экзамены сдавал на астролетчика. Но то он, а то Юлия…
— Да ты не огорчайся, Эрик, — вдруг с неожиданной для нее мягкостью сказала Юлия. — Это еще нескоро. Не раньше, чем через месяц. Мы еще успеем надоесть друг другу, — добавила она, улыбнувшись. — А потом ты и оглянуться не успеешь, как я уже вернусь…
Она утешала его, как маленького мальчика.
И эта ее неожиданная мягкость, и явная боязнь причинить ему огорчение тронули Эрика.
— Все-таки мне будет очень горько расставаться с тобой даже не надолго. — Он и не заметил, что повторяет почти те же самые слова, которые так недавно говорила ему она.
— Ничего, Эрик. Я буду думать о тебе. Я буду думать все время… все время… — сказала она, вставая.
В этот день Эрик едва дождался вечера. Ему хотелось слишком о многом сказать Юлии.
Когда он пришел в зимний сад, к месту их условленной встречи, Юлии еще не было. Это сразу встревожило его — он знал, что здесь, на Рузе, точность считается неотъемлемым и естественным свойством человека. Все-таки он подождал десять минут, пятнадцать — ее по-прежнему не было. Он попытался вызвать ее по внутренней телесвязи — никто не отвечал. Значит, ее не было и дома. Он сделал срочный запрос в Информационный Центр, ему ответили, что в данный момент местонахождение Юлии неизвестно. Это был редкий случай — чтобы в Информационном Центре произносили слово «неизвестно». Скорее всего, это могло означать только одно: ему не хотели, не считали нужным сообщить, где Юлия. Но почему?
Он вернулся к себе, в свой жилой отсек. Ему казалось: он не сможет уснуть до утра. Однако датчики — все те же вездесущие датчики — бдительно просигнализировали о его состоянии Электронной Службе Здоровья. Эрик слышал, как мягко включился и заработал маленький излучатель над его кроватью. Через несколько минут он уже крепко спал.
За завтраком Юлия не появилась. На этот раз в Информационном Центре на запрос Эрика ответили: она находится на предполетной подготовке. Но отчего тогда она сама ни слова не сказала ему об этом? Наоборот, она даже шутила: мы еще успеем надоесть друг другу. И внезапно исчезла, не предупредив, не простившись. Эрик попытался было связаться с Центром Предполетной Подготовки. Там не отвечали. Одна странность следовала за другой. И окончательно Эрик был сбит с толку, когда после двух дней метаний, поисков, напрасных запросов, бесполезных попыток связаться с Юлией по каналам телесвязи он вдруг услышал от своего товарища по работе, что тот будто бы видел Юлию накануне в зоне отдыха. Причем ему показалось: она то ли была расстроена чем-то, то ли просто очень устала. После работы Эрик бросился в зону отдыха, словно мог надеяться все еще застать ее там. Переход в зону отдыха оказался перекрыт. Сколько ни давил Эрик на кнопку, окруженную приветливой вязью слов: «Пожалуйста, проходите, зона отдыха приветствует вас!» — двери не раздвигались. Потом вспыхнула надпись: «В зоне отдыха отмечены колебания температуры. Выходить не рекомендуется». «Не рекомендуется» — на здешнем языке означало: «нельзя», «строжайше запрещено».
Опять Эрик вернулся в свое жилище ни с чем. Юлия словно бы ускользала от него. И мощная информационная служба, и телесвязь, охватывающая всю планету, и его собственная энергия — все оказывалось бессильно перед стечением обстоятельств.
Кажется, он начал наконец понимать, что это означает. Нет, он не решался еще в это верить, но догадка уже обожгла его.
Все, что происходило сейчас с ним, могло означать лишь одно — где-то там, во всесильном электронном мозгу принято решение: его контакты с Юлией нежелательны.
Да, он не мог не знать: все, в чем сомневался он последнее время, что говорил Юлии, как вел себя, — все это постепенно собиралось, накапливалось, аккумулировалось там, в тайная тайных Единой Системы, в ее электронных блоках, сопоставлялось, анализировалось, проектировалось в будущее. Будто раскачивались невидимые весы, на одну чашу которых были брошены все его недостатки, разъедающие душу сомнения, непозволительные разговоры, а на другую — легли достоинства Юлии, ее молодость, ее чистота, ее неколебимая вера в Принцип Высшей Рациональности… И вот решение принято, приговор вынесен. Такие решения службами Единой Системы никогда не выносились слишком поспешно, любая ошибка, считалось, должна быть исключена. Но уж если выносились…
Эрик почувствовал, как замерло, похолодело его сердце. Но тут же, по-видимому, сработал биостимулятор, и он ощутил, что сердце опять бьется в привычном ритме.
Нет, ни ему, ни Юлии ничто не угрожало. Более того — Эрик знал, что никто никогда ни единым словом не выразит недовольства его разговорами с Юлией или его поступками, его поведением. Никто прямо не обвинит его. Это считалось бы оскорбительным для человеческого достоинства.
Нет, не произойдет ничего, что бы могло оскорбить, унизить или хотя бы обидеть его или Юлию. За это он мог быть спокоен. Но в то же время он знал: если решение действительно принято, если приговор о том, что «контакты нежелательны», уже вынесен, отныне их жизнь, его и Юлии, по неким, неведомым им законам будет складываться так, что они уже не увидятся больше никогда. Впрочем, может быть, и увидятся, если наступит такое время, когда Единая Система придет к выводу, что контакты уже не составляют ни для кого никакой опасности…
Как раз во время одной из последних встреч у них с Юлией зашел разговор именно об этом. Как будто уже предчувствовал тогда Эрик, что ждет их в недалеком будущем.
— …И здесь, и здесь, — в самом сокровенном человеческом — в любви! — мы не свободны в своем выборе! — с горькой запальчивостью говорил он. — Стоит только одному человеку потянуться к другому, ощутить, что тот, другой человек, ему дорог, как соответствующие службы Единой уже начинают перетряхивать твое прошлое, твою наследственность, анализировать генную и психологическую совместимость или же несовместимость, начинают вычислять, подсчитывать, сопоставлять! И от их, только от их конечного слова зависит твоя судьба! Ну разве это не насилие?
— Да отчего же насилие? — отвечала ему Юлия со своей обычной спокойно-терпеливой рассудительностью. — У нас нет насилия. Просто жизнь у этих людей так сложится, что им придется расстаться друг с другом. В силу объективных причин. Только и всего. А разве раньше было по-другому? В те давние времена на Земле, о которых ты так любишь вспоминать? Разве тогда сплошь и рядом не бывало так, что любящим приходилось расставаться из-за слепого случая, нелепого недоразумения, из-за дурных характеров, родительских запретов, да мало ли еще из-за чего! Но это еще полбеды. А сколько людей сходились, кажется, лишь для того, чтобы потом мучить друг друга, причинять друг другу страдания, слезы, калечить друг другу жизнь, плодить детей, которые, еще не родившись, уже становились несчастными… Это и есть, по-твоему, свобода выбора?..
— Ты нарисовала слишком мрачную картину, — сказал Эрик. — Человечество всю свою историю пробивалось из мрака невежества, злобы, насилия к разуму, доброте, свету! И вот теперь, когда мы так далеко шагнули вперед, когда именно разум стал нашим богом и нашим знаменем, нас принуждают повиноваться чужой воле, словно маленьких несмышленых детей!
— Разум. Ты сам сказал: «разум». Но не слепое чувство. И вся Единая Система — это ведь тоже порождение нашего разума. В ней — частица каждого из нас: и тех, кто живет теперь, и наших предшественников. Это н а ш, о б щ и й, а потому — высший разум. Так что вовсе не чужой воле мы подчиняемся, ты напрасно произносишь такие слова. Их больно слышать.
— И все-таки, если два любящих человека не могут соединиться, чем это оправдать, чем?
— Единой виднее. Она знает то, чего не знаем мы, — наше будущее. Она отвечает за нашу судьбу. За будущее каждого из нас в отдельности и за будущее всех вместе.
— Но понимает ли она, что тем самым причиняет людям страдания? — Впервые Эрик вдруг поймал себя на том, что думает об Единой Системе как о живом существе. Всесильном и враждебном. И сам испугался этой своей мысли.
Юлия усмехнулась и пожала плечами.
— Думаю, что понимает. Все наши эмоции зафиксированы в ее центрах. Но видишь ли, Эрик, — продолжала она все с той же терпеливой рассудительностью, — страдания от неразделенной, неудовлетворенной любви возвышают, облагораживают, придают человеку творческую энергию. Страдания же от любви распадающейся, неудавшейся, убиваемой своими же руками, любви, постепенно превращающейся в ненависть, а то и в отвращение друг к другу, такие страдания озлобляют, ожесточают душу человека. Так что, согласись, в тех решениях, которые принимает Единая, есть мудрость.
Вот такой разговор состоялся тогда между ними, и теперь Эрик слово в слово восстанавливал его, повторял, заново вслушивался в каждую интонацию Юлии, в каждый оттенок ее голоса. Да, тогда же она еще сказала ему:
— Мы не можем полагаться на слепой случай, мы не можем допустить, чтобы на Рузе родился хоть один — пусть один-единственный! — ребенок, обреченный на несчастье. Со всем можно смириться, одного только нельзя ни оправдать, ни оплатить ничем — страданий ребенка…
Что ж, в этих словах была правда. Юлии нельзя было отказать в логике. И в тот момент он не нашелся, что возразить ей. А сама она? Что бы сказала она теперь, когда воля Единой коснулась их собственной судьбы? Какие чувства она сейчас испытывает? Отчаяние? Боль? Горечь? Или она уже готова смириться, признать правоту Единой?
И все же, как ни отчаивался Эрик, как ни тосковал, говоря себе, что Юлия для него потеряна навсегда, в глубине души у него продолжала таиться надежда. Разве не может оказаться так, что их встречи, их контакты сочтены нежелательными только на время предполетной подготовки Юлии? Чтобы дать ей сосредоточиться, собраться, отбросить все, что не имеет отношения к предстоящей работе в космосе? Подобная версия казалась ему вполне правдоподобной. Значит, нужно только запастись терпением, дождаться возвращения Юлии, и тогда все пойдет по-старому. Чем дольше он думал об этом, тем тверже начинал верить, что так оно и будет. Надо только дождаться. Только дождаться…
О том, что подготовка к полету вступила в последнюю — предстартовую фазу, что вся экспедиция в составе трех человек уже находится в зоне шлюзования, готовясь перейти в шахту, где экспедицию ждет космический корабль, Эрик узнал из сообщений Информационной Службы. С этого момента для него уже не существовало ничего, кроме ожидания новых сообщений.
Однако Информационная Служба молчала.
По расчетам Эрика, экспедиция уже должна была стартовать, но по каналам телесвязи по-прежнему не поступало никаких сведений. Эрик терялся в догадках.
Юлия сказала, что экспедиция продлится недолго. Но что значит — недолго? Три дня? Неделю? Месяц?
Никогда еще в своей жизни не испытывал Эрик такого волнения. Надежда в его душе сменялась неуверенностью, а неуверенность надеждой. Самые последние дни ожидания, самые последние часы — наиболее тяжкие, наиболее невыносимые. Раньше он только читал и слышал об этом, теперь он убедился в этой истине сам, на собственном опыте. Он старался ничем не выдавать своего волнения, чтобы не привлекать излишнего внимания Электронной Службы Психического Здоровья. Хотя — какое там не привлекать! «Вы можете обмануть окружающих, вы можете обмануть своих близких, вы можете, наконец, обмануть самого себя, но вы не обманете приборы» — так еще в юности не раз говорил ему Старший Наставник. И все-таки Эрик дал себе слово, что если все будет хорошо и им опять удастся встретиться с Юлией, он больше не будет распинаться в своих сомнениях, станет вести себя так, как полагается человеку, исповедующему Принцип Высшей Рациональности. Да и действительно, о каких сомнениях может идти речь, если он снова увидит Юлию!
По-прежнему с тревогой и волнением ждал Эрик сообщений Информационной Службы. Чем объяснить упорное молчание каналов связи? Что происходит сейчас там, в открытом космосе? Что?
И наконец — экстренный выпуск. Едва Эрик различил эти слова, едва услышал голос диктора, увидел на экране его лицо, он сразу понял: что-то произошло, что-то случилось.
Сводка была краткой: во время предстартовой подготовки в зоне шлюзования произошла авария. Наблюдается утечка кислорода. В порядке аварийной самозащиты перекрыты, заблокированы все подходы к зоне шлюзования. Положение экспедиции критическое. Роботы, несущие службу в зоне шлюзования, неуправляемы. Ситуация осложняется тем, что в секторах, примыкающих к зоне шлюзования, резко повысилось содержание углекислоты, температура значительно превышает норму, возрастает опасность радиоактивного заражения атмосферы. Электронная Аварийная Служба приступила к разработке спасательных операций.
Некоторое время Эрик сидел ошеломленный. Юлия! Что с Юлией? Жива она? Может быть, ранена? Без сознания? Нуждается в помощи? Нет, он не хотел верить, что она обречена на гибель, что бы там ни передавали сводки. Она должна вернуться. И он, Эрик, сделает все, чтобы она вернулась. Жажда действовать, и действовать немедленно, охватила его. Он чувствовал себя сильным и решительным, как никогда прежде.
По экстренному каналу связи Эрик соединился с Центром Аварийной Службы:
— Инженер высшего класса готов в качестве добровольца немедленно принять участие в спасательных операциях. Степень опасности не пугает.
— Вас понял, — прозвучало в ответ. — Вас понял. Заношу в карточку учета добровольцев. Ваш номер 57, повторяю: ваш номер 57. — Голос явно принадлежал роботу. — Сообщаю: в данный момент возможность приближения к зоне шлюзования ввиду крайней опасности для жизни категорически исключена.
— Но я готов! Понимаете? Готов!
— Вас понял, — повторил робот все тем же механически размеренным, бесстрастным тоном. — Ваш номер — 57. Сообщаю: в данный момент возможность приближения к зоне шлюзования ввиду крайней опасности для жизни категорически исключена.
Не оставалось ничего другого, как выключить связь.
Итак, номер 57. Значит, до него уже нашлось пятьдесят шесть человек, пожелавших быть добровольцами. Интересно, как это истолковывается с точки зрения Принципа Высшей Рациональности? Во всяком случае, то обстоятельство, что он не одинок, что есть еще люди, которые так же, как и он, думают сейчас, переживают, тревожатся за судьбу экспедиции, за судьбу Юлии, снова придало сил и надежды Эрику.
Прошло еще несколько долгих часов, прежде чем Служба Информации передала новую сводку. Запуск автоматической спасательной капсулы в зону шлюзования потерпел неудачу. В настоящее время предпринимаются новые попытки спасательных операций. Обстановка в зоне шлюзования продолжает ухудшаться. Содержание кислорода в атмосфере падает. Связь с терпящими бедствие прервана.
Вот только теперь Эрика охватил настоящий страх. До сих пор уверенность в счастливом исходе спасательных операций не покидала его. А теперь… Теперь он был вынужден сидеть здесь, в безопасности, бессильный чем-либо помочь Юлии. Каждая минута промедления грозила ей гибелью. Ему казалось: он физически ощущал, как она задыхается там, в зоне шлюзования. Если это действительно случится, если она погибнет, он никогда не простит себе своего теперешнего бездействия.
Ну что ж, он знал, что должен сделать. Он решился.
Только один человек мог помочь ему сейчас. Член Высшего Совета Рузы, бывший Старший Наставник Эрика. Одного его слова будет достаточно, чтобы перед Эриком открылись все двери. Он поймет, он не может не понять. Ни разу за все время с тех пор, как они расстались, Эрик ничем не напоминал этому человеку о себе. И вот теперь момент наступил — только он, он один, может помочь спасти Юлию.
Эрик знал, что попасть в Высший Совет, попасть к тем, кто фактически управляет Рузой, непросто. И все-таки он верил: стоит ему назвать свое имя, и бывший Наставник вспомнит его и не пожалеет каких-то пяти минут, чтобы выслушать.
Эрик не ошибся. Член Высшего Совета действительно принял его почти сразу, как только Эрик сказал, кто он. Вслед за роботом-провожатым Эрик прошел мимо мерцающих сигнальными лампочками электронных блоков, мимо роботов, над чем-то старательно трудившихся, минул длинный коридор, поднялся наверх в кабине скоростного лифта и наконец оказался в зимнем саду, как две капли воды похожем на тот, где они встречались с Юлией. И хотя Эрик не был суеверен, это совпадение показалось ему хорошим предзнаменованием. Здесь, сидя в легком кресле, и ждал его бывший Старший Наставник. Он сильно состарился, лицо его, некогда волевое, с жестким очертанием рта, как-то словно бы усохло, увяло, и глаза, казалось, утратили свой прежний синий цвет, стали водянисто-голубыми.
— Мне уже сообщили, зачем ты пришел, — сказал Член Высшего Совета Рузы тихим, почти беззвучным голосом, — И чтобы не терять времени, скажу сразу: я ничем не в силах помочь тебе. Возможность приближения к зоне шлюзования ввиду крайней опасности для жизни категорически исключена.
Он точь-в-точь повторил слова робота, даже почти с той же механически бесстрастной интонацией, и это неприятно поразило Эрика.
— Но почему? — сказал он. — Я же готов. Меня не страшит опасность. Там же люди гибнут! Поверьте мне — я смогу! Я сумею!
— Смогу… сумею… — повторил Член Высшего Совета Рузы по-прежнему почти беззвучно, так что Эрику приходилось напрягать слух, чтобы различить произносимые им слова. — Это легко сказать. Но вся беда, дорогой Эрик, в том, что у каждого из нас есть предел возможностей, предел человеческих возможностей… Если угодно, я могу вычислить его с точностью до одной тысячной. Да он уже вычислен. Это цифры. Это не эмоции, Эрик, это точный расчет. Так что если тебе говорят: «категорически исключено», значит, для этого есть основания.
— Но я прошу вас, — сказал Эрик. — Разве не может быть исключений? Особых, из ряда вон выходящих случаев? Чрезвычайных обстоятельств? Вот как сейчас. Ведь еще древние говорили: исключение лишь подтверждает правила.
Старик покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Это неправда. Это было их заблуждение. Исключение никогда не подтверждает правил. Исключение разрушает правила. Вот почему мы не допускаем исключений. Никаких исключений.
— Но на наших с вами глазах гибнут люди! Да сделайте же хоть что-нибудь! Пошлите если не меня, то кого-нибудь другого, но пошлите!
— А какой в этом смысл, Эрик? Разве разумно, если вместо трех человек погибнут шесть? Разумно?
— Разумно! Неразумно! Вы все здесь прячетесь за этими словами! Я не знаю, что разумно и что неразумно, но я знаю: бывают ситуации, когда лучше пожертвовать собой, чем…
— Пожертвовать собой? — переспросил старик. — Принести себя в жертву ради другого человека? Но что значат эти слова? Разве одна жизнь может быть менее ценной, чем другая? И разве тот, ради кого была бы принесена столь ужасная жертва, кто — вольно или невольно — принял бы эту жертву, смог бы, сознавая это, прожить хоть минуту? Я не представляю себе такого. Принцип Высшей Рациональности не может допустить ничего подобного.
Эрик почувствовал, как он увязает в беседе с этим стариком, словно он пришел сюда ради того, чтобы неспешно пофилософствовать, а не ради спасения людей.
— Я последний раз прошу вас, — сказал он. — Я не могу уйти ни с чем. Не могу. — Отчаяние зазвучало в его голосе.
Старик долго молчал, полуприкрыв глаза. Потом произнес:
— Ну хорошо, я скажу. Я скажу тебе правду. Даже если бы я хотел пойти на уступку, допустить, как ты говоришь, исключение — это уже не в моих силах. Наивно было бы думать, будто я или кто-либо еще из Высшего Совета Рузы распоряжается Единой, будто достаточно одного моего слова… Нет, Эрик, нет. Процесс зашел слишком далеко, он теперь уже неуправляем, он развивается помимо нас, никто не в силах изменить его. Единая Электронная Система, этот электронный мозг Рузы, существует самостоятельно и независимо от нас. В определенном смысле мы все — ее пленники. И в этом наше счастье и наше спасение. Иначе нам было бы просто не выжить. Конечно, некогда Единая была порождением разума и рук человеческих, но с тех пор утекло слишком много времени, и она давно уже вышла из-под нашего контроля, давно уже не повинуется нам. Возможно, мы в свое время не заметили грань, которую нельзя было переходить, возможно… Но теперь уже поздно говорить об этом. У нас просто не было другого выхода. Иначе нам было бы не выжить…
— Выжить… — задумчиво повторил Эрик. — Но разве это единственная цель? И не слишком ли большую плату мы заплатили за это право — выжить?
Старик ничего не ответил, и Эрик встал.
— Ну что ж, — сказал он. — Тогда я сам. Сам.
Старик приоткрыл глаза и посмотрел на него пристальным, словно бы запоминающим взглядом водянисто-голубых глаз.
— Эрик, не делай этого, — сказал он. — Ты погибнешь. Слышишь меня? Ты погибнешь, Эрик.
Но Эрик уже не слышал его. В отчаянии, в тревоге, в бессильной ярости уходил он прочь. Решение уже созрело в его мозгу. Он не остановится ни перед чем. Все равно: если погибнет Юлия, лучше не жить и ему.
Сначала на скоростной капсуле, потом по стремительно бегущим ленточным тротуарам переходов, через зону отдыха, снова по переходам неуклонно, почти не разбирая дороги, двигался он к зоне шлюзования. И странное дело — створки перекрытий раздвигались перед ним, стоило ему лишь нажать кнопку, распахивались двери, никто не препятствовал ему. Словно бы не было уже никого, кто мог бы противиться сейчас его воле, сфокусированной, как луч лазера, на одной точке, на одной-единственной цели. Или, может быть, та мощная вспышка эмоциональной энергии, которую испытал он, сбила с толку, привела на какое-то время в растерянность его вечных электронных опекунов? Впрочем, ему сейчас было не до того, чтобы ломать голову над подобными странностями.
Впереди, возле наглухо задраенных перекрытий, уже вспыхивала грозная надпись: «Смертельно! Смертельно!» — и, периодически включаясь, предостерегающе выла сирена.
До сих пор Эриком владело одно стремление: пробиться в зону шлюзования, к Юлии. Как он поступит дальше, каким образом сумеет помочь Юлии и ее товарищам, Эрик представлял себе не очень ясно. Вся надежда была на то, что, если ему удастся попасть в зону бедствия, дальше за дело возьмутся роботы-спасатели. Ну а если этот расчет не оправдается, тогда он, по крайней мере, до конца будет возле Юлии.
Эрик не ошибся: возле перекрытий копошились роботы-спасатели. Один из них предупреждающе поднял руку:
— Смертельно опасно! Смертельно опасно!
Но Эрик сказал резко и решительно:
— Слушать меня! Всем слушать меня!
Он едва успел натянуть защитный костюм индивидуального пользования, с которым не расставался с тех пор, как впервые услышал о катастрофе, и тут же створки перекрытия медленно раздвинулись. Вместе с роботами-спасателями Эрик оказался словно бы в тамбуре. Перекрытия за их спинами снова сошлись, и тогда только начали открываться следующие двери. Они еще не открылись полностью, а Эрик уже даже сквозь защитный костюм почувствовал дыхание раскаленного воздуха. Впереди неспешно клубился пар.
Эрик шагнул вперед, и роботы послушно двинулись за ним. Все, что происходило потом, Эрик помнил обрывочно, разорванно.
Клубы пара, воющая сирена, темная вода под ногами…
Потом в его памяти вставала уже другая картина: робот-спасатель орудует лазерным резаком, вскрывая переборки, ведущие в зону шлюзования…
Следующее, что он помнил, — лицо Юлии, едва различимое за защитным скафандром… Или нет? Или это было уже после, когда они выбрались из зоны бедствия?..
Дальше — провал, темнота. Пахло гарью, и сладкая, вязкая слюна подступала к горлу…
Очнулся он уже в больничной палате. Возле него дежурил робот-санитар. Всякий раз, когда Эрик открывал глаза, робот заботливо склонялся к нему, поправлял одеяло, подавал воду. Эрик впадал в забытье, снова приходил в себя и опять видел возле постели все того же робота-санитара. Но однажды он открыл глаза, и вдруг из-за спины робота выплыло лицо Юлии. Эрик прикрыл веки, он был уверен, что это мираж, больное воображение. Потом снова взглянул туда, где сидел робот. Робота не было. На его месте сидела Юлия.
— Наконец-то… — сказал он. — Наконец-то…
Она смотрела на него своим озабоченным, словно пытающимся что-то разгадать взглядом.
— Эрик… — сказала она, беря его за руку. — Эрик… Я так счастлива, что ты… что с тобой… не случилось ничего страшного… Ты знаешь, они ведь были уверены, что ты обрекаешь себя на гибель, что ты не можешь не погибнуть. Теперь они говорят: это необъяснимо, это невозможно, это какое-то чудо… По всем расчетам, по всем данным ты должен был погибнуть… Эрик…
— Ничего, мы еще поживем, — сказал он, слабо улыбаясь.
Юлия осторожно гладила его руку. Было тихо, только откуда-то из больничного коридора доносился приглушенный голос диктора:
— Передаем сообщение Главной Информационной Службы Единой Системы. В соответствии с программой, разработанной Электронным Центром по изучению человеческой психики, на Рузе в течение последнего времени проводился эксперимент под девизом «Предел человеческих возможностей». Эксперимент прошел успешно и предоставил в распоряжение Электронного Центра богатый фактический материал, который в данный момент тщательно систематизируется и изучается. Об окончательных результатах эксперимента будет сообщено в дальнейшем…
— Эксперимент… — потрясенно прошептал Эрик. — Так, значит, это был всего лишь эксперимент…
— Неправда! — отозвалась Юлия. — Неправда! Не верь им, Эрик, не верь! Слышишь? Не верь!
По ее лицу текли слезы.
ПОВЕСТИ
БЫЛ ЛИ ТЫ СЧАСТЛИВ?
1
Зимой 1955 года Новиков несколько неожиданно для себя стал солдатом. Неожиданно — потому что к тому времени он уже успел окончить педагогический институт и устроиться на работу в городскую газету. В военкомат его вызывали несколько раз, но ничего определенного ему не говорили, словно и сами там, в военкомате, колебались, не знали, что с ним делать. А время между тем шло, и Новикову вот-вот уже предстояло переступить грань призывного возраста. Постепенно Новиков, который первые месяцы после окончания института жил в ожидании призыва, успокоился, придя к выводу, что армия, вероятно, успешно обойдется и без него.
Тут-то он и получил повестку.
— Ну вот и до вас очередь дошла, вот и вы понадобились, — сказал Новикову капитан в военкомате, причем в его голосе слышалась многозначительность, словно бы намекавшая на распоряжения свыше.
И Новикову хотелось верить, что так оно и было. Служба в армии не пугала его: он был в том возрасте, когда перемены в жизни не страшат, не огорчают, а лишь веселят и бодрят душу. Ему хотелось верить, что о нем вдруг вспомнили вовсе не случайно, а оттого лишь, что кому-то где-то понадобился именно он, Новиков, с его высшим образованием, с его знаниями, способностями и пусть еще малым, но все же жизненным опытом, и что призывают его, дабы он занял некое пустующее сейчас, но предназначенное именно для него место, какую-то крохотную ячейку в том гигантском организме, который именуется армией.
Так или примерно так думал Новиков, отправляясь в армию.
Эти его предположения, а точнее сказать — ощущения, казалось, подтверждались и тем, что путь к своей новой армейской жизни Новикову предстояло проделать не в воинском эшелоне, а в обычном пассажирском поезде «Москва — Владивосток», и тем, что ехали они небольшой, словно бы избранной, группой — человек сорок, сопровождаемые старшим лейтенантом, а также той таинственностью, которой окружил этот старлей все, что касалось их будущего места службы, — даже названия станции, где должно было закончиться их путешествие, они не знали до самого последнего момента.
Но именно здесь, в этом поезде, случилось маленькое, на первый взгляд совершенно незначительное происшествие, которое тем не менее надолго оставило след в душе Новикова.
На второй или третий день пути в вагоне впервые появился ревизор. Билетов у призывников, естественно, не было — билет, выписанный на всех сразу, одновременно, хранился у старшего лейтенанта. Ревизору же надо было лишь сверить цифру, указанную в билете, с числом едущих призывников, отличив их каким-то образом от остальных пассажиров. Ревизор о чем-то тихо посовещался со старшим лейтенантом, тот согласно кивнул и скомандовал:
— Всем снять шапки!
Большинство призывников даже в вагоне предпочитало не снимать шапок — то ли стыдились они своих наголо остриженных голов, то ли мерзли с непривычки. Теперь же их руки послушно потянулись к шапкам. А ревизор шел вдоль вагона, взгляд его скользил по обритым головам, и губы шевелились, ведя счет: «Один, два… четырнадцать… двадцать семь… тридцать…»
Все так же сосредоточенно шевеля губами, он прошел мимо Новикова, взглядом своим словно поставив метку на его остриженной голове.
И Новиков, сам не понимая отчего, вдруг сжался под этим взглядом. Странное чувство — точно он проваливается куда-то, где нет ни имен, ни фамилий, ни различий лиц, характеров, желаний, а есть лишь один-единственный общий признак — наголо остриженная голова, — охватило его. Такой пустяк, такая мелочь — взгляд другого человека, безразлично скользнувший по твоей остриженной голове, а вот поди ж ты… сколько еще времени, даже во сне, будет преследовать Новикова это ощущение собственной безликости…
Ревизор бесцеремонно поколебал, подверг сомнению и без того хрупкую надежду на его, Новикова, особое положение, на его избранность, его отличие от остальных. Для ревизора он был одним из сорока — только и всего. Одним из сотни — или из тысячи? — будет он завтра. Оттого, наверно, так и задел Новикова этот маленький эпизод, что за ним, казалось, уже угадывалось все то, что ожидало Новикова завтра.
Сразу же, тогда же в вагоне, Новиков попытался отряхнуться, избавиться от этого чувства, и ему почти удалось это. Он забрался на свою верхнюю полку и лежал там, бездумно глядя в окно на заснеженные поля. Внизу, весело галдя, его спутники, такие же гологоловые, как и он, шумно забивали козла. Сначала, в первый день, они зазывали и Новикова присоединиться к их компании, но Новиков уклонился, и его больше не звали. Новикова оставили в покое, словно признав за ним право вести себя не так, как все. И он сам тщательно оберегал это свое право.
Пусть стучат костяшками домино, пусть азартно ругаются из-за «рыбы», пусть дымят дешевыми папиросами и сплевывают прямо под ноги, на пол, — у Новикова было такое состояние, будто вся эта жизнь идет помимо него, не касается его, он лишь наблюдает за ней со стороны.
Волею обстоятельств он едет сейчас в одном вагоне с этими людьми, а завтра: «Рядовой Новиков, шаг вперед!» — или как это там делается? — и он уйдет прочь, провожаемый их удивленными и как бы заново оценивающими взглядами…
Отправляясь в армию, Новиков взял с собой толстую общую тетрадь, дав себе слово непременно вести дневник, каждый день описывать все, что будет происходить на его глазах. Но пока эта тетрадь мирно покоилась на дне чемодана, ни одной строчки не появилось еще на ее страницах — не мог Новиков заставить себя взяться за перо, какая-то апатия владела им — может, оттого, что впервые ему не нужно было принимать никаких решений, все решалось за него, и Новиков словно затаился весь до поры до времени в ожидании той новой жизни, которая маячила впереди.
Неизвестность и томила и притягивала его.
Наверно, потом когда-нибудь и этот вагон с его табачным дымом и отчаянным доминошным стуком, затихавшим лишь далеко за полночь, еще вернется к нему — вернется, оживет в памяти, чтобы лечь на бумагу, а пока…
Стоял ослепительно белый зимний день, когда они выгрузились на маленькой станции и, прошагав километра полтора-два по поселковой улице, оказались наконец в расположении воинской части.
Железные ворота с красными звездами посередине неторопливо и бесшумно раздвинулись и вновь так же неторопливо и бесшумно закрылись за ними.
Здесь, в военном городке, шла своя, размеренная, четко отрегулированная жизнь: солдаты в новеньких, свежих, словно похрустывающих на морозе бушлатах попарно маршировали на плацу, сверкающий снег скрипел под их сапогами, дежурный с красной повязкой сосредоточенно пробежал куда-то, две крытые машины проехали к КПП, и на фоне этой отлаженной жизни их группа — маленькая кучка людей в затрапезных гражданских пальто и ношеных ватниках, со старенькими чемоданами и, наверно, еще отцовскими солдатскими сидорами — выглядела сиротливо и странно, казалась лишней, ненужной, случайно занесенной сюда бог знает каким ветром. Казалось, затеряйся они в пути, попади по ошибке в другую часть, и никто здесь не заметил бы этой потери.
Так, во всяком случае, представлялось Новикову.
Они остановились перед двухэтажным деревянным зданием штаба. Старший лейтенант скрылся в этом здании и долго не появлялся. Призывники перешучивались, толкали друг друга, у кого-то отняли шапку и теперь передавали ее от одного к другому за спинами, хохотали. «Как школьники, — думал Новиков, — в точности как школьники…»
Наконец на крыльце штаба появился высокий подполковник, а вместе с ним старший лейтенант и сержант. Старший лейтенант был тот самый, который сопровождал их группу, но теперь выражение лица его настолько изменилось, что в первое мгновение Новиков не узнал его. Как будто в штаб вошел один человек, а вышел совсем другой. На его лице уже не было больше того выражения значительности и многообещающей таинственности, которое он хранил всю долгую дорогу. Нет, теперь это было открытое, простецкое лицо совсем еще молодого человека, довольного тем, что он завершил, с честью выполнил возложенную на него нелегкую миссию. Он еще стоял перед их полустроем-полутолпой, но уже был далеко от своих недавних подопечных, они уже больше не занимали его — радость предстоящего возвращения домой была написана на его лице. Он оставлял их, а сам спешил отбыть обратно, в тот город, который и для Новикова еще так недавно был домом…
И это новое его лицо яснее даже, чем слова, произнесенные подполковником: «Поздравляю, товарищи, с прибытием в нашу часть!» — заставило Новикова почувствовать, что вот и обрывается последняя нить, еще соединявшая его с прежней жизнью, с тем городом, откуда он уехал, вот и обрывается последняя нить между независимым и уверенным в себе Новиковым, который впервые переступил порог военкомата, и тем новобранцем в потертом гражданском пальто, который сейчас в строю таких же, как и он, призывников внимательно слушал речь подполковника…
2
Новикова определили в учебную роту шоферов-электромехаников.
Почему шоферов? Почему электромехаников? Новиков не знал, не мог ответить.
Сюда же, в эту же роту, попали и все остальные его попутчики, вся их команда.
Впрочем, время от времени кто-нибудь из новичков, прибывших вместе с Новиковым, исчезал из казармы, расставался с ротой. Сначала ушел парень, который, как выяснилось, работал на «гражданке» поваром в ресторане, в том самом ресторане, куда и Новиков нередко забегал поужинать после редакционного дня. Затем какой-то старшина-сверхсрочник увел портного, потом кому-то понадобился музыкант, потом — «человек, умеющий чертить», и такой тоже нашелся среди них…
Новиков ждал, что вот-вот вспомнят и о нем, придут, позовут, прикажут…
Но о нем не вспоминали.
А пока он вместе со всеми в семь утра по команде дневальных срывался с койки. Для дневальных, истомившихся за долгую ночь от тишины, от полудремы, от противоборства со сном, для них та минута, когда они наконец могли прокричать «Па-а-адъем!», была долгожданной и, наверно, радостной — во всяком случае в эту команду они вкладывали всю силу своих легких, всю мощь своих голосов. Новиков же, срываясь с койки, был одержим лишь одной мыслью: успеть, успеть, не оказаться последним! «Последнего отсекаю!» — не менее радостно, чем дневальные, возвещал, стоя у выхода, старшина. И лишь когда, грохоча сапогами, натягивая на бегу прямо на нижнюю рубаху ватный бушлат, Новиков вместе со всеми проносился мимо старшины, он наконец мог вздохнуть с некоторым облегчением.
Но впереди его еще ждал утренний марш-бросок, и снова грозная опасность отстать нависала над ним, а дальше — умыться, почистить сапоги, пришить подворотничок, заправить койку — успеть, успеть, успеть! Казалось, только эта мысль и преследовала Новикова. Он уже не раз оказывался в числе отставших, неуспевших, опоздавших и хорошо знал, что это не сулит ничего приятного.
Но однажды посреди этой гонки он вдруг словно приостановился, огляделся и…
И решил, что, пока не поздно, надо действовать самому. Пойти поговорить с командиром батальона — вот что он должен сделать. Потом уже, прослужив некоторое время в армии, Новиков понял, насколько наивным и противоречащим уставному порядку было это его решение. Но тогда он вполне мог отправиться и к самому полковнику, командиру части, а если выбрал комбата, то лишь потому, что тот был самым высшим из доступных ему, то есть находящихся здесь же, в казарме, начальников.
Он улучил минуту, когда командир батальона оставался один в своем маленьком кабинете, и, не очень смело постучавшись, вошел.
Майор Ерошин сидел за столом и просматривал какие-то бумаги. На столе перед ним стоял чернильный прибор, рассчитанный на две стеклянные чернильницы, одна из которых, впрочем, отсутствовала, и лежал очечник с наполовину выглядывающими из него очками.
До сих пор Новиков видел майора несколько раз, в основном на общебатальонных построениях, и тогда, издали, этот человек, перед которым по команде «смирно» замирал батальон, казался Новикову суровым и властным, каким, наверно, и должен быть настоящий военачальник.
Да и рассказов о его дотошной придирчивости, о его требовательности и непреклонности он уже успел наслушаться немало. Однажды Новикову случайно пришлось стать свидетелем того, как занимался майор Ерошин физподготовкой с офицерами батальона. Тогда старшина послал Новикова в спортзал передать ротному срочную записку. Стоя в дверях спортзала, Новиков видел, как майор Ерошин уже в пятый или шестой раз заставлял какого-то лейтенанта делать одно и то же упражнение на турнике. С точки зрения Новикова, лейтенант делал это упражнение вполне прилично, но майору, видно, что-то не нравилось, и он приказывал лейтенанту снова подойти к снаряду. Майка на лейтенанте уже взмокла, волосы спутались и прилипли ко лбу, но он послушно вновь принимался за злосчастное упражнение. Под конец, наверно потеряв терпение, майор вдруг подошел к турнику и сам решил проделать то, что не удавалось лейтенанту. Да, тут было на что посмотреть! Его тело легко и мощно взлетело над перекладиной — казалось, он выполняет упражнение играючи, без всяких усилий…
Новиков так и не решился тогда сунуться со старшинской запиской в зал и терпеливо дожидался окончания занятий — почему-то он был уверен, что ни офицеры, ни сам комбат не простили бы ему этого вторжения…
А сейчас, за обыкновенным канцелярским письменным столом, рядом с этим очечником, с чернильницей, густо заляпанной фиолетовыми пятнами, неторопливо просматривающий бумаги, майор Ерошин вдруг показался Новикову очень похожим на директора школы, где он когда-то учился, Ивана Евграфовича. Тот тоже, благодаря крупным, даже грубоватым чертам лица, выглядел всегда строгим, суровым, а на самом деле был добродушным, покладистым человеком. Внешне майор Ерошин и Иван Евграфович вроде даже и не были схожи, но в то же время в их лицах угадывалось нечто общее, словно эти два разных лица вылепил один художник. Майор Ерошин был без фуражки, и в глаза Новикову бросились широкие залысины, идущие ото лба.
Майор Ерошин оторвался от бумаг и вопросительно взглянул на Новикова.
— Разрешите обратиться, товарищ майор? — довольно бойко выговорил Новиков.
Может быть, эта бойкость не понравилась комбату, а может быть, просто солдатская выправка Новикова оставляла желать лучшего, только майор слегка поморщился. Но сказал, впрочем, весьма дружелюбно:
— Обращайтесь, уж раз обратились. Я вас слушаю.
Новиков покосился на стул. Ему казалось, что сидя он мог бы изложить свою просьбу гораздо убедительнее, увереннее, чем вот так — стоя перед майором. Но майор то ли не заметил этого его взгляда, то ли не захотел предложить сесть.
— Дело в том, что… — начал Новиков, внезапно смутившись и чувствуя, что даже краснеет, что было уж совсем некстати. — Моя фамилия Новиков… У меня высшее образование… Я подумал… Видите ли, товарищ майор, перед призывом я работал в газете, в редакции…
Майор слушал его молча, не перебивая, на лице его ничего не отражалось. И слова Новикова о редакции, о газете, казалось, скользнули мимо этого человека.
В общем-то, идя сюда, Новиков вовсе не надеялся на какую-то моментальную перемену в своей судьбе. Да и были ли у комбата такие права, чтобы, даже если бы он захотел, что-то существенно переменить для Новикова? Нет, Новиков на это и не рассчитывал. И шел он к майору, если говорить откровенно, лишь с одной целью: как-то, хотя бы таким путем напомнить о себе, заявить о своем существовании, проверить, убедиться, что зачисление его сюда, в эту воинскую часть или, по крайней мере, в эту роту, не было какой-то ошибкой.
— Я и подумал, нельзя ли… — продолжал Новиков, окончательно сбитый с толку молчанием майора. Он ждал какого-то знака удивления, одобрения или хотя бы проявления заинтересованности — как-никак, а солдат с высшим образованием был еще великой редкостью. — Я подумал, нельзя ли использовать меня… ну, более целесообразно, что ли…
Пока Новиков бормотал свои объяснения, командир батальона смотрел вниз, теперь же, когда Новиков наконец умолк, майор медленно поднял на него глаза.
— Товарищ Новиков, — твердо и даже с долей торжественности произнес он, — Родина требует, чтобы вы стали шофером-электромехаником.
— Слушаюсь, — растерянно отозвался Новиков. — Разрешите идти?
— Идите, — сказал майор.
И Новиков, почти ошеломленный краткостью этого разговора, который мысленно, когда он направлялся сюда, рисовался ему совсем иным, вернулся обратно в свою роту.
…Постепенно он начал привыкать к новой своей жизни.
Первое время их взвод в основном использовали на хозяйственных работах: то посылали пилить и колоть дрова, то разгружать вагоны с углем, то расчищать снег на стрельбище, и Новикову, не привыкшему к физическому труду, приходилось тяжелее других. Раньше он никогда не считал себя слабым и спортом в институте занимался немало и с удовольствием, но здесь, в армии, в солдатской жизни, видно, нужна была какая-то иная сила — сила выносливости. Ее-то и не хватало Новикову. Выдыхался он быстрее других. Когда их назначали пилить дрова или таскать уголь на носилках, его избегали брать напарником. Впрочем, иногда, ему казалось, он замечал и какую-то трогательную, с примесью грубоватости заботу о себе: если была такая возможность, сами же солдаты старались устроить так, чтобы ему досталась работа полегче: «Ладно, ладно, иди, учитель, все равно, что с тебя толку». Это задевало самолюбие Новикова, но все же у него не хватало сил отказаться от подобных поблажек.
Прозвище «учитель» уже прочно закрепилось за ним. Новиков даже слышал, как один солдат рассказывал не без гордости своему земляку из другой роты: «Знаешь, а у нас даже один учитель есть!» Мало кто знал, что он работал в газете, да и вообще работа в газете для большинства этих людей представлялась делом гораздо более туманным, далеким и малопонятным, чем учительство. Для многих этих парней, большинство из которых с трудом одолевало школьную науку, кто еще так недавно сидел за партой, получал двойки и выслушивал нотации учителей, было особенно удивительным, что вдруг именно учитель оказался в равном с ними положении, в одной казарме, за одним солдатским столом…
И вот когда Новиков стал уже привыкать к своим товарищам по взводу, по роте, когда стал уже подумывать, что, возможно, это как раз и неплохо, что его станут учить на шофера — глядишь, здесь, в армии, он научится водить машину, получит права, потом, на «гражданке», ему, журналисту, это всегда пригодится, — когда Новиков уже не желал изменений в своей судьбе, его вдруг вызвал к себе майор Ерошин.
Командир батальона, когда Новиков предстал перед ним, окинул его приветливым взглядом и сообщил, что по приказанию начальства Новиков переводится в роту радиомехаников.
— Там нужны люди с более высоким образованием, — добавил майор.
Новиков замялся. Нет, менять свою роту на соседнюю роту радиомехаников у него не было никакого желания.
— Товарищ майор, — проговорил он, — я бы хотел остаться в своей роте… Я уже привык, да и ко мне привыкли… И потом, говоря откровенно, профессия шофера мне может очень пригодиться в гражданской жизни… Я, если помните, после окончания института работал в редакции…
Новикову почудилось, что в этот раз комбат смотрит на него как-то по-особому: то ли с легким удивлением, то ли с заинтересованностью, причем к этому удивлению явно примешивалась и теплота. Лишь потом, позже, Новиков сообразил, что так обычно смотрят на маленьких детей, когда те рассказывают взрослым о своих ребячьих проблемах.
— Товарищ Новиков, в армии не выбирают, — сказал майор, и голос его прозвучал так же серьезно и твердо, как и в прошлый раз. — Родина требует, чтобы вы стали радиомехаником. Все.
Новиков вспыхнул.
— Что ж, — медленно проговорил он, — если у Родины так быстро меняются требования ко мне, я готов.
По крайней мере этим своим ответом он мог гордиться.
Но майор, казалось, не понял или пропустил мимо ушей его иронию.
— Вот и прекрасно, — сказал он. — Можете идти.
Новиков повернулся и вышел. Единственное, что его утешало, — он не растерялся с ответом. Когда-нибудь он расскажет эту историю своим друзьям на «гражданке» — вот все посмеются!
Но сейчас ему было не до смеха. Новиков относился к тем людям, кто очень болезненно переживает любой отказ, даже самый незначительный. В душе он ругал комбата, да и себя за то, что сунулся снова с просьбой — вот уж поистине мало было одного урока!
В этот момент он и не предполагал, что судьба вскоре, и не раз еще, сведет его, Новикова, с майором Ерошиным, причем довольно-таки неожиданным образом.
3
Прошло два месяца, и в один прекрасный день Новиков вдруг обнаружил, что в полку есть библиотека. Если говорить точнее, солдатам еще в самые первые дни объявляли, что при клубе имеется библиотека и что все желающие могут туда записаться, но разве до книг было тогда Новикову? Какое уж там чтение, какие там толстые журналы, когда времени, чтобы написать письмо матери, у него и то не оставалось. Он так уставал, что, если и выпадала свободная минута, предпочитал посидеть просто так, ничего не делая, на табуретке возле своей койки. В такие минуты он отключался, задумывался, уходил в прошлую гражданскую свою жизнь. То чувство, которое он впервые испытал в вагоне поезда под взглядом ревизора, чувство собственной потерянности, чувство безликости, снова овладевало им.
Почему он именно здесь? Зачем?
«Ладно, учитель, не грусти, — говорил ему в такие минуты его сосед по койке, бурят с забавным именем Цырен-базар. — Лучше пойдем, мне мамаша посылку прислала, угощу тебя…»
Прозвище «учитель» перекочевало за Новиковым и в роту радиомехаников.
Иногда Новиков думал: один ли он так долго, так медленно втягивается в эту жизнь, только ли для него это такой трудный процесс?..
В детстве одно время Новиков очень увлекся химией, у него даже была маленькая собственная лаборатория — набор колб, пробирок, разного рода резиновых трубок, спиртовок, химических реактивов. Мальчишкой он любил, слив вместе два раствора, наблюдать, как в колбе вдруг начинается какая-то новая таинственная жизнь, как за тонкими стеклянными стенками внезапно возникает движение: в прозрачной жидкости вдруг вырастают хлопья, все бурлит вокруг них, они колеблются, то опускаясь ко дну, то вновь поднимаясь, и неожиданно на дне колбы появляется первый крошечный кристалл, затем второй, третий… они множатся, разрастаются…
Теперь, когда Новиков присматривался к жизни своего взвода, она, эта жизнь, в первые недели напоминала ему картину, виденную в детстве за стенками колбы. Это только казалось, что каждый день на утреннем ли осмотре, на вечерней ли поверке перед помкомвзвода сержантом Козыревым предстают одни и те же тридцать человек Соединенные в один коллектив, эти люди, никогда прежде не знавшие друг друга, теперь, словно различные вещества за стенками колбы, притирались друг к другу, отталкивались друг от друга или притягивались один к другому, проявлялись характеры, — все было в движении…
Новикову нравился Цырен-базар с его мягкостью, с его расположенностью ко всем и неизменным дружелюбием, которые не оставляли его даже утром, после подъема, когда обычно легче всего вспыхивали ссоры между солдатами — из-за пропавшей щетки, из-за места возле умывальника, из-за других подобных мелочей. Даже в такие минуты Цырен-базар умел сохранять невозмутимость.
Ближе других, казалось бы, должен был быть Новикову Ростовский — его ровесник, призванный, так же как и Новиков, значительно позже своего срока, работавший до призыва в театральных мастерских. Но что-то мешало Новикову сойтись с этим человеком: то ли отталкивало его высокомерие, то ли не нравилась готовность судить обо всем с пренебрежительной усмешкой человека, имевшего доступ туда, куда не допускались другие. А может быть, в этом случае просто действовал закон одноименных полюсов: между ними было слишком много общего.
С тех пор как начались учебные занятия, как пошла электротехника, радиотехника и прочие премудрости, положение и роль самого Новикова во взводе заметно изменились. Он быстро обогнал многих, к нему обращались за помощью и советом, и у начальства он теперь был на неплохом счету.
Вот, пожалуй, тогда-то он и обнаружил вдруг в первый раз, что у него есть и время и желание сходить в библиотеку.
В воскресенье, как и положено, он отпросился у сержанта Козырева на полчаса и пошел в клуб.
В небольшом помещении библиотеки было пусто и тихо, лишь библиотекарша, круглолицая женщина средних лет в коричневом шерстяном платке, наброшенном на плечи, сидела за столиком с формулярами да из-за книжных полок, из глубины комнаты доносились чьи-то шаги: кто-то бродил там, вероятно выбирая книгу.
Библиотекарша заполнила карточку на Новикова, бросив на него быстрый заинтересованный взгляд, когда он упомянул о своем высшем образовании, и пошла за однотомником Джека Лондона, который попросил Новиков. Почему-то Новикова именно здесь, в армии, вдруг потянуло непременно перечитать «Мартина Идена». У него было такое ощущение, будто сейчас этот роман в чем-то существенном может помочь ему.
Библиотекарша долго не появлялась.
Потом Новиков услышал, как там, в глубине комнаты, зашептались, кто-то тихо засмеялся.
— Да подойди сама и спроси! — Шепот стал громче, и теперь Новиков мог разобрать слова. — Чего ты боишься? Не съест же он тебя!
— Я и не боюсь! — так же шепотом сердито отвечал девичий голос. — Вот еще!
За те два с лишним месяца, что провел Новиков в армии, ему ни разу не приходилось встречаться с девушками, даже видеть их вблизи не случалось — сама возможность их существования здесь, в военном городке, казалась ему сомнительной, маловероятной, и оттого сейчас, услышав этот девичий голос, догадавшись к тому же, что говорят о нем, Новиков внезапно заволновался. Смущение и растерянность охватили его.
— Вот упрямая! Вся в отца! — услышал он, и библиотекарша появилась из-за книжных стеллажей одна.
— Дочка это моя, — пояснила она Новикову. — Десятый класс в этом году кончает, в педагогический мечтает поступать. Как услышала, что вы педагогический кончали, так и пристала ко мне: расспроси да расспроси!.. Она у меня ведь ничего, кроме военных городков, не видела. Мы с мужем всю жизнь кочуем, и она с нами. Среди солдат выросла, другой жизни, можно сказать, и не знает. Конечно, со свежим человеком насчет института поговорить ей интересно. Так вот, застеснялась…
Новиков пробормотал в ответ что-то невнятное, не очень вразумительное, что должно было означать: он, мол, всегда с удовольствием ответит на любой вопрос. Мысль о том, что девушка, не видимая там, за книжными полками, слышит каждое их слово, прислушивается к разговору, вызывала у него чувство скованности и неловкости.
— Вообще, она у нас бойкая. Особенно там, где не надо, — продолжала библиотекарша. — Еще в третьем классе, помню, училась, под стол еще, можно сказать, пешком ходила, а уже, бывало, приставала к отцу, чтобы в тир взял, — хочу стрелять, и все! А отец и рад. И что вы думаете — сейчас уже не хуже отца стреляет, честное слово, я не преувеличиваю. Так теперь у нее новая фантазия — с парашютом прыгать!..
Новиков опять пробормотал нечто невнятное.
В душе он ругал себя за эту невнятность, за эти невразумительные реплики, — нечего сказать, хорошенькое, наверно, впечатление составится о нем у девушки! — но по-прежнему испытывал растерянность и смущение, и ничего значительного, интересного, что бы он сейчас должен был произнести, просто не приходило в голову.
Он надеялся, что девушке в конце концов надоест молчать и таиться за книжными полками и она появится, выйдет сюда, но, видно, и впрямь у нее был упорный характер. Так и не удалось Новикову увидеть ее. Он даже подумал: может быть, там, в глубине комнаты, есть еще один выход — девушка просто-напросто уже ушла, и он совершенно напрасно воображает, будто она сейчас ловит каждое его слово.
Новиков вышел из библиотеки, унося под мышкой «Мартина Идена» и кляня себя за ненаходчивость, несообразительность, — другой бы на его месте не растерялся и наверняка нашел способ заставить девушку хотя бы выглянуть из своего укрытия.
Это несостоявшееся знакомство, несовершившаяся встреча задела, растревожила его душу. Может, покажись эта девчонка, она бы разочаровала его или оставила равнодушным, но теперь в ее облике ему рисовалось нечто загадочно-таинственное, своенравное и гордое. Воображение Новикова работало вовсю. Только усилием воли он заставлял себя не оглядываться на окна библиотеки.
«Да и что я для нее, для этой девочки? — говорил себе Новиков. — Солдат, каких здесь тысячи, которые вечно маячат у нее перед глазами… Да еще, к тому же, не блещущий выправкой, в плохо подогнанной шинели… Что я ей?..»
Он словно видел сейчас со стороны свою высокую, худую, сутуловатую фигуру в серой длинной шинели, в солдатской шапке-ушанке, в больших солдатских рукавицах, похожих на клешни, — разве что усмешку могла вызвать эта фигура…
Навстречу Новикову бежал солдат-посыльный из штаба.
— Послушай, Ерошина там? — спросил он.
— Кто?
— Ну, Ерошина, библиотекарша.
— Там, — сказал Новиков.
«Так вот оно что! — подумал он. — Вот, значит, кого имела в виду эта женщина, когда говорила: „Упрямая, вся в отца!“»
Дочь майора Ерошина, комбата…
Хотя, конечно, если рассудить здраво, ни в том, что жена командира батальона работает в библиотеке, ни в том, что комбат имеет взрослую дочь, не было ничего удивительного, Новикова это открытие поразило. И теперь, когда он уже знал, кто была эта девчонка, так и не пожелавшая выйти к нему, интерес к ней стал еще острее, еще сильней.
Всю неделю он с нетерпением ждал следующего воскресенья, чтобы опять отправиться в библиотеку. Но надежды его не оправдались: на этот раз в библиотеку набилось много солдат, целая очередь выстроилась менять книги — дочери же Ерошина нигде не было… Да и с чего это он решил, что она каждое воскресенье проводит с матерью в библиотеке?.. Он так уверил себя, будто непременно встретит ее здесь, что теперь чувствовал себя едва ли не обманутым…
4
В середине февраля неожиданно нагрянула оттепель. Снег подтаял, повсюду блестели лужи, дороги развезло, и по вечерам в казарме стоял тяжелый дух от просыхающих сапог и портянок.
В один из таких дней взвод, где служил Новиков, вышел в поле на тактические занятия.
Занятия проводил взводный, лейтенант Шереметьев. Немногим больше года назад он окончил радиотехническое училище и любил называть себя «технарем», любил повторять не без некоторого щегольства: «Мы — технари». Лекции по радиотехнике и материальной части он читал легко и свободно, изящно вычерчивая на доске схемы колебательных контуров, обратной связи или генераторов высокой частоты. Зато, как казалось Новикову, к предметам, подобным строевой подготовке, лейтенант Шереметьев относился без особой любви, во всяком случае старался эти занятия при первой возможности передоверить сержантам.
От военного городка до места, где обычно проводились занятия по тактической подготовке, было километра три, и взвод прошагал их бодро, с песней. Светило солнце, было тепло, из-под сапог разлетались брызги талого снега.
Но вот лейтенант остановил взвод, и солдаты увидели поле, по которому им сегодня предстояло ходить в наступление, бегать и ползать. Накануне здесь, вероятно, занимались мотострелки, машины перепахали снег, изрезали его глубокими колеями, и теперь поле представляло собой сплошное месиво талого снега. Там же, где снег оставался нетронутым, поверх него уже выступила вода, разлилась небольшими лужицами, слепяще сверкала на солнце.
— Ну что, орлы, приуныли? — громко спросил лейтенант. Он улыбался, и маленькие аккуратные усики весело топорщились у него над верхней губой.
— Да мы-то что, мы привычные, — бойко отвечал рядовой Головня, давно уже числившийся главным остряком во взводе, — а вот казенных шинелей жалко… Да и лекарства тоже казенные…
— Зачем же так мрачно смотреть на жизнь? — все с той же веселой усмешкой отозвался лейтенант, но было видно, что он и сам слегка озадачен создавшимся положением. Наверно, он сочувствовал солдатам и потому не очень торопился начинать практическую часть занятий.
Он подробно рассказал, что требуют от взвода, ведущего наступление, и от отдельного солдата соответствующие пункты уставов и наставлений, потом, уже несколько отвлекаясь от темы, припомнил, как преподавалась тактика у них в училище, припомнил две-три забавные истории, — чувствовалось, что вспоминать годы, прошедшие в училище, вспоминать своих товарищей и преподавателей ему приятно и радостно; постепенно он увлекался все больше, и у солдат уже появилась надежда, что на этот раз их шинели так и останутся сухими, но тут с левого фланга кто-то тихо предупредил:
— Товарищ лейтенант, комбат…
И правда, по дороге в сопровождении ротного шел командир батальона майор Ерошин. Они были уже совсем близко, и лейтенант Шереметьев, сразу подтянувшись, напружинившись, высоким, срывающимся голосом крикнул:
— Взво-о-од! Смир-р-рна! Равнение нале-е-ево!
Звучно припечатывая подметки сапог к талому снегу, резко подбросив руку к шапке, он двинулся навстречу начальству.
Майор Ерошин хмуро выслушал его доклад, так же хмуро оглядел строй, затем кивком головы отозвал лейтенанта в сторону. Это был плохой признак. Скорее всего лейтенанта ждал суровый разнос.
Говорили они недолго, вернее, говорил один Ерошин, а лейтенант стоял перед ним, вытянувшись по стойке «смирно», и слушал. Лишь один раз он, видно, попытался что-то возразить или объяснить, даже махнул рукой в сторону поля, но комбат перебил его, и лейтенант опять вытянулся и замолчал.
Ко взводу лейтенант Шереметьев вернулся злой, в его глазах застыло выражение ожесточенной обиды — он взглянул на солдат так, словно это они были виноваты во всем случившемся.
Он еще раз коротко повторил то, что объяснял с самого начала, а потом развернул взвод в цепь, и солдаты двинулись вперед короткими перебежками.
Новиков бежал вместе со всеми. Его сапоги проваливались в снежное месиво, полы шинели тяжело хлопали по голенищам, ноги скользили и разъезжались.
— Ложись! — слышал он голос лейтенанта. — Ложись!
Но он еще кружился некоторое время, стараясь выбрать место посуше, не решаясь бухнуться в мокрый снег.
— Ложись!
Наконец он упал и лежал, чувствуя, как набухает влагой шинельное сукно.
Потом вместе со всеми он вскочил снова, и снова бежал, и снова падал, думая лишь о том, чтобы уберечь от грязи и снега свой автомат.
— Отставить! — раздалась команда. — Взвод, строиться!
Солдаты снова выстроились на дороге, на исходном рубеже. Кто ворчал, кто отпускал шуточки; все оглядывали друг друга, утирали грязные лица.
Когда взвод был построен, перед строем появился комбат.
— Слабо, — сказал он. — Очень слабо. Никуда не годится. В наступлении что важно? Быстрота. Стремительность. Неожиданность. А у вас что получается? Вот вы, например, рядовой… — И комбат указал на Новикова.
— Рядовой Новиков.
Что за удивительная способность была у Новикова — всегда выделяться, всегда бросаться в глаза начальству! Почему взгляд командира непременно задерживался на нем, почему у начальства обязательно возникало желание сделать замечание, прочесть нотацию именно ему, Новикову, а не кому-нибудь другому? Или и правда он был не такой, как все, и это сразу угадывалось?..
— А, старый знакомый, — сказал комбат. — Разве так, Новиков, ходят в наступление? Вы, прежде чем лечь после перебежки, крутитесь, как курица, когда она выбирает, где бы снестись…
Солдаты засмеялись.
Новиков молчал. Злость и обида разбирали его оттого, что он должен был молча выслушивать эти шутки, оттого, что этот человек выставлял его перед всеми в смешном виде.
— Или еще такой момент. Вы падаете и лежите себе неподвижно, а неприятель — он уже засек, где вы легли, он уже вас на мушку взял, только и ждет, когда вы опять подниметесь. Нет, на фронте так бы дело не пошло, на фронте вас в два счета перестреляли бы… Значит, что надо? Лег и сразу отползай в сторону. Ясно?
— Товарищ майор, по такой слякоти не очень-то поползаешь, — сказал Ростовский.
— Сырости испугались? Сапоги запачкать боитесь? Да вы же солдаты! Солдаты!
— Солдаты, между прочим, также болеют воспалением легких, — опять сказал Ростовский.
— Ошибаетесь, — твердо произнес майор Ерошин. — Ошибаетесь. Вот, например, на фронте…
— Товарищ майор, — вдруг подал голос рядовой Головня, — а вы на фронте были?
Возможно, он спрашивал из чистого любопытства, а возможно, надеялся таким образом навести комбата на какие-нибудь фронтовые воспоминания и протянуть время.
Но майор так резко повернулся к Головне, что тот даже вздрогнул.
— Кто? — спросил Ерошин. — Кто задал этот вопрос?
— Я, товарищ майор, — испуганно ответил Головня. — Рядовой Головня.
— Так вот, рядовой Головня, — отчетливо проговорил майор, — отвечаю на ваш вопрос. На фронте я не был. Ясно? Еще вопросы есть?
— Никак нет, товарищ майор.
Майор Ерошин обернулся к лейтенанту:
— Продолжайте занятия.
Он остался стоять на дороге, заложив руки за спину, широко расставив ноги в хромовых сапогах, словно покрепче уперевшись ими в землю, и наблюдал за тем, как солдаты снова разворачивались в цепь, как бежали, разбрызгивая грязный снег, как падали и ползли вперед…
В казарму солдаты вернулись измотанные, в пропотевших насквозь гимнастерках, в мокрых, грязных шинелях. В курилке в этот день только и было разговоров, что о тактических занятиях, о лейтенанте, о майоре Ерошине…
— Лейтенант — он хотел с нами по-человечески…
— Ясное дело, сам недавно курсантом был, понимает…
— Как будто что случилось бы, если бы в другой раз поползали…
— Еще наползаемся с таким комбатом!
— Это точно!
— Главное, еще про фронт толкует. Да под пулями любой голову спрячет, без всяких команд!
— А Головня ловко его поддел насчет фронта. Заметили, как он сразу вскинулся?
— Нет, а все же вот так если подумать: зачем это нужно — ползать по слякоти? Сейчас даже пехота уже своим ходом почти не ходит, все на машинах, а мы — радиомеханики…
— Что нужно, а что не нужно, теперь за тебя начальство решает, понял?
— Смотрите, парни, а учитель наш уже мемуары строчит!
— Эй, учитель, про курицу не забудь написать, слышишь?
Но Новиков не отзывался на их шутки. Он и правда писал.
5
Пожалуй, ничто так не подвергает человека испытанию, проверке, как данная ему власть, — особенно, как мне кажется, власть малая. Потому что именно малая власть — чаще всего самая прямая, самая непосредственная. Хорошо, если человек умеет смотреть на данную ему власть как на свою обязанность, как на необходимую сторону своей работы, куда хуже, если власть над другим человеком начинает доставлять ему наслаждение, удовольствие.
Я впервые стал задумываться об этом именно здесь, в армии, потому что, пожалуй, нигде больше не существует власти в столь чистом виде, как в армии.
Как, по каким законам возникают отношения между командиром и подчиненными — любовь, уважение или, наоборот, неприятие, взаимная отчужденность, вынужденное повиновение? Так ли все здесь просто и очевидно, как может показаться на первый взгляд?
Отчего, например, мы не любим командира третьего отделения сержанта Попова? Он не сделал нам ровным счетом ничего плохого и стремится всегда лишь к одному — быть объективным.
Во имя этой объективности он ставит в своем сержантском блокноте птички против фамилий подчиненных: появился в казарме в нечищеных сапогах — птичка, не сменил вовремя подворотничок — еще одна птичка, опоздал к построению — третья птичка. А три птички — это уже наряд вне очереди. Все очень ясно и просто. Каждый солдат по степени своей вины может сам определить и степень наказания.
Иное дело — сержант Козырев, помощник командира взвода и командир первого отделения. Тот может и вспылить, и за какой-нибудь сущий пустяк всыпать сразу парочку нарядов, а может просто лишь пошутить, сказать что-нибудь вроде: «Ну что, Иванов, на тещу надеешься? Думаешь, теща тебе подворотничок постирает?» Он не переносит, когда его обманывают, буквально приходит в бешенство, смуглое лицо его белеет, от ярости он даже начинает заикаться — тут уж шутки с ним плохи.
Вообще, есть в нем что-то азиатское — узкие глаза, иссиня-черные волосы, широкие скулы. Форма на нем всегда сидит отлично, шинель подогнана точно по фигуре, и наушники у шапки он не опускает даже в самый лютый мороз и нас тоже старается приучить к этому.
По складу своего характера ему бы, пожалуй, больше подобало служить в разведке или в десантных войсках, а не в учебном радиотехническом подразделении, где большую часть времени солдаты проводят в классах за изучением схем…
К тому обстоятельству, что я — учитель, преподаватель, с высшим образованием — попал под начало к нему, имеющему за плечами всего восемь классов, он относится, как мне кажется, с веселым удивлением, во всяком случае, никогда не старается нарочно подчеркнуть свою власть. У него развито чувство собственного достоинства, он требует уважения к себе и потому — я думаю — умеет уважать других.
Но вот однажды Козырев покинул нас, уехал в короткую командировку, и тогда его место во взводе занял сержант Попов. У него было девичье лицо, круглое и румяное — как говорится, кровь с молоком. Кроме всего прочего, он оказался еще и поэтом — в свободное время сочинял стихи и записывал их в тот же блокнот, где ставил птички против наших фамилий. Почему-то мне это показалось особенно обидным — не мог он, что ли, завести для стихов отдельную тетрадку? И наверно, не мне одному. Потому что, когда в один прекрасный день он забыл свой блокнот в Ленинской комнате, кто-то из солдат намазал страницы клеем так, что разлепить их потом было абсолютно невозможно. Попов сделал вид, что ничего не произошло, и на другое утро появился перед строем с новым блокнотом, как две капли воды похожим на своего предшественника.
Попов никогда не повышал голоса, не кричал на нас, называл только на «вы», как того требует устав, и оставался внешне спокойным, даже если выяснялось, что его обманули. В таких случаях он выводил виновника из строя и ровным голосом объяснял, что обманывать нехорошо, что это не к лицу советскому солдату, что армия просто не сможет существовать, если подчиненные начнут обманывать своих командиров…
Обычно он говорил долго, и мы слушали, переминаясь с ноги на ногу, терпеливо ожидая, когда Попов закончит речь и провинившийся солдат вернется в строй.
Мы чувствовали, что в глубине души Попов — человек мягкий, нерешительный, и многие из нас старались этим воспользоваться. Иной раз кто-нибудь из солдат, назначенных мыть пол, подходил к Попову и начинал говорить жалобным, ноющим голосом:
— Товарищ сержант, почему опять я? Меня сержант Козырев уже три раза подряд назначал. И снова я? Разве это справедливо?
— А вы разве не знаете, что приказы не обсуждаются? — отвечал Попов. — Нравится не нравится, а должны выполнять, и все. Ясно?
— А если у меня рука болит?
— Что же, вы и на войне тоже жаловаться будете?
— Так то на войне…
— А какая разница? В уставе что написано?..
И так далее, еще долго — в том же духе.
Козырев в таком случае сказал бы просто: «Разговоры отставить!» — и все, и никаких гвоздей. А Попов так не мог — он пускался в длинные объяснения, ему хотелось убедить, уговорить солдата, чтобы у того даже мысли в голове не осталось, будто с ним поступили несправедливо.
И все-таки дела в нашем взводе без Козырева шли неважно. Особенно ясно это чувствовалось во время строевых занятий. Я давно уже заметил: когда во взводе хорошее настроение, когда солдаты любят своего командира, стоит только подать команду: «Взво-од!» — и сразу солдаты дают такой строевой шаг, что только земля дрожит. А если нет этого — тут уж ничего не поделаешь, как ни старайся, потому что внутренняя слаженность, приподнятость зависят не от каждого в отдельности, а ото всех разом — это какое-то особое состояние, что-то вроде вдохновения, что ли.
И вот когда Попов протяжно командовал: «Взво-од!» — мы не то чтобы шагали вразнобой, не то чтобы нарочно сбивали ногу, нет, мы, как и полагается, переходили на строевой шаг, но получалось у нас это как-то вяло, без огонька…
Конечно, Попов не мог не чувствовать, что отношения со взводом у него не клеятся. Все чаще он ходил по казарме какой-то задумчивый и подолгу смотрел на нас, словно пытался разгадать мучившую его загадку…
Но однажды в субботу он появился непривычно оживленный и веселый. Мы даже удивились сначала: с чего бы это? А потом узнали: оказывается, Попов получил вызов на междугородный телефонный разговор. Конечно, мы узнали об этом не от Попова, а от ротного почтальона — он сам вручил сержанту извещение. Ясное дело, на месте Попова любой из нас развеселился бы. В этой глуши, за тысячи километров от родных мест, вдруг поговорить по телефону с домом, услышать родной голос, услышать слова, сказанные сейчас, сию минуту, — это совсем не то, что прочесть письмо, написанное несколько дней назад. И мы отлично понимали Попова и посматривали на него с завистью, когда он, напевая что-то себе под нос, надраивал бляху ремня — готовился идти в увольнение. И в этот момент в казарме вдруг появился командир батальона майор Ерошин. Он велел старшине построить два взвода — первый и наш — и объявил, что сегодня все увольнения отменяются: на станцию прибыли вагоны с оборудованием и необходимо их срочно разгрузить.
Мы видели, как изменилось лицо Попова. Ему надо было тут же, не теряя времени, объяснить майору, в чем дело, почему он должен обязательно пойти в увольнение, и он даже шагнул было к командиру, но тут вдруг заметил, как пристально следим за ним мы все. Он заколебался, глядя то на нас, то на майора. Сколько раз он внушал нам, что любое приказание командира должно выполняться безоговорочно, что солдат должен быть готов к любым лишениям!
— Вам что-то непонятно, сержант Попов? — недовольно спросил командир батальона.
— Никак нет, — ответил Попов, — все понятно.
— Тогда выполняйте.
— Слушаюсь.
Но он все еще медлил, все еще колебался…
А комбат уже направился к выходу из казармы. И снова мы видели, как Попов нерешительно двинулся вслед за ним, потом опять посмотрел на нас и остановился.
— Переодеться всем в рабочее обмундирование! — сказал он. — Быстро!
…Он работал вместе с нами, вместе с нами таскал тяжелые зеленые ящики, хотя обычно сержанты не участвовали в разгрузке, а лишь наблюдали за работой. Видно, просто ему хотелось отвлечься от своих мыслей. Но все-таки, чем больше близилось время к вечеру, тем беспокойнее, суетливее он становился, тем чаще поглядывал то на часы, то в сторону поселка, где находилась почта. И наконец Цырен-базар не выдержал:
— Товарищ сержант, да что вы зря маетесь? Сходите к командиру роты — отпустят же вас!
Попов густо покраснел.
— Разве я спрашивал у вас совета?
— Никак нет, не спрашивали.
— Ну вот, работайте и молчите.
Сегодня он был грубее, чем обычно.
Больше мы к нему не обращались.
Мы закончили разгрузку уже перед самым отбоем и, когда вернулись в казарму, сразу легли спать.
А на другой день с утра, еще до завтрака, был строевой тренаж.
Попов вывел нас на строевой плац перед казармой. Он был, как всегда, подтянут, гладко выбрит, сапоги сверкали. Но на румяном его лице появилось какое-то особое выражение — выражение суровой и в то же время горделивой печали. Наверно, такое выражение и должно быть у человека, который принес в жертву личное во имя долга. Впрочем, держался он подчеркнуто буднично, словно ничего не произошло. И все-таки, когда он скомандовал: «Взво-од! Шагом марш!» — команда эта прозвучала торжественнее, чем обычно, словно нам предстояло промаршировать по меньшей мере перед командиром полка.
Мы тронулись с места.
— Не слышу! — закричал Попов. — Строевого не слышу! Взво-од, смир-рна! Равнение напра-во!
Мы перешли на строевой.
— Выше ногу! Выше ногу! Раз, два! Раз, два! Левой! — командовал Попов.
Нет, ничего не получалось. Мы шагали так себе, на четверочку с минусом, пожалуй, не лучше и не хуже, чем раньше, но, видно, сегодня Попов ждал от нас большего. Он мучился с нами полчаса. Он подводил взвод к казарме и разворачивал снова. Он бегал вдоль строя, стараясь определить, кто из нас ленится. Он предупредил, что не распустит взвод до тех пор, пока мы не пройдем как следует. Он останавливал нас и начинал объяснять, что ногу надо ставить на полную ступню — словно мы сами этого не знали, — и даже показывал, как это делается…
— Воспитание личным примером… — насмешливо и негромко произнес Головня.
Но Попов услышал. У него был хороший слух.
— Разговоры! — строго сказал он и достал свой блокнот. — Товарищи, разговоры в строю — это очень грубое нарушение дисциплины. Сами подумайте, что будет, если все начнут разговаривать в строю?..
Мы слушали с тоскливым безразличием.
Уже наступило время завтрака, а мы все маршировали по плацу. И, чем дольше бился с нами Попов, тем хуже у нас получалось. Он устал, и мы тоже устали, были раздражены и с завистью поглядывали на солдат, направляющихся в столовую…
И в этот момент мы вдруг услышали резкий, немного гортанный знакомый голос:
— Это что еще за инвалидная команда? Не узнаю второй взвод!
Мы оглянулись и увидели сержанта Козырева. Он стоял у входа на плац с чемоданчиком в руках и улыбался.
— Взво-од! — протяжно и весело скомандовал он.
И тут… Тут мы дали такой строевой шаг, так дружно, слитно, слаженно грохнули сапогами о промерзшую землю, что даже мурашки пробежали по спинам от восторга и удивления. Вот как мы, оказывается, можем!
Продолжая улыбаться, сержант Козырев шагал рядом с нами. Попов шел за ним, и горестное недоумение было написано на его лице. В конце концов, разве не заслуживал он нашего уважения и привязанности куда больше, чем Козырев?
Я пишу о наших сержантах, а сам думаю о комбате, о майоре Ерошине.
Что он за человек, наш комбат?
Сегодня я своими глазами убедился в том, что рассказы, которыми нас пугали в первые дни «старички», о его придирчивости, о его требовательности, граничащей едва ли не с жестокостью, не так уж далеки от истины.
Неужели его не заботит, как мы, солдаты, относимся к нему, что о нем думаем?
Обыкновенный солдафон, недалекий и педантичный служака? Или командир, твердо знающий, чего хочет?..
Собственно, я и за тетрадь сегодня взялся, чтобы написать о комбате, но вот странно — что-то останавливает меня, что-то мешает вынести о нем окончательное суждение…
6
Фантазии, которые одолевали Новикова после первого его посещения библиотеки, казалось, совсем уже развеялись. В библиотеку он по-прежнему заходил исправно, каждое воскресенье, если только не был в наряде или в карауле, но дочь майора Ерошина так больше там и не появлялась. Правда, не раз ему чудилось, будто жена Ерошина, Татьяна Степановна, хочет спросить его о чем-то, но не решается, колеблется. Однако он уверял себя, что это лишь его воображение, не больше, и разговоры их обычно ограничивались предстоящей читательской конференцией да мнением Новикова о прочитанных книгах…
Но как-то, когда, уже подобрав книгу, Новиков собирался уходить, Татьяна Степановна остановила его.
— Вы знаете, Витя, — впервые называя его по имени, заговорила она, и смущение и в то же время решимость звучали в ее голосе, — я давно уже хотела с вами поговорить, только не знаю, удобно ли это…
Она замолчала.
— Ну отчего же неудобно, Татьяна Степановна? Я слушаю, — сказал Новиков, чувствуя, как волнение, однажды уже испытанное им здесь, в библиотеке, снова охватывает его.
— Я уже говорила вам в прошлый раз, что Надежда наша собирается в педагогический…
И это имя — Надежда — сразу словно эхом отдалось и зазвучало, повторяясь, в голове Новикова.
— …но ей здесь, по сути дела, не с кем посоветоваться, проверить себя, свои знания… А я, знаете, Витя, ужасно боюсь за нее: она у меня очень гордый человечек — если вдруг не сдаст, не пройдет по конкурсу, это для нее будет очень тяжело. Я как подумаю об этом… мне уже сейчас больно за нее становится… Я — мать, вы поймите меня правильно. Она привыкла быть первой, учится она хорошо, и учителя ею довольны, хвалят, но — я уже говорила вам — мы ведь всю жизнь мотаемся по военным городкам, может быть, здесь и требования совсем не те, что в большом городе…
Она снова сделала паузу, внимательно вглядываясь в лицо Новикова, стараясь угадать, как он относится к ее словам.
— Да, да, я слушаю, — торопливо сказал Новиков.
— И вот я подумала… Я понимаю, конечно, мне неловко просить вас, да и времени у вас, наверно, нет, но вы тогда так и скажите прямо, не стесняйтесь… Я подумала, может быть, вы смогли бы как-нибудь зайти к нам, поговорить с Надеждой, ну, поэкзаменовать ее, что ли…
Она замолчала, молчал и Новиков. Ему хотелось тут же, немедленно сказать: «Да, да, конечно, я смогу, я приду, почему же нет», но что-то удерживало его, что-то заставляло молчать, не давало произнести эти слова, которые так и рвались с языка.
Если бы это не был дом майора Ерошина, если бы она не была дочерью комбата… А так… В качестве кого войдет он в этот дом? Солдат, тянущийся по стойке «смирно» перед ее отцом?.. Полуденщик-полурепетитор?..
— Вы не стесняйтесь, если вы не можете или вам не хочется, трудно, вы так и скажите, — повторила Татьяна Степановна.
Но Новиков уже знал, что какие бы мысли ни приходили ему сейчас в голову, что бы он там ни думал, а отказаться он уже не сумеет, не сможет. Да и почему он должен отказываться?
— Нет, что вы, мне нетрудно, — сказал он, медленно подбирая слова. — Но… я не знаю… отпустят ли меня…
Даже сейчас, перед этой женщиной, которая, конечно же, не хуже, чем Новиков, знала армейскую жизнь, ее законы и порядки, ему нелегко, почти мучительно было признаваться в этой своей зависимости, несамостоятельности.
— Ну, это уж мы как-нибудь устроим, — облегченно сказала Татьяна Степановна. — Если, например, в следующее воскресенье до обеда… вы сможете?..
— Смогу, — сказал Новиков.
Теперь уж если он и жалел о чем-то, так лишь о том, что придется ждать целую неделю.
— Вы даже не представляете, как я вам благодарна, — сказала Татьяна Степановна. Она хотела добавить еще что-то, но тут в библиотеку, громко стуча сапогами, ввалились сразу шестеро солдат, и она только кивнула Новикову на прощанье.
Пока Новиков шел от библиотеки до казармы, он успел мысленно повторить весь разговор с женой Ерошина. И теперь, когда он остался один, сомнения опять начали одолевать его.
А что, если это только мамина идея, а сама Надя совсем не склонна принимать какую-либо помощь с его стороны? Не пожелала же она в прошлый раз разговаривать с ним…
Или у нее так быстро меняется настроение?.. «Она у меня — гордый человечек» — так, кажется, сказала Татьяна Степановна. И столько нежности прозвучало тогда в ее голосе, что, казалось, нежность эта невольно передалась и Новикову…
Но не глупо ли чувствовать себя едва ли не влюбленным, когда он даже ни разу не видел эту девушку?
От мысли, что она может оказаться совсем не такой, какой он представлял ее в своем воображении, Новиков испытывал такое чувство, словно над ним нависала угроза вдруг разочароваться в близком человеке…
И знает ли майор Ерошин об этом приглашении? А если не знает, то как отнесется к нему? Что скажет? Впрочем, что ему, Новикову, ломать над этим голову — пусть уж жена Ерошина сама разбирается со своим мужем. В конце концов, Новиков не напрашивался к ним в гости.
Так размышлял Новиков, шагая к казарме. Но в глубине его души, несмотря на все сомнения и колебания, уже возникло праздничное, ликующее чувство, ожидание предстоящей встречи, и оно, это ожидание, волновало, тревожило и радовало его…
В следующее воскресенье в одиннадцать часов утра Новиков уже стоял возле небольшого одноэтажного коттеджа, в котором жили Ерошины. Раньше ему доводилось быть в офицерском городке лишь один раз, когда их взвод присылали сюда расчищать дорогу после снежного заноса. Теперь же он явился в начищенных до блеска сапогах, тщательно выбрившись и пришив свежий, еще ни разу не стиранный подворотничок. Еще накануне, в субботу, сержант Козырев сказал ему:
— Завтра с утра пойдете к майору Ерошину, ясно?
— Так точно, — сказал Новиков. — Ясно.
— Смотрите, только приведите себя в порядок, — предупредил Козырев, — а то с комбатом разговор короткий. Чтобы все было по форме.
— Слушаюсь, — сказал Новиков.
Сержант помолчал, о чем-то думая, посматривая испытующе на Новикова. Потом все же не выдержал и спросил:
— Зачем это вы ему понадобились, не знаете?
— Никак нет, — сказал Новиков. — Не знаю.
Ему не хотелось, пока это было возможно, раскрывать свой секрет.
Наверно, Новикова увидели из окна коттеджа, потому что не успел он постучать, как входная дверь отворилась — на пороге стояла Татьяна Степановна.
— Проходите, Витя, проходите, — своим ласковым, певучим голосом сказала она. — Раздевайтесь.
Она подала ему небольшой веник, и Новиков сначала старательно обил снег с сапог и лишь затем снял шинель и повесил ее рядом с шинелью хозяина, которая сверкала золотыми погонами. Наверно, Новиков все-таки волновался, хотя уверял себя, что спокоен, — он дольше, чем обычно, возился с ремнем, затягивая гимнастерку. Потом мельком взглянул в зеркало, которое висело тут же, в прихожей, по старой, еще доармейской привычке провел рукой по наголо стриженной голове, словно приглаживая волосы, и наконец шагнул в комнату.
— Знакомьтесь, вот моя дочка, — сказала Татьяна Степановна, и снова нежность прозвучала в ее голосе.
Еще идя сюда, Новиков настроился увидеть девушку, стриженную под мальчика, с мальчишескими повадками — так, во всяком случае, судя по рассказам матери, рисовался Новикову ее облик.
А навстречу ему поднялась худенькая девушка с длинной черной косой, перекинутой на грудь, в коричневом школьном платье, похожая скорее на гимназистку с иллюстраций к повестям о предреволюционном времени, чем на современную девчонку, выросшую среди казарм и солдат.
Пожалуй, ее нельзя было назвать красивой. Ее рот был великоват и нарушал пропорции лица. Впрочем, уже позже, приглядевшись внимательнее, Новиков понял, почувствовал, что именно рисунок этого крупного рта с нервными, чуткими губами, готовыми то вдруг раздвинуться в улыбке, то совсем по-детски обиженно сжаться, да еще глаза, темно-карие, словно спрашивающие о чем-то тревожно, придают Надиному лицу какую-то особую притягательность.
Но об этом он подумал уже позже, а тогда, в первый момент, Надя протянула ему руку, и Новиков ощутил ее сильное пожатие. Ладошка у нее была тугая, крепкая.
Словно желая подчеркнуть, что он пришел сюда по делу и только по делу, а если говорить честно, то просто чтобы не выдать свою скованность и робость, Новиков, едва только Татьяна Степановна оставила их вдвоем, сразу заговорил об институте, о приемных экзаменах, о конкурсе и тому подобных вещах. Правда, очень скоро выяснилось, что все его сведения не блещут новизной, поскольку сам он поступал в институт уже больше пяти лет назад и с тех пор его мало заботили проблемы, волнующие абитуриентов. Он пообещал, что непременно спишется со своими друзьями, с теми, кто остался в городе, кто работает непосредственно в институте, и попросит прислать все необходимые материалы.
— Скажите, а хорошо быть студентом? — с какой-то наивной доверчивостью вдруг спросила Надя. — Знаете, мне иногда кажется, что студенты — это совсем-совсем особенные люди. И что жизнь у них какая-то совсем другая, непохожая на нашу…
— Ну почему же… — пробормотал Новиков. — Хотя, конечно, народ это веселый…
И, пытаясь перебороть смущение, он принялся рассказывать Наде, как последний год встречали они, студенты-пятикурсники, в общежитии Новый год. Договорились встречать вчетвером, только своей комнатой, холостяцкой мужской компанией, и никого больше, никаких приглашенных — что ни говори, а последний раз вместе… Заранее готовили шутливые плакаты, украшали комнату цветными флажками и фонариками… Хорошее было время, славное… А потом, уже посреди новогодней ночи, в разгар их холостяцкого празднества, один из них, Санька Белобородов, вдруг загрустил, затосковал и, как ни упрекали, как ни стыдили его товарищи по комнате, ускользнул все же…
— А вы не загрустили? — спросила Надя.
— Нет, — весело ответил Новиков. — Мне было не о ком грустить…
Они оба разом вдруг смутились, почувствовали неловкость, словно разговор коснулся запретной темы, и замолчали. И от наступившего так внезапно молчания смутились еще больше.
Чтобы заполнить эту паузу, Новиков начал разглядывать фотографии, висевшие на стенах комнаты. Фотографий было много. Они висели над диваном, на котором сейчас сидели Новиков и Надя, и над небольшим письменным столом, и над тумбочкой, на которой стоял радиоприемник. В большинстве своем это были фотографии военных — по-видимому, друзей или сослуживцев Ерошина. Два больших фотоснимка показались Новикову похожими друг на друга, словно повторенными дважды. На каждом из них в центре находился Ерошин, худой, скуластый, на погонах три… или четыре — не разобрать — звездочки, а вокруг него — кто полулежа, кто сидя, кто стоя — располагались солдаты с юными, мальчишескими лицами. Только приглядевшись, Новиков обнаружил, что эти два снимка были схожи лишь расположением людей да кирпичным зданием, которое виднелось позади, солдаты же на снимках были разные, ни одно лицо не повторялось.
— Это папа с курсантами, перед их выпуском, перед их отправкой на фронт, — сказала Надя.
Новиков невольно пристальнее всмотрелся в эти лица. О чем думали, что чувствовали эти ребята перед тем, как сесть в эшелон, идущий к фронту?.. Нет, фотографии не говорили об этом…
— А вот смотрите, это я, узнаете?
На фотографии, висевшей над письменным столом, Новиков увидел Надю на парашютной вышке. На ней был комбинезон и шлем, как на самой настоящей парашютистке. А чуть позади нее стоял рослый, широкоплечий парень, веселый чуб выбивался у него из-под шлема, парень смеялся, что-то, по-видимому, объясняя Наде, придерживая ее за плечи. Столько жизнерадостности, столько силы было в этом парне, столько энергии, что Новиков неожиданно ощутил укол завистливой ревности.
— Мама сердится, что я хочу прыгать, — пожаловалась Надя. — Говорит: посмотри на своих подруг, все девушки как девушки, а ты… А мне, знаете… я вам честно признаюсь… мне и хочется хоть в чем-то, хоть чуточку не быть похожей на всех остальных… Разве это плохо?
— Нет, отчего же, совсем неплохо, — сказал Новиков. Что-то родственное, свое, близкое услышал он сейчас в этом Надином признании.
Он только-только почувствовал себя раскованнее, свободнее, проще, только-только, кажется, начал наконец налаживаться их разговор, когда вошла Татьяна Степановна. Оказывается, время уже приблизилось к обеду. Татьяна Степановна приглашала Новикова остаться пообедать вместе с ними, но он вежливо, однако наотрез отказался. Ему трудно было представить себя сидящим за одним столом с майором Ерошиным. А кроме того, он не мог избавиться от ощущения, что обед, предложенный ему здесь, сейчас, выглядел бы чем-то вроде платы, вроде благодарности за его визит. Может быть, это было глупо, но он чувствовал именно так. Впрочем, он видел, что Татьяну Степановну искренне огорчил его отказ, и это его утешило.
Новиков заспешил, стал прощаться, обещая Наде и Татьяне Степановне, что непременно, если будет возможность, придет в следующее воскресенье, и радуясь, что сегодня ему удалось избежать встречи с хозяином дома.
Но радовался он, оказывается, рано. Едва Новиков спустился с крыльца, как увидел майора Ерошина.
Ерошин колол дрова. Несмотря на легкий мороз, он был в одной майке и синих тренировочных шароварах. Он ставил перед собой сосновую чурку, чуть щурился, примеряясь, потом коротко взмахивал топором, и чурка распадалась с послушной легкостью — так, словно уже была заранее надколота посередине. У Новикова всегда вызывали зависть и уважение люди, умеющие споро и ловко выполнять самую простую, повседневную работу. Он приостановился и сказал:
— Здравия желаю, товарищ майор!
— А-а, Новиков… — отозвался майор с усмешкой, — здравствуй, здравствуй…
Больше он ничего не добавил, и Новиков так и не понял, что означала эта усмешка: то ли одобряет он затею своей жены, то ли посмеивается над ней. Да Новикова сейчас это не очень и волновало. Совсем иные слова повторял он про себя, шагая к казарме: «…я вам честно признаюсь… я вам честно признаюсь…». Она сказала это только ему. Как будто у них с Надей вдруг появилась теперь одна общая тайна, как будто Надя выделила его среди всех остальных, иначе зачем же ей было так говорить?..
Что-то странное творилось в этот день с Новиковым. Впоследствии, значительно позже, уже вспоминая об этом времени, Новиков поражался, как он сумел так быстро, почти мгновенно, с такой безоглядностью влюбиться в эту девушку, почти девочку… Но что здесь было удивительного? Разве его душа, истосковавшаяся по теплу, нежности и участию, не была уже готова к этому? Он был влюблен в Надю, даже еще не видя ее, и теперь достаточно было ее взгляда, звука голоса, чтобы его влюбленность укрепилась и захватила все его существо. Раньше Новиков посмеивался над солдатами, которые заводили заочные знакомства и даже влюблялись тоже заочно — по переписке. Новикова изумляло то почти детское легковерие, с которым хватались солдаты за эти зыбкие, не имеющие никакого основания привязанности. Эти заочные знакомства, о которых так много говорили между собой солдаты, не вызывали у него ничего, кроме насмешливой снисходительности. Теперь же, казалось Новикову, он понимал этих солдат…
7
Мне кажется, я понял, почему до сих пор я так редко обращался к этой тетради. Не было времени? Да, конечно. Но главное все же не в этом. Мне просто некому было рассказывать, не для кого было писать — вот в чем дело. А теперь я пишу, и у меня такое ощущение, будто я говорю с Надей, будто это я ей рассказываю обо всем, что происходит со мной…
В нашем взводе случилось ЧП.
Ростовский умудрился нанять Голубева мыть пол в умывальнике — вместо себя. Голубев — тихий, малоразговорчивый, медлительный парень из Мордовии, из деревни. Солдат он старательный, дисциплинированный, работящий, вот только радиотехника дается ему с трудом. Пожалуй, он самый незаметный человек во взводе. И характер у него мягкий, беззлобный — никогда грубого слова не скажет. Его уступчивостью, сговорчивостью и воспользовался Ростовский.
Случилось это так. Оба они, Ростовский и Голубев, получили по наряду вне очереди. Ростовский — за пререкания с сержантом Козыревым, а Голубев — за то, что задремал на занятиях по радиотехнике. И отрабатывать наряды им пришлось вместе: Ростовскому предстояло драить пол в умывальнике, а Голубеву — в ротной канцелярии и раздевалке. Тут-то и предложил Ростовский своему напарнику выполнить и его часть работы — за сигареты. И Голубев согласился.
Возможно, вся эта операция осталась бы никем не замеченной, сошла бы с рук Ростовскому, если бы сержант Козырев случайно не столкнулся с ним возле солдатского ларька, где Ростовский как ни в чем не бывало покупал сигареты. Так, во всяком случае, рассказывал сам Ростовский.
— Почему уходите из казармы без разрешения? — холодно поинтересовался сержант.
— Так, товарищ сержант, сигареты кончились, и стрельнуть не у кого… Вас поискал, чтобы отпроситься, нигде не нашел… — зачастил Ростовский.
— А работу закончили?
— Так точно! — уверенно сказал Ростовский.
— Сейчас проверим.
У Ростовского вся надежда была на то, что Голубев уже расправился с умывальником, и тогда поди доказывай — кто там мыл пол. Но Голубев не зря был старательным солдатом — когда Козырев и Ростовский явились в казарму, он все еще с усердием скреб половицы.
Сержант Козырев сразу заподозрил что-то неладное, учинил Голубеву допрос, и тот в конце концов рассказал, как было дело.
Когда Козырев услышал об этом, лицо его потемнело от бешенства, черные азиатские глаза яростно сузились. Попадись ему в эту минуту под руку Ростовский, трудно сказать, что было бы. Но Ростовский успел предусмотрительно скрыться — ушел в санчасть, сославшись на внезапную зубную боль.
Через полчаса весь взвод уже знал о происшедшем.
Мы, комсомольцы, собрались в Ленинской комнате. Ростовского отыскали в санчасти и тоже доставили сюда, в Ленинскую комнату. Сначала он пытался все обратить в шутку, даже острил что-то насчет разумного распределения обязанностей — мол, от каждого по способностям, кто на что способен, тот то и делает… Он был один против всех, но его, кажется, это не угнетало, похоже, ему это даже нравилось. Он словно нарочно поддразнивал нас. Словно похвалялся перед нами своей неординарностью, своей непохожестью на остальных.
Но зато и солдаты выдали ему как следует!
Может быть, первый раз на этом комсомольском собрании я ощутил то братство, то воинское товарищество, которое связывало нас всех, которое нельзя ни предать, ни обмануть. Можно ссориться по пустякам, можно обижаться и говорить порой друг другу резкие слова, можно даже не любить друг друга, но вот наступает момент, и ты видишь, что есть нечто выше, чем личная приязнь и неприязнь, и ты ощущаешь себя вместе со всеми, нераздельно вместе, и нет ничего сильнее и чище этого чувства!
Вот что я ощущал, что чувствовал в тот день на комсомольском собрании, когда слушал, как наши ребята говорят Ростовскому, что они думают о нем…
В конце концов и Ростовский, кажется, понял, что затеял опасную игру, он изменил тон, перестал острить, а потом и вовсе замолк.
Ему вынесли строгий выговор.
Впрочем, Ростовский не очень занимал меня — тут все было понятно, все ясно как на ладони. А вот Голубев… Он-то как мог согласиться? Где была его гордость, его достоинство?.. Неужели эти сигареты были так важны для него?..
На другой день я попробовал поговорить с ним, и — странное дело — он, кажется, совершенно не винил себя за свой поступок, не видел в нем ничего плохого.
— А что, — сказал он, — если бы я украл… А то я же честно заработать хотел… Велика штука — пол вымыть! Я никакой работы не боюсь, я с детства к работе приученный… А сигареты денег стоят…
Все-таки мы разговорились, и я узнал, что он из многодетной крестьянской семьи, где всегда ценилась каждая копейка («У нас каждая копейка рублем смотрится», — сказал он), что детство его было нелегким…
Говорили мы с ним долго. Не знаю, помог ли ему этот разговор, но мне почему-то кажется — что-то все же шевельнулось, стронулось в его душе…
Я сейчас вспоминаю, как ехал сюда, в армию, вспоминаю себя тогдашнего — в поезде, и мне кажется, так далеко все это… Тогда мне представлялось, будто едва ли не один я погружен в собственные переживания, а остальные катят себе бездумно-беспечно… А вот копни только чуть поглубже, коснись любого из нас, и оказывается, что за плечами у каждого своя жизненная история, по-своему сложная, свои волнения, свои переживания и свои заботы…
8
Всю свою жизнь, все, что происходило с ним здесь, в армии, Новиков теперь невольно делил как бы на две части. Одна — словно бы со знаком «плюс»: «Вот бы меня сейчас увидела Надя, вот бы она оказалась рядом», и вторая — со знаком «минус»: «Только бы не увидела Надя…»
Когда совсем недавно он первый раз самостоятельно сел за пульт радиостанции, когда, послушные ему, щелкнули один за другим тумблеры, вспыхнули сигнальные лампочки, ровно загудели умформеры и мягким таинственным светом затеплилась шкала настройки, когда вся эта огромная радиостанция, занимавшая целую автомашину, легко подчинилась ему и ответила слабым попискиванием морзянки в наушниках, Новикову ничего так не хотелось, как чтобы в этот момент его видела Надя.
Или когда он стоял в строю с автоматом, с двумя магазинами, снаряженными боевыми патронами, готовый отправиться в караул, он был вовсе не прочь, чтобы Надя взглянула на него…
Или когда он вслепую, не глядя на доску, играл в шахматы с лейтенантом Шереметьевым и уверенно вел партию к выигрышу, когда солдаты, шумно выражая свое восхищение и изумление, толпились вокруг них, отталкивая друг друга, чтобы взглянуть на это, как им представлялось, чудо, Новиков ничего так не желал, как чтобы среди них в эти минуты вдруг оказалась и Надя…
Зато когда, разбежавшись, Новиков неуклюже хлопал ладонями по клеенчатой спине «коня», лишь в воображении своем легко и стремительно взлетая в воздух, он даже вздрагивал от одной мысли о том, что Надя может в этот момент случайно проходить мимо…
Или когда вместе с Цырен-базаром утром он в распоясанной гимнастерке вытаскивал из умывальника тяжелые, скользкие, заплеванные ведра с грязной мыльной водой, у него не было никакого желания, чтобы Надя застала его за этой работой…
Догадывалась ли сама Надя, сколь значительное место отводилось ей отныне в его жизни?.. Вряд ли…
Первое время, когда Новиков стал появляться в доме Ерошиных, его словно бы и не волновало, сможет ли Надя ответить на его влюбленность. Он видел, что она рада его приходу, и этого ему было достаточно. Новиков даже давал себе обещание никогда ни словом, ни намеком не выдать, не показать Наде свое чувство. «Зачем понапрасну смущать ее, зачем? — думал он. — Девочка, школьница, небось я ей кажусь стариком…» Ему доставляло радость ждать очередного воскресенья, доставляло радость видеть ее, разговаривать с ней, сидеть с ней в одной комнате — мог ли он желать большего?..
Иногда Новикову удавалось увидеть Надю и в будний день — случайно, мельком, но и эти мимолетные, мгновенные встречи волновали его не меньше, чем воскресные часы, проведенные вместе. Вот их рота сидит в клубе, только что кончился кинофильм, зажегся свет, и уже гремит команда: «Р-рота, головные уборы надеть!», «Рота, встать!», «Слева по одному на выход, бегом марш!» Гуськом, друг за другом они выбегают на улицу, на морозный воздух, а здесь, у входа, уже жмутся девчонки, ожидающие платного сеанса, и среди них — Надя… Вот только встретились их глаза, только потянулся он было к ней, но уже: «Р-рота, повзводно, в колонну по три, становись!» — и голос старшины настигает его: «Новиков, а вам что, отдельная команда нужна? Ну-ка, быстро в строй!» И рота двигается с места, отбив три положенных строевых шага, и запевала сразу заводит песню, и Новиков лишь успевает оглянуться разок-другой, пока не заворчат на него товарищи, чтобы не сбивал ногу…
Впрочем, в глубине души Новиков уже понимал, уже догадывался, что так не может продолжаться вечно, что он только обманывает себя, когда уверяет, что ему вполне достаточно собственного чувства и большего он не требует… В глубине души он уже знал, что это не так, он ощутил это еще в первый день, когда смотрел на Надину фотографию и на этого парня там, на фотографии, заботливо придерживавшего ее за плечи… Он знал, что рано или поздно их отношения должны измениться, только вот как, в какую сторону? Он и хотел этого, и страшился…
И перелом действительно произошел. Причем даже гораздо скорее, чем думал Новиков.
В тот день Надя должна была совершить свой первый прыжок с парашютом. Еще за неделю до этого, придя, как обычно, в воскресенье к Ерошиным, Новиков заметил, что Татьяна Степановна чем-то не на шутку взволнована и рассержена. Да и у Нади, показалось ему, глаза были заплаканы. Пожалуй, только приход Новикова и прервал их ссору.
— Надежда, ты хоть меня пожалей, если не хочешь образумиться, мать свою пожалей, слышишь? — повторяла Татьяна Степановна.
— Нет, нет, мама, — отвечала Надя, — я не могу, я тогда сама себя уважать перестану…
Как рассказала потом Надя, ссора у них вышла из-за того, что мать хотела запретить ей прыгать.
— Упорная, вся в отца, — в сердцах повторила тогда Татьяна Степановна и вышла, хлопнув дверью.
— Ну что мне делать? — жалобно, совсем как ребенок, сказала Надя Новикову. — Мне и маму жалко, до слез жалко, и отступать я не могу, ведь это будет малодушие, правда? Потому что мне… — она замялась, — мне и самой страшно… Как представлю, так мурашки по спине бегут… Понимаешь, — она, кажется, даже не заметила, что перешла на «ты», — поэтому я и должна прыгать, обязательно должна…
Что мог ответить ей Новиков? Растерянный и растроганный, он смотрел на нее и молчал…
Ему не удалось увидеть Надю ни за день, ни накануне прыжка. В субботу вечером вместе со взводом он заступил в наряд — рабочим по кухне.
Облачившись в «бэу» — старую, застиранную гимнастерку, казалось навечно, несмотря на все стирки, впитавшую в себя запах солдатских щей, консервированного борща и комбижира, и такие же галифе, — Новиков работал в посудомойке. Он не первый раз попадал сюда и уже успел приобрести некоторую сноровку. Быстро и ловко он сбрасывал с алюминиевых мисок остатки каши и одну за другой швырял их в кипяток, потом выхватывал, протирал мочалкой, снова обдавал кипятком и перебрасывал дальше, в следующее отделение, своему напарнику… Клубы пара окутывали их, от горячей воды и соды руки становились распаренными и красными, спину ломило, но Новиков не давал себе передышки. Он уже знал, что стоит только расслабиться, сбиться с темпа, остановиться, и потом снова входить в ритм работы будет куда труднее…
Сколько алюминиевых тарелок перемыл он за свою службу, сколько их прошло через его руки! Наверно, целые горы, десятки тысяч… Наверно, из них, из этих мисок, можно было воздвигнуть целую башню, алюминиевую башню, сверкающую на солнце, — этакий памятник незаметному и самоотверженному труду рабочего по кухне!
Ночью не так уж много времени выпадает для сна рабочему по кухне — каких-нибудь три-четыре часа, не больше, и обычно Новиков, пристроившись где-нибудь, где потеплее, засыпал почти моментально, но в этот раз сон долго не шел к нему. Он думал о Наде.
Едва ли не в первый раз в жизни он так полно, так мучительно ощущал тревогу за близкого человека. Он мучился оттого, что был бессилен чем-либо помочь ей, был бессилен поддержать и ободрить ее хотя бы взглядом. Он страдал оттого, что не он, а какие-то другие, чужие люди будут рядом с ней в решающие для нее минуты… Никогда раньше не подозревал Новиков, что ревность способна причинять такую ощутимую, почти физическую боль. Что он, стриженный наголо солдат в своей пропахшей кухней гимнастерке, который без разрешения сержанта не может выйти даже за пределы казармы, по сравнению с теми мужественными, бесшабашными парнями в комбинезонах и шлемах, которые окружают Надю там, на аэродроме? Разве устоять перед ними девчонке?..
Но мысль его тут же возвращалась к риску, на который Надя сама добровольно обрекла себя, к ее страху, в котором она так по-детски призналась, и Новиков жалел, что промолчал тогда, что не сделал хотя бы попытки отговорить, остановить ее. Да разве бы она послушалась его?..
Если бы он мог быть завтра вместе с ней, рядом! Вся беда, казалось ему, заключалась сейчас в его несвободе, в его зависимости, в том, что он был вынужден подчиняться воле других людей, а не поступать так, как считал сам важным и нужным. Никогда прежде эта его несвобода не вызывала в нем такого яростного и такого бессильного протеста…
Мог ли Новиков догадываться, что значительно позже, уже отдаленный от этого дня многими годами, вглядываясь в свое прошлое, он будет завидовать себе, теперешнему?.. Вглядываясь в парня, окутанного белыми облаками горячего пара, он вдруг поймет, что никогда не жил такой полной и оттого такой счастливой жизнью, как в те часы в солдатской посудомойке, когда его душа металась и мучилась от ревности и страха за Надю…
Весь следующий день Новиков опять мыл тарелки. Огромная солдатская столовая вдруг наполнялась грохотом сапог, звоном алюминиевой посуды, стуком разводящих о бачки, резкими командами старшин; потом эта волна откатывалась так же стремительно, как накатилась, и столовая снова пустела — только уборщики торопливо протирали столы. И горы грязной посуды вновь возвращались в посудомойку.
Перед самым обедом в столовой появился майор Ерошин. Он был в шинели, перетянутой портупеей, с кобурой на боку, с красной повязкой дежурного по части на рукаве. Набросив поверх шинели белый халат, он, сопровождаемый сержантом Козыревым — дежурным по кухне, прошелся по обеденному залу, заглянул в хлеборезку и на кухню, где в огромных котлах клокотал борщ и то вздувалась, то опадала каша, потом неожиданно возник в посудомойке. Наметанным взглядом майор окинул штабеля чистых тарелок, из самой середины выдернул одну. Тарелка была чистой, но он придирчиво провел по алюминиевой поверхности пальцем, проверяя, не осталось ли на ней жира. Потом удовлетворенно хмыкнул, и Новиков и Цырен-базар, которые стояли чуть в стороне, ожидая приговора, оба разом вздохнули с облегчением — они знали, что стоит майору обнаружить хоть одну небрежно вымытую тарелку, и он, не колеблясь, прикажет заново перемывать все.
Ерошин повернулся к двери, и тут его глаза встретились с глазами Новикова. Он приостановился, словно что-то вдруг вспомнив, словно собираясь что-то сказать ему, и Новиков невольно даже сделал движение ему навстречу, но в следующий момент майор резко распахнул дверь и вышел.
Думал ли он в эти минуты о дочери? Испытывал ли ту же тревогу, что и Новиков?
По выражению его лица, по той сосредоточенности и придирчивости, с которой проверял он тарелки, осматривал столовую, снимал пробу, ни о чем нельзя было догадаться. Только вот это мгновение, когда он задержался возле двери, глядя на Новикова… Или это лишь почудилось Новикову? Сейчас в том напряженном состоянии, в котором он находился, Новиков готов был придавать значение каждой мелочи…
Вечером, уже вернувшись в казарму после наряда, Новиков все же не выдержал. Как ни уверял он себя, что наверняка у Нади все благополучно, — случись что с дочерью Ерошина, и уже было бы известно в батальоне, такие слухи по военному городку распространяются моментально, — беспокойство его росло.
Перед самой вечерней поверкой, улучив момент, когда возле тумбочки с телефоном никого, кроме дневального, не было, Новиков решительно снял трубку и покрутил ручку вызова.
— «Резеда», — услышал он голос телефонистки.
— «Резеда», дайте квартиру майора Ерошина.
Новиков поймал на себе удивленный и заинтересованный взгляд дневального и сам поразился тому, что делает. Но отступать уже было поздно.
— Соединяю.
В трубке что-то щелкнуло, зашуршало, потом щелкнуло еще раз. Как бы он поступил, что сказал бы, если бы к телефону подошел майор Ерошин, Новиков и сам не отдавал себе отчета. Может быть, просто-напросто позорно бросил бы трубку…
Но прошло несколько секунд ожидания, и он услышал голос Татьяны Степановны:
— Квартира Ерошиных.
— Татьяна Степановна, здравствуйте, это я, Виктор Новиков, извините меня, пожалуйста, — торопливо, на одном дыхании проговорил он.
— Да, Витя, я вас слушаю… — Голос ее звучал спокойно, мягко, как будто она ничуть не удивилась его звонку.
— Я только хотел узнать, как Надя…
— Сейчас я позову ее.
И опять несколько секунд ожидания — маленькая передышка, возможность прийти в себя. И наконец Надин голос:
— Витя, как хорошо, что ты позвонил! Это я, наверно, наколдовала. Ты веришь, что я умею колдовать?
— Верю, — сказал Новиков.
— Правда, правда, мне так хотелось сегодня поговорить с тобой!
Как легко, как естественно произнесла она эти слова! Что скрывалось за ними? Только ли дружеская привязанность, только ли желание поделиться своими переживаниями?
— Витя, ты меня слушаешь? Почему ты молчишь?
— Я не молчу.
Она засмеялась, и опять так легко, так счастливо прозвучал ее смех, что Новиков улыбнулся.
— Ну как ты? Все в порядке? — спросил он. — Не струсила?
— Нет, нет, даже самой не верится! Ты даже не представляешь, как здорово все было!
Ну да, конечно, она еще находилась под впечатлением своего прыжка, под впечатлением всех сегодняшних событий, она еще жила ими, и ей сейчас было нужно рассказать об этом, а кому — это, наверно, не так уж важно…
Ревность, которую испытывал он сегодня, работая в солдатской столовой, снова всплыла, поднялась в его душе, и эта ревность вдруг придала ему решимости.
— Я весь день думал о тебе, — сказал он.
Как насторожилась, наверно, сейчас телефонистка на коммутаторе! И дневальный смотрел на него во все глаза уже даже не с удивлением, а с восторгом.
В трубке Новиков слышал Надино дыхание. Он ждал, что она ответит. От ее ответа сейчас зависело многое.
— Весь день, — повторил он.
— Я знаю, — тихо сказала она каким-то странно изменившимся грудным голосом. — Я знаю.
Снова наступила пауза.
— Ты почему молчишь?
— Нет, это ты молчишь!
Им вдруг стало весело. Слова, казалось Новикову, теперь больше ничего не значили — имела значение лишь интонация, с какой они произносились.
— Витя, скажи мне еще что-нибудь.
Как будто невидимая нить вдруг протянулась между ними — сколько потаенного смысла, замирая от нежности, угадывал сейчас Новиков в каждом ее слове, в каждом звуке ее голоса!
— Витя…
Но что мог сказать он под неотрывным взглядом дневального? Новиков потерянно молчал, не в силах преодолеть неловкость.
— Надя… — только и сказал он и опять умолк.
— Ну хорошо, тогда я скажу, — вдруг с какой-то отчаянной решимостью произнесла она. И уже совсем тихо, почти шепотом: — Я тебя…
Она выговаривала эти слова медленно, раздельно, словно одновременно выводила их пальцем на запотевшем стекле. И Новиков болезненно сжался, представляя, что каждое ее слово сейчас ловит телефонистка.
— Я тебя…
— Надя!
Он хотел сказать: «Не сейчас, не по телефону, потом…» Но не успел договорить. Надя сама оборвала свою фразу и засмеялась:
— Ладно, ладно, я пошутила.
И тут же, сразу, в трубке раздался щелчок — Надя нажала на рычаг телефона.
Новиков медленно опустил трубку. На трубке был отчетливо виден влажный, стремительно исчезающий, сжимающийся след его ладони…
9
Во взводе давно уже знали, что Новиков бывает в доме у Ерошиных и занимается с дочерью комбата, помогает готовиться ей в институт.
— Ишь ты, учитель, — тихоня-тихоня, а всех нас обскакал, — острил Головня. — Одно слово — высшее образование, не то что мы, серые люди. Глядишь, скоро и в родню к комбату попадешь!
На самом деле знакомство Новикова с семьей комбата нисколько не изменило его положения во взводе: наравне с другими он по-прежнему мыл полы в казарме и драил умывальник, получал, случалось, наряды вне очереди и по-прежнему каждый раз, выходя из казармы, был вынужден отпрашиваться у сержанта Козырева. Более того, сержант Козырев теперь стал по отношению к нему даже еще требовательнее, придирчивее, жестче, чем прежде, он словно показывал свою принципиальность: мол, комбат комбатом, а я свое дело знаю, все эти домашние знакомства и все такое прочее меня не касаются… Сержант Козырев был гордым человеком и, наверно, больше всего опасался, как бы кто-нибудь не подумал, что через Новикова он заискивает перед комбатом. И Новиков хорошо понимал это и не обижался, не сердился на Козырева за излишнюю строгость.
Иногда Новикову вдруг неудержимо хотелось, чтобы Надя как-нибудь хоть на минутку заглянула к ним в казарму, посмотрела, как он живет.
Впрочем, казарма бывала очень разной; казалось, на протяжении суток она успевала измениться несколько раз.
Была казарма ночная, с притушенным, тусклым светом, с храпом, с густым запахом сена, которым набивались солдатские матрасы. Каждый раз, когда выпадало Новикову дневалить и он оставался один на один со спящей казармой, его поражало странное противоречие, несоответствие между этим тяжелым храпом, мощными телами, бугрящимися под одеялами, между этими волосатыми ногами с огромными ступнями и панцирно загрубевшими ногтями на пальцах, которые то тут, то там высовывались из-под простынь, и детским, беззащитным выражением лиц, ребячьей припухлостью губ, сонным мальчишечьим румянцем…
Была казарма утренняя — сложная смесь запахов мужского пота и хозяйственного мыла, сапожного крема и зубной пасты, асидола и просохших за ночь портянок…
И, наконец, была казарма дневная. Дневная казарма блещет чистотой, она проветрена, промыта свежим воздухом, светла и просторна.
Лишь в эту дневную казарму и мог допустить Новиков в своем воображении Надю.
Странно, но после телефонного разговора, после неожиданного Надиного признания они вдруг словно отдалились друг от друга.
Да и было ли признание? Или это была только шутка внезапно расшалившейся школьницы? Или минутный порыв, отзвук всего, что пережила, испытала Надя в тот день? Или…
В душе Новиков уже заранее был готов к самому худшему — он опасался, что Надино не произнесенное до конца признание вырвалось у нее случайно, безотчетно, под влиянием мгновенного настроения и теперь она будет стыдиться этой своей откровенности и ощущать неловкость в присутствии Новикова.
Так и получилось. Надя теперь дичилась Новикова и поглядывала на него почти враждебно. Если раньше она как ни в чем не бывало усаживалась рядом с ним на диван, то теперь старалась как бы отгородиться от него, провести между ними некую невидимую разъединительную линию и сразу вскакивала и пересаживалась, стоило только ему оказаться рядом. И говорили они теперь лишь о деле — о занятиях, о Надиных сочинениях, о программе, по которой Наде предстояло готовиться…
Такая перемена в Надином настроении угнетала Новикова, он не знал, как ему следует поступить, боялся неосторожным словом, прямым вопросом окончательно все погубить, испортить, и этот страх сковывал его, делал нерешительным. Ему казалось: будь у них возможность встречаться чаще, и все бы давно уже наладилось и выяснилось. Наверно, он был прав в этом своем предположении, но что в том толку, если подобной возможности у него все равно не было?..
Однажды он уступил уговорам Татьяны Степановны и остался обедать. У него по-прежнему не было никакого желания встречаться за столом с майором Ерошиным, но стремление оттянуть прощание с Надей — прощаться с ней и видеть в ее глазах все ту же отчужденность было для него настоящей мукой — оказалось сильнее.
Новикову давно уже не приходилось обедать в семейном кругу за столом, столь щедро уставленным домашней снедью: и капуста квашеная, и огурцы соленые, и маринованная свекла, и грибы, и моченые яблоки — чего тут только не было!
Майор Ерошин к появлению Новикова за столом отнесся без удивления. Был он, как всегда, неразговорчив, молчалив, только пошутил однажды:
— Вы, женщины, не очень-то балуйте солдата. Разбалуется солдат — служить тяжелее будет.
— Папа у нас специалист по солдатской психологии. Все знает, — сказала Надя.
И Новиков вдруг с радостью понял, что это ее замечание вызвано обидой за него, вернее, опасением, как бы отец своей шуткой не задел, не обидел его, Новикова.
— А что ты думаешь? — отозвался Ерошин. — Если посчитать, сколько солдат прошло через мои руки, — представить страшно! И для фронта солдат готовил, и письма потом с фронта благодарственные получал. — Он мотнул головой и вдруг в упор посмотрел на Новикова. — Эти письма я до сих пор храню, они мне дороже дорогого. Вы, может, думаете, я сам на фронт не хотел, сам на передовую не рвался? Еще как! Пять рапортов подавал! А что толку? Меня вызвали и говорят: «Товарищ Ерошин, сейчас необходимо, чтобы вы обучали молодых бойцов. Родина требует, понятно?» И все, и точка.
— Коля, успокойся, — сказала Татьяна Степановна.
— Да я спокоен, с чего ты взяла, что я не спокоен? — сказал Ерошин. Он попытался закурить, но спичка сломалась в его пальцах. Тогда он вдруг встал и вышел из-за стола.
Новиков растерянно посмотрел на Татьяну Степановну. Он не мог понять причины этой внезапной вспышки. «Неужели тот вопрос, что задал когда-то на тактических занятиях майору Головня, так засел в памяти комбата?» — думал он.
— Вы не беспокойтесь, это с ним бывает, — сказала Татьяна Степановна. — Вы знаете, он до сих пор очень тяжело переживает, что не был на фронте. Кадровый военный, и возраст самый фронтовой, а вот так получилось… Вы бы видели, как он мучился, когда узнавал, что кто-то из его бывших курсантов убит, места себе не находил. Утром встанет, лицо темное, я его узнать не могу… Зато с некоторыми из тех, кто жив остался, у него до сих пор переписка сохранилась. Добром вспоминают…
Новиков слушал ее, и внезапно все поведение майора Ерошина, и отношение его к солдатам, вся его придирчивость, жестокая требовательность, которую он, Новиков, не раз клял, которой не раз возмущался, предстали перед ним в новом свете. Как будто совсем иной человек, и похожий и непохожий на прежнего майора Ерошина, сейчас открывался ему…
И немного позже, уже вернувшись в комнату, где обычно занимались они с Надей, в комнату, стены которой были увешаны фотографиями, Новиков как будто заново, как будто впервые всматривался в снимки военной поры. Опять вглядывался он в худое, скуластое лицо Ерошина, в мальчишески беззаботные лица курсантов… Каково было Ерошину провожать этих ребят, а самому оставаться, каково?..
Вдруг накатили, нахлынули на него воспоминания о собственной довоенной еще жизни, когда он был совсем ребенком. Так и осталась эта счастливая жизнь там, за чертой, которая в его сознании отделяла все, что было до войны, от того, что было после. Всю войну им с матерью казалось, что эта довоенная жизнь еще может вернуться — вот пусть только кончится война, пусть только отец живым придет с фронта. Но он не пришел — он погиб в апреле сорок пятого. И вот уже десять лет минуло, а все не наладилась, не установилась их жизнь — они жили с матерью так, словно вот-вот что-то должно измениться, жили так, словно все еще не могли расстаться с тем ожиданием и надеждой, которые поддерживали их во время войны, словно вся теперешняя жизнь не была настоящей, а настоящая еще ждала их где-то впереди…
— Ты не сердись на папу, — услышал Новиков за своей спиной тихий Надин голос. — Не сердись, ладно?
— Ну что ты, Надя, — сказал Новиков. — За что мне сердиться?
— А на меня? — вдруг спросила Надя. — На меня ты тоже не сердишься?
— Нет, — сказал Новиков. — Что ты!
— Совсем-совсем? Ни за что не сердишься?
— Да нет же, Надя. С чего это тебе пришло в голову? Мне казалось, это ты на меня сердишься. Избегаешь меня. Я даже подумал: может быть, мне не нужно больше приходить? А, Надя?
Надя быстро взглянула на него.
— Ничего ты не понимаешь! Все наоборот! Все наоборот! Наоборот! — повторила она с неожиданной горячностью и сердито ударила кулачком по дивану.
Как хотелось в эту минуту Новикову подойти к Наде и обнять ее! Но он сдержал себя. Его не оставляло ощущение, что, поступи он подобным образом сейчас, здесь, когда рядом, в соседней комнате, находились Надины отец и мать, это будет похоже на предательство по отношению к ним, к ее родителям, так доверчиво впустившим его в свой дом.
Он еще боролся с собой, еще внушал себе, что должен оставаться для этой девочки лишь добрым знакомым, товарищем, не больше, но в глубине души уже сознавал, что все это бессмысленно…
В этот день Надя пошла его проводить.
На улице мела метель, последняя, запоздалая и неожиданная майская метель. Снег летел так густо, что в трех шагах уже ничего не было видно. И едва они отошли от дома, Надя вдруг обхватила двумя руками руку Новикова, прижалась к его шинели.
— Я, наверно, ужасно глупая и легкомысленная, — сказала она. — Но я ничего не могу с собой поделать. Я сегодня проснулась ночью и вдруг представила себе, как мы с тобой встретимся когда-нибудь, когда ты уже не будешь солдатом. Знаешь, на тебе будет серый костюм, и белая рубашка, и галстук, и ты возьмешь меня под руку, и мы пойдем, куда нам захочется… Правда, я глупая?
— Нет, нет, — отвечал Новиков. Она словно угадала его мысли. Сколько раз и ему в его мечтах рисовалась эта счастливая картина вольной жизни!
Надя по-прежнему прижималась к его шинели, и лицо ее было мокрым от снега. Новиков нагнулся к ней, его щека коснулась мокрой Надиной щеки. Он почувствовал, как замерла Надя. Что там слова о любви, что там поцелуи и объятия! Многое бывало потом в жизни Новикова, но никогда больше, ни разу в жизни не испытывал он такой острой, такой пронзительной нежности, такого всепоглощающего чувства близости, как в тот момент, когда своей щекой коснулся мокрой от снега Надиной щеки…
10
Я не могу сказать, что я эти стихи написал или сочинил. Они возникли, появились как-то сами собой, я и не заметил как. Уже подходя к казарме, я вдруг обнаружил, что твержу про себя, повторяю эти строки. Может быть, это и не мои стихи, может быть, я уже слышал их когда-то раньше и теперь они всплыли в моей памяти? Не знаю.
11
Вот уже неделю рота жила предчувствием тревоги. Каждый раз, засыпая, Новиков думал, что сегодня-то наверняка не удастся дотянуть до подъема, что скорее всего посреди ночи оборвет их сон, сдернет с коек резкий сигнал тревоги. Как любой солдат перед большими учениями, перед тревогой, Новиков испытывал возбуждение, пьянящий, почти праздничный азарт, он ждал этой тревоги и в то же время боялся ее. Говорили, что на этот раз роте предстоит марш-бросок не меньше тридцати километров, и Новиков уже заранее ощущал вкус сладкой, тошнотворной слюны в горле, заранее видел, как хватает он ртом воздух, чувствовал, как становятся ватными и отказываются повиноваться ноги. Его тело еще хранило память о прошлых марш-бросках. Вынесет ли, выдержит ли он на этот раз? Вот что томило его, не давало покоя, вот чего он страшился.
Тревогу объявили под утро. Еще стоял предрассветный туман, обжигающий сырой промозглостью не остывшие, не отошедшие ото сна лица солдат, еще сонная тишина разливалась над военным городком, а батальон майора Ерошина уже строился на пустыре за казармой. Пофыркивали, урчали машины с радиостанциями, звучали негромкие голоса командиров, позвякивало солдатское снаряжение: автоматы и противогазы, саперные лопатки и фляжки, второпях еще не закрепленные как следует…
Пока лейтенант Шереметьев объяснял взводу поставленную задачу, в мозгу Новикова словно включилось особое оценивающее устройство, которое живо и чутко отзывалось на каждую фразу взводного:
— Выйти в район высоты двести тридцать пять…
«Это километров десять, не больше, десять километров — это не страшно, выдержу…»
— …преодолеть участок зараженной местности…
«Значит, в противогазах… Если бы только не в противогазах!..»
— …развернуть радиостанцию и в десять ноль-ноль выйти на связь…
«Это сумеем, это ничего… Если бы только не противогазы!..»
…Зараженная полоса уже подходила к концу, когда Новиков начал выдыхаться. Резина противогаза липла к щекам, пот заливал глаза, не хватало воздуха. Сердце стучало где-то возле самого горла. Но он еще продолжал бежать.
Они бежали гуськом, один за другим — десять человек, отделение сержанта Козырева. Новиков не оборачивался, но он знал, что сержант бежит позади — специально чтобы поддерживать и подгонять отстающих.
Кто это рассказывает сказки о каком-то втором дыхании, которое якобы приходит в самый критический момент? Напрасно Новиков ждал этого второго дыхания, оно почему-то никогда не посещало его. Впрочем, сейчас он не думал об этом.
«Еще немного… вот до того камня… до дерева… до тех вон кустов…» Его мозг, казалось, отключился от всего остального и лишь отмеривал эти маленькие — в несколько шагов — отрезки.
Земля притягивала его к себе. Броситься бы сейчас на землю, лечь, упасть — и будь что будет…
Неожиданно рядом с ним возник лейтенант Шереметьев. Лейтенант прокричал что-то через противогаз, и глухой звук его голоса с трудом дошел до Новикова:
— Командир отделения выведен из строя, убит. Командуйте, Новиков!
Новиков хотел сказать, объяснить, что он не может, что он просто не в силах, но что тут объяснишь — на бегу, задыхаясь в противогазе?..
Он занял место Козырева и теперь сквозь запотевшие очки противогаза видел все отделение.
Вот сбился с темпа и начал отставать Голубев. Вот он пропустил вперед себя одного, второго… вот он уже предпоследний… Вот бежит рядом с Новиковым. Воздух тяжело, с хрипом вырывается из его противогаза.
«Давай, давай, Голубь, еще немного!» — кричит Новиков, или ему только кажется, что кричит, а на самом деле крик получается беззвучный, едва слышный.
Он подхватывает Голубева за руку и тянет рядом с собой.
А вот еще кто-то оказывается рядом с ними — ах да, это Цырен-базар. Знаками он показывает Голубеву: давай помогу, снимай автомат! Но Голубев упрямо мотает головой, не хочет расставаться с автоматом. Тогда Цырен-базар подхватывает его с другой стороны, и некоторое время они бегут так, втроем. Вот кому бы командовать отделением — Цырен-базару!
Голубев чуть ускоряет бег, возвращается на свое место.
Потом отстает Головня. Новиков подбадривает его, кричит ему что-то почти бессмысленное, но Головня молчит и продолжает отставать. Бег его становится все тяжелее, все медленнее.
Он отстает и словно увлекает, словно тащит за собой Новикова. И тогда Новиков в ярости, в отчаянии толкает его вперед и кричит:
— А ну не отставать! Не отставать! Слышишь!
И сам не слышит, что уже подана команда «отбой», «снять противогазы», — уже не бегом, шагом идет взвод…
Только тут вдруг Новиков понимает, что выдержал, вынес, не сдался, и слабость охватывает его, растекается по всему телу. А ведь был момент, когда казалось: все, больше не сделать ни шагу… Неужели и верно есть в человеке какие-то тайные, скрытые резервы, о которых он и сам не подозревает!.. Или просто не прошли для него даром тренировки и прежние марш-броски и он уже не тот Новиков, что был полгода назад?..
Он радовался, что самое трудное, чего он страшился, осталось позади, миновало, но впереди его ждало еще одно испытание.
Когда радиостанция была уже развернута и готова к включению, когда, казалось, ничто уже не могло помешать Новикову выйти на связь в точно назначенное время, на станции появился майор Ерошин.
— В передатчике неисправность. Действуйте, — сказал он.
И верно — передатчик не включался, сигнальные лампочки безжизненно темнели на пульте. Новиков взглянул на часы: до связи оставалось десять минут.
И что за человек этот майор! Как будто он не заинтересован, чтобы его батальон отличился на учениях, не ударил лицом в грязь! Так нет же! Стоит сейчас Новикову и его экипажу не обнаружить неисправность, и все пошло насмарку, все их усилия, весь труд — все напрасно. Потому что нет для связиста ничего важнее, чем вовремя выйти на связь.
Неработающая, неисправная радиостанция всегда казалась Новикову похожей на больное животное — всем своим видом она, подобно живому, но бессловесному существу, взывала о помощи, только не могла объяснить, что с ней.
Майор молча наблюдал за действиями Новикова, и это заставляло Новикова нервничать еще больше. И что это за привычка такая — обязательно сделать так, чтобы человеку было как можно труднее! Отвернулся бы, что ли, или отошел пока, и то Новикову было бы легче.
Было без двух минут десять, когда Новиков нашел неисправность. Неисправность оказалась пустяковой, в другой раз, в спокойной обстановке, он бы отыскал ее в считанные секунды, а тут переволновался…
Ровно в десять радиостанция вышла на связь.
…Что может быть лучше перекура, передышки после учений, когда все уже завершилось, и завершилось благополучно, без ЧП и срывов, когда даже усталость, валящая тебя с ног, кажется приятной и легкой!..
Новиков лежал на уже прогретом весенним солнцем склоне сопки и смотрел в небо. Небо было синим — раньше Новиков, казалось, и не видел никогда такого чистого, такого глубокого синего цвета. А кучевые облака, медленно проплывающие в вышине над Новиковым, были ослепительно белыми. Покой и какая-то особая умиротворенность охватили Новикова.
Бывают в нашей жизни минуты, которые не обладают, казалось бы, никакой внешней примечательностью и значительностью, но тем не менее надолго, если не навсегда, отпечатываются в нашей памяти со всеми своими подробностями, ощущениями и запахами и хранятся в самых сокровенных уголках ее, словно некий тщательно оберегаемый эталон, к которому можно приблизиться, но который невозможно уже воспроизвести…
Так и эта прогретая земля с клочками высохшей, еще прошлогодней травы, и эти кучевые облака, плывущие по синему небу, и эти сосны, и собственная умиротворенность — все запечатлелось в душе Новикова и потом не раз всплывало, дразня своей неповторимостью, тревожа необъяснимостью испытанного тогда чувства…
Чуть поодаль от Новикова сидели и лежали другие солдаты из их роты, и тут же вместе с солдатами пристроился покурить майор Ерошин. Сейчас он был в благодушном настроении, пошучивал с той добродушной насмешливостью, с какой обычно разговаривают командиры со своими подчиненными, когда довольны ими.
И Новикову сейчас нравился его голос и нравилось его присутствие здесь, потому что он, майор Ерошин, был как бы частью Надиной жизни и напоминал Новикову о ней…
— Ну и дали вы нам сегодня прикурить! — восторженно говорил Головня.
— Это еще что, — посмеиваясь, отвечал комбат. — Это так — зарядочка для слабаков…
— Ничего себе — для слабаков! Я уж думал, мне капут приходит, думал, концы отдам, с родной мамой даже не попрощавшись. Потом решил: нет, пожалуй, поживу еще маленько, посмотрю, что дальше будет…
— Выходит, чистое любопытство тебя спасло, а, Головня?
— Выходит, что так, товарищ майор.
— Ну, хорошо, товарищ майор, — опять заговорил через некоторое время Головня, видно чувствуя, что комбат сейчас в таком настроении, что можно задавать ему любые вопросы, не рассердится, — я понимаю, воспитание выносливости и все такое… Без выносливости на современной войне сразу крышка, это каждому ясно. Поэтому я, как человек сознательный, готов и марш-броски терпеть, и все такое прочее… Так сказать, смысл в этом вижу…
Он замолчал, наверно, все же заколебался, стоит ли говорить дальше, не опасно ли?
— Говори, говори, Головня, раз уж начал, — сказал комбат. — В марш-бросках ты, значит, смысл видишь. А в чем не видишь? Ведь ты к этому клонишь?..
— Угадали, товарищ майор. Все понимаю, а вот зачем вы нас тогда на тактике по слякоти ползать заставляли, до сих пор понять не могу, честное слово.
— Так и не можешь?
— Не могу, товарищ майор.
— Вы уж, товарищ майор, его простите, он у нас малопонятливый, — пытаясь на всякий случай обратить все в шутку, сказал кто-то из солдат.
— Ну, если он малопонятливый, тогда, может, кто другой объяснит, зачем это комбату понадобилось вас по грязи гонять? — сказал майор, не поддаваясь на шутливый тон. — Может, из чистого самодурства, а?
— Да что тут объяснять, — пробормотал кто-то. — Надо — значит, надо, ясно же…
— Надо. Это верно, что надо, — сказал комбат. — А кому? Может, майору Ерошину надо? Нет. Вы небось думаете: вот вредный комбат нам достался. Может, и правда вредный, не знаю. А только если я вас не научу солдатскому делу, никто за меня вас не научит — вот в чем вся загвоздка. Про выносливость мы сейчас говорили — это так, нужна солдату выносливость, но одна ли выносливость?.. Как бы это объяснить попонятнее… Психологически солдат должен быть готов к любым трудностям — вот что главное. Иной раз говорят: война, мол, она всему научит, или, если грубее выразиться, — как жареный петух в задницу клюнет, сразу все сумеешь… Нет, не сумеешь. Если сегодня солдат в слякоть лечь не решится, если завтра из-за дождя на занятия в поле не выйдет, а послезавтра увидит, что стрельбы из-за мороза отменили, — это уже не солдат, а маменькин сынок будет… Не знаю, поняли вы меня или нет… Но я, например, когда в войну связистов готовил…
Он вдруг оборвал себя на полуслове и поднялся.
— Что-то мы заговорились. — Он озабоченно взглянул на часы: — Старшина, стройте роту!
Когда рота была построена, майор Ерошин сделал короткий разбор учений. И хотя он хвалил солдат, прежняя обычная суровость уже вернулась к нему, и он уже мало походил на того человека, который только что курил вместе с солдатами. И даже рядовой Головня сейчас вряд ли решился бы сунуться к нему со своими вечными вопросами.
— В основном все хорошо поработали, — заключил майор Ерошин и повторил еще раз: — Все.
Его взгляд остановился на мгновение на лице Новикова и скользнул дальше.
12
Мне кажется, в каждом человеке, в любом из нас, особенно в юные годы, существуют, сталкиваются, борются друг с другом два противоположных устремления, два тяготения с различными знаками, словно две силы — центробежная и центростремительная.
Стремление первое — быть таким, как все, не хуже всех.
Стремление второе — ни за что не быть таким, как все, стремление к исключительности, к единственности, ибо если я лишь такой же, как все, если я только повторение сотен других, то зачем я?
Уже здесь, в армии, я много думал о том, как уживаются в нашей душе эти две силы. Было время, я жаждал исключительности, я не хотел соглашаться ни на что иное. Только в ней, в собственной исключительности, я видел смысл жизни, я страдал от сознания своей похожести на других, своей ординарности…
Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что наступит момент и я испытаю радость, самую неподдельную радость лишь оттого, что окажусь, что почувствую себя таким, как все, я бы не поверил, я бы рассмеялся в лицо этому человеку. Но вот испытал же! Сегодня после учений я стоял в строю, и, честное слово, ликование переполняло меня только потому, что я сумел быть таким, к а к в с е.
Я вдруг понял сегодня одну очень простую истину — на исключительность надо иметь право. Нужно стать таким, как все, и ничего не избегать, и ни от чего не отказываться, делать все то, что выпадает на общую долю, слиться со всеми, раствориться, исчезнуть среди всех, и вот, может быть, лишь тогда, пройдя через это, ты наконец обретешь, получишь право на исключительность… Может быть…
13
Наступил июль — Надя уезжала поступать в институт. Выбор ее и ее родителей после некоторых раздумий и колебаний пал на один из больших среднерусских городов, где жили дальние родственники Татьяны Степановны, которые на первых порах могли приютить Надю и избавить ее, привыкшую к дому, к родительской заботе и ласке, от чувства одиночества и неприкаянности.
Новикову и его товарищам по роте тоже предстояло в скором времени расстаться с военным городком, со своей казармой, чтобы продолжить службу уже в иных подразделениях, далеко на Востоке. И Новикова радовала эта предстоящая перемена в его солдатской жизни — он не представлял, как бы мог оставаться здесь, где все напоминало ему о Наде и где уже не было бы ее рядом…
Как прошли эти последние недели перед их расставанием, Новиков помнил плохо. Вернее, он помнил каждую, даже минутную, случайную их встречу, помнил все до мельчайших деталей, но в слитности своей, во временной протяженности эти недели как бы и не существовали вовсе, они распадались на какие-то обрывки ожиданий, чаяний, фантастических планов, сумбурных разговоров с Надей, долгих прощаний… Теперь, когда за плечами Новикова уже оставалось несколько месяцев службы и он не был больше салажонком, не имеющим ни прав, ни привилегий, ему нередко удавалось вырваться в увольнение. Другие солдаты, едва лишь оказывалась у них в кармане увольнительная, обычно тянулись к поселку, поближе к клубу, к закусочной, единственной на весь поселок, к маленькому парку с чахлыми деревьями и пыльными дорожками, к танцплощадке — без всех этих атрибутов вольной, праздничной жизни и увольнение им было не в увольнение. Новиков же обычно уходил вместе с Надей в сопки, где порой за весь день нельзя было встретить ни единой живой души, лишь полосатый гибкий бурундук, вызывая Надин восторг, иной раз застывал на стволе поваленной ураганом сосны и смотрел на них глазами-бусинками. Надя срывала свежую веточку сосны и покусывала ее в задумчивости, и, когда Новиков целовал ее, губы ее горчили и пахли хвоей…
— Знаешь, я никогда не думала, что смогу полюбить солдата, — говорила она. — Наверно, оттого, что они были постоянно вокруг меня с тех пор, как я помню себя. Такие привычные — словно домашние знакомые, в которых нельзя влюбиться, до того они тебе известны… А тебя я полюбила сразу, с первого взгляда, еще ты меня не видел. Правда, правда… Ты веришь, что так бывает?..
— Верю, — отвечал Новиков, смеясь. — Ты-то хоть видела меня, а я даже не видя влюбился…
— А если бы я какая-нибудь уродина оказалась, ты бы все равно меня полюбил? — спрашивала Надя, желая услышать «да» и в то же время, казалось, ревнуя Новикова к той другой, воображаемой Наде.
— Не знаю, — отвечал Новиков чистосердечно. — Не знаю. Да и не хочу я думать об этом!..
— Ах ты, мой солдатик, — говорила Надя, гладя его лицо, и в такие минуты Новикову начинало казаться, что это не он, а она старше и мудрее какой-то особой ласковой и мягкой мудростью, что это не он ей, а она ему может оказать и поддержку и помощь…
О чем бы они ни говорили, их разговоры рано или поздно непременно обращались к тому времени, когда Новиков уже не будет солдатом, а Надя станет студенткой, когда они встретятся уже в той, совершенно иной, непохожей на теперешнюю, жизни…
Они так ясно видели это будущее свое свидание, с такими подробностями рисовали его друг другу, что Новикову иногда казалось: появись у него такая возможность, и он бы без колебаний отдал те два года жизни, которые отделяли его от этой встречи.
Оттого что они теперь могли время от времени совершать подобные дальние прогулки и надолго оставаться вдвоем, Новиков вовсе не стал меньше ценить случайные, минутные встречи, которые порой выпадали на его долю, когда вдруг из своей шеренги, из движущегося ротного строя он замечал Надю, бегущую в легком летнем платьице в офицерский магазин или к матери в библиотеку… Наоборот, в такие минуты — промелькнула, и нет ее — он еще острее ощущал щемящую нежность и еще сильнее тосковал от предстоящей разлуки.
В тот день, когда уезжала Надя, взвод Новикова заступал в караул. Невезение преследовало его. А впрочем, может быть, это было и лучше — Новиков не любил проводов.
Но Надя, узнав, что он не сумеет ее проводить, сначала не поверила, решила, что он дразнит ее, а потом, поверив, расстроилась едва ли не до слез.
— Так нельзя, так нельзя, — повторяла она. — Ты отпросись, ты должен отпроситься…
Странно, но, проведя всю свою жизнь в военных городках, она — и это уже не первый раз замечал Новиков — имела лишь весьма приблизительное, а порой и искаженное представление о солдатской службе, о казарменном быте и о других тому подобных вещах.
Как мог Новиков отпроситься из караула? Даже подобное предположение звучало нелепо — с таким же успехом можно было сказать: отпросись из армии.
— Ну хорошо, если ты не можешь, если такой беспомощный, — говорила Надя, словно стараясь уязвить Новикова, — я сама это сделаю. Я попрошу папу, я поговорю с ним…
— Нет, нет, — сказал Новиков, — я не хочу.
Он-то знал, как скорей всего отнесется к подобной просьбе майор Ерошин, что он скажет. И сама мысль, что Надя будет просить за него своего отца, была неприятна ему, почти унизительна.
— Нет, нет, Надя, — повторил он. — Только не это.
Они едва не поссорились тогда; наверно, лишь мысль о том, что видятся они, может быть, уже в последний раз, удержала Надю от того, чтобы не наговорить ему колких, обидных слов…
Новиков так и не узнал, обращалась она к отцу или нет, — упрямства ей было не занимать, и она вполне могла поступить по-своему, — но он не сомневался, что Ерошин откажет ей. Так что даже если Надя и не послушалась Новикова, это ничего не изменило, и вечером Новиков с заряженным боевыми патронами автоматом шагал вслед за разводящим, сержантом Поповым, к продовольственному складу, который ему предстояло охранять.
Солнце уже зашло, и малиновое закатное зарево заливало почти полнеба. Никогда и нигде не видел Новиков таких закатов, как здесь. Было в них что-то мощное и тревожащее своей красотой и размахом, словно закат был таким же проявлением первобытных стихийных сил, как наводнение или землетрясение.
Новиков, как положено, принял пост: осмотрел и пересчитал печати, потом разводящий выслушал его короткий доклад, и смена ушла дальше, к следующему посту. А Новиков остался один.
Быстро темнело. Природа здесь, казалось, не желала признавать постепенных переходов — и времена года, и времена суток сменялись в этом краю одинаково резко, стремительно.
Тишина стояла вокруг, ни звука, ни шороха не доносилось до Новикова. Он думал о Наде — наверно, она сейчас уже на станции, вместе с майором Ерошиным и Татьяной Степановной ждет поезда… Сердце его тосковало оттого, что завтра он уже не увидит Надю, но — странное дело — то обстоятельство, что он не мог проводить ее, оказаться сейчас рядом с ней на вокзале, не тяготило его, не причиняло боли. Как будто вот так, в этой тишине, в стремительно сгущающейся темноте, он прощался с Надей проникновенней и искренней, чем мог бы сделать это там, на вокзале, при ее родителях, в чемоданно-вагонной суете… Мысленно он переносился к ней, он разговаривал с ней, он целовал ее пахнущие хвоей губы и гладил маленькие крепкие руки… Он был один, никто не мешал ему. Он не жалел, что судьба в лице начальника штаба распорядилась именно так, а не иначе и отослала его сюда, на этот пост. Или не зря говорят, что в самоотречении тоже есть своя сладость?..
Все эти мысли вовсе не мешали Новикову совершать свой обход — мерить шагами пространство вокруг склада и всматриваться и вслушиваться в темноту…
Вдали прогрохотал поезд. Это был еще не тот, не На-дин поезд — встречный. Отшумел, отсверкал далекими огоньками, и снова наступила тишина.
И вдруг особое, никогда раньше не испытанное чувство охватило Новикова. Словно он один-единственный бодрствовал сейчас в этом засыпающем, в этом погружающемся в безмолвие мире, словно он один был призван охранять и защищать эту огромную землю с ее безмятежно спящими людьми…
И в этот момент вдали снова возник еще совсем слабый, едва различимый гул. Перестук вагонных колес нарастал, становился увереннее, и наконец Новиков увидел поезд. Застыв на месте, он вглядывался в эту бегущую вереницу огней, в эту мерцающую цепочку — где-то там, за одним из этих празднично светящихся вагонных окон, была Надя. Догадывалась ли она, что Новиков смотрит сейчас отсюда, издалека, из темноты? Чувствовала ли?
Так он стоял, мысленно повторяя слова прощания, пока цепочка огней не исчезла, не растворилась совсем.
Он не знал еще, что пройдет целых четыре года, прежде чем они встретятся снова. Так уж сложатся обстоятельства — работа, болезнь матери, другие заботы не отпустят его раньше. И все-таки они встретятся, и, кажется, все будет именно так, как виделось им когда-то: на нем будет серый костюм, и белая рубашка, и галстук, и волосы у него уже отрастут давным-давно, и Надя уже не будет похожа на девочку-гимназистку. Она похорошеет, сделает короткую стрижку и станет еще привлекательнее, чем раньше. Новиков возьмет ее под руку, и они пойдут… Куда? Да какая разница куда!.. Разве не такую картину видели они когда-то в своих мечтах?
Но странно — чем дольше будет вглядываться Новиков в эту новую Надю, чем тщательнее станет прислушиваться к тому, что творится в его собственной душе, тем с большей печалью, удивлением и горечью он обнаружит, что не находит в себе уже прежнего чувства к этой девушке. Как будто, расставшись с солдатской гимнастеркой, снова обретя прежнюю независимость, он одновременно утратит что-то такое, без чего невозможна их любовь. Как будто это их чувство, подобно некоему капризному и чуткому растению, могло обитать лишь в определенной среде, и стоило этой среде измениться, как оно погибло.
Они будут разговаривать и шутить как ни в чем не бывало, словно двое давних хороших знакомых, но в Надиных глазах он угадает ту же печаль и удивление, ту же отчужденность…
Они будут говорить обо всем и лишь одного так и не коснутся — своего прежнего чувства. Потом, уже под конец, когда разговор почти иссякнет, Новиков спросит ее об отце, о майоре Ерошине, и она ответит:
— Собирается на пенсию… Не хочет, конечно, ужасно, мучается. Но ты ведь знаешь моего папу: если Родина требует… раз надо, так надо… В общем, через месяц прощается с армией…
И у Новикова вдруг сожмется сердце от запоздалой признательности и сочувствия к этому человеку — к своему бывшему комбату…
Они с Надей и простятся как хорошие знакомые, все еще не понимая, что произошло, простятся, чтобы уже не встречаться больше никогда…
Ничего этого не знал Новиков.
И потому он еще некоторое время всматривался в темноту, где растворилась цепочка огней, где исчез поезд, увозящий Надю. А потом встряхнулся, поправил автомат и снова зашагал вокруг продовольственного склада.
ПРОИСШЕСТВИЕ НА ПЯТОМ ПОСТУ
1
Взвод заступал в караул. Рядовой Ветлугин, готовясь к этому событию, снаряжал патронами магазин автомата. Патроны, выданные старшиной, тускло поблескивая, лежали перед ним. Ветлугин подхватывал очередной патрон, заученным движением вгонял его в магазин, большим пальцем нажимая на гильзу и ощущая легкое сопротивление скрытой в корпусе магазина пружины. Эту нехитрую привычную операцию он проделывал быстро и ловко, с удовольствием — словно семечки щелкал.
Сегодня с самого утра у Ветлугина было хорошее настроение.
Вообще, о ветлугинском настроении в роте ходили анекдоты, целые забавные истории. Особенно любили рассказывать их новичкам, людям непосвященным, солдатам из других рот, тогда уж на подробности, порой самые невероятные, не скупились — и рядовой Ветлугин начинал выглядеть этакой ротной знаменитостью, личностью почти легендарной.
Рассказывали, например, что однажды, когда роту инспектировала комиссия чуть ли не из самой Москвы, на вопрос генерала: «Как настроение, товарищ солдат?» — Ветлугин без заминки ответил: «Ничего, спасибо. А у вас?» И генерал будто бы не нашелся что сказать и только посмотрел на Ветлугина долгим запоминающим взглядом.
На самом деле ничего подобного не было, никакого личного разговора, пусть даже состоявшего всего из трех коротеньких фраз, между генералом и рядовым Ветлугиным не происходило — Ветлугин лишь прокричал, как положено, вместе со всей ротой в ответ на генеральское приветствие «Здравия желаем, товарищ генерал!» — вот и все.
Анекдоты же, которые рассказывали про него в роте, имели совсем иное, гораздо более простое происхождение.
Случилось это, когда Ветлугин еще только появился во взводе лейтенанта Безбеднова.
Стояло самое скверное время года — промозглый декабрь: пасмурные дни, ранние сумерки, команда дневального «Подъем!», когда на дворе еще и не собиралась рассеиваться глубокая ночная темень… Все это нагоняло на Ветлугина тоску и ощущение собственной неотличимости, затерянности среди сотен таких же, как он, ощущение, будто никому и дела нет, что ты не похож на остальных, что у тебя есть свои желания, свои склонности, способности, может быть даже таланты, — здесь ты начинаешь жизнь словно бы заново, жизнь, протекающую по иным законам, чем те, к которым ты привык за твои девятнадцать лет.
До армии, на «гражданке», Ветлугин отпустил маленькие усики, у него были густые волосы, начесанные низко на лоб, почти к самым глазам, — здесь он лишился этих своих отличительных внешних признаков и вдруг обнаружил, как невыразительно, как схоже со всеми остальными его лицо!
До армии, еще в школе, он считался остроумным парнем, во всяком случае однажды даже довел до слез своими остротами молоденькую англичанку — здесь же вдруг почти утратил свою склонность острить. Впрочем, даже если он и пытался на замечания старшины отвечать остротами, старшина всякий раз неизменно реагировал совершенно одинаково. «Острить, Ветлугин, будете дома со своей тещей, — говорил он мрачновато. — А еще поболтаете — заработаете наряд вне очереди».
Что касается командира взвода, лейтенанта Безбеднова, то почему-то Ветлугин долгое время не был даже уверен, что тот помнит его фамилию. Да стой перед ним самим тридцать гавриков, в одинаковых гимнастерках, одинаково остриженных, с одинаково торчащими ушами, разве сумел бы он запомнить, кто там Смирнов, кто Сидоров, а кто Чижиков?
Лейтенант Безбеднов являлся перед строем чисто выбритым, подтянутым, офицерская форма — не настолько новенькая, чтобы выдавать в нем вчерашнего выпускника училища, но и ношенная, казалось, лишь ровным счетом столько, сколько понадобилось для того, чтобы она стала его, лейтенанта Безбеднова, неотъемлемой частью, чтобы он чувствовал себя в ней легко и свободно, — эта офицерская форма всегда сидела на нем как-то особенно щегольски. Казалось, он являлся к своим подчиненным, чьи гимнастерки были мешковаты, а пилотки сами собой вечно сбивались на затылки, из какого-то другого мира — до того ли ему было, чтобы отличить, выделить Ветлугина среди остальных?..
Очень скоро Ветлугин убедился, что ошибался. Как-то их отделение занималось расконсервацией радиостанции. Вооружившись ветошью, солдаты старательно снимали толстый слой смазки. Подобную работу, грязную и кропотливую, Ветлугин не любил — возни много, пока доберешься до каждого переключателя, до каждого винта, весь перемажешься, устанешь, вымотаешься, а работать на радиостанции потом будут другие — придут на готовенькое.
Занятый своими мыслями, Ветлугин и не заметил, как возле него остановился лейтенант. Когда же наконец он увидел взводного, изображать усердие было уже поздно.
— Что-то я замечаю, Ветлугин, вы с ложкой совсем в другом темпе управляетесь, — сказал лейтенант.
— А это когда как, — отозвался Ветлугин. — Я, товарищ лейтенант, человек настроения.
Солдаты, те, кто работал рядом, засмеялись.
— Между прочим, я тоже человек настроения, — с ударением на слове «тоже» сказал Безбеднов. — И запомните: ничто так не портит мне настроения, как вид нерадивого солдата.
Смысл этой фразы не предвещал Ветлугину ничего хорошего, но сказана она была весело, и как ни странно, но именно в этот момент Ветлугин вдруг почувствовал, что между ним и взводным протянулась какая-то ниточка, возникло понимание. Глаза их встретились, и во взгляде лейтенанта Ветлугин уловил интерес, любопытство, словно он, этот взгляд, говорил: ага, вот каков ты! Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше…
— А что, товарищ лейтенант, разве это справедливо, — уже чуть позже, во время перекура, продолжал развивать свою мысль Ветлугин, чувствуя, что солдаты ждут от него новых хохм, и оттого воодушевляясь еще больше, — разве это справедливо, посудите сами: теперь вон ученые уже точно доказали, что настроение человека, его работоспособность и все такое прочее зависит знаете от чего? От взрывов на солнце! Точно, точно, от всяких там протуберанцев, пятен, излучений… И что же это выходит — на солнце взрыв, а рядовой Ветлугин отвечай за это? У меня, может, особо чувствительная натура, через меня, может, сейчас насквозь поток каких-нибудь там нейтрино пронесся, у меня от этого настроение падает, жизненный тонус снижается, а мне за это наряд вне очереди? Ну, понимаю, еще старшина роты, он просто не в курсе последних научных открытий, ему простительно, а вы-то, товарищ лейтенант, наверно, журнал «Наука и жизнь» выписываете?
Солдаты смеялись, смеялся и Безбеднов.
— Ох, я и не знал, что у меня во взводе такой комик завелся, — сквозь смех говорил он. — Не знал…
Вот с той поры, с этого разговора и пошли гулять по роте анекдоты о Ветлугине и его настроении.
И все же, разумеется, вовсе не солнечные протуберанцы и прочие космические явления были причиной того, что сегодня с утра Ветлугиным владело хорошее настроение. На то были гораздо более простые и естественные причины.
Сегодня взвод заступал в караул, а там, глядишь, уже и до воскресенья рукой подать — и увольнительная у него в кармане. В прошлый раз, две недели назад, когда прощался он с Люсей, казалось ему: и не дождаться никогда следующего увольнения, а вот оно, пожалуйста, маячит уже совсем близко. Впрочем, Ветлугин обладал одним свойством, которое облегчало ему жизнь: он умел забывать, отключаться. Не совсем забывать, а лишь на то время, когда думать о Люсе было бессмысленно и бесполезно — только себя изводить. Едва он возвращался в казарму, она словно исчезала из его жизни и возникала снова, когда приближалось очередное увольнение, — тут уж мысли о ней преследовали его неотступно и неотвязно. Даже намек на то, что увольнение почему-либо может сорваться, моментально выводил его из себя.
Ходить в караул Ветлугин любил — он, в общем-то, любил все, что хоть как-то нарушало однообразный распорядок армейской жизни. Он любил часы, которые отводились для подготовки и отдыха перед заступлением в караул, — в его воображении они чем-то напоминали часы накануне боя, когда, кажется, все готовятся к одному и тому же, но каждый это делает по-своему: кто торопится пораньше забраться на койку, не упустить ни минуты из тех полутора часов, которые даются на сон, кто дописывает письмо, кто надраивает до блеска сапоги или старательно подшивает свежий подворотничок. Ему нравилось ощутить в пригоршне тяжесть патронов — с хищными головками пуль, с тускло отливающими желтизной гильзами. Он перекатывал их в ладони, как перекатывают отборные зерна. Ветлугин никогда никому не признался бы в этом, но он испытывал особую любовь к оружию. Был ли это древний инстинкт охотника и воина, живущий, наверно, в тайных уголках души каждого мужчины, или просто сохранившаяся с детства мальчишеская тяга к оружию, ко всему, что связано с армией, с военными людьми, но так или иначе, а каждый раз, когда в его руках оказывался автомат, когда прикасался он к вороненой стали его ствола, когда привычным движением пальцев снаряжал магазин патронами, Ветлугин ощущал возбуждающее, азартное волнение — как будто что-то менялось в нем самом, сильнее он становился, что ли… Он никогда не отличался физической силой, даже здесь, в армии, несмотря на усиленные тренировки, от которых он, впрочем, частенько правдами и неправдами старался увильнуть, его грудь по-прежнему оставалась впалой, да и вся его высокая, чуть сутулая фигура выглядела довольно нескладно. Поэтому не любил он вместе со всеми ходить в баню, необходимость раздеваться рядом с другими солдатами причиняла ему самое настоящее страдание. Зато когда ощущал он в своих руках привычную тяжесть автомата, когда прикреплял к ремню подсумок с магазинами или вкладывал в пластмассовые ножны массивный армейский нож, он чувствовал вдруг, как тело его наливается силой, он чувствовал себя м у ж е с т в е н н ы м.
Нравилась Ветлугину в караульной службе та независимость, та почти неограниченная власть, которая давалась ему уставом, когда стоял он на посту. Никто не мог перешагнуть границу поста без его разрешения. Будь ты хоть майор, хоть полковник — «Стой! Кто идет? Принять правее!» — и будьте здоровы, живите богато, шагайте прочь, здесь командует только один человек — часовой Ветлугин.
Правда, в ночные часы он быстро уставал, у него начинало ломить плечи, клонило в сон, последние минуты тянулись бесконечно, он раздражался оттого, что смена не идет так долго. И даже когда ночь казалась теплой, перед рассветом все равно начинала пробирать до дрожи промозглая сырость.
Но все эти тяготы словно выветривались из памяти Ветлугина за тот месяц, который проходил, пока снова наступала очередь их взводу отправляться в караул, и он опять радовался, когда приближался этот день. Казалось, в его характере до сих пор сохранилось что-то от маленького капризного ребенка, который каждый раз упрашивает мать взять его с собой на рынок, но уже через квартал от дома начинает хныкать, и просить пить, и жаловаться на усталость. Но вот проходит неделя — и он поднимает плач, если мать намеревается оставить его дома…
— Караул, приготовиться к построению!
Уже все готово, уже подогнано снаряжение, и магазины надежно упрятаны в подсумок, и бумага и ручка тоже не забыты — самое милое дело писать письма в караульном помещении под храп отдыхающей смены, когда тебе положено бодрствовать… Все готово, и еще можно успеть докурить сигарету, или смахнуть пыль с сапог, или сделать последний ход в доминошной баталии…
— Парни, кто спер мою бархотку, признавайтесь!
— Витька, одолжи конвертик!
— Братцы, сколько печатей на третьем посту? Кто помнит? Все из головы вылетело!
— Караул, выходи строиться!
— Ах, не дали забить морского, а какая «рыба» уже была на подходе, какая «рыба», — вы только полюбуйтесь, парни!
— Ветлугин, уже сказали — строиться! — Это тянет его, торопит Сашка Синицын. Синицын из тех людей, кому стоит раз сказать, что опаздывать в строй недопустимо, и он уже никогда до конца жизни не позволит себе усомниться в этом. — Ветлугин, слышишь?!
— Не суетись, без нас не уйдут.
Ветлугин нарочно поддразнивает Синицына, но сам швыряет домино и бежит к выходу. Честно говоря, получать выговор от лейтенанта Безбеднова у него нет никакой охоты.
Лейтенант Безбеднов, затянутый портупеей, с кобурой, которую оттягивает тяжесть пистолета, молча наблюдает, как строятся солдаты.
Последний осмотр, последняя проверка перед полковым разводом.
— Караул, напра-во! Шагом марш!
Раз! Раз! Раз!
Только стучат сапоги, только слегка покачиваются автоматы за плечами солдат.
Дневальный с крыльца казармы смотрит вслед строю.
И хотя расстаются они с казармой всего на сутки, есть в этой минуте какая-то значительность, и легкая грусть, и торжественная суровость…
2
В четвертом часу ночи начальник караула лейтенант Безбеднов почувствовал, что его тянет ко сну. В караульном помещении было жарко. На топчанах храпели солдаты из отдыхающей смены. Бодрствующие караульные кто читал, кто писал письма, кто просто негромко переговаривался между собой.
Чтобы стряхнуть с себя дремоту, лейтенант вышел на крыльцо — и в лицо ему сразу ударил сильный ветер. Ветер нес запах далекой грозы и полыни.
Безбеднов разглядел фигуру часового, охранявшего караульное помещение. Солдат стоял неподвижно у самой изгороди — казалось, он напряженно прислушивается к чему-то. Лейтенант Безбеднов хотел окликнуть его, но не успел. Хлопнула дверь, и на крыльцо выскочил помначкар, сержант Васильченко.
— Товарищ лейтенант! Пожар!
Лейтенант быстро обернулся. Голос его помощника звучал слишком панически, и, чтобы сразу сбить эту панику, не дать ей разрастись, он спросил нарочито спокойно:
— Где? Какой пожар?
— На пятом! Пожар, самый настоящий пожар, товарищ лейтенант!
— И взрыв вроде был слышен! — раздался возбужденный голос оттуда, где темнела у изгороди фигура солдата.
Сколько раз за те три года, что служил здесь лейтенант Безбеднов, что ходил начальником караула, получал он от проверяющих вводные, сколько раз звучало это слово «пожар», сколько раз приходилось ему распоряжаться и гасить условное «пламя», «бушевавшее» то на складе ГСМ, то в автопарке, то в штабе. Но сейчас, когда впервые это была не проверка, не тренировка, когда случилось то, к чему его готовили, для чего усиленно тренировали, когда ему самому предстояло мгновенно оценить ситуацию и принять решение, он на секунду все-таки растерялся. Ему показалось: он не помнит, забыл, что надо сейчас делать. Но уже в следующие мгновения он взял себя в руки.
— Поднять караул! Быстро!
И уже вслед сержанту Васильченко крикнул:
— Кто у нас на пятом?
— Ветлугин, товарищ лейтенант! Рядовой Ветлугин!
3
Если бы лейтенанта Безбеднова спросили, чего больше доставил ему рядовой Ветлугин за те полгода с лишним, которые пребывал у него в подчинении, — беспокойства или радости, лейтенант затруднился бы ответить. Да и не было у него аптекарских весов, чтобы взвешивать на них свое отношение к солдатам, не такая у него была натура. Этим пусть Никифоров занимается, командир второго взвода, — он любитель подсчитывать и сопоставлять «за» и «против», у него даже что-то вроде дневника имеется, куда он свои наблюдения заносит.
Однажды он показывал этот дневник Безбеднову, делился, так сказать, опытом. Там о каждом солдате все записано — и любая подмеченная черточка характера, и любой самый пустяковый недостаток, и любой хороший, достойный поступок. Полный ажур, одним словом, все как на ладони. Может, это и правда полезно, и в работе, может быть, помогает, только все-таки это не для него, не для Безбеднова. Его и солдаты, он знал, любили за бесшабашность, за отсутствие мелочной придирчивости, за умение и наказать щедро, на всю катушку, если уж выведут его из себя, и простить, и поощрить, тоже не скупясь, от души. Он сам слышал, как говорили однажды между собой об этом в курилке солдаты, и этот случайно услышанный разговор прибавил ему уверенности, ему было приятно сознавать, что солдаты выделяют его среди других командиров. Иной раз он любил щегольнуть перед солдатами своей независимостью, этакой легкой пренебрежительностью по отношению к «штабистам», какие бы высокие посты они ни занимали в полку и какие бы высокие звания ни имели. Пожалуй, делал он это не без умысла, потому что знал — ничто не может так поколебать авторитет командира, как страх его, приниженность перед вышестоящим начальством. А солдаты — в этом Безбеднов был убежден — непременно должны гордиться своим командиром.
И хотя, разумеется, лейтенанту Безбеднову в своей жизни не приходилось ни воевать, ни ходить в настоящую разведку за «языком» во вражеский тыл, свое отношение к солдатам он определял старым, проверенным войной принципом: «Пошел бы я с этим человеком в разведку или нет?» Причем он умел произнести эту фразу таким тоном, с такой уверенностью и при этом так испытующе, оценивающе посмотреть на стоящего перед ним солдата, что подчиненным невольно начинало казаться, что он, их командир, и правда умудрен боевым опытом, что, несмотря на свою молодость, каким-то фантастическим образом он сумел пройти через войну, — они же перед ним были всего лишь необстрелянными новобранцами, чья участь зависела сейчас от произнесенного им слова…
О Ветлугине лейтенант однажды сказал:
— Если бы вас, Ветлугин, хорошенько продраить песочком, с вами бы, пожалуй, я в разведку пошел… — Он помолчал немного, посмеиваясь одними глазами, и добавил неожиданно: — Только неизвестно, удалось бы нам с вами вернуться или нет…
— Это как же понимать, товарищ лейтенант? — спросил Ветлугин. — Вы меня похвалили или даже совсем наоборот?
— А вы подумайте. Подумайте. Я, знаете, люблю, когда мои солдаты, хотя бы изредка, думают, — все так же посмеиваясь, сказал лейтенант.
Ему был симпатичен этот солдат, и он не скрывал этого. Иногда ему даже казалось, что между ними есть какое-то сходство, что Ветлугин напоминает его самого — такого, каким был Безбеднов несколько лет назад, еще курсантом.
Хотя, конечно, если говорить честно, характерец у Ветлугина был не сахар. У него вечно возникали конфликты со старшиной роты или с командиром отделения, и не раз, приходя вечером в казарму, лейтенант заставал Ветлугина ползающим под койками с мокрой тряпкой в руках.
Не пришил пуговицу… Разговаривал в строю… Препирался со старшиной…
Однажды сержант Васильченко доложил Безбеднову:
— Прошу наказать Ветлугина вашей властью. Оказывал сопротивление.
— Что, что? — изумился Безбеднов. — Сопротивление? Это как же?
— Телевизор, товарищ лейтенант, не давал выключать.
— Ах вот оно что… — с некоторым облегчением протянул Безбеднов. — Ну-ка, давайте Ветлугина ко мне.
— Что же это вы, Ветлугин, бунт на корабле вздумали устраивать? — спросил лейтенант Безбеднов, когда остался наедине с солдатом, — Рассказывайте, что там вчера произошло.
— Так, товарищ лейтенант, что произошло… По телевизору хоккей показывают, первенство мира, сами знаете… А сержант Васильченко говорит: «Приготовиться к отбою!» Выключайте, говорит, Ветлугин, ваше кино… Ну, а я… Первенство мира же, товарищ лейтенант! Жалко им, что ли?
У него и теперь от обиды совсем по-ребячьи дрогнули губы.
— Ох, Ветлугин, Ветлугин… Ну что мне с вами делать? Чистый детский сад!.. «Жалко, что ли…» — передразнил Безбеднов. — Это дети так клянчат, когда игрушку у них отбирают. А тут армия. Ар-ми-я! — Лейтенант вдруг повысил голос и ударил ладонью по столу. — Поймете вы это, Ветлугин, когда-нибудь или нет? Вы телевизор до двух часов ночи смотреть желаете, а потом на занятиях, как зимние мухи, спать будете — так, что ли? Или, может быть, ради такого случая утром вас не беспокоить прикажете?
— Так пусть тогда и они не смотрят! — упрямо сказал Ветлугин.
— Кто они?
— Ну, сержанты. А то — нам отбой, а сами — назад к телевизору. Это справедливо? Почему они имеют право, а мы не имеем?
— Вот дослужитесь до сержанта, тогда мы с вами и поговорим на эту тему, — сердито сказал лейтенант. — Что-то вы очень много о своих правах печетесь, Ветлугин. А вот об обязанностях почему-то забываете…
Однако про себя Безбеднов подумал: окажись он, курсантом, в такой же ситуации, наверняка рассуждал бы сейчас так же, как Ветлугин, и возмущался бы так же…
Они оба помолчали. Ветлугин по-прежнему стоял перед взводным по стойке «смирно».
— В общем, так. Два наряда вне очереди, и чтобы больше жалоб на вас я не слышал. Иначе жалуйтесь сами на себя. — И лейтенант усмехнулся. — Ясно?
— Так точно, ясно!
В глазах Ветлугина Безбеднов прочел ответную затаенную усмешку — казалось, сейчас в слово «ясно» солдат вкладывал свой особый смысл: мол, нам-то с вами, товарищ лейтенант, все ясно… Я, мол, понимаю — вы должны меня наказать, вы не можете по-другому, и я на вас не в обиде…
— Вы же способный парень, Ветлугин, вам же стоит только захотеть, вы еще отличным солдатом станете!
Лейтенант говорил правду — за то и любил он Ветлугина и прощал ему многое, что был Ветлугин едва ли не самым способным солдатом в его взводе. Лейтенант и сам вряд ли сумел бы объяснить это словами, но он точно знал, что есть люди, которые могут выучить на «хорошо» или даже на «отлично», но только в ы у ч и т ь, и закон Ома, и устройство пентода или тетрода, и определение обратной связи, и назначение конденсатора или реле в той или иной схеме, а есть люди, которые эти законы, эти процессы, невидимо протекающие за стенками аппаратуры, в радиосхемах, не просто заучивают, а ч у в с т в у ю т, для них эти процессы — ж и в ы е. Это почти как в музыке — можно играть на рояле, не имея музыкального слуха, можно выучить нотную грамоту и при этом даже не подозревать, что это такое — ч у в с т в о в а т ь музыку.
Ветлугин был из тех, кто ч у в с т в о в а л. Вообще, лейтенанта Безбеднова всегда раздражали солдаты, которым приходилось втолковывать, разжевывать, повторять по десять раз одно и то же, — он быстро терял терпение, он не мог допустить, что можно не понимать таких простых, таких ясных вещей.
Ветлугину ничего не нужно было ни повторять, ни втолковывать. Когда лейтенант следил за тем, как легко, уверенно, даже с некоторым словно бы небрежным изяществом скользила указка в руках Ветлугина по схемам радиостанции, он готов был простить этому солдату и тройку по физподготовке, и неприязнь к строевой. Он сам ничего не любил так, как работу на радиостанции, любил возиться в монтаже, любил здесь все, каждую мелочь, даже характерный запах нагревающейся аппаратуры, — он не понимал, как можно оставаться равнодушным, раз прикоснувшись к этому миру. И ему нравилось выражение чисто мальчишеского нетерпеливого любопытства, которым освещалось лицо Ветлугина, когда тот входил в аппаратную, нравилась сосредоточенная уверенность, с которой брался Ветлугин за пробник, чтобы отыскать истинную или мнимую неисправность…
И сейчас, в те секунды, когда слова «пятый пост» — «пожар» — «Ветлугин» соединились в сознании лейтенанта в одно целое, именно это выражение сосредоточенной уверенности на лице солдата всплыло в его памяти…
4
— «Рябина»! «Рябина»! Вы что, позасыпали там? «Рябина»! Дайте второй быстро!
— Дежурный по части капитан Фатеев слушает.
— Товарищ капитан, докладывает помощник начальника караула сержант Васильченко. На пятом посту пожар. Принимаем необходимые меры. Караул поднят по тревоге. Лейтенант Безбеднов с бодрствующей сменой отбыл на пост.
— Кто у вас на пятом?
— Рядовой Ветлугин, товарищ капитан!
— Ах ты… — Васильченко почувствовал, что капитан еле удержался от крепкого словца. — Хорошо, поднимаю дежурный взвод. Сейчас будет помощь. — И все-таки не утерпел, добавил, прежде чем опустить трубку: — Вечно у этого вашего Ветлугина фокусы…
5
Капитан Фатеев, замполит батальона, недолюбливал Ветлугина. Об этом хорошо знал лейтенант Безбеднов, потому что та, в общем-то, не ахти какая значительная история, которая вызвала недовольство замполита, произошла на его глазах и даже, можно сказать, не без его непосредственного участия.
Случилось это месяца два назад. Тогда Ветлугин едва ли не каждый день работал вместе с лейтенантом Безбедновым в радиоклассе. Радиокласс переоборудовался, устанавливались новые электрифицированные схемы, монтировались тренажеры. Весь взвод во главе с сержантом Васильченко в эти дни был занят на хозяйственных работах, а лейтенант Безбеднов, Ветлугин и еще два-три солдата каждое утро отправлялись в радиокласс.
Работа эта была по душе Ветлугину — она давала ему относительную свободу: ему не приходилось в эти дни маршировать строем в казарму или из казармы, не приходилось петь вместе со всеми: «Ах ты, ласточка — касатка сизокрылая…» — любимую песню ротного старшины, не приходилось выдавать строевой шаг и соблюдать равнение; одним словом, он чувствовал себя почти гражданским человеком. Пока они работали бок о бок с лейтенантом, пользовались одним и тем же паяльником, заглядывали в одну и ту же схему, торопливо набросанную на тетрадном листке, пока гадали, как бы изловчиться и добыть лишний лист фанеры или кусок стекла — они были равны. Ветлугин всегда мог отпроситься у лейтенанта сбегать в ларек за сигаретами или слетать в штаб к знакомому почтальону, чтобы раньше других выведать, нет ли письма…
Как-то наступило время обеда, и оба солдата, работавшие вместе с Безбедновым и Ветлугиным, ушли в столовую, Ветлугин же не торопился — он сосредоточенно зачищал проводник от изоляции, готовясь паять.
— А ты, Ветлугин, что же? — спросил Безбеднов. Он теперь все чаще, обращаясь к Ветлугину, переходил на «ты». — Или голодовку объявил?
— Да нет, товарищ лейтенант, если можно, я еще поработаю. Неохота бросать. Я лучше потом в офицерскую столовую сбегаю…
— Что, надоела солдатская «шрапнель»? — засмеялся Безбеднов. — Или разбогател? Деньги-то у тебя откуда, Ветлугин?
— Мамаша присылает.
— Ну, значит, мамаша твоя разбогатела, так, что ли?
Ветлугин пожал плечами.
— Много ли, товарищ лейтенант, солдату надо… А ей приятно. Мать же, заботится, переживает…
— Понятно, — сказал Безбеднов. — Ну, смотри, Ветлугин, работай, оставайся, если хочешь. Только, пойдешь в столовую, там, в столовой, на глаза бате не попадайся, понял?
Так продолжалось три дня.
Пока рота обедала, Ветлугин работал, а потом отправлялся в офицерскую столовую, которая чем-то напоминала ему кафе в родном городке, где он частенько бывал с ребятами. На столиках, которые после массивных солдатских столов казались особенно хрупкими, стояли цветы и бумажные салфетки в пластмассовых вазочках, обедающих обслуживали официантки в белых передниках — их подкрашенные губы и загорелые ноги волновали Ветлугина. Он заказывал себе салат, борщ, бефстроганов, бутылку лимонада и ел не торопясь, наслаждаясь ощущением своей независимости. На него не обращали внимания — сюда, в офицерскую столовую, нередко заходили пообедать прикомандированные солдаты.
На третий день его увидел замполит батальона капитан Фатеев.
Он подошел к столику, за которым Ветлугин допивал свой лимонад, и спросил:
— А вы что тут делаете?
— То же самое, что и все, — сказал Ветлугин. — Обедаю, товарищ капитан.
— Почему не с ротой? Кто вам разрешил?
— Лейтенант Безбеднов.
— Тогда передайте лейтенанту Безбеднову, что я вам запретил появляться здесь.
— А что, разве я не имею права? — уже с открытым вызовом спросил Ветлугин. Он видел, как на них с любопытством смотрят официантки, и уже не мог сдержаться.
— Права?.. — переспросил капитан Фатеев. — Давайте-ка выйдем отсюда…
— Право, может, вы и имеете… — задумчиво сказал Фатеев, когда они вышли из столовой. — Имеете. Только в этом ли дело?.. Я бы хотел, чтобы вы об одном помнили: войсковое, солдатское товарищество не тогда начинается, когда один солдат другого на поле боя спасает, оно гораздо раньше начинается — тогда, когда солдаты один и тот же хлеб едят, за одним столом локоть к локтю сидят… Вот о чем подумайте, Ветлугин…
На следующий день лейтенант Безбеднов сказал Ветлугину:
— Больше не ходите в офицерскую столовую, ясно? Я не хочу, чтобы меня из-за вас отчитывали как мальчишку.
6
Еще не прошло и двух минут с того момента, когда караул был поднят по тревоге, а лейтенант Безбеднов вместе с шестью солдатами уже бежал к пятому посту.
На бегу и Безбеднов, и солдаты вглядывались в уже редеющую темноту, — не виден ли огонь? — и мысль у всех сейчас была об одном: как там Ветлугин? Что с ним? Все они слишком хорошо понимали, как много в таких случаях зависит от действий часового в самые первые мгновения.
Пятый пост был самым отдаленным, он размещался на окраине военного городка, сразу за ним проходила одноколейная железнодорожная ветка. И, хотя для часового не может быть поста более важного, чем тот, который доверен сегодня тебе, солдаты относились к пятому посту без особого почтения. Хозяйственный склад, а рядом — уже отслужившие свое, но еще не списанные автомашины, какие-то бочки, старые маскировочные сети, чугунные трубы и прочие вещи, на первый взгляд порой совершенно бесполезные, но тем не менее тщательно оберегаемые старшиной — начальником склада, который не без основания полагал, что нет такой вещи, в которой рано или поздно не возникнет нужда, — вот что представлял собой пятый пост, вот что доверялось здесь охранять часовому.
Солдаты бежали молча, только топот сапог да ровное дыхание слышал Безбеднов за своей спиной. Иногда лейтенанту казалось, что он уже чувствует запах дыма, но впереди, за пеленой сумрака, по-прежнему ничего нельзя было разобрать.
Огонь они увидели внезапно, словно вдруг вывернули из-за угла. Налетел порыв ветра, и языки пламени вскинулись вверх, и тогда сразу стала видна фигура часового, суетившегося возле огня. Горел не сам склад, горели, кажется, ящики возле склада, но велик ли пожар — Безбеднов еще не успел оценить.
— Стой! Кто идет?
Голос Ветлугина прозвучал хрипло, прерывисто. Но у Безбеднова сразу отлегло от сердца. Жив парень, цел!
Брови Ветлугина были сильно опалены, рукава гимнастерки порваны и висели лохмотьями, возле плеча материя еще тлела. На земле валялся использованный огнетушитель.
Ветлугин шагнул навстречу Безбеднову, хотел, видно, доложить, но внезапно согнулся от боли.
Огонь, словно воспользовавшись минутной передышкой, резко взметнулся, и солдаты бросились растаскивать горящие ящики.
К посту, переваливаясь с боку на бок, ярко светя фарами, уже подходили две машины — пожарная и санитарка.
— Как это началось? — только и успел спросить Безбеднов, пока Ветлугина вели к санитарной машине.
— Не знаю… Я заметил, когда уже горело…
Караульные и солдаты из дежурного взвода добивали пламя. Дым ел глаза, и пепел оседал на лица.
Теперь по разбросанным, обгоревшим обломкам ящиков, по выжженной траве, по черным подпалинам на стене склада Безбеднов видел, что огонь прорывался к складу, и угадывал, как нелегко пришлось Ветлугину в те несколько минут, которые он здесь один на один боролся с пламенем. Тревожное напряжение постепенно отпускало Безбеднова, и на смену ему приходило горделивое чувство, которое он испытывал всякий раз, когда случалось отличиться кому-нибудь из солдат его взвода, и которое он обычно старался скрыть за шуткой или насмешкой…
7
БОЕВОЙ ЛИСТОКСтояла ночь, когда рядовой Ветлугин заступил на пятый пост. Как положено по Уставу гарнизонной и караульной службы, он бдительно нес службу, пристально вглядываясь в темноту. Неожиданно возле склада он увидел пламя. Горели доски. Наверно, ветер занес сюда искру от проходившего паровоза. Смелый воин не растерялся. Он дал знать о пожаре в караульное помещение, а сам немедленно вступил в борьбу с огнем. Пламя бушевало все сильнее. Вот на его пути оказалась пустая бочка из-под бензина. Раздался взрыв — вспыхнули пары горючего. Однако рядовой Ветлугин действовал самоотверженно и умело. Несмотря на ожоги, он не покинул свой пост, пока не прибыла помощь. Превозмогая боль, он мужественно боролся с пожаром. Благодаря его умелым действиям огню не удалось перекинуться на хозяйственный склад. Имущество было спасено. Подоспевшие караульные Веретенников, Иванов, Лобанов и другие погасили пожар. Сейчас рядовой Ветлугин находится на излечении в санчасти.
Товарищи! Берите пример с отважного воина!
Возле «Боевого листка», вывешенного в казарме, толпились солдаты и возбужденно переговаривались между собой.
— Во повезло Ветлуге — теперь ему отпуск дадут! Как пить дать домой поедет!
— Ну да, тебе бы так повезло, — ему, говорят, кожу пересаживать будут.
— Да ну?
— Точно. С твоей задницы срежут — ему пересадят.
— Брось трепаться — парень, можно сказать, геройский поступок совершил, а ты треплешься, зубы скалишь.
— Это который Ветлугин — из первого взвода, что ли?
— Ну да, длинный такой, тощий.
— Хохмач он. Мы нормы ГТО сдавали, так он с пятиметровой вышки прыгнуть в воду перетрухал. Не могу, говорит, и все, у меня, мол, с детства высотобоязнь — вроде болезни. Потом на трехметровую спустился, пару раз сиганул и еще смеется: я, говорит, можно считать, с шести метров прыгнул — еще на метр побольше вас!
— Выходит, с вышки прыгнуть боялся, а тут не сдрейфил…
— Это дело другое. На посту ведь.
— Тут, ребята, главное — сразу не растеряться… Вот я, к примеру…
— Про него, наверно, и в газете теперь напишут…
— А как же! Сегодня корреспондент уже приходил, спрашивал…
— Так, ребята, наш батальон, глядишь, на весь округ прославится!
— А что, пусть знают, какие люди в Третьем гвардейском служат!
…Не так уж часто чрезвычайные происшествия врываются в размеренную армейскую жизнь, и оттого ночное событие будоражило сейчас воображение солдат — в конце концов, каждый из них мог оказаться на месте Ветлугина и тоже, ясное дело, не подкачал бы — все они теперь ощущали себя словно бы причастными к тому, что произошло на пятом посту сегодня ночью…
8
Днем в санчасти, в небольшой палате, где лежал Ветлугин, появился секретарь комитета комсомола полка лейтенант Тецоев. Вслед за ним вошел незнакомый Ветлугину офицер. И хотя из-под небрежно накинутого и наполовину сползшего с плеча халата на погоне гостя выглядывала танковая эмблема, все в нем: и походка вразвалку, и манера здороваться, и даже выражение лица, лишенное той твердости, уверенности, которые бывают присущи строевым командирам, — выдавало в нем человека, не привыкшего иметь дело с подчиненными.
— Ну, герой, как дела? — бодро спросил Тецоев. — Медицина еще не совсем замучила? Еще живой?
— Живой, — улыбнулся Ветлугин.
Его забинтованные руки лежали поверх одеяла, на лбу и щеках блестели следы мази, опаленные брови придавали его лицу непривычное — словно бы растерянное, удивленное — выражение, но улыбка была естественной, свободной.
— А тобой уже пресса интересуется. Знакомьтесь — корреспондент окружной газеты старший лейтенант Федоровский.
Корреспондент кивнул, улыбнулся Ветлугину. Он присел на табуретку, а Тецоев пристроился на соседней пустой койке.
— Вы извините, что я вас тревожу… — начал было корреспондент, но его тут же перебил Тецоев:
— Да он же совсем здоровый человек! Его хоть опять на пост можно! Еще десять пожаров потушит!
— Ну хорошо, тогда давайте попробуем начать с самого начала…
В общем-то, в планы старшего лейтенанта Федоровского не входило писать очерк о Ветлугине, в полк он приехал два дня назад совсем с иным заданием — в редакции от него ждали зарисовку о социалистическом соревновании между ротами, и зарисовка эта была у него уже почти готова, но вот теперь новый материал сам шел ему в руки — грех было бы от него отказываться. Тем более что мечта положить на стол редактора когда-нибудь н а с т о я щ и й очерк о человеке, о характере постоянно владела Федоровским; он был убежден, что до сих пор ему не удавалось это лишь оттого, что не везло, что не подворачивалось счастливого случая, не попадалось достойного человека. И вот теперь перед ним лежал этот парень с забинтованными руками, и Федоровский уже чувствовал тот рабочий азарт, то волнение, которое охватывает человека любой профессии в предощущении удачи.
— Начнем с самого начала… Откуда вы призывались? До армии учились, работали?
— Учился, — сказал Ветлугин. — Десять классов кончил, работал немного…
— Кем?
— Да так… — неопределенно отозвался Ветлугин. Вовсе не хотелось ему признаваться, что только собирался он поступить на работу после того, как не прошел в институт, да все откладывал со дня на день. Мать сердилась, ругала его, а при людях говорила: «Пусть отдохнет после экзаменов. Все равно скоро в армию, там еще намается…»
— В институт, наверно, сдавали? — угадал корреспондент.
— Точно. В электротехнический.
— Ну и что же помешало?
— Лень собственная, — усмехнулся Ветлугин. — Что же еще.
— Самокритичное признание! — засмеялся корреспондент и что-то записал у себя в блокноте.
— Мы вместе с дружком моим, с Володькой Карнауховым, готовились к экзаменам в институт, — весело сказал Ветлугин. — Все казалось, времени впереди — навалом. Мы даже точный план-график составили — подсчитали: получалось, надо повторить примерно две с половиной тысячи страниц. Поделили на пятьдесят дней — ничего, вроде бы терпимо. На радостях пошли в городской парк, купаться. На другой день две с половиной тысячи поделили на сорок девять — как будто и не заметна разница, жить можно! Так и пошло… И все-таки хорошие были денечки, есть о чем вспомнить! — неожиданно добавил Ветлугин.
— Он у нас шутник! Второй Василий Теркин, — сказал Тецоев.
— Ну, теперь как — не жалеете, что не поступили? — спросил корреспондент.
— А чего жалеть? После армии умнее буду.
— Значит, армия на пользу идет?
— Идет…
— Сначала-то, наверно, трудновато приходилось?
— По-всякому, — уклончиво сказал Ветлугин.
— И нарушения небось были? Доставалось от командиров?
— Всякое, говорю, было…
— Да ты подробней, подробней рассказывай, не стесняйся, — вмешался в разговор Тецоев. — Он, товарищ корреспондент, когда захочет, знаете какой разговорчивый — не остановишь!
Тецоев и сам не раз пытался писать в газету, он уже усвоил, что деталь, подробность, конкретное событие особенно ценятся в редакции, и теперь всячески старался помочь корреспонденту. Тецоев легко воодушевлялся и сейчас был в приподнятом состоянии духа, в радостном возбуждении оттого, что именно их солдат совершил героический поступок. Вообще, жажда героического, необычного, жажда подвига постоянно и неотступно жила в душе Тецоева. Ему чудилось, что вокруг то и дело совершаются романтические, необычные события — и только их военный городок происшествия, требующие смелости, решимости, мужества, обходят стороной. Вот и сегодня другие офицеры полка с утра уже обсуждали и возможные причины пожара, и возможные его последствия — кому может влететь за халатность, а кого могут поощрить за оперативность, за своевременные умелые действия; интересовались, как отнесся к этому событию батя, командир полка, и кто назначен вести расследование. Тецоев же в ночном происшествии видел лишь одну — героическую сторону.
Он не заметил даже, как корреспондент недовольно покосился на него. Федоровскому казалось, что Тецоев только мешает и своей восторженностью, и своими репликами, и даже своим присутствием — будь они с солдатом наедине, тот наверняка разговорился бы куда более откровенно.
— Ну и какие же у вас были нарушения? — спросил он, все еще надеясь вдруг задеть, нащупать то живое место, тот нерв, который вызовет откровенность Ветлугина.
— В строю разговаривал… Петь отказывался… Со старшиной пререкался…
— Ну и как вы сами свое такое поведение объясняете? Только если честно.
— Да как… Детства много было…
— А теперь? Меньше?
— Теперь меньше.
Никак не мог нарушить Федоровский это вялое течение разговора. И вроде прав Тецоев: вовсе не похож этот солдат на молчуна — нет-нет да и мелькнет в его глазах насмешливый отблеск, словно забавляет его вся эта процедура. И вон оживился вроде, когда вспомнил, как готовился к экзаменам в институт, а теперь снова замкнулся, каждое слово клещами приходится вытягивать…
— Значит, меньше… Наверно, оттого, что командиры с вами работали — беседовали, воспитывали — так?
— Так.
— Вы его, товарищ корреспондент, про радиокласс спросите, — опять вмешался Тецоев. — Он у нас радиокласс оборудовал!
— Ага, выходит, увлекся своей специальностью? Так?
— Так.
«Хоть и небогато, но уже кое-что», — подумал Федоровский, делая пометки в своем блокноте.
— Хорошо, радиокласс мы потом посмотрим, — сказал он. — А теперь давайте-ка перейдем к главному. Расскажите, как вы тушили пожар.
Забинтованные руки Ветлугина, по-прежнему лежавшие поверх одеяла, чуть шевельнулись.
— Как тушил?.. Ну, значит, заступил я на пост… Темно, ночь…
Ветлугин не спеша пересказывал то, что уже читал Федоровский в «Боевом листке», причем почти теми же словами, и Федоровский нетерпеливо перебил его:
— Ну, а какие-нибудь еще подробности вы не припомните?
— Да что тут припомнишь! — сказал Ветлугин и опять улыбнулся. — Не до того было.
— Ну, а скажите — вот об опасности вы в этот момент думали, о том, что, может быть, жизнью своей рискуете, приходило вам это в голову?
— Некогда было, — сказал Ветлугин. — Лишь бы огнетушитель не подвел — вот о чем я думал. Помню, боялся, что не сработает…
На мгновенье Федоровскому показалось, что сейчас солдат разговорится, живые интонации появились в его голосе, но Ветлугин опять замолчал, ожидая новых вопросов. Казалось, что-то сковывало его. «Да окажись я сейчас на его месте, — неожиданно подумал Федоровский, — тоже ведь, наверно, не выдавить бы из меня двух слов было… Неужели бы стал распинаться, расписывать?..» Он вдруг почувствовал себя так, словно пытался осуществить сейчас некое насилие, словно принуждал этого парня вести себя неестественно, не так, как диктовал тому его характер.
— Хорошо, не будем больше вас мучить, отдыхайте, — сказал он, поднимаясь.
Когда они вышли из санчасти, Тецоев сказал:
— Скромничает парень. Вы вот лейтенанта Безбеднова, взводного, как следует порасспрашивайте. Это Безбеднов из него человека сделал, честное слово.
Они шли к штабу, а из репродуктора навстречу им доносился голос диктора: «…несмотря на ожоги, он не покинул свой пост до тех пор, пока не прибыла помощь…» — по местной радиосети читали текст «Боевого листка».
— Вот, знаете, может, и странно покажется, — сказал Тецоев, — что я вроде бы радуюсь этому пожару. Казалось бы, и солдат пострадал, и имуществу урон, а у меня все-таки какая-то гордость. Понимаете, раньше мы людей все на абстрактных примерах воспитывали — вот проводишь политзанятие или комсомольское собрание, называешь фамилии, истории рассказываешь о подвигах в мирное время, о том, как люди жизнью своей рискуют и все такое прочее, и правда все это, на самом деле было, не придумано, а все равно, кажется, для солдат вроде бы как из книжки, из литературы — потому что далеко где-то было, не у нас… А теперь свой пример есть, на котором людей можно учить…
Федоровский слушал его рассеянно. Он думал о сегодняшнем коротком разговоре с замполитом батальона капитаном Фатеевым. Когда он сказал Фатееву, что собирается писать о Ветлугине, тот неопределенно пожал плечами: «Смотрите сами… Побеседуйте, познакомьтесь… Но я бы на вашем месте не стал торопиться…» И больше ничего не добавил.
Что означали эти слова? Просто совет поглубже вникнуть в материал? Намек на непростой характер солдата?.. Легко сказать: «Не стал бы торопиться…» А тут вечная газетная спешка. В его распоряжении оставался еще день, от силы — два.
А парень-то вроде оказался неплохой… «Детства много было…» — вспомнил Федоровский и засмеялся.
9
Боль, пока Ветлугин не шевелил руками, не беспокоила его, да и врач сказал, что опасаться нечего, все будет в полном ажуре, нужно только немножко терпенья. Правда, следы на память останутся, не без этого, но какой же воин без шрамов? «Шрамы украшают тело мужчины, не так ли?» — смеясь, добавил он. «Точно, — согласился Ветлугин. — Я, еще когда пацаном был, ужасно завидовал одному парню с нашей улицы — у него над бровью был шрам, и это придавало его лицу выражение этакой свирепости…»
Ветлугин скучал, две койки в палате были пусты, он пребывал здесь в одиночестве и потому даже обрадовался, когда после обеда, ближе к вечеру, в санчасти появился еще один посетитель, хотя, едва он увидел вошедшего, сразу угадал, почувствовал, что предстоящая встреча вряд ли доставит ему особое удовольствие. Фамилию этого сухощавого капитана с маленьким остреньким носиком, с глазами, скрытыми за стеклами очков в тонкой позолоченной оправе, Ветлугин не знал, но именно по этим очкам он моментально припомнил, что однажды этот капитан был у них во взводе на занятиях по противохимической подготовке и донимал солдат из-за каждой мелочи, придирался к каждому пустяку — не дай бог как придирался! Что теперь ему понадобилось здесь?
Пока капитан шел к койке Ветлугина, пока пристраивался на табуретке, предварительно машинальным жестом проведя по ней рукой — словно проверяя, чистая ли, на лице его держалось озабоченное, сосредоточенное выражение. У него не было с собой ни офицерской полевой сумки, ни планшета — только небольшой, аккуратный ученический портфель, черный, с одним замком. Усевшись, он положил этот портфель перед собой на колени и сквозь очки внимательно посмотрел на Ветлугина, как будто в свою очередь старался припомнить, где он мог встречать лежащего перед ним солдата.
— Ну что ж, Ветлугин, — сказал он, — давайте попробуем вместе разобраться в причинах пожара…
И Ветлугин, который уже ждал этих или похожих на эти слов, ответил:
— Давайте.
10
К тому времени, когда лейтенант Безбеднов вернулся после караула домой, Нина, его жена, уже знала, что он цел и невредим, что с ним ничего не случилось. А сначала, с утра среди офицерских жен разнесся слух, будто ночью взорвалась целая цистерна с бензином, будто пожар не могли погасить до самого рассвета и что среди состава караула есть пострадавшие. И все-таки, хотя она уже знала правду, хотя уже успела поговорить с ним по телефону, услышать его голос, даже теперь, увидев, как он подходит к дому, она выбежала ему навстречу и тревожно и радостно всматривалась в его лицо, ощупывала его плечи, словно еще не веря, что все обошлось благополучно. И эта ее тревога и радость передались ему, и Безбеднов растрогался, хотя всегда был противником всяких нежностей. Может быть, первый раз он вдруг ощутил счастье в о з в р а щ е н и я, возвращения после тяжелой, наполненной риском ночи не в холостяцкую неприглядную комнату, где он жил еще так недавно, а в с в о й дом, где тебя ждут, где о тебе тревожатся, где тебя встречают.
— Ну что? Ну что ты? — с неожиданным смущением сказал он. — Ну что со мной могло случиться? Подумаешь — чуть закоптился! — И вдруг добавил уже горячо, со злостью: — Этого старшину, Плюшкина чертова, надо бы мордой в золу сунуть — натащил на свой склад хлама всякого.
Вот так вечно: не успеют сказать между собой двух слов и уже, глядишь, свернул Безбеднов на служебные дела. Причем как-то незаметно это получается — о чем бы они ни говорили, а всегда найдется ниточка, которая вдруг потянется к е г о взводу, к е г о роте, к е г о радиостанции…
Но сейчас эта горячность, с которой заговорил он о старшине, начальнике склада, удивила и обеспокоила ее, и она спросила:
— У тебя что, теперь могут быть неприятности?
Он засмеялся:
— Трусиха ты у меня, Нинка. Вечно тебе мерещатся неприятности!
— Просто я переживаю за тебя. Разве это плохо?
После всех утренних волнений, после страшных картин, рисовавшихся в ее воображении, теперь она ощущала какую-то легкую слабость, которая разливалась по всему ее телу и которую всегда испытывает человек после сильного напряжения. И не было сейчас для нее большего удовольствия, большей радости, чем смотреть, как умывается — шумно и размашисто — ее муж, как растирается он свежим полотенцем, как напрягаются и перекатываются мышцы под его загорелой кожей, как самоуверенно топорщатся, не слушаясь расчески, его мокрые короткие волосы.
И все же по каким-то еле заметным, ничего не значащим для чужого глаза приметам — по тому, как вдруг на мгновение останавливалась, замирала расческа в его руке, по тому, как лишь машинально, по привычке, равнодушно скользнул его взгляд по зеркалу, хотя обычно вовсе не прочь был Безбеднов взглянуть на себя со стороны, немножко порисоваться перед собой, точно лейтенант, только что получивший офицерскую форму, — угадывала Нина, что что-то заботит его, что-то беспокоит и тяготит. Но расспрашивать не решалась — из-за этого между ними уже не раз возникали ссоры: она говорила, что всегда видит, чувствует, если он не в своей тарелке, а он доказывал, что ничего подобного, что, если он захочет, она никогда не заметит, никогда и не догадается ни о чем. Он был уверен, что отлично умеет скрывать свои переживания, и ужасно гордился этим. Ну что ж, она потерпит, подождет, пока он сам скажет, в чем дело…
Они еще не успели сесть ужинать, как кто-то, торопливо ступая, поднялся по ступенькам крыльца и постучал в дверь.
— Корреспондент! — шепнула Нина. — Я тебе забыла сказать, он уже заходил.
— Делать им нечего, — сказал Безбеднов, стараясь за грубостью скрыть довольные нотки, которые прорывались в его голосе.
Как всякий истинный техник, любящий свою работу, он с некоторым пренебрежением относился к тем, кто занимался, как выражался сам Безбеднов, писаниной. Безбеднов искренне считал это совершенно немужским делом. Но в то же время честолюбие и не лишенная тщеславия жажда самоутверждения, жившие в его характере, заставляли Безбеднова втайне желать увидеть свою фамилию на страницах газеты. Поэтому то грубоватое пренебрежение, которое он изобразил сейчас перед Ниной и которым приготовился встретить корреспондента, было скорее напускным, внешним, наигранным, чем естественным.
— Простите, если я некстати, — сказал старший лейтенант Федоровский, входя в комнату — но знаете, времени у нас, газетчиков, всегда в обрез…
Его профессия уже выработала в нем привычку извиняться за настойчивость, но при этом все-таки быть настойчивым, сетовать на то, что он явился не ко времени, но при этом все-таки не уходить, оставаться; видеть, что у человека нет никакого желания отвечать на его вопросы, и при этом все-таки задавать их. Впрочем, для тех людей, с кем он обычно встречался, слова «приказ», «обязанность», «долг» не были пустыми словами, и они знали, что он, корреспондент военной газеты, так же выполняет свою обязанность, свое задание, как они — свое, и потому рано или поздно они всегда понимали друг друга.
— Нет, отчего же некстати? — сказала Нина радушно в ответ на его извинения. — Сейчас вот и поужинаем вместе…
Безбеднов молчал. Он был одет по-домашнему — в синий, уже изрядно поношенный тренировочный костюм, и жена метнула на него быстрый взгляд — мол, переоделся бы, что ли, но он сделал вид, что не понял, и не сдвинулся с места.
Федоровский принялся было отказываться от ужина, но Нина, приговаривая: «У нас так не принято, у нас не отказываются», уже быстро и сноровисто накрывала на стол — только щелкала дверца холодильника. И огурчики малосольные, и зеленый лучок с белыми, как сахар, головками, и холодная жареная рыба, и рыба в томате, и картошечка отварная…
— Да в этом доме, я вижу, все специалисты своего дела, — с воодушевлением пошутил Федоровский. — Знаете, что мне о вас комсомольский вождь ваш, Тецоев, сказал? — уже обращаясь к Безбеднову, спросил он. — Это, мол, Безбеднов из Ветлугина человека сделал…
— Ну, я, положим, еще не бог, а Ветлугин не Адам, — усмехаясь, отозвался Безбеднов. — Привык Тецоев у себя там, на Кавказе, легенды складывать… Но вообще-то, честно говоря, конечно, пришлось повозиться с парнем…
— И что же вам кажется главным в этом деле? Ну, как говорится, то звено, за которое надо было ухватиться…
— Главным? — Безбеднов задумался. — Понять, к чему у человека душа лежит. Это первое. И второе… Второе — надо, чтобы для солдата ты сам авторитетом был, чтобы, если что, ему перед тобой стыдно было — так я считаю…
— Да, да, это очень точно, — подхватил Федоровский. — Ну, вот вы говорите — пришлось повозиться с Ветлугиным. А какой-нибудь эпизодик, какой-нибудь случай конкретный не могли бы вы сейчас припомнить?
Он произнес эту фразу и сам внутренне поморщился — другие корреспонденты, его товарищи по работе, он знал, легко умели переходить к естественному, непринужденному разговору, умели непринужденно и естественно направлять разговор в нужное русло — и человек сам, незаметно для себя рассказывал как раз то, что им было надо. А он, Федоровский, никак не мог избавиться от официальности, от этих вопросов-просьб: «конкретный случай», «какой-нибудь эпизодик», словно все еще был начинающим журналистом.
— Конкретный случай? — переспросил Безбеднов. — Что ж, можно и конкретный. — Он сделал паузу, видно перебирая в памяти, что бы такое рассказать, и Федоровский терпеливо и молча ждал.
— Да вы ешьте, ешьте, пожалуйста, — сказала Нина. — Успеете еще о делах наговориться.
— Да вот уж куда конкретнее, — сказал Безбеднов. — Однажды, к примеру, батальон строится по тревоге, а Ветлугина нет. Где Ветлугин? Никто не знает. Суббота, послеобеденное время, солдаты — кто уборкой был занят, кто — своими делами. А тут тревога. Короче говоря, взвод уже строится, мне уже докладывать надо о наличии личного состава, а Ветлугина нет… Хорошо, сразу же отбой дали, это просто проверка была, а если бы настоящая тревога?.. И тут появляется голубчик как ни в чем не бывало — ему, видите ли, в клуб понадобилось сходить, приятель у него там, художник, так он и ушел, никому не доложив… И смотрит на меня невинными глазами. «А если, извиняюсь, я в туалет бы пошел, я тоже вам, товарищ лейтенант, докладывать должен?» — это он еще спрашивает! Ну, пришлось, что называется, поговорить с ним по душам…
Безбеднов замолчал. Он вдруг поймал себя на том, что рассказывает эту историю не совсем так, как она выглядела на самом деле, что рассказать ее корреспонденту так, как она происходила в действительности, он не может. Не то чтобы он говорил неправду или присочинил что, нет, все так и было — и суббота, послеобеденное время, и тревога, и отсутствие Ветлугина, но было и еще кое-что, о чем Безбеднов сейчас умалчивал, о чем предпочитал не вспоминать.
Эти последние мгновения, когда взвод уже построен, когда тянуть больше нельзя, невозможно, когда ротный уже нетерпеливо ждет доклада — доклада командиров взводов, а комбат в свою очередь ждет доклада ротного, когда счет идет на секунды, а Ветлугин все не появляется и никто не может объяснить, где он… Сейчас начнется: «Почему не знаете, где ваш солдат? Опять Ветлугин? Становитесь в строй, потом разберемся!» Ах, попадись ему сейчас под руку этот Ветлугин! Он уже слышит, как докладывает командир второго взвода лейтенант Никифоров: «Взвод… в полном составе…» А время уходит. Потом по этим секундам будут судить о дисциплине, собранности, о готовности взвода…
Безбеднов не смотрит сейчас в сторону ротного, но все равно затылком, спиной чувствует взгляд командира. Ждать дольше нельзя, да и нечего ждать, а Безбеднов все оттягивает и оттягивает решающую минуту. Он делает вид, что проверяет снаряжение солдат, он задает какие-то ничего не значащие вопросы командирам отделений, а сам боковым зрением старается уловить: не бежит ли Ветлугин.
Он даже словно бы не слышит сердитого оклика командира роты: «Первый взвод, что у вас там?»
И в этот момент из-за здания клуба вдруг возникает фигура Ветлугина. Он бежит без автомата, без противогаза, ясное дело, не успел заскочить в казарму, — ну, леший с ним, пусть становится в строй, потом разберемся. И лейтенант Безбеднов, лихо вскинув руку к козырьку фуражки, печатает шаг навстречу ротному: «Товарищ старший лейтенант, личный состав первого взвода построен по тревоге!» «Долго, долго копаетесь», — недовольно произносит ротный, но что это недовольство по сравнению с тем разносом, которому подвергся бы Безбеднов, доложи он две минуты назад, что в строю нет солдата и где находится этот солдат — никому не известно. Ничего, кроме облегчения, не испытывал сейчас Безбеднов…
Но зато когда уже после отбоя тревоги он подозвал к себе Ветлугина и тот, глядя невинными глазами, начал свое: «А если, извиняюсь, я в туалет бы пошел…», — тут уж Безбеднов ему выдал — выдал на полную катушку!
— Вы, что же, в дезертиры метите? Да отсутствие солдата по тревоге — это же дезертирство! А если бы нас — на машины и за двести километров! А вы со своим дружком все лясы бы точили?.. Ваше счастье, что вы в последний момент подоспели, что ни ротный, ни комбат не узнали… Они бы с вами по-другому поговорили! Ясно? Пока вы солдат, вы себе не принадлежите — вы армии принадлежите, поймете вы это наконец или нет? Или нужны средства посильнее, чтобы вы эту простую истину уразумели? Смотрите, за мной дело не станет, если вы слов человеческих не понимаете!..
Он говорил еще долго, накаляясь все больше, его приводили в бешенство глаза Ветлугина. Ветлугин не прятал взгляда, но это были п у с т ы е глаза — глаза человека, который поступил по-своему, так, как ему хотелось, который добился своего, а теперь — хоть трава не расти.
— Вы бы хоть о взводе подумали, о своих товарищах! А мне-то каково было в глаза начальству глядеть! Вы воображаете — я, может, ради себя старался? Да нет! Ради взвода, вот ради чего! Почему это весь взвод должен страдать из-за одного разгильдяя? Почему на весь взвод тень должна ложиться? Ну, хорошо, взял я грех на душу, выручил вас, а если бы нет?..
Ветлугин шевельнулся и вдруг опустил глаза. Казалось, все те громкие слова, которые до сих пор произносил лейтенант, оставляли его равнодушным, не могли пронять, отскакивали от него, а вот это неожиданное признание внезапно задело его.
— Так что же будем делать, Ветлугин? — спросил лейтенант. — Или вы даете мне слово, что ничего подобного больше не повторится, или…
Ему показалось сейчас, что он нашел верный тон в обращении с этим солдатом. Ему показалось — почувствуй Ветлугин, что с ним говорят с полной откровенностью, что от него ничего не скрывают, и он заплатит ответной искренностью. А именно этого и хотел добиться сейчас Безбеднов.
— Даю… слово… — негромко сказал Ветлугин.
— Тогда будем считать, что разговор окончен. Но смотрите, Ветлугин!
В тот момент Безбеднов был уверен, что ценой маленькой лжи, на которую ему пришлось пойти перед начальством, или, точнее сказать, даже не лжи, а ценой малой уступки собственной совести и ценой признания в этом Ветлугину он сумел одержать пусть небольшую, но все-таки победу — он вызвал доверие к себе в душе солдата.
И правда, вскоре Безбеднов стал замечать, что Ветлугин все больше тянется к нему. А может быть, их общее увлечение техникой сыграло тогда свою роль…
Конечно, он не стал сейчас рассказывать Федоровскому всю эту историю целиком, да он был искренне убежден, что газете и ни к чему все эти тонкости, все подробности, но все-таки то ли под влиянием воспоминаний, то ли польщенный вниманием корреспондента — как-никак, а это был первый корреспондент в его жизни, — то ли просто под действием домашней рябиновой настойки, графинчик с которой постепенно пустел, Безбеднов разговорился, принялся рассуждать о методах воспитания, о том, что нынешний солдат — это уже не тот, что был десять или пятнадцать лет назад, хотя сам он ни десять, ни тем более пятнадцать лет назад не служил в армии, и что к этому солдату нужен совсем иной подход, и все чаще в его рассуждениях мелькало «я», «мой», «мои»… Мой взвод, мои солдаты, мой приказ…
Было уже поздно, когда Федоровский стал прощаться.
— Нас, людей пишущих, — говорил он, — частенько упрекают в схематизме, в прямолинейности, в банальности, а что делать, если жизнь все время преподносит нам схожие истории, если становление характера человека идет, в общем-то, как правило, по одним и тем же законам… Если я напишу про вашего Ветлугина примерно так: недисциплинированный, разболтанный парень приходит в армию… работа с ним командиров, влияние коллектива… увлекается своей специальностью… И вот, как итог, как результат, мужественный поступок, едва ли не подвиг, — это ведь верно будет, не правда ли, Николай Алексеевич?
— Верно, — сказал Безбеднов. — Отчего же не верно?..
Федоровский ушел, и, едва закрылась за ним дверь, на Безбеднова, как это часто бывает с людьми, обычно не склонными к откровенности, внезапно накатилось недовольство собой — своей неожиданной разговорчивостью, своими разглагольствованиями, похожими на похвальбу, своим, как теперь ему казалось, чуть ли не заискиванием перед этим человеком, перед корреспондентом, и Безбеднов сразу рассердился на себя, замкнулся, нахмурился. Разом помрачневший, он стоял у окна и смотрел в темноту.
— Милый человек, правда? — сказала Нина. — Я тоже, когда в школе училась, журналисткой мечтала стать. Интересная профессия! Сколько людей разных повидаешь!
Безбеднов молчал.
Нина вздохнула и принялась убирать со стола.
— Между прочим, знаешь, кому поручено проводить дознание? — вдруг, все так же не оборачиваясь, сказал Безбеднов. — Капитану Червенцову.
Так вот что заботило и тяготило его! Значит, все-таки она не ошиблась!
Безбеднов не мог забыть, как капитан Червенцов был однажды проверяющим на занятиях по противохимической подготовке. Не мог простить той придирчивости, въедливости, того педантизма и дотошности, с которыми впоследствии изложил Червенцов все свои замечания начальству. И упрощения-то Безбеднов допускал, и, когда следил, как укладываются солдаты в норматив, секундомер включал чуть позже, и нагрузка-то у солдат была недостаточная!.. А того, что гимнастерки у солдат и так были черны от пота, что перед тем они уже вымотались на тактической, — этого он не заметил!
— Товарищ капитан, — с обидой сказал тогда Безбеднов, — я за своих солдат ручаюсь — когда будет нужно, они себя не пожалеют, до конца выложатся…
— Не ручайтесь, Безбеднов, не ручайтесь, — ответил тот. — Тогда уже будет поздно. В том-то, Безбеднов, и состоит психологическая сложность нашей профессии, что мы учимся сами и учим людей тому, что, может быть, никогда в жизни нам не пригодится, и, как говорится, дай бог, чтобы не пригодилось… А если пригодится?.. И если тогда ваш солдат, которому вы сейчас даете поблажку, на десятую долю секунды позже сумеет надеть противогаз или лечь в укрытие, и ему уже не понадобятся ни противогаз, ни укрытие — кто ответит за эту десятую долю секунды? Вы, Безбеднов.
Он говорил тоном лектора — все-то он мог объяснить, все-то он знал: казалось, он не сомневался, что на войне выживают лишь те, кто точно следует инструкциям и наставлениям.
— Быть добрым, Безбеднов, иногда очень легко, запомните это. Сегодня вы отпустили солдат с занятий на пять минут раньше, и вы уже — добрый. Только эта доброта за чужой счет. За их же счет, за счет ваших солдат. Сегодня вы можете пожалеть их — мол, и устали они, и надоело делать одно и то же… Случись же война — война их не пожалеет.
Как будто Безбеднов был мальчишкой, пришедшим на день открытых дверей в военное училище! И Безбеднов не выдержал, вспыхнул.
— Товарищ капитан, — сказал он. — Если вы обнаружили у меня столько недостатков, вы можете сообщить об этом как положено и кому положено. А лекции мне читать незачем.
Конечно, эта его вспышка, эта его невыдержанность не обошлась ему даром. И так и осталась с тех пор неприязнь между Безбедновым и капитаном Червенцовым.
— Да не придавай ты этому значения, — сказала Нина. — Мало ли что было когда-то… Сейчас-то ему не к чему придраться. Тебе-то чего волноваться?
— А я и не волнуюсь, — сказал Безбеднов.
11
Утром, еще до развода, лейтенант Безбеднов заглянул в санчасть к Ветлугину.
— Ну как, герой, поправляешься?
— Нормально, товарищ лейтенант. Порядок в танковых войсках.
Держался Ветлугин бодро — если бы не опаленные брови и перебинтованные руки, казалось, что и делать в санчасти ему нечего. Впрочем, Безбеднов знал: даже мучай сейчас Ветлугина боль, он бы постарался не показать, не обнаружить ее. Так уж было заведено среди солдат.
На тумбочке возле койки Ветлугина стояли цветы — букет темно-красных пионов.
— Ого! — восхитился Безбеднов. — Я вижу, тебя не забывают.
— Так точно, товарищ лейтенант, не забывают. Вчера вечером целая делегация была — так сказать, лучшие представители местного женского населения.
— Ну-ну, по всему городу уже слава идет? — засмеялся Безбеднов. — Смотри только не загордись у меня! Теперь ты на виду, теперь с тебя спрос особый… И не залеживайся здесь, понял?
Он вышел из санчасти в хорошем настроении. Все-таки это везение, счастливый случай, что Ветлугин отделался так легко. Могло быть куда хуже…
И уже перед разводом, когда сошлись вместе, собрались все взводные, Безбеднов все время ощущал повышенный интерес к своей персоне. Правда, интерес этот выражался чаще всего в виде шуточек, острот, подковырок в его адрес — таков уж был обычай, стиль общения между молодыми лейтенантами. Да и сам Безбеднов был мастер на такие штучки — ему палец в рот не клади. Только лейтенант Никифоров, хотя и улыбался вместе со всеми, улыбался неуверенно, натянуто — он считал, что есть вещи, над которыми нельзя шутить.
Во время развода командир роты сказал Безбеднову:
— К одиннадцати ноль-ноль вас вызывает капитан Червенцов.
— Ясно, — сказал Безбеднов.
Ну что ж, к 11.00 так к 11.00… Он уже был готов к этому.
Разговор их начался мирно, спокойно: капитан Червенцов расспрашивал Безбеднова о подробностях, которые ему, Червенцову, были уже заведомо известны, — казалось, и вызвал он Безбеднова лишь формы ради, лишь потому, что должны быть опрошены все участники и свидетели происшествия. И то ли он действительно не замечал, то ли делал вид, что не замечает легкой насмешливости, с которой отвечал на его вопросы Безбеднов.
— Случайная искра… — произнес капитан задумчиво. — Все мы сходимся, что пожар начался от случайной искры. И вы тоже так считаете, товарищ лейтенант?
— Да, — сказал Безбеднов. Что-то не понравилось ему в тоне капитана, и он насторожился. — Конечно. Отчего бы ему еще начаться? Разве что от шаровой молнии.
— Да, вот именно — от шаровой молнии, — повторил капитан Червенцов и внимательно сквозь очки в золоченой оправе посмотрел на Безбеднова. — Искра от паровоза… А между тем я проверил: в течение ночи мимо поста не проходило ни одного паровоза…
— Не может быть! — воскликнул Безбеднов. — Там все время маневровый паровоз ползает!..
Капитан покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Эта причина исключается. Забудьте о ней.
— Так отчего же тогда пожар? — уже начиная раздражаться, спросил Безбеднов. — Не сам же Ветлугин, в конце концов, поджег склад!
— Вот и я думаю: отчего же тогда пожар? — сказал Червенцов. Он наклонился над столом и сосредоточенно рисовал в тетради какой-то узор. Кроме этой тетради на столе больше ничего не было, и вообще весь этот маленький узкий кабинет казался пустым, голым — голые стены, пустая ровная поверхность стола. Все убрано, все заперто в ящиках стола, спрятано на полках небольшого канцелярского шкафа. — Скажите, Безбеднов, вы, конечно, следите за тем, чтобы караульные не брали с собой на посты сигареты, спички?..
— Конечно, — сказал Безбеднов. — И я лично, и разводящие… Каждый раз предупреждаем…
— Предупреждаете? Но не проверяете, не так ли?
— Почему, разводящие…
— Вы уверены, что они проверяют? Так, как это положено по уставу?..
— Не можем же мы, товарищ капитан, лезть ко всем в карманы! — вдруг взорвался Безбеднов. Так он и знал, что Червенцов найдет, к чему придраться. — Мы рассчитываем на сознательность.
— То, что вы рассчитываете на сознательность, конечно, похвально, — все еще продолжая рисовать узор и не поднимая глаз на Безбеднова, ровным, лишенным какого-либо выражения голосом заговорил капитан Червенцов. — Однако мною установлено, что у часового Ветлугина, когда он находился на посту, имелись спички и сигареты. От брошенной им спички или окурка вспыхнули пары в бочке из-под бензина. Вот вам и причина пожара.
Лейтенант Безбеднов медленно побледнел. Негодование нахлынуло на него.
— Это… это… — Он не мог найти слов. — Солдат жизнью своей рисковал… Склад спас, совершил подвиг, а вы… а вы… Да ведь это же!..
— Успокойтесь, товарищ лейтенант, — сказал Червенцов. Он мог оборвать Безбеднова, и оборвать резко, но он не сделал этого, наоборот, в его голосе сейчас звучало сочувствие. — И, кстати, ваш Ветлугин, по-моему, уже знает, что я догадываюсь об истинных причинах пожара…
Но Безбеднов уже не вникал в слова капитана. То, что он услышал минуту назад, казалось ему настолько возмутительной несправедливостью, что он был не в силах смириться с ней.
— Вы всегда были необъективны ко мне, товарищ капитан, — сказал он, стараясь все-таки взять себя в руки, сдержаться, чтобы не наделать каких-нибудь совсем уж непоправимых глупостей. — Ваше право высказывать всякие догадки… Но я буду жаловаться! Я этого так не оставлю! Я пойду к командиру полка! К командиру дивизии!
— Идите, — сказал капитан Червенцов. — Идите. Только сначала подумайте хорошенько. Можете быть свободны.
Из штаба лейтенант Безбеднов вышел, по-прежнему охваченный негодованием. Такую яростную обиду, которая словно захлестывает тебя, в которой ты словно захлебываешься, он испытывал лишь в детстве, ребенком. Но как бы ни был он раздражен и взвинчен, все же он понимал, что пытаться попасть в таком состоянии к командиру полка или замполиту, да к тому же без разрешения непосредственного начальства, — это только навредить себе, и невозможность действовать сейчас же, немедленно, когда в его мозгу сами собой так и слагались, так и звучали гневные слова в адрес капитана Червенцова, приводила его в еще большее бешенство.
Сначала, выйдя из штаба, Безбеднов зашагал наугад, не задумываясь, куда он идет, потом повернул к казарме, потом остановился. Он вдруг понял, что ему сейчас надо сделать.
Прежде всего он должен еще раз увидеть Ветлугина. Он должен поговорить с ним сам, лично.
Букет пионов по-прежнему, как и утром, красовался на тумбочке возле койки. Ветлугин, казалось, дремал, но, когда Безбеднов вошел в палату, сразу открыл глаза. Сейчас его лицо, в пятнах ожога, выглядело нездоровым.
— Да, Ветлугин… — словно продолжая начатый еще утром разговор, сказал Безбеднов. — Я забыл давеча спросить. У вас был капитан Червенцов?
— Это из штаба? Был.
— Ну и что?
— Все нормально. Поговорили.
— О чем говорили-то? — теряя терпение, спросил Безбеднов. — Что он тебя спрашивал?
— Интересовался, какие я сигареты курю, — с усмешкой сказал Ветлугин.
— А ты знаешь, почему он этим интересовался?
— Догадываюсь.
— Какого черта ты усмехаешься! — крикнул Безбеднов. — Да ты соображаешь, чем это пахнет?
— Мало ли кто чего сказать может, — отозвался Ветлугин. — Это еще доказать нужно.
«Если Червенцов взялся за дело, он доведет его до конца, — подумал Безбеднов. — Он докажет».
Некоторое время он молча смотрел на Ветлугина. Верно говорят: чужая душа — потемки. Как за свинцовым экраном. И не пробиться, и не проникнуть. О чем сейчас думает этот солдат? Что кроется за его усмешкой?
— Ответь мне, Ветлугин, только честно, — сказал вдруг Безбеднов, движимый внезапным порывом, внезапной убежденностью, что сейчас солдат не скроет от него правду. Он наклонился совсем близко к Ветлугину. — Только честно, слышишь? Мне это очень важно. У тебя было в ту ночь с собой курево? Ты курил на посту?
Ветлугин молчал, колеблясь.
— Курил?
— Да, — сказал Ветлугин, глядя на лейтенанта своими невинными глазами.
И добавил, оправдываясь:
— Уж очень хотелось, прямо невтерпеж было…
12
На другой день до Безбеднова дошел слух, будто начальник штаба подполковник Рагозин остался недоволен выводами капитана Червенцова. Будто едва Червенцов сунулся к нему со своим докладом, со своими предположениями, начальник штаба отправил его обратно, сказав: «Что же это вы, Евгений Федорович, как унтер-офицерская вдова, сами себя высечь норовите? Что ж, мы теперь так и будем из одной крайности в другую кидаться? На посмешище себя выставлять? Не слишком ли вы поспешили?»
В общем-то, это было в характере начальника штаба, человека резкого, не любящего, как он выражался, разводить всякие церемонии, однако Безбеднов не торопился верить слухам. И только когда в тот же день его и командира роты вызвал к себе замполит полка, Безбеднов понял, что, видно, и правда дело заваривается круто.
Люди, которые собрались в кабинете замполита, были настолько различны, настолько — несмотря на одинаковую форму — непохожи друг на друга, что могло показаться, будто именно по этому принципу — по принципу несхожести — и собирал их сюда хозяин кабинета, подполковник Дементьев. Здесь были секретарь комитета комсомола полка лейтенант Тецоев, чернобровый и черноглазый, человек горячий, восторженный, легко воодушевляющийся и легко обижающийся, и капитан Червенцов, чьи очки в тонкой золотой оправе, чье аскетическое, бледное, словно не поддающееся загару лицо делали его похожим не то на бухгалтера, не то на ученого, большую часть времени проводящего в архивах и библиотечных хранилищах; и еще один капитан — капитан Фатеев, замполит батальона, невысокий, уже начинающий лысеть несмотря на свои тридцать с небольшим лет, склонный к полноте и оттого каждое утро старательно работающий с гантелями. Был здесь и непосредственный начальник Безбеднова — командир роты старший лейтенант Шестаков, одного взгляда на которого было достаточно, чтобы угадать, что все его предки до седьмого колена были крестьянами, — это выдавали и его большие, ширококостные руки, и обветренное коричневое лицо, и голубые глаза, то хитровато, то с нарочитым простодушием посматривающие из-под белесых бровей. Наконец, самого лейтенанта Безбеднова отличала гордая, самоуверенная посадка головы — как будто он говорил всем и каждому: «Не смотрите, что я младше вас по званию, что у меня всего две звездочки, — если надо, я сумею за себя постоять». Но, пожалуй, самой колоритной личностью был все-таки хозяин кабинета, подполковник Дементьев. В прошлом боксер-тяжеловес, чемпион округа, он до сих пор сумел сохранить и мощь, и спортивную форму, и это делало его любимцем солдат.
— Ну что же, товарищи, — сказал подполковник, по очереди оглядывая всех присутствующих, — как говорится, сами запутывали, сами давайте и распутывать… Суть истории, полагаю, всем известна, но я повторю… — И он коротко рассказал и о пожаре, и о выводах капитана Червенцова. — В общем, сначала едва ли не к ордену солдата представлять надо, а теперь чуть ли не под суд отдавать… Итак, кто первый выскажет свое мнение?..
И лейтенант Безбеднов с растерянностью почувствовал, что говорить первому наверняка придется ему — и оттого, что он здесь самый младший по званию, и оттого, что Ветлугин служит в его взводе. Еще вчера он готов был яростно спорить с Червенцовым, рвался высказать ему прямо все, что думает, отстоять во что бы то ни стало честь своего взвода, а теперь, после неожиданного признания Ветлугина, он был сбит с толку, растерян. Чем было вызвано это признание? Его напором, его порывом? Или Ветлугин надеялся найти в нем своего защитника, рассчитывал, что Безбеднов выручит его, защитит?..
Так и есть, взгляд подполковника остановился на нем, и Безбеднов смущенно зашевелился, задвигался на стуле, напрасно стараясь уйти от этого взгляда, но тут его выручил лейтенант Тецоев.
— Разрешите, товарищ подполковник! — воскликнул он, нетерпеливо приподнимаясь со своего места.
— Пожалуйста, послушаем мнение комсомола.
— …Как же это получается? Солдат свою жизнь не жалел, свое здоровье не жалел, государственное имущество спасал, героический поступок, можно даже сказать подвиг совершил, а теперь что же?.. Теперь мы этот подвиг под сомнение ставим? Мы на этом примере других солдат учить должны, воспитывать должны, мы об этом в «Боевом листке» рассказали, солдаты своим товарищем гордятся, пример с него берут, подражать ему станут, а теперь, значит, на попятный?..
— Товарищ подполковник, — негромко сказал капитан Червенцов, — разрешите задать лейтенанту Тецоеву вопрос?
Подполковник молча кивнул.
— Товарищ лейтенант, что, по-вашему, важнее — прославлять, как вы говорите, подвиг или выяснить и сказать солдатам правду?
— А подвиг — разве это не правда? — горячо откликнулся Тецоев. — Я говорю: солдат жизнью рисковал — разве это не правда? Пост не покинул — не правда? В лазарете теперь лежит, обожженный, — не правда?
— Если бы он не нарушил устава, ему бы не пришлось рисковать жизнью, — все тем же ровным тоном, словно диктуя, произнес Червенцов.
— Если бы! Отчего пожар начался, этого никто теперь точно не знает, об этом еще спорить можно! А вот что при пожаре солдат по уставу действовал, не растерялся — это я точно сказать могу!
Безбеднов молча слушал спор Червенцова и Тецоева. Годы военной службы уже успели выработать в нем уважение к уставам, и среди всех уставов, он знал, в мирное время устав гарнизонной и караульной службы был наиболее свят и непререкаем. И нарушение его каралось наиболее сурово. Солдат на посту — как в бою, он вооружен, ему дано право стрелять, он один, и вся ответственность лежит на нем, ни на ком больше, — какие же тут могут быть скидки? Он-то, Безбеднов, знал, что Ветлугин не заслуживает ни прощения, ни оправдания. Теперь, когда после вчерашнего разговора с Ветлугиным ему уже была известна истина, Безбеднов чувствовал, понимал: он должен сейчас встать и сказать прямо: «Товарищи, о чем спорить, прав Червенцов, прав». И все-таки не мог Безбеднов заставить себя произнести эти слова, что-то мешало ему сделать это. Может быть, неприязнь к Червенцову? Хотя в душе Безбеднов и сознавал, что винить ему некого, кроме себя, все же, как это часто бывает с людьми в подобных ситуациях, и свою обиду и раздражение он невольно переносил на Червенцова. А может быть, слишком заразительной была горячность Тецоева — тот словно знал что-то такое, чего не знал Безбеднов, словно подбадривал, обнадеживал его — мол, все еще может обернуться по-иному.
Подполковник Дементьев постучал карандашом по столу.
— Тецоев, у вас все?
— Нет, не все! Допустим, у капитана Червенцова есть какие-то доказательства, я верю. Пусть Ветлугин заслуживает наказания. Но вот товарищ капитан спрашивал — что важнее? Я тоже спрошу — что важнее? Что важнее — наказать одного солдата или воспитать на его примере сто, двести, триста, солдат?
— Разве можно воспитывать ложью? — словно раздумывая вслух, сказал капитан Фатеев. — Ложь во имя воспитания — это может далеко завести…
И хотя капитан Фатеев обращался сейчас не к Безбеднову и даже не смотрел на него, лейтенанту показалось, что адресованы эти слова именно ему. Как это он сказал — «ложь во имя воспитания»?
Подполковник опять постучал по столу.
— Шестаков, вы, кажется, хотели что-то сказать?
— Хотел не хотел, а говорить придется, — хитровато прищурясь, начал Шестаков. — Мы, по-моему, уже в такие дебри забираемся, что без философского словаря и не обойтись. А по моему разумению, вопрос простой и решать его надо просто. Конечно, Червенцов прав, что тут спорить. Но с другой стороны — Ветлугин вел себя храбро? Храбро. Этого никто отрицать не станет… Действовал при пожаре умело? Умело. Факт остается фактом. И уж коли мы и боевые листки уже поторопились выпустить, и по радио рассказали о нем… Тут Тецоев прав: этак мы себе же больше вреда наделаем. Короче говоря, раздувать эту историю ни к чему — вот что я хочу сказать. А Ветлугина взять в оборот покрепче, и точка.
— Вы не хотите огласки, — сказал капитан Червенцов упрямо. — Но огласка все равно будет.
— Почему?..
— Вы забыли о корреспонденте.
На некоторое время в кабинете наступило молчание, потому что и правда никто не подумал, что история эта уже известна газетчику и таким образом волей-неволей выйдет за пределы полка. Все как-то упустили это из виду.
— Ну тем более! — сказал Шестаков. — Не выставлять же теперь самих себя на смех перед корреспондентом. Пускай корреспондент пишет свою заметку. Это его дело. Он знает, что газете нужно, не нам его учить.
— Правильно! — опять вскочил Тецоев. — Разрешите, товарищ подполковник? — Все ему казалось, что не высказал он еще главных доводов.
— Ишь ты, Тецоев, на комсомольских собраниях, что ли, так навострился речи произносить? — пошутил подполковник. — Ладно, говори, только не повторяйся.
— Газету сколько человек читать будет? Как Ветлугин храбро с огнем боролся, как пост не покинул — все читать будут. Вот как поступать надо — скажут. Воспитательное значение материал будет иметь.
Удивление, граничащее с возмущением, было написано на лице Тецоева — казалось, его поражало, как это люди не могут понять таких простых, таких очевидных вещей.
— Не в том мы воспитательное значение видим, — сказал капитан Червенцов, и его бледное лицо вдруг стало медленно заливаться слабым румянцем. — Вот вы, Тецоев, одно и то же твердите: подвиг в мирное время, подвиг в мирное время! А я, когда о подобных вещах, о разного рода чрезвычайных происшествиях читаю, я о другом всякий раз думаю, у меня о другом сердце болит! Да знаете ли вы, что почти у каждого такого подвига оборотная сторона имеется? Думали ли вы об этом? Мы прославляем героев — прекрасно! Они этого заслужили. А думаете ли вы, что семь из десяти таких подвигов — это исправление чьей-то халатности, расхлябанности, безответственности? Когда я читаю, как у самолета вдруг шасси отказывает и летчик самолет с пассажирами на брюхо сажает, я восхищаюсь летчиком, его мастерством, его самообладанием, но мне спросить хочется: а где же тот механик был, что самолет перед вылетом осматривал? Почему о нем нет ни слова? Когда я о том читаю, как два состава столкнулись и машинисты погибли, жизнь людей спасая, я перед ними преклоняюсь. Герои! И писать о них надо. Но отчего же о виновнике аварии, о дежурном, который с похмелья не так стрелку перевел, этак стыдливо одной строчкой упомянуто? А будь моя воля — так я бы рядом два очерка напечатал: один — о героях, а другой — об этом подлеце безответственном, как до такой жизни человек дойти может! Вот это было бы воспитательное значение. А то вроде и аварии и пожары так, сами собой возникают. Беда наша, что мы слишком многое на авось привыкли делать — авось, мол, сойдет — и никак от этой привычки отучить себя не можем. Вот вы, Тецоев, все доказываете, что этого вашего Ветлугина за геройство прославлять надо, что на его примере мы людей учить должны. Да не на его примере, нет. Возьмите лучше — у того же Безбеднова во взводе солдат есть, Синицын его фамилия, скромный парень, безотказный. Ни одного нарушения. Да, если хотите знать, изо дня в день д е л а т ь д о б р о с о в е с т н о свое дело — это и поважнее, и потруднее, чем один раз с огнетушителем на пламя броситься… А Ветлугин что ж… Сам напоганил, сам исправил — за что же прославлять-то его? Но знаете, что меня больше всего насторожило, когда я разговаривал с Ветлугиным? Он ведь не испугался, когда понял, что я знаю о причине пожара. Он был уверен, что ему ничего не грозит, вот что, по-моему, самое опасное…
Безбеднов с откровенным изумлением слушал капитана Червенцова. Никак не ожидал он от этого сухого, как ему казалось, педантичного штабиста такой горячности, такого напора. Но, видно, наболело у человека, накопилось. Даже Тецоев притих на некоторое время, слушая его. И все же, едва Червенцов сделал паузу, Тецоев сказал упрямо:
— Отчего пожар возник — это еще гадать можно. Ветер искру занес, она, может, час, может, два тлела, потом ветер искру раздул — вот тебе и пожар! Случайность? Ясное дело, случайность! А вот что солдат на риск пошел, с огнем смело боролся, пост не оставил — это разве случайность? Он подвиг свой сознательно совершил, так его командиры воспитали, такой характер у человека — вот о чем говорить надо! Или, по-вашему выходит, — в мирное время и подвиг совершить невозможно?
— Да не о том я, Тецоев! — с досадой отозвался Червенцов. — Не о том. Как вы понять не можете? Если вы решили, что я возможность подвига отрицаю, так вы меня совершенно не поняли. Одно дело, когда человек, не щадя себя, допустим, со стихией борется, а другое, когда жизнью рискует, чтобы чужую — или свою! — халатность исправить. Это я сто раз повторить готов! Я, Тецоев, когда помоложе, вроде вас, был, когда службу свою только начинал, бывало, тоже все о чем-нибудь героическом мечтал. Чем-нибудь отличиться мне хотелось. Бывают же, думал, случаи. Вон в соседней части от замыкания в проводке пожар случился — солдаты его тушили, в другом полку парашют у солдата не раскрылся и товарищ его спас, вдвоем на одном парашюте спускались; еще где-то машина под лед провалилась — солдат командира из воды вытащил… а у нас, как назло, ничего такого не происходило. И замыканий не было, и парашюты раскрывались исправно… — «Выходит, Червенцов раньше служил в десантных войсках», — отметил про себя Безбеднов. И это тоже было открытием для него. — …и машины под лед не проваливались. Честно говоря, мне иногда казалось, что мне просто не везет. И уже потом, позже, меня однажды вдруг словно осенило: да ведь это же хорошо, что у нас ничего такого не случается! Это же просто-напросто значит, что все — и электромеханик, от которого зависит исправность проводки, и офицеры, которые следят за укладкой парашютов, и солдаты, которые укладывают свои парашюты, и шоферы, которые водят машины, — добросовестно делают свое дело… Вот в чем соль.
Безбеднов вдруг подумал, что, возможно, все, что они говорят сейчас здесь, лишь в малой степени повлияет на решение, которое примет потом командир полка. И вовсе не для того собрал их сегодня замполит. Может быть, только затем пригласил их подполковник Дементьев, чтобы дать им самим взглянуть на эту, казалось бы, очень простую историю с разных сторон. Он-то, Безбеднов, опасался, что здесь от него будут ждать решающих слов, а на самом деле ему самому предстояло получить тут урок…
— Ну что ж, по-моему, все ясно, будем подводить итоги, — сказал подполковник Дементьев. Он помолчал, глядя в окно на марширующих на строевом плацу солдат. — Сегодня, по-моему, короче всех говорил капитан Фатеев, но сказал он очень точно: «Нельзя воспитывать ложью…»
13
Из штаба лейтенант Безбеднов вышел вместе с замполитом батальона капитаном Фатеевым. Некоторое время они шли молча. Потом Фатеев сказал:
— Ну что совсем голову повесил? Это не по-солдатски.
— Видно, никуда не годный из меня воспитатель, — сказал Безбеднов. Как почти все самоуверенные люди, он очень болезненно переживал любое поражение и при неудаче легко переходил от самоуверенности к другой крайности — к самоуничижению. — Вот схему мне давайте электронную, я в любой разберусь, честное слово. А воспитатель… Ну что из меня за воспитатель? Казалось, Ветлугина этого я уже как свои пять пальцев знаю, а сейчас вот сидел и думал: что он за человек такой? И не мог ответить.
— Что за человек… — повторил Фатеев. Ему было жарко, время от времени он снимал фуражку и обмахивался ею. — Я тоже об этом думал. Нам ведь вместе на этот вопрос отвечать, не тебе одному. Я тут в отпуске недавно был, за своим племянником понаблюдал — тоже здоровый парень уже вымахал, восемнадцать скоро. Спортом занимается, способности к математике имеет, вроде бы все как надо… Но знаешь, что меня в нем поразило? Полное неумение отказаться от своих желаний. «Хочется — не хочется» — вот и весь разговор. Эгоизм, причем и эгоизм-то какой-то вялый. Знаешь, врачи говорят: бывает течение болезни острое — такая болезнь, может, и опаснее, но зато и лечить ее легче и проходит она быстрее. А бывает болезнь вялая — она и тянется долго, и лечить ее трудно, потому что незаметна. Вот твой Ветлугин мне этого моего племянника напомнил…
«Уж очень хотелось, прямо невтерпеж было», — вспомнил Безбеднов и сказал вслух:
— Да, пожалуй, это точно.
— Такой парень и делом увлечься может, если оно ему по душе пришлось, и даже храбрый поступок совершить, особенно если на глазах у других, и все-таки… Знаешь, что я больше всего ценю в человеке? Надежность. Когда на человека положиться, понадеяться можно. А эти люди, они — ненадежны. Вот в чем беда.
Безбеднов слушал Фатеева и думал, что и сейчас Ветлугин остается для него загадкой. Почему вчера он так легко признался ему в своем поступке? Почему не стал отпираться? Он мог солгать, скрыть — что заставило его пойти на откровенность?.. Значит, было в нем что-то хорошее, что не давало врать, глядя в глаза Безбеднову? Значит, в глубине души он, видно, все-таки честный человек?.. Или просто в самом Безбеднове было тогда, в тот момент такое напряжение, перед которым не смог устоять Ветлугин?.. Или за этим признанием скрывался хорошо обдуманный расчет — уверенность, что лейтенант защитит его? Или это была только беспечность, которую не раз замечал Безбеднов в его характере?
— Казалось же, все так хорошо шло… — с досадой сказал Безбеднов. — Казалось, уже и подход к нему отыскал. Наладился, думал, парень…
— Не так-то это просто, — сказал Фатеев. — Если б это так просто было, сейчас бы вокруг нас одни ангелы крылышками помахивали. Вот ты только что сказал: дайте мне электронную схему, я в любой разберусь. Так ты ведь, пока до сути в этой схеме докопаешься, сколько разных тонкостей учитываешь — тут и обратная связь, и помехи, и колебания параметров, и черт те знает, что еще! А иметь дело с человеком нам куда проще порой представляется. Поговорил, побеседовал, и готово — перевоспитался! Уж очень мы любим это слово «перевоспитался»! И с такой легкостью произносим! А на самом деле какой это сложный процесс — изменение характера, привычек, взглядов, столько здесь разных влияний пересекается, столько сил взаимодействует!.. Об этом мы в суете, в торопливости и подумать порой не успеваем. Зато и интереснее ничего нет, чем пытаться понять другого человека, чем найти к нему верный путь…
— Николай Алексеевич! Николай Алексеевич!
Безбеднов обернулся. Их догонял корреспондент, старший лейтенант Федоровский.
— Николай Алексеевич, а я вас ищу. Мне кое-какие подробности необходимо уточнить. Пять минут, и больше не буду терзать вас!
Безбеднов и Фатеев переглянулись.
— А что? Что-нибудь случилось? — быстро спросил Федоровский.
— Боюсь, что пяти минут нам с вами не хватит, — сказал Безбеднов.
МАЛЕНЬКОЕ СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
1
«Здравствуйте, Севастьяновы О. И. и Т. В.! С приветом к вам ученики 5 «б» класса. Если кто из вас еще проживает по тому адресу, какой мы написали на конверте, отзовитесь! Адрес этот мы нашли в записке, которая была спрятана в винтовочной гильзе. А гильзу отыскал наш ученик Бондаренко Саша. Записку ту писал ваш сын и муж Севастьянов Андрей Григорьевич. Напишите, выслать ли вам эту записку. Как ответите — мы сразу вышлем. Живем мы в Белорусской ССР, в деревне Заречье. На этом писать заканчиваем.
С пионерским приветомученики 5 «б» класса, красные следопыты Бондаренко Саша, Вакуленко Лена, Черных Гена».
ТЕЛЕГРАММАЗАРЕЧЬЕ БЕЛОРУССКОЙ БОНДАРЕНКО САШЕ ВАКУЛЕНКО ЛЕНЕ ЧЕРНЫХ
ДОРОГИЕ РЕБЯТА ПИСЬМО ПОЛУЧИЛА ГЛУБОКО ТРОНУТА БЛАГОДАРНА ЗАПИСКУ ВЫСЫЛАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ЖДУ НЕТЕРПЕНИЕМ
СЕВАСТЬЯНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
2
— Да, — сказала мама. — Это он. Это его почерк. Я не могу ошибиться. Видишь, он всегда так писал букву «д» — хвостиком вверх…
Маленький клочок грубой бумаги умещался у нее на ладони. Мама подносила его к глазам, близоруко всматривалась в полустершиеся, криво разбегающиеся строчки.
Я молча стоял рядом. Я уже знал наизусть, что там было написано.
«Нас осталось двое. Сейчас немцы пойдут в атаку. Товарищ! Кто найдет эту записку, сообщи нашим родным: мы умерли, но не сдались.
Севастьянов Андрей ГригорьевичОвчинников Петр Васильевич».
Дальше шли адреса — два, еще довоенных, адреса.
— Теперь я не сомневаюсь, это он, — повторяла мама, — он всегда так писал букву «д». Я еще смеялась над ним, хотела переучить…
Лучше бы она заплакала. Я чувствовал, как у меня у самого слезы подступают к глазам. Это буква «д»…
— Да, да, это он… Боже мой, через столько лет!..
Я молчал, я не мог судить, я ведь почти не знал отцовского почерка.
Помнил ли я отца?
Мне казалось, что помнил.
Я родился 22 июня 1941 года. Теперь, когда мне приходится называть дату своего рождения, или заполнять анкету, или просто предъявлять паспорт, я часто замечаю, как задерживается взгляд человека, берущего мой документ, на этих цифрах. Слишком у многих навсегда осталась в памяти эта дата.
Три дня спустя после моего рождения мать выписали, — роддом переоборудовали под госпиталь. Отец приехал за нами на машине, на черной «эмке», — кто знает, как удалось ему тогда раздобыть эту машину. Мать так часто рассказывала мне о том дне, что вся картина отчетливо возникала перед моими глазами. Отец уже был призван в армию, он с трудом вырвался всего на несколько часов, чтобы забрать нас и отвезти домой. Он стоял внизу, в вестибюле, а мама, держа меня, еще безымянного, спускалась к нему по лестнице, и они всматривались друг в друга, два родных, два близких человека, с тревогой, с болью и радостью — столь многое произошло, столь многое изменилось за те несколько дней, которые провели они в разлуке, что казалось, и они уже не могли остаться теми же…
Отец бережно принял меня на руки, наклонился надо мной, и тут я открыл глаза и посмотрел на него. Больше никогда уже я не видел отца.
Иногда мне казалось, что я действительно помню эту минуту, это мгновение — лицо отца, склонившегося надо мной. Даже не память, а ощущение, что я в и д е л отца, что руки отца прикасались ко мне, — это ощущение навсегда сохранилось во мне. В конце концов, все то, что видит ребенок, младенец, даже в самые первые дни своей жизни, не может же уйти, исчезнуть, не оставив следа, — наверняка все это как-то запечатлевается в душе человека. Может быть, это было наивно, но я верил, что от того, кто в эти первые дни брал тебя на руки, чьи пальцы прикасались к тебе — родные, ласковые или чужие, — зависит твоя будущая, уже взрослая жизнь…
— Нет, ты только подумай — какое счастье, что мы не переехали, не сменили адреса! Разве бы они сумели тогда найти нас? Через столько-то лет! Просто как чудо…
«Это и правда чудо», — думал я. Тридцать лет гильза с предсмертной запиской отца пролежала в земле, тридцать лет…
Может быть, я вырос излишне чувствительным оттого, что воспитывался в доме, где не было мужчин, оттого, что моим воспитанием занимались две женщины — мать и бабушка, только когда я увидел эту винтовочную позеленевшую гильзу, с такой бережностью упакованную в картонную коробочку, так старательно обложенную ватой, у меня вдруг сжалось сердце от нежности, от благодарности этим ребятам, о которых я не знал ничего, кроме фамилий, — Вакуленко Лена, Черных Гена, Бондаренко Саша, красные следопыты…
«Объявленная ценность — 3 рубля», — было написано на посылке. И я представил себе, как совещались ребята на почте, как спорили друг с другом — какая же ценность может быть у такой посылки!
Посылку нам принесла почтальон тетя Лиза. Почти столько же, сколько я помнил себя, я помнил и тетю Лизу. Раньше она приносила письма бабушке, теперь приносит их мне. Тетя Лиза уже без малого двадцать пять лет работала почтальоном, без малого четверть века разносила почту в нашем доме и хорошо знала всех жильцов, а все жильцы хорошо знали ее. Знали, что она одинока, что муж ее погиб на фронте, что раньше с ней жил племянник, но недавно он окончил техникум и уехал на Север, на Кольский полуостров, на строительство комбината. Журналы и письма тетя Лиза предпочитала не опускать в общий, разделенный на соты, почтовый ящик, прибитый на первом этаже, а вручала лично. Она уверяла, что стоит опустить журнал в этот ящик, как его тут же утащат мальчишки, или нарочно переложат в соседнее отделение, или сотворят еще какую-нибудь пакость. Всех мальчишек она считала своими врагами и ругала всегда нещадно. Но все же истинная причина ее неприязни к этому давно уже введенному новшеству была совсем иная — просто тетя Лиза любила поговорить. Она была в курсе многих больших и малых событий, происходящих в девяноста квартирах старого пятиэтажного дома. На нее не сердились, к ней привыкли. И когда она появлялась во дворе дома в своем зеленом, выгоревшем на солнце платке, из-под которого беспорядочно выбивались седые волосы, и широким, решительным шагом направлялась к первой парадной, в доме говорили: «Вон идет наша тетя Лиза».
Когда еще была жива бабушка, тетя Лиза, бывало, подолгу засиживалась у нас и горевала вместе с ней, если приносила ей неутешительные вести. Бабушка все надеялась, все верила, что рано или поздно отыщется хоть кто-то, кто знал ее сына, что когда-нибудь придет весточка о ее сыне. Куда только не писала она, куда только не обращалась! До последней минуты, до самой смерти не хотела смириться, ждала. Она так и умерла, надеясь. Уже тяжелобольная, бабушка просила меня: «Взгляни, не идет ли тетя Лиза». Она умерла, ее не стало, гроб с ее телом уже опустили в могилу, а голос ее еще звучал с газетного листа: «Разыскиваю сына, Севастьянова Андрея Григорьевича…» Это последнее письмо она отправила в газету за неделю до смерти.
— Не дождалась Татьяна Васильевна… — вздохнула тетя Лиза, вручая маме посылку. — А уж так надеялась, так ждала…
И хотя между находкой ребят из деревни Заречье, между их письмом и теми письмами, которые рассылала бабушка, не было никакой связи, меня все-таки не оставляло чувство, будто это ее упорство, ее надежда сделали свое дело.
Теперь я ощущал свою вину перед ней. Я-то еще с детства свыкся с мыслью, что след моего отца затерян где-то в самом начале войны, что он, отец, так навсегда и останется без вести пропавшим. Когда я был маленьким, мне даже нравились эти слова: «пропал без вести». Была в них какая-то тайна, загадка. Только потом, став старше, я понял, что стояло за ними. То упорство, с которым вновь и вновь рассылала бабушка свои письма-запросы, то нетерпение, с которым ждала она потом появления тети Лизы, казались мне всего лишь простительной старческой слабостью, не больше. Я не верил, а она верила. Я никогда не говорил ей об этом, но она-то угадывала, чувствовала это мое неверие, это мое снисходительное равнодушие…
Пока была жива бабушка, я, в общем-то вполне самостоятельный, взрослый человек, здесь, дома, по-прежнему чувствовал себя мальчиком, ребенком. Наверно, правильно говорят, что мы становимся взрослее вовсе не с годами, мы становимся взрослее, когда уходят те, кто был старше нас. Вот не стало бабушки, и словно сработал какой-то тайный механизм времени — незаметно на ее место передвинулась мать, и я сам словно шагнул, поднялся — или спустился? — на следующую ступеньку.
Однажды, когда проходила перепись населения, мы, все трое, долго и весело спорили, прежде чем заполнить графу «глава семьи». Получалось, что каждый из нас имел право называться «главой». Бабушка — по причине своего старшинства, мать — потому что приносила деньги, зарабатывала тогда больше всех, и, наконец, я сам — потому что мужчина. Кончилось тем, что главой все-таки провозгласили бабушку. Так и шутили потом: «Где наша «глава»?», «Не хочет ли «глава» пойти в кино?», «Что сегодня «глава» приготовила на обед?»
Казалось, я лишь теперь заметил, как много седых волос появилось у мамы, как появились у нее некоторые манеры, привычки, которые раньше я замечал только за бабушкой… Вот и отцу моему тоже уже исполнилось бы пятьдесят. Только никак не мог я представить его себе седым, постаревшим, совсем иным вставал он в моем воображении…
3
Что знал я об отце?
Пожалуй, ни бабушка, ни мама никогда не рассказывали мне о нем специально, никогда не говорили: «Твой отец поступил бы так-то» — или: «Твой отец этого не сделал бы…» Они вспоминали о нем, как вспоминают только о самом близком человеке, каждая черточка которого хорошо известна, знакома, — достаточно лишь одной фразы, намека, маленького эпизода, а порой и слова, чтобы человек снова ожил в памяти.
Бабушка:
— …Я его никогда не наказывала. Разве что один раз… Как-то он слишком уж раскапризничался за обедом, и я его выставила из-за стола. Он упрямился, а я его схватила за руку и потащила в соседнюю комнату. А на другой день он заболел. Он оттого и капризничал, что уже расхварывался, — это болезнь в нем говорила. Теперь, вспомню вот, как тащила его через комнату, руку его худенькую в своей руке вспомню — так и мучаюсь… До сих пор себе простить не могу.
…Он любил мятные пряники.
…Еще в тире любил стрелять. В выходной, бывало, придет мой брат, дядюшка его, и они отправляются в тир. Ждет всегда не дождется этого дня.
…Гербарии собирал. Хорошие у него были гербарии. Я все хранила их, все думала уберечь, даже в блокаду не трогала, да где уж там… Как вывезли меня, так все и пропало. Так горько, что не сумела сберечь, — очень уж он ими дорожил.
…Однажды я подошла к нему вечером, перед сном, а он мне шепчет: «Мама, я не хочу быть взрослым!» Я удивилась: «Это почему же, сынок? Все хотят, а ты не хочешь?» — «Потому что ты тогда постареешь и умрешь. Лучше я не буду взрослым!» Как будто судьбу свою предсказал…
Мама:
— …Мы с ним в одном классе учились. Его Паганелем дразнили. Он вовсе и не похож был на Паганеля, просто увлекался своими гербариями — вот и дразнили. Обычно он не обижался никогда, а как-то я его назвала Паганелем — он вдруг обиделся, рассердился ужасно. Потом уже я догадалась — отчего.
…Однажды в пионерском лагере на даче у одной хозяйки мальчишки украли яблоки. Хозяйка пришла. «Постройте, — говорит, — старших, я узнаю того, кто это сделал». Мальчишек построили, хозяйка пошла вдоль строя, приглядывается, а Андрей вдруг покраснел, алый весь сделался. Хозяйка на него и показала. «Вот он, — говорит, — голубчик, ишь краской-то залился!» А после выяснилось: совсем и не он это был, никаких яблок, конечно, Андрей не крал — просто не мог он вынести подозрения, стыдно ему было, что им такой досмотр, такую очную ставку устроили.
…На лыжах он любил ходить. Мы с ним в Павловск ездили кататься. Как хорошо там было в парке, как хорошо!..
Казалось, он так и ушел на войну мальчиком. Шагнул летним июньским днем на перрон вокзала, и сдвинулись, закрылись за ним двери теплушки — навсегда… И ни звука, ни отклика. Ушел, исчез, пропал без вести…
4
Мама убрала записку и гильзу в старую коробку из-под конфет, где хранились моя метрика, единственное письмо от отца — только один раз разлучались они до войны, — когда уезжал он на военные лагерные сборы, и только одно коротенькое письмо написал он оттуда, — хлебная карточка за 1947 год, две маленькие фотографии отца, билет лотереи Осоавиахима, подаренный ей отцом накануне войны…
— Теперь надо попытаться найти кого-нибудь из родственников Овчинникова, — сказала мама.
Я и сам думал об этом. Только, наверно, найти их было не так-то просто. Иначе ребята из Заречья, те, что отыскали нас, конечно же, уже сделали бы это. Город В., областной центр, где тридцать лет назад жила мать Овчинникова, чей адрес был указан в записке, во время войны был оккупирован фашистами, сильно разрушен, а теперь отстроен заново, и потому рассчитывать на то, что этот адрес нам пригодится, не приходилось. Архивы в городе тоже вряд ли сохранились. А все-таки стоило попробовать.
В тот же вечер я написал письмо в адресный стол города. Я объяснил, что разыскиваю мать погибшего солдата, и очень просил помочь мне.
Ответ пришел неожиданно быстро.
«Уважаемый тов. Севастьянов!
По Вашей просьбе сообщаем Вам адрес Евдокии Петровны Овчинниковой».
Подпись неразборчива.
Теперь мне оставалось только написать Евдокии Петровне. Я уже заранее испытывал расположение к этой женщине. Я представлял себе, как мы с мамой познакомимся с ней, как пригласим ее в гости или приедем в гости к ней, как будем переписываться.
Весь вечер мы говорили с мамой о ней уже как о близком человеке, — нас связывала, нас роднила теперь память о любимых людях, а что может быть крепче?
Я думал, что завтра же сяду за письмо к Евдокии Петровне, но все получилось совсем не так, как я рассчитывал. Рано утром на другой день мне вручили повестку из военкомата. Мне надлежало немедленно явиться на сборный пункт. Уже на сборном пункте я узнал, что начинаются большие войсковые учения.
5
Как резко вдруг изменилась моя жизнь!
Уже третьи сутки я не снимаю шинели. Мы спим прямо в снегу, на еловом лапнике. Ставить палатки запрещено, и мы сооружаем себе что-то вроде снежного чума. Днем мы маскируем бронетранспортеры, копаем укрытия, траншеи, ходы сообщения. Наша часть стоит в лесу, ожидая сигнала о наступлении.
Казарма, эшелон, погрузка и разгрузка — все это уже осталось позади. Я не успел и оглянуться, как очутился здесь, в белорусских лесах. Где-то тут, недалеко, погиб мой отец. Теперь я думаю об этом неотступно. И ребята, которые отыскали гильзу с запиской, тоже живут здесь, неподалеку. У меня нет карты, я могу лишь примерно определить, где мы находимся и куда двинемся дальше, и наши командиры пока молчат об этом — военная тайна, но все-таки места, где воевал отец, недалеко, это я точно знаю. Только нечего и думать сейчас попасть туда.
Мой заместитель, сержант Лавриков — он тоже призван из запаса, — все время ворчит, сердится, что его оторвали от семьи, от работы, от кларнета, на котором он играет в самодеятельном оркестре. «Начальство забавляется солдатиками, а мы отдувайся, — говорит он. — И чего держат? Пока генералы свои операции разрабатывают, тут воспаление легких запросто схватишь. Потом всю жизнь будешь на лекарства работать».
А я доволен. Стыдно сказать, но мне никогда раньше не приходилось бывать в настоящем лесу зимой. И такого ослепительно белого снега я никогда не видел. Заденешь за еловую ветку, и на тебя брызнет сверкающее облако снежной пыли. А тишина! Даже мы со своими бронетранспортерами, радиостанциями, походными кухнями не сумели нарушить ее — сами растворились, исчезли в ней.
Я уже начинаю привыкать к нашему лесному существованию: как будто я всю жизнь умывался снегом, спал не раздеваясь, не снимая валенок, пробирался по ходам сообщения, вырытым в глубоком снегу… И к своему взводу за те несколько дней, что мы носим военную форму, я уже успел приглядеться, привыкнуть.
Больше других мне по душе солдат с забавной фамилией Катюшкин. Он тоже из запаса, совхозный механик. У него удивительная способность — исчезать, казалось бы, в самую нужную минуту и возникать так же неожиданно как раз в тот момент, когда обойтись без него уже совершенно невозможно. Например, идет погрузка эшелона, скоро уже пора загонять на платформу бронетранспортер, водитель которого Катюшкин, а Катюшкина нет.
— Катюшкин! — кричат солдаты.
— Где Катюшкин?
— Кто видел Катюшкина?
Никто не видел Катюшкина.
Я нервничаю, командир роты нервничает, командир батальона говорит:
— Я этому вашему Катюшкину сейчас всыплю на всю катушку!
Но именно в ту минуту, когда дело доходит до погрузки, Катюшкин возникает возле бронетранспортера и еще тащит за собой моток какой-то проволоки и деревянные бруски, без которых, как потом выясняется, и делать-то на платформе нечего.
Катюшкин невысок ростом, в плечах неширок и на первый взгляд даже может показаться тщедушным, только впечатление это обманчиво. Я давно уже замечал: бывают люди, у которых вся сила на виду, мускулатура, бицепсы так и играют, так и перекатываются — хоть сейчас на спортивную рекламу, а выйдет против такого атлета жилистый мужичонка, и еще неизвестно, кто кого скрутит, кто первый выдохнется. Вот и Катюшкин такой — ж и л и с т ы й.
Катюшкин старше меня, он родился еще до войны, в тридцать пятом.
— Нас восемь братьев было, восемь Катюшкиных. Два брата на войне погибли, один уже после войны на мине подорвался. И я, дурак малый, тогда все к минам тянулся, как вспомню, что выделывал, так и теперь холодный пот прошибает.
Мы лежим рядом, на еловых ветках. В нашем самодельном жилище колеблется слабый свет от костра, плавает сизый слоистый дым, ест глаза. То громче, то тише звучат голоса солдат. Кто-то рассказывает анекдоты, кто-то сквозь кашель клянет и дым, и мороз, кто-то спорит о хоккее.
— Больше всего обожаю для жмуриков играть. — Это голос сержанта Лаврикова.
— Для каких жмуриков? — спрашивает кто-то.
— Ну для покойников.
— Ну тебя, ты скажешь!
— А что — самое милое дело! — хохочет Лавриков. — Тут уж «капусты» не жалеют. Идем, бывало, пока не играем, баланду травим. Самый главный фокус — уметь грустную рожу выдержать. Без этого нельзя.
И кто только выдумал сделать его моим заместителем? Одно только название, что сержант. На самом деле мой заместитель — Катюшкин. Рядом с ним я чувствую себя увереннее, спокойнее.
Если бы полагалось взвод строить не по росту, а по степени надежности, по характерам солдат, я бы на правом фланге поставил Катюшкина, а Лаврикова бы отправил на левый, на самый край. Не знаю, может быть, мои суждения слишком поспешны, но думаю, все-таки я бы не ошибся…
С часу на час мы ждем приказа о наступлении. И хотя мы знаем, что это только учения, от этого долгого, томительного ожидания на душе становится тревожно.
Разговоры быстро затихают. Солдаты спят, измаявшись за день. Кто-то всхрапывает, кто-то стонет, кто-то шевелится во сне, плотнее прижимаясь к соседу, стараясь согреться. И хотя все мы различны по возрасту, по гражданским профессиям, по характерам, по тем заботам, что оставили дома, различны даже по воинским званиям, сейчас, в эти минуты, кажется, мы все равны — равны и едины. Особое чувство человеческого братства охватывает меня, когда я смотрю при слабом, уже начинающем гаснуть пламени костра на усталые лица этих лежащих вповалку, тесно прижавшись друг к другу, одетых в одинаковые шинели людей…
Мне не спится. Я опять думаю об отце. Какие люди окружали его, какие люди были рядом с ним в последние дни его жизни?..
Я поднимаюсь и осторожно, стараясь не наступить на спящих, выбираюсь наружу, на воздух.
Стоит ясная морозная ночь. Высокое черное небо усыпано звездами. Тишина. И резкий скрип снега в тишине — кто-то торопливо идет сюда. Луч карманного фонарика упирается в меня.
— Кто здесь? — голос ротного.
— Лейтенант Севастьянов.
— Поднимайте взвод! Надеть маскхалаты — и по машинам! Быстро!
Рядом, за деревьями, уже звучат отрывистые слова команд.
— Взво-од! Тревога! — И опять — хоть знаю, что все это только игра, пусть серьезная, важная, в которой участвуют тысячи взрослых людей, но все же игра, — голос мой хрипнет и срывается от волнения.
Грохочут моторы бронетранспортеров, мелькают фигуры бегущих солдат, рушатся стены уже отслуживших свое снежных укрытий.
— Проверить снаряжение!
Автомат, лыжи, патроны, противогаз, лопатка, фляжка, вещмешок — все здесь, все при себе…
В белых маскхалатах, в касках наш взвод выглядит совсем по-боевому, лица солдат напряжены, сосредоточены, и в то же время радостная готовность написана на них: наконец-то! — будто и впрямь нам предстоит переходить настоящую линию фронта.
Один за другим, урча, выкатывают на дорогу бронетранспортеры; поднимая облака снежной пыли, выползают танки. Полчаса, час мы ждем своей очереди. А машины все идут и идут. Они набирают скорость и исчезают в темноте — только грохот стоит над дорогой. Сколько же их было укрыто здесь, в лесу! Волнение, гордость и чисто мальчишеский восторг — оттого что ты тоже причастен к этой яростной, грохочущей силе — охватывают меня.
Даже Лавриков перестает ругаться спросонья и завороженно смотрит на дорогу.
— Ё-моё, — говорит он. — Ну и силища!
Наконец нам дают команду. Катюшкин трогает бронетранспортер с места, машина вырывается на дорогу, и мы растворяемся в этом бесконечном и грозном потоке…
Мы движемся всю ночь. Теперь я уже знаю нашу задачу: выйти в район сосредоточения «противника» и прямо с марша стремительно атаковать его.
Лавина машин все нарастает. Они идут теперь во всю ширину шоссе — и справа, и слева от нас. В темноте справа грохочет колонна танков, слева, надсадно ревя, тягачи волокут какие-то огромные прицепы, наглухо зачехленные брезентом. Потом тягачи отстают, остаются позади, и теперь рядом с нами — крытые «ЗИЛы». «ЗИЛы» вырываются вперед, а на их месте в предрассветном сумраке возникают силуэты реактивных минометов. А справа все идут и идут танки.
И постепенно вдруг мне начинает казаться, что когда-то в моей жизни уже было подобное движение, подобный бесконечный и мощный поток… Что-то связанное с войной… Движение и тревога… Хотя что я мог помнить о войне? Разве что смутно — день, когда войска Ленинградского фронта возвращались в город и мы с матерью стояли в толпе, в плотных и жарких шеренгах людей, охваченных ожиданием… Или, может, в крови детей, родившихся в войну, переживших ее, пусть даже в самом младенческом возрасте, навсегда — в крови, в подсознании, в генах ли — остается память о войне?
Нас трясет и швыряет в нашем бронетранспортере, мы глохнем от грохота и рева моторов, мы уже не принадлежим себе — мы только крохотная частица в этой неотвратимо катящейся вперед лавине. Кажется, сама ночь дышит тревожным и грозным ожиданием.
Неожиданно впереди возникает пробка. Тормозят, сбиваются в кучу передние машины, а сзади уже подпирают новые.
Что там случилось? Никто не знает.
Какой-то «ЗИЛ» пытается проскочить стороной, по снежной целине, и застревает, садится в снег по самые оси. По обочине шоссе, подпрыгивая на ухабах, проносится командирский «газик». Кто-то, проваливаясь в снег и ругаясь, бежит туда же, вперед, к месту пробки.
Через несколько минут тягач оттаскивает с дороги танк с лопнувшей гусеницей. Танкисты в черных комбинезонах хлопочут, копошатся возле него. Даже в предрассветной мгле можно разглядеть, какие несчастные, виноватые у них лица.
Замершие было колонны снова приходят в движение.
Уже светает. Над дорогой висит морозная дымка. Я начинаю дремать и не замечаю, как дорога пустеет, только наши бронетранспортеры по-прежнему стремительно катят по ней. Или это мы свернули с шоссе?..
По сравнению с грозным ночным движением, с тем ощущением мощи, которое я испытывал ночью, наша атака выглядит куда бледнее. В том, как мы бежим за бронетранспортерами, и палим из автоматов холостыми патронами, и кричим «ура», есть что-то бутафорское, игрушечное. А ночью все было всерьез. Как на войне.
Впрочем, основные действия разворачиваются южнее. Оттуда доносится грохот взрывов, орудийная канонада, реактивные самолеты распарывают воздух…
К вечеру все уже кончено — нас отводят на отдых. Наш батальон останавливается возле деревни, и, пока мы гадаем, готовиться нам к ночевке здесь или нет, Катюшкин уже успевает исчезнуть и появиться вновь.
— Товарищ лейтенант, идемте! — зовет он. — Я насчет баньки договорился!
Я спрашиваю у ротного разрешения, и мы с Катюшкиным идем в деревню. К нам пристраиваются еще несколько солдат. Сначала заходим в магазин. Выбор здесь невелик — сухой кисель, консервы, пряники, конфеты-подушечки.
— Будем пить чай, — с наслаждением говорит Катюшкин.
Мы покупаем конфет и мятных пряников. После семи дней, проведенных в лесу, одна мысль о том, что сейчас мы попаримся, а затем сядем за стол, доставляет нам невыразимое блаженство.
Теперь, когда я уже представляю, где мы находимся, когда знаю, что до той деревни, которую я мысленно называю деревней моего отца, добрых полторы сотни километров и что, видно, не судьба мне нынче добраться дотуда, я ощущаю, как сильна все-таки была надежда.
Около сельсовета я замедляю шаги. Здесь, на стене избы, висит доска с именами жителей деревни, погибших в дни войны. Какой же длинный этот список!
Быков Петр
Богданов Алексей
Бондаренко Александр
Бондаренко Иван
Бондаренко Василий
Бондаренко Ефим
Бондаренко Степан
Бондаренко Анна
Бондаренко Прасковья
. . . . . . . . . .
Я чувствую, как комок подкатывает у меня к горлу. Медленно я дочитываю список до самого конца, до последней строки.
Дальше мы идем молча. «Бондаренко» — эта фамилия сидит у меня в мозгу. Среди тех ребят, что отыскали записку отца, тоже есть Бондаренко. И пусть это только совпадение, кажется, лишь теперь я начинаю по-настоящему понимать, отчего те ребята так бережно, так старательно упаковывали позеленевшую винтовочную гильзу…
Ни попариться, ни попить чаю мы не успеваем. Едва только мы подходим к дому, где ждет нас баня, едва только любопытная ребятня высыпает нам навстречу, как нас догоняет солдат, посланный ротным. Приказ — отправляться немедленно.
— Хоть бы молочка попили! — жалеет нас хозяйка.
Она торопливо выносит ведро с молоком, и мы пьем его, зачерпывая прямо из ведра кружкой. Молоко теплое, парное. Молочные усы вырастают у нас возле губ и тут же превращаются в иней. Хорошо!
Катюшкин с сожалением оглядывается на дымок, вьющийся над баней.
И снова ночная дорога. Что, куда — неизвестно. Поговаривают, что едем грузиться. И настроение уже совсем иное, чем прошлой ночью. А может быть, просто дает себя знать усталость. Схлынуло уже напряжение, и нас клонит в сон.
Под утро мы прибываем в военный городок, расположенный на окраине В. Нас размещают по казармам. Здесь мы будем двое суток ждать погрузки.
6
Всю дорогу, пока я, получив разрешение у замполита полка, добирался до дома, где жила Евдокия Петровна Овчинникова, я старался представить себе эту женщину, старался представить, как она меня встретит. Что несу я в этот дом? Нужно ли ворошить старое и, возможно, уже утихшее горе? Может быть, я причиню только боль своим появлением? А может быть, эта женщина так же, как моя бабушка, все пытается отыскать след своего сына? И каждая весть о нем, каждое воспоминание — дороги?
Дверь мне открыла невысокая, стриженная под мальчика девушка. На первый взгляд ей было лет восемнадцать — двадцать, не больше. В руке она держала книгу, заложив пальцем страницу, на которой застал ее мой звонок. Наверно, она ждала кого-то другого, потому что распахнула дверь с той беззаботной легкостью, с какой встречают только близких, хорошо знакомых людей. И теперь застыла на пороге, с удивлением разглядывая меня.
Наверно, и правда вид мой способен был вызвать удивление. Солдатская шинель и лейтенантские погоны, кирзовые сапоги и офицерская портупея. Я и сам чувствовал себя уверенно и естественно в этой форме лишь до тех пор, пока находился среди таких же, как и я, офицеров запаса. Стоило же мне одному выйти за пределы части, оказаться в городе, и я начал испытывать неуверенность и неловкость, словно я был полувоенным-полугражданским, полуофицером-полусолдатом. Но судьба как будто нарочно распорядилась, как будто нарочно постаралась, чтобы я появился в этом доме не в своем обычном гражданском обличье, а в этой армейской шинели, неумело затянутой портупеей.
Так мы стояли некоторое время, разглядывая друг друга, потом я спросил:
— Евдокия Петровна Овчинникова здесь живет?
— Здесь. Только ее сейчас нет дома. Но она скоро вернется. Она ушла в магазин. А что вы хотели?
Я пытался прикинуть, кем может приходиться эта девушка Евдокии Петровне. Внучка? Племянница? Может быть, просто квартирантка, студентка?..
— Видите ли, — сказал я, — мой отец когда-то воевал вместе с ее сыном. Они…
— Так, значит, вам нужен мой папа?
— Папа?
— Почему вас так удивляет, что у меня есть папа? — засмеялась она.
— Погодите, погодите, дайте разобраться, — сказал я. — Как зовут вашего отца?
— Петр Васильевич.
— Петр Васильевич Овчинников?
— Ну да.
— И он был на фронте?
— Конечно. Вы же сами сказали, что ваш отец воевал вместе с ним! — Ее уже начинал раздражать мой допрос.
— Да, но…
Я растерянно смотрел на нее.
— Ой, что же мы стоим здесь! — вдруг спохватилась она. — Проходите в комнату. Бабушка сейчас придет. И давайте познакомимся. Меня зовут Вера.
— Анатолий, — сказал я.
В передней я снял шинель, оставил ее на вешалке. Потом долго возился с портупеей, просовывал ремень под погон, затягивал гимнастерку. Но все это я делал машинально, а сам все еще никак не мог прийти в себя от того, что услышал.
Овчинников жив. Мой отец умер, погиб, а Овчинников жив. Как это произошло? Что он за человек, этот Овчинников?
В комнате, куда провела меня Вера, ничто, пожалуй, не выдавало ни вкусов, ни привычек ее хозяев: стол, тахта, сервант, телевизор — обычная обстановка, как в сотнях других квартир. Разве что придирчивая забота о чистоте угадывалась по натертому до блеска паркету, на который мне своими кирзовыми сапогами и ступить было страшно. Казалось, так навечно и отпечатаются мои подбитые гвоздями подметки на этом беззащитно-нежном паркете.
Вера предложила мне сесть, а сама сразу же исчезла, сделав озабоченное лицо. Наверно, она просто не знала, о чем со мной говорить, а сидеть вдвоем с незнакомым мужчиной и молчать было неловко. Да и я со своей растерянностью, со своими вопросами скорей всего произвел на нее странное впечатление. А может быть, как раз почувствовав мою растерянность, мое смущение, она нарочно оставила меня одного.
Я слышал, как, напевая, она ходит по квартире, — ее легкие шаги возникали то в коридоре, то за стеной, в соседней комнате. Так я сидел в одиночестве, тщетно пытаясь собраться с мыслями, до тех пор, пока не раздался звонок и не пришла Евдокия Петровна, Верина бабушка. Шепотом Вера что-то объясняла ей в передней. Потом шепот прекратился, и я увидел Евдокию Петровну Овчинникову.
Это была грузная седая женщина, одетая со старческой небрежностью или, точнее, с пренебрежением очень старого человека к тому, что могут сказать или подумать о твоей одежде. Лишь бы было тепло и удобно. Поверх платья на ней была надета байковая коричневая кофта, уже изрядно поношенная, а из-под нее выглядывала еще одна — шерстяная — жакетка.
Я поднялся навстречу женщине.
— Здравствуйте, Евдокия Петровна.
— Здравствуйте, молодой человек, — отозвалась она, без стеснения, в упор рассматривая меня, впрочем вполне приветливо. — А я как вошла да как увидела шинель на вешалке, так у меня сердце и замерло…
— Ну что ты, баба Дуся, — откуда-то из глубины квартиры раздался веселый Верин голос, — не война же сейчас!
— Что ж, что не война. Не понять тебе, Веруша, сколько мы пережили. Помню, когда взяли Петю, сына моего, в сорок первом в армию, я вот так же пришла домой, а на вешалке шинель висит — вот как сейчас ваша. Я как припала к ней головой да как заплачу — всю ее слезами вымочила…
Она заговорила со мной так, словно я был ее давним знакомым, заговорила с той непосредственностью и открытостью, которая бывает свойственна только старикам и детям.
— Два раза я так на его шинели плакала. Один раз от горя, другой — от радости. Это когда он вернулся. Завтра как раз день в день двадцать пять лет будет, как он домой вернулся. Мы тогда не здесь еще, на другой квартире жили. Да какая там квартира — комнату на две семьи делили. Занавеску повесили — так и жили. Вечером это было. Соседка мне говорит: «Дуся, к тебе». Я занавеску откинула и вижу: он, Петя, стоит. Худой, и шинелишка на нем старая. А я молчу, слова сказать не могу, ноги к полу приросли, двинуться не могу. Я ведь уже и не ждала, что живым его увижу. Как извещение в сорок первом получили: «Пропал без вести», так больше ничего и не было. Прижалась я к нему, плачу. «Что же ты, спрашиваю, весточки не прислал?» — «А я, — говорит, — мама, после плена болел очень, в госпитале лежал, думал, живым не выберусь. Вот и решил: что же вам меня два раза хоронить, один раз похоронили, погоревали, и хватит». Вот говорят все: снам не надо верить. А я его, Петю моего, во сне сколько раз больным видела! Будто маленький он совсем еще и ко мне руки протягивает, пить просит. Как в детстве, когда он корью болел. Тяжело он корь переносил, метался в жару, бредил…
Евдокия Петровна замолчала вдруг, то ли утеряв нить рассказа, то ли погрузившись в свои воспоминания, забыв обо мне.
Я тоже молчал. Я думал о своей бабушке, о матери своего отца. Как она верила, как ждала этого чуда! Я никогда не забуду, как однажды — мне уже исполнилось восемь лет, четыре года уже минуло после войны, — мы были дома вдвоем с мамой, и вдруг вбежала бабушка. Она тяжело дышала, и на лице ее было какое-то странное выражение. Никогда раньше я не видел у нее такого лица. Она остановилась, увидела нас с мамой, увидела наши обращенные к ней лица и поникла. Оказывается, издали она заметила, как в нашу парадную вошел военный с вещмешком за плечами, и его походка, его манера взмахивать рукой… одним словом, ей почудилось, что это ее сын. Я был еще мальчишкой, ребенком, но я ощутил тогда эту боль, эту горечь возникшей было и тут же рухнувшей надежды. И я, может быть, впервые в жизни страдал от своего бессилия, от невозможности помочь любимому мной человеку. Постепенно, с годами, бабушкина вера в то, что ее сын вернется, слабела, гасла — теперь она уже хотела самого малого: чтобы нашелся человек, который мог бы рассказать о последних днях ее сына. Но даже и этого ей не суждено было дождаться…
— Отец-то ваш, говорите, вместе с сыном моим воевал? — очнувшись от своих воспоминаний, обратилась ко мне Евдокия Петровна.
— Да, — сказал я. — Он погиб в сорок первом.
И вдруг неожиданная мысль пронзила меня. Погиб в сорок первом? Но ведь я был уверен, что и Овчинников погиб тогда же. Ведь и его подпись стояла под этой запиской. А он жив. Может быть, и мой отец вовсе не был убит в этом бою? И что за судьба тогда постигла его? Только один человек мог ответить теперь на этот вопрос.
— А мать жива?
— Жива, — сказал я.
— Замуж-то не вышла?
— Нет.
Евдокия Петровна участливо покачала головой:
— Вот она, война, вот оно, горе-то человеческое… И годы прошли, а оно все не проходит, все не отпускает… Сколько мы тогда натерпелись, в сорок первом, и не приведи господи! Петя-то на второй день на фронт ушел добровольцем, а я с Катей, с дочкой младшей, осталась. И как мы потом с беженцами отступали — вспомнить страшно! Немцы бомбят, а я лягу и дочку собой прикрываю — пусть хоть она, думаю, живой останется… Теперь Катя уже взрослая, муж у нее подполковник, на севере живут, в Архангельске.
— Бабушка, что ты все о себе рассказываешь! — снова подала голос Вера. Оказывается, она все время прислушивалась к нашему разговору. — Может быть, человеку это совсем и неинтересно.
— А неинтересно, он сам скажет, — обиженно отозвалась Евдокия Петровна. — Наверно, у него язык не хуже твоего. — И добавила, уже обращаясь ко мне: — Ой, и правда, я вас совсем заговорила. Старая стала — как начнешь вспоминать, так и не остановиться…
— Нет, нет, мне все интересно, я слушаю, — сказал я.
— А внучка, вы не смотрите, что она на себя строгость напускает, любит она меня. Бывало, еще маленькую отнесут ее к другой бабушке, а она — в рев. «Хочу, — говорит, — к бабе Дусе, хочу к бабе Дусе!» Это меня она бабой Дусей называет, а та — баба Таня.
— Бабушка, опять? — раздалось из-за стены.
— А ты, Веруша, чем замечания бабушке делать, лучше бы альбом принесла с фотографиями. Слышишь? Там карточка есть одна, — пояснила она мне, — где Петя с другими бойцами сфотографирован, может, и отца на ней найдете…
Я знал, что не найду своего отца на этом снимке, что мой отец и ее сын, вероятнее всего, оказались вместе уже позднее, когда было совсем не до фотографий… Но все-таки мне было любопытно посмотреть этот альбом.
Мне почему-то казалось, что Вера заупрямится и Евдокии Петровне придется самой идти разыскивать альбом. Но я ошибся. Вера больше не дичилась. Она принесла альбом — тяжелый, в голубом матерчатом переплете, с виньетками на обложке и металлической отделкой, и сама не ушла, осталась с нами.
С первой страницы альбома на меня смотрел большелобый мальчик лет шести, в матроске. Он стоял так, как поставил его фотограф, послушно вытянув руки по швам, глядя прямо перед собой, но его лицо еще хранило отблеск самозабвенного детского веселья — видно было, что он только что перестал смеяться. Черты лица его были несколько неправильны, но именно эта неправильность, асимметричность придавала этому лицу притягательность, заставляла остановиться и пристально всмотреться в него.
— Это я его водила сниматься, когда ему шесть лет исполнилось, — сказала Евдокия Петровна.
Дальше шли семейные любительские фотографии: какие-то люди сидят за столом в саду, под деревом. Те же люди — на крыльце дома, на переднем плане — две девчонки с бантами и тот же мальчик в матроске, только уже подросший, вытянувшийся, матроска мала ему. Какая-то хохочущая женщина в сарафане полуобняла мальчика за плечи, притянула к себе.
— Трудно узнать?
Ну конечно же, это она, Евдокия Петровна, совсем еще молодая. Сорок лет разделяют эту хохочущую женщину и теперешнюю грузную старуху — только глаза остались те же. Какой беспечностью, каким счастливым неведением веяло от этих довоенных любительских снимков!..
А вот опять он — Петр Овчинников, уже школьник. Вот он с одноклассниками, вот с маленькой сестренкой, вот — один, сидящий за книгой…
Кажется, и не фотограф вовсе, а само время щелкало затвором фотокамеры: щелчок — и еще год прошел, щелчок — и детская аккуратная челочка сменилась полубоксом, щелчок — и вот уже галстук завязан толстым неумелым узлом, щелчок…
Гимнастерка топорщилась на нем, и пилотка сползла на затылок. Да и на остальных военная форма сидела не лучше. Как, когда успели они сфотографироваться — шестеро призывников сорок первого года? Конечно, среди них не было моего отца, не могло быть. Я и не надеялся его увидеть.
Я вглядывался в лицо Овчинникова — всего несколько дней оставалось до того, последнего боя. Таким открытым было это лицо, так отчетливо читалось на нем мальчишеское тщеславное упоение новенькой военной формой, такое детское бесстрашие, такая радостная готовность выполнить все, что потребуется, угадывалась в этом прямом взгляде.
Неужели и отец мой, снимись он тогда, выглядел бы так же? Впрочем, отец был старше…
— Фотографии эти чудом уцелели, — сказала Евдокия Петровна. — Они у меня с документами хранились. Я, как от немцев спасаться стали, вместе с документами их и схватила. Вот и вышло — вещи пропали, а фотографии остались. Уж так я потом радовалась, что хоть на карточке Петю моего увижу… Бывало, возьму карточку и разговариваю с ним…
Я перевернул страницу альбома.
И снова передо мной было лицо Овчинникова. Только какая разительная перемена произошла в нем! Оно исхудало, черты его обострились, стали жестче, глаза глубоко запали и смотрели отчужденно и измученно. Казалось, не пять, а пятнадцать лет пролегло между двумя этими снимками. Да и не в годах было дело, не время изменило это лицо. Та неправильность черт, та асимметричность, которая на детских фотографиях привлекала, притягивала обещанием неординарности, теперь, обозначившись резче, определенней, придавала лицу выражение угрюмой, болезненной замкнутости.
— Таким он вернулся, — сказала Евдокия Петровна. — Я только одного тогда боялась: чтобы не слег он, не заболел. Каждый кусок, что получше, для него берегла. Но, слава богу, обошлось. Первое время по ночам во сне он стонал сильно. Я проснусь, разбужу его, спрашиваю: «Болит что или сон какой снится?» — «Нет, ничего, — говорит, — мама». Потом уснет, а я лежу до утра, заснуть не могу, сама своему счастью не верю. Так и стала наша жизнь налаживаться. Работать на завод он пошел, заочно в институт поступил. Сначала-то ему из дома и выйти не в чем было — все он ту шинелишку таскал. Я ее до сих пор храню. «Выбрось ты ее», — это Петя мне говорит. А как я ее могу выбросить, разве рука поднимется? Вот когда умру, пусть тогда и делают, что хотят, пусть выбрасывают, они молодые, им виднее…
— Ну-у, баба Дуся, — укоризненно протянула Вера.
Ласково посмеиваясь, она смотрела на бабушку. Только сейчас я вдруг заметил, какие мягкие, какие ласковые у нее глаза. И улыбка у нее была особенная — она возникала медленно, словно всплывала откуда-то из глубины, постепенно освещая лицо.
— Бабушка у нас любит поворчать, — сказала Вера. — Но вы ее не бойтесь, она у нас добрая, правда, баба Дуся?
— Ох, заговорилась я с вами! — спохватилась Евдокия Петровна. — А мне ведь на завтра еще студень готовить надо. Мы этот день, когда сын мой, Петя, вернулся, каждый год у себя дома отмечаем.
— Папа говорит, это его второй день рождения, — вставила Вера.
Я продолжал машинально листать альбом. Он уже подходил к концу. Несколько фотографий, заложенных между страницами, выпали и веером разлетелись по полу Я нагнулся, чтобы подобрать их. На одной из карточек я увидел Веру с отцом. Наверно, фотографировались они на юге, возле какого-то маленького водопада. Отец стоял вполоборота, и глаза его закрывали темные очки. Зато Вера вышла отлично — она наклонилась к воде, рука ее застыла в полувзмахе, глаза светятся веселым озорством, еще секунда — и брызги холодной воды полетят в отца… Что-то давнее напомнила вдруг мне эта фотография, было в ней что-то похожее на те, еще довоенные, снимки — та же счастливая беззаботность угадывалась в ней…
— Ладно, ладно, это уже не имеет исторической ценности, — сказала Вера, отбирая у меня альбом. — Вот папа узнает, он нам еще покажет! Он не любит воспоминаний. Да вот и он сам!
Она замолчала, и я услышал, как во входной двери поворачивается ключ.
Занятый разговором с Евдокией Петровной, рассматриванием альбома, я, кажется, так и не успел приготовиться к этой встрече…
7
Опять я остался один. Опять я слышал торопливый, объясняющий шепот в передней, слышал, как раздевался Овчинников, как прошел он по коридору, как мыл под краном руки… И чем дольше не появлялся он в комнате, тем напряженнее я себя чувствовал. Не знаю, может быть, на меня подействовало то выражение угрюмой, болезненной отчужденности, которое я увидел на послевоенной фотографии, или брошенная Верой фраза: «Он не любит воспоминаний», только мне показалось, что с его приходом что-то изменилось в атмосфере этого дома — словно вдруг потянуло холодом. Бывают тяжелые люди, которые сами страдают от своего характера, от своей холодности, от своей необщительности, но ничего не могут поделать с собой. Почему-то теперь Овчинников представлялся мне именно таким. Еще не познакомившись с ним, я уже испытывал к нему и сочувствие, и почти родственную близость — то чувство, которое я впервые ощутил, приступая к розыскам этой семьи, и какую-то странную робость, почти переходящую в неприязнь… За те несколько минут, которые я оставался один, я уже успел навоображать невесть что.
— Здравствуйте.
Передо мной стоял невысокий худой человек, в котором я — если бы полагался лишь на фотографии — вряд ли бы узнал Овчинникова. Я видел перед собой самое обыкновенное лицо усталого пожилого человека, лицо, на котором нелегкая жизнь, недоедание и болезни уже оставили свои приметы: обвислые мешки под глазами, коронки на редких передних зубах, глубокие залысины… Самое обычное лицо, которое можно увидеть в автобусе, переполненном служащими, торопящимися на работу, или в очереди у газетного киоска, или в толпе мужчин, возвращающихся после матча со стадиона. То ли сгладилась со временем та неправильность черт, которая притягивала меня, когда я разглядывал фотографии, то ли рядом с так явственно выступившими приметами старости она уже не бросалась в глаза, как раньше…
Овчинников скользнул взглядом по моей гимнастерке, по моим погонам:
— С маневров?
— Да, — сказал я.
— Не курите?
— Нет.
— А я закурю. — Он достал пачку «Беломора», вынул папиросу и, разминая ее в пальцах, пристально посмотрел на меня. Лишь теперь я заметил, что правое веко у него время от времени прикрывается, словно вдруг тяжелея. И тогда лицо его приобретало то выражение болезненной настороженности, которое я уловил на снимке.
— Ваш отец был в плену?
— Нет. — Я покачал головой.
— Так с чего же вы решили, что я смогу вам помочь, что я знаю его? Как фамилия вашего отца?
— Севастьянов, — сказал я. — Севастьянов Андрей Григорьевич.
Правое веко, вздрогнув, прикрылось. Овчинников затянулся папиросой.
Я молча ждал, что он ответит. Эта минута решала многое.
— Так вот оно что, — сказал наконец Овчинников. — Значит, ты сын Севастьянова? — Наверно, он и не заметил, как у него вырвалось это «ты». — Да, я знал его. Он погиб у меня на глазах.
До сих пор мне казалось, что возможно какое-то недоразумение, какая-то ошибка. И еще я опасался — вдруг он скажет: «Не помню». Или начнет темнить, — ведь черт его знает, как это могло случиться, что мой отец погиб, а он жив. Но он сказал правду, и я вздохнул с облегчением.
— Вы хорошо помните его? — спросил я.
— Помню. — Он опять затянулся папиросой и закашлялся. Кашлял он мучительно. Даже смотреть, как он кашляет, было тягостно. Казалось, что-то рвется у него в груди. Лицо его побагровело, и слезы выступили на глазах. Наконец, когда кашель отпустил его, Овчинников сказал:
— Как же вы все-таки нашли меня? Узнали откуда?
Я пожалел, что у меня не было сейчас с собой записки. Тогда бы мне ничего не пришлось объяснять. Я бы просто протянул ему записку, и все. А кроме того, мне хотелось увидеть своими глазами, как возьмет он эту записку, как взглянет на нее. Мне важно было это увидеть. Но откуда же я мог знать, когда поспешно собирал вещи, поименованные в военкоматовской повестке, что случай приведет меня в этот город?
Я рассказал Овчинникову все, начиная с того дня, когда мы с матерью получили письмо от ребят из белорусской деревни Заречье.
Он слушал меня чуть удивленно, недоверчиво, не перебивая, с тем сосредоточенным, почти угрюмым вниманием, которое присуще малоразговорчивым, замкнутым людям.
— Так вот я и добрался до вас, — сказал я.
Овчинников молчал, глядя на дымок папиросы, лежащей на краю пепельницы.
Вспоминал ли он тот далекий летний день сорок первого года? Думал ли о моем отце? Или просто подбирал слова, которые должен был сейчас сказать мне?
Я не торопил его, я тоже молчал.
— Дошла, значит… сохранилась… — сказал он, с трудом, казалось, преодолевая молчание. — Верно. Севастьянов ее писал, отец ваш.
— Расскажите, как это было, — попросил я.
— Как было… — Опять он задумался, опять надолго погрузился в молчание. Правое веко, медленно тяжелея, снова поползло вниз, прикрывая глаз. — Как было… Попали мы в окружение… Тогда знаете что самое страшное было? Что ничего не понять. Где немцы, где наши — ничего не известно. И главное — мы ведь были уверены, что это только с нами такая беда случилась. Мы-то будущую войну себе совсем по-другому представляли. Что нам тогда было — вашему отцу едва за двадцать перевалило, так ведь? Мне и того меньше… Остатки нашего полка собрал какой-то майор, фамилии его я не помню, помню только, что голова у него была перевязана, вывел к дороге и велел окапываться. Сказал, что есть приказ оборонять эту дорогу. Я теперь думаю, что это он нарочно сказал, чтобы нас подбодрить, чтобы мы видели, что кто-то еще знает о нашем существовании. А может быть, он и правда получил такой приказ, не знаю. Но мы действительно бодрее себя почувствовали. Целые сутки удерживали мы эту дорогу. Немцы, видно, не ждали встретить здесь сопротивление, в открытую сначала шли — мы их много тогда положили. Два танка подбили. Потом немцы еще три раза в атаку ходили. Что мы за те сутки вынесли, что пережили — трудно словами передать… На следующий день к вечеру нас совсем уже мало осталось. И майора, который нами командовал, тоже убило. Патроны у нас кончались. Тогда Севастьянов и решил эту записку написать. Мы с ним все время вместе были, мы с ним еще раньше держаться друг друга договорились. Мы уже знали, что живыми нам отсюда не выбраться. Он мне еще сказал: «Если, — говорит, — меня ранят, ты пристрели меня, чтобы к фашистам не попасть». Немцы нас обошли, они уже со всех сторон были…
Овчинников взял погасшую папиросу, долго чиркал спичкой по коробку, руки его не слушались.
— Ну вот… Остальное я помню обрывками, смутно… Знаете, я вам скажу, бой — это такая штука, что восстановить потом точно все, как было, припомнить по порядку, объяснить — порой совершенно невозможно… Вроде бы видел я еще, как ползет Севастьянов с гранатой навстречу немцам… Тут рядом со мной мина разорвалась, меня оглушило. Когда я немного пришел в себя, вижу: он лежит неподвижно и рядом с ним — убитый немец…
— А вы? Что с вами было? — спросил я.
— Меня ранило. Очнулся я уже у немцев, в плену.
«Если бы отца ранило, он бы тоже, может быть, остался жив», — подумал я. Имел ли я право желать того, чего не хотел, чего больше смерти боялся мой отец?.. «Если меня ранят, ты пристрели меня», — сказал он. Я почувствовал озноб, когда произнес про себя эти слова.
Овчинников курил, сильно затягиваясь, кашлял и снова курил.
— Петя, ты же знаешь, тебе нельзя курить!
Я и не заметил, как новое лицо появилось в доме. Жена Овчинникова.
— И волноваться тебе вредно. — Она неодобрительно покосилась на меня, сдержанно поздоровалась.
— Это я виноват. Простите, — сказал я.
— Вы знаете, только год, как он перенес инфаркт.
— Ладно, мать, оставь нас. Лучше выясни, что там с обедом. Нас, кажется, хотят уморить голодом. Все вредно, — сердясь, сказал он, когда жена вышла. — Курить — вредно, вспоминать — вредно, волноваться — вредно. А в общем-то, я действительно не люблю вспоминать. Вам первому, пожалуй, рассказываю. Все равно словами не рассказать, что тогда происходило, что мы тогда испытали. Только кто сам пережил, тот знает. Да я и сам, как оглянусь назад, не верю, что это все со мной было. Кажется, совсем с другим человеком Да так, наверно, оно и есть, что с другим. Между мной тогдашним, восемнадцатилетним, и тем, что я теперь, — сколько всякого жизнь понаворотила…
Он говорил сейчас о том же, о чем я думал совсем недавно, разглядывая снимки в фотоальбоме.
— А отца вашего я хорошо помню. Постойте… Вы ведь родились в первый день войны, верно? Вот видите, я и это помню. Крепкий он был человек. Крепче многих из нас…
— А место, где этот бой был, где отец погиб, вы помните? — спросил я.
— Помню ли? Мне казалось, я его с закрытыми глазами найти смогу. А когда приехал туда первый раз, путаться начал. Все вроде и так и не так. Шутка ли сказать — столько лет прошло! Но отыскал все-таки, нашел. Да если хотите, — после некоторой паузы сказал он, — мы завтра можем съездить туда. Отпустят вас? Это недалеко, два с половиной часа на автобусе.
Он еще спрашивал — хочу ли я, отпустят ли. Да если понадобится, я дойду хоть до самого генерала и сумею убедить его. Разве он не поймет? Разве сможет отказать? Военный-то человек!
«Вот как удивительно иногда бывает, — думал я. — Овчинников здесь, рядом — рукой подать до Заречья, даже ездил туда, а ребята и не подозревали об этом. И записка нашла не его, а меня… А впрочем, наверно, так и должно было быть, — ведь записку писал м о й отец…»
— Ну, раз отпустят, тогда съездим завтра с утра пораньше, а потом, если у вас нет других планов, давайте опять к нам — у нас завтра, знаете ли, маленькое семейное торжество…
— Да, я уже слышал, спасибо, — сказал я.
— Это все женщины стараются, — пояснил Овчинников с легким смущением.
Мне все казалось, что я еще о чем-то должен спросить его, я все боялся забыть, упустить что-нибудь важное, что касалось моего отца, но теперь я успокоился: если и забыл что, к завтрашнему дню обязательно вспомню.
Я стал было прощаться, но тут появилась Евдокия Петровна, грузной своей фигурой загородила мне дорогу, замахала на меня руками:
— И не думайте, и не думайте, никуда я вас не отпущу. Или вы считаете, что в вашей столовой вас накормят лучше, чем здесь?
— Да я…
— Не отказывайтесь, — сказала Вера. — Все равно у нашей бабушки отказаться невозможно. Она однажды жулика, воришку, умудрилась усадить за стол. Не верите? Честное слово! Он под видом водопроводчика ходил по домам.
— Ничего себе, хорошенькое сравнение! — сказал я.
— Ой! — Вера засмеялась, смутилась, покраснела. Краснела она отчаянно — почти до слез. — Я не хотела вас обидеть.
— Наша Вера сначала говорит, потом думает, есть у нее маленький недостаточек по этой части, — сказала ее мать.
— Ты бы, Верочка, лучше пригласила человека как следует, чем надо мной подшучивать, — сказала Евдокия Петровна.
Я остался. Честно говоря, мне хотелось остаться. Мне все больше нравилось в этом доме. Даже то недовольство, то опасение за здоровье Овчинникова, которое я время от времени ловил во взгляде его жены, я понимал и оправдывал. Здесь все любили друг друга и заботились друг о друге. Так, во всяком случае, мне казалось.
Пока была жива моя бабушка, у нас тоже, когда мы сходились за столом, чувствовалась семья. Но одно место за нашим столом всегда пустовало. Я вспомнил теперь, как мы спорили, кого считать главой семьи. Тогда нам казалось, что спорим мы очень весело, но в общем-то веселого в этом было мало. Веселье от горя. Теперь я особенно ясно почувствовал это.
Потом мне трудно было припомнить, о чем мы разговаривали за столом. Так, о разных пустяках, обо всем понемногу. Вера больше не стеснялась меня — она была оживлена, шутила, и, глядя на нее, я радовался тому, что наше знакомство не оборвется сегодня, что завтра я опять увижу ее. Я спросил ее, где она учится.
— В медицинском, — ответила она.
— Она еще маленькой была — все кукол лечила, — сказала Евдокия Петровна. — Теперь на одни пятерки учится, отличница. Слава богу, нынче жизнь изменилась, а то вы себе представить не можете, сколько мы в свое время пережили, — на Петра везде косо смотрели: был в плену. И когда Верочка родилась, за нее переживали: с детства анкета испорчена. А что вы думаете, могли и в вуз не принять из-за этого, такие тогда были порядки…
— Мама, опять ты за свое, — сказал Овчинников. Он один был сумрачен и молчалив за этим столом.
— Ой и правда, что это я всем настроение порчу!
«Если бы был жив мой отец, неужели бы я стал переживать из-за каких-то анкет? — подумал я. — Если бы он был жив…»
— Что ж вы не едите совсем? — спохватилась Евдокия Петровна. — Или не нравится? Вы не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома, у своей мамы.
— Я не стесняюсь, — сказал я.
Я никогда не отличался особой общительностью, рядом с малознакомыми людьми я обычно испытывал неловкость и скованность, мне приходилось делать усилие над собой, чтобы заговорить, чтобы найти тему для разговора, но сейчас у меня и правда было такое ощущение, будто я давно знаю этих людей и они давно знают меня. Впрочем, может быть, оттого так легко и возникло это ощущение, что я уже заранее, еще не имея представления, кто меня встретит здесь, еще не видя этих людей, уже был расположен к ним.
Но странное дело — чем проще, чем свободнее я чувствовал себя в этом доме, чем веселее становилось за этим столом, тем отчетливее поднималось во мне какое-то неясное беспокойство, какое-то смутное, тревожащее недовольство собой, причину которого я не мог определить…
8
Вечером я рассказывал Катюшкину о своей поездке в город, о встрече с Овчинниковым — я слишком был полон впечатлениями сегодняшнего дня, чтобы с кем-нибудь не поделиться ими.
Я рассказывал о своем разговоре с Овчинниковым, я старался не упустить ничего, я повторял каждую его фразу и словно заново вслушивался в то, что говорил мне сегодня этот человек. И вдруг я остановился, споткнулся, пораженный одной мыслью. Как она раньше, еще там, в доме Овчинникова, не пришла мне в голову!
«Постойте!.. Вы ведь родились в первый день войны, верно? Вот видите, я и это помню…» — сказал он мне, и тогда меня даже растрогали эти его слова. А теперь вдруг они обернулись другой стороной, другой свет лег на них. Если все так хорошо, так отчетливо сохранилось в памяти Овчинникова, отчего же не пытался он разыскать нас с матерью?
— Понимаешь, если бы он не помнил, — говорил я Катюшкину, — если бы забыл… Но он помнил! Столько лет помнил!.. Знал же он, как важна для нас любая весточка об отце, не мог не знать. Что же мешало ему? Характер? Или он виноватым себя перед нами чувствовал оттого, что жив остался, а отец погиб, не вернулся?
— Какая ж вина в том, что человек жив остался? — рассудительно сказал Катюшкин. — Это уж у кого какая судьба. Вон мой братан старший пять раз был ранен и всякий раз опять на фронт возвращался. Его под Прагой убило, мы извещение уже через три недели после Победы получили. Мы-то нарадоваться не могли, что война кончилась, что он живой, а его уже схоронили. Вот как бывает. А наш сосед — его только один раз ранило, так он и дома очутился. Не винить же его теперь. Кому как повезет.
— Человек сам себя винить может, — сказал я.
— Тот, кому есть за что, тот себя не винит, — с прежней рассудительностью сказал Катюшкин, — а тот, кому не за что, только напрасно мучается…
Наверно, он нарочно так говорил, чтобы успокоить меня, но я не мог успокоиться.
Мы сидели с Катюшкиным на табуретках возле моей койки. Катюшкин вырезал из обломка зубной щетки какую-то фигурку, остальные солдаты — одни играли в домино, другие бесцельно бродили по казарме, сейчас они почти ничем не напоминали тех подтянутых, напряженных бойцов, которые стояли передо мной в белых маскхалатах, в касках, готовясь погрузиться в бронетранспортеры. В казарме царила та атмосфера томительного ожидания, какая бывает всегда перед отправкой домой, когда командиры тщетно пытаются занять солдат каким-нибудь делом, но и командиры и солдаты уже знают, что главное — позади, главное свершилось и теперь остается только терпеливо ждать свой эшелон.
— Может быть, он и пробовал вас разыскивать, да не удалось, — предположил Катюшкин.
— Ну неужели бы он не сказал об этом?
А может быть, он все эти годы пытался уйти от войны, забыть ее? Имел ли я право осуждать его за это?
Но неужели никогда, за все тридцать лет, не возникло у него желание найти мать человека, который погиб на его глазах? Не мог же он не чувствовать, что должен был сделать это?
Снова перебирал я в памяти весь разговор с Овчинниковым, каждую паузу, каждый его взгляд.
«Крепкий он был человек», — сказал Овчинников о моем отце. И добавил: «Крепче многих из нас». Что скрывалось за этим словно невзначай вырвавшимся признанием? Что?
Сколько ни ломал я голову, сколько ни думал, а все приходил к одному и тому же.
Он чувствовал вину. Вину перед моим отцом. Потому и не искал нас.
Других объяснений не было.
9
Мы вышли из автобуса на развилке дорог. Автобус покатил дальше, и мы остались вдвоем с Овчинниковым на пустынном шоссе.
День начинался солнечный, яркий — снег слепил глаза.
— Нам направо. Идемте, — сказал Овчинников.
Он двинулся по тропинке, протоптанной в снегу, на обочине дороги, и я пошел за ним.
Так мы шли минут сорок, было тихо, никто не попадался нам навстречу. Вдоль дороги, справа и слева, тянулся молодой лесок, и каждый раз, когда за деревьями открывалось свободное пространство, волнение охватывало меня, я напрягался в ожидании, что сейчас Овчинников скажет: «Вот здесь». Но он молчал, и мы шли дальше. Полы моей шинели хлопали по сапогам. Всегда я чувствовал себя штатским человеком, и профессия у меня самая что ни на есть штатская, но вот сейчас я приду к отцу, к месту его последнего боя в армейской шинели — и это, наверно, очень правильно. Так и должно было быть.
— Знаете, что странно, — сказал Овчинников, оборачиваясь. — Кажется, столько лет прошло, люди и забывать войну должны, а нет, наоборот, я замечаю: теперь-то как раз и тянет людей к местам, где они воевали. Раньше, после войны, такого не было. Стареем, что ли?
Он шагал уверенно, не задерживаясь, — видно, и правда уже не раз и не два бывал тут.
Лес кончился. Перед нами по обе стороны дороги лежало снежное поле.
— Вот здесь, — сказал Овчинников.
Поле сбегало вниз, под уклон, к небольшой замерзшей сейчас речке. По берегам речки чернели кусты, деревянный мост возвышался над ней. Вдали, за речкой, виднелась деревня, белые дымки вились над избами. Вокруг по-прежнему было безлюдно, только возле моста ребятишки катались на санках. Их темные фигурки отчетливо выделялись на фоне снега. Как на картинке из букваря.
Почему, отчего всплыли вдруг в моей памяти эти бесхитростные строчки? Кажется, совсем о другом я думал, совсем другим были заняты сейчас мои мысли… Но таким миром, таким покоем веяло от этого снежного простора, от этой тишины, от этих дымков, струящихся над избами, что невольно чувство, словно после долгого отсутствия я вернулся наконец в полузабытые родные места, охватило меня…
— Вот тут были наши окопы, — сказал Овчинников. — А немцы вон оттуда шли, от деревни. Теперь я понимаю, они, видно, таким образом к шоссе стремились выйти, а мы им мешали…
Я молча смотрел на заснеженное ровное поле, пытаясь представить, что происходило здесь тридцать лет назад. Может быть, если бы не было снега, мне это было бы легче. Как будто не время стерло, а только снег укрыл следы войны и стоит сойти снегу, как сразу откроются и полуразрушенные окопы, и воронки, и ржавые мотки колючей проволоки… Еще мальчишкой я видел такие картины под Ленинградом. Но здесь ничто не напоминало о войне.
— Вон там наша пушка стояла, противотанковая. Один танк метров пятидесяти не дошел до нее, подбили. Так и застрял на дороге. Если бы не пушка эта, нам бы не продержаться…
Детский смех донесся, докатился до нас от речки.
— Мишка, Мишка, поди сюда, что я тебе скажу! — раздавался звонкий мальчишеский голос.
— Потом пушку снарядом накрыло, весь расчет разом… никто не уцелел…
Я постарался представить себе, как рвались здесь снаряды, старался представить и эту одинокую пушку, и дымящийся на дороге танк, и гибель артиллеристов — и не мог. То есть мысленно я все это представлял, но я н е ч у в с т в о в а л, как это происходило. Я ожидал от себя чего-то иного, какого-то иного состояния, которое я должен был испытать здесь, на этом поле, и которое так и не приходило ко мне. Душа моя словно замерла, затаилась, ни горя, ни боли не ощущал я, только странная грусть подступала к сердцу при виде застывшей подо льдом речки и ребят, беспечно катающихся на санках, — как будто время бежало вспять и война еще только надвигалась оттуда, из прошлого…
— Пойдемте, я покажу вам, где мы с отцом вашим находились…
Овчинников ступил на снежную целину и пошел, глубоко проваливаясь ботинками в снег. Я не отставал от него. Несколько раз он останавливался, точно прикидывая что-то, точно примеряясь, смотрел на мост, на далекие деревенские избы.
— Летом бы я сразу нашел, а зимой… зимой труднее, зимой я тут первый раз… — бормотал он.
Наконец он остановился и сказал уверенно:
— Здесь.
Так вот что видел мой отец в последний день своей жизни! Вот что открывалось его взгляду. Та же дорога, тот же мост, те же избы были передо мной, но теперь я смотрел на все это словно бы глазами отца. Я стоял на том же месте, что и он, я видел то же самое, что и он. Пусть тогда было лето, а теперь зима, неважно, это не имело значения. Мгновенное ощущение слитности — как будто я был он и он был я — поразило меня.
Овчинников стоял рядом со мной, солнце светило нам в спину, и тени лежали перед нами. Снег на пятачке, вытоптанном нами, осел и слегка подтаял. Овчинников тоже смотрел вперед, на дорогу, упирающуюся в мост. Что он видел сейчас? Немецкие танки, медленно ползущие вверх от речки? Себя — такого, каким он был тогда, тридцать лет назад?
— Я вам вчера неправду сказал, — не поворачиваясь, вдруг произнес он.
Эти слова прозвучали так неожиданно, что я вздрогнул.
— Что? — спросил я.
— Я вам вчера неправду сказал, — повторил Овчинников, по-прежнему не поворачиваясь. — Будто я ранен был и не помнил, как в плен попал. Не так это. То есть ранен я был, это точно, и контужен, но двигаться мог и стрелять мог — одним словом, в сознании находился. И пуля у меня для себя припасена была. Мы с отцом вашим, еще когда записку эту писали, слово друг другу дали, что живыми фашистам не дадимся. Не мыслили мы себе, что в плену можем оказаться. Это потом уже я повидал лагеря, где были тысячи наших пленных, а тогда нам и в голову не приходило такое.
Он повернулся ко мне, и теперь я увидел его лицо. Правый, совсем прикрывшийся глаз придавал ему угрюмое выражение.
— Вот здесь, на этом самом месте, где мы сейчас стоим с вами, мы слово друг другу давали. Отсюда и отец ваш с гранатой пополз навстречу немцам. А я… Страшно мне стало. Как бы вам объяснить получше, чтобы вы поняли?.. Если бы от чужой пули умереть — это одно дело, от пуль я не прятался, а вот самому, своими руками… И знаете, я ведь до самой последней минуты верил, что смогу, сумею. А тут вдруг почувствовал: страшно! Жить хочется! А может быть, и не так все было, это, может быть, мне теперь уже кажется, что я что-то подумать еще успел. Тогда мгновения, секунды все решали. Уткнулся я лицом в землю и чувствую: немец меня в спину прикладом ударил. Может, я и правда сознание на минуту потерял, не знаю…
Овчинников хмуро глянул на меня.
— Вы вот сейчас слушаете меня, поступок мой оцениваете, прикидываете, наверное, как бы сами на моем месте поступили, а я вам скажу: бессмысленно это, напрасно. Одно дело — вот так, как мы с вами, спокойно рассуждать, а другое… когда вокруг такое творится, что человек, кажется, и выдержать-то не может… Я столько в плену навидался, столько вытерпел, вынес, столько раз рядом со смертью ходил, что мне не стыдно говорить об этом…
Я слушал его, сбитый с толку, потрясенный, не понимая еще, как нужно мне отнестись к этому неожиданному признанию.
— Полночи сегодня не спал, — продолжал Овчинников. — Все вспоминал и думал: сказать вам или нет? Я, может быть, и сюда вместе с вами поехал, чтобы проверить себя. Если хотите знать, я оттого это все вам теперь рассказываю…
Он замолчал вдруг, как будто ожидая, что я отвечу, но тут же заговорил снова:
— Я в лагерях фашистских такое вынес, что смерти тяжелее! Я, может, потом еще сто раз пожалеть успел, что пулю эту в себя не пустил! А вот, видите, выжил, и живу, и пользу еще руками этими приношу!
Внезапно налетел ветер, и белое поле перед нами вдруг словно шевельнулось, тревожно задымилось сухой снежной пылью. Лицо Овчинникова покраснело, глаза слезились. Лицо совсем уже старого человека…
Зачем он рассказал мне все это? Что он хотел теперь услышать от меня? Чего ждал? Я все еще не мог преодолеть растерянности. Когда вчера я ощутил первые сомнения, я и не думал, что так быстро получу ответ на них…
— Что же вы молчите? — сказал Овчинников. — Осуждаете? А вот они — те, кто остался здесь, не осудили бы, я знаю.
Почему он так уверенно говорил от их имени? Или оттого как раз и был так настойчив, так упорно возвращался к одной и той же мысли, что неуверенность терзала его? И, рассказывая сейчас свою историю, исповедуясь передо мной, он искал оправдания? Мучила его эта заноза. Он тайну свою, вину свою со мной разделить хотел. Ощущал ли он теперь облегчение от своего признания? Или уже жалел, что открылся передо мной?
— Что же вы молчите? — повторил он.
— Мне трудно судить, — сказал я.
Мне и жаль было этого человека, и в то же время что-то мешало произнести слова сочувствия.
Я вдруг понял, отчего мне было так тяжело слушать признание Овчинникова. Все время, пока он говорил, меня не оставляло ощущение, будто он спорит с моим отцом. Я не знаю, хотел ли он этого, но так получалось. Отец уже ничего не мог ответить ему, не мог ни согласиться, ни возразить, и Овчинников ждал, что скажу я.
Имел ли я право осуждать его? Мог ли?
Этот человек не был ни предателем, ни подлецом. Он просто хотел жить. Разве это не естественно для человека? «Вот выжил, и живу, и пользу еще руками этими приношу!» Да, так оно и есть, он не врал, не преувеличивал. И дочь у него родилась уже после войны, хорошая дочь, славная, — еще одна человеческая жизнь, ее бы не было, она бы оборвалась, даже не возникнув, умри он тогда здесь, в этих окопах. Вера не знает об этом, да и зачем ей знать?..
Как бы поступил, что бы сказал мой отец, поднимись он сейчас? Но он не поднимется уже никогда, он навечно остался в этой земле. Даже посмертная слава обошла его. «Пропал без вести» — так значилось во всех документах. Да и что такое посмертная слава? Посмертная слава утешает живых, мертвые ее не ведают.
А может быть, просто нелепо доискиваться до смысла гибели одного человека на войне, где погибли миллионы? Он, мой отец, был одним из тех бесчисленных солдат, что умерли, но защитили Родину, — разве этого недостаточно?.. Он сам сделал свой выбор, сам отказался от иной судьбы. И так чисто, так прямо и честно смотрел теперь мой отец из прошлого, что сердце мое сжималось от любви к нему…
Черные фигурки ребят по-прежнему весело суетились возле речки. Может быть, и кто-нибудь из тех, кто отыскал гильзу с запиской, был там. И деревня Заречье лежала совсем рядом, на том берегу. Можно было зайти туда, к ребятам, они так и не знают еще, что Овчинников жив. Но сейчас мне не хотелось делать этого. Лучше я приеду сюда когда-нибудь после, один.
Овчинников больше не спрашивал меня ни о чем, он задумался, ушел в свои мысли, и на минуту мне даже показалось: он забыл, что я стою рядом.
— Ладно, — вдруг сказал он. — Я ведь не для вас все это рассказывал, я для них это рассказывал. И давайте теперь помолчим немного.
Он обнажил голову. Ветер шевелил его редкие, седеющие волосы. Я тоже снял шапку.
По-прежнему светило солнце, и вокруг было бело и тихо.
ЛЮБИ МЕНЯ, КАК Я ТЕБЯ
1
Зайнетдинов поднялся на прибрежную пологую сопку и отсюда сразу увидел капитана Малахова. Берег, насколько охватывал его взгляд, был пустынен, волны с грохотом разбивались о невысокие скалы, превращались в белую пену и потом успокоенно, умиротворенно растекались по маленьким извилистым фиордам. Светило яркое солнце, но с моря дул пронзительный, сильный ветер, и было холодно.
Зайнетдинов сложил руки рупором и крикнул:
— Товарищ капитан! Това-а-арищ капитан!
После бега, после торопливого подъема на сопку он еще не успел отдышаться, и голос его прервался. Да и смешно было рассчитывать, что среди грохота прибоя, среди беспрестанного гуденья ветра капитан различит, услышит этот крик.
— Товарищ капитан! — крикнул Зайнетдинов еще раз.
Одинокая фигура на берегу не шевельнулась. Капитан Малахов стоял лицом к морю. Фуражку он снял и держал в руках, сложенных за спиной.
Еще с прошлой осени, после его возвращения из отпуска, за капитаном Малаховым стали замечать эту странность — не свойственное ему раньше стремление к одиночеству. Зимой, когда роту снимали с боевого дежурства, когда выпадали на его долю редкие свободные часы, он брал лыжи и уходил в сопки. Он и прежде любил далекие лыжные прогулки, но обычно всегда прихватывал с собой за компанию двух-трех солдат, а тут стал уходить один. Вообще-то, на этот счет в роте существовали инструкции, запрещающие зимой выходить из подразделения поодиночке, но капитан Малахов был командиром, здесь он служил четвертый год и, вероятно, считал себя вправе пренебречь опасностью, чего, разумеется, ни в коем случае не разрешал подчиненным. Конечно, каждый раз он предупреждал и дежурного, и своего заместителя, и своего связного — объяснял подробно и точно, где его искать в случае срочной необходимости.
Капитан Малахов был замкнутым, не склонным к откровенности, малоразговорчивым человеком, но здесь, в роте, откуда до ближайшего жилья было не меньше шестидесяти километров по бездорожью, вся его жизнь проходила на виду у солдат. Он ел вместе с ними в одной столовой, вместе с ними сидел в клубе, когда там крутили кино, вместе с ними нес боевое дежурство. Какие уж тут тайны, какие секреты! И все же в этих одиноких его прогулках, в этих отлучках, казалось солдатам, было что-то таинственное, что-то тревожное и загадочное.
Сейчас стояло короткое заполярное лето, снег давно уже сошел, лыжи были упрятаны в кладовку, но привычка бродить одному в сопках ли, в тундре ли, что расстилалась сразу за ротными строениями, по берегу ли моря так и осталась…
О чем он думал в эти одинокие часы, что перебирал в своей памяти?..
Однажды Зайнетдинов видел научно-популярный фильм о происхождении жизни на земле — там показывали океан, разбивающий волны о беспорядочное нагромождение скал, океан словно в преддверии того момента, когда первое живое существо выйдет из его вод на сушу. Эти кадры были похожи на ту картину, которая открывалась перед солдатом сейчас, отсюда, с сопки.
Когда Зайнетдинов почти вплотную подошел к своему командиру, тот по-прежнему стоял неподвижно. Здесь, у самой кромки берега, резко пахло водорослями, и соленая морская пыль оседала на губах.
— Товарищ капитан!
Даже теперь, стоя рядом, Зайнетдинову приходилось повышать голос, почти кричать, чтобы его услышали.
Малахов обернулся так, словно уже знал, что посыльный стоит у него за спиной, и только ждал, когда тот окликнет его.
— В чем дело? — спросил он.
— Товарищ капитан, вас на связь требуют! Из штаба! Товарищ старший лейтенант Величко приказал вас разыскать. Срочно!
«Что там могло еще приключиться?» — подумал Малахов. Если понадобился лично он, хотя и его заместитель, и дежурный были на месте, это означало, что речь идет о чем-то по-настоящему серьезном. Хотя, конечно, могло быть и совершенно обратное — какому-нибудь штабисту вдруг оказались необходимы какие-либо сведения, сущий пустяк, чепуха, мелочь какая-нибудь, но именно поэтому, опасаясь, как бы и его самого, и его пустяковую просьбу не приняли недостаточно серьезно, без должного уважения, он и требует непременно командира роты. Никто больше его не устраивает…
Во всяком случае, пока Малахов вместе с Зайнетдиновым добрался до радиоприемного центра, он уже успел перебрать почти все мыслимые и немыслимые причины, по которым им мог заинтересоваться сегодня штаб, и никакой вины, никаких промахов или недоделок, которые могли бы всерьез волновать начальство, вроде бы не обнаружил за собой…
— Кто вызывал-то? — спросил он радиста.
— Майор Черных, из штаба части.
— Что ж он с замполитом-то не поговорил?
— Нет, сказал, лично вас нужно. Сейчас соединю.
Странно. С чего бы такая срочность? И все-таки от души у капитана Малахова уже отлегло. Майор Черных и по занимаемой должности, и по своему характеру был не из тех, кем решались, через кого проходили дела высокой важности.
— Слушаю, — сказал Малахов.
— Павел Иванович? Черных тебя приветствует! Как жив-здоров?
— Жив-здоров, все нормально, — сухо сказал Малахов. Не любил он этих лишних слов, длинных вступлений — не для того же, в конце концов, вызывает его Черных, чтобы справиться о здоровье. Впрочем, была еще одна тонкость, которая всегда стесняла, сковывала Малахова, когда приходилось ему разговаривать с майором. Майор Черных давно уже обращался к нему на «ты» и наверняка ждал ответного «ты» от Малахова, но Малахов, привыкший с уважением относиться и к званию, и к возрасту — а Черных был, пожалуй, лет на десять старше его, — лишь с трудом и внутренней неловкостью мог заставить себя произнести это «ты». В то же время гордость не позволяла ему называть на «вы» человека, говорящего ему «ты», и потому чаще всего он старался обходиться вообще без местоимений.
— Значит, все нормально? — переспросил Черных. — Ну и чудно. Гостя не ждешь?
— Какого гостя?
— Это я тебя должен спросить — какого, — сказал Черных. — Сын твой приехал.
— Что, что? Не понял, — сказал Малахов.
В наушниках трещали разряды, врывался писк чужой морзянки, и голос майора Черных то слабел, удалялся, то возникал снова.
— Сын твой, говорю, приехал!
— То есть как? Не может быть!
За годы службы в войсках противовоздушной обороны, за годы, которые он командовал сначала расчетом радиолокационной станции, а затем радиолокационной ротой, у капитана Малахова выработалась привычка мгновенно учитывать и оценивать ситуацию, мгновенно реагировать на приказания и мгновенно отдавать приказания самому. Но сейчас он растерялся. Мысль о том, что его сын, его Виталька, который сейчас должен был находиться вместе с матерью за тысячу с лишним километров отсюда, очутился вдруг в штабе, рядом с майором Черных, казалась ему настолько невероятной, настолько неправдоподобной, что он мог бы даже заподозрить майора в розыгрыше, в шутке, если бы не понимал, как неуместна была бы сейчас такая шутка.
— Это я тебя должен спросить: «То есть как?» — сказал Черных. — Ну что ты молчишь? Ты слышишь меня?
— Где он? — спросил Малахов.
— Да здесь сидит, возле меня, путешественник! Милиция утром с поезда сняла.
— Дайте-ка мне его, я хочу с ним поговорить.
Он и сам не знал еще, что скажет сейчас Витальке. Пожалуй, первое чувство, которое он испытал после изумления, был гнев. Да как он мог! Без спроса, без разрешения! Да случись с ним что-либо в дороге!.. Но к этому гневу уже примешивалось, уже смягчало его радостное удивление: неужели это он, его Виталька, птенец, тонконогий опенок, здесь, рядом, так близко от него?.. Неужели Малахов м о ж е т его увидеть?
— Папа!
Тонкий мальчишеский голосок едва пробивался к нему сквозь треск и грохот, бушевавшие в эфире. И Малахов сразу забыл все, что только что собирался сказать. Он почувствовал, как сдавило у него горло.
Он ожидал услышать интонацию напроказившего мальчишки — мальчишки, совершившего нечто из ряда вон выходящее, почти героическое, хотя и недозволенное, и теперь гордящегося этим несмотря даже на грозящее наказание, но в голосе его сына сейчас не было ничего подобного. Совсем иные чувства, казалось, переплелись сейчас в этом пробившемся к нему возгласе «Папа!» — и усталость, и страх, и ликование оттого, что теперь есть кому за него заступиться, есть кому защитить его.
— Виталька, как же ты это так, а? — только и сказал Малахов.
Он все еще не мог не то чтобы поверить, а ощутить реальность происходящего.
— А мать? — все же спросил он. — Она же там, наверно, голову потеряла…
— Она знает, — отозвался Виталька. — Я ей записку написал.
«Уж она наверняка всю железнодорожную милицию подняла на ноги, странно, как его сразу не изловили…» — подумал Малахов. В чем в чем, но в ее любви к сыну он никогда не сомневался. А вот ему, Малахову, даже телеграмму не послала. Не сочла нужным. Или побоялась? Надеялась, что все обойдется и так: Виталька вернется или вернут его с полдороги, и Малахов так ничего и не узнает. Он даже догадывался, что бы сказала она сейчас в свое оправдание. «Зачем было расстраивать тебя раньше времени!» — вот что услышал бы он от нее.
— Ты что, поссорился с мамой? — спросил Малахов. Молчание.
— Я спрашиваю: ты поссорился с мамой? — повторил Малахов.
— Нет.
— Она обидела тебя?
— Нет.
Глупо, конечно, было вести подобный разговор сейчас, когда их разделяла сотня с лишним километров и он не мог заглянуть Витальке в глаза, не мог увидеть выражение его лица.
Малахов замолкал. Молчал и Виталька. Он не просил ни о чем, не оправдывался, не уговаривал — он покорно ждал там, возле майора Черных, решения своей судьбы.
— Павел Иванович! Ты слышишь меня? — снова раздался в наушниках голос майора.
— Слышу.
— А я уж думал, связь оборвалась. Что же вы молчите оба? Что дальше предпринимать думаешь? Сам, что ли, приедешь?
Капитан Малахов и правда готов был тут же вскочить в «газик» — так отчаянно хотелось ему поскорее увидеть сына. Но он сдержал себя. Он не любил, да и не привык оставлять роту без крайней на то необходимости. Через день роте предстояло заступать на боевое дежурство, а поездка в штаб — это сутки, не меньше.
— Нет, — сказал он. — У меня сегодня старшина к вам как раз нацелился ехать. Скажу ему, чтобы захватил Витальку. А там уж разберемся.
Он произнес это спокойно, но все же сердце его дрогнуло, как будто он сам, добровольно, лишал себя чего-то такого, на что не мог иметь права никто, кроме него, отца, — первым увидеть Витальку, обнять, прижать к себе, расспросить, а потом вместе, рядом, плечом к плечу, трястись в одном «газике» всю долгую дорогу сюда, в роту, домой…
«Ладно, зато меньше объяснений с начальством, и то хорошо», — попытался утешить он себя. А в том, что этих объяснений ему не миновать, Малахов не сомневался.
— Вот что еще, — сказал он майору Черных, — отбейте-ка телеграмму матери: «Виталька у меня, не волнуйся». Сейчас я продиктую адрес.
— Давай, записываю, — сказал майор и не удержался, все-таки добавил укоризненно: — Говорил же я тебе, Павел Иванович, говорил…
2
— Так точно, будет сделано, товарищ капитан. Так точно, все понял, — отвечал старшина Разумовский, выслушивая распоряжения Малахова. — Так точно, будет сделано. Все ясно. А Людмила Ивановна, стало быть, тоже приехала? Или попозже будет?..
— Да нет же, — досадливо сказал Малахов. — Объясняю же я: один он приехал, один.
— Понял, — сказал старшина, и в глазах его капитан Малахов прочел любопытство и участие.
Они служили здесь вместе уже четвертый год, и старшина Разумовский был одним из немногих теперь в роте людей, кто помнил то лето, когда Мила вместе с Виталькой приезжала сюда…
3
В то лето стояла небывалая для здешних мест жара. Даже ветры, свирепствующие тут круглый год — словно они рождались и вырывались на волю именно здесь, чтобы затем уже разлететься по всему миру, — и те вдруг смирили свое буйство. «Ташкент! Настоящий Ташкент!» — острили солдаты.
И хотя Малахов, естественно, не верил ни в какие приметы, это казалось ему добрым предзнаменованием. Он был уверен, что все еще может наладиться, что Миле понравится здесь.
Свою офицерскую службу Малахов начинал едва ли не в самом центре России, в одной из северо-восточных ее областей, в маленьком поселке, теснимом со всех сторон болотистым лесом. И хотя от того маленького поселка было ненамного дальше до областного центра, чем теперь до штаба (если, разумеется, сбросить со счета, что осенью, когда начинались затяжные дожди, и весной, когда таял снег и разливались реки, путешествие в город было делом не из легких), предложи сейчас начальство Малахову выбор — тот поселок или эта «точка», где служил он теперь, он бы, не колеблясь, выбрал «точку». Пожалуй, лишь нынче, задним числом мог он понять, отчего там так тосковала Мила. Сам-то Малахов был тогда слишком поглощен своими новыми обязанностями, своим новым положением, слишком занят с в о е й станцией, чтобы придавать значение бытовым неудобствам. Даже окружающей природы он как бы и не замечал тогда — она была привычна, и если интересовала его, то прежде всего с точки зрения тех выгод или помех, которые создавала для его работы.
Мир же, открывшийся ему здесь и никогда не виданный ранее, поразил и покорил его сразу. Он никогда не видел раньше приливов с их неотвратимо и таинственно возникающим движением воды, не видел северных сияний, полыхающих во всю ширину неба; вольный простор тундры сочетался здесь с пустынной безбрежностью океана, и черные слоистые скалы наводили на мысли о какой-то иной планете, куда более суровой и дикой, чем Земля… А может быть, здешняя природа с ее суровостью, с ее угрюмой таинственностью, с ее ожесточенным неприятием золотой середины: уж если ветер — так ветер! шторм — так шторм! — лучше всего отвечала настроению самого Малахова. Надежда, что все еще устроится и жизнь их с Милой будет опять такой же счастливой, как в первые месяцы после свадьбы, сменялась вдруг острой тоской и предчувствием окончательного разрыва. И потому с таким нетерпением ждал он ее приезда. Если бы не заботы, разом обрушившиеся на него, как только он принял роту, он бы, наверно, не вынес этого слишком затянувшегося ожидания. Сначала, осенью, он и сам писал, что незачем ей с Виталькой приезжать сюда на зиму глядя, хотя втайне, в глубине души желал, чтобы она не согласилась, возразила, приехала; потом, уже весной, болел ее отец, летом Мила с Виталькой отдыхала у ее подруги — нельзя же было оставить Витальку совсем без дачи, — и, наконец, только в последние дни июля Малахов получил телеграмму: «Выезжаем. Встречай».
Казалось, снова вернулись лучшие дни их совместной жизни. Мила была весела, и беспечна, и ласкова с ним. Он не ошибся: и сопки, и море, и скалы — все приводило ее в восторг. И еще ей нравилось быть женой командира — это он тоже заметил сразу.
Малахов хорошо знал, с каким любопытством и придирчивой чуть ли не ревностью ждали ее появления солдаты. Здесь, на краю света, появление каждого нового человека было событием, а появление жены командира — тем более. Маленький букет из карликовых березок, который обнаружил он, вернувшись домой вместе с Милой и Виталькой, был тому доказательством. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Мила. И правда, в этих корявых, причудливо изогнутых, перекрученных растениях заключалась какая-то особая привлекательность, особая притягательная сила.
Может быть, виной тому было его воображение, но Малахову чудилось, что с приездом Милы и Витальки вдруг едва уловимо изменилась атмосфера в роте — как будто возникло ощущение праздничности, приподнятости, легкой общей влюбленности в Милу. Да, пожалуй, и не могло быть иначе. Здесь, на Севере, в их крошечном военном городке, все они — и солдаты, и офицеры — были слишком тесно связаны друг с другом, здесь словно существовало некое чуткое колеблющееся поле, подобное электрическому, которое складывалось из их настроений, успехов и неудач, тоски по дому и радости, приносимой почтой… И, конечно же, настроение командира, хотел он того или нет, не могло не передаваться солдатам, не улавливаться ими, как улавливаются пусть невидимые, но вполне реально существующие радиоволны, не могло не влиять на общее настроение роты…
Однажды, когда они с Милой шли в клуб, Малахов вдруг спросил:
— Ты ничего не заметила?
— Нет, а что?
Ну конечно, как он не сообразил — она и не могла ничего заметить. Малахов засмеялся:
— Видишь вон того солдата, на турнике работает? Это он ведь ради тебя старается. Честное слово. Обычно его и палкой не подогнать к снарядам.
— Командиру следовало бы поучиться у своих солдат, — смеясь, отозвалась Мила. — Ты-то никогда не старался сделать что-нибудь ради меня…
И хотя это была всего лишь шутка, Малахов сквозь смех услышал давно знакомые нотки упрека, почувствовал приближение того разговора, которого он все еще наивно надеялся избежать.
— И вообще, — весело сказал он, — наш почтальон уверяет, что с твоим приездом количество писем, которые пишут солдаты своим девушкам, резко возросло…
Она опять засмеялась. Видно было, что его слова доставили ей искреннее удовольствие.
Конечно, Мила была вовсе не единственной женщиной в ротном городке, но жены других офицеров давно стали здесь своими, вместе с солдатами они делили все тяготы здешнего быта, она же явилась с Большой земли, она принесла с собой напоминание об иной жизни…
Мила, казалось Малахову, мало изменилась не только за тот год, что они не виделись, но и вообще за те годы, которые минули со дня их знакомства. Разве что чуть пополнела, стала как-то крупнее, увереннее, исчезла ее легкая, словно порхающая походка — раньше никогда не умела она ходить в ногу с Малаховым, теперь же шаг ее стал шире и ногу она ставила тяжелее, тверже.
Зато чем больше приглядывался Малахов к Витальке, тем больше находил в нем перемен. Неузнаваемо изменился мальчишка. В прошлом году, когда перед перевалом сюда, на Север, Малахов на несколько дней вырвался к ним, Виталька пребывал в возбужденном, взбудораженном состоянии, он говорил почти без умолку, так что матери приходилось останавливать, утихомиривать его, и то демонстрировал отцу свои способности: «Папа, посмотри, как я умею!», то задавал бесконечные вопросы, на которые Малахову порой было не так-то легко ответить: «Больно ли дереву, когда его пилят? Не больно? А почему не больно? А откуда ты знаешь, что не больно?»
Малахов даже опасался, как бы то нервное потрясение, та перегрузка, которая была вызвана его приездом, не оказалась непосильной для ребенка, но Мила успокоила его, сказав:
— Ты думаешь, это он из-за тебя? Так каждый день с утра до вечера. Представляешь, каково мне приходится?
Малахов и успокоился, и огорчился. Все-таки ему хотелось верить, что его приезд был несколько большим событием в жизни сына, чем это казалось Миле.
Теперь же в характере сына появилась какая-то затаенность, задумчивость. Он научился молчать, подолгу сосредоточенно думать о чем-то своем. Если раньше он непременно стремился вовлечь в свои игры взрослых, то теперь он вполне обходился один. Он по-прежнему иной раз ставил Малахова в тупик своими вопросами, но сейчас они уже не были похожи на те, которые задавал он год назад. Тогда они, эти вопросы, извергались стремительно и внезапно, почти бездумно, а сейчас, если он спрашивал вдруг: «Папа, а почему одни люди добрые, а другие — злые?» — Малахов по выражению его глаз угадывал, что в глубине его души совершалась какая-то долгая работа, прежде чем этот вопрос облекался в слова.
Малахов с волнением и то с тревогой, то с радостью наблюдал эти перемены в поведении сына, улавливая в них признаки характера, схожего, как ему хотелось думать, с его собственным. И все сильнее становились боль и обида оттого, что перемены эти совершались не на его глазах, что он лишен был самого главного — видеть, как растет его сын…
С солдатами Виталька подружился легко и быстро, и солдаты тоже полюбили его. Малахов не раз уже замечал, что никто так хорошо не понимает друг друга, никто так не привязывается друг к другу, как дети и солдаты.
А может быть, просто от матери, от Милы, передалось сыну это умение — легко сходиться с чужими людьми. Мила этим умением владела в совершенстве.
Малахов водил Витальку на радиолокационную станцию, и там вместе следили они за работой солдата-оператора, вместе вглядывались в круглый экран, по которому бежал луч, оставляя за собой светящийся и постепенно меркнущий след. И радостно было ощущать Малахову под своей рукой хрупкие мальчишеские плечи, радостно было произносить эти слова: «м о й с ы н», радостно было слышать уверения солдат, что Виталька как две капли воды похож на него, на Малахова… Жаль только, что не часто выпадали такие минуты — рота несла боевое дежурство, рота готовилась к долгой полярной зиме, рота ждала пополнения, и все эти заботы прежде всего ложились на плечи ее командира.
Он не заговаривал с Милой о главном — о том, как же они будут жить дальше, ему казалось, что надо дать ей время присмотреться, привыкнуть. И то, что она сама тоже не начинала этого разговора, представлялось Малахову хорошим признаком — видно, она хотела втянуться в здешнюю жизнь, ощутить ее, прежде чем принять окончательное решение. И Малахов не торопил ее.
Все шло хорошо, даже слишком хорошо, пока однажды, недели полторы спустя после ее приезда, Малахов вдруг не стал догадываться, что это ее молчание может означать и совсем иное: просто она не допускает и мысли о возможности остаться здесь и считает, что Малахов понимает это так же хорошо, как и она. О чем же тогда говорить?
Он не ошибся. Так все и обстояло на самом деле. Оттого она и была так весела и беспечна, оттого так восторгалась красотами природы, что чувствовала себя здесь только гостьей, дачницей, — как он не понял этого сразу?..
Она заговорила о своем отъезде как о чем-то, что само собой разумелось, что не подлежало никакому сомнению. Надо ли забронировать заранее билеты? Будет ли машина? Не подведет ли погода? Казалось, ее заботила лишь чисто практическая сторона дела.
— И не смотри на меня так удрученно, — вдруг добавила она. — А то я тоже расплачусь. Милый Малахов, не думал же ты, что я здесь останусь?
— Мне казалось, что тебе здесь понравилось, — сказал Малахов.
— Да, места здесь восхитительные, — сказала Мила. — Я всегда любила дикую природу. Но жить тут все время… Понимаешь — это вроде как подвести черту…
— Раньше ты так не думала.
— Пойми, Малахов, я хочу что-то значить сама, именно сама. Там я работаю, я что-то значу, меня ценят, а здесь… Я только жена капитана Малахова и все…
Он хотел сказать: а семья, любовь, верность — разве этого мало? Но ничего не сказал — он понимал, что такие вещи не объясняют словами.
Мила напоминала ему сейчас ребенка, девчонку — вот поиграла в жену командира, и хватит, надоело, другие, не менее интересные игры уже манят, уже ждут ее…
— И потом, ты совсем не думаешь о Витальке, — сказала она. — В этом году ему в школу.
— Ну и что же… Здесь есть интернат. Все дети здесь учатся так. По-моему, это лучше, чем лишать ребенка отца…
— Ты сам виноват, Малахов, — сказала она. Мила редко называла его по имени — все Малахов да Малахов. Мода такая, что ли?
— Это чем же?
— Что тебя понесло сюда? Ты порядочно уже оттрубил в глуши. Ты вполне мог добиться лучшего назначения.
— Ты прекрасно знаешь, что в армии не выбирают. Значит, я здесь нужнее.
— Малахов, не произноси громких слов. Ты никогда не умел этого делать.
Они помолчали.
— Ты понимаешь, что, если ты уедешь сейчас, это будет уже навсегда, насовсем? — спросил Малахов.
— Не думай, что тебе одному тяжело. — Все-таки она уклонилась от прямого ответа. — Мне тоже нелегко. Ты даже не представляешь, Малахов, как мне нелегко!
— Что ж, я вижу, ты все уже решила, — сказал Малахов.
Он никогда не умел ни уговаривать, ни упрашивать. Да и понимал, что бесполезно это сейчас. Только мысль о том, что он опять долго, может быть очень долго не увидит Витальку, причиняла ему боль и заставляла еще вести этот разговор.
— Ладно, на какое число бронировать билеты? — спросил он.
— Ты всегда был черствым человеком, — сказала Мила.
Она же еще и упрекала его!
Малахов посмотрел на часы: через пятнадцать минут он должен быть на командном пункте.
— Что я еще могу сделать для тебя?
— В том-то и беда, что ты никогда ничего не желал сделать ради меня, ради сына, ты ничем не хотел пожертвовать. В конце концов, ты мог бы попросить, объяснить!
— Я ничем не лучше других, — сказал Малахов.
— Вот это тебя и губит, — отозвалась Мила. — Ты вечно считаешь себя хуже других. Нельзя же так!
Малахов молчал. Он знал, что на подобные упреки лучше всего не отвечать.
— Я бы на твоем месте… — уже другим тоном начала Мила. — Я бы на твоем месте уже давно пошла к Твердохлебову. Он же хорошо знает тебя, правда?
— Знает. Ну и что из того?
— И не ощетинивайся сразу. Лучше послушай меня. Я бы пошла к нему и объяснила, что у тебя маленький сын, что сыну в первый класс, что интернат за сотню километров, — неужели бы он не понял? Он же хорошо к тебе относится. Пусть бы тебя перевели здесь же, на Севере, пусть бы в небольшой городок, но все-таки городок…
— Пусть бы перевели… Тебе кажется, в армии это так просто делается. Стоит лишь пожелать… — Малахов произнес это уже без прежней уверенности. В его голосе слышалось колебание.
— Зато тебе все кажется неимоверно сложным. Твердохлебов же чуткий человек, ты сам говорил, он поймет… И ничего в этом нет ужасного, если ты обратишься к нему…
Малахов все еще колебался. Мысль о том, что он и правда мог бы жить вместе с Виталькой и Милой, что это возможно, реально, постепенно завладевала им.
В его собственном детстве были события, настолько запавшие ему в память, настолько значительные своей праздничностью, что он всегда мечтал увидеть, как повторятся они теперь уже в Виталькиной жизни. Таким событием остался в его памяти первый школьный день. То было нелегкое послевоенное время. И не было у него, у Пашки Малахова, ни новенького портфеля, ни новеньких учебников, ни тетрадей. Зато портфель ему заменила отцовская полевая сумка, которой он очень гордился. В то утро он проснулся от тихого позвякиванья и увидел, что отец надевает все свои ордена и медали, а было их у него немало — три ордена и шесть медалей. Вот уже много лет утекло с тех пор, и отца нет в живых, а это легкое позвякиванье, и его собственное радостное изумление, и торжественное лицо отца, с которого, казалось, вдруг сошла му́ка, навсегда оставленная контузией, так и сохранила, так и сберегла память Малахова… И оттого необходимость расстаться с Виталькой как раз теперь, когда тому предстояло стать школьником, казалась Малахову особенно несправедливой и даже жестокой.
— Ну что ты терзаешься? — сказала Мила. — Я еще удивляюсь, как ты умудряешься командовать солдатами, — в тебе решительности ни на грош, честное слово! Ну даже если этот твой Твердохлебов тебе откажет — ну и что из этого? Подумаешь, беда какая! Попытка не пытка, а на нет и суда нет. Малахов, милый, ну послушайся ты хоть раз моего совета!..
— Хорошо, я подумаю, — сказал он.
4
Знакомство его с полковником Твердохлебовым и правда было давним, оно относилось еще к тем временам, когда Малахов носил солдатские погоны, отмеченные одной — ефрейторской — лычкой, и решение его навсегда связать свою жизнь с армией еще не было окончательным и бесповоротным. Да и сам Твердохлебов, естественно, не был еще тогда полковником, а пребывал в звании майора и занимал должность замполита в той самой части, где служил Малахов. Теперь, спустя много лет, судьба свела их снова, пути их, как это не столь уж редко бывает с военными людьми, опять пересеклись, но, разумеется, полковник Твердохлебов вряд ли вспомнил бы одного из сотен или, вернее, тысяч солдат, которые за долгие годы его службы побывали под его началом, а капитан Малахов едва ли стал бы напоминать о том, что они знают друг друга, если бы не одна несколько необычная история, участником и виновником которой был Малахов. Именно эта история и заставила полковника Твердохлебова вспомнить своего бывшего солдата.
А началось все тогда с весьма заурядного, в общем-то, даже пустякового случая.
Взвод, в котором служил в то время ефрейтор Малахов, однажды послали на хозяйственные работы — убирать строительный мусор, кучи которого накопились возле только что отремонтированного клуба. Солдаты нагружали битый кирпич, штукатурку, осколки стекла на носилки и таскали весь этот хлам в овраг, к старому стрельбищу. Так распорядился лейтенант, начальник клуба. Работа уже подходила к концу, когда возле клуба появился заместитель командира полка по тылу подполковник Дедюхин. Это был грузный, немолодой уже человек с багровым лицом, с синеватыми отеками под глазами, в глубине которых еще таились энергия и властность. Раньше Малахову не приходилось сталкиваться с ним — слишком велика была дистанция между ними, мнения же о подполковнике Дедюхине он слышал от солдат самые разные: одни говорили, что он груб и придирчив до самодурства, что ему остается еще год выслужить до пенсии, оттого и терпят его в полку. Другие рассказывали, будто, несмотря на грубость, он из тех командиров, кто понимает солдатскую душу, кто во время перекура и анекдотик тот еще загнет и три шкуры снимет со старшины, если во время учений походная кухня не поспеет к обеду… А что еще нужно солдату?
Увидев солдат, таскающих на носилках мусор, подполковник Дедюхин остановился и крикнул:
— Это что еще такое? А ну, прекратить немедленно! Кто здесь старший?
— Я, товарищ подполковник, ефрейтор Малахов.
— У тебя, что же, ефрейтор, глаз нет? Ты что, не видишь, что кирпич здесь еще годный? Народного добра не жалко?
И Дедюхин добавил крепкое замысловатое ругательство.
Малахов медленно побледнел. Он сам никогда не ругался и до отвращения не терпел грубости. Эту черту он перенял от своего отца. За всю свою жизнь ни разу не слышал он от отца оскорбительного, бранного слова. И хотя, когда отправлялся Малахов в армию, его товарищи по техникуму, те, кто успел уже отслужить, уверяли, что в нелегкой армейской службе без крепкого словца не обойтись, что солдатская служба приучит, — нет, не приучила. Может быть, просто повезло Малахову, а может быть, привирали его товарищи, или сыграло роль то, что попал он в радиотехнические войска, которые не зря называли армейской интеллигенцией, только здесь, в армии, вопреки уверениям его друзей, он куда реже наталкивался на бранное слово, чем на гражданке.
И вот дождался.
Он все еще стоял перед подполковником по стойке «смирно».
— Да я, — кричал Дедюхин, — заставлю вас по кирпичику выбирать со свалки!
— Товарищ подполковник, — сказал Малахов. Произносить слова ему было трудно — он чувствовал, как у него трясутся губы. — Товарищ подполковник, я не привык, чтобы со мной разговаривали таким образом.
— Что-о?! — воскликнул подполковник. — Да каким же еще образом с тобой разговаривать, коли ты таких простых вещей не понимаешь! А ну марш выбирать кирпичи!
Малахов стоял не двигаясь.
Он чувствовал себя оскорбленным, в его душе все кипело и кричало от возмущения, но это свое возмущение, этот свой протест он не умел, не мог выразить сейчас никак иначе, как только продолжая не двигаться с места, молча глядя в багровое лицо подполковника.
— За пререкания со старшим начальником я вас арестовываю на трое суток, — сказал подполковник Дедюхин. — Отправляйтесь и доложите своему командиру. И чтобы сегодня же вечером были уже на гауптвахте. Я проверю.
— Слушаюсь, — сказал Малахов. Как глубоко и прочно уже укоренилась в нем привычка к дисциплине, если даже в такую минуту машинально, само собой слетело с его губ это слово.
Подполковник повернулся и пошел прочь, не оборачиваясь.
— На черта ты с ним связывался? — сказал кто-то из солдат. — Все равно ты же и виноват. И кирпичи эти еще заставят таскать. Промолчать не мог?
Малахов ничего не ответил.
Он отправился в казарму и доложил ротному, что арестован подполковником Дедюхиным на трое суток.
— Вот так номер! — сказал ротный. — За что же это?
Малахов всегда был примерным солдатом, так что удивление ротного вполне можно было понять.
— За пререкания, — ответил Малахов. Ему не хотелось сейчас ничего ни объяснять, ни рассказывать.
Ротный покачал головой, вызвал писаря и велел выписать записку об арестовании. И пока писарь старательно водил пером по бумаге, командир роты сочувственно смотрел на Малахова и время от времени опять покачивал головой, словно говорил, как тот солдат: «И на черта ты с ним связывался?» Разумеется, даже если бы он хотел, ни отменить приказ старшего начальника, ни обсуждать его с подчиненным он не мог, не имел права.
И Малахов в тот же вечер отбыл на гауптвахту. Трое суток он ходил на работу в сопровождении выводного — солдата, вооруженного автоматом, и спал в камере, но все это было пустяком по сравнению с тем унижением, которое испытал он, стоя перед подполковником Дедюхиным, Ему казалось, что воспоминание об этом унижении будет мучить его всю жизнь. Вернувшись с гауптвахты, он сказал ротному, что будет жаловаться.
Ротный с любопытством взглянул на него и опять укоризненно покачал головой.
— Да бросьте бы, Малахов, — сказал он. — На гауптвахте вы все равно отсидели, через месяц-другой снимем с вас взыскание, о нем никто и не вспомнит…
— Дело не во взыскании, — упрямо сказал Малахов.
— А в чем же?
Тогда Малахов попытался объяснить, что произошло между ним и подполковником Дедюхиным, и сам удивился, как трудно, оказывается, передать словами то, что он испытывал.
— Есть за ним такой грех, верно, — сказал ротный. — Не может без крепкого словца. Привычка, ничего не поделаешь. Это еще что! А вот у нас в училище был, помню, капитан один, так тот давал! Просто виртуоз был по этой части. Я помню, дневалил как-то, ну и прикорнул у тумбочки, а он засек меня — и тут уж выдал на всю катушку! И так, и этак — век не забуду! — Он засмеялся едва ли не с восторгом. Видно, приятно было ему вспомнить свои курсантские годы. Но вдруг оборвал себя и опять стал серьезным. — Не обращайте внимания, Малахов, честное слово, не стоит. А взыскание мы с вас снимем — вот увидите. Чистеньким от нас поедете.
Хороший человек был ротный, любили его солдаты, а все-таки и он не мог или не хотел понять Малахова.
На другой день Малахов пошел к комсоргу полка. Комсорг, старший лейтенант Свинкин, очень стеснялся своей фамилии и не скрывал этого. Как-то в курилке кто-то из солдат пошутил: «Да-а, товарищ старший лейтенант, с такой фамилией генералом, пожалуй, не станешь. Вы бы сменили ее на какую-нибудь звучную». — «Да я хотел, — сокрушенно признался Свинкин. — Даже фамилию себе подобрал. Броневой. Хорошая фамилия, правда? А потом подумал: это как же выходит — Свинкины на том и кончатся? Были Свинкины и нет Свинкиных? И бросил эту затею, не стал менять».
Сейчас старший лейтенант Свинкин сидел в одиночестве и, поглядывая в лежавшую перед ним ведомость, щелкал на счетах — видно, подбивал членские взносы.
— Со взводом легче было управляться, чем с этой арифметикой, — сказал он, ответив на приветствие Малахова. — Не сходится на десять копеек, ну хоть убей!
Он сердито отодвинул счеты и уже внимательно посмотрел на Малахова.
— Ну, выкладывай, с чем пришел. Жаловаться, слышал, хочешь?
— Так точно, — сказал Малахов.
— Н-да… — сказал старший лейтенант Свинкин и вздохнул. — Некрасивое это дело. Пережиток прошлого. А с другой стороны, бывает, сгоряча и вырвется. Если честно признаться, вполне самокритично, небось и сам иногда загнешь, а?
— Нет, — сказал Малахов, уже жалея, что пришел сюда. — Я не ругаюсь.
— Ну тогда молодец! — воскликнул старший лейтенант Свинкин. — Молодец! Хотя, с другой стороны, для разрядки иной раз это вроде бы и необходимо. Но лучше не надо. Так что ты держись, не поддавайся.
— Разрешите идти? — спросил Малахов.
— Иди, если у тебя все, — сказал старший лейтенант Свинкин. — Это ты хорошо сделал, что ко мне зашел. Поговорили откровенно, глядишь, и отвел душу, точно? А жаловаться… Жаловаться, писанину разводить — не по-мужски это как-то, верно я говорю?
Малахов не стал спорить. Да и чем, если рассудить здраво, мог помочь ему старший лейтенант Свинкин? Он и сам-то наверняка побаивался подполковника Дедюхина, сам тянулся перед ним по стойке «смирно». Хоть и комсорг, а попробуй поспорь с Дедюхиным… Это нынче дело другое. Нынче и командир части прислушивается к мнению комсорга. Впрочем, теперь и самому Малахову странно было вспоминать всю эту историю, точно и не с ним она происходила.
Утром на следующий день, перед построением он подошел к командиру взвода:
— Разрешите обратиться, товарищ младший лейтенант! Прошу передать по команде, согласно уставу.
И он протянул взводному аккуратно сложенный вдвойне тетрадный листок.
Взводный развернул листок, растерянно повертел его в руках. Младший лейтенант Иванов только первый год командовал взводом, был он очень молод, едва ли не ровесник Малахова.
— Это что? — спросил он. — Жалоба?
— Так точно, — сказал Малахов.
Младший лейтенант продолжал вертеть листок в руках, словно не зная, что с ним делать, или ожидая, что вдруг Малахов раздумает и заберет его обратно.
Еще совсем недавно на занятиях по дисциплинарному уставу он довольно горячо говорил о праве солдата жаловаться. «А то у нас часто как бывает, — рассуждал он. — Допустим, не выдаст старшина вовремя постельное белье, и пошли разговоры, недовольство солдаты в курилке высказывают, начальство ругают или, как на базаре, обступят старшину и все хором давай высказывать свои требования. А по уставу как положено? Если по отношению к солдату допущена какая-либо несправедливость или он не получил положенного вещевого довольствия, он должен заявить жалобу. Он может заявить ее при опросе устно старшему начальнику или подать по команде через своего непосредственного начальника… И все будет в порядке».
Так говорил он совсем недавно, а теперь, когда жалоба была у него в руках, он стоял с растерянным видом, точно не знал, что с ней делать дальше.
— А надо ли, Малахов? — наконец сказал он. — Из-за такого пустяка… Вы хорошо подумали?
— Товарищ младший лейтенант, у меня было трое суток, чтобы подумать… — упрямо ответил Малахов. Со взводным, наверно, из-за его молодости он чувствовал себя увереннее, не так скованно, как с другими офицерами. — В камере, между прочим, очень хорошо думается…
— Ну смотрите, Малахов, — сказал взводный, пряча тетрадный листок в карман гимнастерки. Голос его звучал обиженно. — Дело ваше…
Так жалоба ефрейтора Малахова начала свой путь, чтобы в конечном счете попасть на стол командира полка.
И — странное дело — чем дольше тянулась эта история, чем упорнее боролся Малахов за то, чтобы довести ее до конца, чтобы защитить свое достоинство, тем отчетливее, яснее он видел, как меняется отношение к нему со стороны взвода, со стороны своих же товарищей — солдат. Если в первые дни, когда он был отправлен на гауптвахту, когда разговаривал с ротным, когда рассказывал о нанесенной ему обиде, он ловил в их глазах сочувствие и поддержку, они были заодно с ним, они разделяли и его возмущение и его обиду, то теперь… Теперь его упорство, казалось, начало то ли раздражать, то ли забавлять их. Однажды на занятиях по радиотехнике он задумался и не расслышал обращенного к нему вопроса. «Встаньте, Малахов, — приказал младший лейтенант Иванов. — Что это с вами? Где вы витаете?» — «А он жалобы сочиняет!» — радостно выкрикнул кто-то из солдат, и все засмеялись. Улыбнулся и взводный. «Садитесь, — сказал он. — И чтобы больше этого не было».
Говорила ли в солдатах врожденная неприязнь ко всякого рода жалобщикам, кляузникам, сутягам и они не брали в расчет, что у Малахова просто не было другого способа защититься — он не мог ответить оскорблением на оскорбление, не мог публично обвинить подполковника Дедюхина в грубости; или им казалось, что вся эта история не стоит поднятой Малаховым шумихи, или — что вернее всего — неосознанное раздражение вызывалось тем, что Малахов, продолжая упорствовать, не желтая смириться, простить обиды, как бы подчеркивал свое отличие от них всех, свое превосходство над ними? Что, у него уши, выходит, нежнее, чем у других? Подумаешь, барышня! Из другого он теста, что ли?..
Теперь-то, оглядываясь назад, Малахов видел, что, пожалуй, он и сам был виноват в том, что оказался вдруг в одиночестве: он ожесточился, легко раздражался, в каждой шутке ему чудился обидный смысл. А тогда он очень болезненно переживал свое одиночество. Правильно ли он поступил? Может быть, и верно, надо было плюнуть, не обращать внимания? Но стоило ему вспомнить багровое лицо Дедюхина и себя, стоящего по стойке «смирно» перед этим человеком, как горечь и обида разгорались в его душе с новой силой.
Вот в эти трудные дни и вызвал его к себе майор Твердохлебов. Может быть, командир полка, до которого наконец дошла малаховская жалоба, поручил замполиту разобраться в этом деле, а может быть, сам майор захотел взглянуть на упорного ефрейтора.
Малахов же явился к нему во власти все того же угрюмого упрямства, которое — он уже чувствовал это — сразу настраивало людей против него, отвечал на вопросы замполита сначала коротко, односложно, заранее приготовив себя к неблагоприятному исходу, и сам не заметил, как этот коренастый и подвижной человек, пожалуй, на первый взгляд, слишком молодой для столь высокой должности, сумел постепенно разговорить его и выведать не только то, что произошло между Малаховым и подполковником Дедюхиным, но и то, что пережил и перечувствовал Малахов уже после. При этом он все время не сводил с Малахова пристального взгляда, словно и выражение лица Малахова, и внезапно выступивший румянец, и вздрагивающие губы — все это было для него не менее важно, чем те слова, которые произносил сейчас сидящий перед ним солдат.
— Вы правы, — вдруг резко и решительно сказал Твердохлебов. — Никто и никому не дает права унижать достоинство солдата. Без этого нет и не может быть сознательной дисциплины. Я убежден, что чувство долга и чувство собственного достоинства — это две стороны одной медали. У кого нет чувства достоинства, для того и слова о долге — пустые слова. И вообще, есть у меня одна слабость, — неожиданно улыбнулся Твердохлебов. — Люблю гордых людей.
В тот момент Малахов был уверен, что ему просто повезло, что наткнулся он наконец на хорошего человека, что это счастливая случайность, и только позже, став уже офицером, он понял, что разговор в кабинете замполита вовсе не был случайностью, — скорее это была частица, малое проявление того глубоко продуманного процесса, который уже шел в армии в то время и на языке официальных документов назывался усилением роли партийно-политических органов, усилением роли воспитательной работы…
А тогда, в порыве ответной откровенности, рассказал Малахов, что подумывал подавать заявление в училище, подумывал навсегда остаться в армии, но теперь вот, после этого случая, после столкновения с подполковником Дедюхиным, вдруг заколебался, не знает, что делать.
— А это вы уже совсем напрасно, — сердито сказал Твердохлебов. — Это уж вы раскисать начали. Бросьте свои колебания, идите в училище. Такие люди, как вы, нужны армии. Садитесь и пишите рапорт тут же, при мне, ясно? И нечего сомневаться. Мы еще с вами, глядишь, где-нибудь лет этак через десять встретимся, еще вместе послужим…
Он оказался прав. Они действительно встретились. И бывший майор, теперь уже полковник Твердохлебов, сразу узнал Малахова.
— Ну как, не жалеете, что послушались тогда моего совета? — спросил Твердохлебов.
— Нет, — ответил Малахов. — Не жалею. Я тот наш разговор, товарищ полковник, можно сказать, на всю жизнь запомнил. Слишком много он для меня значил.
— Между прочим, не только для вас, — засмеялся Твердохлебов. — Я об этом разговоре тоже не раз вспоминал. Теперь могу признаться — это и для меня хороший урок был. Мне кажется, я только тогда по-настоящему, не на словах, а на деле понял, почувствовал, что в армию уже новый тип солдата, новый тип человека идет…
Они поговорили еще немного, повспоминали полк, где когда-то служили вместе, и Малахов отбыл в свою роту и с тех пор Твердохлебова видел очень редко — разве что на больших партактивах, но каждая, даже мимолетная встреча, казалось, по-прежнему радовала их обоих.
5
— Ну что ты надумал? — спросила Мила через несколько дней.
Малахов покачал головой.
— Нет, я не могу этого сделать.
— Но почему?
— Не могу. И давай больше не будем говорить об этом.
— Я всегда знала, — сказала Мила с возмущением, — что ты не от мира сего, но чтобы до такой степени!..
Когда-то ему казалось, что они понимают друг друга с полуслова, что достаточно ему подумать о чем-то, как Мила уже по выражению лица, по взгляду улавливает, чувствует его настроение… Было это в действительности, или он только обманывал себя?.. Да и не слишком ли самонадеян он был, когда думал, что так легко понять, что творится в чужом сердце?
Когда Малахов познакомился с Милой, когда полюбил ее, он всегда радостно поражался тому, как много в их характерах, в их судьбах общего, сходного. Начиная даже с такой мелочи, как отчество. Он — Иванович, она — Ивановна. Или день рождения. Она родилась пятого числа, и он — пятого. Правда, она — в мае, а он — в январе, но даже такие маленькие совпадения казались Малахову знаменательными, ему нравилось обнаруживать их.
И на его, и на ее долю выпало нелегкое детство. Отец Малахова вернулся с фронта израненный, контуженный, большую часть времени он проводил в госпиталях, его мучили жестокие головные боли и боли в позвоночнике, но он был твердым, мужественным человеком и умел скрывать свои страдания — пожалуй, только мать знала, как тяжело ему приходилось. Он умер, когда Малахов перешел в пятый класс. А вскоре умерла и мать, оставив Малахова на попечении старшей сестры. Впрочем, к тому времени Малахов считал себя самостоятельным — он уже поступил в техникум.
И Милу в детстве не обошло горе. Миле было семь лет, когда отец бросил семью. Мать осталась с двумя дочками. И этот резкий переход от жизни, где все было так ясно и понятна, к жизни совсем иной — со слезами матери, с вечной нехваткой денег, с унизительным сознанием, что их «бросили», — оказался очень болезненным для Милы. Тяжелое положение семьи усугублялось еще тем, что мать постоянно растравляла нанесенную ей рану, доводила себя до нервных истерик, до сердечных припадков. Один из таких приступов стал для нее последним. На «скорой помощи» ее увезли в больницу, и из больницы она уже не вернулась.
— А ты видишься со своим отцом? — как-то, еще в начале их знакомства, спросил Милу Малахов.
— Нет, что ты! — ответила Мила. — Я не хочу его видеть.
— Но все-таки это твой отец…
— Тебе трудно понять. У вас в семье были совсем другие отношения. А я не могу ему простить. Мне иногда кажется — я ненавижу его. Если бы не он, и мама бы столько не мучилась, и мы…
В общем-то Мила не любила рассказывать об этой поре своей жизни, и Малахов не досаждал ей расспросами — ему казалось, что, расспрашивая, он может невольно причинить ей боль. К тому времени, когда они познакомились, Миле исполнилось двадцать, она окончила книготорговое училище и работала продавщицей в книжном магазине, Малахов же только-только надел курсантскую форму.
Он и увидел ее первый раз за прилавком магазина. Она понравилась ему сразу, и он, когда его отпускали в увольнение, непременно заглядывал в магазин, но долго не решался заговорить с ней. Его смущало, что, попытайся здесь, в магазине, он заговорить, познакомиться с ней, и она примет эту его попытку за обычное заигрывание, не больше. Сколько таких, как он, проходит за день у нее перед глазами, наверняка уже надоели своими приставаниями: «Девушка, а как вас зовут? Девушка, а нельзя ли вас проводить?» Она носила тогда косы, и эти косы, уложенные тяжелым венцом на голове, казалось, подчеркивали ее гордость и недоступность. Разговорились они незаметно — однажды, когда Малахов, как обычно, в нерешительности топтался у прилавка, она вдруг протянула ему небольшую книжку и сказала:
— Посмотрите. Стихи Винокурова. Тут как раз про военных есть…
Он смутился, торопливо раскрыл книжку наугад, посередине.
Малахов никогда не увлекался стихами, но тут что-то задело, захватило его, словно и правда было написано про него самого и его товарищей.
Он купил эту книжку и поспешно ушел, отчего-то смущаясь, но в следующий раз, когда появился в магазине, они поздоровались с Милой как старые знакомые. Позже она призналась, что давно уже приметила Малахова и даже ждала, когда он появится, и радовалась каждый раз, когда он входил в магазин, и огорчалась, если его долго не было…
От того времени у Малахова сохранилась ее фотография. Мила подарила ему эту фотокарточку незадолго до свадьбы. Малахов хорошо помнил, как она задумалась, что надписать, потом засмеялась: «Напишу, как обычно пишут солдатам, правда? Ты же у меня солдат…» Когда она протянула ему фотографию, на обратной стороне карточки он увидел выведенные округлым ученическим почерком слова: «Люби меня, как я тебя. Мила».
Несмотря на перенесенные в детстве невзгоды, Мила была жизнерадостна, и это тоже не могло не нравиться Малахову, не восхищать его — он видел в этом свидетельство силы ее характера.
И пусть они почти не говорили об этом, но то обстоятельство, что оба они еще в детстве испытали немало тяжелого: и горе, и смерть близких, роднило их и придавало, казалось Малахову, особый, глубокий смысл их отношениям…
И лишь одно, пожалуй, различало их в ту пору: для Малахова его будущее было определено четко, раз и навсегда, а у Милы одни фантазии и надежды сменялись другими — она то решала поступить в библиотечный, то вдруг уверяла, что станет стюардессой, чтобы облететь и повидать всю страну, а может быть, и весь мир, то вдруг заговаривала о юридическом… Видно, ей доставляло особое удовольствие ощущать, что мир открыт перед ней и ей остается лишь выбирать. И это ее наивное фантазерство казалось Малахову трогательным, привлекало и притягивало его.
Скажи ему тогда кто-нибудь, что наступит время, и они будут сидеть друг против друга вот так — два человека, не способные — или не желающие? — понять друг друга, два человека, словно разговаривающие на разных языках, — он бы ни за что не поверил…
Почему она не хотела понять, что не мог он воспользоваться особым к нему отношением полковника Твердохлебова, не мог после той давней истории идти теперь к полковнику в роли просителя? Сколько ни уговаривал, сколько ни убеждал он себя в необходимости сделать это — не ради Милы — ради Витальки — и не мог. Как будто все еще звучали в его ушах слова, сказанные Твердохлебовым тогда, давно: «Люблю гордых людей». А он всего год прослужил здесь, в отдаленной роте, и сразу идет просить жизни полегче… Как не могла она понять, что это невозможно?
Он уже не говорил о том, что сама по себе работа здесь, в роте, на краю земли, или, точнее, на переднем крае, с ее самостоятельностью и относительной независимостью, с ее высокой степенью ответственности, была как нельзя больше ему по душе, отвечала его характеру. Отказаться от нее сейчас, едва только ощутив ее вкус, сейчас, когда он стал близок солдатам, а солдаты — ему, было бы не так-то легко…
— Ну что ж… — сказала Мила. — Может быть, это и к лучшему. Рано или поздно, а нужно ставить точки над «i».
…За два дня до ее отъезда погода круто, как это бывает лишь на Севере, переменилась. Резко похолодало, небо затянуло тучами, сначала прошел дождь, а потом, к вечеру, короткая и внезапная, пронеслась метель.
В роте торопились закончить приготовления к зиме: солдаты, свободные от дежурства, работали даже в те часы, которые значились в распорядке дня как «личное время». Провожать Милу и Витальку Малахов не поехал — он отправил их вместе со своим замполитом, которого вызывали на партактив.
С утра в этот день в роту завезли уголь, и солдаты загружали его в склад. Дул сильный, холодный ветер, временами моросил дождь, и солдаты работали в ватных бушлатах, лица солдат были перепачканы угольной пылью.
Помнила ли Мила эти строчки, и тот день, и первый их короткий разговор у прилавка магазина?
От склада доносились грубоватые, хриплые голоса солдат. Они видели, как Малахов прощался с Милой, как помогал укладывать в «газик» чемоданы, и Малахова все это время не оставляло ощущение, будто солдаты сейчас чувствуют себя в чем-то обманутыми и что он тоже невольно виноват перед ними…
Он подхватил на руки, прижал к себе, расцеловал Витальку. Виталька словно понимал все — не плакал, не просился остаться, не уговаривал. Он только сказал:
— Папа, ты пиши мне письма. Я умею читать сам.
— Я знаю, сынок, — отозвался Малахов, чувствуя, как сжимается у него сердце от нежности и тоски. — Обязательно напишу.
«Все-таки характером он в меня», — подумал Малахов.
— Эх, Малахов, Малахов… — сказала Мила.
И упрек, и грусть звучали в ее голосе.
«Газик» тронулся, покатился, подпрыгивая на неровной дороге, и Малахов еще долго, стоя на ветру, смотрел ему вслед.
Не первый раз уезжала от него Мила, не первый раз расставались они, но теперь, казалось Малахову, — уже навсегда.
6
Первый раз это было два года назад, когда Малахов еще служил в том самом поселке, который, по теперешним его представлениям, с точки зрения северных масштабов, лежал под боком у областного центра.
Малахов хорошо запомнил этот день. Он тогда только что вернулся домой после тяжелых учений, после нелегкой недели, когда спать удавалось лишь урывками — два-три часа в сутки, не больше. В разгар учений была дана вводная: стационарный радиолокатор уничтожен, нужно выходить на запасные позиции и разворачивать там передвижную станцию.
Стояла осень, машины буксовали в грязи, надсадно ревел тягач — каждый километр давался с трудом. Справа и слева в темноте тянулся болотистый, угрюмый лес, и казалось, конца не будет этой дороге. И все-таки они вышли на запасные вовремя. Под дождем, в тяжелых, набухших от сырости шинелях разворачивали станцию, и лишь одна мысль владела ими в эти минуты — успеть! Словно они забыли, что это только учения, словно и правда от того, сумеют они или нет развернуть локатор и перехватить самолеты «противника», зависело слишком многое… Они успели.
И когда после учений Малахов, вконец измотанный, осунувшийся, в заляпанных грязью сапогах, поднялся на крыльцо своего дома, ощущение удачи, азарт победы, выигранного поединка еще не покинули его. Потому, может быть, он не сразу почувствовал какую-то странность в поведении жены. Она словно и радовалась его возвращению и одновременно как бы заискивала перед ним — что-то искусственное, наигранное было сегодня в этой радости. Он уловил и понял эту странность значительно позже, когда уже после бани, размягченный, расслабленный, сидел вместе с ней за столом и пил чай.
— Послушай, Малахов, — с шутливой осторожностью вдруг спросила Мила, — у тебя не возникало желания на некоторое время отдохнуть от меня?
— На что ты намекаешь? — отозвался он тоже шутливо.
— Нет, правда, Малахов, я тут подумала: как ты посмотришь, если мы с Виталькой на какое-то время оставим тебя одного, уедем?
— Это что еще за фантазия?
— Почему же фантазия? — вдруг, сразу раздражаясь, сказала Мила. — Для тебя все фантазии, что не касается твоих локаторов!
Эти ее вспышки внезапного раздражения все чаще ставили его в тупик. Обычно он старался не придавать им значения, отшучивался. Он еще не знал, что вот такое раздражение по пустякам, из-за мелочей, когда человека вдруг начинает выводить из себя твоя привычка есть слишком быстро, или твоя манера смеяться слишком громко, или что-нибудь еще подобное, — это куда более грозный признак начинающегося отчуждения, чем любая самая отчаянная ссора.
— Ты прекрасно знаешь, что это несерьезно, — сказал он.
— Почему несерьезно? Почему? Мне надоело ждать тебя целыми днями, мне надоело не иметь собственной жизни — неужели ты не можешь этого понять? Мне опротивела эта вечная грязь, эти болота, этот дождь — все, все опротивело! У меня не две жизни, а только одна, слышишь? И я не хочу, чтобы наш Виталька рос дикарем.
— Другие же живут здесь, — сказал он.
— Вот ты только это и умеешь повторять: другие, другие! А я задыхаюсь здесь! Я — женщина, понимаешь? Мне хочется одеться, пойти в театр, в ресторан, наконец… Ты говоришь: другие… А у других, может быть, и запросы другие. Я не могу так, не могу, Паша…
— Тебе же нравилось заниматься самодеятельностью… — сбитый с толку, пораженный ее напором, робко сказал Малахов. — И ротная библиотека…
Да, когда они еще только приехали сюда, Мила с энтузиазмом взялась за организацию ротной библиотеки — она добывала деньги, выписывала книги, даже с тремя писателями умудрилась затеять переписку, получить их автографы. А потом охладела.
— А-а… — махнула она рукой. — Интересно вы, мужчины, рассуждаете, честное слово! У вас работа, у вас дело, а нам в утешенье — кружочки, самодеятельность… Сегодня самодеятельность, завтра самодеятельность — сколько же можно! Тебе бы вместо твоей станции предложили руководить радиокружком — посмотрела бы я, что бы ты запел! Ты еще расскажи мне, что содержательной жизнью можно жить где угодно, что все дело во внутреннем мире человека… Так я и сама это знаю. В том-то и дело, Малахов, что я все знаю, а вот не могу… не могу… — Она вдруг всхлипнула.
— Мила, ну успокойся, — растерянно сказал Малахов. — Я не понимаю, что это на тебя нашло. У тебя просто плохое настроение.
— Нет, — сказала она, вытирая слезы. — Я ведь не собираюсь уезжать навсегда, надолго, мне только нужно на время сменить обстановку, хоть немножко пожить по-другому, по-человечески… Я же настоящей жизни еще не видела… Пойми ты это, Паша!
— Успокойся, ну, успокойся, — повторял Малахов, обнимая ее. — Все пройдет…
Он и точно был уверен, что это минутное настроение — погода, дождь действует, да и нанервничалась, издергалась она здесь одна, пока шли эти учения, беспокоилась за него.
— Верно, Паша, пройдет, — с каким-то неожиданно покорным спокойствием сказала она. — В том-то и беда, Паша, что все пройдет. Ты работаешь, ты занят своей станцией, своими солдатами, ты этого не ощущаешь, а я… Ты не сердись на меня, ты пойми. Знаешь, я помню, когда училась в седьмом классе, у многих наших девчонок появились велосипеды — прямо повальное увлечение! А у меня не было. У мамы и денег таких никогда не водилось, чтобы велосипеды мне покупать, даже и думать об этом нечего было. Так вот, ты и представить себе не можешь, как я тогда завидовала этим девчонкам, подругам своим, да что там завидовала — это не то слово! Только в детстве человек, мне кажется, может так страдать из-за подобных вещей. Причем дело было даже не в самом велосипеде, нет… Как бы тебе объяснить получше. Девчонки носились на своих велосипедах по улицам как угорелые, по воскресеньям все вместе сматывались за город, а я оставалась. Тогда велосипед был для меня не вещью, а, скорее, олицетворением свободы, самостоятельности, простора, ну, ощущением радости жизни, что ли… И я только одним утешала себя — что вот подрасту, работать стану, заработаю денег и тогда уж первым делом, на первую же получку куплю велосипед. Ты бы знал, как я об этом мечтала, как все это складывалось в моем воображении! И вот подросла, и деньги появились, приходи в магазин, покупай… А велосипеда-то уже и не надо. Не надо. Все прошло. Поздно. Вот так-то, Паша.
Малахов молчал. Он продолжал обнимать Милу, гладил ее плечи, мучаясь от своего неумения утешить ее. Каждый раз, когда она рассказывала о своем детстве, Малахов испытывал особое чувство, в котором мешались ревность и горечь оттого, что не было тогда, в те дни его рядом с ней, что не мог он ни помочь ей, ни защитить ее. Он словно заново переживал вместе с ней ее детские обиды и в такие минуты и любил и жалел ее еще больше.
— Паша, правда, можно я уеду?
Она произнесла это уже тихо, ласково, почти виновато.
— Да несерьезно же все это, честное слово… Вот будет отпуск, тогда… — сказал Малахов с мягкой, терпеливой снисходительностью. — Ты как ребенок. Ну куда ты сейчас поедешь? Куда?
— К отцу.
Резко и твердо прозвучало это слово. И по тону жены Малахов теперь сразу понял, как заблуждался он, когда думал, что все это лишь женские фантазии, неясные мечтания. Оказывается, все уже было продумано и решено.
— Как к отцу? — изумился он. — Ты же сама говорила…
— Мало ли что я говорила… Может быть, он хочет теперь искупить свою вину… — Все-таки она не выдержала, отвела глаза. — Он не заботился о нас раньше, вот пусть позаботится хоть сейчас. Он давно звал меня. Он одинокий человек, понимаешь, совсем одинокий…
— А его новая жена? — машинально спросил Малахов — в общем-то, его уже не интересовали детали, он думал о другом.
— Они разошлись. Он живет один. Живет, между прочим, хорошо, обеспеченно. Он даже деньги на дорогу предлагал прислать, но я отказалась…
— Значит, ты писала ему? Вы уже договорились? Почему же ты ничего мне не сказала?
— Я не хотела расстраивать тебя раньше времени, — безмятежно отозвалась Мила. — Я же еще не знала… не решила…
Малахов ничего не ответил. Он испытывал сейчас какое-то тяжелое чувство, какое раньше ему случалось испытывать только во сне. Бывают странные сны, которые повторяются, снятся человеку вдруг снова и снова. Это был именно такой сон. Ему снилось, будто сидит он на садовой скамейке, в парке, возле их училища, рядом со своим старым, еще школьным другом. И хотя они молчат, Малахов знает, что только что, поддавшись порыву, он рассказал другу о своей жизни, обо всех самых тайных, сокровенных переживаниях. Как будто теперь их соединяет нечто вроде кровного братства. И вдруг его собеседник поворачивается, и Малахов видит лицо чужого человека и догадывается, что обознался, ошибся, что это вовсе не его школьный товарищ… Отчего-то, может быть оттого, что в реальной, повседневной жизни Малахов был замкнутым, не склонным к откровенным излияниям человеком, этот сон всегда оставлял в его душе горький осадок, неясное беспокойство, тревогу.
— Ты только не думай, — сказала Мила. — Мама моя, будь она жива, тоже так же бы рассудила.
Она по-прежнему избегала смотреть ему в глаза.
— Тебе виднее, — сухо отозвался Малахов.
— И потом, ему хочется взглянуть на внука. Он очень просил. Все-таки он имеет на это право.
Малахов смотрел на нее, стараясь понять, действительно ли вдруг проснулось в ее душе родственное чувство к отцу, жалость к одинокому человеку или она просто обманывает и его, Малахова, и себя и это только повод, чтобы хоть на время вырваться отсюда, из глуши.
— Я же сказал: тебе виднее, — повторил он. — Дело твое. Поезжай.
Ее лицо оставалось напряженным, даже расстроенным, огорченным, но все же Малахов заметил, как выражение облегчения и радости промелькнуло по нему, совсем как у ребенка, который наконец услышал от взрослых долгожданное «можно».
Она уехала и так и не вернулась больше в тот поселок, только почта регулярно доставляла Малахову ее письма, где смутные обещания вернуться чередовались с описаниями Виталькиных успехов в детском саду, и вот два года спустя появилась здесь, на Севере, для того лишь, чтобы снова уехать, расстаться с ним, теперь уже, наверное, навсегда…
7
В тот день, когда Малахов стоял на ветру и смотрел вслед удаляющемуся «газику», он и правда был совершенно искренне уверен, что теперь между ним и Милой все кончено. Он знал, что коль уж так получилось, то лучше всего вычеркнуть ее из своей жизни, из своего сердца раз и навсегда.
Страдание ему причиняла мысль о Витальке — иногда Малахову казалось, что, имей он право, имей возможность, он бы отобрал сына у Милы, но тут же он останавливал себя, говорил себе, что лишать сына матери — это слишком жестоко. «За сына ты не беспокойся, — уверяла она. — Живется ему хорошо». Он пытался утешать себя тем, что сотни детей вырастают в семьях, где родители не сумели ужиться друг с другом, и вырастают часто не хуже, чем в семьях благополучных, утешал себя тем, что будет писать Витальке и получать ответные письма, и видеться с ним хотя бы раз в год никто ему не запретит, — но все это были слабые утешения.
Официально они с Милой оставались еще мужем и женой, но между ними как бы уже существовала молчаливая договоренность о том, что, пожелай кто-нибудь из них оформить развод, и ни задержки, ни возражений не будет.
Как ни винил Малахов Милу, как ни было ему тяжело, все-таки он приучал себя к мысли, заставлял свыкнуться с тем, что семейная жизнь не удалась ему. Может быть, он и сам тоже был повинен в этом. Но упрашивать — это было не в его характере.
Выбраться в отпуск в следующем году, как он рассчитывал, Малахову не пришлось — его заместитель уехал на учебу, а нового еще не прислали, как тут оставишь роту? И оттого, казалось, постепенно обрывались, лопались последние нити, еще продолжавшие связывать его и Милу.
Как раз в это время и произошло вдруг одно событие, которое взволновало Малахова и заставило снова думать о примирении с Милой.
А началось все с того, что в роту прибыл новый солдат — рядовой Зайнетдинов. Характеристика с прежнего места службы была у него такая, что Малахов сразу понял: прислан для исправления. Как ни странно это могло показаться на первый взгляд, но именно сюда, в их роту, где работа была особенно напряженной и ответственной и потому требовала и предельной собранности, и мастерства, и жесткой дисциплины, именно к Малахову время от времени направляли солдат, за которыми тянулся длинный хвост провинностей и нарушений. Делалась ли тут ставка на оторванность, отдаленность роты, на отсутствие вокруг нее в радиусе десятков километров и магазинов, и танцплощадок, и прочих соблазнов, или расчет заключался в том, что как раз ощущение ответственности, атмосфера боевых дежурств, напряжение боевых, а не просто учебных тревог не могут не повлиять на прибывающего сюда новичка, — так или иначе, но расчет чаще всего оказывался верным.
И Малахов, хотя вслух возмущался каждый раз, когда подбрасывали ему очередного «штрафника», на самом деле в глубине души гордился тем, что на его роту надеются, его роте верят.
Зайнетдинов был электромехаником-дизелистом и свою специальность, как убедился вскоре Малахов, знал хорошо. Тут грех было бы жаловаться. А подводил Зайнетдинова характер. Таилось в нем какое-то глухое безразличие, и все, что он делал, он делал словно бы нехотя, вяло, словно бы превозмогая себя. Скажешь ему — он сделает, не скажешь — даже не шевельнется, будет сидеть, равнодушно уставившись в одну точку. Иногда он производил впечатление человека, однажды уставшего и так и сохранившего эту усталость на всю жизнь. А иногда это его безразличие вдруг сменялось короткими вспышками раздражения, гнева. Одни солдаты — и таких было большинство — предпочитали с ним не связываться — а ну, мол, его к лешему, никогда не поймешь, на что он может обидеться; другие — поддразнивали нарочно. Интересоваться он ничем особенно не интересовался, разве что забивал «козла», когда выпадали свободные минуты. Такие люди всегда особенно беспокоили капитана Малахова. Зайнетдинов вроде бы и не заметил своего перемещения из одного подразделения в другое, казалось, ему было совершенно все равно, где служить, — что в хозвзводе, что в радиолокационной роте, несущей боевое дежурство.
Еще когда Малахов только знакомился с Зайнетдиновым, бегло просматривал биографические данные солдата, его поразила одна странность: родители Зайнетдинова были людьми уж очень преклонного возраста. Обоим уже за восемьдесят. Чушь какая-то, писарь напутал, что ли?
Малахов поднял глаза от бумаг и не успел еще ни о чем спросить, как Зайнетдинов быстро подсказал:
— Это мои приемные родители. На самом деле я им внуком прихожусь.
«Значит, не так уж он безразличен ко всему, как кажется», — думал уже после Малахов, вспоминая, как быстро уловил Зайнетдинов удивление в его глазах, как поторопился все объяснить. Или не первый раз приходилось ему читать удивление во взгляде, когда заходила речь о его родителях, и он просто спешил предотвратить лишние, ненужные расспросы. Наверняка именно в тех жизненных обстоятельствах, которые сделали его приемышем, пусть у родных людей, но все-таки приемышем, и скрывалась разгадка его характера. Может быть, солдат нуждался в большем внимании, чем остальные?..
Как-то в воскресенье, когда Малахов по своему обыкновению собирался отправиться на лыжах в сопки, он окликнул Зайнетдинова:
— А ну-ка, Зайнетдинов, составьте мне компанию!..
Еще стояла зима, но полярная ночь уже кончилась, уже проглядывало солнце. Сопки встретили их тишиной, даже постоянный шум ветра доносился сюда слабо, словно отдаленное гудение одинокой струны. Малахов шел на лыжах размашисто и сильно, и Зайнетдинов не отставал от него — оба они молчали, только поскрипывал снег под их лыжами. Впрочем, Малахов всегда считал, что молчание объединяет мужчин куда прочнее, чем любые разговоры. Лишь когда, вдоволь покружив среди сопок, они наконец вернулись в роту, оба вспотевшие, раскрасневшиеся, Малахов сказал:
— Хорошо! Правда?
Потом еще раз-другой брал он Зайнетдинова с собой в сопки, жалея в душе, что слишком редко выпадает ему такая возможность, — он видел, что солдат ждет этих прогулок, что они доставляют ему не меньшее удовольствие, чем самому Малахову. Как будто так же, как и Малахову, ему было необходимо и это ощущение единоборства со снежным простором, и физическая усталость, и молчание, как будто пытался он так же, как и Малахов, уйти, избавиться от собственных невеселых мыслей…
Иногда за другими заботами и делами Малахов на какое-то время терял из виду солдата, но жалоб на Зайнетдинова не поступало — и это уже было хорошо.
Он не пробовал заводить с Зайнетдиновым разговора, что называется, по душам, он хорошо понимал, что верить, будто достаточно сказать подчиненному «давайте поговорим по душам» и тот сразу благодарно раскроется перед тобой, тронутый твоей командирской чуткостью, — это по меньшей мере наивно. Знал он еще в училище одного такого командира — тот вызывал к себе курсанта с самыми добрыми намерениями, усаживал напротив себя и доверительно сообщал, что хотел бы поговорить с ним откровенно, без всяких недомолвок, «по душам», не как командир с подчиненным, а как товарищ с товарищем. Но стоило курсанту заупрямиться или показать, что у него сейчас нет никакого желания и настроения исповедоваться, как в голосе командира появлялись властные, нетерпеливые нотки: «Встать! Отвечайте, когда вас спрашивают!» Впрочем, даже подобные инциденты не мешали этому командиру по-прежнему оставаться свято уверенным в том, что он-то, как никто иной, умеет найти подход к солдатскому сердцу.
Малахов был убежден, что разговор по душам чаще всего созревает медленно, исподволь и начинается нередко как бы случайно, неожиданно, безо всяких специальных к нему приготовлений. Впрочем, и тут, конечно же, не было каких-то определенных законов. Встречал Малахов и таких людей, которые готовы были рассказать о том, что у них наболело, раскрыться перед тобой сразу, мгновенно — достаточно было только проявить интерес к ним. Но Зайнетдинов не относился к таким людям. И хотя Малахов пока не делал попыток вызвать его на откровенность, он уже чувствовал, что такой разговор впереди, что он неизбежно состоится. Нужно только подождать. И он не ошибся.
Как-то поздним вечером Малахов зашел на станцию. Впрочем, «зашел» — это, пожалуй, для здешних мест звучало слишком уж мирно, обыденно, по-домашнему. На самом деле, чтобы попасть с командного пункта на станцию, нужно было пройти по узкой тропе, похожей на траншею, вырытую в снегу, затем по ступеням, вырубленным в слежавшемся, затвердевшем снежном настиле, подняться, держась за веревочные поручни, на холм и снова попасть в неглубокую траншею, которая вела уже непосредственно к станции. В тот вечер станция была выключена. Едва различимая в темноте, неподвижно застыла антенна, молчали дизели.
В дизельной дежурил Зайнетдинов. Выключили станцию недавно, и оттого в дизельной еще было жарко и стоял запах, чем-то всегда напоминавший Малахову детство. Они вместе с отцом едут на пароходе, на палубе. Вечер сырой, зябко, и они жмутся поближе к машинному отделению, откуда тянет густым теплом и запахом машинного масла…
При появлении капитана Малахова Зайнетдинов поднялся с табуретки, и, пока командир роты выслушивал короткий доклад, его наметанный, хозяйский глаз успел отметить, что порядок в дизельной весьма далек от идеального. На полу валялась ветошь, в углу поблескивала маслянистая лужа.
Малахов покачал головой.
— Неужели, Зайнетдинов, так трудно навести чистоту? Сидите тут, как в свинарнике. Самому-то неужели не противно?
Зайнетдинов оглядел помещение и стал, не торопясь, подбирать ветошь.
— Не пойму я вас все-таки, Зайнетдинов, — продолжал Малахов. — Вроде бы и неплохой вы солдат, а чего-то вам не хватает. Старания, что ли?
— Старайся не старайся, товарищ капитан, — все одно, — отозвался Зайнетдинов.
— Это почему же вы так мрачно смотрите на жизнь?
— А разве не одно? Или, может, товарищ капитан, вы отпуск мне дадите?
— Отпуск? — удивился Малахов. — Нет, отпуск не обещаю.
— А хоть бы и пообещали… Мне там обещали, а как очередь подошла, так и отпуск накрылся — другой поехал.
Ага, вот откуда тянется обида!
— Так, видно, другой не меньше вас заслуживал, — сказал Малахов.
— Может, товарищ капитан, и не меньше моего заслуживал. Только мне нужнее было. — Зайнетдинов с такой горячностью и убежденностью произнес это «нужнее было», что Малахов невольно почти поверил ему.
— Почему же нужнее? — все-таки спросил он.
— Одну вещь выяснить хотел, — коротко ответил Зайнетдинов.
И Малахов подумал: не так уж трудно догадаться, что скрывалось за этим «нужнее». Любимая девушка. Подозрения. Ревность. И жажда поехать, проверить, увидеть своими глазами, убедиться в ее вине или невиновности. В общем-то, обычная и не столь уж редкая история.
— Любит — не любит? — сказал Малахов.
Он хотел добавить, что не надо слишком уж переживать и мучить себя из-за этого, что, хотим мы или не хотим, а лучше всего подобные вопросы выясняет время. Но увидел на лице Зайнетдинова презрительную усмешку и замолчал. Не угадал? Сморозил глупость? Поторопился?
И, уже сердясь на самого себя, сказал:
— Не знаю, Зайнетдинов, мне трудно, конечно, судить — нужнее вам было или нет, чем другим. Но вот что я хочу вам сказать. Вы вот об отпуске заговариваете, о доме или о любимой девушке тоскуете, вижу я это. А сами-то ведь старикам своим писем не пишете. Им-то каково там?
— Откуда вы знаете, товарищ капитан? — спросил Зайнетдинов.
— Вижу. Я, между прочим, Зайнетдинов, когда от своего сынишки долго письма не получаю, места себе не нахожу. А они у вас старые уже люди. Родные вам как-никак.
— Да не родные они мне!..
— Как же так? Родители матери, да и не родные?..
Зайнетдинов молчал.
Они стояли сейчас почти рядом — два человека, словно изолированные от всего мира в этой замкнутой бетонной коробке. Там, за ее стенами, сейчас была темень, ночь, вокруг на многие километры тянулись снежная тундра, сопки и океан — безлюдное и пустынное пространство, и оттого у Малахова вдруг возникло ощущение, будто не только здесь, в дизельной, но и поблизости не было больше никого, кроме этого солдата, будто остались они лишь вдвоем, точно на каком-то космическом корабле, который неощутимо уносился к звездным мирам, или в батискафе, бесшумно погружающемся на дно океана…
— Как же так? — переспросил он. — А, Зайнетдинов?
— Не родные они мне, товарищ капитан, не родные, — упорно повторял солдат. Он опять сделал долгую паузу, будто колеблясь, говорить дальше или нет.
Малахов тоже молчал.
— Я вам тогда неправду сказал, товарищ капитан, — наконец выговорил Зайнетдинов. — Неправду сказал, будто я им внуком прихожусь. Это я раньше так думал. Это они мне сами так говорили. А только неправда это. Чужие они мне, старики эти. Жалели меня — оттого и обманывали…
— Погодите, погодите, — сказал Малахов. — Давайте во всем разберемся по порядку. А то вы и меня уже запутали. Значит, старики эти вас усыновили — так я понимаю?
— Ну да. Сосунком я тогда был, года мне еще не было…
— И потом сказали вам, что вы их внук, — так?
— Ну.
— А теперь вы узнали, что на самом деле они вам вовсе не родственники, просто посторонние люди вас усыновили, верно?
— Узнал. Соседка одна мне глаза раскрыла. Как раз перед тем, как мне в армию идти.
— Ну и что из того? — сказал Малахов. — Относились-то они к вам как родные? Любили вас?
— Да не про то я, товарищ капитан! — в отчаянии от непонятливости Малахова воскликнул Зайнетдинов. — Я все про мать свою думаю!
— Она… умерла?
— Это о н и мне так говорили! Обманывали они меня, теперь я знаю. Соседка та мне все рассказала. П о д к и н у л а меня мать — понимаете?
Он словно сделал усилие над собой, произнося это слово, и сам замолчал, точно пораженный внезапно его смыслом. И столько боли, столько горечи было в его глазах, что Малахов не сразу нашелся что ответить.
— Я, товарищ капитан, иной раз проснусь ночью и думаю… Что же у меня за мать такая, что могла она это сделать?.. Мне бы только найти ее, только повидать раз… Мне просто в глаза бы взглянуть ей, а там уж… Я для того и отпуск просил, товарищ капитан…
— Да-а… — задумчиво сказал Малахов. — Утешать вас не хочу, но только ведь соседка эта ваша и наболтать могла… Старики-то ваши что теперь говорят?
— Да что они скажут? Свое твердят. Да что с них возьмешь, товарищ капитан, старые они, памяти уже нет. А только как я им теперь верить буду? Говорили же они, будто я внук им, обманывали. Это уж точно обманывали, это и они не отрицают…
— Ну что ж, Зайнетдинов, жизнь — сложная штука, — сказал Малахов. — Но на стариков своих вам не за что обижаться. Благодарить вы их должны, слышите — благодарить! Они вам только добра хотели. И вынянчили вас, и вырастили…
— А мне, может, и не нужно это было! — И снова боль прозвучала в голосе солдата. — Лучше бы она меня, может, в прорубь бросила, чем чужим людям подкидывать!..
— Ну-ну-ну! — сказал Малахов. — Это уж не по-мужски совсем. Тебя старики гляди каким здоровым парнем вырастили — и голова, и руки — все есть, все вроде бы на месте, а ты такие слова говоришь!.. Стыдно! И вот что я тебе скажу. Насчет отпуска не обещаю. Трудно это сейчас. Да, мне кажется, и не нужно тебе ехать в таком состоянии. А помочь тебе попробую.
Зайнетдинов слушал его молча, глядя мимо Малахова.
— И старикам напиши сегодня же, а то я сам напишу, понял?
— Понял, — сказал Зайнетдинов.
На следующий день после этого разговора — уж если капитан Малахов решал что-нибудь, то имел привычку делать сразу, не откладывая, — он вместе с замполитом сочинил несколько писем и разослал их по разным адресам: в райвоенкомат, в исполком, в райком комсомола того небольшого городка, откуда призывался Зайнетдинов. Просил выяснить судьбу его матери. Сердце его отказывалось верить в правоту соседки, разрушившей покой этого парня. Или уж слишком хотелось, чтобы это оказалось неправдой?..
Письма ушли, улетели, и тут вдруг Малахов обнаружил, что этот разговор оставил в его душе гораздо более глубокий след, чем он предполагал.
От этого происшествия потянулись нити к его собственной судьбе, к судьбе Витальки.
«Да что же это я делаю? — думал он, оставаясь наедине с собой. — Да как я мог так легко смириться с тем, что Виталька будет жить без отца?..»
Не уходили у него из памяти боль и горечь, звучавшие в голосе Зайнетдинова. Если даже сейчас взрослому человеку, здоровому парню мысль о том, что он был брошен, подкинут, оставлен, причиняет такую душевную муку, жжет, заставляя просыпаться по ночам, то что уж говорить о ребенке!.. Конечно, Малахов и не думал сравнивать судьбу Зайнетдинова с судьбой своего Витальки. Понимал, что несопоставимые это вещи. Знал, что и накормлен, и одет, и обласкан Виталька матерью… И все же…
Что творится сейчас в его душе, каким грузом ложатся на его ребячье сердце их семейные неурядицы, чем обернутся они для него впоследствии?.. Или верит он, что так и должно быть, что военные живут там, куда их посылают командиры и где не положено жить детям, — так или примерно так говорит ему Мила, и он предпочитает верить и не задаваться лишними вопросами?..
Не мог Малахов забыть молчаливую Виталькину серьезность в тот последний день, когда они прощались. Что таилось за этой серьезностью? Боль, которую он с недетской старательностью скрывал? Или безразличная покорность воле взрослых?.. А он-то, Малахов, тогда чуть ли не восхищался: «Мой характер!»
Малахов думал об этом все чаще, все настойчивее, а тут еще приехал весной к ним в роту майор Черных из штаба и сразу завел разговор о семейных делах Малахова.
— Слушай, Павел Иванович, никак не пойму я, холостой ты все-таки или женатый? — шутя начал он. — Вот пример наглядный, как вредно знакомиться с человеком по анкетным данным. По анкете посмотришь — ты вроде женатый, а в гости приедешь — и угостить некому…
— У меня повар ротный лучше, чем иная жена, готовит, — в тон ему ответил Малахов. — На гражданке в ресторане «Нептун» работал…
— Ладно, про ресторан ты кому-нибудь другому расскажи, — отозвался Черных. — Шутки шутками, а надо тебе как-то с семейными делами твоими определяться. А то нескладно выходит.
— Сам знаю, что надо… — вздохнул Малахов.
— Надо, надо. И начальство уже интересуется: что это Малахов свою жену в городе держит? Не дело здесь жить в одиночку, нельзя. И какой пример ты офицерам своим подаешь?
— Знаю, знаю, все знаю, — сказал Малахов. — У самого сердце болит. Особенно когда о сыне думаю.
— Ну и чудесненько, раз знаешь. В общем, так. Из отпуска чтобы с женой вернулся. И никаких гвоздей. Мне и Твердохлебов так сказал. А если что помочь надо — поможем. Выкладывай.
Малахов колебался. Чувствовал он, что не вернется сюда Мила, тысячу отговорок найдет, а не вернется, не приедет, пока не настоит на своем, пока не заставит его добиться перевода.
— Вижу, что-то есть, — сказал майор Черных. — Выкладывай, не стесняйся.
И Малахов переломил себя. Сказал:
— В сыне все дело. В Витальке. Сын у меня школьник ведь, во втором классе уже. А у нас здесь со школой сами знаете как. Мать в интернат отдавать не хочет. Вот если бы…
И замолчал, чувствуя, что краснеет. Кажется, и не имел никогда этой привычки — краснеть. Но тут вдруг почувствовал, как будто теплый компресс к щекам приложили.
— Понял, — сказал майор Черных. — Все понял. Будет доложено. А там уж, сам понимаешь, как начальство решит…
И хотя он отнесся к просьбе командира роты как к чему-то вполне естественному, сам Малахов не мог преодолеть чувства неловкости. Он уже жалел, что поддался на расспросы майора. Да если даже начальство сочтет нужным и найдет возможным перевести его — легко ли будет ему расставаться с ротой? Одно дело, когда приказ, необходимость, а другое — когда сам, своими руками, когда по собственной воле… Он клял себя в душе и собирался уже сказать, чтобы майор никому ничего не докладывал и ни перед кем не ходатайствовал (хотя не сомневался, что все равно теперь тот и доложит, и ходатайствовать будет), и, наверно, сказал бы, если бы майор Черных вдруг не спохватился:
— Да, чуть не забыл! Вы тут насчет матери одного солдата запрашивали… Зайнетдинов — есть у вас такой?.. Ну вот — от райвоенкома ответ пришел, привез я письмо…
Он вынул из полевой сумки и протянул Малахову вскрытый конверт. И Малахов сразу отвлекся, переключился. Волнуясь, взял он в руки письмо. И, еще не прочитав его все, еще только успев охватить взглядом бледный машинописный текст, отпечатанный на бланке с фиолетовым штампом в углу, еще только скользнув по отдельным словам, он с радостным облегчением понял, что ответ был тот самый, которого он ждал, на который надеялся.
«…По вашей просьбе мы тщательно проверили факт усыновления семьей Зайнетдиновых тов. Зайнетдинова Р. В. и выяснили следующее. Мать Зайнетдинова — Валеева Ф. Г. — скончалась после тяжелой и длительной болезни 15 ноября 195… года. В архивных документах обнаружено ее письмо, в котором она просит в случае ее смерти разрешить усыновить ее сына семье Зайнетдиновых, где он и находился с тех пор, как она была помещена в больницу…»
Малахов тут же, при майоре Черных, вызвал Зайнетдинова и со смешанным чувством грусти и радости наблюдал, как светлело лицо солдата, пока читал он письмо, как бережно держал он этот бумажный листок в своих крупных, грубых, со въевшимися следами солярки и машинного масла руках…
Больше к разговору о его собственных семейных делах они с майором Черных не возвращались, только, уже прощаясь, садясь в «газик», майор по-прежнему шутливо сказал:
— Так могу я доложить начальству, что с командиром роты воспитательная работа проведена успешно? А? Учти, Малахов, хорошая семья в наших условиях — это тоже фактор боеспособности. Это я тебе уже не как политработник, а как муж с двадцатитрехлетним стажем говорю…
И история с Зайнетдиновым, и разговор с майором Черных, и собственные долгие размышления — все это привело к тому, что капитан Малахов твердо решил: он должен еще раз попытаться наладить свою жизнь с Милой. Чем больше он думал об этом, тем настойчивее убеждал себя, что между ними произошло какое-то недоразумение, что нету же у них никаких серьезных оснований расходиться, что любовь, если она была, — а была же она, была! — не проходит так быстро, легко и бесследно…
С таким настроением Малахов и готовился к отпуску.
Летом, перед самым отъездом, когда явился он в штаб оформлять документы, его вызвал к себе полковник Твердохлебов.
— Докладывал мне Черных о твоих затруднениях на семейном фронте. Ну как, с женой вернешься или опять один? — сказал он. — И о просьбе твоей докладывал. Понимаю, причина, конечно, серьезная. Только мы с тобой ведь люди военные, нам и другие еще причины учитывать приходится, верно?
Капитан Малахов молчал. Он сам был виноват в том, что полковник Твердохлебов вынужден объяснять ему, словно салажонку-курсанту, азбучные истины.
— И тем не менее обещаю — учтем твою просьбу. Учтем, как только появится возможность.
«Незаметно-незаметно, а все получилось так, как хотела Мила», — думал Малахов. Все-таки, выходит, сделал он то, на чем она настаивала, — сидит в кабинете Твердохлебова, разговаривает о своем переводе.
Полковник Твердохлебов, видно, по-другому истолковал его молчание.
— Ладно, не огорчайся, — сказал он. — Говорю — учтем при первой возможности. Жене привет передавай и скажи: ждем мы ее здесь. Счастливого пути!
И он протянул Малахову руку.
8
В поезде, лежа на верхней полке, с трудом привыкая к своему новому, отпускному состоянию и еще продолжая перебирать в памяти, все ли необходимые распоряжения он отдал, не забыл ли о чем важном, капитан Малахов рассеянно листал книжку, которую прихватил с собой в дорогу из дома. И вдруг остановился, задержался на одной странице.
На полях страницы торопливо и неровно, шариковой ручкой был набросан какой-то странный маленький чертеж. И, только приглядевшись внимательно, Малахов понял, что это такое. Это был фасон то ли кофточки, то ли блузки, наспех зарисованный Милой. Наверно, объясняла она этот фасон кому-нибудь из офицерских жен, с кем успела подружиться, пока жила в роте, да под рукой не нашлось в тот момент другой подходящей бумаги. Когда-то Малахову казалась трогательной эта ее привычка: тут же — ехали ли они в автобусе, сидели ли в фойе театра — поспешно, на чем попало, зарисовывать понравившийся ей фасон платья, юбки или костюма, какие-нибудь поразившие ее воображение оборки или форму рукава, или бог знает что еще… Чаще всего эти зарисовки оставались лишь на бумаге, они не использовались Милой — она просто забывала о них, как забывает белка о грибах, заготовленных про запас. Но даже в этой ее, казалось бы, чисто женской привычке улавливал Малахов сходство с собой — наткнувшись в журнале или увидев у приятеля любопытную схему какого-нибудь прибора или приставки к приемнику, он тоже редко удерживался от соблазна немедленно перечертить ее, не очень заботясь о том, пригодится ему когда-либо эта схема или нет.
Сейчас этим торопливым рисунком на полях книжной страницы Мила словно напоминала о себе той, прежней, какой она была, когда они только что поженились.
И невольно под стук колес вспомнилась ему их первая поездка в отпуск. Тогда шутя они называли ее своим «свадебным путешествием». Настоящего свадебного путешествия у них не было, если не считать тех трех суток, в течение которых добирались они к месту назначения Малахова.
А в отпуск они отправились на Юг, в Ялту. Их путь лежал через Москву, и Малахов обещал Миле задержаться в Москве дня на два, посмотреть столицу. Как-никак, а это был их первый отпуск, и деньги у Малахова теперь водились, ему хотелось шикнуть. Мальчишеская самонадеянность так и бурлила в нем — после года службы в болотистом, лесном краю, после бессонных ночей, дежурств, после тревог и учений он казался себе чуть ли не ветераном. Ступив на Комсомольскую площадь, он испытывал тогда чувство, которое было, наверно, сродни тому, что испытывает китобой, сходящий на пристань после долгого плавания, или геолог, спускающийся по трапу самолета, прилетевшего откуда-нибудь из таежных дебрей. Кажется, весь город сейчас к твоим услугам, кажется, все двери готовы распахнуться перед тобой, стоит тебе лишь пожелать этого… И ты посматриваешь с невольной снисходительностью на тех, кто даже не подозревает, откуда ты приехал и сколько тягот осталось у тебя за плечами. Этот первый день, который им с Милой предстояло провести в Москве, виделся Малахову как сплошной праздник.
— В центр, к гостинице, — коротко приказал он шоферу, когда они, с четверть часа постояв в очереди, наконец сели в машину.
— К «Москве», что ли? — спросил шофер.
— К «Москве».
Шофер — это был пожилой, седеющий уже человек — покосился на Малахова, на его лейтенантские погоны и сказал:
— У вас что, там забронировано? А то, если не забронировано, лучше сразу на Выставку ехать…
— Забронировано, — отчего-то стыдясь сказать правду, резко ответил Малахов. Словно этот человек бесцеремонно пытался нарушить своим непрошеным вмешательством их праздник.
Возле гостиницы он отпустил такси. Малахов видел себя сейчас будто бы со стороны: вот он щелкает дверцей машины, вот легко и упруго взбегает с чемоданом в руке по ступеням гостиницы — молодой, ладный, подтянутый лейтенант с мужественным, обветренным лицом. Люкс? Пожалуйста люкс. Дорогой? Ничего, что дорогой…
— Мест нет, товарищ военный, — равнодушно сказала ему дежурная.
Может быть, теперь, спустя немало лет, глядя издали на тогдашнего Малахова, Малахов теперешний несколько преувеличивал его мальчишескую самонадеянность, его наивный оптимизм, но только он хорошо помнил, что даже это равнодушное «мест нет» не поколебало тогда его уверенности, его праздничного настроения. И растерянность, — что же теперь мы будем делать? — которую прочел он в Милиных глазах, лишь подстегнула его.
Они опять довольно долго ждали такси, но на этот раз, добравшись до следующей гостиницы, Малахов уже не отпустил машину. Мест не было и здесь. Они объехали еще несколько гостиниц, и всюду Малахов слышал один и тот же ответ. Он пытался объяснять, даже требовать, но голос его уже был лишен твердости.
Прошло больше четырех часов с тех пор, как они с Милой покинули вагон поезда, оба они устали и проголодались. Стоял жаркий день, солнце палило нещадно, рубашка липла к потному телу, и теперь, вылезая из такси, чтобы толкнуться в двери очередной гостиницы, потоптаться возле дежурного администратора среди таких же, как и он, приезжих, Малахов уже не казался себе ладным и ловким лейтенантом, на которого засматриваются прохожие. Потный, усталый, плохо выспавшийся в дороге человек — только и всего.
Он уже чувствовал, как закипает в Миле раздражение от его бестолкового, безуспешного бегания к администраторам, от его неудачливости и наигранной бодрости, как еще немного — и это раздражение прорвется.
Наконец их машина остановилась возле торжественно вознесенного к небу здания гостиницы «Украина». В холле, возле барьера, за которым помещались администраторы, было пустынно, и понадобились всего лишь секунды, чтобы Малахов вновь услышал «нет». Он отошел в сторону и сел в кресло. Он не мог заставить себя вот так мгновенно показаться перед Милой — опять ни с чем. Но для него не было худшей пытки, чем выступать в качестве просителя, да и не умел он этого делать, не мог перебороть себя. Впрочем, и сидеть здесь, в холле, поддерживая тем самым в Миле надежду, будто он что-то устраивает, чего-то добивается, было постыдно и глупо, и даже нечестно, и потому Малахов встал и пошел к дверям.
Он уже приготовился снова — в который раз! — встретить обращенный к нему вопросительный взгляд Милы. Но когда он вышел из дверей, его внимание на минуту отвлекли три черные, сверкающие на солнце «Волги», одна за другой подкатившие к гостиничному подъезду. Какие-то люди — то ли швейцары, то ли носильщики — уже хлопотали возле багажников этих машин, извлекая оттуда чемоданы с заграничными наклейками. Мужчины в серых костюмах, в белых рубашках, с холеными лицами, с благородной сединой в волосах, смеясь и переговариваясь между собой, шли от машин. От этих людей на километр несло благополучием и уверенностью. Куда там до них было Малахову с его мальчишеской самоуверенностью! Эти люди, казалось, и представления не имели, что на земле существует грязь, которую приходится месить сапогами, и болота, и комары, и пыль, и пот… Сейчас они поднимались навстречу Малахову, и ему пришлось немного посторониться, чтобы дать им пройти. Обрывки немецкой речи долетели до Малахова. А когда Малахов приблизился к своему такси, он вдруг увидел, что Мила даже не смотрит на него, она словно забыла о его существовании, забыла, что ждала его. Все ее внимание было приковано к черным «Волгам». Она зачарованно, не отрываясь, глядела вслед этим холеным, беспечным мужчинам, перед которыми швейцар уже распахивал двери. Этот ее взгляд — взгляд девочки, увидевшей роскошную куклу в чужих руках, — поразил Малахова, задел за самое сердце. Он сильно хлопнул дверцей такси.
— Поехали!
И только тогда, словно приходя в себя, словно возвращаясь из какого-то воображаемого мира, Мила то ли вздохнула, то ли сказала:
— Ах, Малахов, как бы я хотела пожить вот так! Хоть бы один денек!.. Неужели этого никогда не будет?..
Их кружение по Москве завершилось тем, что они, измотанные, раздраженные, едва сдерживаясь, чтобы впервые не перессориться друг с другом, устроились наконец в Останкине, в гостинице «Заря». Номера здесь были четырехместные, и им пришлось поселиться порознь. На следующий день они уехали на Юг, к морю.
Теперь, когда с тех пор утекло уже немало воды, в душе Малахова давно стерлась та горечь, та почти детская обида, которую он испытывал тогда, в первый и такой нескладный день их «свадебного» путешествия. Наоборот, ему было приятно вспоминать сумбурное начало их путешествия. И тот день с его сумятицей, усталостью, метанием от гостиницы к гостинице казался теперь ему едва ли не самым счастливым днем его жизни, может быть оттого, что он сам был тогда так молод и ничто еще не предвещало в те времена их разлуки..
Впрочем, иной раз, когда всплывала в его памяти Мила, сидящая в такси возле гостиницы «Украина», ее зачарованный взгляд, ее полувздох-полушепот: «Ах, Малахов, как бы я хотела пожить вот так! Хоть бы один денек!..» — у него появлялось вдруг смутное ощущение, будто уже тогда предвидела Мила их будущую жизнь, и колебалась, и решала для себя что-то очень важное… Именно тогда, возле гостиницы «Украина».
9
Удивительный все-таки характер был у Милы! Она встретила его с той же беззаботной, веселой легкостью, с какой вела себя в те дни, когда приезжала к нему на Север. Казалось, она уже забыла, как говорила когда-то Малахову: «И не думай, пожалуйста, что тебе одному тяжело. Мне тоже нелегко», казалось, она не видела ничего странного в этих их столь коротких встречах и столь долгих разлуках. Словно ее вполне устраивала такая жизнь. А может быть, действительно устраивала? Но об этом Малахов подумал уже потом, значительно позже.
А тогда, в первые минуты встречи, на вокзале, он больше всматривался в Витальку. И опять изумлялся тому, как успел измениться мальчишка. Вытянулся, похудел и на отца поглядывает застенчиво, смущается, точно боится выдать свои истинные чувства.
Неужели ему, Малахову, так и суждено всю жизнь лишь время от времени становиться свидетелем этих перемен в сыне, лишь испытывать в глубине души удивление, горькое и радостное одновременно, а вслух произносить пустые слова, которые, наверно, произносил бы любой другой человек на его месте: «Да тебя, Виталька, и не узнать совсем! Смотри, как вырос! Скоро небось с меня станешь!»
Наверно, под влиянием этих нахлынувших на него мыслей Малахов сказал Миле сразу, пока они еще шли по вокзальной площади к стоянке такси:
— А я ведь за вами приехал. Без вас мне не велено возвращаться.
И хотя сказано это было с шутливой интонацией, глаза его оставались серьезными. Пусть знает сразу. Незачем откладывать этот разговор.
— Да ну? — откликнулась Мила смеясь. — Ишь как строго!
— Поедем, мама! Поедем! — обрадовался Виталька.
Он подпрыгивал, сбиваясь с шага, стараясь идти в ногу с отцом и тут же то и дело забегая вперед, заглядывая в лицо Малахову.
— Я говорил с Твердохлебовым, — сказал Малахов. — Он обещал помочь с переводом.
— А не поздно ли, Малахов? — спросила Мила, все так же смеясь, и ему показалось, что она просто поддразнивает его. Раньше она любила поддразнивать его, если он бывал, по ее мнению, чересчур серьезным.
— Лучше поздно, чем никогда, — в тон ей ответил Малахов.
— Лучшепоздно-лучшепоздно-лучшепоздно-лучшепоздно! — как скороговорку, затвердил Виталька.
— Не попугайничай, Виталий, — одернула его Мила и сказала уже Малахову: — Ладно, поговорим об этом дома.
«Дома…»
Как странно прозвучало это слово сейчас для Малахова! Какой уж там дом! Он был только гостем. Гостем у собственной жены и собственного сына…
Он ощутил это сразу, едва только переступил порог квартиры, которая принадлежала Милиному отцу. Малахов был здесь не впервые, но в прошлый раз, когда он заезжал сюда, у него осталось чувство — может быть, ошибочное, может быть, он лишь обманывал себя, — что и Мила была в этой квартире гостьей, временным жителем. А теперь… Теперь же сразу бросалось в глаза, что квартира эта прочно обжита Милой.
Это был ее особый мир, к которому он, Малахов, пока не имел никакого отношения. И даже не темная с позолоченной отделкой, тяжелая полированная мебель, которой не было здесь раньше, не круглый аквариум, в котором задумчиво плавали крошечные цветные рыбки с пышными хвостами, не журнальный столик, на который были вперемешку брошены журналы мод, «Англия» и «Наука и жизнь», не подсвечники с витыми свечами, стоявшие на серванте, заставили Малахова испытать это ощущение своей непричастности к жизни, которая протекала здесь, своей случайности в этой квартире. Чувство, что он здесь чужой человек, охватило Малахова, когда взгляд его задержался на светло-зеленом телефонном аппарате. На тумбочке, рядом с аппаратом, лежала раскрытая алфавитная книжка, страницы которой были испещрены номерами телефонов, записанными Милиной рукой.
Вот от этих цифр, вытянувшихся в короткие строчки, от количества этих номеров, за каждым из которых скрывался какой-то человек или какая-то Милина забота, какое-то обещание или какое-то дело, возможно очень важное для Милы и абсолютно неведомое Малахову, — от этих телефонных номеров и повеяло на него холодом отчуждения.
— Ну как, нравится? — Мила стояла посреди комнаты, в центре своих владений и выжидающе-счастливым взглядом смотрела на Малахова.
— Ничего, — сказал Малахов. — Почти как в кино из современной жизни. Как ты умудрилась достать все это?
— О! Это целая эпопея!
«Какое же место среди этих забот, этой мебели, этих телефонных номеров теперь занимает Виталька?» — подумал Малахов.
Милиного отца не было дома, он уехал в командировку, и Малахов обрадовался этому. Он не испытывал никакого желания встречаться с этим человеком. Отношение к людям Малахов менял редко, с большим трудом. Мила же сама была виновата в том, что он с самого начала не любил ее отца, она сама посеяла в его душе эту неприязнь.
Малахов пытался вернуться к разговору, начатому им еще на вокзальной площади, он чувствовал, что лучше всего выяснить их отношения сейчас же, в первый день, иначе дело затянется и толку не будет, одна нервотрепка, но Мила все-таки уклонилась от прямого ответа.
— Ой, Малахов, сложно все это, очень сложно. Надо подумать. Нельзя же так, с бухты-барахты.
— Да что же тут сложного? И чтобы подумать, у тебя было времени дай бог сколько! Виталька же без отца растет — хорошо это? Мы ребенка калечим, понимаешь ты?
— Ты, как всегда, преувеличиваешь. Он — умный мальчик, он все понимает. И ему здесь лучше. Пусть я взбалмошная, пусть я в жизни не сумела добиться того, о чем мечтала. А ведь могла бы, могла, я знаю, если бы жизнь моя по-другому сложилась. Были же у меня способности, это все говорили. Ну, я не сумела, так пусть Виталька сумеет. Мне вон скольких сил стоило его в английскую школу устроить! Ты даже не представляешь, как это трудно было! А теперь срывать мальчишку? Так что все это не так просто, как тебе кажется…
— Мила, ты же прекрасно понимаешь, что можно учиться в английской школе и вырасти никчемным человеком. И вообще, мне не нравится, что уже с детства мой сын будет сознавать, что его куда-то у с т р о и л и…
— Боже мой, Малахов, ты рассуждаешь так, словно с луны свалился. А впрочем, — добавила она вдруг с грустью, — так ведь оно и есть…
— Пусть я и свалился с луны, — сказал Малахов, — но вернуться туда я хочу только вместе с тобой и Виталькой…
Мила с интересом взглянула на него. Может быть, ей понравилась эта шутка, а может быть, она оценила то, что Малахов не стал обострять разговор. Наверно, и ей не хотелось, чтобы они перессорились в первый же день.
— Мы еще подумаем об этом вместе, Малахов, — сказала она.
В общем, день этот прошел мирно. Малахов играл с Виталькой в настольный футбол, рассматривал Виталькины книжки, рассказывал ему о своей службе, с некоторым удивлением обнаруживая, что многое из того, что видел Виталька на Севере, у них в роте, два года назад, сохранилось в его ребячьей памяти гораздо лучше, отчетливее, чем мог предположить Малахов. Оказывается, Виталька до сих пор берег гильзы, подаренные ему солдатами, и помнил, например, как к ним в гости приезжали моряки-пограничники, хотя у самого Малахова уже начисто выветрилось из головы это событие.
Да, день этот прошел мирно и даже счастливо.
Они поужинали втроем и пили чай с тортом, и Мила рассказывала о своей работе — она теперь работала товароведом на книжной базе. Они разговаривали и одновременно смотрели телевизор, и Виталька, которому по всем правилам уже полагалось укладываться в постель, тоже еще восседал за столом — ради приезда отца.
И внезапно одно давнее воспоминание нахлынуло на Малахова.
— Помнишь, — сказал он Миле, — как Виталька первый раз пошел?
— Еще бы! — засмеялась она.
В тот выходной день Малахов и Мила едва ли не впервые решились вдвоем сбегать в кино, в офицерский клуб. Посидеть с Виталькой они уговорили своего соседа, замполита роты капитана Зарубина, благо тот готовился в академию и тратить время на кино считал для себя непозволительной роскошью. Он расположился со своими учебниками и конспектами за небольшим столом в комнате Малаховых. Виталькина деревянная кроватка стояла тут же, рядом, под боком.
Когда Малахов и Мила вернулись из клуба, капитан Зарубин встретил их с торжественно-загадочным выражением лица.
— Будьте осторожнее теперь со своим парнем, — сказал он. — Присматривайте за ним повнимательнее — он ведь пошел…
— Да ну! — ахнула Мила. — Как пошел?
— Обыкновенно. Ножками. Сижу я, строчу свои конспекты, прислушиваюсь краем уха — он все ворочается, шевелится в своей кроватке, гулькает что-то. И вдруг — тишина. Я обернулся. А он стоит — и так осторожно-осторожно перебирает руками по стенке кровати и — ко мне. Остановился и в конспект заглядывает…
«Неужели прошлое может исчезать бесследно? — думал теперь Малахов. — Ведь это наше о б щ е е воспоминание, оно принадлежит нам обоим — как же разделить его?..»
— У тебя никогда не возникало желания, чтобы то время вернулось опять? — спросил он Милу.
Она посмотрела на него с грустной усмешкой.
— Может быть, и возникало. Только мы ведь больше зависим от обстоятельств, чем от собственных желаний… Виталий! — вдруг с неожиданной строгостью сказала она. — Не навостряй уши! И не надейся, что ты будешь составлять нам компанию до ночи!
И Малахову вдруг показалось, что эта ее неожиданная суровость вызвана сейчас вовсе не Виталькиным непослушанием, а стремлением уйти от воспоминаний, боязнью размягчиться, растрогаться.
— Мам, ну еще минуточку!..
— Виталий, что я тебе сказала! И не испытывай мое терпение.
И дождавшись, когда Виталька наконец покорно удалился, обращаясь к Малахову, добавила:
— Ты знаешь, ему совсем нельзя слушать разговоры взрослых. Я, бывает, и забуду, что мы тут говорили, а он помнит. И у него все на свой лад переворачивается. Он такой впечатлительный!
— Разве это плохо?
— Нет, ты даже не представляешь, какой он впечатлительный! Меня иногда это пугает. Он слишком близко все принимает к сердцу.
— Это лучше, чем быть равнодушным, — сказал Малахов.
— Был бы ты матерью, ты бы рассуждал иначе, — отозвалась Мила. — Ты видишь его раз в год, а я каждый день…
— Не смей так говорить! — вспыхнул Малахов. — Ты отлично знаешь, что не я виноват в этом!
— Тише, тише, не будем ссориться. Он еще не спит. Там все слышно. И давай постараемся не портить сегодняшний день, ладно? Лучше пойди пожелай ему спокойной ночи. Он наверняка ждет тебя.
Она была права. Виталька действительно не спал. Но подступающая дремота уже разрумянила его щеки, и, наклонившись к сыну, Малахов ощутил сонное тепло, которым веяло от него. Сейчас, показалось Малахову, Виталька опять был похож на того малыша, который засыпал под шум дождя и отдаленное тарахтенье дизелей в их маленькой комнатенке в военном городке, со всех сторон окруженном лесом…
Виталька потянулся к отцу, обнял его за шею, шепнул в самое ухо:
— Папа, можно я тебе один секрет скажу?
— Ну конечно, можно.
— Я хочу маме подарок на день рождения сделать. Знаешь какой?
— Какой же?
— Я приемник транзисторный сам хочу сделать. У нас один мальчик в классе умеет делать. А ты мне поможешь?..
— Помогу, конечно.
«Ах ты, как меняется время! — подумал Малахов. — В его возрасте я разве что из катушек с резинкой мастерил машину, а он уже приемник… Транзисторный!»
— Только еще детали разные достать надо, — озабоченно сказал Виталька. — Они дорого стоят.
— И детали, Виталька, достанем, все сделаем. А теперь спи. Знаешь, как солдаты быстро засыпают? Только «отбой» им скомандуют, и минуты еще не пройдет — они уже спят.
— Папа, а ты мне тоже «отбой» скомандуй, ладно?
— Ладно. Приготовились к отбою! Отбой!
Виталька зажмурил глаза, подсунул ладонь под щеку:
— Видишь, папа, я уже сплю.
— А вот разговаривать после отбоя не полагается. Все. Точка. Спокойной ночи.
Малахов отошел от кровати, выключил лампу. Теперь свет падал только из соседней комнаты, и Малахов, прежде чем вернуться к Миле, еще долго стоял в дверях и смотрел на засыпающего сына…
10
В душе Малахов был благодарен Витальке за его затею с приемником. У них вдруг появилось общее дело, общая маленькая тайна, в которую посвящены были лишь они двое и которая потому объединяла и сближала их.
Вместе они отправились в радиомагазин, купили детали и необходимый инструмент. Малахов вычертил схему простенького транзистора и теперь, когда Мила уходила из дому, учил Витальку держать паяльник и разбираться в схеме.
Конечно, возьмись за работу он сам, ему хватило бы от силы часа, чтобы собрать и отрегулировать этот приемник. Но Виталька хотел непременно все сделать своими руками, и Малахов хорошо понимал это его стремление и терпеливо наблюдал, как Виталька подолгу примеривается, прицеливается, прежде чем клюнуть паяльником ввод сопротивления или конденсатора.
Работали они на кухне, здесь пахло теперь канифолью и разогретым оловом, и эти минуты, а то и часы, которые им удавалось проводить вместе, вдвоем, сидя друг подле друга, время от времени касаясь друг друга то плечом, то рукой, разговаривая обо всем понемногу — два мужчины, занятые одной общей работой, — казались Малахову самыми счастливыми.
— Папа, а почему они называются полупроводниками? — спрашивал Виталька.
— Потому что пропускают ток только в одну сторону.
— Это как в одну сторону?
— Ну вот представь: мы говорим с тобой по испорченному телефону. Ты меня слышишь, а я тебя — нет. Вот это и есть полупроводник. Понятно?
— Папа, а ты придешь к нам в школу? — вдруг однажды спросил Виталька.
— Зачем? — удивился Малахов.
— Ну… надо…
— Да зачем, сынок? Объясни толком.
— Учительница просила… Чтобы ты рассказал о своей службе. У нас все родители по очереди рассказывают.. Придешь?..
Он так произнес это «придешь?», словно от ответа Малахова зависело что-то очень важное. И Малахов вдруг понял, что вовсе не в учительнице здесь было дело. Самому Витальке было необходимо привести в класс его, Малахова, своего отца, показать, а может быть, и доказать кому-нибудь, что он есть, что он существует наяву, а не только в его, Виталькиных, рассказах.
— Ну раз так… — сказал Малахов. — Приду обязательно.
— И форму надень, — подсказал Виталька.
— И форму надену. Непременно, — засмеялся Малахов.
Ему нравилась Виталькина серьезность и вдумчивость. Но приемничек, надо сказать, получался у них весьма-таки корявый. Малахова даже одолевали сомнения — оживет ли, заговорит ли это неказистое сооружение из крошечных сопротивлений, конденсаторов и триодов…
Мила, конечно, догадывалась, что во время ее отсутствия что-то происходит в квартире, но предпочитала не вмешиваться в их секреты.
Чем меньше оставалось времени до ее дня рождения, тем больше тревожился Виталька.
— Папа, а мы успеем?
— Папа, а у нас получится?
— Папа, а ты как думаешь, мама обрадуется?
— Ну конечно, обрадуется, — успокаивал его Малахов.
Они закончили работу как раз накануне праздника.
Весь приемник — переплетение цветных проводников с черными шляпками триодов и красными лакированными сопротивлениями — умещался на ладони Малахова. Сейчас, пока он не был еще упрятан в самодельный футляр, пока был весь на виду, он казался хрупким и беззащитным, словно какое-то странное живое существо, пойманное и оттого застывшее, притворившееся мертвым, затаившееся на человеческой ладони.
Оставалось только подключить батарейки и щелкнуть тумблером.
И удивительно — казалось бы, уж с какими сложнейшими радиоустройствами не имел он дело, какие только монтажные схемы не перевидал за годы службы, сколько раз во время учений ликвидировал неисправности, иной раз мнимые, заданные проверяющим, а иной раз и настоящие, с которыми приходилось немало повозиться, сколько раз с беспокойным ожиданием, с тревогой всматривался в маленькие экраны осциллографов, в сигнальные лампочки, мерцающие на пульте, и вроде бы давно уже научился сохранять спокойствие, хладнокровие в самые критические минуты, а вот сейчас вдруг почувствовал, что волнуется. Да еще как! Первый приемник, собранный руками сына, его сына, — это ведь что-нибудь да значило!..
— Действуй! — сказал он Витальке.
Виталька подключил батарейки, в маленьком наушнике раздалось тихое потрескивание, шуршание, а затем совсем слабо, едва различимо, словно далекое стрекотанье кузнечика, то исчезающее, то возникающее снова, зазвучала музыка.
— Работает, папа, работает! — закричал Виталька. — Ура!
Честное слово, только ради одной этой минуты стоило ехать сюда, только ради того, чтобы увидеть глаза Витальки, в которых отражалось чудо, волшебство, внезапно совершившееся перед ним, и радость, и изумление перед этим чудом — да неужели это он сам, своими руками сделал?..
Виталька долго не мог расстаться с приемником, все включал и выключал его и прикладывал к уху маленький наушник, а потом вдруг задумался и спросил:
— Папа, а откуда музыка там берется?
— Ну как откуда? — ответил Малахов. — Ее приносят радиоволны.
— А что — радиоволны везде-везде, вокруг нас?
— Ну да, в общем-то, везде, вокруг…
— Значит, и музыка, и слова все время вокруг нас, только мы их не слышим?..
— Ну, не совсем так, — сказал Малахов. — Но похоже.
— И если бы мы не сделали приемник, волны так бы и носились вокруг невидимые и музыки не было бы? Правда?
— У нас не было бы, а другие все равно бы слушали. Приемников-то много…
Но Виталька словно пропустил мимо себя эти его слова. Он думал о чем-то своем.
— А им, наверно, очень хочется, чтобы их обязательно услышали? — сказал он.
— Кому?
— Ну, музыке… словам… которые вокруг нас…
Что-то в его тоне не позволило Малахову просто отшутиться, посмеяться. Последнее время Виталька все чаще поражал его тем, как причудливо соединялись в нем взрослая серьезность и детская фантазия — он то казался Малахову совсем маленьким мальчонкой, которому в пору слушать сказки, то удивлял взрослостью своих рассуждений.
— Конечно, хочется, — сказал Малахов тоже серьезно.
«А ведь, в сущности, так оно и есть, — неожиданно подумал он. — Виталька прав. И радист, который выстукивает ключом морзянку, и музыкант в студии перед микрофоном, и сотни людей на какой-нибудь мощной радиостанции — ведь они все только для того и работают, только для того и стараются, чтобы их услышали».
…Виталька вручил свой подарок матери на другой день утром. Сверху, на картонной коробочке из-под цветных карандашей, которая служила футляром транзистора, Виталька вывел печатными буквами:, «Дорогой маме в день рождения».
— Это что еще за сюрприз? — удивилась Мила.
— А ты послушай, мама, послушай. Вот поверни эту ручку.
Щелкнул переключатель, и в наушнике опять, как вчера, возникла отдаленная, хрипловатая музыка.
— Неужели сам сделал? Ай, молодец! — сказала Мила.
Она чмокнула Витальку в щеку и тут же отложила приемник в сторону, на подоконник. Через минуту она отвлеклась, забыла о нем, и Малахову вдруг стало жалко Витальку — он увидел, как тень обиды и разочарования промелькнула на лице сына. Неужели Мила не поняла, каким событием был для ее сына этот приемник, сколько старания вложил он в эту невзрачную коробочку?..
Малахов сказал Миле об этом, когда они остались одни, и она сразу согласилась с ним:
— Да, да, я как-то не подумала… Столько забот сегодня. Это для вас, мужчин, праздник — всегда праздник, а для женщины даже собственный день рождения — сплошные хлопоты… Между прочим, сегодня я познакомлю тебя с Кудриным, ты увидишь, это интересный человек…
— Да, если судить по твоим письмам, это просто выдающаяся личность, — сказал Малахов. — Так часто ты о нем упоминала.
— Ой, Малахов, да никак ты ревнуешь? — засмеялась Мила. — Учти, это несовременно.
Будь на то воля Малахова, он предпочел бы справить этот праздник втроем, никого, кроме Милы и Витальки, никаких Кудриных не хотелось ему видеть. Но Мила воспротивилась — какой же праздник без гостей? Да и не гости это вовсе — так, самые близкие друзья. И он, конечно, не стал спорить — в конце концов, это был ее, а не его день рождения.
Но то чувство, которое он испытал в первый день, когда взгляд его упал на раскрытую телефонную книжку, чувство, будто он случайно забрел в квартиру, где идет жизнь, к которой он не имеет никакого отношения, опять вернулось к нему.
Это чувство не покидало его весь вечер. Он знакомился с Милиными друзьями, и смеялся, и разговаривал, и провозглашал тосты — все шло как положено, вечеринка как вечеринка, и все-таки он оставался здесь посторонним человеком, словно лишь невзначай, лишь по стечению обстоятельств оказавшимся участником семейного торжества. Как будто вовсе не по праву сидел он сейчас в центре стола, рядом с хозяйкой дома, как будто настоящее место его было где-нибудь на самом краю, на стуле или табуретке, лишь в самый последний момент подставленной к столу… Наверно, он сам был виноват в этом. В отличие от жены, он с трудом сходился с людьми и, попав в незнакомую компанию, всегда испытывал неловкость и скованность. Тем более что компания была довольно пестрая, непривычная для Малахова: две учительницы с мужьями, кажется инженерами, директор магазина, журналист из местной газеты со своей знакомой — то ли певицей, то ли закройщицей из ателье, соседка по дому, чья профессия, вероятно, не имела значения, и, наконец, Кудрин, тот самый Кудрин, с которым так стремилась Мила познакомить Малахова.
Кудрин оказался еще весьма молодым, но уже успевшим несколько располнеть человеком, с благодушным выражением лица и неожиданно ироничными на этом благодушном лице глазами.
Разговоры, возникавшие за столом, касались людей, с которыми Малахов не был знаком, событий, которых он не знал, но которые зато хорошо были известны всем остальным, и Мила сначала то и дело, точно переводчик, приставленный к почетному, но чужому для всех гостю, поясняла ему, о ком или о чем идет речь, а затем, то ли разгорячившись от вина, от поздравлений, от комплиментов, от пожеланий счастья, то ли решив, что он достаточно уже получил сведений, чтобы ориентироваться самостоятельно, окончательно предоставила его самому себе.
Постепенно общий разговор за столом распался на разговоры-островки, и Малахов сам не заметил, как вдруг оказался втянутым в спор с Кудриным.
— Простите мне мое невежество, я сугубо штатский человек, к тому же прирожденный гуманитарий, юрист, армия для меня — нечто за семью печатями, — говорил Кудрин, — так я бы одну вещь понять хотел. Чтобы вы на один вопрос мне ответили. Сейчас, знаете ли, мы все одержимы теми или иными комплексами. В наше время, с тех пор как это слово изобрели, не обладать каким-нибудь комплексом вроде бы и неприлично. Вот я — юрист, а мне иной раз кажется: плюнул бы я на все эти бумажки, заявления, апелляции, кодексы и подался бы куда-нибудь к чертовой матери, в экспедицию, простым рабочим… Дорогу прокладывать, лес валить… Руками, одним словом, поработать. Чтобы работу свою ощущать. Чтобы ее потрогать, увидеть, пощупать можно было. А вот как у вас, у военных, на этот счет дело обстоит? Вам никогда не приходилось испытывать нечто подобное — психологическую неудовлетворенность, этакий комплекс неполноценности?.. Я не беру, разумеется, войну, военное время — там дело другое, там все ясно. А вот сейчас, в мирные, как говорится, будни, признайтесь, Павел Иванович, гложет вас ведь, наверно, червячок, гложет?
Сначала Малахову почему-то казалось, что все это говорится не столько для него, сколько для Милы; подсознательно еще заранее он уже был настроен, предубежден против Кудрина. Благополучные люди всегда настораживали Малахова. Может быть, это было наследство его нелегкого детства, может быть. Он не мог забыть глаз своего отца, ту муку, которую оставила в них война. Сколько он помнил, их жизнь, жизнь их семьи, всегда была трудна. И в детстве Малахов ни о чем не мечтал с такой мальчишеской страстностью, как о том времени, когда вырастет и сумеет оберечь отца и взять на себя заботы о нем. Так и не сбылась эта его мечта, так и остался за ним этот долг…
Но чем дольше всматривался сейчас Малахов в Кудрина, чем дольше слушал его торопливую речь, тем больше поражало его ощущение странного противоречия между лицом этого человека, таким благодушным, округлым, и выражением глаз — живым, то беспокойным, даже тревожным, то насмешливым. И его энергия, напор — словно и впрямь не было для него собеседника важнее Малахова — невольно располагали к себе.
— Так, признавайтесь, гложет?
— Ну уж непременно и гложет, — улыбаясь, сказал Малахов. — Это почему же?
— А вот я вам сейчас объясню. В любом человеке заложено стремление создавать, творить — вы согласны? Ощущать, говоря высоким слогом, плоды трудов своих. Оставлять их другим людям. Вас никогда не мучает сознание, что вы, вот вы, капитан Малахов, в силу своей профессии ничего не создаете, не производите — вы только тратите. Вас не мучает мысль, что после вас ничего не останется? Только честно! И не говорите мне, что армия необходима, что она защищает наш мирный труд и так далее… Это я все знаю. Меня интересует ваше личное, внутреннее ощущение.
— Э, нет, так не пойдет, — сказал Малахов. — На таких условиях я отвечать не согласен. Вы хотите, чтобы я отбросил главное — цель, ради которой мы служим. А как же без цели, без главного?
— Все-таки вы меня не поняли, — живо откликнулся Кудрин. — Попробую зайти с другой стороны. Вот я, например, лейтенант запаса. Надеюсь так им всю жизнь и пробыть. Говоря спортивным языком, мне всю жизнь суждено просидеть на скамейке запасных. И мне это, естественно, по душе. Меня это вполне устраивает. Потому что у меня есть другая профессия, другое дело, другое занятие. Но ведь и вы в мирное время — вы все, вся армия — это тоже армия з а п а с а…
— А вам что, разве хотелось бы, чтобы мы превратились в действующую армию? — спросил Малахов.
— Да нет, конечно же! Что вы!
— Так вот ради этого мы и служим. Парадокс, если хотите. Но служим мы как раз ради того, чтобы не было д е й с т в у ю щ и х армий…
Этот спор, в общем-то наивный, вдруг напомнил Малахову его молодость, те бурные разговоры, которые вели они, будущие лейтенанты, о своем предназначении, о смысле жизни…
— Да нет же, понимаю я все это, понимаю. Я из вас другое вытянуть хочу, — продолжал Кудрин. — Мне психология ваша интересна. Ну, будем говорить прямо: бессмысленность своей жизни вы никогда не ощущаете?
— Нет, — сказал Малахов. — Не ощущаю. У меня на это как-то не хватает времени, — добавил он весело.
— Завидую. Честно говорю — завидую. А вам никогда не приходила в голову мысль, что если начнется война, настоящая война, если будут нажаты кнопки, то никакие ваши станции, радиолокаторы уже не помогут. Все полетит к черту. И у нас, и у них. А следовательно, все, чем вы занимаетесь, только игра в солдатики, детские игрушки. Я вот читаю — уже изобрели ракеты, которые на тепло человеческого тела сами наводятся, — и мне становится жутко! Укрыться-то невозможно! Да что я вам объясняю, вы лучше меня знаете все это, только вид делаете такой твердокаменный, непробиваемый. Может, по долгу службы, а? А я не скрываю — мне страшно. Мне один приятель рассказывал — он инструктором был, в Северном Вьетнаме, — ракеты такие есть, которые прямо по лучу радиолокационной станции идут. Вам кажется, вы самолет ловите, а на самом деле вы сами на себя свою смерть наводите. Вас не бросает в дрожь от таких изобретений?
— Нет. Это не входит в мои обязанности, — усмехнувшись, сказал Малахов. — У меня, знаете ли, иные заботы. Я должен научить своих солдат упредить эту ракету, произвести маневр антенной, направить, одним словом, ракету по ложному следу и проделать это в считанные секунды, может быть даже в доли секунды… Так что тут не до дрожи…
— Не знаю, — сказал Кудрин. — Не знаю. Вам либо памятник нужно отливать из бронзы — «полагается при жизни», как сказал поэт, либо… — И он засмеялся, оборвав себя. — Одно знаю точно: будь я вашим начальством, я бы немедленно повысил вас в звании. Как оно, это ваше начальство, терпит, что такой человек носит всего лишь капитанские погоны?
Он сказал это весело, но в глазах его светилась ирония, и оттого эту последнюю фразу с одинаковым успехом можно было расценить и как добродушную шутку и как насмешку.
«Тут уж не обошлось без Милы», — отметил про себя Малахов.
И верно. До сих пор Мила была увлечена разговором с другими гостями, не вмешивалась в спор, Малахов даже не поручился бы, что она слышала, о чем они спорили, но тут сразу же отозвалась, сразу же вставила свое слово.
— Малахов не из тех солдат, что мечтают стать генералами. В этом смысле он исключение, — сказала она.
— Это называется — удар с тыла, — ответил Малахов. Он поддержал ее шутливый тон, но мысль о том, что здесь, без него Мила обсуждала с этим человеком вопросы, которые касались только их двоих, посвящала этого человека в свои планы, и делилась сомнениями, и выслушивала советы, — эта мысль неприятно царапнула его.
А тут еще директор магазина, изрядно подвыпивший, потянулся к нему со своей рюмкой:
— Павел Иванович, дорогой, не берите грех на душу, не увозите от нас эту женщину!
— Я человек неверующий, — все еще стараясь сохранить шутливый тон, сказал Малахов. — И потому грехи меня не пугают.
«Уже всех успела посвятить, всех!»
А ведь когда-то нравилась ему эта ее общительность, это умение, не смущаясь, искать совета и помощи порой даже у незнакомых людей. Видел он в этом проявление ее доверчивости, почти детской открытости. Наверно, так оно и было. Тогда что же изменилось теперь?
— Симпатичные люди, правда? — сказала Мила, когда отшумела, закончилась вечеринка, когда закрылась дверь за последним гостем и они наконец, к некоторому даже удивлению Малахова, остались вдвоем. Только посапывал в соседней комнате спящий Виталька.
— А как тебе Кудрин? Интересный, правда?
— Ничего, — сказал Малахов. — Занятный. Только зачем ты с ним все уже обсудила, все наши дела? Мы же сами еще ничего не решили, ты со мной разговор все оттягиваешь и оттягиваешь, а с ними со всеми успела, поторопилась…
— Господи, Малахов! — воскликнула Мила. — На тебя никогда не угодишь! Да неужели с друзьями своими, с близкими людьми я и посоветоваться не могу?..
— Что тут советоваться? Ну о чем тут советоваться? — с неожиданным раздражением сказал Малахов. — Ехать к мужу или не ехать? Оставлять ребенка без отца или не оставлять? Об этом надо советоваться? Да что они могут сказать тебе? У них о Витальке сердце болит, что ли?
— А ты не думай, что у тебя одного болит, не думай. Я — мать, я добра ему хочу. Чтобы как лучше, понимаешь? А у тебя одно на уме — затащить нас опять в дыру, в глушь, к черту на кулички…
— Я же сказал: я разговаривал с Твердохлебовым…
— Ну и что? Ну и что? Та же дыра, только побольше..
— Ты же сама просила… — растерянно произнес Малахов.
— О господи, ну как ты не понимаешь! Это же сто лет назад было. Если бы ты меня тогда послушался, мы бы уже, может быть… Да что там говорить!.. Тебе два с лишним года понадобилось, чтобы решимости набраться к Твердохлебову обратиться. И ты еще сообщаешь мне об этом с таким видом, словно облагодетельствовал меня!
Малахов молчал. В такие минуты на него всегда нападали приступы немоты. Да и что он мог возразить? Зачем? Все было и так ясно.
— Пойми, Малахов, — вдруг с прежней, давней доверчивой интонацией сказала Мила. Как будто перед ним опять возникла та девчонка в сереньком платьице, которую он когда-то увидел за прилавком книжного магазина. — Не о такой жизни я мечтала. Ты знаешь, я девчонкой, бывало, по улицам вечером иду, смотрю на чужие освещенные окна, и такая мне за ними жизнь чудится — удивительная, праздничная! Ты же сам знаешь, как мы с матерью жили. Когда каждую копейку считать приходилось. Я до сих пор забыть не могу, как мать к соседке шла в долг деньги просить, а мы с сестренкой гадали: даст или не даст, даст или не даст?.. Разве я не имею права хоть теперь немного пожить по-человечески?
Знакомое чувство жалости, любви и горечи шевельнулось в душе Малахова.
«Наверно, ничто не оставляет такого следа в жизни человека, — думал он, — как обиды детства, и ничто, как детство, не определяет судьбу человека… Чужие освещенные окна, наверно, так и будут всегда манить Милу…»
— Неужели я не имею права пожить, как другие люди живут? Разве хотеть этого — так уж плохо? Или я всю жизнь должна провести между казармой и клубом? И Виталька тоже?
— Но ты же знала это, когда выходила за меня, — сказал Малахов. — Ты же была готова к этому.
— Знала? — Она посмотрела на него каким-то странным, оценивающим взглядом, словно прикидывала, сказать ему правду или нет. — Да. Знала. Только я одного не знала — что ты з а с т р я н е ш ь… Ты же способным парнем всегда был, Малахов! А теперь? Знаешь, раньше были вечные студенты. Так ты будешь вечным капитаном. Даже если тебя повысят в звании, ты все равно в душе останешься капитаном, ты уже не сумеешь подняться…
Когда она произносила эти слова, ее лицо внезапно приняло грубое выражение, и в то же время в этом выражении было что-то знакомое Малахову. Когда-то он уже видел его. И вдруг он вспомнил. Это было очень давно, еще в его курсантские годы. Они с Милой стояли однажды вечером в небольшой очереди возле молодежного кафе, ожидая, когда швейцар откроет дверь. Рядом с ними стояла еще пара — так случилось, что подошли они почти одновременно, и, когда швейцар наконец приоткрыл дверь, Малахов чуть посторонился, чтобы пропустить незнакомую девушку. Но Мила решительно оттеснила ее: «Мы же первые!» — и потянула за собой Малахова. И вот тогда-то, в тот момент, когда протискивались они в двери кафе, он впервые увидел на ее лице это выражение грубости, жестокой способности постоять за себя… Правда, оно почти моментально исчезло, стерлось с лица, и она сказала, словно извиняясь: «С тобой, Паша, можно год без толку простоять…» Этот эпизод остался для него неприятным, но, в общем-то, случайным воспоминанием — уж очень не вязалась грубость с обычной Милиной женственностью. И теперь Малахова поразило не столько выражение грубости, сразу сделавшее Милино лицо чужим, жестоким, сколько то обстоятельство, что такие различные по своей значительности события — минутная ссора в очереди у кафе и разговор о судьбе их семьи — так одинаково отразились на ее лице.
«Только я одного не знала — что ты застрянешь…»
Может быть, она была права — он продвигался по службе медленнее, чем многие его ровесники. И если уж на то пошло, его несложившаяся семейная жизнь тоже была тому виной. В армии, как, может быть, нигде еще, это играет немалую роль. И в этом есть своя мудрость. Как требовать от человека и точности, и исполнительности, и умения воспитывать подчиненных, когда у него голова забита собственными семейными неурядицами?.. Обо всем этом Малахов мог сейчас сказать Миле, но не стал. Незачем.
— И знаешь, почему ты уже не сумеешь подняться? — продолжала Мила. — Ты слишком добросовестен. Ты думаешь, это достоинство? Но ты добросовестен до отвращения. Ты привык делать все, что тебе скажут. Ты — как мальчик, которому отец однажды внушил, что хорошо, а что плохо, и ты будешь верить этому до конца жизни. Ты забываешь, что отец твой жил едва ли не в прошлом веке. Сейчас совсем другое время.
Говоря, она ходила по комнате и пыталась убирать со стола, но только переставляла посуду с места на место.
— Не суетись, — сказал Малахов. — Ты слишком много суетишься.
«Что такое полупроводники?» — спросил его недавно Виталька. «Вот мы с Милой сейчас, как два полупроводника, — с усмешкой подумал Малахов. — Мы перестали слышать друг друга».
Мила неожиданно остановилась.
— Послушай, Малахов, — вдруг сказала она, — а что, если тебе попытаться демобилизоваться, уйти из армии? Есть же какие-то пути…
Опять нотки доверчивости зазвучали в ее голосе. И Малахов неожиданно понял, что же все-таки изменилось в ней. И доверчивость, и открытость остались, но она научилась и с п о л ь з о в а т ь их — вот в чем заключалась разница. Неужели благополучие или жажда благополучия способны так изменить человека?
— Правда, Малахов, что, если тебе демобилизоваться? А папа помог бы тебе здесь устроиться.
Все-таки она страшилась, все-таки она не хотела окончательно потерять его. Она словно надеялась, словно пыталась еще найти выход, который устраивал бы их обоих.
— Ты не думаешь, что говоришь, — сказал Малахов.
— Нет, правда, ну скажи мне честно, что тебя там удерживает?
— Я люблю эту работу, — сказал Малахов.
Он мог еще сказать о честности перед собой, о долге. Она была права — эти понятия внушил ему его отец, и он, Малахов, мечтал в свою очередь передать их Витальке. Только не напрасны ли теперь были эти надежды?
— Ответ исчерпывающий, — сказала Мила, и Малахов вдруг увидел в ее глазах слезы. После тех обидных, почти жестоких слов, которые она только что наговорила ему, это было так неожиданно, что он растерялся.
— Ты любишь работу! — сквозь слезы сказала Мила. — А я тебя люблю, тебя! Да, да, не смотри на меня так — люблю как дура, как девчонка — понимаешь ты это?
Он по-прежнему молчал, сбитый с толку. А он-то уже поспешил вынести ей приговор, он уже разложил все по полочкам — и вдруг эти слова, эти слезы!
— Ты вот обиделся на меня, наверно, а я ведь и злюсь и переживаю за тебя, потому что все еще люблю тебя…
— Так в чем же дело, Мила, в чем же дело? Что нам мешает? — торопливо проговорил он, чувствуя, как наивно прозвучал сейчас этот вопрос.
Он сделал шаг к ней, потянулся, чтобы обнять ее, волна благодарности накатила на него, но Мила поспешно и даже сердито отстранилась, сказала:
— Не надо, Паша, не надо.
Она отвернулась, стараясь незаметно утереть слезы.
— Мила…
— Не знаю, Паша, не знаю, я ничего не знаю… Я тут как-то проснулась ночью и представила себе: а вдруг с тобой что-нибудь случилось бы, ну, в аварию ты попал бы — прости, что я так говорю, но мне надо, чтобы ты все знал, — или еще что-нибудь там… Так я бы к тебе ведь бросилась, я бы тебя выхаживать стала… Понимаешь, стыдно говорить такое, но мне иногда даже хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось… Я бы не отступилась, ты веришь?..
Он молчал. Словно он был виноват, что стоял сейчас перед ней целый и невредимый, без ожогов и шрамов, обыкновенный офицер, каких тысячи, с четырьмя маленькими звездочками на погонах…
— Не веришь… — сказала она печально.
— Нет, почему же…
Наверно, она говорила правду, она не лгала сейчас. Может быть, ей на самом деле нужна была какая-то встряска, какое-то потрясение, чтобы переломить себя, отказаться от этой ставшей уже привычной жизни…
В его ушах еще звучали ее слова: «А я тебя люблю, тебя!» Казалось, все, что она говорила и раньше, и затем, прошло, промелькнуло мимо его слуха, остались только эти слова.
— Так поедем, Мила! Поедем! — сказал он.
— Нет, — покачала она головой. — Поздно. Ты знаешь, мне иногда кажется: пока мы далеко друг от друга, между нами еще сохраняется какая-то ниточка, что-то нас соединяет, а там… Там и это порвется. Опять казарма и клуб? Что еще?.. И не обращай внимания на мои слезы. Я сама не знаю, чего я хочу. И вообще, я зря затеяла этот разговор. Сама не понимаю, что на меня нашло…
— Мила!
— Нет, нет, и не будем к этому возвращаться. Лучше помоги мне убрать со стола. Унеси посуду в кухню.
В кухне, как всегда после подобных вечеринок, царил беспорядок. Грязные тарелки, стаканы, консервные банки, бутылки, розетки из-под варенья, ложки и вилки громоздились на кухонном столе, на газовой плите, на подоконнике. Малахов осторожно поставил грязные чашки с краю стола и уже повернулся, чтобы выйти из кухни, когда взгляд его задержался на подоконнике. Там, между консервными банками с недоеденной рыбой и бутылками, лежала картонная коробка из-под цветных карандашей. Виталькин подарок. Приемник на полупроводниках. Значит, Мила, как положила его утром сюда, так и не вспомнила.
«Если бы это была в е щ ь, — подумал вдруг Малахов с грустью, — Мила вряд ли забыла бы ее…»
Или опять, может быть, он судит ее слишком поспешно, слишком категорично?..
На картонной коробке виднелась небольшая вмятина — наверно, кто-то случайно надавил на нее. Малахов взял коробку в руки. Если приемник испорчен, Виталька не должен знать этого.
Он повернул переключатель, и в ответ так же, как утром, пробиваясь сквозь шорохи и разряды, возникла, пришла издалека слабая, едва уловимая музыка…
11
Вот он и выяснил, что хотел. Они словно шли по кругу и каждый раз возвращались к одному и тому же.
Наверно, была и его вина в том, что случилось, если оглянуться назад. Не заметил, как начал упускать Милу, прозевал когда-то этот момент, эту переломную точку, слишком был занят своей техникой, своей работой. Или был слишком уверен в Миле?.. А теперь… теперь что ж… Теперь, несмотря на все их попытки объясниться, несмотря на Милины слезы, их разносило все дальше и дальше друг от друга — наивны оказались его надежды что-то изменить, что-то исправить своим приездом.
Малахов уже мог укладывать чемодан, что он с удовольствием бы и сделал, если бы не Виталька. Даже на день раньше не хотел он расставаться с сыном. Да и обещание побывать в школе дал мальчишке. Надо выполнять обещание. Хорошо, что хоть этим мог он доставить радость Витальке, смягчить предстоящую новую разлуку с ним.
Он видел, какой счастливой гордостью светилось Виталькино лицо, когда учительница — совсем молоденькая, почти девочка (вроде бы в те времена, когда учился сам Малахов, и не было в школе таких учительниц — или просто сам он уже стареет?) — объявила, что «сейчас перед вами, ребята, выступит отец вашего одноклассника Виталия Малахова — Павел Иванович Малахов».
— Слушайте его внимательно, Павел Иванович приехал с далекого Севера и расскажет вам о своей нелегкой и очень важной службе. Пожалуйста, Павел Иванович…
И Малахов вдруг растерялся. Он привык выступать перед солдатами, перед людьми, на которых распространялась его власть, для которых его слово было приказом, законом, а тут перед ним сидели совсем маленькие ребятишки. Что мог он сказать им? Что они поймут, малыши такие? Вон пацаненок за последней партой с любопытством поглядывает на него, на Малахова, а сам успевает щелкать по затылку своего соседа. Почему-то Виталька, когда они разговаривали один на один, казался Малахову старше, серьезнее.
— Дорогие ребята, вы, конечно, знаете, что служба в Советской Армии — это ответственная и почетная обязанность… — Он произнес еще несколько фраз в том же духе и сразу почувствовал, что внимание ребят рассеивается, его слова скользят мимо них. И учительница, наверно, тоже ощутила это — она приподнялась со своего места и строго, предупреждающе оглядела класс.
«Не так я говорю, не так, — досадуя на себя, подумал Малахов. — Словно политзанятия пришел проводить к солдатам».
— Там, откуда я приехал, — сказал он, — солдатам приходится нелегко. Полярная ночь, темень, мороз, снежные бураны. Бывает, так казарму занесет — чуть ли не до крыши. От радиолокационной станции до казармы — метров двести, а зимой специальные веревки протянуты — идут солдаты и за веревку держатся, чтобы не заплутать в темноте, чтобы ветер не сбил с ног…
«Слушают. Вот теперь, кажется, слушают…»
— Трудная, одним словом, служба, а вот почти никогда я не слышал, чтобы солдаты жаловались, ныли: ах, как мне тяжело! ах, как мне трудно! Потому что знают, что служба их не только трудная, но еще и очень ответственная. Рядом граница. И если чужой самолет попробует подобраться к нашей границе, кто его заметит первым? Оператор радиолокационной станции. Вот какая у нас служба. Сейчас я расскажу вам один случай, который произошел в нашей роте несколько лет назад…
Случай, о котором он собирался рассказать, произошел еще до того, как он сам появился в роте, и знал Малахов об этом происшествии лишь по рассказам сослуживцев, но какое это имело сейчас значение? Важно, что ребята сразу зашевелились, усаживаясь поудобнее, и тут же затихли — приготовились слушать.
— В ту ночь у экрана радиолокационной станции дежурил очень опытный солдат-оператор. А дежурить на станции непросто. Вот представьте, что любого из вас посадили бы на всю ночь к экрану телевизора и сказали бы: смотри! Смотри всю ночь телевизор. Наверно, многие из вас обрадовались бы. Вот здорово — и спать не прогоняют, и смотри себе телевизор сколько душа пожелает…
— Ценненько!
— Я бы согласился!
— А я всю ночь могу не спать — мне ничего не стоит!
— И я тоже!
Малахов сделал паузу, выждал, когда оживление стихло, и сказал:
— Только пришлось бы, ребята, допустить одну маленькую оговорочку. Смотреть-то телевизор вы можете, только по телевизору в это время ничего показывать не будут…
— У-у-у… — разочарованно пронеслось по классу.
— Да, да, сиди и смотри на пустой светящийся экран. Тут бы, пожалуй, вы заговорили по-другому, не правда ли? И зевать бы начали через пять минут, и подумали бы: не лучше ли в постель забраться. А вот служба оператора в том и заключается, чтобы смотреть на светящийся экран. И смотреть внимательно, пристально, не отрываясь ни на секунду. Чтобы не прозевать, если появится вдруг на экране крошечная светящаяся точка. Примерно такая, как булавочная головка. Появится точка — значит, летит самолет. Он еще далеко летит, за сотни километров, а мы его уже видим. Причем разглядеть эту точку тоже не так-то легко, потому что на экране и пятна светлые от облаков, и помехи всякие — попробуй отыщи среди них маленькую точечку!..
А в ту ночь, как я уже сказал, дежурство нес очень опытный оператор. Дело шло к утру. И солдат знал, что утром, в шесть ноль-ноль, границу должен пересечь наш рейсовый пассажирский самолет. И вот в положенное время на экране появилась светящаяся точка. Точка была довольно крупной, потому что самолет летел большой — ТУ-114. Солдат включил запросчик — это особый такой прибор, он как бы пароль у самолета запрашивает. Если самолет свой — на экране появится еще одна маленькая светящаяся черточка, если чужой — не появится. Включил солдат запросчик — видит, самолет отвечает, черточка появилась, все в порядке, самолет свой. Теперь оператору оставалось только записать в журнал боевого дежурства: в шесть ноль-ноль пролетел рейсовый самолет ТУ-114. Уже не первый раз он дежурил и не первый раз видел на экране этот самолет. Только на этот раз ощутил он какое-то беспокойство. Все вроде как должно быть, и все же тревожно у него на сердце. А отчего — понять не может. Что-то подозрительное чудилось ему сегодня в этой светящейся точке на экране. То ли чуть крупнее она была, чем всегда, то ли форма у нее была какая-то непривычная, чуть вытянутая. «Да нет, — успокаивал он себя, — это мне просто мерещится». Снова и снова всматривался он в светящуюся точку. Еще минута-другая — самолет приблизится к нашей границе, пересечет ее и исчезнет с экрана. Дальше за ним будут следить уже другие станции. И вот в эти считанные секунды должен принять оператор решение. И поднимать тревогу понапрасну не хочется — скажут потом: что же ты всех переполошил — наш самолет, рейсовый летит, все ясно, все как положено, а ты в панику ударился… И опять вглядывается солдат в светящуюся точку. И кажется ему, что она чуть-чуть меняет свою форму — словно раздваивается. Или это чудится ему, глаза устали? И тут вдруг мелькнула догадка в голове оператора. Сообщил он о своих подозрениях на командный пункт. Поднялись в небо наши истребители…
Малахов опять сделал паузу. Теперь ребята смотрели на него не сводя глаз. И тот пацаненок, за последней партой, весь подался вперед, даже рот приоткрыл — так слушает.
— И что же оказалось? — продолжал Малахов. — Оказалось, что действительно летел наш пассажирский самолет, но вслед за ним летел еще один — чужой! И он, этот чужой самолет, так хитро рассчитал, так пристроился, летел на таком расстоянии от нашего, чтобы от двух самолетов на экране получилась одна отметка — одна точка. Вот какой хитрый, какой коварный был у него расчет! Когда поднялись наши истребители, он, конечно, быстренько кинулся наутек. Ясное дело, летел он не с добрыми намерениями. Когда в гости идут с добрыми намерениями, тогда не прячутся, не правда ли?.. И если бы тот оператор не был таким опытным и таким внимательным, таким натренированным и хорошо обученным, может быть, незваный гость и пробрался бы к нашей границе… Теперь понятно, какая ответственная служба у наших солдат?..
— Понятно! Понятно!
— Расскажите еще что-нибудь!
— Расскажи-и-ите!
— Теперь они вас не отпустят, — смеясь, сказала учительница.
— Давайте, ребята, так договоримся, — сказал Малахов. — Вы спрашивайте, а я буду отвечать на ваши вопросы. Ладно?
Сначала, в те первые минуты встречи, когда он смешался, когда им овладела растерянность, ребята, сидевшие перед ним за партами, показались почти неразличимыми между собой, одинаковыми. Теперь же он уже различал их лица, такие непохожие друг на друга, — за каждым угадывался свой характер. Они еще не умели, да и не считали нужным скрывать свои чувства — и восхищение, и любопытство, и капризная нетерпеливость, и застенчивость, и решительность, и робость — все проступало на их лицах. Вон веснушчатая девчушка со второй парты смущенно взглядывает на него из-под пушистых ресниц и тут же торопливо опускает глаза — видно, хочет спросить о чем-то и никак не наберется смелости; а вон мальчишка возле окна так и подпрыгивает от нетерпения и тянет изо всех сил руку, да еще подталкивает сам себя под локоть другой рукой — меня заметьте, меня!
Одно мальчишеское лицо показалось ему знакомым, словно где-то он уже видел его раньше. Хотя где же он мог видеть его? И Малахов так бы и решил, что, конечно, ошибся, спутал с кем-то, если бы учительница вдруг не назвала фамилию мальчишки: «Кудрин, а ты что хочешь спросить?» Так вот оно что! Вот почему это лицо казалось ему знакомым — та же плавная округлость черт, только печать благодушия еще не успела лечь на лицо мальчишки, оно еще было живым, подвижным, светилось наивным лукавством. Лишь теперь Малахов вспомнил: Мила как-то упоминала, что познакомилась с Кудриным-старшим на родительском собрании.
— А правда — самолет танк поднять может?
— А как радиолокатор в темноте видит?
— А сколько вам лет?
— А почему вы стали военным?
— А у вас ордена есть?
— А тройки у вас были?
Они тянули руки, перебивали друг друга, кто-то в ажиотаже уже жужжал, изображая самолет, в этом их напоре сквозила такая непосредственная, такая заразительная жизнерадостность, что она не могла не захватить и не растрогать Малахова. Или просто отвык он от общения с детьми?
— А вы опять назад, на Север, поедете?
Все время он отвечал на вопросы коротко и стремительно, не давая ребятам слишком расшуметься, как будто в пинг-понг играл: вопрос — ответ, вопрос — ответ. А тут вдруг споткнулся, замолчал на какое-то мгновение. До сих пор он словно не замечал Витальку, захваченный общим ребячьим азартом, словно даже забыл о его присутствии, и увидел внезапно только теперь. Увидел растерянность и боль, мелькнувшие в глазах сына.
— А вы опять назад, на Север, поедете?
Малахов не успел ответить на этот вопрос — учительница, будто угадывая его замешательство, сказала:
— Конечно. А то кто же вас защищать будет?
Она произнесла эти слова весело, полушутя-полусерьезно, и Малахов с благодарностью взглянул на нее.
И верно — кто же?
Он подумал об этом тоже шутливо, с веселым мальчишеским озорством, но было за этой шуткой, за этим отзвуком, который возник в его душе, что-то очень серьезное и важное для него. Как будто эта молоденькая учительница вдруг угадала те сомнения, что тревожили его последние дни, и вот так, легко и просто, шутя, ответила на них. Словно те слова, которые не раз слышал Малахов, и которые не раз говорил своим солдатам: «Запомните, мы охраняем покой нашей Родины», и которые, возможно, от частого их повторения казались абстрактными, отвлеченными, сейчас, когда он стоял перед этими ребятишками, внезапно обрели свой изначальный живой смысл.
…Из школы Малахов возвращался вместе с Виталькой. Виталька щебетал без умолку, точно торопясь наговориться с отцом перед предстоящим расставанием. Он торопливо рассказывал о своих одноклассниках, как бы спеша воспользоваться тем, что отец еще помнил их, — и того рыжего, в углу у окна — «он у нас самый сильный, знаешь?» — и ту девчонку с косицами на первой парте — «она вредина, хуже не бывает», затем снова принимался расспрашивать о солдатах, о далеком поселке, который сохранился у него в памяти…
И Малахов, то ли под впечатлением от встречи с ребятами, от собственного рассказа о Севере, то ли оттого, что уже приближался конец отпуска, тоже потянулся мыслями к своей роте. Как-то они там? Все ли в порядке? Его уже влекло туда, в свой крошечный городок, к сопкам, к людям, которые были ему близки и понятны. И он ощущал облегчение оттого, что не надо больше просить Твердохлебова ни о каком переводе. Пусть переводят, повышают, когда настанет пора, когда будет в том необходимость, а пока он останется со своей ротой. Как будто он освободился вдруг от чего-то, что тяготило его.
«Нельзя изменять самому себе — вот что главное», — думал он. А Мила этого не понимает. Она изменила себе, когда приехала сюда, к отцу, она совершила это маленькое предательство и легко оправдала себя, и теперь хотела, чтобы он сделал то же самое…
— Папа, возьми меня с собой… — вдруг сказал Виталька.
— Ну что ты, Виталька, — растерявшись от неожиданности, отозвался Малахов. — А мама? Разве тебе не жалко было бы маму?
— Жалко. Только я все-таки хотел бы поехать с тобой…
Он поднял глаза на отца, и странное выражение — мольбу и упорство — уловил в них Малахов. Потом он не раз вспоминал этот взгляд.
— Мама у нас строгая, разве она тебя отпустит? — все еще не оправившись от растерянности, и оттого, наверно, стараясь обратить этот разговор в шутку, и сам стыдясь затеянной им игры, сказал Малахов. — Ты учишься в хорошей школе, и климат для тебя здесь более подходящий… Тебе же здесь лучше…
— Да, конечно, ты прав, — серьезно, совсем по-взрослому ответил Виталька.
Через несколько дней капитан Малахов вернулся из отпуска к себе в роту. И вот тогда-то, с той осени, он и стал все чаще уходить в сопки на лыжах один, чего никогда не замечали за ним раньше…
12
Капитан Малахов взглянул на часы — до возвращения старшины с Виталькой оставалось еще немало времени. Он чувствовал, как волнение все сильнее охватывает его, пытался заставить себя успокоиться и не мог. Уж скорей бы! Словно на учениях, когда вот-вот должна наступить решающая минута, а сигнала все нет и нет.
Малахов еще раз оглядел комнату — кажется, все в порядке. Только что он принес от соседей, от своего замполита, раскладушку, и чистое постельное белье тоже уже было приготовлено — с дороги мальчишка наверняка устанет, захочет спать.
Взгляд его остановился на фотографиях. Две фотографии на книжной полке. На одной из них Виталька — такой, каким он был в те дни, когда вместе с матерью приезжал сюда, каким ухватил его аппарат ротного фотографа. На другой — Мила, та, первая фотокарточка, которую подарила она ему. Давно уже собирался Малахов убрать этот снимок, да все как-то не поднималась рука. Привык. Столько уже лет каждый день карточка перед глазами. И сейчас он взял фотографию, машинально повертел в руках, прочел знакомую надпись, поставил обратно на место. «Люби меня, как я тебя… Люби меня, как я тебя…»
Он опять посмотрел на часы.
Уже спешит сюда, уже отсчитывает километры трудяга «газик».
И хотя рассудком Малахов прекрасно понимал, как рискованна мальчишеская выходка Витальки и что он, отец, должен только осуждать сына за этот нелепый побег из дома, понимал, понимал все это Малахов, но все-таки не мог сдержать радости, которая сейчас переполняла его сердце. Мало ли что там еще будет когда-то, а сейчас, скоро, он увидит Витальку!
И вдруг внезапно, первый раз с тех пор, как услышал он сегодня в мембране слабый Виталькин голос, Малахов отчетливо почувствовал, ощутил, что же должна была пережить Мила за эти последние два дня! И отчаяние, и надежду, и страх!.. И как мечется она, не зная, что предпринять… Всю жизнь могут перевернуть такие два дня. Он видел наяву все это, он чувствовал — так, словно это происходило с ним, — что там ни говори, а прожитые годы сроднили их, и никуда от этого было не деться…
Сейчас она, наверно, уже получила телеграмму…
Малахов вышел на крыльцо. По-прежнему гудел ветер и доносился отдаленный грохот прибоя. На фоне бледно-голубого неба размеренно вращалась антенна радиолокатора.
Стараясь успокоиться, стараясь взять себя в руки, Малахов опустился на ступеньку крыльца и сидел так, щурясь от косых лучей полярного солнца.
Он думал о приближающемся «газике», о Миле, о Витальке, а в голове его все звучали, все повторялись и повторялись одни и те же слова: «Люби меня, как я тебя… Люби меня, как я тебя», словно почти забытая и внезапно всплывшая в памяти мелодия, словно вдруг привязавшаяся невзначай строчка старой песенки…
РАПОРТ
1
Первый раз он остался один в кабинете, который отныне становился его кабинетом и в котором ему, вероятно, предстояло провести теперь немало дней. Несколько минут он сидел молча, неподвижно, откинувшись на спинку стула и положив обе руки ладонями вниз на поверхность просторного письменного стола. Стекло, которым был накрыт стол, холодило ладони. Стол сейчас был чист и пустынен, как подготовленное к игре хоккейное поле, эту его нетронутость, чистоту нарушал только перекидной календарь, одиноко приткнувшийся с краю. Вчерашний листок был не перевернут. Поперек листка тянулась какая-то неразборчивая — чужой почерк — запись.
Майор Трегубов перевернул листок, шумно прихлопнул его ладонью. «25 июня… Восход солнца… Заход солнца… Долгота дня…»
Майор засмеялся — просто так, без всякого повода, от хорошего настроения. Он не чувствовал усталости, несмотря на то что последние три дня провел на ногах, в постоянном напряжении: что ни говори, а принять полк — это нешуточное дело. Но все эти три дня его не оставляло особое острое ощущение полноты жизни, собственной удачливости и молодости. Майор Трегубов всегда был жизнелюбивым человеком, но, казалось, никогда еще он не чувствовал так сильно и осязаемо уверенности в своих силах, вкуса к жизни. Оно, это ощущение, усиливалось еще и оттого, что свою службу Трегубов начинал именно в этом полку, и хотя с тех пор многое изменилось, изменилось даже место расположения полка, сменились и люди, все равно его теперешнее назначение сюда было похоже на возвращение в свою лейтенантскую молодость.
Впрочем, он и сейчас был еще молод, пожалуй, даже слишком молод для командира полка. Сегодня он несколько раз ловил на себе пристальный, испытующий взгляд командира второго батальона майора Воронова. Комбат-два тоже был молод, но все же на год старше Трегубова, его батальон был на отличном счету, лучший батальон в полку, еще ротным Воронов получил орден Красной Звезды, — и теперь, глядя на нового командира полка, он словно сравнивал, словно прикидывал: а не мог бы и он, Воронов, оказаться на месте Трегубова? Наверняка ему в голову приходили такие мысли, и он не скрывал этого, не стыдился и не опускал глаза, и этот его испытующий, оценивающий взгляд даже понравился Трегубову. Поменяйся они местами с Вороновым — он бы сам смотрел и думал так же. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, — эта старая истина всегда была по душе Трегубову. Больше всего он не любил людей вялых, неуверенных в себе, к тому же свою душевную робость нередко именующих скромностью, — ни в чем нельзя на них положиться.
Оба они, и майор Трегубов, и майор Воронов, даже внешне были похожи друг на друга: оба широкоплечие, приземистые, однако вовсе не малорослые, только майор Воронов был белобровым и белоголовым, как деревенский мальчишка, выгоревший на солнце, а у майора Трегубова на темных висках уже отчетливо проглядывала седина — седеть он начал очень рано, когда еще носил лейтенантские погоны.
Осторожненько тренькнул телефонный аппарат на тумбочке, справа от стола, и майор Трегубов поднял трубку.
— Слушаю, майор Трегубов, — сказал он.
— Товарищ майор, говорит Ломов. Позовите полковника Коновалова. — Голос был уверенный, хорошо поставленный голос. Как-никак — директор пусть небольшой, но зато единственной фабрики в поселке. Начальник.
— Полковника Коновалова здесь нет.
— А где он, если не секрет?
— По всей вероятности, дома.
— Да что вы мне говорите! Я знаю полковника Коновалова не первый год, и еще не было случая, чтобы в это время он вдруг оказался дома!
— И тем не менее я не сомневаюсь, что он сейчас дома.
— Он что болен?
— Нет, его переводят на другую должность.
— Ах вот оно что! А кого же на его место?
— Да вот прислали тут одного майора… — весело сказал Трегубов.
— А как его фамилия?
— Майор Трегубов.
На другом конце провода наступила тишина, майор ждал, беззвучно посмеиваясь. Сегодня он мог позволить себе подурачиться, мог позволить и простить себе внезапно накатившее ребячество.
— Извините, товарищ майор, — несколько смущенно проговорила трубка.
— Пожалуйста, за что же? — сказал Трегубов, нажимая на рычаг телефона.
Говорят, полковника Коновалова любили в полку. Любили или просто привыкли к нему?..
Позавчера Трегубов оказался свидетелем того, как разговаривал полковник Коновалов с лейтенантом из третьего батальона. Разговор шел о квартире, вернее, о комнате, которую просил лейтенант. Видно, для лейтенанта этот разговор с командиром полка был последним шансом, последней надеждой, видно, он долго колебался, прежде чем решился обратиться к полковнику, — у лейтенанта вздрагивали по-мальчишески пухлые губы и красные пятна от волнения проступили на скулах. И чем яснее становилось, что разговор этот бесполезен, напрасен, тем настойчивее и отчаянней повторял он свои доводы: жена, маленький ребенок, надоело, сколько же можно, обещали ведь… Полковник же был резок, даже груб.
— Вам все готовенькое подавай… — говорил он. — А вы бы лучше подумали, как мы жили — в землянках, в сараях — и не жаловались! А вы все ноете! Чуть что — ультиматумы предъявляете! Кому ультиматумы-то предъявляете? Сами сообразите! Мне, что ли? Да нет, народу нашему. Народу-то и так, к вашему сведению, содержание наше дорогонько обходится. А вам еще квартиру с теплой уборной немедленно подавай! Служба вам не нравится — так прямо и скажите!
Майор Трегубов, конечно, молчал, не вмешивался в разговор, — позавчера он был еще лишь наблюдателем. Он мог лишь примериваться, лишь прикидывать, что бы он сделал на месте того, кого ему предстояло заменить. Он слушал, что говорил полковник, а сам мысленно произносил совсем иные слова, прикидывал, каким тоном он сам стал бы говорить с лейтенантом. Тогда же он отметил про себя, что надо не забыть этого лейтенанта, надо вызвать его к себе, поговорить…
Вообще майор Трегубов с недоверием и снисходительным пренебрежением относился к той, уже уходившей теперь в прошлое, категории военных, которые были твердо убеждены, что в работе с подчиненными без властного окрика, без повышенного тона, без начальственного разноса, а то и без крепкого слова не обойтись. Такие люди охотно подхватывают речи о революции в военном деле, о техническом перевооружении армии, но словно забывают или не учитывают того, что изменение технической оснащенности армии, повышение интеллектуального уровня рядового солдата непременно повлечет за собой и изменение стиля взаимоотношений между командирами и подчиненными, повышение технической культуры невольно влечет за собой и повышение культуры поведения. Иначе говоря, в армии должен появиться и уже появляется новый, и н т е л л и г е н т н ы й стиль отношений между людьми. Майор Трегубов любил порассуждать, поспорить на эту тему, это был его конек, — одно время он всерьез увлекался психологией и даже подумывал, не заняться ли ему научной работой. Для многих приятелей Трегубова его быстрое продвижение вверх по служебной лестнице оставалось загадкой, они объясняли его лишь везением, счастливым стечением обстоятельств, но сам-то Трегубов в глубине души верил, что именно его пристрастие к науке, с о в р е м е н н ы й взгляд на работу офицера, командира и обеспечили ему успех. И он, пожалуй, был не так уж далек от истины.
Трегубов давно приучил себя не повышать голоса и оставаться спокойным даже в самой напряженной, нервной обстановке — это далось нелегко, но зато он чувствовал, как выигрывает, когда оказывается теперь рядом с раздраженными, кричащими, суетящимися людьми. И кроме того, он знал, что, если когда-нибудь наступит такой момент, когда все же появится необходимость повысить голос, когда обстоятельства вынудят на кого-то прикрикнуть, с кем-то обойтись круто, уж это произведет должное впечатление, будьте уверены…
Трегубов прошелся по кабинету, словно приноравливаясь к нему, от стены к стене и еще раз от стены к стене — придется, придется померять ему этот кабинет шагами, придется не раз поломать голову в одиночестве… Не один, не два человека доверены ему, шутка ли сказать — полк!
Остановился у окна. Из окна штаба были видны трехэтажная кирпичная казарма, и аллея с фанерными плакатами-призывами по сторонам, и часть стадиона, скрытого за разросшимися деревьями, и солдатский клуб с красным полотнищем над входом. Человеку гражданскому все военные городки, вероятно, кажутся на одно лицо, да и какое тут может быть разнообразие, когда все заранее определено, оговорено и уставом, и наставлениями, и инструкциями вплоть до количества «посадочных мест» в солдатской уборной. Но опытный глаз, глаз военного человека, сразу улавливает, сразу угадывает те, казалось бы, незначительные мелочи, которые отличают один городок от другого и порой лучше всяких характеристик могут рассказать о его хозяевах.
Дорожки, аккуратно выложенные по краям ярко-красным битым кирпичом, клумба с цветочными часами ничуть не хуже, чем в любом городском парке (сколько кропотливого труда и бережного ухода она требует!), идеально ровно выкопанные канавки для стока воды, а главное — главное, что отметил про себя майор Трегубов еще два дня назад, — нигде не было видно «диких», протоптанных в траве наискосок, как попало, тропинок, лишь бы покороче, поскорее, — ни от учебных классов к танковому парку, ни от казарм к столовой или клубу. Даже если бы он не знал полковника Коновалова, уже по одной этой мелочи можно было безошибочно определить, что командир здесь — человек строгий, не терпящий расхлябанности и умеющий добиваться своего…
Спросив разрешения, вошел начальник штаба Щербинин, высокий сутулый подполковник с застенчивой улыбкой.
— Товарищ майор, вы просили план боевой и политической подготовки… Я принес.
— Спасибо, спасибо… — рассеянно сказал майор Трегубов, не отрываясь от окна.
Возле штабного крыльца разговаривали два офицера, и в одном из них ему вдруг почудилось что-то очень знакомое. Офицер стоял вполоборота, и Трегубов не мог хорошенько разглядеть его лицо, но эти быстрые жесты, эти движения рук, которыми он сопровождал свои слова, Трегубов когда-то, где-то уже видел… Но где?
Сейчас, сейчас он вспомнит… Память не должна была его подвести, он тренировал ее так же, с таким же упорством и настойчивостью, как тренировал изо дня в день свое тело.
Север? Учения? Ленинград?.. Нет, не то, не там это было. Училище? Училище… Постой, постой…
Афонин? Неужели Афонин?
Он все-таки колебался. Слишком много прошло времени.
— Петр Николаевич, — сказал он Щербинину, — этот человек кажется мне знакомым. Его фамилия Афонин?
— Так точно, он самый. Капитан Афонин.
Уже потом Трегубов смог припомнить, что нотки раздраженности прозвучали в голосе начальника штаба, когда он произносил эту фамилию, но это припомнилось только после, спустя время, а тогда он не обратил внимания на то, каким тоном была сказана эта фраза.
Когда начальник штаба вышел, Трегубов поднял трубку и позвонил дежурному по штабу.
— Пригласите ко мне капитана Афонина, — сказал он.
Улыбка уже пробивалась, всплывала на его лице. Да он и не старался ее сдерживать. Казалось, только именно этого — встречи с товарищем по училищу, с бывшим своим однокурсником, с кем начинал он офицерскую службу, — не хватало ему для достойного завершения сегодняшнего столь значительного и столь радостного для него дня…
2
Через несколько минут дверь слегка приоткрылась.
— Разрешите?
— Да, да, пожалуйста! — весело отозвался Трегубов.
Афонин вошел осторожно, как бы даже с некоторой неохотой, и остановился у порога.
— Здравия желаю, товарищ майор, — сказал он, поднося руку к фуражке.
— Ну, здорово, здорово, Афонин! Да что ты, не узнаешь меня?
— Как не узнать, товарищ майор. Узнаю.
Афонин по-прежнему стоял у порога, и тогда Трегубов шагнул к нему. Они обнялись. Вернее, только Трегубов обнял Афонина, а тот не успел сделать встречного движения, и потому объятие получилось неловким.
— А я смотрю из окна — Афонин или не Афонин? Афонин или не Афонин?.. — возбужденно говорил Трегубов. — Был бы Афонин, он бы, думаю, сразу ко мне примчался…
— Да, меня теперь трудно узнать, — сказал Афонин с явно ощутимым вызовом. — Я сильно изменился.
— Есть немного, — согласился Трегубов. — Да и я ведь не молодею.
Он покривил душой. Чем дольше, чем пристальнее он всматривался в своего бывшего товарища по училищу, тем неприятнее его поражала странная перемена, которая произошла с этим человеком. Неужели человек может так резко измениться? Двенадцать лет назад, когда они расстались, Афонин был румяным парнем, подтянутым, чистеньким лейтенантом, может быть, излишне самонадеянным, но кто из них не был самонадеянным в то время? Они были тогда так молоды, вся жизнь лежала перед ними, словно местный парк культуры и отдыха, куда они приходили и хозяевами и желанными гостями одновременно…
И теперь военная форма сидела на Афонине по-прежнему ладно, но опытный глаз Трегубова сразу отметил и чуть грязноватые, затертые обшлага кителя, и несвежий галстук. Лицо Афонина было исхудавшим, именно не худым, какими бывают лица худощавых от природы людей, а исхудавшим; даже если бы Трегубов не знал Афонина раньше, он бы все равно без труда определил, что этот человек не всегда был таким, — об этом говорила болезненная впалость щек. И на этом исхудавшем, обострившемся лице безостановочно шевелились брови — они то вздергивались, взлетали, то опускались, то вдруг озабоченно сходились у переносицы. Но сильнее всего Трегубова поразили глаза Афонина. Он уже видел однажды такие глаза. У своего отца. Тот был тяжело, безнадежно болен, но не верил в это и все думал, что врачи неправильно его лечат, потому он и не может поправиться. В короткие минуты свиданий он говорил только об этом, и глаза его смотрели так же отчужденно, с таким же напряженным недоверием, как смотрели сейчас глаза Афонина.
Трегубов неожиданно почувствовал смущение и непонятную скованность.
— Ну, рассказывай, — бодро произнес он. — Что у тебя? Как жизнь?
— Нет, нет, — торопливо сказал Афонин и даже поднял перед собой руки ладонями вперед, словно отталкиваясь. — Я сам ничего рассказывать не буду. Пусть уж другие сначала вам расскажут, товарищ майор.
Трегубов поморщился.
— Зачем же так официально? — сказал он. — На службе — другое дело. А так… Мы же на «ты» всегда были. Из одного котелка, как говорится, хлебали, одними шпаргалками пользовались…
Он сказал это просто так, ради шутки, пытаясь расшевелить Афонина, на самом деле он никогда не прибегал к помощи шпаргалок, просто считал это ниже своего достоинства, всегда казалось ему унизительным — таясь и оглядываясь на преподавателя, торопливо выискивать нужные формулы. Да и не было никогда в этом особой необходимости, — никогда не мог он пожаловаться на свои способности.
— Так что давай-ка по-старому, — сказал он Афонину.
— Неловко как-то… — отозвался Афонин. — Не привык я. Да и слишком большая теперь между нами дистанция. Ты… — Все-таки пересилил себя, произнес, выговорил это «ты». — Ты вон куда вознесся, а я так в ротных и застрял. Сначала молод был — не выдвигали. Теперь стар. Так до пенсии и буду тянуть. На днях я ведь рапорт подал — прошу, чтобы перевели меня в другую часть.
— Да расскажи ты толком, что случилось?
— Нет, нет, — опять с той же нервной торопливостью проговорил Афонин. — Сам я ничего не хочу рассказывать. Пусть у вас будет объективная, — он специально выделил, сделал нажим на это слово «объективная», — информация.
Он замолчал, но тут же вдруг заговорил снова:
— Вы же знаете мой характер. Я же таким и остался, каким был. Я правду в глаза никогда не боялся говорить и теперь не боюсь. А для кое-кого здесь это нож острый. Ну, ничего, пусть моя жизнь не сложилась, зато одно я могу сказать твердо: против своей совести я никогда не шел…
— Ну, а конкретней? — прервал его Трегубов. — Объясни ты наконец, в чем все-таки дело?
— А-а… это долгая история… Вот будете разбираться с моим рапортом, я приду к вам на прием как к командиру полка и тогда уж все выложу…
«Пожалуй, Афонин прав», — подумал Трегубов. Теперь он и сам начал уже ощущать некоторую двойственность своего положения. Не думал он, не думал, что эта встреча выйдет такой…
— Ну, а как семья твоя, как супруга? Клава, кажется?
Афонин махнул рукой:
— А-а…
И в этом его жесте было столько раздражения, столько безнадежности, что Трегубов больше ни о чем не стал расспрашивать. Только сейчас он заметил, что они разговаривают по-прежнему стоя, и сказал:
— Может, присядем?
— Нет, пожалуй, мне пора идти, — заторопился вдруг Афонин. — Если разрешите…
— Ну конечно, какой разговор! — внезапно для себя испытывая облегчение и стыдясь этого чувства, сказал Трегубов. — И не надо смотреть на жизнь слишком мрачно. Все еще будет в полном порядке.
Брови Афонина прекратили свое движение, замерли вдруг на секунду.
— Я никогда не был пессимистом, — сказал он торжественно. — Вы же помните мой характер… Вы же помните… — Он повторил эту фразу дважды, словно она должна была все объяснить.
3
Да, он помнил Афонина и характер его помнил отлично. Именно с ним, с Афониным, было связано воспоминание об одном происшествии на тактических занятиях.
Теперь майор Трегубов вспоминал об этом давнем происшествии с улыбкой, как вспоминает человек о своем детстве, о своих ребячьих невзгодах и неудачах, которые много лет назад, в детстве, казались непоправимыми. А тогда долгое время любое напоминание об этих учениях причиняло Трегубову немало стыда и страданий.
Это были ночные тактические занятия — отработка ориентирования на местности по карте, движение по азимуту и прочие премудрости. Он служил тогда в разведподразделении — новоиспеченный лейтенант, всего месяц с небольшим как прибывший в часть. Их было в полку несколько, таких лейтенантов, образца 195… года, в том числе и Афонин. Трегубов хорошо помнил, как нарочно мяли они тогда ремни портупеи, чтобы те не выглядели такими вызывающе новыми, такими хрупкими и девственно-чистыми.
Тогдашнее его настроение, душевный подъем, который он испытывал, были пусть отдаленно, но сходны с его теперешним состоянием, только тогда было больше возвышенных мечтаний и романтических эмоций и никакого опыта за плечами, никакого реального представления о своих силах и возможностях. Одна сплошная радостная готовность действовать, и уверенность в том, что его взвод непременно станет лучшим, и жажда показать, проявить себя в деле. В училище он был отличником с первого до последнего курса, и эта его гордость первого ученика, любимца преподавателей давала о себе знать, томила его и требовала теперь здесь, где он ничем пока не выделялся среди остальных, немедленного подтверждения.
И вот эти первые ночные тактические учения, где ему предстояло действовать совершенно самостоятельно, где все зависело от его сметки, умения и командирских способностей. Задача была несложная: проделать с отделением солдат из своего взвода марш-бросок по маршруту, вычерченному на карте начальником штаба, и, уложившись в определенное время, выйти в назначенный пункт. Карту Трегубов, как и другие офицеры, получил лишь на исходном рубеже, уже в темноте, и, осторожно посветив карманным фонариком, аккуратно уложил ее в планшет. С этим планшетом он тоже носился тогда совсем как мальчишка, которому старший брат дал подержать свое армейское снаряжение. Почему-то именно об этом он вспоминал после с особенным стыдом.
Они двигались сначала по дороге, угадывая ее по твердому, ровному грунту под сапогами, потом — по степи, в глухой темноте, такой плотной, такой густой, что казалось, она поглотила не только очертания предметов, но и звуки. Время от времени Трегубов подтягивал солдат, произносил какие-то, как казалось ему тогда, подбадривающие, а на самом деле пустые, никчемные фразы, вроде: «Веселее! Веселее!» или: «Не подкачаем, товарищи!» А солдаты и шли, и бежали молча, разве что выругается кто-нибудь вполголоса, споткнувшись. Теперь Трегубов останавливался чаще и, прикрывая краем накидки луч карманного фонарика, сверялся с картой и компасом. Вдруг ему стало казаться, что они сбились с пути, и он принялся изучать карту особенно обстоятельно и долго, согнувшись и пристроив планшет на выдвинутом вперед колене.
— Товарищ лейтенант, да что вы с картой мудрите! — сказал вдруг сержант Верхоломов. — Время зря теряете!
Ох как хорошо запомнил Трегубов и этого сержанта, и этот его тон, исполненный небрежного превосходства! На всю жизнь запомнил.
— Мы же каждый раз, на всех учениях, только по этому маршруту и бегаем. Сейчас ров будет, нам надо маленько правей взять — прямиком к разрушенной церкви и выйдем. Командир всегда там конечный пункт устраивает. А с картой вы до завтра возиться будете! Мы так последними явимся…
Ему надо было сразу осадить сержанта, а он промолчал и продолжал внимательно и озабоченно разглядывать карту.
— Да бросьте, товарищ лейтенант, точно говорю. Время же уходит!
Трегубов по-прежнему не поднимал головы, но теперь он уже только делал вид, что рассматривает карту, — на самом деле он уже не мог сосредоточиться, он уже думал совсем о другом — как ответить Верхоломову.
— Послушайте, сержант, — сказал он наконец, — уж не думаете ли вы…
И вдруг он почувствовал, что его слова растворились в пустоте, что он остался один.
Он ощутил это сразу, мгновенно, хотя вокруг, казалось, ничего не изменилось: было по-прежнему темно и тихо.
Он вскочил и окликнул сержанта Верхоломова — никто не отозвался.
Он прислушался — ему почудилось, что чуть правее он уловил шелест шагов. Он бросился туда — никого. Трегубов осторожно посигналил фонариком — никакого отзыва.
«Только этого мне сейчас не хватало — потерять солдат!» Он ощутил, как все внутри у него похолодело от одной этой мысли.
Он кинулся вперед.
Уже громче, все еще не веря в то, что случилось, позвал Верхоломова. Тишина.
Трегубов был новичком в здешних местах и еще не знал коварного свойства степной темноты: стоит лишь немного отстать — и ты затерялся, исчез, растворился, напрасно ты будешь метаться из стороны в сторону, это только запутает тебя вконец.
Какой страшной, какой мучительной была для него эта ночь!
Он торопливо шагал вперед, ориентируясь по карте и компасу, но делал это скорее машинально, чем сознательно. Все его действия теперь утеряли смысл. Бросили его солдаты нарочно или потерялись в темноте случайно — разве это имело сейчас значение? Разве это меняло дело?
Он думал только о своем позоре. Даже мысль о самоубийстве посещала его в ту ночь. Покончить с собой мгновенно казалось ему проще и легче, а главное — достойнее, благороднее, нежели пережить тот стыд, который еще ждал его впереди.
Уже утром, когда поднималось солнце, он вышел наконец к пункту сбора, к той самой разрушенной церкви, о которой говорил Верхоломов. Он вышагивал по дороге один — полководец без войска, начальник без подчиненных, — и оттуда, от церкви, на его одинокую фигуру смотрели начальник штаба, и солдаты его взвода, и его товарищи — лейтенанты. Некуда было ему ни убежать, ни спрятаться от этих взглядов, от этих глаз, и он покорно шел им навстречу, и все медленнее, все труднее становился его шаг, и лучи восходящего солнца играли на его новеньком офицерском планшете… Таким навсегда осталось то утро в его памяти.
Но, наверно, именно потому, что он так мучительно переживал свой тогдашний позор, так страдал от уязвленного самолюбия, эта первая неудача научила его многому. Она заставила его раз и навсегда распроститься с восторженностью, заставила трезво оценить свои возможности.
Его ошибки в ту ночь, говорил себе Трегубов, были просты, элементарны, но, как часто это бывает, именно самые простые вещи и оказываются на деле самыми важными. Он не обратил вовремя внимания, не учел, сбросил со счета настроение солдат — это раз; заколебался, не проявил должной твердости — это два. Неуверенный в себе командир уже не командир — вот чему прежде всего научила его эта ночь.
Прошел месяц. Все это время Трегубов старался держаться в тени, и, может быть, это стремление оставаться незамеченным, незаметным так бы и вошло постепенно у него в привычку, стало бы чертой характера, если бы злополучные ночные события вдруг не обернулись совсем другой стороной.
Случилось это на полковом партийном собрании. Трегубов занял тогда место в среднем ряду, с краю, у окна, чтобы быть подальше от президиума и одновременно не привлекать к себе внимания, как непременно привлекают его те, кто облюбовывает самые последние ряды. Если бы у него была хоть малейшая возможность, он бы вообще не явился на это собрание — он не сомневался, что кто-нибудь обязательно припомнит те несчастные тактические учения, кто-нибудь обязательно назовет его фамилию. А ему и так уже за этот месяц пришлось выслушать немало резких слов…
Но отговорил свое докладчик, сменяли один другого на трибуне офицеры, и постепенно Трегубов успокаивался, — никто не вспоминал о нем, были, оказывается, дела и заботы поважнее. Собрание уже близилось к концу и наиболее нетерпеливые посматривали на часы, когда слово вдруг попросил лейтенант Афонин. Все головы сразу заинтересованно повернулись к нему.
Как выступят, о чем будут говорить свои офицеры, прослужившие здесь уже не год и не два, что волнует командира второй роты, любимый конек которого — рационализаторство, или что занимает старшину-сверхсрочника, заведующего складом, которому вечно и повсюду мерещится непомерное расточительство, — почти все присутствующие на собрании наверняка знали или, по крайней мере, догадывались. А этот молоденький румяный лейтенант был для них еще загадкой, белым пятном на карте — любопытно, что успел он надумать за свои два с небольшим месяца пребывания в полку?..
Афонин заметно волновался — пока шел к трибуне, все одергивал на себе китель и приглаживал волосы, и речь его поначалу была сбивчивой и невнятной, но потом он раскачался, увлекся, забыл о смущении и заговорил горячо и толково.
Как он тогда говорил! Впрочем, может быть, это только казалось Трегубову. И все-таки никогда больше, слушая других ораторов, он уже не испытывал такого волнения, как в те минуты. Теперь, спустя много лет, он уже не мог точно восстановить в памяти выступление Афонина, но смысл его он помнил отлично.
— Мы, молодые офицеры, — говорил Афонин, — не хотим для себя никаких скидок на молодость и неопытность, никаких упрощений, мы не боимся сложностей и трудностей. Но плохо, что на первых же порах нам пришлось столкнуться с формализмом, с шаблоном — лишь бы без лишних хлопот, лишь бы без лишнего риска. Я хочу сказать об организации ночных занятий по ориентированию на незнакомой местности. Какая же она, простите, незнакомая, если солдаты там каждую тропинку знают, если бегают всякий раз почти по одному и тому же маршруту? Куда же годится такое дело? И чего стоят отличные оценки, заработанные таким путем? Да солдаты же смеются потом над нами!
Движение и шепот пробежали по залу.
«Ай, молодец Афонин, — восхищенно и растроганно думал Трегубов, — правильно выдает!»
В этот момент его даже как-то не тронуло, не обеспокоило то, что своим выступлением Афонин заставит всех вспомнить о происшествии на ночных учениях и наверняка привлечет внимание к нему, к Трегубову, к его позорной оплошности. Он только переживал за своего товарища — а вдруг начальство сейчас обрушится на Афонина: мол, без году неделя в полку, а туда же — лезет учить, суется со своей критикой! Тогда Афонину несдобровать… Трегубову даже показалось, что он уже уловил в зале возмущенные возгласы.
Но его опасения оказались напрасными. Выступил командир полка и сразу начал с того, что ему понравилось острое, по-настоящему боевое выступление лейтенанта Афонина. Пусть даже в чем-то, по молодости, по горячности, тот хватил через край, был излишне резок, это ничего. Главное, что его выступление было принципиальным — молодой офицер сразу активно включился в жизнь полка, болеет за полк. Это хорошо. Это мы должны поддерживать.
В тот день Афонин ходил именинником. Возбуждение, азарт удачи, ощущение всеобщего внимания еще не оставили его, и, чтобы скрыть, не показать переполнявшую его радость, он хмурил свои косматые брови.
И после, если речь заходила об Афонине, непременно кто-нибудь говорил: «А, это тот самый лейтенант, который выступал на собрании?» Словно у него, в отличие от остальных молоденьких лейтенантов, которые в глазах полковых офицеров еще были похожи друг на друга, как инкубаторные петушки, появилось свое имя: «Лейтенант, который выступал на собрании».
Вскоре его избрали в партийное бюро батальона, и в округ на совещание молодых офицеров послали его же. «Ты теперь на виду у начальства, — шутили его товарищи, такие же лейтенанты, — быстро в гору пойдешь. Глядишь, скоро с нами и здороваться перестанешь!..» И только Клава, жена Афонина, сказала однажды сердито: «Ну что ты во все вмешиваешься? Вот увидишь — тебе же хуже будет!» Она сказала это в те дни, когда дела у Афонина складывались наилучшим образом, когда ничто еще не предвещало ему нелегкой судьбы…
4
— Боже мой, боже мой, нет, вы только полюбуйтесь на этого человека! — говорила Клава, не говорила, а скорее причитала и одновременно ставила на кухонный стол, за которым сидел Афонин, тарелки, и плетеную хлебницу с булкой, хранившейся в полиэтиленовом мешочке, чтобы не черствела, и сковороду с жареной картошкой, и деревянную солонку с надписью «Привет из Ялты»… — Нет, вы только на него посмотрите! Да тебе не ротным, тебе взводным надо было оставаться всю жизнь… С твоим-то характером! Я представляю, как ты благородство свое сегодня выставлял перед Трегубовым! Ну, отчего ты не рассказал ему все как есть?
— Клава, я же тебе уже объяснял, — стараясь подавить нарастающее раздражение, сказал Афонин. Он без аппетита жевал картошку и не смотрел на жену. — Я не хотел, чтобы он подумал, будто я использую наше старое знакомство.
— Ну, конечно, когда никому не нужно, так тебя не удержать… Тут у тебя язык развязывается… Люди уже смеются — говорят, еще ни одного собрания не было, чтобы Афонин не выступил. Тут тебе больше всех надо! А перед Трегубовым ты и язык проглотил!
Афонин поморщился. Брови его по-прежнему шевелились, и от этого казалось, что он все время мысленно спорит сам с собой: то возражает, то соглашается, то изумляется, то вдруг начинает сердиться…
— Ты никогда меня не слушаешь, — уже мягче заговорила Клава, — а ведь в конце концов права всегда я оказываюсь. Разве нет?
Афонин и верно уже не слушал ее — он наперед знал, что она скажет. И все слова знал, и все интонации — не ждал ничего нового. Как магнитофонная пленка с одной и той же записью.
— Я тебе уже говорил сто раз, — сказал он, силясь придать своему голосу спокойную размеренность. — Не сто, а тысячу. И если хочешь, могу повторить в тысячу первый: я всегда поступал так, как считал нужным. И не жалею об этом.
Лучше было, конечно, промолчать, он знал, что сейчас последует, но вот все-таки не удержался, сказал…
— А до моей жизни тебе, конечно, нет никакого дела! — сразу взвился до плача ее голос. — Я это всегда видела! До жизни нашего ребенка тебе тоже нет дела! Я все, все тебе отдала… А что я получила взамен?!
Немало язвительных фраз вертелось у Афонина на языке, но он устал сегодня, даже не столько устал, сколько был измотан душевно. Ему хотелось одного — поскорее закончить этот бессмысленный, раздражающий разговор.
На этот раз он сдержал себя, ничего не ответил. По-прежнему упорно не поднимал глаз от тарелки, молча дожевывал картошку.
В последнее время он почти не рассказывал Клаве о своих служебных заботах и неприятностях, стараясь избегать таких разговоров, отмалчивался. И все-таки мог ли он скрыть от нее свои дела — конечно же, все ей становилось известно: и как он выступал на собрании, и как отчитал его полковник Коновалов, и что произошло на последних стрельбах, и чем закончились учения… Даже больше: она знала нередко и то, о чем не имел представления сам Афонин, — что говорят о нем, как относятся в городке к тому или иному его поступку, к тем или иным его словам…
И конечно, когда полковник Коновалов устроил ему разнос, все слова, которые довелось выслушать ее мужу, стали известны ей в тот же день. Было это утром, перед совещанием офицерского состава, в понедельник. Как раз накануне два солдата из роты Афонина опоздали из увольнения, еще один вступил в пререкания со старшиной, отказался выполнить приказание — мыть пол в канцелярии. Всем троим Афонин объявил взыскания и, как положено, доложил об этом командиру батальона, а командир батальона — командиру полка. Еще до начала совещания полковник Коновалов подозвал к себе Афонина и сказал:
— Капитан Афонин, опять в вашей роте больше всего нарушений дисциплины. Когда это кончится, я спрашиваю? Почему у других все нормально, а у вас вечно без приключений не обходится?
— Так они же просто не докладывают! — воскликнул Афонин и сам уловил, какая чисто детская обида прозвучала в его голосе. — Они же только сами разберутся, и делу конец!
— А вы, значит, докладываете? — прищуриваясь, спросил Коновалов.
— Так точно! Я, товарищ полковник, за всю свою службу ни одного нарушения ни разу не скрыл. Я всегда докладываю.
И вдруг полковник взорвался:
— Докладываете! Докладываете!.. Да что вы носитесь с этими вашими докладами, как курица с яйцом! Что вы все на других киваете?! Мне не доклады ваши нужны, а дисциплина в роте! Можете вы когда-нибудь это понять, а? Если не умеете справиться с ротой, так прямо и скажите! Ясно?
У полковника Коновалова был громкий, раскатистый, хорошо натренированный голос — голос настоящего строевого командира. Коновалов даже не позаботился понизить его, он почти кричал на Афонина, и все офицеры присутствовали при этой сцене. А сам Афонин стоял растерянный и подавленный. Он и правда всегда искренне гордился тем, что, в отличие от некоторых командиров, ни разу не пытался утаить ни одного нарушения дисциплины в роте. И вот что он получил за это!
Сначала он хотел выступить тут же, на совещании, — в конце концов, если на то пошло, он мог даже назвать кое-кого, кто старался не выносить сор из избы. «Вам нужны факты? — скажет он. — Пожалуйста, вот факты…»
Но внезапно, может быть, в первый раз за всю службу, он ощутил безразличие и нерешительность — ну, выступит он, а что дальше, что от этого изменится?..
Давно уже прошло то время, когда все в зале настораживались и затихали, когда к трибуне шел Афонин. Теперь за ним уже прочно укрепилась слава «штатного оратора», и каждый раз, когда председательствующий объявлял, что слово предоставляется капитану Афонину, в зале возникало чуть уловимое веселье. Да и сам он уже не чувствовал того подъема, того праздничного возбуждения, той отрешенности от всего окружающего, которые охватывали его раньше перед выступлением. Как пишут в романах: «Человек преобразился». Вот именно это с ним тогда и происходило: он преображался. По характеру своему он был застенчивым, даже робким человеком, а тут словно накатывала волна, и поднимала его на своем гребне, и несла к трибуне — ничего в этот момент не видел он и не слышал вокруг. Подобное чувство он испытывал раньше…
Он так и не выступил в тот раз, просидел все совещание молча и тогда же решил подать рапорт о переводе в другую часть.
Клава к этому его решению отнеслась с издевкой:
— Да ты в любом полку, я уверена, за неделю успеешь стать посмешищем! Поздно собрался! Помнишь, я когда еще тебе говорила: просись отсюда! Уедем! Так нет…
Он промолчал. Иногда ему казалось — пойми она его, поддержи хоть словом, и больше ничего ему и не надо было бы. Уж слишком одиноким он себя чувствовал. Со всех сторон его окружали люди, которые не понимали его. Не хотели понять.
А Клава… Что же Клава… Ее волновали свои женские заботы… Он не винил ее. Он видел — ей тоже приходится несладко. А ведь было время, когда они понимали друг друга с полуслова, когда Афонин любил обсуждать с ней каждое событие в роте, когда он не сомневался, что всегда может рассчитывать на ее поддержку и сочувствие… И теперь иногда он думал: да как же это может быть такое, чтобы два самых близких человека и не сумели понять друг друга?.. Казалось, достаточно только найти нужные слова, только объяснить что-то важное, и все опять наладится, все вернется к прежнему.
Как раз в тот вечер, после совещания, после разноса, учиненного ему Коноваловым, они с Клавой долго не разговаривали, долго молчали, занятые каждый своим делом.
Афонин читал воспоминания маршала Рокоссовского, — мемуары всегда были его любимым чтением, они действовали на него успокаивающе, помогали отвлечься и, кроме того, как бы объединяли, сближали с теми знаменитыми людьми, о ком он читал. Он был поглощен книгой, и вдруг Клава, проходя мимо, точно невзначай коснулась его плеча.
— Верно, Леша, давай уедем отсюда… Уедем… — мягко сказала она.
Он вздрогнул и поднял голову: казалось, прежняя Клава была сейчас перед ним, только она умела прикоснуться вот так ласково и словно случайно. Он потянулся к ней, но вдруг уловил на ее лице выражение сострадания и глубокой жалости.
«Как с ребенком разговаривает», — ожесточаясь, подумал он. Он передернул плечами и снова уткнулся в книгу. Так и не состоялось в тот вечер примирение между ними.
Сегодняшняя встреча с майором Трегубовым взволновала, взбудоражила Афонина. И вовсе не потому, что он и сам мог бы оказаться на месте Трегубова, сложись его жизнь удачней, — об этом он сейчас как-то и не думал. Просто у него вдруг затеплилась надежда, что вот наконец-то появился человек, который поймет его, оценит правоту его, не может не оценить…
— Если бы ты побольше меня слушал, если бы не выкидывал свои фокусы, тоже бы сейчас командиром полка был… Чем ты хуже Трегубова? Разве меньше тебя ценили? Если бы не твой характер… — Клава все говорила и говорила, никак не могла остановиться…
5
И еще одна женщина в военном городке произносила в этот вечер почти те же самые слова.
— Не понимаю, — говорила жена майора Воронова, — почему это обязательно надо людей со стороны присылать? Как будто у нас своих офицеров не нашлось бы, достойных и заслуживающих доверия?..
— Это кого же вы имеете в виду, ежели не секрет? — отозвался майор Воронов.
— Я имею в виду своего мужа, — сказала она. — А что, если говорить серьезно, вполне могли назначить и тебя. Чем ты хуже Трегубова?
— К сожалению, командующий забыл посоветоваться с тобой, — сказал Воронов. — В следующий раз обязательно напомни ему об этом. Хорошо?
— Хорошо, — сказала она. Все-таки она понимала шутки. Вернее, знала, что, когда ее муж начинает шутить подобным образом, это скверный признак.
— И довольно об этом. Раз и навсегда, — уже сердясь, сказал Воронов.
6
Майор Трегубов медленно шел из штаба к себе домой, к своему временному пристанищу — в гостиницу. Уже темнело, стоял тот вечерний час, когда оживает казавшийся днем пустынным военный городок: вспыхивает свет в окнах казарм, красновато мерцают огоньки сигарет в солдатских курилках, толпятся раздетые по пояс солдаты возле летних умывальников.
Встречные солдаты, увидев командира полка, подтягивались и переходили на строевой шаг. И каждый раз Трегубову доставляла неизменное удовольствие эта их подчеркнутая молодцеватость, это их стремление во что бы то ни стало показать, что их родной полк никак не может быть хуже, чем тот, откуда прибыл новый командир.
Майор Трегубов перебирал события последних двух дней, и мысли его все время возвращались к Афонину. Встреча с Афониным оставила тяжелый осадок. Трегубов чувствовал себя сейчас так, как, наверно, чувствует себя человек, приглашенный в гости к милым, добрым хозяевам и вдруг неожиданно обнаруживший, что в доме у них, где-нибудь в чулане, ютится бедный родственник, чудаковатый и несчастный, с которым обходятся грубо, которого стыдятся и не приглашают к столу.
Чего стоило внешнее благополучие полка, все эти аккуратные дорожки и клумбы, если за этим благополучием скрывались истории, подобные истории с Афониным?.. Хотя Трегубов никогда не любил торопиться с выводами, суть дела сейчас представлялась ему довольно ясной. Он не сомневался в честности Афонина, он не сомневался и в том, что Афонин пострадал из-за своего характера. Конечно, критика, да еще с перехлестами, кому придется по душе? Трегубов по себе знал, как трудно бывает порой сдержаться, когда упрек, брошенный в твой адрес, кажется несправедливым, преувеличенным, как трудно бывает погасить обиду, остыть и обсудить все спокойно, взглянув на себя со стороны… А тут, видно, нашлись люди, которые ничего не хотели прощать Афонину…
И все-таки довести человека до такого состояния… Было вчера в Афонине что-то такое, что отталкивало и одновременно вызывало жалость. А уж если командир вызывает жалость, это никуда не годится. Но ведь не сам же он стал таким…
Слева от казармы, из солдатской курилки, доносились взрывы хохота.
Трегубов свернул с аллеи. Он хотел подойти незаметно, чтобы не смущать солдат, но его сразу заметили, знакомый голос скомандовал:
— Встать! Смирно!
Только теперь Трегубов разглядел, что здесь же, среди солдат, был комбат-два майор Воронов.
— Сидите, сидите, — сказал Трегубов. — А я слышу: что-то у вас здесь больно весело. Даже завидно стало. Никак не пройти мимо.
— А вы посидите с нами, товарищ майор, послушайте. Нам тут один военный свои приключения рассказывает. Как он реку форсировал. Да что ж ты, Корытин, засмущался? Ты рассказывай, рассказывай… Ну, значит, вода в танк захлестнула, а ты что же — «Караул! Тонем!» закричал?
— Да никак нет, товарищ майор… Ничего я не кричал.
— Ах, значит, молча решил тикать из машины? Втихаря, как говорится. А тебя за ноги-то кто схватил?
Солдаты хохотали, уже не стесняясь Трегубова. Видно, речь шла о какой-то хорошо известной солдатам забавной истории, которая с каждым пересказом приобретала все новые подробности, делалась все веселей. И сам Корытин, здоровый круглолицый парень, сначала сердито косился в сторону, а потом вдруг не выдержал и тоже заулыбался.
— Это, товарищ майор, ефрейтор Шпунт его за ноги схватил! — сказал кудрявый подвижной солдат, которому, видно, давно уже не терпелось вставить свое слово. — Схватил — а штаны-то у него мокрые!
— Это меня водой облило! — обиженно отозвался Корытин.
Хохот заглушил его слова.
— А разве я что говорю? — удивился кудрявый солдат. — Я и говорю — водой.
Трегубов с улыбкой смотрел на солдат, и его вчерашнее утреннее воодушевление возвращалось к нему. Они хохотали столь радостно, столь самозабвенно, пожалуй, вовсе не оттого, что история, приключившаяся с этим Корытиным, была такой уж невероятно смешной, а скорее просто от избытка энергии, от ощущения собственной силы и молодости.
— Ну, смех смехом, — сказал майор Воронов, — а выходит, есть у нас еще отдельные военные, у которых сильно развито чувство водобоязни. Чуть волна посильнее, у них уже нервишки сдают. Забывают эти товарищи, что плавающие танки делали люди не глупее нас с вами. Поняли, Корытин, для кого я это говорю?
— Так точно, товарищ майор, понял…
Майор Трегубов поднялся, и Воронов встал вместе с ним.
Некоторое время они шли молча, потом Воронов сказал, словно оправдываясь:
— Полезно иногда вот так посидеть в солдатской курилке. Меня, знаете, и супруга моя за это пилит — мало, говорит, тебе штаба, мало казармы, нет чтобы домой прийти пораньше… Да и из офицеров кое-кто считает, что все это — сплошное панибратство, балагурство какое-то, подрыв авторитета… А я вот, честное слово, верю, что один такой разговор иной раз сильнее впечатление производит, чем все наши нотации и поучения. Ведь иной солдат на гауптвахту идет — гоголем смотрит, разные там взыскания ему как с гуся вода, еще и похваляется потом перед молодыми, сколько он на «губе» отсидел… А вот смешным показаться боится! Смешным в глазах своих же товарищей показаться — это для него страшнее колесования, четвертования или чего там еще!..
— Да, это верно, — сказал Трегубов, — это очень верно…
Ему все больше по душе становился этот комбат — они шли рядом, чуть касаясь друг друга плечами, оба одинакового роста, и давно забытое ощущение вдруг шевельнулось в душе Трегубова: вспомнилось, как идут они рядом с двоюродным братом, оба загорелые, оба широкоплечие, сильные, в белых теннисках, идут молча, только изредка поглядывают друг на друга — и никаких слов не нужно, никаких разглагольствований, все и так ясно — локоть к локтю, плечо к плечу, они едины. Никогда больше это ощущение р о д с т в е н н о с т и не испытывал Трегубов так остро, как тогда, в юности.
Оба они — и Трегубов, и Воронов — еще только приглядывались, примеривались друг к другу, однако Трегубов уже твердо знал, что с этим комбатом они поладят, не могут не поладить. Но, идя сейчас рядом с Вороновым, думая о нем, майор Трегубов не переставал в то же время подсознательно думать и об Афонине, и теперь неожиданная мысль пришла ему в голову: «А что, если Афонина перевести к Воронову? Что, если попробовать такой вариант?»
— Федор Степанович, — сказал он, — капитан Афонин ведь не в вашем батальоне?
— Афонин? Не в моем. Бог избавил.
Трегубов быстро взглянул на Воронова:
— Это почему же — «бог избавил»?
— А потому, что намучаешься с ним. Все мы живые люди, а он своей принципиальностью хоть кого до инфаркта доведет…
— Да? — сказал Трегубов. — А я до сих пор, знаете, как-то предполагал, что принципиальность — штука неплохая…
— Принципиальность, товарищ майор, тоже разная бывает. Не знаю, может, я и не вполне объективен. У нас с Афониным, как говорится в таких случаях, старые счеты, мы с ним ведь вроде как соперники были… Он считает, что я ему в свое время дорогу перешел…
— Ах вот в чем дело… — сказал Трегубов.
Да, кажется, он поторопился, напрасно понадеялся на слишком простое и легкое решение.
Больше об Афонине он не заговаривал. Они поговорили еще немного о предстоящих стрельбах и у гостиницы распрощались.
7
Прошло три дня, а Трегубову все не удавалось заняться делом Афонина.
Полк готовился к стрельбам и к зачетам по ночному вождению танков, одновременно часть машин ставили на консервацию, солдаты и офицеры с утра до вечера пропадали в танковых боксах, и на Трегубова сразу навалилось немало забот. Два раза его вызывали на совещания в дивизию, но все это время мысль об Афонине не давала ему покоя, как больной зуб.
Впрочем, за эти дни ему довелось еще раз встретиться с Афониным.
Трегубов вместе со своим заместителем заезжал в ремонтную мастерскую и потом прошел пешком через танковый парк. Ворота большинства боксов были широко распахнуты — оттуда доносились звонкие удары кувалд, грохотали прогреваемые моторы машин.
Здесь-то, в одном из боксов, Трегубов и увидел Афонина. Трегубов даже не сразу узнал его. В черном промасленном комбинезоне, худой, перепачканный соляркой, тот ничем не выделялся среди солдат-танкистов. Он высунулся из люка танка с пучком промасленной ветоши в руке, щурился на свету и осматривался по сторонам, ища кого-то взглядом и еще не замечая Трегубова. И тут работавший рядом солдат что-то тихо сказал ему и кивнул в сторону Трегубова.
Афонин, упершись в броню, быстро подтянулся на руках, выбираясь из люка, но Трегубов махнул рукой: «Продолжайте, продолжайте».
Трегубов стоял в стороне, наблюдая за работой. Привычный едкий запах выхлопных газов мешался с запахом солярки и металла. И вся обстановка здесь, и чумазые солдаты, чьи ладони были черны и мозолисты, похожие скорее на механизаторов, трактористов или слесарей-ремонтников, чем на военных, и атмосфера общей озабоченности, сосредоточенности, при которой словно бы уже не имела никакого значения воинская субординация, — невольно создавали впечатление, будто эти люди заняты мирными хозяйскими заботами, будто готовятся они к пахоте или уборочной.
И капитан Афонин был захвачен, поглощен работой. Он переходил от танка к танку, он во все вмешивался сам, казалось, люди даже мешали ему. Словно ему было жаль уступать, доверять эту работу кому-то еще, и он старался как можно больше сделать сам, своими руками. А может быть, на него все-таки действовало сейчас присутствие командира полка…
— Постой-ка, постой, кто же так с рацией обращается? — слышал Трегубов его голос. — Это же тебе не кувалдой по тракам колотить! Ну-ка, вот так, теперь смотри сюда.
И сейчас в этом человеке Трегубов узнавал прежнего, молодого Афонина.
Эта ревность, это беспокойное ощущение, что другие сделают хуже, чем можешь сделать ты, были когда-то хорошо знакомы и самому Трегубову. И хотя теперь он давно уже знал, что, как бы ни было важно для командира уметь подать пример, уметь поработать самому, еще важнее — суметь правильно распорядиться, правильно построить работу подчиненных. Хотя понимал все это Трегубов, все-таки сейчас он позавидовал Афонину.
Ему самому вдруг неудержимо захотелось надеть комбинезон и хорошенько повозиться возле танков, как бывало прежде. Если бы не предстоящее совещание в штабе, он бы, пожалуй, поддался этому искушению.
Но его уже ждали. Он решительно повернулся и пошел прочь.
На следующий день, в субботу, Трегубов выбрал наконец свободный час и попросил принести ему рапорт Афонина. Рапорт был краток и ничего не добавил к тому, что рассказал ему сам Афонин.
«В течение ряда последних лет, — писал Афонин, — я неоднократно указывал на недостатки, имеющие место в боевой подготовке нашего полка, на неправильности, допущенные при определении лучших подразделений. Как офицер я не мог оставаться равнодушным, когда сталкивался с отрицательными явлениями в нашей работе. Однако мои критические замечания не только не были приняты во внимание, но и были расценены совершенно неверно. В результате вокруг меня создалась ненормальная обстановка, взаимоотношения со многими офицерами испортились, что очень мешает добросовестному выполнению моих служебных обязанностей. Поэтому убедительно прошу ходатайствовать о моем переводе в другую часть».
Прочитав рапорт, Трегубов несколько минут сидел в задумчивости. Он так и предполагал: история была давняя, затяжная. Ему вовсе не хотелось начинать свою деятельность в полку с разбора этого дела. И в то же время после первой встречи с Афониным он никак не мог отделаться от впечатления, что человек довел себя уже до крайности и, если не помочь ему немедленно, еще неизвестно, что может случиться.
Нехорошо, конечно, что Афонин — его знакомый, товарищ по училищу, сразу пойдут слухи: мол, не успел новый командир приехать, как уже принялся выгораживать своих друзей… Но леший с ними, со слухами. Трегубов давно уже приучил себя не обращать внимания на то, что говорится за его спиной. В конце концов, речь сейчас шла о восстановлении справедливости.
Впрочем, он никогда не торопился принимать решения — посмотреть на Трегубова со стороны, так и вообще он мог показаться человеком медлительным, колеблющимся, на самом же деле он всегда стремился понять и взвесить противоположные точки зрения, чтобы потом уже — когда наступит пора — действовать быстро и решительно. И если тогда, вечером, под впечатлением минутного настроения он заговорил об Афонине с майором Вороновым, понадеявшись вдруг сразу найти решение проблемы, то до сих пор не мог простить себе этой торопливости, этой, пусть ничтожной, оплошности.
Он вызвал к себе начальника штаба.
— Петр Николаевич, что вы думаете о капитане Афонине?
Щербинин ответил уклончиво:
— Да вы посудите сами, Владимир Сергеевич: у кого больше всего нарушений в роте?.. У Афонина. А вечно других критикует…
— Ну-ну, Петр Николаевич, — с добродушной интонацией сказал Трегубов, — так мы с вами и в зажимщики критики легко можем угодить…
— Не знаю, не знаю, Владимир Сергеевич, пусть я даже в чем-то ошибаюсь, но одно скажу вам точно: Афонин считает себя несправедливо обойденным, а когда человек так настроен, с ним тяжело работать.
Да, кажется, Афонин всех успел восстановить против себя. Конечно, Трегубов отлично понимал, что теперешний Афонин, т а к о й Афонин, возможно, и у него не мог бы вызвать иных чувств — только раздражение и неприязнь. Но, черт побери, кто же был виновен в том, что он стал таким! И должен же найтись кто-то, кто понимает это!
— Хорошо, — сказал Трегубов. — Ваша точка зрения мне ясна. Спасибо.
Теперь секретарь парткома. Интересно, что он скажет.
— Андрей Андреевич, вам знаком этот рапорт?
— Афонина? Да, знаком, знаком… как же…
Подполковник Андрей Андреевич Андреев, или «А в кубе», как называли его между собой офицеры, — человек веселый и шумливый. Голос у него гулкий, говорит он громко, и кажется, даже все предметы от соприкосновения с этим человеком начинают производить необычный грохот: гремят стулья, которые он задевает на ходу, громче обычного хлопают двери, надсадно скрипят под его сапогами половицы.
И сейчас, прежде чем заговорить об Афонине, он мощно вздыхает.
— Трудный это человек, Владимир Сергеевич, тяжелый характер… Мы не раз с ним беседовали, не раз пробовали повлиять.
— Погодите, погодите… — неожиданно чувствуя, как в нем начинает закипать раздражение, сказал Трегубов. — Насколько я знаю, Афонин критиковал недостатки, которые, как он считает, есть в полку. Так почему же после этого на него нужно как-то «влиять»? По-моему, вопрос может стоять только так: либо Афонин говорит дело, и тогда его нужно поддерживать, либо Афонин искажает факты, занимается демагогией, и тогда его нужно призвать к партийной ответственности. Разве не так?
— В том-то и загвоздка, Владимир Сергеевич, что все обстоит сложнее. Это, простите меня, со стороны взглянуть — вроде бы ясность полная, а как самому судить приходится… Да вот возьмите хотя бы последнюю историю — с досками. Позарез нужно было отремонтировать учебные классы. А досок нет. Обещают. Но не дают. Нет досок. Дефицит. — Улыбка вдруг поползла по его полному лицу, было видно, как пытается он устоять, не засмеяться, но ничего не вышло — расхохотался.
Трегубов удивленно поднял брови.
— Простите, отвлекся, — сказал Андреев. — Вспомнил, знаете, Райкина, на днях по телевизору смотрел. Помните, как он это слово — «дефицит» — произносит? Комик, ну комик!
Трегубов улыбнулся довольно сдержанно — скорее из вежливости, чтобы не переходить на слишком уж официальный тон. Но сам он не выносил подобной, как он считал, неряшливости мысли, случайных перескоков с одного на другое.
— Так вот. Нет досок. Обещаниями сыт не будешь. Тогда майор Воронов договаривается с начальством на местной мебельной фабрике, там у них нужда в механиках крайняя, посылает туда двух своих солдат-механиков — каждый день в течение месяца. Через месяц получает доски. Нарушение? Да, нарушение. Зато классы отремонтированы. И солдаты занимаются в нормальных условиях, и начальство нас хвалит. Не за то, конечно, хвалит, что этих двух солдат мы от настоящего их дела отрывали, а за то, что выход нашли, классы теперь такие — любой позавидует. А теперь я жду, что капитан Афонин об этом факте в газету напишет. Или, может быть, уже написал. Потому что он так бы не поступил, и ведь прав он по-своему, прав, ничего не скажешь… Ну, а что с майором Вороновым прикажете делать? Наказывать? Рука не поднимается. Да и за что? Вот и получается, как в той сказке про мудреца, помните? Поспорили два человека и пришли к мудрецу — рассуди, мол, кто из нас прав. Выслушал мудрец одного и говорит: «Ты прав, сын мой». Выслушал второго: «И ты прав, сын мой». Тут вмешался прохожий: «Но так ведь не может быть!» — «И ты прав, сын мой», — спокойно сказал мудрец. Эх, Владимир Сергеевич, если бы все только по наставлениям и инструкциям делалось, у нас бы с вами и забот бы не было. А жизнь, она иной раз такую головоломку загадает…
— И все-таки вы меня не убедили, — сказал Трегубов. — Ну пусть выступит Афонин насчет этих досок, коли они ему покоя не дают, пусть даже в газету напишет — за что же его винить?
— Не знаю, может быть, мои рассуждения и правда кажутся странными, но надо, наверно, пожить рядом с этим человеком хотя бы полгода, чтобы понять…
— А может быть, — перебил его Трегубов, — может быть, как раз лучше будет, если взглянуть на эту историю свежим глазом, без предубеждения?
Ему хотелось большей определенности от секретаря парткома. Трегубова начинало сердить, что дело Афонина, которое поначалу казалось таким очевидным, не только не проясняется, а наоборот, усложняется и запутывается еще больше. Так вот не раз бывало на экзаменах — задачка, которая выглядела на первый взгляд самой простенькой — и делать-то нечего, — всегда в результате оказывалась наиболее твердым орешком.
— Вы считаете — мы необъективны? — сказал Андреев.
Каждый раз, когда заходил разговор об Афонине, непременно всплывало это слово. Трегубов помнил, с каким нажимом произносил это слово сам Афонин. Казалось, все вертелось вокруг этого слова.
— Я пока не знаю, — сказал Трегубов. — Я пробую разобраться.
— Тогда, я думаю, начинать надо с самого начала, — сказал Андреев. — Хотите знать, как это началось?.. Я ведь тогда уже служил в этом полку, замполитом батальона; правда, Афонин был не в моем батальоне, но все равно вся эта история начиналась, можно сказать, на моих глазах. Вся их компания жила тогда вместе, в одном домике: в одной комнате Афонин с женой, в другой — четверо холостых лейтенантов…
— Я помню эту комнату, — сказал Трегубов. — Вы-то меня уже не застали в полку. А ведь я тоже жил в этой комнате целый год.
Хорошее это было время. Они жили тогда с той радостной беззаботностью, которая свойственна только очень молодым людям, не успевшим еще завести ни семьи, ни личной собственности. У них все вещи были общими. Они не говорили тогда: «Не можешь ли ты мне до получки одолжить пять рублей?» Они говорили: «Ребята, у кого есть пятерка? Позарез нужна». И не выложить в таких случаях на стол деньги, даже если они были последние — никому и в голову не приходило. И никто не обижался, если вдруг вечером не обнаруживал в шкафу своего выходного гражданского костюма, — это просто-напросто значило, что кому-то из твоих товарищей он понадобился больше, а главное, раньше, чем тебе. Со временем они начали ощущать неудобства и существенные минусы такого образа жизни, но по-прежнему никто из них не заговаривал об этом вслух, никто не мыслил себе их общую жизнь иначе.
Когда выдавалось свободное воскресенье, если была хорошая погода, они все вместе отправлялись на рыбалку, а если с погодой не везло, играли в шахматы, домино или преферанс — смотря по тому, какое очередное увлечение владело ими. Афонин в те времена тоже частенько захаживал к ним, правда в преферанс он не играл, а только молча наблюдал за тонкостями этой игры. В 23.00 обычно появлялась Клава и уводила его домой. Но главная, настоящая их жизнь все же проходила не здесь, не в комнате общежития, — может быть, потому и были они так беспечны и даже безалаберны во всем, что касалось их домашнего существования, — главная их жизнь протекала возле с в о и х танков. Какое это было прекрасное чувство — знать, что эти огромные машины подчиняются тебе, что они знакомы тебе до последнего винтика, — даже самая тяжелая, грязная работа не казалась им тогда в тягость. И даже вернувшись уже домой, сбросив с себя пропахшие соляркой и бензином комбинезоны, едва отмыв горячей водой с мылом руки и лица, они все еще продолжали говорить о своих танках, спорили порой очень жестоко, до хрипоты, до ссоры, не щадя чужого самолюбия, об особенностях той или иной машины или сравнивали их с зарубежными моделями, со всеми этими «леопардами» и «шерманами»… Вообще техника — шла ли речь о танках или о мотоциклах, об устройстве радиолокатора или об автомобилях будущего — техника была постоянной темой их разговоров. Да, славное то было время…
— Ну, я слушаю, — сказал Трегубов.
— Что ж, если вы жили в этой комнате, вы не хуже меня знаете, какая там была жизнь… И возможно, кое-кого из тогдашних жильцов даже помните?
Ну конечно, как же он мог не помнить! По крайней мере двух своих соседей по комнате он помнил отлично. Как-никак, а рядом с ними он провел свой первый год службы — это не забывается. Один из них — лейтенант Белокуров — был чрезмерно увлекающийся, торопливый и безалаберный от своей вечной торопливости человек. Даже годы курсантской жизни не приучили его к порядку и аккуратности. Он считал, например, что тратить время на тщательную заправку койки — это бессмысленно и глупо, лучше лишние пять минут повертеться на турнике, и в результате его койка нередко оставалась незаправленной, придавая всей их комнате атмосферу временности и неустроенности. Готовясь к зачетам, он увлекался, натаскивал горы книг, читал то, что было вовсе не обязательно знать, зато не успевал добраться до тех страниц, которые были необходимы. Вещи его вечно валялись где попало. Раздеваясь, он швырял рубашку на один стул, брюки — на другой, перед сном непременно включал радио, но засыпал моментально — репродуктор напрасно гремел у него над ухом. Трегубов помнил, как однажды они всей комнатой решили проучить Белокурова. Вообще, чудили они тогда здорово, в их компании превыше всего ценился хороший розыгрыш, розыгрыш высокого класса, — пожалуй, только умение одержать верх в техническом споре ставилось выше. Как только Белокуров уснул, его соседи принялись за дело. И вот утром, когда Белокуров открыл глаза, он первым делом увидел свои брюки, аккуратно распятые на потолке. Они как бы парили над его койкой. Он ничего не понял. Как они могли очутиться там? Он закрыл глаза и открыл снова. Наверно, он думал, что ему спросонья мерещатся чудеса. Потом сел на кровати. И тут со всех сторон раздался хохот. Брюки были прибиты к потолку тонкими гвоздиками. «Ах, черти, — сказал Белокуров с восхищением, — что придумали!»
«Чепуха какая-то лезет в голову, — усмехнулся Трегубов. — Вроде о серьезных вещах говорим, а тут — брюки, гвоздики, черт те что!»
Вторым, кого хорошо помнил Трегубов, был лейтенант Ибрагим-заде, маленький черный человечек с могучим басом. Этим своим великолепным басом он возвещал по утрам подъем. Еще в училище Ибрагим-заде попал в аварию, о которой с неизменным наслаждением рассказывал всем, кто только изъявлял желание его слушать. Тогда бронированная машина — «бээрдээмка» — сорвалась с откоса. «Понимаешь, — говорил Ибрагим-заде, — там две дороги — верхняя и нижняя. Мы по верхней ехали. И загремели вниз. Машина несколько раз перевернулась и — что ты думаешь! — встала на нижнюю дорогу. Кто со стороны смотрел, думал — все, крышка нам. А мы включили мотор и поехали…» Что все было не так просто, свидетельствовал шрам на его лице, тянувшийся от виска к уху. По вечерам, тщательно выбрившись — а брился он обычно два раза в день, это тоже было его отличительной особенностью, — Ибрагим-заде отправлялся в Дом офицеров на танцы и потом любил порассказать о своих победах. Существовали эти победы на самом деле или только в воображении Ибрагима-заде — это для Трегубова так и осталось загадкой… И вообще, кажется, уже вечность прошла с тех пор, даже забавно вспоминать…
— Ну, конечно, Афонин был в те времена вхож к этим ребятам из холостяцкого общежития, — продолжал рассказывать Андреев. — Каждый день он бывал у них, вся их жизнь проходила у него на глазах, все он знал: и хорошее, и плохое. И вот однажды он все это выложил на полковом партийном собрании. Прямо так и начал: «Мне нелегко сегодня выступать, потому что те, о ком я буду говорить — мои товарищи. Но молчать я тоже не могу…» И как стал выдавать! Больше всего досталось Белокурову — и к занятиям он готовится спустя рукава, и к порядку не приучен, и в карты играет, вместо того чтобы… И так далее, все в том же духе. Мол, мы все, молодые лейтенанты, еще недостаточно принципиальны, недостаточно требовательны друг к другу. Ну, конечно, и Ибрагима-заде не забыл, припомнил ему его любовные похождения. О каждом нашлось что сказать. Он же все о них знал. Смотрел я тогда на Афонина — ему ведь и правда каждое слово с трудом давалось, ведь не обманывал он, не преувеличивал: на самом деле страдал и мучился оттого, что приходилось ему так говорить о товарищах, о своих друзьях. А уверил себя, что д о л ж е н, что не может иначе. Ну, для лейтенантов выступление его было как гром с ясного неба, как обухом по голове. Знаете, есть такое выражение: «Ради красного словца не пожалеет родного отца»? Так вот Афонин — он ради принципа ни друга, ни близкого человека не пощадит. Тогда-то, на том собрании, он, по-моему, первый шаг и сделал к тому человеку, каким он теперь стал. Вот тогда-то, наверно, и надо было вмешаться. Но тогда все казалось довольно просто: обычная история, выступил человек с принципиальной критикой, а на него обиделись. И если ругали, так опять тех же лейтенантов. А Афонина, его принципиальность — в пример ставили. А то, что он поступил с обычной, человеческой точки зрения неблагородно, об этом как-то не думали. Главное, что принципиально. Мы, знаете, часто говорим, что наша мораль — самая человечная, а порой вот этого слова «человечность» еще побаиваемся. Правда, потом Афонин оправдывал себя, что, мол, он и раньше говорил обо всем лейтенантам, но ведь вы понимаете — одно дело сказать как бы между прочим: братцы, вы, мол, много времени попусту тратите, а совсем другое — с трибуны всю подноготную выложить. Почему же непременно с трибуны? И почему перед большим собранием? Они же — друзья твои, неужели ты другого способа поговорить с ними, повлиять на них не нашел?.. Впрочем, может быть, есть такой сорт людей, которые выступить против своего друга, да непременно с трибуны, на собрании, чуть ли не высшей доблестью почитают… Вот потому-то тогда получилась такая ситуация: с одной стороны, начальство еще поддерживало Афонина, и ротным его вскоре назначили, так что некоторые люди даже утверждали, что он речь свою с дальним прицелом, не без корысти произносил, — но это, конечно, не так было. В том-то и дело, что он от чистого сердца выступал. Карьерист, он всегда нос по ветру держит, чуть что — и уже в другую сторону смотрит, а Афонин нет, не такой… Так вот я и говорю: начальство его поддерживало, а с товарищами отношения у него испортились, да и все молодые офицеры на него косились, — любой из них ведь на месте этих трех лейтенантов мог оказаться… Да и солдаты, знаете, народ чуткий, от них ничего не скроешь, — они тоже не испытывали особого расположения к своему командиру… Теперь-то, издали, я так ясно вижу, что этот момент в жизни Афонина, может быть, самым важным, переломным был, а тогда не обратили внимания, не заметили, не придали значения… Прохлопали, одним словом… По службе Афонин еще в гору шел, а служить уже все-таки тяжело ему стало. Как бы утерял он точку опоры… Уверенности у него не стало, нервничать начал…
Майор Трегубов задумчиво барабанил пальцами по столу. Что ж, он тоже мог оказаться в числе тех лейтенантов. Интересно, что бы сказал тогда Афонин о нем? И как бы он сам отнесся тогда к выступлению Афонина? Обиделся бы? Возмутился? Или заставил бы себя сдержаться?
8
Ночью капитан Афонин проснулся. Осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену, оделся.
Последнее время его все чаще мучила бессонница. Он лежал, думал о себе, о своей несложившейся жизни и не мог заснуть.
Сколько ни ломал он голову, он был не в силах понять: почему так получилось? Раньше, когда он был моложе, когда видел, как то один, то другой его сверстник обгоняет его, поднимаясь вверх по служебной лестнице, он все надеялся, все ждал, что вот-вот что-то должно случиться — спохватится ли высшее начальство, или приедет корреспондент из «Красной Звезды», или просто-напросто сменится командир полка — короче говоря, вспомнят о нем, об Афонине, и справедливость будет восстановлена. Он не был честолюбив, но сознавал, что в армии, как, может быть, нигде больше, продвижение по службе, повышение в звании означает признание твоих способностей и заслуг. И он верил, что его командирские способности рано или поздно будут оценены. Тогда еще он не чувствовал, как быстро бежит время. Это только теперь он ощутил, что время уходит, как вода сквозь пальцы, — незаметно и стремительно.
Капитан Афонин вышел из дома. Стояла лунная ночь, тихая и теплая. Резкие тени от кустов пересекали дорожку. Издалека, с танкодрома, доносился гул моторов — это второй батальон занимался ночным вождением танков.
Капитан Афонин медленно шел по военному городку. В такие минуты он чувствовал себя хозяином полка. Ничто не ускользало от его глаза. Однажды он заметил, что часовой у магазина сидит на ступеньках, и тут же дал знать об этом нарушении дежурному по части, в другой раз столкнулся с солдатом, опоздавшим из увольнения, — на другой день и об этом было доложено командиру.
Афонин любил неожиданно появляться в своей казарме. Он знал, что за эти ночные вторжения солдаты прозвали его «лунатиком», знал и то, что его ночные прогулки обычно вызывают лишь раздражение у дежурных по части, ибо им невольно начинало казаться, что он, Афонин, кем-то уполномочен проверять службу суточного наряда. Многим было непонятно это его рвение. Выслужиться он хотел, что ли? Так ведь все равно не получалось. Или, уличив кого-то в нерадивости, хоть таким образом пытался он рассчитаться за свои собственные неудачи? Впрочем, сам Афонин давно уже привык не обращать внимания на все эти толки.
Сейчас он старался ступать тихо, чтобы дневальные в казарме раньше времени не расслышали его шагов. Последние дни Афонина не оставляло беспокойство: ему все казалось, что дневальные халатно несут свою службу. И не проверь он их, не появись вовремя — бог знает что может случиться…
Но в этот раз все было в порядке. Дежурный по роте сержант Горохов доложил как положено: «Никаких происшествий не случилось». Капитан Афонин прошел вдоль коек, на которых спали солдаты, проверил, все ли на месте, заглянул в канцелярию, в умывальник. Дежурный шел за ним.
— Да что вы все беспокоитесь, товарищ капитан, — то ли с участием, то ли с насмешкой сказал он, — спали бы лучше.
Афонин ничего не ответил. Он давно уже догадывался, что солдаты недолюбливают его, и незаметно даже успел привыкнуть к этому. Оказывается, ко всему можно привыкнуть. А вот понять труднее. Он всегда хотел только одного — быть справедливым. Он был требователен, может быть даже придирчив, но — справедлив. Разве кто-нибудь мог сказать, что это не так? И разве все то, что он делает, что он требует от солдат, не требует от него, в свою очередь, устав? Разве устав не обязывает его, командира роты, не проходить мимо нарушений дисциплины и уставного порядка, как бы ничтожны ни были эти нарушения? Каждый должен получить то, что заслуживает, — таков был принцип капитана Афонина. Еще в те времена, когда он был курсантом, он терял покой, если командир взвода, объявив кому-нибудь наряд вне очереди, забывал или, может быть, намеренно не считал нужным вспоминать об этом — Афонина так и подмывало напомнить. Он едва сдерживал себя. Жажда абсолютной справедливости томила его.
Иной раз он сравнивал себя с майором Вороновым — он прикидывал и так и этак, он не делал себе скидок, он нарочно отыскивал свои слабые места — и все равно сравнение всегда выходило в его пользу. И опять для него оставалось загадкой, почему майора Воронова солдаты любят больше, чем его, Афонина. Майор был неровен, он, казалось, вовсе и не заботился о том, чтобы сдерживать вспышки своего гнева, и несладко приходилось провинившемуся солдату, если он попадал под горячую руку своему командиру батальона. В других же случаях, при другом настроении майор, казалось Афонину, бывал мягок и порой прощал солдатам такие проступки, которые прощать, по мнению Афонина, никак не следовало. Может быть, это и подкупало солдат? Но достойно ли было завоевывать солдатское расположение такой ценой?
Капитан Афонин вышел на крыльцо казармы. Дежурный по роте сержант Горохов вышел вслед за ним, и теперь они оба стояли молча.
…В прошлом году к сержанту Горохову приезжала мать. Капитан Афонин сидел с ней в ротной канцелярии, разговаривал. Она все старалась свернуть разговор на военную тему, показать старалась, что понимает армейскую жизнь, что и сама была причастна к этой жизни.
«Теперь, я смотрю, куда легче, чем было в наше время…» — говорила она. На ее жакете, уже не новом, но чистом и тщательно отглаженном, капитан разглядел две ленточки — медаль «За оборону Ленинграда» и «За победу над фашистской Германией». Потом она заговорила о сыне.
«Я все боялась, что ему тяжело будет служить, у него ведь еще в детстве осложнение было на горло — дышать ему тяжело. Но ничего, вроде не жалуется. Он у меня очень заботливый парнишка, недавно в письме цветок засушенный прислал — посмотри, пишет, мама, какие цветы у нас тут в гарнизоне цветут…»
Капитан Афонин слушал ее сбивчивую, торопливую речь и думал: «Если бы ее сын, если бы солдаты были так же откровенны со мной, как эта женщина… Что им мешает?..»
Теперь капитану Афонину вдруг особенно остро захотелось поговорить с этим сержантом, который сейчас стоял рядом с ним.
Тишина, ночь, казалось, все располагало к откровенному разговору. Или просто встреча с Трегубовым разбередила его душу?
Афонин почувствовал, что волнуется, — может быть, именно такого разговора ему и не хватало, чтобы стало понятным многое из того, что не давало ему покоя последнее время. Но он не мог найти первых слов. Не спрашивать же сержанта, что он думает о нем, об Афонине. Или о майоре Воронове. Уже сердясь на самого себя, он ждал: возможно, сержант заговорит первым. Но тот тоже молчал.
Горохов уже третий год служил в его роте, осенью его ждет увольнение в запас — с каким чувством он будет расставаться с ротой, со своим командиром?
Странное все-таки это ощущение — стоять рядом с человеком и понимать, что у тебя нет возможности узнать, о чем он сейчас думает; смириться с тем, что его сокровенные мысли так и останутся для тебя тайной…
Сержант чиркнул спичкой, закурил — огонек сигареты осветил его скуластое, круглое лицо.
— Почему курите в присутствии командира? — сухо сказал Афонин. — Надо спрашивать разрешение.
— Виноват, товарищ капитан, исправлюсь, — отозвался сержант, и опять в его голосе послышалась Афонину едва уловимая насмешка. Сигарету сержант не погасил, только спрятал в кулак.
Афонин спустился с крыльца и пошел прочь от казармы.
Он шел, задумавшись, и вздрогнул, когда за своей спиной услышал шум машины. Он обернулся и хотел отступить в сторону, но в следующий момент резкий свет фар ослепил его. Шаркнув шинами, возле него затормозил «газик».
Афонин еще щурился от яркого света, еще не мог разобрать, кто сидит в машине, когда услышал голос Трегубова:
— Ты что это, Афонин, по ночам разгуливаешь, как лунатик?
Афонину показалось, что кто-то хмыкнул в машине рядом с Трегубовым, — только сейчас он разглядел, что там сидит командир второго батальона майор Воронов. Лицо у него было серьезное, без тени улыбки.
— Да так… — замялся Афонин. — Порядок в роте проверял…
Он чувствовал себя неловко, смущенно, словно его застали за каким-то недозволенным занятием.
— Ну-ну, если порядок — это хорошо, — весело сказал Трегубов, — а то я думал: может, жена уже домой не пускает, — добродушно пошутил он, но Афонину и в этой шутке почудился какой-то скрытый смысл. Ему хотелось, чтобы его поскорее оставили одного.
— А мы с танкодрома, — сказал Трегубов. Он был явно в хорошем расположении духа. — Учти, Афонин, во втором батальоне две роты на «отлично» отводились. Смотри не подкачай. А сейчас садись, подвезу до дому…
— Нет, нет, — торопливо сказал Афонин, и брови его нервно дернулись. — Я уж лучше пройдусь… Пешком…
— Ну, как знаешь… Спокойной ночи.
Машина рванулась с места, и Афонин опять остался один.
9
Пока фигура Афонина не исчезла, не растворилась в темноте, майор Трегубов молчал. Эта ночная встреча хотя и удивила, но и порадовала его — в конце концов, не каждый командир добровольно без особой надобности поднимется ночью, чтобы проверить свою роту.
Потом он спросил Воронова:
— Почему вы мне как-то сказали, что Афонин считает, будто вы перешли ему дорогу? Что вы имели в виду?
— Да то и имел, — отозвался Воронов. — Только история эта давняя, стоит ли ее ворошить?
— Я, кажется, последние дни только тем и занимаюсь, что ворошу давние истории, — усмехнулся Трегубов. — Так что рассказывайте…
— Ну, ладно. История эта произошла на стрельбах… Не знаю, говорили ли вам, что ротными мы с Афониным стали почти одновременно: я — чуть пораньше, он — немножко позже, но именно потому между нами все время шло как бы негласное соревнование. Каждый из нас хотел видеть свою роту отличной. Ну и стрельбы эти многое должны были определить. Жарища, помню, стояла тогда адовая. До брони дотронешься и сразу руку отдергиваешь — обжигает. Так и казалось — снаряды сейчас сами собой начнут рваться под таким солнцем. Но жара — это еще полбеды, а пыль! После первого выстрела уже ничего не видно. Если с первого снаряда не поразил цель, на остальные два не надейся, наугад приходилось стрелять. Ну и понятно, нервы у всех в такой денек были напряжены до предела. Наши роты, моя и Афонина, на полигон вышли одновременно, соседями оказались: его танки по центру шли, мои — на левом фланге. Так что время от времени я в его сторону поглядывал, и получалось, что у моих ребят дела вроде бы получше идут. Тянула, короче говоря, рота на отличную. Но больше всего беспокоил меня один солдат, до сих пор помню его фамилию — Парамонов…
«Газик» уже затормозил у гостиницы, и Воронов вопросительно посмотрел на командира полка.
— Продолжайте, продолжайте. Что там у вас приключилось с этим Парамоновым?
— Так вот. Я еще когда взводным был, он у меня во взводе служил наводчиком. Была у него одна особенность, впрочем не такая уж и редкая. Пока тренируется, все идет нормально, все упражнения только на «отлично» выполняет, ну в крайнем случае на «хорошо», не ниже. Как только начинаются зачетные стрельбы боевыми снарядами, так словно подменяют человека. Волнуется. Ну прямо как в лихорадке. Поговоришь с ним, успокоишь, убедишь не волноваться — кажется, все понял. Как в машину сел — все словно вылетает из головы. Я один раз специально с ним за командира танка был на стрельбах, специально наблюдал. Торопится, суетится, команд не слушает — что с ним делать, не знаю. Вот этот Парамонов меня больше всего беспокоил. Я его нарочно напоследок оставил. Думал — увидит парень, что все хорошо отстрелялись, и успокоится. Вообще, знаете, Владимир Сергеевич, я уверен: настроение солдата — это великая вещь. Не всегда только мы это учитываем, а зря…
Трегубов заинтересованно посмотрел на Воронова. Он только что думал о том же. Он не мог не оценить той уверенности, даже лихости, с которой водили сегодня в темноте свои машины танкисты второго батальона. Казалось, они испытывали удовольствие оттого, что было кому показать свое мастерство, свое искусство. А впрочем, почему «казалось»? Наверно, и правда испытывали… Сам Трегубов ведь когда-то тоже переживал нечто подобное. Да и сейчас он не прочь был при случае блеснуть своим умением…
— Простите, я отвлекся, — сказал Воронов. — Надеялся я, значит, что успокоится Парамонов. А получилось наоборот. Потому что вышло так, что от его результата зависело — вытянет рота на «отлично» или нет. При такой ситуации и спокойный человек разволнуется. А тут еще солдаты, как водится, его своими остротами донимают: держись, Парамоша, на тебя, мол, вся Европа смотрит… Я ему опять говорю: «Главное, не волнуйтесь, держите себя в руках». Он послушно кивает. И смотрит вроде со смыслом. Садится в танк и — что вы думаете? — все снаряды отправляет в белый свет как в копеечку! Ну что ты будешь делать! Надо же, чтобы человек когда-нибудь переломил себя. Я — к командиру батальона, к командиру полка полковнику Коновалову: так, мол, и так, разрешите Парамонову перестрелять. Разрешили.
— Скажите лучше, что роту на отличную тянули, — добродушно усмехнулся Трегубов. — Я ведь сам и ротным был, и комбатом был — знаю, как это делается.
— Ну, пусть так, — согласился Воронов. — А кому от этого хуже? Солдату лишняя тренировка. А так он, знаете, порой вроде пловца, который на суше учится плавать. Часто ли солдату боевыми доводится пострелять? Ну, ладно, это я к слову. А тогда говорю Парамонову: «Учти, до тех пор с полигона не уйдешь, пока со своим мандражом не справишься. Понял?» И он, видно, поверил, что это не последняя его попытка, а раз не последняя, не решающая, так чего ж волноваться — и первый же снаряд точно в мишень уложил. Короче говоря, подсчитали мы всю эту арифметику — выходит, рота наша отстрелялась на «отлично». И тут как раз является Афонин, весь в пыли, потный, лицо осунулось. И губы дрожат от обиды — ну в точности как у ребенка. «Это, — говорит, — нечестно. Так, — говорит, — и моя рота стала бы отличной». Казалось бы, какое ему дело — его роте по результатам тех стрельб до отличной было тянуться, как мне до японского императора. Афонин и сам только на «хорошо» отстрелялся! Так нет, пришел справедливость восстанавливать. Его тогда комбат осадил. «Вы бы, — говорит, — Афонин, лучше смотрели, что у вас в роте делается, а с другими ротами мы сами разберемся». Так он не успокоился: и на собраниях потом выступал, и на совещаниях, всех обвинял, и Коновалова в том числе, и в газету окружную написал, потом корреспондент к нам даже приезжал, разбирался… Вот с тех-то самых пор Афонин и считает, что я ему дорогу перешел…
— Ясно, — сказал Трегубов. Ему хотелось еще кое о чем спросить Воронова, но этот их необычный — посреди ночи — разговор и так затянулся.
Он попрощался и вылез из «газика».
Ключ в двери его комнаты долго не поворачивался, и, пока Трегубов возился с замком, он все думал об Афонине:
«Видно, после этой истории на стрельбах Афонин лишился уже не только поддержки своих товарищей, но и с начальством у него отношения осложнились… И не дурак же он, понимал, на что идет, не мог не понимать… Знал ведь, что останется в одиночестве. Донкихотство какое-то…»
Опять видел он перед собой глаза Афонина, его лицо, резко высвеченное фарами, видел, как обернулся он на дороге, — тревожный вопрос чудился теперь Трегубову в этих глазах. И жалел Трегубов этого человека и в то же время уже угадывал, что не так просто будет ему помочь…
10
Через день майор Трегубов отправился на полигон, где проводили зачетные стрельбы экипажи плавающих танков из роты Афонина. Он намеренно не поехал с утра, к самому началу стрельб, чтобы дать и Афонину, и солдатам войти в ритм предстоящей им нелегкой работы спокойно, без излишней нервозности и волнения, которые всегда невольно возникают в присутствии начальства. Афонину впервые предстояло показать себя и свою роту новому командиру полка в деле, да к тому же еще и в столь ответственном деле, и Трегубов легко мог представить, как нервничал бы Афонин, появись он, Трегубов, на озере с самого утра.
Дорога шла через лес. Вернее, дороги были две: одна гладкая, по которой сейчас катил «газик» Трегубова, а вторая, чуть левее, — изрытая, искореженная гусеницами танков. Сколько таких дорог, в глубоких колеях и рытвинах, хранивших тяжелые следы танковых гусениц, повидал за свою жизнь Трегубов! И все-таки каждый раз, глядя на подобную дорогу, он испытывал какое-то странное чувство, какое, пожалуй, испытывает строитель, глядя на чужую строительную площадку, или пахарь, стоя у края не им вспаханного поля… Сложное чувство, в котором перемешивались ревность и легкая грусть оттого, что время идет и уже не вернуться к тем дням, когда он впервые сел за рычаги танка и впервые ощутил почти мальчишеское ликование оттого, что могучая машина повиновалась ему. Наметанным взглядом он легко мог уловить, где танкистам приходилось трудно, где танк чуть не застрял, где скребанул днищем по вылезшему из грунта валуну, где механик-водитель дал маху, проморгал, задел за ель, и теперь на темном стволе белела свежая рваная рана.
Но чем ближе подъезжали они к озеру, тем сильнее начинал испытывать Трегубов недоумение и беспокойство. В лесу стояла тишина, и, как Трегубов ни вслушивался, он не слышал ни пушечных выстрелов, ни урчания моторов.
— А так ли мы едем? — спросил он шофера, молоденького смешливого солдата. — Ты меня часом не завезешь куда-нибудь не туда?
— Да как же не туда?! — Солдат оживился, видно, долгое молчание тяготило его, обрадовался, что есть повод поговорить. — Я по этой дороге, товарищ майор, хоть с завязанными глазами проеду! Сейчас поворот будет, а там и озеро…
— Тишина, как на курорте, — сказал Трегубов и тут же с удивлением отметил, что не сдержался, что раздражение прорвалось в его голосе. Впрочем, он хорошо понимал, откуда возникло это раздражение. Рано или поздно неудачники начинают раздражать. Он желал успеха Афонину, надеялся, а Афонин подводил его — Трегубов уже не сомневался: на полигоне что-то не ладится. Десятки, если не сотни раз участвовал он в танковых учениях — больших и малых, был и посредником, и командиром, и проверяющим на занятиях по вождению и на стрельбах и давно уже знал, что подобная тишина — всегда недобрый предвестник.
Все-таки он постарался подавить нарастающее раздражение. Что бы там ни случилось, он должен не терять спокойствия и объективности.
— Детективы любишь? — спросил он шофера, усмехнувшись. Он уже не раз замечал, что солдат прячет под сиденьем растрепанные, зачитанные книги.
— Люблю, товарищ майор.
— «Немая тишина внушала ему скверные предчувствия» — так, кажется, пишется в детективах?
Шофер пожал плечами и засмеялся.
— Может, у них перекур… — сказал он неуверенно.
На всякий случай, по старой, неистребимой солдатской привычке, он защищал перед начальством того, кто был младше по званию и должности и не мог сейчас защитить себя сам.
«Газик» качнуло, слегка накренило на повороте, и тут же Трегубов увидел озеро.
С трех сторон озеро было окружено лесом, оно лежало, недвижимое и чуть таинственное, как все лесные озера, и в другой бы раз Трегубов наверняка залюбовался его спокойной, исполненной гордого достоинства красотой, но сейчас он смотрел только на пологий глинистый берег, к которому приближался их «газик».
Казалось, здесь все было готово к стрельбам. Неподалеку от воды стояли танки, глядя стволами пушек туда, где среди подлеска можно было различить темно-зеленые мишени, над поверхностью воды покачивались вешки с красными флажками, обозначавшие огневой рубеж, а на столбе, возле которого резко затормозил «газик», на аккуратном фанерном щите были тщательно прикноплены «Боевой листок» и социалистические обязательства танкистов. Сами же танкисты в черных комбинезонах сидели кружком тут же, невдалеке, на опушке, а капитан Афонин что-то объяснял им.
— Встать! Смирно! — на высокой ноте скомандовал Афонин, увидев выбирающегося из «газика» Трегубова.
Затем без торопливой суетности, но быстро, твердо ступая, он подошел к Трегубову и отрапортовал:
— Товарищ майор! Личный состав третьей роты находится на занятиях по огневой подготовке. Командир третьей роты капитан Афонин.
Он стоял перед Трегубовым по стойке «смирно», вытянув левую руку вдоль туловища, а правую поднеся к фуражке, и было заметно, как она, эта рука, подрагивает, то чуть приближаясь, то удаляясь от козырька, но — странное дело — не было сейчас в Афонине той приниженности, той болезненной мнительности, которые так неприятно поразили Трегубова в день их первой встречи.
— Вольно, вольно, — сказал Трегубов. — Я вижу, вы тут неплохо устроились. Солнце, воздух и вода — так, что ли?
Солдаты сдержанно засмеялись. Афонин обеспокоенно покосился на них.
— Разрешите объяснить, товарищ майор?..
Трегубов кивком головы пригласил его отойти в сторону, подальше от солдат.
— А теперь объясняйте. В чем дело? Почему до сих пор не начали стрелять?
— Так, товарищ майор, Арсеньев оцепление не выставил.
— Как не выставил? Почему?
Афонин пожал плечами:
— Не знаю, товарищ майор. Звонили ему, Арсеньева нет на месте, его заместитель не в курсе. Комбат вас поехал разыскивать…
— Так, так… Меня, значит, разыскивать… — произнес Трегубов, чувствуя, как все внутри у него закипает, и стараясь ничем не выдать бешенства, которое всегда накатывало на него, когда он сталкивался с пассивностью, с такой вот готовностью подчиниться обстоятельствам. Каждый час на вес золота, когда еще попадешь в график стрельб, а тут расселись на травке…
— Ну и что же вы предприняли? — тихо спросил Трегубов.
— Мы?
— Ну да, вы, вы.
— Я уже докладывал, что комбат…
— Нет, а вы, вы лично, капитан Афонин? Если не ошибаюсь, именно ваша рота должна стрелять?
— Чтобы не терять времени, товарищ майор, я принял решение провести пока теоретические занятия, лишний раз повторить…
Он говорил это даже с некоторой гордостью, но, взглянув на лицо Трегубова, оборвал себя на полуслове. Наверно, понял, что сейчас лучше молчать.
— Ну и что же? — спросил Трегубов с усмешкой. — Если Арсеньев до вечера не выставит оцепление, вы до вечера будете ждать у моря, то бишь у озера, погоды?
— А что я могу сделать? — И теперь Трегубов услышал в голосе Афонина знакомые обидчивые нотки. — Арсеньев мне не подчиняется. Я официально довожу до вашего сведения, что подполковник Арсеньев срывает график стрельб. В конце концов, ни я, ни вы не должны отвечать за чужую…
— Послушайте, Афонин, вы никогда не задумывались над тем, что в жизни бывают минуты, когда гораздо важнее действовать, чем рассуждать, кто виноват? Знаете, что бы я сделал на вашем месте? Я бы сел в машину, я бы хоть под землей разыскал Арсеньева, и, будьте уверены, оцепление уже было бы выставлено. А виноватых мы бы поискали потом…
Брови Афонина зашевелились, лицо пошло красными пятнами.
— Я вас понял, товарищ майор, — сказал он. — Разрешите действовать?
Трегубов кивнул.
Он остался один и молча смотрел на неподвижные танки, на темно-зеленые мишени там, вдали, за озером.
Черт возьми, так бездарно, так никчемно потерять два с половиной часа! Впрочем, дело даже не в этих часах. В такие минуты Трегубов всегда думал, во что бы могла обойтись подобная пассивность на войне, на настоящей войне…
А если рассуждать формально, Афонин опять вроде бы прав: Арсеньев, командир соседней части, действительно ему, Афонину, не подчиняется, как и ему, Трегубову, впрочем, тоже; и неизвестно, что там у него произошло, почему не выставил он оцепление, и проще всего написать завтра рапорт начальству и пусть оно разбирается, пусть всыплет как следует этому Арсеньеву. А мы пока посидим на травке…
Он подозвал к себе заместителя Афонина, лейтенанта Беленького.
— Займитесь пока с солдатами вождением танков по воде. А то вы уже народную мудрость начинаете опровергать: и у воды сидите, и не замочиться умудрились.
Через минуту солдаты радостно зашевелились, первый экипаж побежал к машине… Загрохотал мотор. Гусеницы дернулись, танк пополз к воде.
А еще через полчаса вернулся капитан Афонин и доложил, что недоразумение улажено, оцепление выставляется, скоро можно начинать стрельбы. Он был деятелен, энергичен, покрикивал на солдат, торопил их.
Майор Трегубов ходил вдоль кромки берега, возле тихо плескавшейся воды и постепенно успокаивался. Впрочем, он уже предчувствовал, что это не последнее неприятное объяснение с Афониным, придется им еще столкнуться. Хотел бы он ошибиться, но интуиция в подобных делах редко его подводила. И на душе у него было скверно.
11
Поначалу все складывалось неплохо — три экипажа отстрелялись на «четверки».
Когда танки входили в воду, они вдруг теряли свой грозный вид, становились похожими на безобидные моторные лодки, и даже стволы пушек, нащупывающие цель, не могли изменить этого впечатления. Но вот грохотали выстрелы, короткая стремительная струя пламени вырывалась из орудийного ствола, словно на мгновение кто-то включал огромную паяльную лампу, танк дергался, как будто стремясь вырваться из воды…
Затем, уже отстрелявшись, танки плавно разворачивались, уходя с огневого рубежа, и теперь в их движении, казалось, было что-то от поведения живых существ: сначала неотвратимое стремление к цели, потом будто вспышка ярости, будто усилие, совершаемое, чтобы освободиться от накопившейся энергии, и, наконец, успокоение, умиротворенность, возвращение…
Поначалу все шло неплохо. Трегубов только отметил про себя излишнюю суетливость Афонина — в последний момент тот давал танкистам слишком много указаний и советов, наверняка сейчас сам бы предпочел оказаться в танке и вести огонь, чем со стороны наблюдать за действиями своих подчиненных… Когда-то это чувство не раз испытывал и сам Трегубов, и прошло не так уж мало времени, прежде чем он понял, что все эти торопливые советы и наставления, даваемые в последнюю минуту, все равно тут же забываются солдатами и только усиливают у них волнение и ощущение неуверенности…
Неудачи начались со второго захода. «Тройка». Еще одна «тройка». Еще. В бинокль Трегубов видел оставшиеся почти не тронутыми мишени.
Пока танки возвращались к берегу, он, стоя спиной к озеру, рассматривал листок с социалистическими обязательствами. Больше половины экипажей обязались отстреляться на «отлично», остальные — на «хорошо». И вот на тебе — «тройки».
По-прежнему не оборачиваясь, Трегубов слышал, как вернувшиеся танкисты смущенно, виноватыми голосами докладывали капитану Афонину о своих результатах.
— Карташевский! — негромко сказал Трегубов. — Подойдите ко мне.
— Товарищ майор, рядовой Карташевский по вашему приказанию прибыл!
— Ну-ка, Карташевский, — все так же негромко, мирным, будничным тоном сказал Трегубов, — прочтите, что здесь написано.
— «Социалистические обязательства…» — прочел Карташевский.
— А тут?
Карташевский молчал, потупясь и переминаясь с ноги на ногу.
— Читайте, читайте… Что же вы замолчали?
— «Рядовой Карташевский…» — нехотя прочел солдат и взглянул на Трегубова — не достаточно ли?
— А дальше, дальше? Что же вы смущаетесь? Что тут написано?
— «Отлично».
— Это вы давали обязательство?
Карташевский молчал.
— Вы или не вы?
— Так точно. Я.
— А отстрелялись на сколько?
— На «тройку»… — сказал Карташевский, все пытаясь уйти глазами от взгляда Трегубова.
— Ну и чем же вы это объясняете?
Карташевский пожал плечами. Ничего, кроме покорной готовности понести наказание, не мог прочесть Трегубов на его лице. Словно школьник, не выучивший урок, топчется у доски…
— В прошлый раз вы как стреляли?
— На «тройку».
— Почему же вы решили, что в этот раз отстреляетесь на «отлично», а, Карташевский? Вы что, дали обязательство и готовились специально, занимались дополнительно — так, что ли?
Карташевский повертел головой, точно ища подсказки. Трегубов видел, что их разговор привлек внимание капитана Афонина. Афонин стоял на таком расстоянии, чтобы слышать, что говорит командир полка, и в то же время не решаясь подойти вплотную.
— Занимался, как все… — нехотя сказал Карташевский.
— Но почему же вы все-таки решили взять обязательство отстреляться на «отлично»? Карташевский, я вас спрашиваю.
Теперь уже тон Трегубова изменился, обрел твердость, и, хотя он по-прежнему не повышал голоса, солдат сразу уловил эту перемену.
— Так, товарищ майор… — сказал он, — ко мне позавчера комсорг подошел — надо, говорит, взять обязательство, все берут, ну, я и взял…
— Товарищ майор, разрешите объяснить! — не выдержал-таки Афонин. И голос его — вот-вот сорвется. Сразу видно: напрягся человек, собрался весь, словно перед прыжком с самолета.
— Хорошо, Карташевский, вы свободны, — сказал Трегубов. — Теперь слушаю вас, капитан Афонин.
И это «вас», и это официальное обращение давались ему сейчас без всякого усилия. Словно этот капитан, засидевшийся в командирах роты и оттого болезненно воспринимающий каждое замечание в свой адрес, и не был никогда курсантом Афониным, не учился никогда вместе с Трегубовым, не жил в соседней комнате. Чужой человек стоял сейчас перед ним. Чужой.
— Слушаю вас, — повторил он.
— Товарищ майор, — волнуясь, заговорил Афонин, — я относительно этих обязательств… Я уже не раз докладывал… Я и на партактиве выступал… Это же пустая формальность… А меня не слушают…
— Знаете что, Афонин… Вот мы разговариваем с вами второй или третий раз, и вы все время мне говорите: «докладывал», «указывал», «выступал»… А мне бы хотелось узнать, что вы д е л а л и…
— То есть? — переспросил Афонин. — Я не понял.
— Принципиальность, Афонин, хорошая черта характера, — сказал Трегубов. — Но нельзя принципиальность превращать в свою профессию.
— А беспринципность можно?
— Вы меня не поняли. Я хочу сказать, что нельзя только подмечать недостатки, только критиковать их, только указывать на них. А потом утешаться — вот какой я принципиальный! Надо исправлять недостатки — вот что главное. Вы говорите — обязательства. А разве не от вас зависело, превратятся они в пустую формальность или нет?
— Я и говорил! Я и говорил, товарищ майор! Не надо обманывать самих себя! Пусть тот же Карташевский взял бы обязательство отстреляться на «тройку», но это было бы честно!
— Ну да, — усмехнулся Трегубов. — А Иванов и Петров — на «двойку». Тоже честно! И главное — никаких хлопот. Не так ли?
— Но я… — начал было Афонин.
— Нет, Афонин, я не об этом говорил. Пусть бы Карташевский дал обещание отстреляться на «отлично» или «хорошо», но пусть бы он это сделал не позавчера, и то лишь потому, что комсорг велел, а два или три месяца назад. И вот тогда вы бы вместе с ним подумали, что ему надо сделать, чтобы добиться этой цели… Разве это было не в ваших руках?
— Товарищ майор, — решительно, даже с некоторым вызовом сказал Афонин, — в сроках ли дело? Неужели обязательства перестали бы быть формальностью, пустой бумажкой только оттого, что мы их приняли бы два месяца назад?
Трегубов покачал головой:
— Ох, Афонин, Афонин… Вы всё норовите вместе с водой выплеснуть и ребенка. Вы словно нарочно не хотите меня понять. Суть-то ведь не в том, чтобы взять обязательства, суть в том, чтобы их выполнить. А для этого поработать нужно — организовать людей, атмосферу такую создать в роте, настроение такое, чтобы каждый солдат сам — понимаете, Афонин, сам — стремился завтра делать свое дело лучше, чем он делал вчера. Разве не ваша это забота? Да что, впрочем, мне вам азбучные истины втолковывать… А вы приняли обязательства — и с плеч долой. Сами же превращаете хорошее дело в пустую формальность, а потом начинаете громить формализм с трибуны. Так легче — не правда ли?
— Но, товарищ майор, это же не только в моей роте. Если хотите, я могу привести примеры…
— Не надо мне примеров, Афонин. Сейчас мы говорим о вас и о вашей роте. И подумайте об этом на досуге.
Только теперь Трегубов заметил, как изменилось, пока они разговаривали, лицо Афонина — оно словно застыло, казалось, оно затвердевало прямо на глазах у Трегубова, точно цементный раствор, и только одно выражение — выражение упорства — оставалось на нем.
— Я вижу, вас уже успели настроить против меня… — сказал Афонин.
Трегубов молча смотрел на Афонина. На минуту ему вдруг захотелось взять того за плечи, тряхнуть как следует, сказать, как говорили когда-то в училище: «Да ты что, Афоныч!» Но он подавил в себе это желание. И так он уже чувствовал, что их разговор затянулся, что солдаты с любопытством поглядывают в их сторону — наверняка они многое дали бы, чтобы узнать, что сейчас происходит между командиром полка и их ротным.
— Не забивайте себе голову фантазиями, — сказал Трегубов. — Лучше подумайте над нашим разговором. Мы еще вернемся к нему. А пока все. Идите.
— Есть.
…Уже позже, возвращаясь в своем «газике» в штаб, Трегубов думал о том, какие странные загадки задает иногда жизнь. Вот ведь и знает он Афонина с давних пор, и честен Афонин несомненно, и прям, тот же майор Воронов, возможно, и похитрее, и больше себе на уме, да и недостатков в батальоне Воронова, наверное, если порыться, можно отыскать не так уж мало, а вот случись война, случись им вместе принять бой, и Трегубов хотел бы, чтобы в трудную минуту рядом с ним оказался не Афонин, а Воронов.
12
Был уже поздний вечер, когда в дверь к Трегубову постучали. Он только что сел за стол с твердым намерением написать письмо жене. Вообще, писем писать он не любил, о своих делах сообщал скупо и кратко, привыкнув за годы военной службы к тому, что самое главное, самое существенное все равно доверить бумаге нельзя, а для того, чтобы жена не волновалась, вполне достаточно стереотипных фраз вроде «у меня все в порядке», «дела идут нормально». В конце письма он обычно — специально для дочки — пририсовывал какую-нибудь смешную рожицу или забавного человечка, выглядывающего из танка. Он уже скучал и о жене и о дочке и теперь собирался написать, что вопрос с квартирой непременно решится на следующей неделе и пора готовиться к переезду.
Он успел написать только первую фразу, когда раздался этот стук в дверь. Стучали негромко, даже, пожалуй, нерешительно, с некоторой осторожностью, но в то же время настойчиво.
— Войдите! — крикнул Трегубов.
Дверь тихо приотворилась, и в комнату бесшумно вошла женщина. Трегубов сразу узнал ее. Впрочем, в глубине души он уже ждал ее, он чувствовал, что она придет. Должна прийти.
— Здравствуйте, Владимир Сергеевич! — сказала она. — Вот решила зайти… Соседями все-таки были… Старые знакомые, думаю… Не прогоните?
Она говорила с шутливой бойкостью, но все еще стояла возле двери, словно уже жалея, уже казня себя за то, что пришла сюда.
— Да что вы, Клава! — сказал Трегубов. — Я рад вас видеть.
Она все еще колебалась, и он, взяв ее за локоть, провел к столу, усадил.
— Только моему не говорите, что я у вас была. А то ведь съест и косточек не оставит, если узнает…
— Все ясно. Военная тайна, — сказал Трегубов. Он нарочно старался поддержать полушутливый тон. Ему казалось, что так им легче будет разговаривать.
С тех пор как они виделись в последний раз, Клава Афонина несколько расплылась, располнела, но лицо ее по-прежнему сохраняло яркие краски: уж если румянец — так алый, во всю щеку, уж если брови темные — так до смоляной черноты, уж если зубы белые — так словно снег.
— Я ведь о нем пришла с вами поговорить, Владимир Сергеевич…
Она торопилась. Наверно, сказала Афонину, что выскочила на минутку к соседке. А вдруг тот спохватится?
«Он ведь и правда не простит, если узнает», — подумал Трегубов.
И вдруг Клава замолчала.
— Ну что же, я слушаю… — сказал Трегубов. — Да вы не волнуйтесь…
— Вот бежала — казалось, так много надо сказать… А теперь сижу как дура и все слова растеряла, не знаю, с чего начать… Вы только не подумайте, что я защищать его пришла или просить вас о чем-нибудь… Хотя… Почему же и не защитить, если с ним поступают не по справедливости? Правда? Ну, хорошо, ну, характер у человека тяжелый… Тяжелый, верно, я-то это лучше других знаю, раздражительный — все ему не так, все не этак… Но ведь не казнить же человека за характер… Он же, верите, сутками, бывает, из роты не уходит, забежит только домой поесть и обратно в роту, а другие?.. Отработают сколько положено и, глядишь, уже дома… А что, может, ему хоть раз благодарность вышла?.. Ну скажите, Владимир Сергеевич, по совести это?.. Да нет, не говорите сейчас ничего, я понимаю, вы человек здесь новый, вам судить трудно. Да я и правда не защищать его пришла — поверьте мне. Просто душу отвести. Понять хочется: что случилось? Я и сама ведь уже два раза уходить от него хотела, до развода дело доходило. А потом подумаю — и жалко его становится: да как же он один останется!..
Трегубов видел, что она искренна, что она ничего не стремится скрыть от него, и видел, что эта искренность давалась ей без насилия над собой, легко и естественно: она не стыдилась, что говорит о вещах сокровенных. И эта ее жажда исповедаться, это ее желание рассказать Трегубову все без утайки, хотя, казалось, никогда не были они в особенно дружеских отношениях — жена товарища, не больше, — и этот спор с собой, переходы от одного довода к другому, противоположному, и недоумение ее, и растерянность перед тем, как сложилась их с Афониным жизнь, — все это сейчас не казалось Трегубову неожиданным или странным и не унижало Клаву в его глазах. Потому что он чувствовал: все это было выстрадано давно и теперь наконец выхлестнулось наружу.
И опять одну странность отметил про себя Трегубов: всегда, во всяком случае в те времена, когда он познакомился с Клавой Афониной, во времена лейтенантской молодости, он ценил, он превыше всего ставил мужскую солидарность, ничто его так не раздражало, как женское вмешательство в их мужские служебные дела, — теперь же он слушал эту женщину с искренним и глубоким вниманием и испытывал к ней бо́льшую симпатию и бо́льшее сочувствие, нежели к Афонину…
«А впрочем, жизнь всегда оказывается сложнее наших представлений о ней, — думал Трегубов. — Мы невольно стремимся к упрощению, мы не замечаем порой всех косвенных и обратных связей между явлениями, мы сбрасываем их со счета, мы забываем, что все в нашей жизни взаимозависимо… И может быть, Афонин с его неудавшейся жизнью, с его неуживчивостью, с его нелепым характером необходим как некий катализатор, может быть, в этом смысл и оправдание всех его поступков…»
— Я, знаете, Владимир Сергеевич, — говорила Клава, — вспоминаю иногда, как хорошо все у нас начиналось, и сама себе не верю… Ведь как хвалили его, как хвалили — помните? А теперь? Теперь, наверно, ни одного человека нет, кого бы он против себя не настроил… Ну а я вот о чем все думаю: почему же люди-то вовремя ему не сказали? Почему молчали?..
— А может быть, говорили? — осторожно вставил Трегубов. — Только он не обратил внимания, не придал значения?.. Ведь когда тебя хвалят, когда в пример ставят, а потом поругивать начинают, покритиковывать, ой как трудно признаться самому себе, что это не напрасно… Обмануть себя самого, убедить, утешить — это, может быть, самое простое…
— В общем-то вы правы… Слушать он не хотел… Это верно. И я ведь сколько раз ему говорила, все уши, наверное, прожужжала — разве он слушал?.. Только…
Трегубов все сильнее ощущал какое-то смутное беспокойство, словно он что-то упустил, что-то сделал не так, только не знал, не мог понять, что именно. И вдруг он понял.
Да как же так могло получиться, что до сих пор он по-настоящему, по-человечески не поговорил с Афониным?.. Как же так выходило, что с каждой их встречей, с каждым их разговором только усиливалось отчуждение между ними? Всех выслушал, со всеми поговорил, а с ним — все откладывал… А может быть, всего-то и надо сказать: «Знаешь что, забирай-ка свой рапорт, да походи, да подумай как следует, никуда мы тебя не отпустим…» Да неужели бы не сумел он найти слов для своего старого товарища по училищу? Или так уже ожесточился Афонин, что ничем не проймешь его?..
— Только вот одного я никак не могу понять, — говорила Клава. — Ведь он-то почти всегда прав был… Когда выступал на собраниях… И в газету когда писал… Так почему же?.. Иногда мне кажется, я и сама все понимаю, сама догадываюсь… Может, и не нужно вам этого рассказывать, но все-таки одну историю маленькую, пустяк совсем, я расскажу. Я, знаете, одно время художественной самодеятельностью увлекалась, это потом уже мне не до нее стало… А раньше чуть вечер — сразу в клуб… И вот там был один солдат, я пела, он на баяне мне аккомпанировал. Так этот солдат как раз в роте Алексея служил. И как-то разговорились мы с ним, незадолго перед его демобилизацией, он мне и говорит: «Не обижайтесь, Клавдия Семеновна, но не любят вашего супруга солдаты… Вроде и человек он неплохой, а не любят…» Я спрашиваю: «Почему? Разве он груб? Или несправедлив? Так почему же не любят?» Все это мне самой тогда ужасно хотелось понять. И, помню, солдат тот сказал мне такую странную фразу: «Справедливость у него какая-то нечеловеческая. Справедливость арифмометра. А солдат, Клавдия Семеновна, ведь живой человек… На арифмометре все не рассчитаешь…» Впрочем, напрасно, наверно, я вам эту историю рассказала, не знаю даже, к чему она мне сейчас вспомнилась…
— Нет, — Трегубов покачал головой, — этот ваш солдат не так уж не прав… Я тоже последние дни много думал об Алексее. И знаете, что мне кажется… Есть такой род людей, которые, совершив однажды нечто из ряда вон выходящее, потом все время живут как бы отраженным светом этого своего поступка… Помните, как про Афонина когда-то говорили: «Вон идет лейтенант, который выступал на собрании»? И смотрели на него с интересом и любопытством. Так вот, беда его, по-моему, в том, что он так и остался «лейтенантом, который выступал на собрании»…
Клава вдруг улыбнулась грустной улыбкой.
— Да, пожалуй, вы это очень точно сказали. Ну что ж, мне пора… я побегу. Спасибо.
Майор Трегубов проводил ее до дверей, и тут Клава приостановилась и, подняв голову, взглянула ему в глаза.
— Владимир Сергеевич, — сказала она, и голос ее вдруг дрогнул, — вы поговорите с ним, ладно?..
Он кивнул.
Потом еще некоторое время Трегубов стоял на крыльце один, в темноте, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Он думал о том, что завтра ему предстоит разговор с Афониным и что разговор этот будет куда труднее, чем он предполагал…