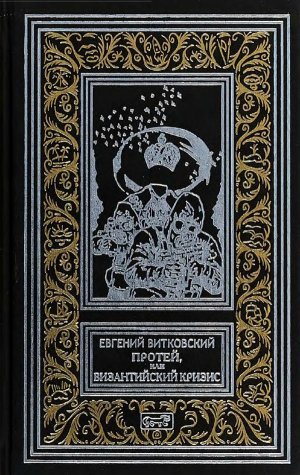
ПРОЛОГ
31 ДЕКАБРЯ 1899 ГОДА
МОДЕСТ-СКОТОХРАНИТЕЛЬ, ЩЕДРОСВИННИК
Эти люди не только не знают своего прошлого,
но, кажется, не подозревают даже, что у них есть прошлое.
Герберт Розендорфер. Письма в Древний Китай
Шел третий год Кванму. Шел год сосха чылы. Шел год абха. Шел месяц дэй. Шел месяц коледар. Шел месяц раштав. Шел день кириаки. Шел день домека. Шел день якшанбе. Мироздание устало от всего этого и от всех девятнадцати обычных веков устало, и вот мирозданию осточертело, и его затошнило, и оно блевануло. Оно сплюнуло очередной век, за такое дело веку дали срок и, как любому каторжнику, дали номер.
Сперва, конечно же, не дали. Век лишь прорисовался в темноте ушедшего столетия, то ли унесшего всю драгоценную одухотворенность, то ли отмывшего человеческие глаза от грязных иллюзий. И на заре грядущих времен первым встал, как обычно случается накануне наступления нового века, Протектор Вольф. Причем встал он даже не в прошлом веке, а на исходе позапрошлого.
…Время перетекало каплями через горло клепсидры Берингова пролива: именно там в полдень 31 декабря 1899 года было назначено начаться будущему году с западной стороны, а с восточной — кончаться. Таким образом, у взявшегося за работу Протектора получалось, что первое дело — решить расписание судьбы Российской империи на XX век. Протектор был стар, как мироздание, но считал, что лучше не морочить свою седую волчью голову календарями, а соблюдать тот, какой придумали для себя люди. Волки всегда были консерваторами, даже не считая их пресловутой моногамии, только и отличавшей их от обычных собак; к тому же они всегда использовали счет римский, кельтский, кратный десяти раз по десять, а не саксонский счет — там дюжина раз по дюжине всегда считались лучше. Однако Россия считала столетия по-волчьи, здесь они обозначали именно то самое, что звучало в названии: сто лет. Номера столетий записывались римскими цифрами, удобными, как раскладная мебель, изобретенная еще в Древнем Египте, когда и римлян-то не было. Века бывали разными — то, как карточный домик, примитивными — вроде века за номером V (вот и завалилась Западная Римская империя, как карточный домик), или X — хорошо намекающим своей удобной формой на обряд пиления дров (изготовилось в Европе христианство к распилу). Протектор больше любил всякие фигурные цифры — вроде VIII, ничего выдумывать не надо, пусть там Карл Мартелл Европу от мигрантов спасает, а внучок его в императоры пробивается; вроде XIII — прямо так и начнем: Иннокентий III затеял IV Крестовый поход и по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись» захапал Величайший город мира, Константинополь, ни в какую Святую Землю не заворачивая, — через четыре года Балдуин I стал императором Романии — однако ж и название для империи надумал, — всего-то год с хвостиком поимператорствовал, пока болгарский царь Калоян не сделал из его черепа селедочницу. Но через шесть десятков лет пришло времечко платить по счету, поцапалась Генуя с Венецией, а никейские греки-то возьми и свое добро себе верни: только и осталось от этого мероприятия, что дела великой семьи де Куртене, чей потомок накануне 1900 года в России нашелся и вроде бы неплохой словарь ей сочинил, матерный. Русь же во времена первых де Куртене дрожала под ударами копыт конницы хана Бату, не мусульманина вовсе, однако быстро просекшего, что ханствовать в России негде: зимой лошадей не прокормишь да и вообще лучше брать натурой. По мелочи, по мелочи — а ничего серьезного: забавный был век. И не надо торчать на берегу Чукотки, следя, не примерз ли хвост ко льду.
И была эта Русь в те времена — Византии малый краешек, клоп клопом, кикиморка мелкая на болоте, а там гляди-ка: Иван Великий-Третий поднял над Кремлем византийского двуглавого орла, а от внучка от его, с номером четвертым, все кругом норовили куда подальше сбежать под предлогом что-нибудь завоевать для государя и к стопам его положить. Не зря век был с палкой, XVI — вот этой-то «I» и охаживал полоумный Иван подданных, пока силы были. Тогда-то, кстати, и дотопали его казачишки (читай — разбойнички) до этого самого пролива, за которым покамест еще вчерашний день, а через столетие стрясется аж целый новый миллениум.
Здесь теперь приходилось сидеть Вольфу, решая судьбы мира на очередное столетие вперед. Потому как велика размерами Русь: толкнет на Камчатке землетрясением на семь по шкале Рихтера — так в Москве штукатурка сыплется и народ без подштанников из домов бежит. Что есть, то есть.
Протектор покусал мохнатую лапу — в знак удовольствия от работы, открыл Амбарную Книгу Судеб на новой странице и написал:
Дежурное на век после XIX.
Гусиное перо привычно лежало в мохнатых и когтистых пальцах. Протектор подумал — и вытряхнул из амбарной книги знак «I», тут же превратившийся в огромную маслянистую колонну. Покамест Вольф отставил ее в сторону и продолжил размышление. Этот наступающий век, как и X, и XV, был андрогином: он был лишен пола — ибо был лишен палки. На такие века обычно приходилась отводить что-то вроде генеральной уборки. Угробить Западную Римскую империю, открыть Америку, ну, и типа того.
Протектор аккуратно провел горизонтальную линию посреди страницы. Вверху написал:
Наложить на Россию Советскую власть.
Протектор Вольф.
Прямо под ровной линией, за которой начиналось деление столетия пополам, написал так же аккуратно:
Низложить в России Советскую власть.
Протектор Вольф.
В общем-то этим все важное для России в наступающем андрогинном веке исчерпывалось. Небо и избыточную замусоренность в этом столетии, как всегда, приводила в порядок старая подметалка, комета Галлея: ей полагалось появиться в 1910 году (тут-то начнет все назначенное начинаться), и снова — в 1986 году (тут-то и начнет все назначенное кончаться: хватит с России: бей раз, бей два, но нельзя ж до бесконечности). Всякими пустяками, вроде великих полководцев и великих писателей, Протектор не заморачивался: наложив на страну столь тяжкую контрибуцию, он привычно знал: сами народятся, как грибы. Ну, еще то, что окраинными колониями страна больно тяжела нынче, почти неуправляема — так к концу века они сами отсыплются. А не отсыплются, им же хуже.
Протектор почесал между серыми стоячими ушами той самой палкой, что вынул из XIX века, пометил, что от Китая до Египта в первой половине столетия все вменяемые державы мира должны перейти на григорианский календарь, бросил римскую палку из номера столетия далеко на запад — и перевернул страницу. К западу от России лежала Польша, но ею заниматься недосуг, — сама управится, тоже, понимаешь, государство несгинеющее — да и неохота. Еще дальше — Германия… да, вот тут придется ломать голову. Советской властью не отделаешься…
Он ощутил раздражение, провел еще одну черту и вписал:
Сделать в России все как было раньше.
Протектор Вольф.
Протектор заметил, что хвост у него ко льду все-таки примерз. Ругнувшись на каком-то давно мертвом языке, он извернулся и стал яростно дышать на хвост. Тот, конечно, отмерзал, но очень медленно.
А время неотвратимо приближало наступлением тысяча девятисотый год. Еще не XX век, но распоряжения положено дать наперед. Протектор твердо был намерен закончить список кар человечества еще до последней вспышки чукотской Авроры Бореалис, которая возвестит наступление Нового года.
Однако же сперва нужно было разморозить хвост. А то и перед кометой Галлея неудобно будет, если без него останешься.
…Потом век прошел, как и было обещано. В полдень последнего дня года с тремя девятками на конце, в двадцать четвертый лунный день, в день алтинч кюн, в день за басанг, в день святых мучеников Тивуртия и Еввиота, в день под знаком планеты Хукуру, Протектор вновь появился на берегу того же пролива и сделал в Амбарной Книге Судеб надлежащие записи. В том далеком столетии комета Галлея ожидалась еще только лет через шестьдесят, так что к этому времени он собирался и хвост привести в порядок, и заново имплантировать два пожелтевших премоляра на верхней челюсти. Как раз будут развиты нужные технологии. Придется, однако, гарантировать на тот век процветание дантистам. Не любил Протектор Вольф использовать положение в личных целях, но комета — все-таки дама, и выглядеть перед ней полагалось пристойно положению.
Протектор неожиданно отвлекся — задумался и заново открыл Амбарную Книгу Судеб. Вновь покусал мохнатую лапу — и двумя резкими линиями поставил на странице косой лиловый крест, отменяя свои же распоряжения. Мелкими буковками он написал в начале следующей страницы непонятное слово «бифуркация» — и надолго задумался. Нет, не нравился ему придуманный план. Он придумал нечто новое.
Он вспомнил, что, в отличие от XX века, у наступающего XXI палка есть, и ясно, что тут ею еще помашут. Этот век действительно разорвет связи с прошлым, создав Интернет и полную расшифровку человеческого генома и многое другое, без чего люди жили и могли бы жить дальше, и уж точно могли бы обойтись без драки Абрама с Махмудом, Полуэкта с Манолисом или интерахамве с баньямуленге, хотя последнего, возможно, и не избежать…
И он решил поставить палку.
Он размашисто вписал в амбарную книгу все, что придумал. Но заглянуть в ту книгу можно будет лишь тогда, когда она будет дописана. Вот пусть тогда и заглядывают.
А мы откроем другую книгу, читатель. Эта написана. Входи, милости прошу.
Как обычно, пропускаю тебя первым.
I
1 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ИВАН-ДОЛГИЙ
ОГУРЦЫ САЖАТЬ МОЖНО
Считается, что спасаться бегством постыдно.
Жаль, ведь это так приятно. Бегство дает самое
потрясающее ощущение свободы, какое только
может быть, убегая, чувствуешь себя свободнее,
чем когда бежать не от чего. У беглеца мышцы ног
наэлектризованы, по коже пробегает трепет, ноздри
раздуваются, глаза расширены.
Амели Нотомб. Токийская невеста
…Был сотый год эры Чучхэ. Был пять тысяч сто двенадцатый год Кали-юги. Был год белого тигра и кролика. Был месяц марери. Был месяц сивану. Был месяц джьештха. Был день клубники и земляники. Был день гараган табан. Был день тёртинч кюн. Сто восемнадцатого сароса (кто не знает, что это такое — дальше вовсе не читайте), в день, когда Москва все еще пила за здоровье давно покойного поэта, которому вчера открыли памятник, на каковую церемонию не явился русский царь, чье основное имя Павел, но прямое-то Исаак, а ведь мог бы зайти, антисемит проклятый, и дела нет никому, что у него у самого вчера день рождения был, царей много, Дымшиц один, — во всемирный день молока и защиты оного от детей, и телятам-то не хватает, — в юбилей того дня, когда парагвайский диктатор доктор Франсия стал диктатором пожизненным, в тот день, когда весь Рейкьявик минутой молчания почтил трагическую годовщину повышения цен на яйца в СССР и уж заодно в день, когда над Россией состоялось его императорского величества солнечное затмение, — в этот день случилось нечто важное.
Помнится, ни один русский царь не делал ноги из Кремля. Кроме Ивана Васильевича Грозного, насчет которого у потомков есть немало серьезных оснований сомневаться, что был он, конечно, Грозный, но только Иван Иванович, по батюшке Телепень-Овчина-Оболенский. А что? Мать его звали Елена Глинская. Это точно, а про мать его, про мать его, про мать его… короче, про мать его все хорошо известно. Петр Первый, правда, однажды месяца два тоже отсиживался в Троице-Сергиевой лавре, ну так… ну так мать же его звали, ну да, Наталья Нарышкина. И про его мать нам тоже все известно.
В России всегда все известно в основном про мать.
Даже по воровскому закону, по которому иметь почти ничего не положено, мать иметь можно.
Про все остальное можно только тискать романы. Или сочинять романы.
В четверть пятого утра, когда нормальные люди типа спят, практически одновременно из Троицких, Спасских и Боровицких ворот Кремля вырвались трижды по три темно-серых лимузина с тонированными стеклами и рванули прочь из Москвы.
За рулем в каждом сидел водитель с тремя полковничьими звездами, немолодой, очень крепкий на вид. Больше ни ком формы не было, хотя выправка некоторых и выдавала: в частности, так выглядели десять кряжистых, очень крепких на вид баб. Кроме них в каждом лимузине находилось по две личности в темных пальто не по сезону и явно немалого духовного сана. В каждой машине наличествовал также сравнительно молодой человек кавказской внешности, не кряжистый вовсе, скорей худощавый, а кроме того, еще один, лет тридцати, внешности вполне русской. Между ними сидел средних лет выбритый до синевы хромой интеллигент, сильно дрожащий, хотя ни единый лимузин не трясло. На среднем сиденье, охраняемые справа и слева семипудовыми, притом чернокожими морпехами в чем-то вроде холщовых пижам, располагались, вероятно, главные — старик, ни на миг не открывающий глаза, а также отнюдь не юный, за шестьдесят, человек с бритой нáлысо головой. Каждый, глянув на его профиль, легко понял бы, что торопится к неведомой цели не кто иной, как государь всея Руси император Павел Второй, такой любимый в России благодаря профилю на золотой монете в пятнадцать рублей, на империале. В точности такой, в точности, только лысый и… нервный.
Император наличествовал в количестве, заметим, девяти экземпляров.
И еще четыре места в каждом лимузине было относительно пустых: на них стояли ящики. И, не забыть бы сказать, все лимузины были очень круто бронированные. Прямое попадание из сто двадцать второго калибра, да еще с использованием обедненного урана, конечно, стекла бы тут разбило. А может, и не разбило бы.
Таким образом, помимо девяти императоров Кремль покидали девять наследников престола, девять верховных инструкторов охраны его величества, девять митрополитов, девять духовников царя, девять глав императорского протокола и, что уж совсем невероятно, — девять предикторов, хотя каждая собака знает, что в одном поколении на весь мир больше двух-трех не бывает. И, разумеется, девяносто его императорского величества морпешек Зарядья-Благодатского Настасий разместились по десять штук в девяти лимузинах. И это не считая восемнадцати морпехов чернокожих простых, в холщовой одежке. Страшно и подумать — для какой цели они-то здесь были. Бабья дивизия могла бы и сама управиться.
Было бы в Кремле не трое ворот, а пятеро, как в давние времена, — без сомнения, на каждые пришлось бы еще по три лимузина. Но больше ворот не было. Разверзлись три правительственных трассы — на юг, за Большой Каменный мост, на север, за Крестовскую заставу, на запад, за Дорогомилово. Царь Павел Второй сматывался из столицы куда-то за Можайск, куда-то за Дмитров, куда-то за Сергиев Посад, лишь не так давно получивший свое старинное название, ибо комиссия по переименованию, решив, что название «Загорск» происходит от того, что город и лавра в нем «за горами» лет на двадцать с расказачиванием старого большевика Загорского припоздала.
Только ни в один из этих городов ни один из императоров не спешил. На выезде из Москвы каждая тройка разделилась, как лилия французских королей, как разрывная пуля, на три части, и все девять императоров умчались по своим делам, куда сердце звало и куда было приказано. Поздней историки, в свете дальнейших событий того года стали справедливо предполагать, что едва ли все девять императоров были подлинными. Ну, много три. Пусть четыре, ну никак не более.
Нередко высказывалось предположение, что императоров там не было вовсе.
Те немногие, кто предполагал, что среди девяти императоров подлинным был только один император Павел, тоже были не совсем правы: один Павел из Москвы и впрямь свалил. Но вместе с ним свалил и другой император. Будущий. Наследник престола, и тоже Павел.
С ними в одной машине, — что было весьма рискованно, но попробуй найти другой выход в такой спешке, — уносились митрополит Опоньский и Китежский Мартиниан, духовник царя иеромонах Арсений Православлев, предиктор Гораций Аракелян, воплощенный ужас России, глава личной гвардии царя, безнадежно больной двусторонним опущением верхних век Галактион Петрович Захаров по всенародному аббревиатурному прозвищу «Вур», глава протокола Кремля Анатолий Маркович Ивнинг, двое неведомо какого происхождения чернокожих и толпа охраны, отображая из женской гвардии Зарядья, его императорского величества Анастасийской гвардии.
Понятно, что в остальные ЗИПы был заправлен точно такой же боекомплект, только там он был липовый, за сто метров можно бы угадать, что группа тут не та же самая. Только которая подлинная? За тонированными стеклами — как в семнадцатом псалме — темна вода во облацех.
Чем занимались в дороге восемь липовых лимузинов с восьмью липовыми Павлами — совершенно неинтересно. Зато единственный подлинный, миновав по «кабаньим тропам» задворки городов Солнечнокрюковска, Новопокровска и Клина, тщательно избегая его императорского величества своих собственных автоинспекционных тайных засад, проигнорировав потемкинское Завидово, объехав по кривой и плохо заметной дороге секретное село Дмитрова Гора, повинуясь писку навигатора, остановился у заброшенного на первый взгляд каменного дома на обочине, у щита, с еле видной белой надписью «Сестробратово». Навигатор обстоятельно пропищал, что до реки Сестры — двести метров, дорога дальше не ведет, переправы нет, бензоколонки нет, короче, нет вообще ничего.
Над домом с двух костылей свисала кривая вывеска «Товары». Дом был не бедный, каменный, позапрошлого века: пять окон с торца, мезонин, коновязь, с трудом приспособленная под автостоянку, главное же то, без чего самое малое селение в советские времена жизни не мыслило, — огромная доска почета. Без портретов, правда.
Бабы высыпали из лимузина, расставили треноги противотанковых ружей, залегли в кустах. Для надежности сеть маскировочную поверх растительности добавили. Место, похоже, было им знакомо. Два дюжих морпеха, словно хрустальную вазу, вынесли из машины престарелого Галактиона Петровича и отработанно подняли ему веки.
— Туда. — Воплощенный Ужас России, «Вур» в просторечии, указал на дверь «Товаров».
Дверь легко открылась, все трое вступили в помещение, представлявшее собой изрядно пыльный гибрид американского бара времен великой депрессии и советского сельпо. За полукруглой стойкой с полированным в давно минувшие года прилавком, на фоне длинного ряда бутылок бармен полотенцем протирал стаканы. На полотенце читалась надпись стилизованными под клинопись литерами — «Джермук». Правда, ассортимент бутылок на стойке минеральной воды не предлагал, скорее он наводил на вопросительную мысль — который из Смирновых наиболее Смирнов?..
— Я Измаил, — сказал гость, опираясь на провожатых.
Бармен помолчал, затем неуверенно произнес:
— С приездом, Измаил, батюшка. Богом ты услышан и взыскан. Что слышно в пустыне Фаран?
— Бедуины живут в пустыне Фаран. Аминь.
Обмен репликами состоялся. Занавес судьбы упал, словно нож гильотины.
Навигатор бессовестно врал, точнее, говорил то, что ему велели. Каменный дом и доска почета — это было все, что осталось от некогда процветавшего торгового города Морщевы, нынче ушедшего под воду Московского моря. Здесь некогда стоял охотничий шалаш Ивана Грозного, здесь во времена царя Алексея Михайловича таились сторонники беспоповского великодыркина упованного согласия, здесь мучились солдаты петровских времен, пытаясь проложить дорогу из Москвы в Питер, да так и не проложили. Много чего было здесь за последние пять столетий. В тридцатые годы половину здешней земли утопили в Московском море. А чтобы не отчитываться долго, зачем такое сделали, — постановили считать, что все пространство между Волгой и Сестрой затоплено, а живут на нем одни лягушки и пиявки.
Завидев остальных гостей, бармен вздрогнул. Престарелый гость кивнул — «вольно», мол. Чернокожие морпехи наскоро стали стирать грим и оказались явными японцами, мастерами борьбы сумо. Покуда охранники усаживали Галактиона за спешно обмахнутый стол, покуда преданные бабы размещали всех, кого могли, там, где считали кому сидеть положено, царь подошел к стойке и шлепнулся на барный стул. Бармен дернулся, но одна из баб остановила его, другая извлекла из широкого рукава хрустальную бутылочку и бокал-неваляшку, вылила содержимое первого во второе. Хромой глава протокола принял сосуд, изогнулся и поднес царю.
Павел сглотнул текилу и двумя пальцами потер лоб. Неужто, кроме бегства, не было другого пути?
И сам себе ответил: да, не было.
В каких-то скандинавских кодексах, как припоминал царь-историк, имелась инструкция поведения для героя. Если тебе противостоит враг, победи его — и благо тебе. Если два врага — победи, и слава тебе! Если три врага — победи, и великая честь тебе! А вот если врагов четыре — беги от них без оглядки, и позор тому, кто осудит тебя. Или там и четырех надо победить, а бежать от пяти? Павел не помнил. Но у него недругов нынче было много больше, чем пять, и, наверное, больше, чем пятьдесят пять. И вот он, царь всея Руси, вынужден бежать сейчас из Первопрестольной через болото, чуть ли не через васюганскую чарусу, в такие древнерусские трущобы, что не всякой летописи и не всякой ведомости НКВД знакомы даже по названию. А если быть точным — то гораздо дальше тех трущоб.
Государство, во главе которого он стоял почти три десятилетия, стало теперь не единой империей, а конгломератом множества больших и небольших. Они возникали, как пузыри, и так же лопались, не выдерживая напора природного газа, сухих дрожжей, лягушачьих окорочков, искусственных удобрений, ромовых баб, строительных растворов, соленых арбузов, синтетического клея, льняного жаккарда, зондовых микроскопов, шелкового эпонжа, озерных снетков, леса-кругляка, арганового масла, нелетальных видов оружия (да и летальных, если честно), брусничного экстракта, титановых сплавов, соевой муки, бестеневых ламп, голубикового сока, песочных часов, растворимого кофе, резиновой обуви, кормовой кукурузы, мальчуковых сапог, подержанных музыкальных инструментов, печенья «Мария», пищевого золота, песцовых горжеток, пищеварочных котлов, миндального молока, пластмассовых окон, хоттабного гравидана, норильских фруктовых рынков, встречных исков, трипольской керамики, иркутских видовых открыток, канцерогенного жидкого дыма, приборных клейм, транспортных тарифов, технических стандартов, всего этого бесконечного, как коронационный титул, списка, который отдал государь Павел II затурканным советской властью и экономикой подданным, чтобы процветали и платили крутые налоги державы Матвея Ремесленника, и Зотика Максимова, и Василия Золотаря, и Нестора Амиреджибова, и Захара Мурузи, и Монтекриста Акопяна, и Зигфрида Робертсона, и Полуэкта Мурашкина, и Якова Меркати, и Лукулла Передосадова, и Алмаста Имомалиева, и Степана Гармидера, и Анастасия Воротынского, и Федора Охлябинина, и Рубена Мюллера, и Рэма Зайцева, и Доры Кузнецовой, и Николая Кионгели, и Марка Ряповского, и Рафаэля Адам-Заде, и, — вновь как в упомянутом титуле, прочая, прочая, прочая, царь и не помнил, кого там еще, — может, кого уже и кокнули, а кто разорился и забыт, неважно.
Всех не перечислишь. И не заметишь, как пригреешь на груди гадюку. Добрую четверть века вели под царя подкоп два главных врага, Запад и Восток. А врагов неглавных было больше, чем пальцев на руках и ногах у всех тех, кто бежал сейчас вместе с государем в темно-сером, «чагравом» лимузине сборки завода имени первомученника дома Старших Романовых Петра Вениаминовича Петрова. Да и то спасибо, что в сплоченных рядах заговорщиков всегда есть благоразумный предатель, и лишь того жаль, что, одержав с его помощью победу, приходится его первым же и вешать. Павел считал это правило бесхозяйственным и твердо решил на этот раз поступить иначе. Уж на что-нибудь, а пригодится каждый предатель. Говорят, предавший один раз предаст и дважды. А чем плохо? Пусть опять предаст, хоть второй раз, хоть третий, а только бы того, кого надо.
Тем более что на этот раз предатель был лично ему симпатичен. Этот самый Игорь Васильевич, как ни странно, приходился ему еще и родственником. Если вспомнить, сколько незаконных детей настрогал в молодые годы государь Александр Павлович, то скорей удивительно, что так мало прямых его потомков попадалось в современном мире. Игорь Васильевич приходился прямым по мужской линии потомком генерала Лукаша и через сына его Василия Николаевича приходился царю хоть и незаконным, но не хухры-мухры, а шестиюродным братом. То ли пяти? Павел не мог запомнить.
Никогда не узнал бы царь об этом родственнике.
Если бы не красные сицилийские апельсины. Те самые, из «Крестного отца». Небольшие, ребристые, не совсем красные, скорей бордовые, сангвинеллы, моро и десертные тарокко, изумительные плоды, не растущие почти нигде, кроме как на родине мафии, а лучшие — так и вовсе у подножия Этны. Вот такой вот родственник — скромный эксперт по цитрусам, служащий аккредитованной на Сицилии греческой экспортно-импортной компании «Ласкарис и сыновья», много лет добивавшейся титула «поставщик двора» и в итоге лет пять тому назад своего добившейся.
Поскольку обретшая столь высокий статус компания немедленно завела себе офис в Москве на Садовом кольце, всех ее сотрудников столь же немедленно проверили до шестого колена родства.
И вот именно в шестом колене отыскался у этого самого Игоря Васильевича, хотя и русского, хотя и сотрудника греческой фирмы, окопавшейся в Италии и в истрийском княжестве Тристецца, оригинальный предок — тот самый генерал Николай Евгеньевич Лукаш, старший из числа незаконных детей императора Александра Павловича. Правда, по мужской линии таковых бастардов у царя был еще Эммануил Нарышкин, то ли кто-то еще, и если в России в качестве наследника престола в иные времена готовы были признать даже хворого сына седьмой жены царя, есть о чем задуматься.
Лукаша пригласили побеседовать об увеличении поставок сангвинелл к кремлевскому столу. Удивился он или нет тому, что собеседование пройдет на минус шестом этаже горчичного здания в верхней части Кузнецкого моста, — история не зафиксировала. У него всего-то хотели узнать, что он там про своего прапрадеда двоюродного, хоть и сводного и так далее знает и думает, какой для себя выгоды ищет, — а поди ж ты! Оказалось, что знает он гораздо больше, чем ожидали те, кто его приглашал на беседу, и что знает он такое, чего лучше бы и на минус шестом этаже не знать.
Как-то зевнули все службы, не спикировали на рядовую вроде бы греческую фамилию «Ласкарис». Чему их там на минус шестом только учат? Ведь могли бы вспомнить имя византийской династии Ласкарисов, правившей Никейской империей в тринадцатом веке, после того, как во время четвертого Крестового похода, не будучи в силах раздолбать полчища мусульман Святой Земли, венецианцы и генуэзцы с трогательным старанием раздолбали Второй Рим, Константинополь, да тем и утешились.
За три недели до сдачи города крестоносцам, низложив императора Алексея Пятого Дуку по прозвищу Марзуфл, что значит «бровеносец», прямого виновника войны с крестоносцами, византиец Константин Ласкарис в Софийском соборе на три недели стал императором, потом как-то нехорошо погиб, а брат его, Феодор был коронован, но уже в Никее, и на все шестьдесят лет неплохого существования этой странной державы Ласкарисы стали ее властителями. Когда же столица вернулась в Константинополь, трон у династии скоренько отобрали Палеологи, чья фамилия имела характерное значение «торговцы старьем». Заодно старьевщики сдали османам именно Никею, чем подписали империи приговор. Но шесть последовательно правивших императоров из истории не выбросишь. Позже в Италии род Ласкарисов изрядно олатинился, однако в девятнадцатом веке, во времена греческого короля Оттона I разделился на несколько ветвей, и одна из них, воротясь в православие, неплохо прижилась в Афинах. На престол в Царьграде семья до времени не претендовала, но, выходит, лишь до времени, и мало ли на свете престолов. Сам король Оттон тоже был потомком Ласкаридов и Комнинов, однако он был Виттельсбах, а Ласкарисы как-никак оставались… Ласкарисами.
Не требовалось большого ума, чтобы догадаться: православный род Ласкарисов решил, что прав на престол в Третьем Риме у него немало. Последний православный властитель Европы, греческий король Константин II Глюксбург, близкий родич датской династии, был свергнут «черными полковниками» еще в 1967 году. Однако полтора десятилетия спустя история решила вопрос с православными царями иначе, и наследники византийской династии задумались: не прилично ли будет Третьему Риму склониться перед Римом Вторым? Именно склониться. Желательно — в священном трепете. Пусть для начала и не собственно перед Цареградом, а лишь перед его законными наследниками, но это позже можно будет исправить.
Контрразведка в Москве поначалу не поверила ни слуху, ни зрению, ни обонянию, ни прочим своим семи или восьми чувствам. Поставщик двора, его превосходительство Константин Константинович Федоров-Ласкарис, владелец экспортно-импортной компании «Ласкарис», чья фирма импортировала для императорского стола сицилийское оливковое масло Кастельветрано, красные сицилийские же апельсины и мезильмерийскую хурму, без зазрения совести готовил в России переворот. Это был невысокого роста, немного косоглазый, с аккуратно подстриженной бородкой, прямой потомок никейского императора Феодора I через старшего сына того, Константина, сказочно разбогатевший совсем не на апельсинах и не на плодах опунции, а, как выяснили спецслужбы, на своих плантациях похожих на терновник кустов, покрывавших горы острова Ломбок в Индонезии, ежедневно дававших владельцу заметно больше ста килограммов первоклассной ароматической, извините за выражение, детской присыпки. Константин Константинович, как жуткий подкожный червь-ришта, за четверть века внедрился в России во все, во что только было можно, от ясель и детских садов до верхов армии и боссов организованной преступности. Страну переполняли его красные апельсины, а то и кочаны капусты, задолго до созревания нафаршированные пакетиками присыпки, его столь же коварные карамболы и кокколобы, тамаринды и лонгконги, черимойи и маракуйи, — притом, увы, при выявлении всяких таких опасных для собак дурианов три раза из четырех присыпка, назло сверхточной информации доносов, они оказывались полны сахарной пудрой, в просторечии коксом, и вот поди ж ты, таможням регулярно приходилось расплачиваться в суде за моральный ущерб, выраженный в виде необоснованных обвинений. Правда, иной раз можно было обвинить псевдо-Федорова в фальсификации продукта, но тайный советник императора, Анастасий Праведников, рекомендовал не связываться: лучше дьявол тот, которого знаешь, чем тот, кто займет его место. Да и Гораций Аракелян настоятельно не советовал.
И все равно — обидно. Как подумаешь, какие сотни миллионов присыпкодолларов уплывают в карманы хитрого и жадного грека, — обидно. Долго рассказывать — какие силы скопила на своем кокаине в России эта византийская команда, как именно это произошло, да ведь и все равно придется об этом рассказывать позже. К тому же, увы, подобные планы имелись не только у него.
Под сравнительно стабильную Российскую империю вели подкоп решительно все, кто сомневался в собственной способности к выживанию. Некогда завоевавшие Египет «цари-пастухи» гиксосы сперва не только пирамид не строили и сфинксов не воздвигали, они, сколько можно судить, своей не имели даже письменности. Гунны, развалившие мир античной Европы, поначалу предпочитали жить в землянках и брезговали вареной пищей. Но гиксосы, как захапали Мемфис, так воротить нос перестали, в баню ходить скоренько научились. Да и гунны на баню купились, оказалась она им как нынешним туркам — византийский собор Святой Софии, напротив которой нынче турецкая мечеть «наше все». «Впрочем, и все мы хороши. Собрали кровь Рюриковичей по эритроциту, и не можем понять — у кого этих эритроцитов больше — у меня или у князя Игоря… ну да, Васильевича». Царь фыркнул. Грустно, что пришлось сваливать именно сейчас. Кто двадцать первого поздравит с днем рождения Фердинанда фон Габсбурга?..
Ласкарисы плели сеть вокруг Кремля добрых четверть века. Не зря народная мудрость гласит, что «мужика цыган обманет, цыгана жид обманет; жида армянин обманет; армянина — грек, а грека — только один черт, да и то, если ему Бог попустит». Пословица эта известна в десятке вариантов, однако в конце ее, перед чертом, всегда и непременно стоит грек. Черти на крайний случай у царя тоже были, но уж на такой крайний, что лучше о нем не думать. Авось Бог греку не попустит. А попустит, ну так… лучше раньше времени не думать.
Что интересно — ни в каком из вариантов пословицы не фигурировал, насколько знал Павел, ни татарин, ни перс, ни арап, ни вообще какой бы то ни было мусульманин. Похоже, Россия в прошлом в расчет их не брала и была уверена, что русского мужика турок или татарин не надует.
Так как же так? Трудно ли было узнать? Боги, что ли, горшки обжигают?
Как же она, мать-Россия, тут ошибалась. Век бы не слыхать этих слов — «Халифат Россия», «Имамат Евразия». Век бы не слышать погоняла «Богощедр Гайдар», которой в недавние годы прикрылся шейх-террорист Файзуллох Рохбар, твердо решивший обратить Россию в шиитский ислам. России он представлял себя под славянским именем Богощедр Гайдар. И многие верили, что это и впрямь его имя. А кто, как не Гайдар?..
Увы, получалось, что горшки и впрямь обжигают не боги. Их обжигают черти, да еще недружественные.
Кое-что удалось узнать о нем достоверное ведомству Тимона Аракеляна-младшего, унаследовавшего пост своего великого дяди Георгия Давыдовича Шелковникова. И не потому, что у организации его были такие уж длинные руки, а потому, что вместе с постом дяди унаследовал бравый Тимоша и возможности суринамской парфюмерной империи своей тетушки, каковая, несмотря на возраст, все так же процветала, в Суринаме, поблизости от тоскливого и дождливого города пальм Парамарибо. Там, на бразильской границе, через похожие на терновник лианы было не проехать и не пройти. Овдовев, тетушка жила среди своих плантаций на покое, и за урожаи парагвайского падуба можно было не волноваться. К тому же перевиты были ветви падуба еще более ценной «лианой мертвецов», известной как чилипонга. Но, увы, тому самозваному Гайдару и его клану в Афганистане тоже принадлежали не только поля заправки для макового печенья, но и плантации поскони и матерки, они же конопля, практически неисчерпаемые запасы памирской канатной пеньки, без которых в двадцать первом веке, как известно, даже космические корабли взлететь не могли, и в итоге сотни миллионов пенькоимпериалов оседали в кошельке проклятого таджика. Вот и угадывай: присыпка пеньку или, наоборот, чилипуха их обеих?..
Во всех этих грустных размышлениях торчать в загадочной однодомной деревне размером в двор становилось опасно. Проклятому апельсинщику пустить ищеек даже по двадцати семи направлениям труда не составит. А тут еще шайтан-шииты на пятки наступают. А избавишься от тех и других… Как говорится: не понос, так золотуха. Но плох был бы император, сумевший уцелеть на рабочем месте вот уже почти тридцать лет, переживший две тяжелейших войны на Икарийском полуострове, если бы не предвидел сотню-другую вариантов отступления.
Павел стукнул бокалом по стойке. Все подняли головы, никто не тронулся с места.
— Гоша, ты…
Мужчина с кавказским профилем встал.
— Государь, действительно пора. Они ошибаются дорогой, да и мост их не пропустит, но не круглые они идиоты, часа через два доберутся и сюда. А нам еще лимузин переносить, да и вообще лучше подальше быть, у них планы решительные. У них план — заложить фугас килограммов на двадцать китайского разрушителя. Взрывать они сперва будут мост, — ну, это вперед и с песней, но позже-то сообразят. По ту сторону уже нам ничего не будет, но дом хороший, жалко. Да и второй выход у Слободы пока что всего один, лучше им не пользоваться.
Поднялся человек с закрытыми глазами. Охранники вновь подняли ему веки.
— Тогда, ваше величество, командуйте. Время совпадает.
— Да поможет нам Бог… — с интонацией судебной присяги произнес Павел и слегка шевельнул кистью руки.
Липовый бармен снял с верхней полки запыленную бутылку «племянников Петра Арсеньевича», размахнулся и разбил ее о пивной кран. Стойка сдвинулась, в стене открылись ранее невидимые ворота, проем, достаточный для того, чтобы человек пять-шесть прошло в ряд. На сестробратовском дворе был белый день, между тем в открывшемся проеме время суток стояло какое-то другое, то ли утро, то ли, скорее, поздний подмосковный вечер. Бабы, сохраняя строй, вступили в проем, оберегая царя.
— Артамон, законсервируйте точку перехода, — твердо приказал «Вур» и вместе со спутниками прошел вперед царя, за ним последовал хромец, следом, с интересом глядя по сторонам, — царевич, за ним — предиктор и, наконец, царь.
Когда вся группа ушла в сумрак, бабы приступили к разборке лимузина. Им потребовалось меньше часа: автомобиль был перенесен за «стойку», помещение приведено в полностью нежилой характер, липовый бармен ходил по нему, из огромного пульверизатора покрывая поверхности хлопьями пыли и набрасывая поверх них то ли искусственную, то ли в самом деле подлинную паутину. В качестве последнего штриха он спустил на автостоянку все содержимое водяной цистерны с крыши, и земля превратилась уже вовсе в болото, поверх которого бармен наскоро набросал листья рдеста и желтые цветы кувшинок. «Точка перехода» была не просто законсервирована, от нее за версту несло мерзостью запустения. Артамон с сожалением окинул получившуюся картину взором, перешагнул порог стойки и опустил за собой тяжелую задвижку.
Жил он в шалаше по соседству, в ворота не шагнул бы под страхом смертной казни.
Шестерик лосей уже был запряжен в заново собранный лимузин: двигатель не работал, но сохатым битюгам выбирать не приходилось.
Если «с лица» здесь был остаток затопленной деревни, то с изнанки зрелище представало вполне сюрреалистическое. Посреди темно-зеленой высокой травы что вправо, что влево простирался некий гибрид забора и театральной декорации с нарисованными дверями и окнами, с аккуратно прописанной лепниной и карнизами, — словом, все, как у людей, точнее, как в театре. И лишь ворота, через которые вся группа и сама вошла сюда, и лимузин втащила, были настоящими. Притом, что пройти через эти ворота можно было лишь строго в определенное время, к тому же сюда можно было только войти, а выйти — нельзя. Нечего и говорить, что сведения обо всем этом охранялись куда строже, чем информация о контактах с инопланетянами — той, по большому счету, почти не было, а здесь… Ну, вошли же люди, когда стало очень надо, значит, этот объективно не существующий мир хоть субъективно, да существует.
Печально, что стало надо. Павел берег этот схрон на самый черный день, когда на свете не останется места, где русский царь сможет перевести дух, собраться с мыслями и силами и уж как-нибудь вернуться на рабочее место. Или не возвращаться, по обстоятельствам.
Нашел эти места лет двадцать пять назад офеня Артамон Иванович Шароградский, буквально методом тыка. Приболевши на обычном пути из Киммериона Киммерийского по Камаринской дороге где-то возле Кимр, перебравшись в поисках живых людей через Волгу, посреди топей и палой листвы набрел он на одинокий каменный дом, про который смутно помнил, что это все, что осталось от затопленного городка под названием Морщева. Кое-как, через чердак, забрался в дом, перекусил сухими корками и лег поспать, думая, что не проснется вовсе. Однако проснулся, почувствовал себя получше и огляделся. Задней стены у дома не было, она открывалась прямо в солнечный лес. Офеня шагнул в него и присел на пенек.
Перед ним сидела очень большая белка, с любопытством его разглядывала и никуда не спешила. Офеня был человек добрый, протянул ладонь: ручная придет, любая другая убежит. Не случилось ни того, ни другого, белка склонила голову набок, в глазах ее совершенно по-человечески читалось: «Псих ты, что ли?»
Белка была вовсе не похожа на привычных в русских лесах рыжехвостых красоток. Она была серая с проседью, размером с хорошего кота, — и это не считая хвоста, почти черного к кончику. К тому же она тут была не одна.
На поляне вокруг офени кружком сидело десятка два таких вот лапочек. Непуганых и весьма наглых. Так и просидели Артамон и компания белок, коих собралось тут больше, чем во всех романах писателя Клиффорда Саймака, с четверть часа. Потом белки интерес к офене потеряли и рванули прочь, в негустой кустарник. Он хотел вернуться в избу, обернулся. Но никакой избы не было и в помине, во все стороны стоял только смешанный лес и зеленела трава. Зеленела? Только что вокруг дома была поздняя осень, но пропал дом, пропала и осень, зато опять вернулись наглые белки.
Забегая вперед, скажем, что белок этих в здешнем краю оказалось невпроворот. Обозвал их кто-то «белки фаберже», да так и прилипло, потом отвалилось и слово «белка» — особенно когда кто-то из отселенных в здешние края антивеганов обнаружил, что на вкус они, как почти любой грызун, — то самое, что надо человеку, поставившему в жизни целью святое дело борьбы с вегетарианством.
В этом краю было почти все, как на Земле, только не было людей. Тут были звери — почти как на Земле, только вот почти, а не совсем. И звезды на небе были почти такие же, как на земном, только вот почти, а не вовсе такие же. У здешних лосей, в отличие от общероссийских, наличествовали передние зубы. У здешних бобров неизвестно почему имелись жабры, и они могли дышать под водой неделями. Здешний барсук был жвачным животным. Наконец, в здешних реках водился невозможный в пресной воде на земле морской конек — рыба опасно деликатесная, если у повара есть под рукой запас листьев инжира. А тут он и произрастал, и плодоносил. Побывавший здесь много позже по просьбе русского царя посол-ресторатор Доместико Долметчер рекомендовал категорически запретить и вывоз, и вылов гиппокампов без специальной лицензии, а за употребление их в пишу наказывать принудительными работами.
Но это было много позже. Первым наблюдением Артамона, когда он с трудом сумел из тех краев выбраться, стало сильное несовпадение времени суток в двух мирах — примерно часов на десять. И еще не совпадали с землею расстояния. Верста могла превратиться в две, а могла и в пятьсот локтей. И главное — если считать тот лес, в который угодил он к белкам на собеседование, Россией, и начать искать в этом мире еще что-нибудь, ну хоть какую-нибудь узнаваемую страну, ну хоть Сахару завалящую, ну хоть одно мухами засиженное Средиземное море — ничего этого тут не было. Тут была одна сплошная Россия, где, правда, не пахло русским духом, не было ни лукоморья, ни златой цепи на дубе, — хотя были кривоватые дубы, а вместо котов бегали в основном здоровенные белки. Довольно большие местные кошки, впрочем, отличались от простых тем, что имели на восемь зубов больше. Собак, строго говоря, не было вовсе, но что такое собака, как не волк, а этих тут было предостаточно.
Орехов тут было — завались, ягод тоже, да и грибов, имелись кое-какие фрукты — дикая вишня, терн. Хуже было с овощами: нашлись только щавель, редька, репа, чеснок, дикий мангольд, в котором не сразу опознали съедобного предка свеклы. Но ввозить сюда картофель и прочее Павел боялся.
Здесь не было реки Волги, — ее заменяла тощая, сложно извивающаяся речушка, по стечению обстоятельств однажды названная Сеструхой, что и закрепилось на карте. Воробей вброд ее не перешел бы, очевидно, но страус, — если б его сюда привели, — такое осилил бы. Чего здесь точно не было, так это перелетных птиц, и местные грачи вели себя так же, как местные вороны. Самой крупной птицей в здешнем краю была довольно редкая скопа, которую замечали над поверхностью воды, добывающую свой строго рыбный рацион. Неофициально Павел считал гербом этой земли именно двуглавую скопу, — однако не рассказал об этом никому, даже родному сыну.
Артамон, как и другие офени, сильно огорченные обнищанием некогда златотекущей Камаринской дороги, ведшей из таинственного Киммериона на Кимры, стал часто сбиваться с пути, надеясь все-таки найти еще какой-то островок заповедной Руси, которому сможет послужить. Да и то верно: еще при царе Горохе русский офеня, горе луковое, катясь, будто яблочко на блюдечке, понимая, что жизнь не малина, всегда ждал, что получит на орехи и увязнет по самые помидоры, будучи обвинен в околачивании груш, и, зная, что справиться с ним кому угодно проще пареной репы и что с осины не снимешь апельсина, все равно держал хвост морковкой.
…Когда Артамон, не на шутку перепуганный полугодовыми скитаниями в неведомом краю, на всю жизнь наевшись лещины и дикой вишни, все же сумел оттуда выбраться через горячий источник, ведший к верхнему истоку уральского Рифея и, похоже, вообще служивший истоком этой великой реки, добрался в Киммерион, он первым делом потребовал свидания с первым архонтом города, с кириосом по имени Артаксеркс Хадзис, сменившим на посту ушедшую на покой в монастырь кирию Александру Грек. Архонта новооткрытая территория заинтересовала, но лишь постольку, поскольку как-то примыкала к Киммерии. Позже, правда, выяснилось, что выйти оттуда в Киммерию можно, а вот как из Киммерии в нее войти — пока загадка. После нескольких попыток Артамона заставили пройти освидетельствование у психиатра. Но офеня всегда говорит правду, и архонт сделал то, что принято делать во всех случаях, — предоставил решать судьбу неизвестного края начальству, а начальством для Киммерии уже много лет был только русский царь. Вот пусть у него голова и болит.
Воспользовавшись связями с наследником российского престола, архонт предложил Кремлю стать владетелем новообретенных территорий. Наследника удивить было тяжело — он сам родился в Киммерионе на острове Лисий Хвост, вообще имел все киммерийские гражданские права — вплоть до права быть архонтом. Бережливость, переходящая в скупость, была в нем от отца, поэтому интерес к новым территориям он проявил сразу. Если уж есть пустые территории, нечего им оставаться пустыми. Артамона взяли в оборот и заставили спать в пресловутой избе неделю за неделей, отслеживая чередование открытия входов в неведомый край. Дорогу сюда проводить запретили, только немного камней набросали, чтобы скакать по ним лошадь могла, а внедорожники справлялись и вне дорог. Природа словно обиделась на человека, превратившего прекрасную и плодоносную землю в болото чуть не хуже васюганского, и оставила вход в таинственные края именно здесь, в начисто вымершей деревушке Сестробратово близ исчезнувшей Морщевы. Но что делать, если другого входа «на ту сторону» не было никакого, что подтверждалось раз за разом.
В общей сложности на оборудование относительно постоянного доступа к этой лазейке ушло почти два года. Однако все получилось. Царь прикинул в уме, что и как, и решил сделать правителем безлюдного края не сына и наследника престола, но поставил губернатором и одновременно министром этих «новых территорий» человека доверенного, секретной национальности по имени Эльдар Гивиевич Готобед, раньше числившегося референтом по кавелизму. Однако тема в новом тысячелетии как-то перестала быть актуальной — с тех пор, как был неожиданно найден ответ на знаменитый вопрос «Кавель убил Кавеля или Кавель Кавеля?». Ну, а ключарем на вратах в неизвестный край по неимению в штате державы лишнего и свободного апостола Петра, понятно, пожизненно обречен был служить Артамон Шароградский. В итоге из офени был сотворен хоть и фальшивый, но бармен. В обычных условиях это было бы позором, но архонту виднее. А уж если царь приказал…
Пространство представало здесь чем-то вроде кармана, но не так, как в Киммерии Рифейской, вмещавшей большую реку и страну вокруг нее. Здесь было много лесов и мало рек, много зверей и ни следа человеческой деятельности. Главное — здесь можно было спрятаться. Здесь можно было жить. Только жить здесь пока что было негде.
Это стало бы проблемой для кого угодно. Известный хитрец Бенджамин Франклин внушил человечеству мысль, что «неизбежны только смерть и налоги». При неполной доказуемости первой части тезиса, вторая, более доказуемая часть была безусловна и куда как выгодна русскому царю, которому платить налогов не приходилось: их платили ему самому, они шли в казну, а на свои нужды он брал оттуда самый минимум. Только когда речь идет о строительстве погреба, схрона, называйте как угодно, хоть бомбоубежищем — экономить глупо, ибо выйдет себе дороже. Царь задумал для себя эдакую Слободу. И спросил у своего предиктора, у Горация: как «ваще» такая идея насчет такой вот, к примеру, Слободы? Предиктор со свойственным ему в последние годы мрачным юмором ляпнул: «Ну да… Кассандрова Слобода». Вот так и прилипло название.
Здесь начинался странный, во многом непривычный, неудобный мир. Грозы были редкими, молнии слабыми. Ружья тут стреляли, но на три аршина. Порох горел, но едва-едва. Куда надежней были лук и стрелы, копья, пращи, метательные ножи. Почти единственным относительно мощным оружием служил арбалет. Еще баллисты типа «требушет». Их тут держали на всякий случай, хотя, по счастью, в дело до сих пор не пускали. Павел думал: может, добавить на всякий случай осадные башни? А осаждать кого? Свою же Слободу? Тьфу ты, глупость какая.
Хуже всего было то, что мир выглядел как сущая лисья нора: один вход, один выход, и оба неудобные. Строишь дом — будто пентхаус на сто втором этаже без лифта да еще втайне от всех на свете. Но Павел строил не царские хоромы, а укрепленный город. Мыслью он руководствовался той же, что некогда монахи, воздвигшие монастырь в Печерах возле Пскова, иначе говоря, не наверху горы, а в распадке: не все ли равно, если пушки не стреляют, а каменные ядра из онагров стену не перелетят? Зато близко к воде, зато пещер и убежищ нароешь, если будет надо, сколько хочешь — а вот под тебя поди подкопайся.
Вторым правилом царя-историка было: «Никому, никогда, никуда!» При полном отсутствии у Кассандровой Слободы внешнего врага (за возможным исключением той или другой росомахи) Павел рассматривал ее как настоящее фронтовое поселение, где всякий должен быть готов скорее к обороне и охоте, чем к расширению производства сверх минимальных потребностей и переходу в атаку. Без электроники человечество жило много тысяч лет и обходилось, а вот мельница нужна, и кузница нужна; гравитация всегда обеспечит работу кузнечного меха, стало быть, нужен здесь кузнец, а не программист. Пращник, а не риэлтор. Здесь был нужен стеклодув, а не переворачиватель пингвинов. Двухметровое копье-соллиферрум, против которого бессильна росомаха, а не шокер. И если человек попадал сюда и был в силах держать в руках что-то тяжелее ложки — он считался воином. Нет врагов, но медведи есть, но есть росомахи, и трижды в лесах видели давно вымершего на земле мегатерия, ленивца вдвое больше слона. Появлялся и какой-то зверь вроде исполинского енота, но у него пока не было названия.
Насчет всякого экзотического зверья руки у Павла давно чесались начать торговлю им в своих краях, но главный санитарный врач Кассандровой Слободы, странный тип Геннадий Глущенко, поднимал крик. Глущенко был помещен сюда раз и навсегда — в масштабах России уследить за его не всегда предсказуемыми поступками было бы трудно, а здесь он, как главный врач, находился под неусыпным присмотром своих подчиненных. Однако Павел приказал, коль скоро здесь нет лошадей, то одомашнить исполинского лося и никак на протесты Глущенко не реагировал, хотя тот и грозил Слободе всеми мыслимыми болезнями — вплоть до эпидемии солнечных затмений. О том, что лось — животное страшнее чумной крысы, он Слободе плешь проел. А уж когда Глущенко стал требовать публичных казней за курение — слушать его перестали вовсе.
Это была Киммерия, только наоборот. Вместо города мастеров и гильдий, каким во все века оставался древний Киммерион, тут был молодой город охотников и царевых крестьян. У этого города, в отличие от тысячелетнего града на сорока островах, истории еще почти вовсе не было. Речка Сеструха, извиваясь у города подобно тому, как в русской столице корчится Москва-река, была не шире какой-нибудь Сетуни.
Здесь почти не было металла, разве уж совсем тощие прослойки гематита. Был скверный бурый торф, зато имелось неограниченное количество леса, а значит, и древесного угля. Здесь наверняка был алюминий, но получить его при неработающем электричестве никто и не пытался. Здесь был отличный белый известняк, и стены Кассандровой Слободы напоминали, пожалуй, те, которыми некогда гордилась Москва. Здесь было зверье — а значит, мясо и кожа, клей и кость. Веганы, если б захотели, могли питаться и куманикой с орехами, но ни царь, ни губернатор извращений не одобряли. Куда ни шло — однополый брак, но веганство? Отыщись его сторонники в Слободе, их положение было бы хуже, чем у прокаженных в средние века. Но, слава всевышнему, пока случаев проказы и веганства не было выявлено. Да и насчет однополых проблем тоже пока не особо, и плевать-то всем. На кладбище бы прибраться да хмель на мартовское пиво запасти. До пустяков ли тут.
В городе было уже три сотни домов, четыре правильных улицы, церковь, необычный полицейский участок, мэрия, пожарная каланча, на которой бездельничали три отставных инвалида: чему гореть в каменном городе, где даже наличников деревянных нет? Строить что бы то ни было из дерева пока не позволялось — каменоломня давала столько материала, что его раздавали задаром.
Здесь не было коров, но нашлось то, что Европа уже пять столетий как утратила, — дикие туры. Павел одобрил проект губернатора завести тут стадо местных зубров, а то и овцебыков, или кто тут найдется, но так и не собрался, а сейчас было не до них.
Этот город был своего рода Аляской: сюда попадали те, кто хотел, чтоб их оставили в покое, и те, кого сюда отправляли, чтобы они оставили в покое других. Поэтому роль полиции в городе выполняла мощная медицинская служба, больница при монастыре Святого Пантелеймона. Впрочем, не так уж много народу привозили сюда в усыпленном виде, человек по триста в год, не более.
А еще в городе не было почты. Письма из Кассандровой Слободы в Россию не просто не доходили: их оттуда не посылали.
И много чего еще можно рассказать о государевой Кассандровой Слободе.
О том, как понемногу таскали из внешней Руси в Слободу драгоценные железо и медь, олово и свинец. Ведь даже и государев лимузин, затащенный бабами сквозь ворота, ездить тут не мог и обречен был пойти на переплавку.
О том, как пришлось приспосабливать церковный календарь к местной астрономии.
О том, как трудно найти толкового печника среди потомственных кружевниц.
И о многих других вещах, не происходящих и невозможных более нигде. Как строить человеку отношения с кошкой, у которой тридцать восемь зубов? Как сделать масло из молока лосихи, чтобы его еще и есть было можно? Как не затащить человеческие болезни из отравленного мира в мир без-человечный и девственный?
Как?..
Как?..
Как?..
А вот так.
…В этом мире был не день, а вечер. В жизни царя тоже был вечер — вечер жизни, глубоко вступившей в седьмое десятилетие, когда чувствуешь, как смеркается и в глазах, и в душе. В любом из миров человек, почти дважды пройдя дантовский путь «до середины», уже видит ее конец. Павел не раз думал об этом, хотя царь — всегда политик, а шестьдесят четыре для политика немного, даже если он вовсе не царь.
Воздух пахнул тем, чем едва ли может порадовать русская лесная чаща, — густым ароматом корицы, стиракса, сандала, бергамота, мускуса. Под ногами скрипело гравийное полотно. Садиться в лимузин царь отказался: и без того десять часов просидел, а до Слободы была едва ли «кассандрова верста» — расстояние неопределенное, но в любом случае не особенно большое. Две дюжих бабы — прочих существенно моложе, меньше похожие на прочих, более чернявые, что ли, послушно последовали за ним, держа стволы наперевес.
Следом за ним, почтительно выдерживая дистанцию в сажень, двинулся человек, которого царь назвал Гошей: государев предиктор Гораций Аракелян, ясновидец со способностями почище всякой Кассандры или Протея, притом царь был склонен к его мнению прислушиваться уже лет тридцать. Своего острова у него не было, — хотя попроси он, царь уж какой-нибудь Фарос ему подарил. Каждому Протею нужен свой Фарос. Этот, пожалуй, был исключением. Почти все предикторы любят во что-то играть — в шахматы или в го, хотя это скорее не игра для них, а построение задачи, в которой существует множество вариантов. Будущее не написано, оно, как и в шахматной задаче, ограничено числом решений. Протей всегда многолик, иначе он и не Протей вовсе.
Нет числа мирам в универсуме, и абсолютное их большинство никак между собой не сообщается. Для человека православного таковыми дополнительными мирами являются рай и ад, католики прибавляют к ним чистилище, у кого-то там валгалла и прочее, — наверное, есть это все где-то, да и дотянуться можно до иных, увы, лишь без гарантии возвращения домой. А вот мир Кассандровой Слободы, изначально как бы чуждый добра и зла вне обычного природного биоценоза, поддавался воздействию и служил чем-то вроде последнего рубежа, за который можно отступить, как случилось это некогда с крепостью византийцев на острове Корфу, так и не взятой турками во все века. По большому счету та крепость была ничем не удивительнее Кассандровой Слободы. Город, стоящий на вершине горы, от взоров не укроется, да только надо ведь на него взоры поднять. Не все твари Божьи на то способны, а и тот, кому на них укажут, не всегда поднимет глаза.
Ничто, происходящее в природе, не может нарушить ее законов. Если оно их нарушает — следовательно, плохо мы знаем эти законы.
И тому, кто вынужден вступить в такой мир, придется приспособить его законы к себе. Или себя к ним, что в итоге одно и то же. Бегство в такой мир не позорно и не почетно. Оно не более чем поворот ключа, когда закрываешь за собою дверь, входя в убежище. Правда, не потеряй ключ.
Да еще не забудь и домой вернуться. Туда, где сейчас пошли великой войной апельсины с кокаином на дыни с октогеном.
II
7 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ФЕРАПОНТ МЕДВЯНЫЕ РОСЫ
Их бин арбайтен ин руссише гестапо.
Владимир Войнович. Приключения бравого солдата Чонкина
Именно там Тимон Игоревич как раз и работал.
Сравнительно молодой генерал-майор оказался главой ведомства естественным образом — унаследовал место от дяди, покинувшего бренный мир в бурном девяносто шестом во вполне почтенном возрасте. Были потом еще два начальника, покинувших бренный мир намного менее спокойным и в одном случае добровольным образом. Подчинялись ему, если быть уж совсем честным, полтора ведомства. Смежное Имперское бюро занималось делами наиболее близкими царю, служило откровенно и лично двору, и вопреки обыкновению действовал тут не принцип кошки и собаки, а принцип двух воронов.
Да и симпатичен был Анастасий Ипполитович Тимону Игоревичу. Чуть старше него самого, «смежник» попал в жизни в такую передрягу, что врагу не пожелаешь. В уже далеком восьмидесятом он исчез из телепортационной камеры — даром что та была моделью, к работе и не предназначалась, но случилось то, что называется выстрелом незаряженного ружья: сработало то, что работать не могло в принципе. Вместе с двумя умудренными жизнью кобелями служебно-бродячей породы он исчез из жестяного параллелепипеда на восемь с небольшим лет неизвестно куда и возник в той же жестянке, уже без собак, исчерпавших жизненный лимит, потом вроде бы не смог, вероятнее же не имел права рассказать, где годы провел, побывал на приеме у царя, еще — на длительном отдыхе в краях, эвфемистически именуемых «дальним Подмосковьем», вернулся совершенно расцветшим и получил рабочее место во внутренней охране Кремля, тем самым уйдя от профессионального надзора Аракеляна-младшего. Назначен на новую должность он был своеобразным приказом, гласившим, что назначается он «в связи с приобретением доверия». Что интересно — Анастасий Праведников Кремля не покидал больше никогда. В правительстве роль его была не особо значительной — был он чем-то вроде главы царской канцелярии, что, понятно, если переводить в термины третьего рейха с намеками на конкретные персоны, звучало не очень хорошо, но не поминать же человеку, что фамилию свою ведет он от тверских дьячков, не обращаться же к нему «ваше боголюбие». Эдакий Мартин Борман из духовного сословия, как съязвил однажды об Анастасии кто-то из референтов. С тех пор никто никогда не узнал — куда референт делся.
Вообще манера переводить имперские чины в соответствующие звания третьего рейха была всерьез наказуема — но неистребима. Тимона Игоревича кто-то иногда называл за глаза Мюллером, но за это молодой генерал велел никого не карать: слишком уж обаятелен был этот ворюга в неисторическом образе, который напялил на него сериал про «плачущие мгновения». Зато попробовал бы какой референт обозвать его Гиммлером — мигом бы тот отправился реферировать то, что есть тайна, ни единому живому существу не открытая. С точки зрения реальной истории большой разницы между двумя Генрихами не было почти никакой, но звучали имена как-то по-разному.
Аракелян-младший был очень привязан к семье, даже к странному старшему брату, любимцу не столько царя, сколько светлой памяти великого князя Никиты, на коего в России кое-кто всерьез молился и считал все перемены, произошедшие к лучшему, его личной заслугой. В российских переменах к худшему едва ли кто разбирался лучше, чем сам Тимон. В силу этого народ всерьез полагал что он, стало быть, всему и виной. Генерал понимал, что это издержки профессии.
К младшему брату, Цезарю, он относился как все — с восхищением и без уважения. Тот унаследовал от отца должность ректора военно-кулинарной академии и нигде, кроме как на кухне, время не проводил. Ну а к самому младшему из братьев, к Горацию, к человеку, без которого и Павел-то уже тридцать лет шагу не делал, какое ж может быть отношение, если тому и император не начальство?
Отец и мать, как стукнуло обоим по семьдесят, переселились в теплые края, в Гюмри. Кумир братьев Аракелянов, дед Эдуард мирно дотянул до девяноста и за неделю до смерти успел увидеть, как вылупилась пара юных гиацинтовых ара — уже из шестого поколения его домашнего питомника, и отошел совершенно примиренным. Мало кто, пожалуй, так славно прожил жизнь. Включая десять лет благополучной отсидки.
Жену подобрал себе Тимон традиционную, из того же Гюмри, и была Зармануш Андраниковна для него истинным боевым товарищем, хоть он и мешал ее продвижению в чинах, выше майора не пошла, двойню родила, девочек, чьим воспитанием и занималась в свободное от службы время. Времени этого у нее было мало. А у него, у Тимона, его вовсе не было. Какое свободное время у главы политической полиции империи?
Так что любовью в семье он обижен не был, но вот выйти из рабочего кабинета мог спокойно только в комнатушку для отдыха. Там он влезал в наушники и, сколько позволяли дела, слушал хорошую музыку, по большей части армянскую — правда, собственно армянскую речь понимая с пятого на десятого, но чуть не весь репертуар любимой эстрады Тимона существовал и в русском «с акцентом» исполнении. Плейлист он для себя не расширял — слушал полсотни песен по кругу, перемежая небольшим количеством Азнавура, — тут он смирялся с тем, что не понимает вовсе ни слова, — и возвращался к работе. Собственная лингвистическая бездарность его не тяготила. Ему полагалось знать имена, факты, события, — а с этим у него был порядок.
В литературе и в кино интересов у него не было вовсе: как предшественники, пускать слухи о том, что, мол, он по вечерам читает в подлиннике Монтеня и Макиавелли, он не старался: бояться будут и так. Хотя не совсем, «Государь» Макиавелли был им трижды прочитан по приказу царя, который объяснил: кто этого не читал, тот может мылить веревку, и это куда верней, чем таблица умножения. Но уж эту книгу Тимон выучил туго, она очень помогала.
Было и еще одно исключение. Довольно давно он решил выяснить — откуда батюшка с матушкой выкопали ему имя? Ну, старший — понятно, Ромео, кто ж его Джульетту не знает, у него их целая деревня. Ну, младший, Цезарь — конечно, на кликуху похоже, но все равно нормалек. Ну, самый младший, Гораций, это по древнему поэту, говорят, хорошему, но читать нет времени, да и вообще в семье это тот брат, которого не обсуждают. Но что ж за имя прилепили они второму сыну? Тимон поручить такой вопрос еще кому-то постеснялся, вспомнил, что вроде бы все имена братьев не только родители любили, но и любил их и знаменитый Шекспир, полез в собрание сочинений, и гляди ты: впрямь нашлась у того пьеса «Тимон Афинский». С трудом осилил генерал, тогда еще подполковник, малопонятную драму, но главный вывод сделал для себя сразу: был этот самый Тимон законченный отморозок. Сперва разорился, потом с горя ушел в лес, стал молиться, чтобы бог отомстил неверным друзьям, а бог ему вместо того мешок денег насыпал, а этот идиот на него обиделся. Так в лесу и остался сидеть, когда же к нему военный преступник пришел, изменник родины, он с каких-то веников почти все деньги ему и отдал. Шлюхам каким-то платил непонятно за что — мол, болейте на здоровье, и другие чтоб после вас болели, словом, бестолочь, если не псих законченный. Может, что и не так понял будущий генерал, но в целом именно так.
Обиженным на родителей проходил он только полдня. Но потом пришел к выводу: они эту хрень шекспировскую наверняка не читали, им имя понравилось, звучит-то хорошо. Пьеса нигде вроде бы в Москве не идет, да и шла ли когда? Что там в Англии идет, это их дело, они даже язык свой толком выучить не могут. Словом, плюнуть да растереть и вовсе забыть. А чтобы на будущее нежелательные ассоциации удалить — пусть-ка подберут кого другого приличного, по кому ему имя дали. Этого сам он уже сделать не мог, поломал голову, как быть, и вспомнил, что у светлой памяти дяди Георгия был вроде как литературный секретарь, очень его дядя всегда хвалил, книги свои дарил, — «Ильч и Флике идут за кольцом всевластия», самую позднюю — «Ильич, который живет на крыше», хорошие книжки, хотя больше для детей.
Мустафу Ламаджанова, все еще бодрого старика, отыскали в тот же вечер в доме престарелых для богатых писателей в поселке Окочуринец. Тот ничего не имел против встречи с племянником старого друга, да и просьбу его понял. Попросил на изучение предмета неделю, а управился в два дня.
Он предложил «заказчику» сразу четыре варианта, все примерно годящиеся, но какие-то неубедительные и незнаменитые. А нет ли чего в запасе? Татарин, похоже, не зря пользовался расположением дяди. Он предложил Тимону считать, что в загсе при записи в свидетельстве о рождении сотрудница недослышала, записала «Тимон», а надо было «Тимолеон». А это что за хрен такой? Оказалось, вовсе не хрен. Был это знаменитый полководец в той же самый Греции, очень такой нехилый тип, навешавший по ушам не кому-нибудь, а Карфагену. И так навешал, что тот был разрушен!
Вот это Тимону годилось. Он решил не делать так, как думал сначала, не отправлять татарина в референты туда, откуда сводок не поступает. Пусть живет в своем Окочуринце в память о дяде. А идею с ошибкой в свидетельстве о рождении Тимон отредактировал. Оказывается, он всегда был Тимолеон, только в детстве его в школе Наполеоном дразнили, вот он и сократил имя, когда паспорт получал, чтобы произнести легче было. А что, есть еще какой-то Тимон? Не слыхал. Право, интересно. При случае поинтересуюсь, только вот времени нет совсем. А что, неужели так? Да помилуйте, у меня свидетельство о рождении есть, хотите, покажу, в нем ясно написано — «Тимолеон». Да нет, уж останусь Тимоном. Привык за столько-то лет.
Чтоб уж вовсе закончить с описанием генерала, надо отметить, что он практически никогда не снимал очки. Помогало в работе, ибо видел он очень так себе, но главное было то, что оправа из натуральной черепаховой кости внушает уважение и друзьям и врагам. Не как память о неудачливом понижателе цены на аквавиту, у того очки ширпотребные были, а как напоминание о том, что уже тридцать лет изготовление такой оправы запрещено, считай, во всем мире. Вот и размышляйте, господа, отчего всем нельзя, а генералу Аракеляну можно.
День обещал быть тяжелейшим. Москву покинули те, кто обычно отдавал приказания генералу, и те, с кем он по крайней мере мог провести совещание и принять решение. Царь же оставил столицу всего-то на четырех доверенных человек, взял свою охранную гвардию, митрополита, наследника и личного пророка и велел блюсти порядок до тех пор, пока он не вернется. А до каких это пор? Ясно, до надлежащих. Не царское дело, выходит, столицу стеречь… Стоп. Такое и в мыслях иметь нельзя. Телепатов Тимон Аракелян навидался достаточно и сожалел, что над ними нельзя дератизацию провести. Столько ведь прекрасных телепатицидов придумано! Но Макиавелли не советует. Он советует поступать так: зазвать всех, кого опасаешься, на посиделки, разболтаться о чем не надо, потом объявить, что такая беседа не для лишних ушей, отвести гостей, скажем так, в другие покои и больше не беспокоиться, потому как те, кто могли бы осудить тебя, более тебя осуждать не могут, а остальные будут благодарить за то, что ты поступил так, как поступил, а что касается их самих, то рассудил иначе. Умный был тот Макиавелли мужик, хорошо, что сейчас в ведомстве такого нет, не то мигом пришлось бы его слать референтом туда, откуда сводок не поступает.
Кроме самого Тимона, за Москвой сейчас наблюдали смотрящий по Кремлю упоминавшийся уже Анастасий Праведников, а еще Адам Клочковский, глава военной разведки, «Шелленберг», так сказать, — по терминологии всех же «плачущих мгновений», за прозвища из которых не наказывали, — ну, еще одного, и все. А остальные — так проку ли от остальных «ответственных», все только и знают, что у него инструкции требовать. Есть еще верховный прокурор. Можно представить, как она, почтенная Матрена из Почепа, отдаст приказ о наступлении. Или об отступлении. Короче, все, как всегда, на мне одном. Хорошо хоть за сам Кремль есть кому отвечать.
На охране города сейчас были только императорский конвой, кремлевские гвардейцы, совсем небольшое подразделение, еще Сумской гусарский мотострелковый полк, Донской казачий имени его превосходительства генерал-лейтенанта Каледина полк, Оренбургский уланский танковый оперативного назначения полк, вот и все, собственно, — а серьезные войска на Валдае за Тверью. Вот и защищай столицу тремя полками, если по тюрьмам и то публики больше сидит и, как всегда, только ждут случая поменять одного царя на другого. Есть конногвардейцы, но от них толку чуть, горазды махать Стечкиным, — вот заставить бы одного такого посидеть недельку на прослушке — тут же был бы из него бравый Крючков или Теркин.
Вызвать оперативные части с Новой Земли или с Курильских он мог за двенадцать часов. Но такой десант был бы откровенным признанием начала гражданской войны. Пока греки с хоругвями ломают свою многотысячную комедию на Болотной площади и требуют вернуть Крест на все высотные издания, особенно на университет и МИД, драки нет, но скоро будет. Кто-то уже и на соборную мечеть требует! Был бы царь на месте, рыкнул бы, что вообще-то он не одних православных греков император, а всех народов и религий на Руси. Только оттуда, где он сейчас, не положено рыкать.
Настроение у генерала было хуже некуда, и уходить слушать Боку Давидяна не было никакого желания. Но что-то делать было надо, и Тимону Игоревичу пришлось пошарить в памяти. «Движения подкупательные тактикою допускаются», — всплыло что-то из школьной программы в памяти. День жаркий, отчего бы народу не отправиться за город и там не митинговать хоть круглые сутки, в Саларьево, или на какой другой мусорный полигон, можно гуляния им организовать с подарками, со слабоалкогольным пивом и не очень сильной борьбой за соблюдение слабоалкогольности? Сделать можно, а деньги?..
Оперативных денег у ведомства генерала было чуть, хотя он и знал, где занять, притом без отдачи. Но обращение к теневому банкиру царя, обрусевшему ломбардцу Якопо Меркати, благополучно много лет державшему меняльную контору на Петрокирилловской, в будущем могло откликнуться прямым обвинением в самоуправстве с последующими оргвыводами. Впрочем, царю для таких выводов никакого повода не требовалось, надо будет — объявит что угодно за что угодно. И сын у него такой же, это Тимон знал. Он был уверен, что эту семью не пересидеть в ближайшие десятилетия никому. Макиавелли заранее объяснил, почему такое случиться должно: семья Старших Романовых сумела вернуть единожды потерянную страну, а «покорив мятежные области вторично, труднее потерять их, потому что под предлогом подавления мятежа правитель может укреплять свою власть с меньшей оглядкой, наказывая провинившихся, выявляя неблагонадежных и защищая наиболее уязвимые места». Эту молитву Тимон понимал куда лучше, чем «Отче наш», читаемый ежедневно всеми верными сынами его императорского величества властвующей партии.
Откуда же взялась еще и «византийская партия»? Ведомство Тимона по прямой инструкции сверху поощряло движения, способствующие возрождению национальной русской идеи, даже в тех случаях, когда они несколько расходились с позицией Державствующей церкви. Нельзя лишить славянские народы почитания традиций того далекого и прекрасного времени, когда свет христианства еще лишь готовился воссиять над Русью. Почитание Перуна, Ярилы, Сварога и прочих чучел запрещать было вообще пока что глупо, ибо в настоящую религию оно сложиться едва ли могло, — за этим зорко следили, не допустили бы, — а доходы и в казну, и в укрепление патриотизма набегали немалые. Еще важней было движение за возвращение священных реликвий православия в Третий Рим. Движение ктиторов, всенародный почин дарителей-благотворителей мощно и в едином порыве стартовало в империи в уже далеком девяносто пятом. С тех пор в Россию были возвращены сотни, если не тысячи реликвий, привлекавшие к себе миллионы паломников со всего мира.
И как тут не вспомнить обе истории о том же Меркати. Хитрый ломбардец поставил цель — и добился ее. Лет двадцать тому назад он сделал Российской империи истинно царский подарок: по невозможным своим каналам обмена «шила на мыло» правдами и неправдами выменял четыре иконы византийского письма конца седьмого века, периода, предшествовавшего иконоборчеству, — и торжественно их в главный храм России пожертвовал. Хотя и был меняла Якопо по рождению католиком, но император этот дар оценил и жертвователя сделал почетным гражданином Москвы, что дало ему право на потомственное дворянство, а что еще важней — на право откупить в неотчуждаемую собственность особняк бывших князей Кирилловских на Петрокирилловской, близ Чертолья.
Но на этом меняла не остановился. Твердо решив перейти в высшие ктиторы империи, он собрал невероятный храм во имя священномученика Петра Алеута, одного из наиболее почитаемых святых Америки, по одному камню из церквей обоих материков Западного полушария — и перевез их в Москву. Поскольку святой был замучен испанцами-католиками близ Форта Росс еще во времена государя Александра Благословенного, Меркати одним выстрелом попадал в три цели: указывал на долг, который есть у Первого Рима перед Третьим и который не выплачен, на превосходство восточного христианства над западным и на то, как крепки связи России с Русской Америкой, прежде всего с Американским Царством Аляска, не очень прославленным, но благополучно живущим государством во главе с царями из династии Нипелов. Наконец, тем самым Меркати окончательно доказывал свою лояльность: католик по рождению, он прямо принимал сторону православия.
Казалось, ему вообще плевать на затраты. Собирая камни для храма, он обеспечил по две ступени из древнейших католических храмов Латинской Америки. В итоге лестница, ведшая на колокольню храма Петра Алеута, не имела подобия нигде в мире. Правдами и неправдами много лет Меркати привозил из Америки старинные плиты — иной раз тратя безумные деньги на подъем церковных ступеней из храмов, по тем или иным причинам ушедших в морские глубины. Здесь были и ступени из церкви Сан-Педро, что на острове Табога в Панаме, заложенной в 1524 году, и ступени из собора Девы Марии в Санто-Доминго на Гаити, бывшей еще островом Эспаньола в те времена, и даже ступени из прославленного собора Девы Марии в Мехико, построенного лет через сорок, — словом, из десятков американских католических церквей, объединенных лишь тем, что ни одна из них не была закончена постройкой позже года тысяча шестьсот тринадцатого. Дата была выбрана очень точно — она золотыми цифрами сияла в русской истории.
Затраты ломбардца окупились, и еще как, — даже если он истратил все свое состояние и залез в долги. Храм Петра Алеута был собран, как и следовало ожидать, близ посольства Аляски, на Пресне, бывшей Красной, а принявший православие Якопо, отныне Яков Павлович, получил титул Великого Ктитора России, что было не сильно ниже звания великого князя. Нетрудно догадаться, откуда взялось его отчество, хоть и был он всего на восемь лет моложе царя.
Занять деньги на народные гуляния у него было проще простого. Но Тимон, обдумывая последствия, вспомнил и то, что подарил банкир России не какие-нибудь иконы, а именно что византийские. А как раз византийская вакханалия бушевала сейчас на площади перед Кремлем по другую сторону реки. Выходило так, что как ты ни поступи, не предав своего царя, ты действуешь против Константинополя.
Против возвращения крестов на Святую Софию и на московские высотки. Против признания первенства греческой церкви над всеми иными. Против почитания имени великого патриарха Константинопольского Фотия I, отвергшего иконоборчество и распознавшего небогоугодную суть установлений Первого Рима, утвердившего истинные основы Православия, еще в девятом веке первым одобрившего крещение россов и тем самым принявшего их под опеку первенствующего над христианским миром Второго Рима, — а вот в современной России понять-то нельзя, канонизирован ли патриарх Фотий: в месяцеслове его имя сорок лет как значится, и основателем русской церкви он вроде бы как считается, — а где тогда акт канонизации?
И где вообще патриарх у империи, добровольно очередной раз отказавшейся иметь собственный патриарший престол, некогда все же учрежденный под давлением будущего царя-ирода Бориса Годунова? Ответ один — в Византии. Следовательно — как некогда должен был быть разрушен Карфаген, так ныне должна быть восстановлена Византия и власть византийских императоров, причем именно последней династии, избранной законно, а не захватившей престол кровавым преступлением, и такая династия есть лишь одна — династия Ласкарисов в лице ее нынешнего главы, Константина Ласкариса (Федорова) и его наследника Василия, и еще у него младший сын тоже есть.
И вот во всем этом исторически-теологическом византийском кошмаре приходилось теперь разбираться главе имперской госбезопасности. Да еще в отсутствие верховного митрополита, бегство которого Тимон в душе осуждал, но мог понять. Достаточно было поставить его на колени посреди Кремля — и все, пиши пропало, признавай и новую наиболее законную древнюю церковь, и новую наиболее законную древнюю династию. И признавай новый герб, воссиявший на греческих хоругвях — золотую трехглавую сову, символ, говорят, тройной мудрости. Где они выцарапали этот символ? А, не все ли равно.
На шестом этаже, где находился кабинет генерала, было жарко. На дисплее перед Тимоном мелькали два десятка огоньков вызова — это были доклады референтов-аналитиков, к которым поступала информация о скоплениях народа в столице, о несанкционированных митингах, — санкционированных не было и быть не могло, откуда им взяться, когда царь в бегах, — о нездоровых настроениях на заводах, о приведении в боевую готовность охраны на дачах олигархов, о попытках выезда за рубеж или иных происшествиях, требующих той или иной реакции. Угрожающего красного сигнала пока вроде бы не поступало. Хотя вот…
Как и следовало ожидать, накал митинга на Болотной достиг точки кипения и стал выплескиваться массовым скандированием лозунгов «Крест на Святую Софию!» «Долой ктитуру!», «Слава Патриарху Досифею!», «Вся власть василевсу!», «Свободу Йоргосу Джелалабадскому!», вовсе непонятное «Долой митатство!» и, что хуже всего, «Слава императору Константину!». Последний лозунг, как сообщали Тимону, Россия уже выслушала в Питере почти двести лет назад, и тогда все обошлось. А нынче как еще выйдет?..
Среди требований кое-какие для успокоения толпы можно бы и выполнить. Например, освободить крутого вора в законе Йоргоса Джелалабадского, все равно просиживающего «за смотрящего» в Бутырской тюрьме десятые штаны. Например, найти что-нибудь такое, что и впрямь отправить «долой» можно. Митатство это самое, знать бы еще, что это вообще такое.
Но хуже всего был второй красный сигнал. Именно красный. В руках митингующих все чаще стали появляться мелкие красные апельсины, и Тимон отлично знал, какова у таких плодов сицилийской природы бывает начинка. От одной человек тихо валится в родной чулан и всю неделю свободен, от другой звереет и грызет горло первому, кого увидит. И это все против Кремля, с тремя сотнями полицейских на все про все. Нет бы вовремя погнать их в Саларьево. Доапельсинничались.
Для Тимона Аракеляна это был натуральный вой сирены.
Когда волк понимает, что пути из капкана нет, — он, если он волк очень сильный, может отхрупнуть свою же лапу и сбежать на трех. И еще, не ровен час, перегрызть горло охотнику.
И не надо ему для того никакого красного апельсина.
Тимон повернулся к закрытому ноутбуку на приставном столике и резко поднял крышку, сверкнувшую по гардинам отблеском сицилийского апельсина, врубил кабельную связь по скайпу.
— Начинайте.
Мрачный тип в гражданском на экране козырнул и отключился. Теперь надо было ждать. Генерал надеялся, что недолго.
И через считаные минуты с Большого Каменного моста и с Малого Каменного навстречу друг другу небольшими группами стали стекаться люди, очень похожие друг на друга. Всем то ли тридцать, то ли сорок, все наверняка потратившие изрядную часть жизни и на штангу, и на гантели, и на бег с препятствиями, и — главное — на занятия восточными единоборствами. Все они были похоже подстрижены, ни один не курил, даже резинку никто не жевал, разве что из-под закатанного рукава виднелась одна и та же татуировка — нечто вроде крючковатой треугольной звезды. Двигаясь по Всехсвятской улице, они заполняли площадь перед известным «Домом на набережной», из арок и подъездов которого тоже стали подтягиваться схожие типы. Были среди них и женщины, но в пропорции, пожалуй, один к десяти, и отличались они от мужчин лишь тем, чем женщина может от мужчины отличаться, покуда ее не разденешь, — но все они тоже выглядели культуристками и уж точно большими специалистками в тех же восточных боевых искусствах. И не забыть отметить — именно в их руках нередко были видны мегафоны.
Толпа их уплотнялась, отжимая протестующих грекофилов в сторону Болотного поля, всем своим видом говоря: вы митингуйте, мы вам не мешаем, но и вы нам не мешайте, у вас свое, у нас свое, а чье важнее — Бог решит, история рассудит. До хоругвей дело пока не доходило, царских портретов тоже не было, зато чем плотней становилась толпа спортивного митинга, тем гуще взлетали над ней лозунги крупными буквами, по большей части черными буквами по оранжевому фону: «ДОЛОЙ ДАРМОЕДОВ!», «ХВАТИТ КОРМИТЬ КЛЕПТОКРАТОВ!», «НАС НЕ ЗАПУГАЕШЬ!», «ДОВОЛЬНО МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ!», «СМЕРТЬ ВОРАМ!», «МЫ ПРИШЛИ ПОБЕДИТЬ!» и более всего, чаще всего — «ГУБЕРНАТОРА — НА МЫЛО!».
Кто-то приволок доски, в две минуты был сооружен помост, одна из баб с громкоговорителем прыжком оказалась на нем и рявкнула на всю площадь:
— Сколько можно терпеть воровство?
Толпа взревела, хотя понять нельзя было ничего. Она заполняла уже всю площадь, оба моста, весь спуск к Москве-реке от самой Боровицкой Башни, всю Якиманку, всю Раушскую набережную, всю окрестность, полностью блокируя грекофилов на территории Болотного поля.
— Россия — не просто для русских, — ревела баба, перекрывая толпу, — Россия — только для русских!
Ответом ей был такой рев, что пролети над толпой реактивный самолет — его никто не расслышал бы. Поверх голов, помимо лозунгов, наконец-то стали появляться серебряные хоругви с большим изображением двуглавого, именно двуглавого орла. Полиция тщетно пыталась разделить две толпы, они отчаянно давили на нее с обеих сторон. «Спортсмены» занимали Кадашевскую и Болотную набережные по другую сторону Обводного канала, теснили «грекофилов» в сторону Софийской, поближе к Кремлю. Счет митингующим уже шел на тысячи, притом на немалые. Площадь давно не могла вместить фанатиков. С Болота через головы полицейских летели красные апельсины, лопаясь и рассыпая вокруг белый порошок, — тем временем толпа перед серым домом закатывала рукава и скандировала:
— Кондрашка, сваливай! Кондрашка, прочь! Кондрашка, брысь!
Тимон делал то, что было заранее задумано, — жертвовал толпе губернатора Москвы, Кондратия Азарха, с вечера запертого надежной охраной у себя на вилле в Терехове, старинной деревне в черте Москвы за Мнёвниками. По большому счету Азарх и без того был приговорен, обер-прокурор империи Матрена Колыбелина систематически закрывала глаза на чуть ли не миллиардные взятки, которые в Терехово привозили на дачу губернатора с Рублевского шоссе от «малых императоров», коих, с намеком на похоже звучавшую фамилию удельного владыки, давно привыкли в России называть «олигархами». Слово было греческое, из-за разразившегося византийского кризиса оно резало Тимону слух, но в перспективе тем легче было избавиться и от слова, и от тех, кого оно обозначало — если посмеют ослушаться.
Кондратий был заранее обреченным на заклание козлом отпущения. Впрочем, он так и так был козлом, по жизни. Ну зачем тебе, Кондрата, третий замок в долине Луары, тем более Пьерфон, которого тебе ни в жизнь не продадут за весь золотой запаса североамериканского федерального резервного банка? Зачем тебе золотые джакузи в твоих боингах? Зачем тебе трехаршинная «Битва при Ангиари» Леонардо да Винчи на стене в Терехове, если картина украдена из Ватикана три столетия назад и ты показать ее даже адъютанту своему боишься, жалко тебе адъютанта, ведь кончать его придется, слишком он много видел? А того ты, Кондраша, зря не предположил, что этот смазливый юноша и не человек даже, а голем, сексуальный раб, заказанный прокурором в императорской мастерской у раввина-виртуоза. Ты очень удивился бы, попытайся казнить голема. Убивать их исключительно трудно. Ну просто очень тяжело.
Вопли о выдаче Кондратия окончательно заглушили всю теологию теснимых грекофилов, полностью прижатых к парапету. Начиналась давка, а натиск и не думал ослабевать.
Тимон следил за происходящим через десяток камер и тяжело дышал. Он понимал: сейчас все и случится, сейчас начнутся жертвы, и от того, сколько их будет — зависит не судьба губернатора, которому все равно уже ничего не светит, от нее зависит нечто большее — судьба города, империи, династии и более того, и самое главное — его собственная, Тимона Аракеляна судьба. За него никакого губернатора не дадут, хотя, конечно, старший брат… Хотя младший брат… Но гарантии не даст все равно никто. Младший тоже не всегда отвечает. Просто не захочет, и царь ему не прикажет.
Точка быстро ползла по дисплею вдоль шоссе на плане Москвы, спеша из Нижних Мнёвников по Звенигородскому проспекту в центр, и никаких личных охранников Кондратия там не было, там были верные слуги с той же государевой фабрики, что и его адъютант, только лица им дали другие. На толпу големов не напастись, дорого, а на охранника-другого — почему бы нет.
Тут пути-то всего на двадцать минут при открытом движении. Проспект прямой, как стрела, упирается в Садовое кольцо, на Тверскую, на Манежную, вправо вдоль Манежа, мимо Пашкова дома, влево вниз на Каменный мост… Расступись, толпа, раздайся, народ, Кондрашка идет!
Кондрашка, правда, не шел, а ехал, из машины вылезать не пожелал, големы живо с ним справились, вытряхнули наружу. Народ обстал его кольцом, полицейским как-то удавалось сдерживать толпу, а немолодой, отечный мужчина с красной банданой на лбу и сверкающей лысиной, стоял посредине, чуть качаясь, совершенно не осознавая происходящего.
— Смерть Кондрашке! — раздалось из спортивной толпы, но крикуна заткнули. Губернатора требовали к ответу: самосуд и впрямь мог плохо кончиться, все отлично знали, что в империи есть не только полиция.
Спектакль шел по другому сценарию, где-то хорошо продуманному. Азарх все качался и качался, големы пытались этот маятник остановить, но у них получалось плохо. Вдруг он вырвал у них обе руки, вскинул над головой, сцепив пальцы в чем-то вроде приветствия, и неожиданно тонким, но сильным голосом запел:
Толпа оцепенела, она ждала чего угодно, но не гимна запрещенной партии нацистов-«армановцев». Азарх тем временем перешел к припеву:
Големы, то ли по сценарию, то ли без него, попытались зажать рот Азарху, но он перешел ко второй строфе, видимо, собираясь угостить толпу всем десятком куплетов, не упуская и возможности после каждой добавлять припев.
Ария губернатора толпе начинала надоедать, ее не подхватили, на что он, может быть, рассчитывал. Поперхнувшись на очередном рефрене, он закашлялся и рухнул на колени, но петь не перестал. Полицейские засвистели, между тем сквозь их кордон со стороны православного митинга вырвался человек, размахивавший чем-то вроде шприца-осеменителя, служащего на фермах продолжению коровьего рода. Человек ничего не кричал, он подбежал к Азарху и разрядил оружие губернатору в лицо.
Грохнуло на всю площадь. Человек бросил предмет и рванул назад в толпу. То, что осталось лежать, оказалось огромной ракетницей, стартовым пистолетом, оружием старым и неубедительным, — но губернатору хватило с лихвой. Он больше не пел, он лежал ничком, и мостовая была забрызгана кровью и серым веществом его взорвавшейся головы.
Начались свистки, вновь полетели красные апельсины и хлопушки, рассыпая по толпе что-то вроде сахарной пудры. Кто-то сообразил, что застрелил губернатора человек из греческой толпы, и с воплем «Держи убийцу!» ломанул через полицейский строй к реке, в сторону Софийской, где качалась, пытаясь раздвинуться и не слететь за парапет, толпа православнутых.
Полицейский кордон, разделявший два митинга, смяли в минуту. Спортсмены, давя ногами чужих и своих, нейтральных и случайных, рванулись за человеком, решившимся на самосуд, причем эта толпа двигалась и наседала, а другой, более многочисленной, деваться было некуда: на Каменные мосты оттуда было не пробиться, Москворецкий мост давно и наглухо был заблокирован тяжеловооруженной женской пехотой Зарядьеблагодатского укрепрайона, скорей пропустили бы в Кремль, чем туда. Но Кремль тоже находился за рекой. «Спортсмены» во многих местах склонили древки знамен и, действуя ими, как копьями, ринулись в атаку. Греки бессознательно шарахнулись.
И тут парапет Софийской набережной затрещал, стал рушиться. Вслед за каменным барьером в воду посыпались люди, сперва немногие, потом гораздо больше, стали падать хоругви и лозунги, никто уже ничего не скандировал, это была настоящая Ходынка, и выхода с нее не было никому.
Завыли сирены, на обоих мостах наконец-то появились отряды конногвардейцев с полицейскими «толстопятовыми» в руках, и при первом взгляде на них становилось ясно, что это не единственное их оружие, а при втором взгляде становилось ясно, что конногвардейцы — это сущие лапочки, фретки с картины Леонардо «Дама с горностаем», по сравнению с теми, кто припожалует через четверть часа.
Тимон Аракелян у себя в кабинете откинулся в кресле. Ясно было, что основная часть спектакля закончилась и хотя ничего хорошего в том, чтобы лечить чуму холерой, нет и быть не может, но ничего не поделать — свой дьявол всегда лучше чужого.
Дальше все пойдет само по себе. «Скорые» уже на месте, речники подойдут, молодец кто выплыл, а не выплыл, так меньше ори на митингах. А вот за то, что пострадали полицейские, грекам придется отвечать: провокатор и убийца был из их толпы, есть снимки на камерах, видно же, что этнический грек. Плохо, если потери среди полицейских окажутся выше плановых, придется на компенсации семьям просить у Меркати, но это как раз то минимальное масло на волну, без которого никак.
Насчет потерь среди спортсменов генерал был по некоторым причинам спокоен. И по поводу некоторых других обстоятельств он тоже был некоторым образом спокоен. Вплоть до вечерних сводок он был свободен и мог уйти в комнатушку для отдыха, что он и сделал, прилег, влез в наушники и под ориентализированного Вертинского в исполнении Боки Давидяна задремал.
Спортивная толпа на Болотной пропускала вперед полицейских и санитаров, а сама понемногу рассасывалась во всех направлениях, стараясь втянуться во двор «Дома на набережной». Толпа редела, как туман на рассвете, исчезала непонятно куда, предпочитая, впрочем, один из последних подъездов в глубине двора, входя туда по одному, игнорируя лифт, медленно поднимаясь по лестнице пешком и вступая в дверь одной-единственной квартиры на шестом этаже. Цепочка участников митинга становилась все тоньше, тоньше, незаметнее, да вот и совсем иссякла, да вот и закрылась дверь этой самой квартиры, да вот и нет больше ни одного спортсмена ни на площади, ни во дворе, ни в подъезде, как и не было никогда.
В квартире за письменным столом сидел мрачный мужчина в гражданском, уставя лицо прямо в вентилятор, включенный на максимальную мощность. Именно этот человек отдал честь Тимону через скайп, что и стало началом конца для Кондратия Азарха, да и не для него одного.
Против стола в глубоком кресле тяжело отдувалась женщина, совсем недавно требовавшая отдать Россию не просто русским, а им и только им одним. Видно было, что день дался ей огромным напряжением, и выглядела она существенно старше тех тридцати, которые ей можно было дать на митинге.
Наискосок от нее, тоже в кресле, мусоля в руке коньячный бокал-неваляшку, сидел мужчина, как две капли воды похожий на тех добрых молодцев-культуристов, что только что топтали толпу грекофилов. Коньяк в бокале подрагивал, и это было единственным напоминанием о том, что мужчине сегодня тоже досталось.
Он отхлебнул из бокала, покатал жидкость на языке, проглотил, крякнул так, словно это и не коньяк был, а сучок, и сказал:
— Погано, Катарына, погано. Мало тренируешься. И восьмисот не вышло. Засмеют.
Катерина отмахнулась:
— Да брось ты, Дмытро. И так-то свои двадцать тысяч не втиснул…
Дмитрий обиделся:
— Двадцать втиснул. Остальных не показал, так то верно, до конца Якиманки выстроился, а дальше-то к чему? Все равно не сосчитает никто — одни скажут — четырнадцать тысяч тут было, другие — сто сорок, а веры никому не будет. Хорошо хоть быстро, а то ведь иной раз становись на двадцать километров по всему Садовому кольцу и держи сам себя за руки да пузыри пускай со смеху…
Хозяин кабинета подал голос, — ему день тоже дался тяжело, и он хотел его закончить.
— Где Роман?
— Не могу знать, господин полковник, — отозвался Дмитрий из кресла. — Ему надо по мобильнику звонить, а это только у вас, наши не размножаются.
Полковник понимающе кивнул. Расширяться множественный оборотень может до огромного количества тел, легендарный Порфириос, — тьфу, и тут грек, — умел появляться более чем стодвадцатитысячной толпой и совершать марши протеста от восточного побережья США до западного, — но с телефоном-мобильником такого не проделаешь. А и проделаешь, так одновременный звон ста тысяч телефонов кого угодно насторожит. И полковник нажал клавишу быстрого вызова на собственном.
— Да! — на всю комнату сказала трубка.
— Роман, все в сборе.
— Господин полковник, я скоро. Через Поганкины палаты проберусь, и сразу…
— Ну давай, ждем.
Покуда последний участник митинга добирался, Дмитрий с разрешения полковника разлил коньяк по бокалам. Все трое выпили за здоровье царя, бутылку Дмитрий аккуратно отнес на кухню. Все хорошо знали, что старому оборотню спиртного нельзя, от него он теряет контроль над собой и может превратиться в такое, что мало не покажется, а может и вовсе развоплотиться, что еще хуже, второго столь виртуозного провокатора на весь отдел трансформации не было. Подлинным лицом его была собачья голова, которую он вскоре и явил хозяину кабинета, показывая, кто он есть на самом деле.
— Вольно, Сердюков.
Оборотень послушно оторвал с рубашки пуговицу, съел ее, сменил лицо на человеческое, славянское и конопатое, и устало плюхнулся в кресло. Ему сегодня тоже досталось, он менял облики раз двадцать, уходя от преследования и преследуя в том числе даже себя самого. Да еще и выпить было нельзя. Ему можно было разве что лечь спать, и этого он хотел больше всего на свете. А губернатор, так что губернатор? Не пой, красавец.
Полковник, вовсе, кстати, не оборотень, и трое сотрудников сектора трансформации при ведомстве исчерпали сценарий неприятного дня, который историки последующих веков, как сговорившись, будут именовать не иначе как «болотным боем».
— Разрешите обратиться, господин полковник?
— Ты молчи «полковник». Еще ляпнешь на людях. Я тебе Юрий Иванович. Даже без «господина». Больше развязности. На людях, конечно, в сердце-то сам знаешь, как по уставу.
— Юрий Иванович… Я сегодня без подстраховки, без поддержки. Как под куполом без трапеции. А я все же один. Нехорошо.
— Абрамов на вызове. На съемках. Без него откуда вам премиальные платить?
— Все-таки слишком опасно.
— Роман, опасно без жалованья сидеть в ста шкурах.
— Хватит препираться, — вмешался полковник, — вам по двойной выпишут. И талоны в профессорскую, там шведский стол, мясо там, сельдь с яйцом, картошка молодая с укропом, овощи отварные. Меню от ректора Академии, голодными не будете.
Полковник выбросил каждому что-то вроде банковского чека. Теперь оборотням предстояло зайти на Кузнецкий, двадцать два, получить талоны и пропуск в «профессорскую» для старшего офицерского состава, — там никто голодным не оставался.
…На задворках рынка в Саларьево, куда, по счастью, не переместили митинги с Болотной, — тут жертвы были бы куда большие, — в служебном помещении таджикского овощного магазина «Арзами», на дорогом канибадамском ковре разместились блюда с фруктами и огромный наргиле с множеством рукавов. Черноглазый, чернобородый молодой имам затянулся, медленно выдохнул дым под потолок, где уже и так можно было вешать топор.
— Истребят неверные друг друга правоверным на радость, — сказал имам по-русски. Вне этих стен он числился воспитанным в русской семье восточным приемышем, православным и благочестивым, получившим то ли в крещении, что маловероятно, то ли еще откуда-то, замечательное имя Богощедр, — новый святой такой есть, неужели не слышали, — и носящем такую любимую всеми русскими фамилию Гайдар. Ведь чудесная же фамилия!.. Звали его, конечно, иначе, но приходилось идти на обман, хотя это и нехорошо. Но есть дурная ложь, а есть «такийя», ложь во имя ислама, без нее нечего и думать о воздвижении великого русского халифата. Вот и приходилось, чтобы не спалиться, говорить по-русски все время, хоть и хотелось перейти на родной фарси.
Откуда взял двадцатипятилетний шейх Файзуллох Рохбар произнесенную им только что не совсем мусульманскую фразу — он сам не взялся бы объяснить. Но она точно выражала собой то, что сегодня произошло в центре Москвы и о чем он у себя в Саларьевобаде только что выслушал подробный доклад начальник охраны, которого ныне звали домулло Пахлавон Анзури, что к природному его имени отношения не имело и присутствующих не касалось. Общий вывод был утешителен: одни враги побили других, и жалеть лишь о том возможно, что не все пока что перебили и не всех.
Из тех, кто следил за событиями того дня, саларьевцы испытывали самое глубокое чувство удовлетворения. Шейх одобрительно кивал, пуская дым под потолок, контрразведчик пересказывал детали бойни. Лишь третий присутствовавший, сильно немолодой и отечный евнух Барфи, смотрел в одну точку, и этой точкой был плоский персик на блюде в центре стола. И персика этого евнух не собирался есть.
Ему было скучно в образе евнуха. Он предпочел бы, как его младший брат-погодок, бегать сегодня по Болотной, стрелять из ракетницы по губернаторам, ползать через трубы и Поганкины палаты. Но нужно — значит, нужно. Да и до пенсии всего-то шесть лет. Можно и в евнухах потерпеть, ничего, оттягиваться потом будем.
Над Москвой раскинулась полночь, и двойная звезда альфа в созвездии Гончих Псов, чаще именуемая Сердцем Карла II, стояла в центре дуги хвоста Большой Медведицы. В России мало обращают внимания на эту звезду, не такая уж она яркая, не Арктур и не Вега, лишь немногие вспоминают о том, что именно два Гончих Пса травят в небе грозную семисвечную Большую Медведицу. Российское небо облачно, страна редко смотрит на него, разве уж когда взойдет в небеса зеленая звезда Фердинанд, ее видно и сквозь тучи, — но то в августе, а ныне на дворе все еще был июнь, и высоко стояла в ту ночь именно такая важная для нашего повествования альфа Гончих Псов.
Зря не вспоминает человечество, что у владык, единожды изгнанных или даже казненных, остаются не только дети, но и покровительствующие звезды. Так, некогда, переждав некоторое время на континенте, обрел во второй раз английский престол почти обезнадеженный представитель шотландской династии Стюартов, вот и сияет по сей день с небес упомянутая звезда Сердце Карла II.
Не забывайте, люди, сверять судьбу со звездами.
Как бы чего не вышло.
Давно ведь известно, что у императора Павла есть своя, личная зеленая звезда Фердинанд.
III
12 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ВАСИЛИСК ЗМЕИНЫЙ
Когда Василий поднялся наверх, он уже
был весь мокрый от пота, а ведь маяк
был отстроен лишь наполовину
Гарри Тертлдав. Агент Византии
На монастырском и на княжеском дворах царила пятница двенадцатого июня, она царила во всей Европе, это был день рождения Петра Великого, который в честь своего покровителя святого Исаакия Далматского воздвиг в северной столице огромную церковь. Озирая детище Монферрана, верила вся Россия, что смотрит на Петра творенье, однако заложен был этот собор почти через сотню лет после смерти Петра в царствие императора Александра I Благословенного, а освящен еще через тридцать лет в царствование не вполне законного императора, его племянника Александра II Освободителя. И был этот собор по счету от того, который строил Петр, аж четвертым.
Монастырь принадлежал ордену святого Доминика.
Княжеский двор служил резиденцией князьям Фоскарини.
Эти твердыни были главными, хоть и не единственными достопримечательностями княжества Тристецца, приютившегося в северо-западном углу полуострова Истрия на Далматинском берегу Адриатического моря. Здесь был не Первый Рим, не Второй, не Третий. И потому тот, кто нацелил свои интересы на все эти три центра мира, поступал разумно, избрав княжество опорной базой. На первое время для него все морские и сухопутные дороги вели в Тристеццу.
У входа в Триестинский залив разлеглась она, одна из самых малых стран в Европе, конституционное княжество Тристецца. Всего-то двадцать два квадратных километра. Всего-то пять или шесть тысяч человек среди цветников и виноградников, всего-то долина, ведшая между гор Монте Кроато и Монте Словено к пляжу Конфортина, излюбленному мастерами виндсерфинга и нудистами обоего пола, обдуваемому сразу тремя ветрами, и к парому возле деревни Савудрия, ходившему напрямую к Триесту.
На каждой из гор стояло мощное сооружение. Восточную, менее высокую, обрывающуюся прямо в реку Драгонья скалу Монте Словено венчал дворец князей Фоскарини, славившийся хоть и небольшой, но ценной картинной галереей и винными погребами. На западной, более высокой скале, над развалинами расположенного уже в Хорватии форта Сипар, возносясь почти на триста метров над уровнем моря, притулились доминиканский монастырь тринадцатого века и древняя, византийских времен, пятиугольная в основании башня святого Евфимия, сто один раз перестроенная за два тысячелетия и когда-то служившая маяком, но давно превращенная в смотровую вышку, с которой в ясную погоду на северо-востоке был виден дымящийся Триест, а на западе иной раз на фоне заходящего солнца можно было разглядеть силуэт горы Монте Титано, — и нечему удивляться: хоть и далеко, но спасибо наполеоновским временам: тогда башня была надстроена, прозрачный воздух Адриатики и неизбежная рефракция в лучах заходящего солнца уже два столетия давали гражданам Тристеццы иногда вспомнить, что не только их княжество на свете такое маленькое, — оно, узкими террасами сходящее к морю, так привлекательно для взора и души!
Еще и потому оно всегда было привлекательно, что к востоку от него стоял — уже на итальянской земле, близ Триеста — знаменитый замок Монте-Руино, куда приезжали в былые годы многие выдающиеся ученые (чтобы прямо там застрелиться), а также великие поэты — чтобы, глянув на море, сесть на пароме в Триесте — и отплыть в Тристеццу, где радушие и гостеприимство князей Фоскарини кого угодно могло довести до припадка вдохновения, из-за чего привлекательность княжества многократно возрастала. Кто бы устоял перед соблазном?..
Башня привлекала туристов. Граждан Тристеццы на смотровую площадку пускали бесплатно, — правда, что они на той площадке забыли, разве что помолиться за здоровье князя и Папы? Туристов в Тристецце за год бывало в иной год до тридцати тысяч, а вход на Монте Кроато и на башню — два моцениго, синьоры, всего лишь два бронзовых моцениго, это три доллара, это два с половиной евро, ладно, всего тридцать фурланов, ладно, всего двадцать, неужели вам жаль такого пустяка, чтобы увидеть с одной точки всю Северную Адриатику?.. Ту территорию, которую не сумел оккупировать даже величайший из турецких султанов Сулейман Великолепный, не занял по суеверию, из-за названия, Бенито Муссолини, — говорят, боялся, что его начнут именовать «владыкой печали», — не смог аннексировать даже пресловутый маршал-президент Тито?.. Правда, Гитлер на две недели вроде бы аннексировал княжество, но покойный князь Марко II принял немецкую военную команду, сводил к себе в погреба, где на полмили тянулись бочки со старым сухим хересом, — тем все и кончилось: две трети столетия прошли с тех пор, и часто знатоки местной старины слышат вопрос: где же те немцы? А где же тот подземный коридор? А где же тот андалусский херес? И что за херес? Нет ответа: старики и краеведы отводят глаза.
Время приближалось к полдню. Молодой человек лет двадцати пяти, которого с десяти шагов даже человек с хорошим зрением принял бы за актера Бена Уишоу, известного всему миру ролью Гренуя в «Парфюмере», — разве что волосы у него были светлей, да и длинней, — стоял на башне спиной к морю и пристально смотрел на юго-восток, туда, где всего-то двадцать лет тому назад развалилась Югославская империя.
Ему было нехорошо. Поразившая его, хотя и в слабой форме, но еще в раннем детстве эндемическая болезнь, «лихорадка печали», напоминала малярию, лечению не поддавалась — зато и неудобства доставляла небольшие. День-другой озноба и повышенной температуры, да и только. Вызывал лихорадку эндемический клещ-далматин, борьба с которым велась в княжестве как бы нехотя: вымирать клещ соглашался только вместе с высаженными внутри штамбов на виноградниках персиковыми деревьями, плоды которых стоили в иной год чуть не дороже самого винограда. Перебороть приступ было нетрудно — скажем, два-три часа рубки дров, пробежка вокруг княжества, полдня на тренажере — и красные кровяные тельца отгоняли болезнь на месяц. Был и другой способ борьбы с ней — навсегда уехать из княжества. Болезнь не могла долго жить без местного климата. Но миграция населения в княжестве была нулевая: селиться иммигрантам здесь было негде, а уроженцам эмигрировать не хотелось: проще порубить немного дров с утра, а вечером попить таблеток. Здоровья не сто процентов, но других проблем — процентов почти ноль.
Он был этническим греком, хотя и русским по матери, и звали его Вазилис Ласкарис, — его отцу принадлежала фирма Ласкарис-Федоров; отчего появился «Федоров», об этом расскажем позже. Сегодня молодого человека прихватило ранним утром, сил махать топором он в себе не нашел. Вместо этого сделал обычное — одолел двести тридцать девять ступенек подъема на башню святого Евфимия Великого. Двести тридцать девять потов обычно снимали приступ на весь день, если удавалось еще и не простудиться на смотровой площадке. Но сегодня ветра не было, и Вазилис-Василий, надеялся, что успеет к обеду, быть на котором отец приказал ему категорически. Отец был прямым наследником византийских императоров и характер имел соответственный, хоть и торговал апельсинами и хурмой и много чем еще. Такие же права на византийский престол имел и наследник. Только даром ему, наследнику престол не был нужен, о чем знать отцу, правда, было необязательно.
Василий родился на Корфу в восемьдесят шестом, в один день с британским киноактером Колином Морганом, Мерлином из одноименного сериала, то есть первого января, в день памяти преподобного богатыря Илии Муромца, что его, худосочного двойника актера-гея Бена Уишоу, постоянно веселило, хотя особо веселым нравом Василий из-за малярии не отличался. По календарю в православном крещении должен бы он зваться Прокопием, но воспротивился отец, сделал немалое пожертвование в единственный православный в княжестве храм святого Иллариона Нового, и дали мальчику вполне императорское имя, которое его устраивало, хотя так и звали в России две трети котов. Но сходства с кошачьим семейством у похожего на киноактера наследника византийского престола не было никакого. Зато, как известно, первого января родился еще и Гамлет, принц датский. Намек, что ли?..
Василий медлил. Ждали его в тристеццианском «Доминике» к четырнадцати тридцати, а пути до него было от башни меньше четверти лиги. Так что можно было передохнуть.
Молодой человек опустил глаза и стал разглядывать залитый солнцем город. Где-то внизу, в конце проспекта Марко Поло, просматривался памятник великому изобретателю Франсуа Пьеру Ами Арганду, еще в наполеоновские времена сбежавшему в Тристеццу из Швейцарии, находившейся под угрозой оккупации. Здесь, именно здесь, при тихом правлении князя Умберто IX, увы, последнего в роду Марчеллини, Арганд подарил миру свое величайшее изобретение — керосиновую лампу, задолго до того, как не менее великий Николя Апер вручил Бонапарту банку мясной тушенки и нож для вскрывания оной, за что был весьма взыскан императором.
Князь Умберто в долгу не остался: первые же изготовленные Франсуа Пьером Ами лампы украсили коридоры княжеского замка, и на целый год князь приставил ученого следить за фитилями. По истечении года князь, узнав о падении Венецианской республики и как-то связав один факт с другим, отпустил ученого на все четыре стороны, позволив взять в казне столько бронзовых моцениго с гербом династии (переплавленных из старинных турецких пушек), сколько тот сможет унести. Ученый купил на постоялом дворе клячу, нагрузил на нее помимо мешка, любимого кота и собственные чресла и отбыл в Англию, где скончался 14 октября 1803 года, оставив после себя в Тристецце добрую память, мастерскую по изготовлению керосиновых ламп и заблудившегося на пароме кота. Поскольку личные сбережения почетный гражданин княжества по старым законам не мог завещать ни на что, кроме как на установку себе же надгробия, — в 1850 году, по завещанию князя как душеприказчика ученого и во исполнение его последней невысказанной воли, на центральной площади ему был воздвигнут бронзовый памятник работы русского скульптора Роберта Залемана — отлитый из монет с гербом прежней династии, весьма раздражавшими нового князя — Лоренцо I Фоскарини. На локте левой руки Франсуа Пьера Ами Арганда восседал бронзовый кот, в правой всадник держал керосиновую лампу — именно свет такой лампы воссиял из Тристеццы миру, — мягко напоминая Венеции и Триесту, что без маяка Святого Евфимия их корабли, пожалуй, не всегда смогли бы найти дорогу домой. Вечный огонь в лампочке Арганда из экономии зажигали только по праздникам и по выходным. Чего другого, а вот месторождений природного газа Тристецца не имела, а имела бы — так не портить же старинный курорт, не унижать же княжество до уровня промышленной державы.
Возле памятника можно было разглядеть островерхую кровлю единственной в Тристецце синагоги, поименованной «Гаагуим». Завтра будет суббота, закроются меняльные лавки, праведные потомки Авраама станут читать молитвы, благо живут рядом, в одном же маленьком квартале и никакой тысячи шагов, больше которых Царица Суббота в свои часы не разрешает, делать никому было не надо. В числе десяти еврейских семейств Тристеццы необходимо отметить многочисленных потомков Габриэля Шалона, — того самого, что делил некогда камеру с прославленным Казановой в венецианской тюрьме Пьомби, освободившись же из нее, перебрался в Триест, а позже в Тристеццу, — хотя граф некогда и звал своего соузника глупым и невежественным, но потомки его гордились происхождением от столь знаменитого предка, прочее же никому не казалось имеющим значение, что мог Казанова понимать в евреях?
К евреям в Тристецце отношение, чего скрывать, давно было особенное. В тысяча девятьсот сорок восьмом году, в одно из воскресений, решил маршал Тито, что какая-то она вообще лишняя, Тристецца, что вся Истрия должна объединиться под единым скипетром единого владыки: дорога со стороны полуострова вела в княжество по суше лишь одна, прежнее название ее ныне с большими основаниями забыто, вот и двинул президент-суржик (ибо полусловенец, полухорват) приличного размера дивизию: чтобы и грабежа лишнего войско не учинило, и князь поскорее грузился на паром и улепетывал в Триест: паромщик Хирам традиционно ни с кого за переправу больше одного моцениго никогда не брал, и ни на каком языке, кроме родного истророманского, даже молчать не хотел.
Однако в самом узком месте дороги, точно на входе в княжество, встретило титовскую дивизию неведомо что: единым преграждающим рядом стояли там десять престарелых евреев, воздевших руки к небесам. Это был полноценный миньян, губы евреев шевелились в молитве, и чем ближе пытались солдаты подойти к еврейскому заграждению, тем дальше от него почему-то оказывались они. А евреи все молились. Изредка один или два опускали руки, чтобы отдохнуть, но их тут же подменяли другие, из заднего ряда. Никакого военного сопротивления Тристецца не оказывала, но каждая из десяти еврейских семей княжества, — обычно занимавшихся меняльным делом и ссужением денег в рост, старьевщичеством и продажей с лотков жаренной во фритюре дешевой мясной и овощной закуски, что так хороша под горькую граппу, — выделила на этот раз своего старейшину для молитвы, заградившей дорогу полчищам жадного маршала. Евреи и югославские солдаты стояли друг против друга шесть дней, а потом маршалу надоело и войска были отозваны: все одно пройти по дороге, отныне получившей имя Еврейской, оказалось невозможно. Ну, а евреи размассировали руки и отправились праздновать Шабат. Им творить такие чудеса было не впервой, они помнили: как поселились они на территории княжества более тысячи лет назад, так их в княжестве никто и никогда не тревожил. Лишь бы правила кашрута во время пряжения, скажем, говядины мраморной не нарушались… но это уже дело чисто еврейское, а гои любое слопают и похвалят.
Чтобы закончить повесть о евреях Тристеццы, стоит рассказать еще одну историю. В пятьдесят третьем году основательно прославившемуся на весь мир художнику-примитивисту Ивану Генераличу Тито разрешил устроить выставку в Париже. Чтобы, значит, когда мир про Париж забудет, то хоть поживет память о том, как Генералич, художник никак не хуже «таможенника Руссо», провел в том Париже два месяца, и весь период его «бельканто», — «Женщины делают сусло», «Уборка навоза», «Перевозка сена» и прочее, — чтоб его и мир увидел и Хемингуэй, авось трезвый, заценил. Выставка длилась два месяца, Генералич торчал там все шестьдесят дней, аккуратно и ежедневно тратя два-три часа на роспись какого-то большого куска стекла: масло и стекло — вот и все, что требовалось хорватскому гению. Что именно хотел создать Генералич — долгое время оставалось неизвестным: однажды, после визита к нему гостившего тогда в Париже князя Марко II Фоскарини, в приступе ярости художник якобы взял большую ступу и истолок свою работу. Так рассказывали. Ну, мало ли какие творческие неудачи с кем случаются…
Лишь десять лет спустя, выставляя в одном из Мюнхенских музеев наиболее интересные и ценные картины своего собрания, — в частности, лучшую в миру коллекцию картин Тициана-младшего — рискнул Марко II предъявить потрясенным зрителям «якобы погибшую» картину Ивана Генералича. В традиционном примитивистском духе были изображены на ней десять еврейских цадиков с поднятыми руками, в лапсердаках и широких шляпах, стоящие на фоне гор и маячащего на горизонте моря. Картина, конечно, называлась «Граждане Тристеццы». Если бы не хрущевская оттепель, не временное замирение Тито и Хрущева, не суета вокруг спутников, примитивистская реплика Родена могла бы Генераличу с рук не сойти. Но он как раз находился в Тристецце, с разрешения Тито писал полотно «Виноградники Тристеццы». К тому же картину князь купил у художника и тут же подарил Тито, — а тот факт, что очень скоро князь был приглашен в Израиль посадить дерево в аллее Герцля, лишь недавно открытой для увековечивания памяти тех, кто спас во время Шоа жизнь хоть одного еврея, как-то прошел незамеченным. Князь был католиком, однако, как и Италия, почел за благо остаться порядочным человеком и евреями не торговать. Немцы требовали выдачи всех десяти местных семей, но как ушли попить хересу, так от них известий больше не было.
Вдали, на острове Тедеско, ухнула пушка, что означало полдень. Василий дал себе еще полчаса на отдых, оперся на парапет, стал смотреть вниз.
От памятника в сторону Монте Словено маршировал отряд в ярких мундирах. Это были сразу все шесть полицейских, которых позволяло себе содержать княжество: пять бравых молодцов под два метра и еще более высокий сержант. Помимо них в княжестве имелись еще шесть личных гвардейцев князя, — вот и вся армия державы, прочую безопасность обеспечивала тут возможность оффшорной регистрации, столь необходимой каждому деловому человеку. Не менее трех сотен граждан Тристеццы служили секретарями в зарегистрированных здесь фирмах, таков был и друг и ровесник Василия, шотландец Дуглас Маккензи, секретарь ресторана «Доминик», который принадлежал известному владельцу международной сети ресторанов господину Доместико Долметчеру. С Дугласом у Василия были не только общие кинематографические интересы, но, увы, и болезнь, причем в более тяжелой форме, от них подъем на башню не помогал и рубка дров тоже, приходилось по три дня пребывать в бреду, да еще и работать в это время, регистрируя в Тристецце заезжавших в нее час-другой деловых людей. Кусок пиццы насущной давался Дугласу тяжким трудом, и Василий другу сочувствовал, — тем более что и у Дугласа в кино был свой двойник-актер, канадский француз Ксавье Долан из «Я убил свою маму», тоже похожий на гея, но при малярии человеку практически не до ориентации. Снимал бы Василий кино — пригласил бы Дугласа. Но ничего он не снимал. Какая-то тайная жизнь у него, возможно, и была, но никого она в те времена не интересовала.
Ресторан, в котором ждал сегодня Василия отец и референты его временно миролюбивого штаба, располагался почти напротив той самой синагоги на недлинном проспекте Марко Поло. Здание восемнадцатого века было тесновато, да еще в нем, помимо собственно ресторана, занимавшего первый этаж, находился дипломатический корпус — консульства почти тридцати государств, установивших дипломатические отношения с Тристеццей. Собственно посольств имелось два, но уже в соседних домах, — это были посольства Греции и некоего южноамериканского государства, нуждавшегося в запасной оффшорной зоне. Однако, в отличие от дома с рестораном, выглядели эти дома нежилыми.
Князь, его светлейшее высочество Марко III, иной раз удостаивал «Доминик» посещением. За столом в этом случае распоряжался хозяин, готовил только шеф-повар Годемир Спонца, даром что в княжестве был он чуть не старше всех и по календарным причинам познакомиться не мог разве что с убитым эрцгерцогом. Всегда присутствовал выписанный из-за семи морей сигарный дегустатор, витолье, ибо князь курил. Кависты и сомелье буквально не дышали, хоть и были местными. Немолодой официант всегда был один и тот же и всегда один, шеф-повару он доводился внуком, больше здесь не доверяли никому. Страшно подумать, какая свистоплясь, какой праздник закатит страна, когда через два года будет отмечаться двухсотлетие династии Фоскарини, князь точно будет кормить половину княжества, вторую половину будет кормить «Доминик». И нельзя исключить того, что на деньги Ласкарисов.
Василий последний раз глянул на море, потом привычно обозначил конец своего лечебного путешествия: постучал по истертому тысячами рук парапету смотровой площадки белым кольцом-печаткой. Кольцо было старое и невзрачное, на нем с трудом читались две сплетенных греческих литеры, бета и лямбда. Уже лет семь как оно не снималось с пальца, но владельцу не мешало. Василий стал спускаться, ибо солнце припекло его светлую голову. Над каждой двенадцатой ступенью светился фитилек керосиновой лампы местного производства, стены дышали древностью. Здесь, как незримо тролли живут в мостах, незримо жили магические змеи и ящерки, кормившиеся днем — светом, ночью — тьмой. Вместе с Василием спускались, следуя под потолком, двое старых его друзей — ирреальные гекконы Мада и Ролла: один гордился тем, что его предок Шон прожил долгие годы за ухом у секретного чемпиона Испании по русской револьверной рулетке за 1492 год, у самого Хуана Родригеса Бермехо, — другой гордился тем, что его дедушка Блюм жил в шевелюре самого виконта Анри де Мальпертюи, из револьвера которого известный новеллист О. Генри сумел четыре раза убить одного и того же героя. Кроме Василия, они не любили никого.
Ходить по улицам без сопровождения Василию отец давно запретил, — с той самой поры, когда решил, что если первые два Рима ему не по зубам, то не попробовать ли на зуб третий? Было тогда наследнику всего года три-четыре, и пришлось привыкнуть к бодигарду. У выхода из башни таковой его и ожидал. В скудной тени виднелся темнокожий человек на голову выше Василия, с наверченной на голову да самых глаз повязкой. Глаза его были узки, а национальность неопределима, звали его Ахаткуман, сам себя он числил последним в мире чистопородным половцем. Ни в малой мере не считал Василий половца слугой, не считал его даже телохранителем. Это была скорее его тень: будь сейчас на дворе семнадцатый век и окажись молодой Ласкарис капитаном венецианского судна из героического города Перасто, боцманом при таком капитане состоял бы точно Ахаткуман, при желании способный ощерить зубы так, что ужаснулся бы хоть мавританский раис, хоть османский паша, хоть сам Хайреддин Барбаросса, — боцман-бодигард стал бы для того Барбароссы палачом, да еще оставил бы череп того Хайреддина себе на память.
Вероисповедания Ахаткуман не имел, заметного образования тоже, однако обладал способностью болтать на немыслимом количестве языков — на всех с ошибками и с акцентом, — но всюду и всегда бывал понят и добывал нужную информацию. Единственной слабостью Ахаткумана была золотая текила, по его уверению — напиток чисто половецкий, ни в какую Мексику он не верил, разве что это половцы там агаву посеяли. Недельная бутылка текилы была единственным, что просил и получал кроме обычного довольствия от семейства Ласкарисов половец, вообще не любивший деньги брать в руки. Пить текилу половец по общему согласию уходил на княжеские конюшни — и возвращался совершенно свежим, разве что пахло от него конским потом и навозом. Что оригинально — алкогольным напитком текилу половец не считал, а иной раз, забывшись, мог сказать про нее, что это «кумыс». Звук «ы» он произносил по-русски.
Правда, о национальности и религии Ахаткумана один человек имел другое мнение, и это был как раз уроженец острова Доминика, креол, шестидесятилетний Доместико Долметчер. В городе иссякла текила, и пришлось за бутылкой, чтобы хорошего человека не обижать, слать половца в тот самый ресторан. В просьбе креол, понятно, не отказал, но, присмотревшись к лицу гостя, задал ему какой-то вопрос на неведомом языке. Половец побледнел и что-то ответил. После этого хозяин и гость поговорили и расстались. О сути беседы Василий у бодигарда спрашивать не решился, но отец кое-что по дружбе выяснил у креола. Оказалось, что беседовали они на «гарифуна» — креольском языке Гватемалы и прочей Центральной Америки, в котором одна половина слов употребляется только мужчинами, а вторая половина — только женщинами. Однако что именно из этого следует — Долметчер тоже сказать не мог, ибо на обоих вариантах говорил половец с ошибками и с тяжелым, неопознаваемым акцентом. Оставалось лишь пожать плечами. Как половец, представитель народа, вымершего ранее открытия Америки, умудрялся говорить на креольско-индейском языке — такого не могла понять даже все на свете давно понявшая Тристецца.
Василий добрался до проспекта, перешел на теневую сторону и побрел в центр. Ясно было, что придет он раньше времени. Однако в «Доминике» всегда было прохладно, авось не погонят, авось дадут с чашкой мате посидеть, — креол чуть не все княжество приучил к этому терпкому питью. Горечь его напоминала хину, но от нее не тошнило. «Авось не погонят», — подумал Василий по-русски. Греческим, русским и хорватским он владел одинаково, на истророманском мог связать десять фраз, прочие понимал только на слух. Ему хватало.
Не погнали, — но и владелец встречать не поспешил. Рылом не вышел наследник византийского престола, чтоб его челночник-ресторатор лично приветствовал. Ну да ладно, разрешил бариста посидеть на стуле, добавил в напиток меда, как принято было здесь, несмотря на протесты клиента. Василий отхлебнул. Бариста поднял руку, отставил правый мизинец, зная, что гость поймет. Гость отчаянно мотнул головой. Хотелось, конечно, но он знал: за абсент отец убьет. Василий подставил лицо вентилятору и вновь ушел в размышления.
Уже больше двадцати лет назад его отец, разбогатев при помощи вовремя купленных плантаций кокаинового куста на острове Ломбок, прицелился вернуть семейству императорское, как минимум королевское достоинство. Как всякий по-настоящему серьезный наркобарон, он мечтал более всего о выходе в благородные и легальные, особенно потому, что имел на то и право, и основания, и даже, пожалуй, возможности. Огорчало его, понятно, что сыновей у него только двое, и оба не очень величественные: малярией мающийся Василий и дурью мающийся младший, Христофор, паршивая овца в семье, отбившийся от рук семнадцатилетний бездельник.
Отец шел по свежим трупам и костям врагов исключительно прямой тропой. Он шел в императоры и знать больше ничего не хотел. Откуда у него столько кокаина — не интересовало ни его соратников, ни его покупателей, те скорее были довольны. А что думали конкуренты — то его не касалось. Но до престола было еще далеко. Пока что семья Ласкарисов для спокойствия прикупила документы о пожалованных дворянам Федоровым при царе Федоре Алексеевиче землях и деревнях близ подмосковного Дмитрова, о гербе Федоровых, в котором лестница склоненная и перья страусовые, — словом, отец аккуратно подготовился к обвинениям в покушении на константинопольский престол: во-первых, Ласкарисы — императоры Никеи, а не Византии, во-вторых — а их семья и вовсе не Ласкарисы, а Федоровы, и претендуют только на торговлю сангвинеллами. Как отец умудрялся такое доказать — Василий и понять не силился, то ли еще умеют умные наркобароны. Глупых среди них, кстати, не бывает. Надо ли объяснять почему?..
Отец и правда любил легальный бизнес. Он содержал фирму, завалившую московские прилавки бесприбыльными для нее апельсинами и хурмой. После долгих проволочек фирма добилась звания поставщика двора его императорского величества. И правда: а у кого фрукты были лучше и при этом дешевле, чем у торгового дома Федоровых-Ласкарисов? Хорошо подготовившийся к достижению цели отец сыграл на ставшей притчей во языцех для всего мира скупости русского царя и своего добился. Он понимал, что станет теперь объектом пристального внимания царских спецслужб, но его династия была древнее, спецслужбы он тоже держал, а главное — не маялся скупостью, пока дозревающий плод не валился ему в руки. Не зря в гербе у Федоровых была именно лестница.
Отец, хотя и очень редко, все же делился с сыном мыслями. Заняв московский престол, плантации на Ломбоке он надеялся выгодно перепродать, на такой товар желающие всегда есть. Кокаиновый куст, если правильно дело поставить, приживется и на юге России, хватит возить за семь морей, хлопотно это. Дальше отец неизменно переходил к вопросу женитьбы Василия, но тут уж все карты были на руках у сына: вставал вопрос о равнородности и непременном православии невесты. Ну, православие — дело поправимое, крестить кого угодно можно, а вот как быть с равнородностью? Меньше чем на княжну из Карагеоргиевичей Василий был не согласен. Отец приказал главе своей контрразведки, скользкому типу с чудесной старинной фамилией Выродков, приготовить досье и фотографии равнородных девиц на выданье. До смотрин, даже дистанционных, дело не дошло ни разу. Отец изучал дело, вздыхал и отклонял кандидатуру. Василия же его холостое положение более чем устраивало пока. В конце концов, где сказано, что жениться надо в двадцать пять, и нельзя подождать хоть немного, может, какая равнородная созреет. В душе Василий надеялся как можно дольше не хвататься за такие фрукты. Хотя, говорят, от малярии помогает, но привычней дрова рубить.
Часы медленно ползли, Василий допивал неведомо какую по счету чашку мате и размышлял о том, насколько искусство совершенней жизни: в кино отсидел Аль Пачино двадцать восемь лет за две минуты, съел виагры, уединился в бардаке с парой девиц на три, вышел довольный, угнал машину, друга похоронил, с другим на пару беспредельщиков перемочил, и все за час! Вот это реальные парни. Василий всерьез любил и знал кино, и не из-за сходства с актером-геем, а, пожалуй, потому, что там показывали такую жизнь, которую вокруг себя он не видел и видеть бы не хотел… Хотя видел, чего уж: в Тристецце часто снимали кино.
Однако все на свете кончается: и шестая чашка подслащенного медом мате, и ожидание отца. Наркобарон в отнюдь не в переносном смысле отворил ногой тяжелую стеклянную дверь в ресторан и вошел, отирая красным платком раскаленный лоб. Он был все еще красив той греческой красотой, которая встречалась иной раз на Крите и Корфу и немедленно вывозилась в Голливуд даже при полном отсутствии актерских данных. У отца таковые данные точно были, но он берег себя не для кино, это Рейгану хватило президентского кресла, у Константина Ласкариса замах был повыше. К тому же дело его было не личное, он считал обустройство Третьего Рима чем-то вроде семейного бизнеса.
Долметчер встретил его не на пороге, где встречал только князя, но в пяти шагах и приветливо улыбнулся. Дальше воспоследовали совершенно славянские тройные обнимашки, хотя у обоих капли крови славянской не было. Отец заметил сына, сделал знак, и вместе со свитой всю группу отвели в отдельный кабинет с приоткрытой верандой. Вентиляторы под потолком и на полу надрывались, перемешивая раскаленный воздух. Но Василий знал: здесь прослушивать не будут. Отец платил ресторатору столько, что тот при всей неподкупности питал к нему теплые чувства.
Покуда все рассаживались, отирали лица, выдыхали и снова вдыхали, ругались и кашляли, Василий пересчитал присутствующих. Справа и слева от отца устроились те, кого тот именовал своими «правой и левой рукой»: глава контрразведки, рязанский следователь Рэм Выродков, и банкир отца, живший под скорее всего вымышленным именем Леонида Крутозыбкова.
Обоим было лет по пятьдесят, оба были верны отцу, как немецкие овчарки, и с обоими Василий никому не посоветовал бы выяснять отношения в тесном переулке. Первый был патентованный русак с лысеющей макушкой и намеком на похмелье в глазах, — понятно, напускным; второй, рыжий — видимо, одессит, в котором оказалось намешано кровей со всей Восточной Европы. Леонид всем своим видом говорил: «Я рад бы врать, да не умею», что как раз и было враньем, но больно уж откровенным и порой ему вредило. Однако ломбокскими деньгами отца он заведовал отлично, много не воровал, Константин этому удивлялся: может ведь и больше брать, что ж не берет? Не понять было уроженцу Корфу загадочную душу одессита.
Еще один человек в свите отца был куда моложе, он был почти точным ровесником Василия и заслуживал внимания. Голубоглазый блондин с сильно итальянизированной внешностью был бы, может, и красив, но лицо его искажала отчасти азиатская, если не палеоазиатская угловатость. Сам Елим Павлович Высокогорский, князь Сан-Донато, любил поминать какую-то свою тунгусскую прабабку, которую и по имени-то не знал. Имя забылось, а прабабка все смотрела на мир голубыми глазами правнука.
Он был потомком богатейшей династии уральских промышленников, буквально не знавших, куда деньги девать. Они жили в России и в Европе, где хотели, женились на ком хотели, прикупали земли и дворцы, но однажды двоюродный прадед нынешнего царя сыграл злую шутку с двоюродным прапрадедом Елима — Анатолием Елимовичем. Не будучи в силах запретить ему именоваться купленным титулом итальянского князя Сан-Донато, император рассвирепел, — из-за того, что Высокогорский откровенно выводил из России огромные суммы, — и объявил: «Вот пусть он только там князем и будет» — и выслал его из России.
Дальнейшая судьба рода Высокогорских, длинный ряд Павлов и Анатолиев, а также Елимов и Эсперов, традиционных в этом семействе имен, не вместилась бы и в толстый том. Наверное, сидевший за столом молодой человек со странной внешностью даже не был старшим в роду, однако титул князя Сан-Донато носил подтверждаемым и законным образом, а поскольку род его не нравился Романовым — он по определению должен был устраивать Ласкарисов. Он и устраивал. Как и его двоюродный брат Эспер Эсперович Высокогорский, не князь, но человек тоже полезный, востоковед с хорошим образованием, нередко выполнявший в Москве некие поручения Константина Ласкариса. Уж какое мог будущий император к себе дворянство приблизить, такое и приближал. В любом случае триста лет Высокогорские дворянами точно числились: их ружья некогда приглянулись основателю Петербурга в Туле, ну, а дальше было то, что было. Елим Высокогорский рассматривался Ласкарисом-старшим как будущий предводитель российского дворянства.
Кроме них присутствовал, разумеется, и владелец ресторана, всем видом демонстрировавший готовность хоть сейчас подать к столу тушеного тюленя-монаха, даже если он в Адриатике последний, а если очень надо, так и вовсе изловить монаха-доминиканца, приволочь в «Доминик», и через часок — «кушать подано!».
Еще один член «коллектива» традиционно отсутствовал. Наркобароны редко терпят возле себя бизнесвумен, но когда дело идет о компьютерном гении, то не до половой принадлежности. Джасенка Илеш, уроженка Тристеццы, таковым гением была с гарантией, ибо разыскивалась Интерполом уже пятый год. Однако Интерполу ли покупать молодежь, которую защищают те, кому нужен хороший мастер? Барон не без оснований считал Интерпол не очень влиятельной и уж точно стесненной в средствах организацией.
Джасенке в мужской компании было бы дважды неинтересно, она им, с одной стороны, не рабыня, а партнер по бизнесу, она им, с другой стороны, стопроцентная лесбиянка. Причем комплексов у этой тридцатилетней эмансипантки не было вообще. Будучи уроженкой католической Тристеццы, она не скрывала своей ориентации… и попробовал бы ей кто отказать. Бывала ли она на исповеди? А как же, она католичка. Спросите у падре Бенвенуто. Он все равно ничего вам не скажет.
Ее личная жизнь в Тристецце не обсуждалась, — как было выше сказано, добрые католики о таком не говорят, иудеи тем более, а хорваты, такие, как Джасенка, все такие безбашенные, это было общее нехорватское мнение. Правда, насчет определения «стопроцентная» было у Василия подозрение, что, прикажи ей отец, так сделала бы любое исключение. Искусство условно, это точно. Только жизнь еще более условна.
Но при первой необходимости Джасенка тут появилась бы. Василий не сомневался, что она пьет на втором этаже свой мате отнюдь не с медом или вовсе не мате с вовсе неизвестно чем и готова подойти в любую минуту. Электронной и виртуальной безопасностью в империи отца заведовала она.
Долметчер поставил на салфетку перед отцом греческий салат и рюмку мастики, единственное, что тот пил в такую жару. Отец ухом не повел, рюмку выпил, на салат и не глянул, присоединяться не предложил. Долметчер исчез тише, чем порхнул бы мотылек.
Без единого слова контрразведчик разложил перед всеми по листку распечатки. Даже при полной безопасности помещения говорить вслух не полагалось, но главное — в письменном тексте были точные данные, подсчеты, предложения. Перед отцом, как всегда, лежал и второй листок. Не хотелось думать о его содержании.
Из листка следовало, что потери на Болотной в воскресенье были высокими, но ниже предполагавшихся. Погиб лишь один агент влияния под прикрытием, точнее, стал жертвой самосуда. Получили несовместимые с жизнью травмы четыре циркулярных инструктора, еще десяти предстоял курс реабилитации. Потери гражданского населения в количестве ста двадцати семи человек никого здесь не интересовали, ибо расходов за собой не влекли.
Никаких расходов не влекла за собой и гибель агента влияния, двурушник все равно был обречен, брал взятки справа и слева и практически ничего не делал для хозяев, притом, вероятно, ни для каких. Легенда о золотых унитазах к действительности отношение имела слабое, — речь шла о фарфоровых изделиях испанской фирмы с названием «Инодоро де оро», — но у Выродкова были подозрения, что в легенду эту в России всерьез верят, он вообще считал ее краем непуганых идиотов и страной «грябов с глязами» из его родной Рязани. Гибель четырех инструкторов в давке на Болотной, напротив, оказалась невосполнима, легче подготовить космонавта, чем надежного инструктора циркулярной реакции, надежно провоцирующего в толпе народный гнев, ненависть, ужас, затем перевод таковых в резонанс и как итог — в панику.
Хорошо умевший работать с людьми наркобарон готовил этих людей долгие годы, но они неизбежно погибали в процессе обучения, до выпускных экзаменов доживало меньше половины. Получалось, что из тех, которых он активировал в Москве, в результате сравнительно небольшого митинга, всего лишь недружелюбного по отношению к династии узурпаторов, он потерял сразу четверых.
Но Выродков подводил утешительное сальдо: из десяти пострадавших по меньшей мере шесть или семь вернутся к обязанностям через месяц-полтора, трое тяжело раненных доставлены в госпиталь в хорватский город Умаг, до которого из Тристеццы пешком можно было дойти. Лечение обещало быть умеренным по цене. Хотя как сказать: одному из инструкторов толпа раздавила чуть не всю грудную клетку. Лечить или нет — Выродков оставлял на усмотрение отца. Василий краем глаза увидел, как отец против этого пункта поставил что-то вертикальное. Значит, лечить. Понять его можно, суеверен барон был не меньше, чем Муссолини, не хотел в таком деле экономить.
Мнение об атаке «государственной толпы» у контрразведчика сложилось ясное: это была группа спецназа, подчиненного Лубянке, хорошо тренированная. Посторонних там не было, толпа производила слишком однородное впечатление. Более того, он предполагал, что среди государственников имелись и оборотни в погонах, вервольфы и кровопийцы санторинского типа, которых хорошо знали в Греции и старались в работе не использовать из-за их непредсказуемости. Безусловно к ним относился и неопознанный провокатор, загубивший агента влияния.
Особой беды от оборотней ни контрразведчик, ни отец не предвидели, превращаться в пятиглавого дракона или, допустим, в атомный взрыв ни один из них не умел, а живой дирижабль, известный как Дириозавр, исчез с горизонта событий тридцать лет назад. В остальном же ласкарисовские инструкторы, пожалуй, поопасней были, чем все оборотни и чем их погоны. А ведь в дело не был пущен еще ни один пехотинец-наемник.
Вторая часть доклада была на иную тему. В ведомстве генерала, судя по всему, не нашлось денег на оплату участникам митинга, по крайней мере больших сумм на нее не выписывали, мелкие агент наркобарона отследить не пытался, боясь спалиться. Наиболее простым объяснением здесь могло быть реальное отсутствие оперативных денег у ведомства. О том, что царь, при всем видимом благополучии империи, поддерживает в ней жестокий режим экономии, иной раз неразумной, знал весь мир. Но количество участников проправительственного митинга превышало двадцать тысяч человек, значит, добровольцами быть они не могли, и либо выходило так, что то ли оплата шла из другого кармана, то ли ее вовсе не было.
Бесплатный митинг — тот же бесплатный сыр, и каждый знает, где такое бывает. Крутозыбков предоставил свою часть доклада. Ни один из теневых банкиров царя, прежде всего главный среди них, Якопо Меркати, денег на Лубянку не пересылал. Не отслеживались и электронные кошельки в социальных сетях, хотя Крутозыбков сознавался, что сам бы он выбрал именно такой вариант.
Временно и банкир и контрразведчик предлагали считать, что царь просто не расплатился. Все дочитали листки и откинулись перевести дух, отец же взялся за второй листок. Понять по его лицу нельзя было ничего. Выиграй он миллиард, утопай «Титаник», или, кстати, всплыви, все одно никто бы не понял — что думал он по этому поводу.
Высокогорский откровенно скучал, но ему было простительно. Как вытащил Константин его и его кузена, тратящих последние флорины дедовского наследия, из Тосканы, так он и не менялся, тому уже лет пять. В отличие от целеустремленного и мизантропичного Эспера Елим был «полтинником», иначе говоря, итальянцем по матери, гибридом Средиземного моря и Ледовитого океана, — как и сам Василий, с поправкой всего-то на Адриатическое море, разделяющее Италию и Грецию. Правда, Елим иной раз выпивал. Правда, Елим был тот еще бабник. И у Елима не было малярии. В остальном молодые люди походили друг на друга, хотя и не более, чем созревшие в один год колосья пшеницы и ячменя.
— Нет у него ни гроша, — с удовлетворением произнес отец, отодвигая листки и берясь за салат. Неизвестно как в воздухе возник Долметчер с рюмкой мастики на подносике. Отец сделал круговой жест: мол, всем по рюмке.
Попробовал бы кто отказаться.
Долметчер появился вновь. Мастика была холоднее льда, но Василий знал: сорокасемиградусный анис обожжет горло, зато лихорадка отпустит. Да и вообще она почти уже отпустила.
Без закуски ресторатор позволял пить только отцу, и Василий послушно, хотя и очень нехотя съел греческий салат с фетаксой, тот, который любил отец. Сам Василий любил дары моря, но, видимо, это пришло к нему по материнской линии, от урожденной княжны Ольги Сергеевны Лейхтенбергской-Романовской. Отцовский брак уж точно был вполне равнородным. Василий с грустью думал, что рано или поздно отец и ему какое-нибудь равнородное чудовище подыщет. И молил Бога, чтобы это хотя бы не оказалась Джасенка Илеш, лесбиянка с синими волосами. Ему хватало малярии.
Мать давно лежала в Риме на некатолическом кладбище Тестаччо рядом с родными. Василий плохо помнил ее, он потерял ее в одиннадцать лет. Отец остался с ним и трехлетним Христофором на руках, но у наркобаронов обычно есть деньги и на воспитательниц, и на учителей, и на охранников, — отличать колумбийскую коку от ломбокской, как он считал, он сыновей научит, а уж отличать сангвинеллу от клементины пусть сами учатся.
Чему будущий император научил старшего сына, старший сын знал точно, но помалкивал, а младшего не научил явно ничему: в новом веке отца полностью одолела идея восстановить византийский престол. В конце концов, Никея, где правили Ласкарисы, Константинополем тоже не была, но, действуя именно из нее, Ласкарисы столицу вернули. Если б не «торговцы старьем», не Палеологи, глядишь, удалось бы и с Трапезундом договориться, и отбиться от турок, и не сияла бы нынче эта гадость напротив Святой Софии.
Мясо по такой жаре было есть невозможно, но не съесть по порции пахлавы у Долметчера означало — обидеть креола, у него готовил лучший повар Тристеццы, престижней княжеского. Пришлось есть.
Потом принесли чудовищно крепкий кофе, Василий предпочел бы мате, но знал, что и просить не надо — не дадут. Молодой человек прекрасно понимал, что живет под отцовским каблуком. Василий предпочел бы стать кинорежиссером и продюсером, снимать на отцовские деньги блокбастеры… но так ему отец бы и позволил. Тоже нашелся Илья Казан, комуняка американский с желанным трамваем. И Василий помалкивал.
Разошлись к вечеру, когда с колоколен уже поплыл звон vesperae, где двумя колоколами, где шестью, одиночными ударами, двойными, Василий плохо разбирался. Единственная православная церковь Тристеццы была далеко, ее слышно не было, но и там наверняка стоял звон. А еще был вечер пятницы, а еще наискосок от ресторана стояла синагога «Гаагуим», то есть «Тревога». Евреи всех десяти семейств княжества тянулись туда сейчас из своих домов: для них наступила Царица Суббота.
Только оставшись в одиночестве, Василий позволил себе оглянуться на второй этаж «Доминика». Там, за третьим окном слева, маялся малярией Дуглас Маккензи, чьих предков занесла несчастная судьба сюда, на землю прекрасной печали и нескончаемой тревоги. У Василия никогда не было близких друзей, но редко что так сближает ровесников, как общая болезнь.
Сердце Василия, как нередко случалось с ним в час вечерни, сильно защемило. Что-то неправильное было во всем этом отцовском походе на Москву.
Хотя и ясно было, что победить он может, и тогда наверняка быть его сыну императором всея Византии и Руси Василием Пятым.
Он предпочел бы Тарантино Вторым. Да хоть бы и Казаном вторым. Как-никак «Трамвай „Желание“» никто не отменил. Только жаль, что у Дугласа тоже малярия.
И совсем он был не похож на Марлона Брандо.
…Тут из ниши возле двери в ресторан вышел и кашлем возвестил о своем присутствии Ахаткуман.
Ничего себе одиночество!
IV
18 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ДОРОФЕЙ ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ
Цел тот город до сих пор —
с белокаменными стенами,
златоверхими церквами, с честными
монастырями, с княженецкими
узорчатыми теремами, с боярскими
каменными палатами, с рубленными
из кондового, негниющего леса домами.
Цел град, но невидим.
Не видать грешным людям славного Китежа.
Сокрылся он чудесно.
Павел Мельников-Печерский. В лесах
Некогда этого белого известняка, не сильно уступающего в красоте мрамору, было на Владимирской и Московской Руси столько, что дешевле было строить из него, чем из кирпича. По сей день стоят в Суздале, в Боголюбове, в Кидекше, в Арясине храмы из этого камня, стены кремлей, башни, врата. Даже и теперь на Руси можно тот камень добывать, если, конечно, не переводить его на известь и щебенку, как еще недавно делали в карьерах села Дармоедова, покуда царь не выслал тамошнего предпринимателя за одиннадцатитысячную версту. Однако в масштабах России много ли построишь из такого камня? В один миг весь изведешь, лучше гранит из Финляндии привезти.
Но здесь, в Кассандровой Слободе, все было иначе. Населения за двадцать с лишним лет набралось тут уже прилично, тысяч восемь, город кое-как обеспечивал себя, почти не имея поставок извне, но наращивать население путем переселения сюда все новых и новых мигрантов дальше было опасно. Здесь был камень и было дерево, были кожи, кость, почти неограниченные запасы дичи и даров леса. Но рыбы было мало, крупных рек поблизости не нашлось, те, что имелись, норовили менять течение, — география Слободы не совпадала с Россией. Обследовать пока что удалось лишь то, до чего мог добраться аэростат, ничто другое в воздух подняться здесь не соглашалось, разве что планер, если б здесь были горы и холмы. Они были на условном Западе, аэростаты здешнего министра воздухоплавания Юрия Сосновского нанесли их на карту, но от них тут было как от Москвы до Альп, и планер оказывался бесполезен до тех пор, пока в горах, нареченных Новым Уралом, не удастся выстроить поселение. В дальних планах Павел такое имел, но пока что предпочитал оставить Слободу городом-государством и не сеять в народах соблазны сепаратизма.
Ближайшая устойчивая водная артерия, шириной примерно с Москву-реку, верст за сто к западу обнаружилась, вода ее была чиста, старицы полны рыбы, над которой то там, то здесь появлялась рыбоядная скопа, негласный маскот здешнего мира. Аэронавты Сосновского нанесли реку на карту и огорченно сообщили, что она ниоткуда не вытекает и никуда не впадает: сущая Аму-Дарья, только та в пустыне, а эта — в лесу. Вытекает вроде бы из болота, впадает вроде бы в болото, только так вот с высоты выходит… Ну да, так и выходит, что это одно и то же болото. Вроде как бы сама в себя впадает. Немногих поселившихся в Слободе офеней это не заинтересовало: они еще не такое видали. А, что, рыба? Рыба есть. Хорошая. Но сама не приплывет.
Для снабжения города это было слишком далеко. Дверь в этот мир не сдвигалась ни на микрон, да и открывалась не всегда, а других входов пока так и не нашлось. Может, и к добру. Посему рыбный вопрос, актуальный в свете поголовного православия слободы, решил государь тем, что разрешил, используя ручьи и бьющие из земли ключи, создавать рыбные садки и пруды, освободив их на двенадцать лет от всяких поборов. Отчего бы не разрешить, когда вывозить некуда, да и не привезет никто и ниоткуда, так что конкуренция возможна только местная. А это — всегда пожалуйста. Сильнейший, съешь слабейшего!
Всех проблем этого странного мира можно было не перебирать — при первом взгляде на него он казался эдемом, при втором превращался в медузу, и хорошо, что пока не в Горгону. Прежде всего никто не брался с уверенностью сказать — параллельный ли это мир, другая ли планета, прошлое ли, будущее, вообще что такое. Отчаявшись что-то понять, царь приволок сюда троих серьезных астрономов, не сочтя нужным сообщить, что для них это билет в один конец. Неделю-другую астрономы тосковали, но позже убедились, что небо здесь иное, чем на Земле, и от телескопов их стало за уши не оттянуть.
Но и эти не давали ответов точнее, чем «скорее да, чем нет» или «скорее нет, чем да». К примеру, Луна здесь была, и как будто та же самая. Только она, гадина, еще и вращалась, демонстрируя себя, как стриптизерша, со всех сторон. Но поверхность ее была куда больше похожа на традиционную, чем поверхность здешней… земли? Павел остерегался считать этот мир другой планетой, он привык думать политически: если вход отсюда — из России, и выход — тоже в Россию, хоть там это и Киммерия, то, стало быть, это Россия и есть и никто другой на здешний сомнительный эдем права не имеет. А вот если это другая планета — юридических бед не оберешься.
Однако юридическими вопросами сыт не будешь, если ты не адвокат, а десяти тысячам мужчин, женщин и детей, разве что пока не стариков, надо было где-то и как-то жить, чем-то питаться, от чего-то уже и лечиться, а доставить сюда ничего тяжелей того, что можно принести в руках, нельзя было категорически. Решение, пусть частное, нашли офени.
Оставшись без работы после того, как киммерийский академик Гаспар Шерош нашел ответ на вопрос «Кавель убил Кавеля или Кавель Кавеля?» («Кавель убивший Кавеля не убивал Кавеля не убившего Кавеля убившего Кавеля не убившего Кавеля убившего Кавеля…»), офени привыкшие всю жизнь ходить из Киммериона на Кимры и Арясин, расположенные всего-то верстах в двадцати от загубленной Морщевы, прознали в Киммерионе, что в новые края можно войти, но можно из них и выйти, если кипятка не бояться. После этого путь из Киммериона в Кимры стал для них дорогой в погибшее село Сестробратово, потом в Слободу, где принесенные бруски железа, никеля, свинца, олова и меди превращались во вполне надежные, хоть и бумажные знаки, хоть Российской империи, хоть американские, с которыми можно было отправляться хоть в Киммерион, хоть в Гренландию, далее по кругу, офеням не привыкать. А таскать деньги чемоданами для царя из Москвы мог кто угодно.
Таким образом минимальный дефицит металлов в Кассандровой Слободе покрывался, хотя железо берегли, а кузнецов и углежогов уважали как первых людей. Павел, прекрасно будучи осведомлен о том, что творится в его царстве, полагал, что рано или поздно возникнет здесь второй Киммерион со своими гильдиями. Правда, в Киммерии были многовековые традиции. Правда, там была великая река, Рифей-батюшка. Да и войти туда, как и выйти оттуда серьезной проблемы не составляло. Не то, что здесь.
Павел обеспечил в Кассандровой Слободе прежде всего медицину. Инфекционистов и психотерапевтов первыми. Кардиологов и прочих вторыми. Медсестер третьими. Хоть и с трудом, выстроил народу полноценную больницу, с лабораториями и всякой химией, увидел, что это хорошо, и послал охотников — охотиться на травоядных зверей, благо они тут непуганые, собирателей — собирать грибы, ягоды, коренья и все прочее, благо тут ни лета, ни зимы нет, а круглый год стоит то ли вечная весна, то ли вечная осень, и что-нибудь всегда созревает, и кто-нибудь размножается.
Хорошо еще, что здесь горел огонь в горне и мог работать кузнец, а то и вовсе пришлось бы опуститься до жизни в землянках. Но до того не дошло. Молот и кирка служили здесь не хуже, чем в Рязани, достойных благоразумно работать в карьере следственные органы всегда легко находили всего лишь в пределах любой российской губернии, а русскому ли человеку привыкать к тому, что его никуда с работы не отпускают?
Время тут считать удавалось, сутки от земных отличались лишь на четыре минуты. Астрономы разъяснили Павлу, что и в Москве сутки тоже на четыре минуты от себя отличаются, царь ничего не понял, но решил, что на четыре минуты можно и плюнуть. Такое важно на войне, а какая тут война, когда самое грозное оружие — арбалет, а самый грозный враг — медведь в лесу?
Такими сутками вполне можно было отсчитывать месяцы и годы. Павел рассудил, что год работы в известняковом карьере для тех, кто попадал сюда через КПЗ, достаточно, а нет — так вот уж с кем на Руси давно обучены бороться, так с теми, кто не хочет строить церкви. Ибо, кроме нескольких необходимых в городе зданий, которые непременно сгореть предназначены, весь камень из карьеров шел на дома и на церкви. Кассандрова Слобода обречена была стать белокаменным городом и отчасти уже им стала.
Ну а после года работы в карьере человек сам попросится на поселение, дерева и камня завались, ставь дом, подбирай бабу, строгай детишек, родильное отделение за два квартала, все бесплатное. Врачам Павел и вправду платил свои. Если честно, то не платил бы, если бы предиктор Гораций Аракелян не предсказал, что платить он будет. При стопроцентной сбываемости его предсказаний сомневаться было бы глупо.
Немало тут было здесь изгнанников добровольных, анахоретов, норовивших не работать никак и тем или иным способом найти способ побираться. В глазах Павла были они отбросами общества, но он отлично помнил, — а забыл бы, так Гораций быстро бы поставил царя на место, — помнил, что царь он для всех, а не только для тех, кто ему нравится. Заставить их работать когда можно было, когда нет. Многие соглашались заняться приусадебным сельским хозяйством. Земля тут была даровая, навоз туры давали тот же, что и в России коровы, через год-другой экспериментов наскоро окультуренные огурцы и сельдерей засияли на местном рынке. Частично этим проблема решалась. Кому хотелось одиночества еще большего, тот шел в собиратели грибов и куманики.
Правда, оставались полные бездельники, которые полагали, что мир им что-то должен, обязан их как минимум кормить. Позволить такое на первое время, покуда человек не придет в себя, можно было, но не более того. Выслать такого назад было нельзя, а ни убить, ни оставить в лесу волкам, ни тем более посадить на шею труженикам царь не мог. И тут ему обязан был помочь местный губернатор, некогда претендовавший на роль верховного референта по кавелитам, но портфеля в этом министерстве не получивший: кончился кавелизм — кончился и портфель. Человек этот был смешанного англо-грузинского происхождения, и звали его для русского слуха немыслимо: Эльдар Гивиевич Готобед. Ему был вручен целый мир, и худо ли, хорошо ли, но с ним он справлялся, ибо надеялся, что Бог поможет.
Он помог. На дворе стояла какая-то условная осень, и колоссальные заросли лещины, окружавшие известняковый карьер, принесли обычный, то есть невпроворотный урожай. Обычно на нее не обращали внимания, оставляя детям, птицам, оленям, а что не съестся — пусть опадает на землю, уходит в перегной. Но хозяйственный губернатор, уроженец какого-то нищего островка в Кельтском море, знал, ежегодной такой лафы от орешника не дождешься, и объявил ореховое масло — да и вообще все, что можно снять с куста в урожайный год — первоочередной потребностью жителей Слободы. Никакой механизации здесь быть могло, плоды приходилось собирать вручную, да еще поглядывая вниз, на тех, кому достались не орехи, а известняк.
Если орехи надо собирать вручную, то, увы, и шелушить их надо точно вручную, да еще и сортировать при этом. А что, шесть часов в день такого занятия, при гарантированном питании и крыше над головой, не такая уж страшная повинность. Но те, кто купился на ореховый посул, быстро поняли, что купились на рядовую хитрость. Отбитые пальцы и порезанные десны были тут меньшим злом, самой страшной была ореховая пыль, забивавшая дыхательные пути даже при работе на открытом воздухе. Только зарядили дожди, и кончилось такое послабление.
Бывшие бездельники стали валяться в обмороках. Их поднимали, приводили в себя… и возвращали к прежнему занятию. Вроде бы простое дело — шелушение лещины — превратил губернатор в натуральную пытку. Главный санитарный врач Слободы попробовал вмешаться, но Готобед пресек его возражения непробиваемым аргументом: не хотят шелушить орехи — пусть идут собирают куманику. Костянику. Бокрянику. Голубику, которая гонобобель. Эта последняя очень нужна, кстати, урожай на диво, а на сфагновые болота и послать-то некого, любезный Геннадий Григорьевич. Может, у вас кто желает? Нет? А вы сами?.. Нет? Вот, а вы про орехи, есть людям что-то надо, у нас тут не Елисеев.
Надзиравший за «орешниками» Ипполит Бесфамильный из города Почепа робко спросил, что делать надо будет, когда лещина кончится. Губернатор залез в карман и достал оттуда кедровую шишку. Вопросов у Ипполита больше не было, он побрел к несчастненьким, решив поведать им о радужных перспективах.
Но с тех пор прошли годы. Уже стоял городок и шли службы в трех храмах, достраивались еще четыре. Уже стояла каланча, на которой дежурили три инвалида, уже стояли двухэтажные дома вдоль прямых улиц, дороги были засыпаны щебнем, сияли резные наличники и, будто на смех, цвели на подоконниках герани. «Ну чистый Кустодиев», — думал царь, за столько-то лет не только научившийся разбираться в русской живописи, но и уставший от нее.
Это отнюдь не была робинзонада. Скорее это была вторая Австралия колониальных времен. Сюда — притом точно так же, без права вернуться домой — попадали каторжники из числа не самых гнусных преступников. Сюда был лишь один нормальный вход, — нечто подобное представляла собой гавань Ботани-Бей, единственная в Австралии. Тут было мало рек, хуже того, местный Мюррей, или, как в Австралии говорят, Марри, еще и не отыскался, хотя в ручьях вода была, грех жаловаться, и болота стояли. Здесь не было серьезных хищников. Ну и кому хотелось уехать так далеко, чтоб и вовсе никогда никакой цивилизации не видеть, — тот тоже попадал сюда, ему деликатно предлагали, и многие соглашались. Ведь им предлагали отправиться «за тридевять земель в теплые края», а одинокому человеку другого и не надо.
Павел учитывал, что за столько лет, прожитых здесь, население городка не только расслоилось по занятиям, здесь появились и те, кого называли «ухожими». Видать, им даже здешняя «бурная» жизнь не годилась, они собирали вещички и уходили в лес, надеясь на милость волков, медведей и росомах. Павла эти потери не волновали никак: из любого города кто-нибудь да уходит, какая-то демографическая отдушина все-таки. А здесь нельзя было даже уйти к аборигенам, — похоже, их тут вовсе не было, и венцом творения мог считаться то ли заяц, то ли волк. Посоветовавшись с экологами, даже с полоумным Глущенко, Павел запретил тащить за собой в Слободу почти любых земных животных: мол, помним кроликов в Австралии и коз в Сахаре. Нужна корова — вот он тур, вот он, олень, вот он, лось, а сколько там у них рогов и зубов — в молоке не видно. И гордитесь тем, что лось тут не простой, тут целый ирландский мегалоцерос с размахом рогов в четыре сажени, даром, что при таких рогах, а покладист, как телок. А без верблюда обойдитесь уж как-нибудь. Кошку найдете. Волк — он вообще собака. Без шелковичного червя пока тоже обойдетесь. Загадили один мир, уж поберегите второй. И вообще хватит разговоров про ружья. Чем вам плох арбалет? Не нравится — изобретайте бумеранг. Последнего вслух Павел, впрочем, не произносил.
…Правда, Австралия — страна настолько жаркая, что там автомобили работают на солнечных батареях. А если уж искать иное сравнение, то отчасти похожая на Слободу Аляска тем как раз тем и не похожа, что там зуб на зуб не попадает. Здесь же, как было уже сказано, то ли вечная осень, то ли вечная весна, астрономы разъясняли, мол, это потому, что здесь у земной оси нет наклона, планета такая. Планета?.. Павел гнал эту мысль из головы. Ему и с Россией-то было едва управиться, а тут и вовсе неизвестно что. Да еще и в сутках четырех минут не хватает. Куда только делись? Как всегда, Павел был недоволен, если он чего-то досчитаться не мог. Да пропади они пропадом, эти четыре минуты! Потом поищем.
А вот что по вечерам только и света, что от камина, от смоляного факела, от сальной свечи, от масляной плошки, да хоть от лучины — это было хуже. Электричество здесь давало искру и поджигало трут, но ни в какую не желало бежать по проводам. И здесь не было нефти, да и опасался царь ее найти, как было сказано, загадить еще один мир ему не улыбалось вовсе. Правда, было дерево, а значит — древесный уголь. Были сало диких свиней и воск диких пчел. Говорили, что стеарин тоже можно сделать, но в такие тонкости он не лез, он любил свет камина, а дубовых дров и березовых, как он догадывался, на его век хватит.
Огонь в горне тоже было чем поддержать, а что керосиновой лампы нет, ну так ее и у Петра Великого не было, что уж поминать Колумба. Все-таки первоочередное тут было: переносные горны дымили на отлете от городка день и ночь, куда денешься, а кто там работал, так ясно кто: никому здесь не платили больше, чем кузнецу. Впрочем, нет, кожевенникам за вредность — еще больше. Готобед выгнал их за семь верст от городской черты, иначе дышать невозможно, и обвел их рабочую территорию глубоким рвом, чтобы кошмар не расползался.
Здесь было все свое, даже лягушачьи окорочка своих лягушек, о которых некогда мечтал герой романа Джека Лондона. Правда, здесь не было металла, кроме того, который приносили офени. Здесь пока не было своей бумаги, но ее офени тоже приносили. Нечего и говорить, что не работала электроника — никакая. В итоге канцелярия Готобеда чудесно вернулась к пишущим машинкам, которых офени тоже за полгода натащили выше крыши, потому как во внешней Руси этот товар давно отдавали даром. Было бы бумаги побольше, так с помощью рамки и свинцовых — а хоть и деревянных — литер Готобед готов был начать выпуск газеты «Слободские известия». Сделать бумагу можно было легко, но не было для нее лесопилки, точнее, была, но как все в этом мире, работала вручную. В итоге рабочих рук хватало лишь на бревна и на доски, а баклуши бить… ну, пожалте шелушить орехи, оно полезней. Оно нужней.
Болезней здесь было явно меньше, чем в России, заразили ли люди кого из местной живности — пока было не понять, а люди как будто не подхватили ничего неизвестного. Некогда матросы Колумба завезли в Новый Свет такие подарки, как тиф, туберкулез и оспу, а назад привезли только какую-то кожную дрянь; легенда же о завозе в Европутем же матросами сифилиса развалилась давно и убедительно. Но туберкулеза сюда из России никто не завез, хотя опасность была; за одомашненным скотом следили внимательно, бруцеллюзом туры вроде не болели. Главное, по наблюдениям врачей, — а на кадры, как и было предсказано, царь не поскупился, — здесь сходил на нет и исчезал бич земного бытия: аллергии. Ну, простыть тут можно было так же, как и дома. Голова и зубы тут болели точно так же, бабы так же орали при родах, лучше было не пытаться завести дружбу с росомахой. Из знакомых болезней здесь была довольно злая малярия. Но и даровой ивовой коры было — ешь, не хочу. Сердце болит? Ну, наперстянка тоже есть. Что посложней — ложись в больницу, туда офени средствия приносят. Помирать собрался? Скажи, которого батюшку звать, а на погосте у нас порядок полный, без креста никто не лежит, да и мал пока погост, не та земля, где помирать охота раньше времени.
Геймерам, если они и были тут, пришлось возвращаться к шахматам и го, к мацзяну и покеру, извините, на раздевание, — запрета на это нет, выпускайте пар. Что нет кино — устраивайте театр. А что касается спиртного, ну да, а вы чего хотели? Ясно, монополька. Только сдавайте посуду, со стеклом напряженка. Ну да, «Слободская». А вы чего хотели, «Посольскую»? А не послать ли вас… Ну, куда — сами выбирайте. Табак не растет, холодно для него. Конопля? Ну, изготовьте из здешней хоть что-нибудь, поглядим на вас. Ешьте, друзья, бледные поганки. Только заранее в больницу дайте знать, тут у нас автомобили не ездят, а лося в телегу закладывать долго, другого транспорта пока нету, воздушный шар не подадут.
Павел стоял у окна и смотрел на храм святого благоверного Феодора Ярославича, князя Новгородского, ктитором коего был он сам, архитектором же нынче уже старенький мастер своего дела Вольфганг, по-русски говоря, Волчеход Кавельмахер, построивший в Слободе три действующих церкви и наставивший учеников устроению еще четырех. Церковь была трехшатровая, таких и в России мало, а на Москву вовсе одна — Рождества Богородицы в Путинках. Мастер хорошо строил, хоть и пережил в восьмидесятых период буйного кавелизма. Ничего, вылечили, как вылечили от этой дряни девять из десяти пораженных недугом. А про десятых невыпеченных вспоминать… ладно, чего уж тут.
К утрене встать у царя сил не хватило, устал вчера, да и вообще все эти семнадцать дней провел как белка в колесе. Более всего занимали его известия из внешней Руси, поступавшие с гонцами. Присланные бумаги он читал сам, допросы вел лично Вур, демонстративно не поднимавший веки, ибо знал, каково смотреть на него в эти минуты допрашиваемому. Ежедневно приходил к царю духовник. Надо было бы, так и ежечасно заходил, все одно делать ему нечего, кроме как молиться. Богоугодно, но много времени у царя отнимает. Царь уже был готов начать сочинять грехи, лишь бы иеромонах не заподозрил своей ненужности. Да не боись ты, достроят храм святого Галактиона Вологодского, святого, в роду Павла особо почитаемого, ибо, замученный нечестивыми поляками, преставился он в сентябре 1612 года, пред кончиною возвестив славу и торжество грядущего дома Старших Романовых. Достроят, рукоположат тебя в протоиереи, кто и как и это сделает — дело совершенно не твое, а слобода растет, и есть такое слово — «надо». Царю выход отсюда есть какой-никакой, а тебе, прости, нет, ты в Слободе нужней.
Была сегодня суббота. Царь привычно подумал — «Без четырех минут». В четверг побывал здесь гость, дело вообще-то почти немыслимое, тут из гостей обычно только Божьи люди, офени, а этот гость, хоть и прекрасный человек, нужный, но в смысле божественности, по сравнению с офенями, так сказать, с точностью до наоборот. Хоть и говорил Гораций, что появится здесь этот человек, но не верилось, что так скоро. А что ему: от его мастерской до Артамоновой избы езды на лошади два часа. А на лошади он ездит. Умеет. А чего он не умеет?
Удостоил Кассандрову Слободу посещения не кто-нибудь, а лично чертовар Богдан Арнольдович Тертычный, постаревший, но не особенно, мастер своего ремесла. Что спрос на чертову жилу упал, так он, поди, и не обратил внимания, что упал. А упал ли? Никакая сварка не даст того, что дает узел, захлестнутый на чертовой жиле, скорей стальной брусок разломится, чем эта жила порвется. Ну, и чертова юфть. Ну, и чертова замша. Опять же рога чертовы, на них всегда спрос. И так далее.
Весь Большой Кремлевский дворец обеспечил Богдан чертовым марокеном, то есть пуленепробиваемыми обоями. Такова была сила его неверия ни в бога, ни в черта, что сделался он владыкой над ними: он считал их плесенью, накипью бытия. В богов он тоже не верил, но эти не попадались ни разу, а вот черти на Руси были на каждом шагу, в каждом болоте, главное же — до черта сидело чертей в людях. Именно их отлично умел Богдан гонять, и, хотя бежали они от него, как от ладана, его каталитическая сила неодолимо подчиняла любого вельзевула и асмодея, зеленого, синего, полосатого, какого угодно. Он без труда ловил их, забивал, разделывал, отделял кожу, сало, жилы, кости, хвостовой шип и прочее и превращал все это в полезный человеку материал — ткань для курток и обоев, нубук, шевро, замшу, атлас, а также ножи для разрезания греховных книг, такелажный материал, заживляющую фракцию ACT, — «антисептик-стимулятор Тертычного» для танковых гусениц, много других полезных вещей, главное же — отличное мыло, дорогое жидкое мыло, составлявшее едва ли не половину доходов его фирмы ООО «Чертог», простое асмодеевое и дорогое абадонное, и еще много всяких разных.
Знакомы Павел и Богдан были не близко, но давно, со времен бушевавшей на Руси ереси кавелитов. Павел нередко бывал заказчиком Богдана и, случалось, нуждался в предметах деликатного свойства, которые нельзя было заказать иначе, как напрямую. В этом случае им приходилось встречаться на нейтральной территории, в Завидовском заповеднике, до которого легко было доехать и от Москвы, где жил царь, и от Арясина по ту сторону Верхней Волги, где работал чертовар.
Если царь давал знать через верных людей, что нужна такая встреча, — Богдан уже понимал, чего хочет царь. Он ехал в Завидово, имея при себе крайне редко встречавшиеся у чертей в желудках безоаровые камни, уникальное, почти универсальное противоядие. Надо ли объяснять, зачем подобный товар царю? Павел готов был платить, не торгуясь, но Богдан дарил ему все, что оказывалось в наличии, и не брал категорически ни гроша. Тогда царь распоряжался заказать «Чертогу» атлас или марокен для парусов императорской яхты «Штандарт», две тысячи ментиков из крашенной чертовой желчью чертовой кожи для отдельного его императорского величества Сумского полка, или что другое полезное, и получалось, что в таком раскладе никто не в накладе.
Чертовар вошел в ворота Слободы пешком. Сколько расстояния отмерил ему город — не знал никто, как и обычно. Небольшого роста, остроносый, похожий профилем на беркута, наполовину непалец, проще сказать гуркх, наполовину русский, не православный, не индуист и не атеист, ибо верить даже в отсутствие чего-либо он отказывался, Богдан Арнольдович оставил свои хутора Выползово и Ржавец на жену и верных друзей, живших в тех угодьях уже много лет, и добрался до цели. Он пришел сюда отнюдь не с визитом доброй воли, он пришел так, как грибник приходит в лес по грибы.
Напялив какие-то странные сапоги, чертовар пошел обходить городок, аккуратно, дом за домом, подолгу стоя перед многими, аккуратно заглядывая в окна. Казалось, его очень интересуют герани. Но явно дело было не в том. Особенно настойчиво обнюхал он маленькие магазинчики, пустующие по буднему дню клуб и рынок. Потом пошел к почти пустым церквям, внутрь не заходил, так, поболтался у каждого входа. И вернулся в усадьбу к Павлу мрачнее тучи.
— Ни черта тут нет.
Павел его понял: чертовар не нашел в Кассандровой Слободе того, что искал, своего любимого сырья — чертей. При самом дружеском отношении к Богдану огорчаться по такому невероятному поводу вместе с ним он не мог.
Но Богдан понял.
— Тут нечему радоваться, ваше величество. Если их тут нет, не значит, что не будет. А я не вечен. Помру — так и набегут… от нас набегут. Плесень живуча.
— И что ж делать?
Чертовар приставил палец ко лбу.
— Бум думать…
Перекусив вместе с царем холодной лосятиной, благо день был скоромный, чертовар выпил стопку «Слободской» и откланялся. Выйти из Слободы было куда трудней, чем войти, чертовар об этом знал, знал и царь. Мастер взгромоздился на мегалоцероса, проводник, глухонемой Егор Штин, сделал то же самое. Этот странный человечек, из которого не вышел офеня, обладал способностью лешего: он отводил глаза каждому и закружил бы в лесу любого странника, который увязался за ними. Поэтому с ним, и только с ним, можно было спокойно дойти до Теплоключинки, где из земли бил почти кипящий родник, где жил смотритель и где, нырнув в горячую воду, через сажень-другую пловец выходил в Киммерию, в верховья Рифея. Другого пути из Кассандровой Слободы никто не нашел пока, и было хорошим тоном считать, что его вовсе нет.
Сегодня суббота, напомнил себе Павел. Надо быть к вечерне. Тут же подумал и о том, что это только здесь — вечерня, а какое время суток дома, этого и астрономы не скажут, потому как время разное, да еще такое зыбкое, без четырех минут. Ну ничего, опоздает немного. А дело есть, и важное: поговорить надо. Обедать неохота, аппетита нет. Потом перекусить можно. Той же лосятиной. Вчера нельзя было, пятница, а ведь осталась от трапезы с Богданом, принесут с погреба.
В Кремле царь нажал бы клавишу — «Не беспокоить». Здесь от клавиш толку не было, он высунулся за дверь и вывесил такую же надпись. Сидевший в коридоре Ивнинг пристукнул молоточком, давая знать царю — «принято», и рындам за второй дверью: «вольно». Он знал, что будет делать Павел.
Государь привычно отодвинул панель возле камина и набрал цифры на двух замках — на одном шесть, на другом — двенадцать. Цифры были китайские, с ходу и не разберешься. Да кому тут разбираться? Хотя бы тут — все схвачено. Или не все?..
Панель отодвинулась, открывая дорогу в темный коридор. Павел закрыл панель, отсчитал восемь шагов, нащупал ступень винтовой лестницы, спустился, в темноте набрал еще один ряд цифр, попроще, и через новый коридор вышел в довольно большой зал с низким потолком, освещенный, словно церковь, полусотней восковых свечей. Дух тут стоял тяжелый: пахло воском, гарью, вареными грибами и человеческим потом. Вдоль стен на раскаленных плитах стояли котелки, и в них что-то булькало. Люди ходили вдоль котлов, непрерывно помешивая в них. Из одежды на них были только холщовые фартуки. Народ сюда ставили крепкий, но все равно больше полугода не выдерживал никто. Однако, когда другого выхода нет, приходится пользоваться тем выходом, который есть.
В конце зала виднелось что-то среднее между алтарем и стойкой ресепшена. Там лицом к лицу сидели двое. Один из них поднялся и сделал три шага навстречу Павлу.
— Привет, сын, — сказал царь, — опять мы с тобой в трудах, опять работаем. Никто ничего вокруг не делает. Увы, кому такое поручишь…
— Привет, папа, — ответил цесаревич, — спокойней самому. Да что тут сложного, подумаешь, грибы варю…
— А дышишь чем?
— Издержки профессии. Ну кому это поручишь? Фильтрацию и прочее — куда ни шло, а за этими бездельниками глаз да глаз. Цепи менять надо каждый месяц, ошейники, весь металл на этих бездельников уходит. И все равно столько народу задействовано, не здесь, так у Эльдара что просочится, если не просочилось еще. А без Эльдара как работать?
— Никак не работать не получится только без нас, — миролюбиво сказал старший Павел младшему. — На нас страна, и отдать ее некому.
— Скорее полторы страны.
— Вот видишь. Хорошо — хотя бы здесь, в половинке страны, за чем-то можно уследить. Но и то…
— Папа, угоришь ты тут. Иди к фильтровальщикам, там вентиляция получше. Или к технологам, в конце-то концов, да и что ты вообще тут забыл?
Павел ухмыльнулся: деловитость и бережливость сына всегда были ему по душе. А забота об отце — особенно. Весь в мать.
— Ладно. Сырье обычное поступает?
— Лучше обычного, пожалуй. Кстати, и больше обычного, — раз ты здесь, так Эльдар старается, гоняет своих в хвост и в гриву. Сам понимаешь, сколько надо: летальная доза — это тридцать унций гриба, в среднем две шляпки здешних, а то и меньше. Это на аптекарский фунт двенадцать доз. Это на пуд четыре тысячи тысяча восемьсот доз. Выходит, всего у нас и двухсот тысяч летальных доз нет. Мало. А сырья то густо, то пусто.
— Ладно, и то хорошо, что это не мускарин, как был бы дома — там летальная доза — целых десять фунтов гриба, а это, знаешь, и трюфелями не осилишь. Пятьдесят доз в день — немало все же, который год варим. Двести тысяч летальных в хранилище, не атомная бомба, но мало не покажется.
— Ой, папа, чем занимаемся, будто дел других нет…
Помолчали. Все, что надо, царь узнал. Но все же решил сходить к технологам. Обогнул стол цесаревича, даже не глянув на его визави, свернул налево и пошел очередным коридором. У фильтровальщиков ему делать было нечего, что надо, все сказал цесаревич. Хороший парень, труженик.
Лет десять как тут ничего уже не менялось. В Америке в подобных местах обычно царил крутой и донхуанный дух мескаля, Мескалито, но здесь, в какой-никакой, загадочной, но все-таки России, царил дух красного мухомора, Мускарито, ближайший родич помянутого американца. Причем если обычного мухомора из завидовского парка, чтобы окочуриться, пришлось бы съесть невпроворотные десять фунтов, то здесь хватило бы в сыром виде и четверти фунта, что и выяснилось в первые годы жизни поселенцев Кассандровой Слободы. Насколько разобрались химики, в здешнем грибе содержался вообще другой алкалоид, заметно более активный, без большой фантазии нареченный ими метамускарином. Ладно, мета так мета, государю не только антидоты бывают нужны, но и сами, извините, доты, сам знаю, что токсины, нечего царя поправлять.
Те, кто соглашался у Эльдара делать то, что велят, — под угрозой быть отосланным на орехи, — отсылались в лес отнюдь не за сыроежками. Им предписывалось собирать строго и только красные мухоморы, предпочтительно шляпки, и сдавать по весу один к двум: если грибник приносил только их, весу могло быть вдвое меньше, иначе говоря — двенадцать фунтов шляпок — и ты свободен. Не в том смысле свободен, понятно, что вовсе свободен, но до завтра, до восьми утра. А дальше сам знаешь. Грибы круглый год родятся, хороший тут климат.
Вот уже почти двенадцать лет не прекращался труд на грибоварне Слободы. Там, на благо и для спасения России вываривался метамускарин, и нынешним его запасом без труда можно было отравить город, — не с Москву, понятно, но мало бы не показалось. Тем более что яд был устойчив к весьма высокой температуре. Всего-то четверть безвкусной унции на человека — и клиент готов. В порошке это вообще половина чайной ложки. Жаль, лес не мог дать больше сырья. Труд сборщика был не самым тяжким, хотя и мог вызывать подозрения. Хотя у кого, какие подозрения, если выхода отсюда нет ни для кого, кроме офеней, а они — люди святые.
Да и те, кто грибы вываривал и жил особо, на цепях и в ошейниках, помалкивали. Они хорошо знали, что если громко болтать, то очень скоро разделишься на части: ты отдельно и твой язык отдельно, и хорошо, если всего лишь язык. Производство было отлажено, кто работал, тот не мучился и вполне получал по потребностям, каждого из тружеников тут с особым вниманием лечили до последнего, ибо дороги были рабочие руки, ибо так предсказал Гораций, да ведь и не травил тут никто никого, стратегический запас метамускарина предполагалось использовать вовсе не здесь, да и то в крайнем случае. Он и хранился-то в другом месте.
А если кто вел себя неосторожно — кому бы он заявил о недовольстве? Беречь следовало не только язык, но и уши. И те, что у стен. И те, что у тебя. По ним можно навешать. Уязвимое место — ухо. Из Шекспира знаем.
В конце концов, на грибоварне работали только «ухожие». Город не мог себе позволить разбазаривать людские ресурсы. Далеко уйти отсюда, ясное дело, никто не мог. Обжитая территория Кассандровой слободы занимала многие десятки, чуть ли не сотни квадратных верст. На этой территории свободный человек мог делать что угодно, но бродить по всему здешнему миру — разумеется, нет. Слобода со всеми примыкающими угодьями была по периметру опутана спиралями Бруно, что давало еще и стратегический запас металла на случай блокады со стороны Сестробратова, хотя такое и представлялось маловероятным. Человек рано или поздно упирался в забор. А снаружи ограды уже много лет верой и правдой несли сторожевую службу его величества контрактные волки.
Да, конечно. Если Русь располагала совершенно достаточным количеством морд знаменитой секретной породы служебно-бродячая, то здесь собак, которые могли бы одичать, не было, здесь были только волки. С ними надо было установить контакт. Но заведовавший по в Москве питомником кобелей и сук офицерского состава подполковник Арабаджев, уходя на пенсию, сообщил, что можно обратиться в семью Соломон, в которой, — по меньшей мере один в каждом поколении, — рождается волчеуст, что иудейской религией не воспрещается, ибо не является колдовством, а лишь свидетельствует о генах семьи Соломон из колена Иудина, вот с ними и надо связываться.
Помнится, все эти Иуды и Соломоны царю тогда сильно не понравились, но где взять человека, умеющего говорить с волками. Да еще и волки неправильные — говорят, у них зубов — пятьдесят два, а хромосом — восемьдесят. В хромосомах царь не разбирался, в зубы волкам смотреть тоже не хотел, но без Соломона было не обойтись. Семья вся до последнего человека нашлась в Тель-Авиве и окрестностях, волчеуста, уроженца солнечного Баку, юного сироту по имени Соломон Соломон-оглы Соломон, вычислили два счета, привезли на Кипр, и сделали ему предложение, от которого тот не смог отказаться.
Теперь Соломон, объяснивший, что волчья речь не трудней эскимосского языка, и не зря эскимосы с ними разговаривают, жил на всем казенном в Слободе, имея право не только не ходить в церковь, но и молиться по-своему сколько угодно, а раз уж он бармицву прошел, то и жену ему, если хорошо будет себя вести, тоже обещали. В это он поверил, а попробовал бы не поверить. Он быстро договорился с волками, они тоже очень быстро согласились на государеву службу, — даже уговаривать не пришлось, а что б и не пойти, если всех делов — бегай вдоль спирали да рычи на тех, кто за ней, а раз в день тебе, может, и не лучшей лосятины выкинут, но зато на всех. Может, она и не лосятина, а кого это интересует, если мясо, и не убежит никуда?
Только, получалось, и разницы: там — голодноватые служебно-бродячие собаки. Здесь — добровольно нанявшиеся на службу волки-контрактники. В отличие от людей, они никогда не предавали, не только не хотели, но и не могли предать.
Волчеуст по вынужденному положению стал вегетарианцем. Но это его, кажется, не особо напрягало, как и тех, кто за ним присматривал: соблюдай, что хочешь. С государевой службы ни на ноготь, а больше и не нужно ничего. Нет синагоги? Так ведь не только ее нет. Потерпит. Заведет семью, может построим. А, не морочьте себе голову насчет его семьи, других дел полно. Можно и бабу — на раззавод волчеустов. Даже обязательно.
…Кассандрова Слобода жила, и до мелочей сбывались предсказания предиктора Горация Аракеляна. Ему сегодня плевать было на праздники. Он помнил, что сегодня чей-то важный день рождения, но дата не круглая, шестьдесят один, да и трудно здешние дни в российские переводить из-за полного несовпадения часовых поясов. Гораций знал многое, чем не хотел делиться ни с царем, ни с давно обо всем догадавшимися астрономами. Он-то знал, почему здесь такое количество лесного ореха, ему и смотреть не надо было в кустарник, чтобы найти там так неожиданно много сросшихся ядер. Так срастаются не только орехи, так срастаются и миры, когда случайно, а когда и не случайно: нам не отличить, да и отличать ни к чему.
Предикторы, как и ловцы снов, очень многое знают о таких вещах. К примеру, если вам приснился лесной орех — этот сон справа пришел, и означает мирную, гармоничную жизнь, прибыль. И тем более — если во сне вы раскусили двойной лесной орех, у вас будет много истинных друзей. Или уже есть. Правда, надолго ли — иди знай. Друг — не собака и не волк, его навеки не приручишь. К тому же сон ведь и слева порой приходит, и все тогда наоборот.
Гораций знал, что звездное небо было здесь не то, что немного другое, — он знал, что оно совсем другое. Астрономы давно обо всем догадались, ища в небе куда-то запропавшие Андромеды и Лебеди, и давно выли, что телескопов, кроме оптических, им скупой царь не дает. Странно было бы, если бы дал, — и эти-то деньжищ кучу стоили.
Гораций до боли ясно видел, почему его самого когда-нибудь станут звать — Протей.
Потому, что он, как и царь Фароса в античные времена, без малейшей радости видел будущее.
И потому, что жизнь его проходила на островке среди океана хаоса, с которого только и светил огонь для странствующих и путешествующих в ночи.
И потому, что как мир земной, так и мир Кассандровой Слободы были способны принимать любой облик, такой же, как и неохотно говоривший о будущем морской бог Протей в древние времена.
Этот мир, располагавшийся за дверью на болотах, был все-таки другой планетой. Этот не такой уж приветливый мир, если хотел, представал в образе льва, росомахи, дракона, леопарда, вепря, лося, мегатерия, земли и воздуха, воды и огня. И, хотя этот мир во многом был Русью, имя ему было Протей.
V
21 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ФЕДОР СТРАТИЛАТ
Человечество любит деньги, из чего бы
те ни были сделаны, из кожи ли, из
бумаги ли, из бронзы или из золота.
Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
Уже и слово-то такое в Москве редко кто помнил, Чертолье. Лежало оно по дороге из Кремля в Новодевичий монастырь, государь Алексей Михайлович дорогою той на богомолье ездил, недоволен был через такое небогоугодное название ездить, повелел — и стала там улица Пречистенка. Еще были там улица Петрокирилловская, по знаменитому угличанину поименованная, и Остоженка — по старинному урочищу Остожью. Чуть не двести лет прошло, как забрали ручей Черторый, что Чертолье пересекал, в трубу, но черт-то что тут когда-то было, и вот до сих пор не забылось: откопали здесь люди добрые, а может и не добрые вовсе, старый-старый камень, жертвенник бога то ли Перуна, то ли Сварога, то ли и вовсе Чернобога, весь древней кровью, как заварным кремом, залитый. Поскорей зарыли тот жертвенник, домов и храмов сверху понастроили.
Там, на Петрокирилловской, на углу Большого Щепетневского, против усадьбы купца первой гильдии Лукина, сразу за посольством республики Сальварсан, стоял дом, который некогда выстроил для себя коммерции советник Петр Белоцветов, однако въехать туда не успел, помер в один год с Александром Вторым Освободителем. Простоял особняк пустым почти двадцать лет, наследники его продать не смогли, а там и сами вымерли.
Дом отошел в казну и в итоге был отдан в вечное владение князьям Кирилловским, — приказом московского генерал-губернатора Сергея Константиновича Гершельмана от тридцатого января седьмого года. Волнения тех грозных лет привели к ужасному факту: сторонница престолонаследования Кирилла Владимировича, эсерка Севастьянова, покусилась на жизнь генерал-губернатора, но генерал, герой русско-японской войны, как гласит московская легенда, оказался бронированным, сам порвал эсерку на двенадцать частей, смешал ее прах с копытами взорванных лошадей, истолок в ступе, приказавши затем стрелять этими частями на двенадцать сторон Москвы. Однако это уже совсем другая история, особняк же как стоял пустым лет двадцать до передачи князьям, так еще десять лет пустовал.
Затем стал дом коммунальной слободой на двести жителей, потом перешел при советской власти в резерв для посольства (а ну как еще где-нибудь в Африке революция будет и блудолюбивому послу флэт потребуется?..), однако не потребовался. И лишь в заветном оруэлловском году за большие заслуги перед Российской империей отдан был особняк вместе с землей, на которой стоял, уроженцу города Санта-Теремотто близ Кремоны, ломбардскому специалисту по меняльным делам, Якову Павловичу Меркати.
Теперь Яков Павлович, один из верховных ктиторов России, занимался в особняке тем, чем уже пять столетий занимались его предки, выходцы из Ломбардии. Он не оперировал электронными счетами и не давал ссуды. Он держал меняльную контору, производившую, пожалуй, самые сложные расчеты в Российской империи. Ибо он менял все валюты на все валюты. Не в переносном смысле, а в прямом — все на все.
Он менял золотые червонцы на бумажные юани; серебряные пиастры на никелевые эре; гренландские кроны на вьетнамские су; византийские триенсы на испанские кавалло; бартоновские позолоченные медяки на российские платиновые империалы; советские палладиевые олимпики на лигатурные британские соверены; золотые статиры Бактрии с портретом Гелиокла Дикея на опускавшиеся в уксус, дабы не допустить их перечеканки, железные пеланоры Спарты; древнесловацкие серебряные биаты на древнеримские республиканские ассы с Янусом и носом корабля; колумбийские габриэли на сербские милорады и многое другое на многое другое, — для человечества Меркати был настоящим богом обмена, как Меркурий был для человечества богом торговли, и лишь безумец стал бы искать других, равным им, богов своего дела.
Но было у Якова Павловича и свое хобби. Любую в мире валюту обменивал он на кожаные марки, деньги Аляски и Сибири, для которой в XXI веке стал монополистом: ему принадлежало до девяноста процентов этой кое-как сохранившейся валюты, цена которой давно составляла не золотник тюленьей кожи на золотник золота, а едва ли не в миллион раз выше в «кожаном стандарте». Яков Павлович мечтал уговорить императора начать эмиссию таких денег, скажем, из «чертовой кожи», хотя и понимал, что ее, скорей всего, не выделят, а на другой — клеймо смотреться не будет. Но все же более двухсот образцов кожаных денег сосредоточил бывший итальянец в своей коллекции — а кроме того, хранил он у себя куда образцы более старых кожаных денег, в частности, монет древнего Карфагена, с которым, как он полагал, после восстановления оного, еще предстоит России иметь торговые дела. Ради такого дела, считал он, Карфаген должен быть отстроен.
Кожаных денег у него давно никто ни для какой коллекции не просил: он сам установил на них монополию, а царь поступал с ним по старинному русскому принципу: «Делайте что угодно, только чтобы я об этом не знал». Что творилось в полудесятке подземных этажей петрокирилловской империи Меркати — знал только сам меняла.
Меркати гордился тем, что обворовать его непросто именно потому, что деньги — вещь тяжелая. В минус пятом этаже устроил он несколько колодцев для мелкой разменной монеты. Самым примечательным был колодец, над которым болтался приличных размеров магнит. При опускании магнита в колодец можно было вытащить его обратно, облепленным канадской мелочью из чистого никеля, обладавшего магнитными свойствами. Меркати несколько раз менял магнит, пока не добился точной возможности в один подъем вытащить мелочи на десять канадских долларов.
Разменной монетой у Якова заведовал Артур Адамович Матасов, приказчик из армян, способный провести над землей рукой и опознать — не лежит ли в ней клад древней монеты, а если клад не «растекся» — то и сказать его возраст, объем и примерное содержание порченой монеты. В частности, при углублении подвальных этажей особняка предсказал заранее, что в юго-восточном углу фундамента будет обретен шестипудовый клад медной екатерининской монеты, над чем Яков смеялся, пока клад не обрел. Когда же обрел, выплатил Матасову положенную четверть и ходатайствовал о присвоении Матасову личного дворянства. Дворянства, понятно, не дали, но сам разменный заместитель вполне удовольствовался полученной суммой, род свой пока продолжать не спешил — и удалился в катакомбы ломбардского особняка. Кабинет его напоминал застенок, где старинные монеты подлежали пытке адскими кислотами, острыми зубами и осиновыми колами, хотя Матасов и на глазок знал, чего где сколько, но кто б ему без осинового кола и святой дистиллированной воды поверил?..
В особняке висел неоседающий запах уксуса, мыла, лимонной кислоты, кока-колы, зубной пасты, марганцовки, купороса, аммиака, ацетона, соли, меди, серебра, никеля, золота, палладия, платины — аромат хранилища старинных и современных монет, в котором невозможно было отделить сильный дух от слабого и до вовсе неощутимого для человека, внятного разве что волчьему носу, и то без уверенности. Короче, тут пахло деньгами, той бессмертной материей, которую то ли древние греки на острове Эгина изобрели, то ли вовсе китайцы. Но, если быть точным, все же не деньгами тут пахло, а звонкой монетой.
В воздухе тут висела легчайшая металлическая пыль, которую не мог изгнать ни один вентилятор. За окошками в меняльном зале сидели немолодые клерки, все как один в бинокулярах с подсветкой, при нумизматических весах, пинцетах и массе непонятных предметов, сильно смахивающей на уменьшенный инструментарий пыточной камеры. Сюда приносили и отсюда уносили. Меркати не предлагал каталогов того, что у него есть, предполагалось, что у него есть все. По крайней мере, он обещал, что при честных условиях обмена достанет все. Обычно он все и доставал.
Первые годы его работы в Москве остряки пробовали устраивать тотализатор: найдется у Якова нечто или нет. Обычно находилось. Изредка Меркати проигрывал. Но когда было замечено, что проигрывает он исключительно лицам, близким к тем, кого называли кто «семьей», кто «близкими к Кремлю кругами», держать пари перестали.
Яков Павлович всегда бывал только в выигрыше.
У него было две дочери. Старшая, Флорентина, удачно вышла замуж в Швейцарию перед тем, как там была восстановлена монархия, — вышла за наследного принца Йорга Шаффхаузена, ныне уже короля Швейцарии Йорга II. Увы, отношения с отцом у нее на том и кончились, новой родне претило такое происхождение. Младшая, Клавдия, в прошлом Корнелия, пока жила с отцом; недостатка в женихах у нее не было: хоть и пребывала на выданье, но из женихов всерьез никого по предпочла, либо таковой был ей малосимпатичен, либо худороден и безденежен, по мнению отца. Конечно, бывал в гостях у него глава военной разведки империи, Адам Клочковский, но тот был вдовцом тридцати восьми лет, человеком не очень обеспеченным и к тому же поляком. Его Меркати держал как совсем запасной вариант, если дочь засидится, — но она и так полагала, что «засиделась», что девушка двадцати одного года и не девушка вовсе, а старая дева… и в чем-то была права. Хотя тут будущее дочери было бы совершенно обеспечено, да и на семнадцать лет разницы можно бы закрыть глаза, но… нельзя же сестру королевы превращать в жену разведчика. И еще хуже: нельзя королеву Швейцарии делать сестрой жены столь в прямом смысле тайного советника.
И Яков Павлович на этот раз всерьез боялся оказаться в проигрыше.
Тем более что в ту эпоху кризиса, нелепо именуемого то византийским, то болотным, никто особенно не мог гарантировать вообще чьей-либо победы. Проправительственная толпа вроде бы опрокинула антиправительственную, это означало, что власти смогли не только собрать свой митинг, но и оплатить его, — в этой прописной истине Яков не сомневался, так всегда было и всегда будет. Но знал он и то, где лежат доступные для подобной оплаты деньги. С Каймановых островов или даже из Люксембурга вывести их не так-то просто. Чаще в подобных случаях платят наличными. А где у царя наличные — это Яков знал точно, ему и в погреб ходить не надо было, чтобы узнать. Он не скупился бы, он дал бы после первой просьбы. Но просьбы не было. Ни от кого. И это тревожило.
С другой стороны, ведь и греческий митинг тоже собрался не за так. Апельсинно-кокаинные деньги Ласкариса ни от кого из серьезных банкиров тайной не были. К тому же Меркати понимал: барон может со своими наемниками расплатиться, вовсе к деньгам не прибегая, — чем продавать гурману апельсин, можно оплатить ему выход на сцену «натурой». Но тут существовала опасность давки и гибели своих же сторонников. Получалось, что глава державы своим сторонникам не платит, а глава противоположной партии своих сторонников готов мочить до последнего?
Предстояло отыскать во всем этом систему. Пока не получалось.
Однако по жизни Меркати так и остался уроженцем Ломбардии, где еще пятьсот лет назад папой Юлием II было дано предписание Джордже де Касале, инквизитору из Кремоны: уничтожать «огнем и мечом» колдунов, особенно гнусных и отвратительных, из-за способности превращаться в котов. В кота он превращаться не умел, но способность к выживанию в смысле мимикрии была у него почище, чем у хамелеона. В России такие ящерицы не водятся, но само слово-то греческое, и меняла делал из этого выводы. Хотя полагал, что пока для конкретных действий повода нет. А впрочем…
Практически весь особняк считал Яков Павлович своим кабинетом, разве что посетителей принимал в отгороженном от меняльного зала тесном, без окна, чулане, набитом камерами слежения и окошками пневматической почты. Что касается любой экспертизы, он полагал, что в простых случаях клерки обойдутся без него, в более сложных он обойдется без них, а в наиболее сложных экспертиза вовсе не нужна, риск — благородное дело.
Самый длинный день года выпал на вторник. В смысле звезд день навевал ассоциацию лишь одну: зодиакальный знак Рака и жара за тридцать настоятельно напоминали русскому человеку о том, что есть на свете такое слово — «пиво», но Меркати по сложившейся привычке пил разведенное вино, притом белое, и на все традиции плевал. Включать кондиционер он тоже опасался, суеверно считая, что для его профессии это вредно: ветер унесет удачу.
Дверь приоткрылась, страж дома, тонкий-тонкий юноша неопределенно восточного происхождения кашлянул за ней, давая понять: пожаловал гость. Кашлянул и второй раз, предупреждая, что гостей двое и оба не внушают ему доверия. Однако какой там гость ни есть, а все лучше, чем терзаться размышлениями о давешних «болотных огнях».
На пороге кабинета появился безукоризненно и совершенно не по погоде облаченный в тройку молодой человек с аккуратно подстриженной черной бородой и носом, заставившем Якова Павловича вспомнить о народе, некогда загубившем великую византийскую империю. Однако гость, чуть поклонившись ему, заговорил на идеальном русском:
— Могу ли просить вашего содействия?
Меркати кивнул. Гость присел к столу.
— Мне хотелось бы сделать вклад в ваш банк.
Меркати вздохнул: опять двадцать пять.
— Могу порекомендовать вам любой надежный банк из работающих с нами. Меняльная контора Меркати производит исключительно обменные операции. Как в части конвертирования валют, так и в целях чистой нумизматики. Если вас интересует размещение средств, то банк «Хелемский и Новиков» сможет предложить вам услуги исламских коллег. В Москве есть и шариатский банк.
Гость досадливо засопел.
— Я не веду дел с мусульманами, я христианин. Все же мне рекомендовали ваш банк как наиболее надежный и независимый.
Было совершенно ясно, что так просто от восточного клиента не отвязаться.
— Возможно, вас могут заинтересовать наши услуги по конверсии валют, если вы предпочитаете российский рубль швейцарскому франку, например?
Гость опустил глаза. Что-то такое он, видимо, предпочитал. А что?
— Именно так, но несколько иначе. Мне хотелось бы конвертировать отдельные суммы в несколько различных устойчивых валют, дабы избежать существенных потерь при изменении курсов. Сохраненные деньги лучше, чем заработанные, не так ли?
— Иначе говоря, разделить сумму на вклады в рублях, евро и долларах? Отлично, банк «Хелемский…»
Гость досадливо скривился:
— В этих трех валютах я и так слишком большие средства держу. Меня интересует возможность конвертировать деньги в швейцарские франки, японские йены, южнокорейские воны, золотые юани, тайваньские доллары, мавританские угии, саудовские риялы и прочие валюты, которые вы порекомендуете.
У Меркати заныло сердце. Гость по крайней мере не был занудой, даже если из этого визита не воспоследует ничего — по крайней мере соскучиться с ним не грозило. А в такую жару это было важно, Вспомнив о том, что гость объявил себя христианином и делать абстинентный вид не надо, банкир решил перейти к процедурам европейского гостеприимства.
— В этом отношении, разумеется, мы можем дать консультацию. Не желаете ли прохладительных напитков, кофе?..
Гость кивнул. Хозяин позвонил в колокольчик, юноша-страж возник на пороге.
— Алак ат капе?
Меркати, надеясь, что гость не знает тагальского, кратко ответил:
— Маламиг алак. Да, и кофе.
К полиглотству менял обязывало ремесло на протяжении тысячелетий. Держать среди слуг филиппинца, в конце концов, никто не запретил бы, тем более в России, а что вино должно быть холодным в жару, и что должно оно быть белым, и что должно оно быть итальянским, а что кофе должен быть по-арабски, хотя арабский способ только тем от турецкого и отличается, что при нем зерна сильней прожаривают, — это слуга должен сам знать.
Если бы не этот кофе, Амадо Герреро вообще давно был бы выслан из России как мигрант и бандит. Умение драться любой палкой, лучше двумя, сделало его грозой Старогайского, а позднее и богатейшего Нищенского рынка. Получив два раза по месяцу принудительных, Амадо на третьем предупреждении предстояло покинуть пределы империи самым непочетным образом. Но владелец богатого Нищенского рынка, господин Тойяр Худайберганов, человек известный утонченными и необычными пристрастиями, обладал неодолимой страстью держать доходы от торговых точек в бухарской, хивинской и кокандской валюте, и это обрекало его на неизбежные контакты с Меркати. Кушанские тетрадрахмы и оболы, дирхемы, хорезмские, хивинские, самаркандские пулы, фельсы и прочие таньга и тенге были непонятны ему самому даже по названиям, но сознание того, что вот эти-то монеты не подешевеют никогда, что на родине они уж точно принудят соседей считать его человеком не только родовитым и богатым, но и патриотом, было сильнее. Обладавший сказочными обменными связями Меркати прекрасно знал слабые точки держателей старинной монеты и понимал, что за один семью собаками глоданный кельтский биат в Братиславе бактрийскими халками с ним точно расплатятся, а это при продаже в худайбергановскую коллекцию, — хотя какая это коллекция, если он деньги в мешок складывает, — прибыль на выходе даст тысячу пятьсот процентов. Ради этого стоило два-три часа посидеть с королем рынка за столиком в садике. Именно так, не за столом в саду, без уменьшительных суффиксов в том садике не говорили, — и послушать сальности толстого педофила, которому пол малолеток был без разницы. Самого Меркати это все не касалось, кофе был прекрасным, а прибыль — пятнадцатикратной.
Как ни был богат узбек, но в долгах у менялы он сидел постоянно: тот не принимал чеков, денег на кредитке тоже держать не желал. Самое простое, на что он соглашался, были американские доллары, отчеканенные до Великой Депрессии. Даже в четвертом состоянии больше десяти современных монет того же достоинства таковых купить было проблематично, и, не желая мучиться с добыванием, узбек и эту обязанность перекладывал на менялу. Тот доллары доставал где мог, и в обменах и на аукционах, а вот за них, и только за них, заказчик мог расплатиться любой уважаемой валютой, пусть бумажной, а что, деньги на карманные расходы тоже нужны. Часть монет просто вращалась по кругу. Где бы еще позволили банкиру столь нахальный бизнес? Нигде бы не позволили, но в России он был не кто-то, он был государев ктитор, державе он был выгодней любых налогов, и поэтому делал Яков Павлович что хотел.
Почти три года прошло с того невозможно жаркого июльского дня, когда владелец рынка и итальянец сидели в садике за неизвестной по счету чашкой кофе, и узбек, обмахиваясь бесполезной чековой книжкой и не зная, чем еще оправдать свою нестерпимую бедность, случайно обронил:
— А хороший кофеечек, право…
Из вежливости Меркати подхватил:
— Исключительно хороший, правда. Кто-то у вас умеет замечательно варить кофе. Редкое искусство, с ним на Востоке мало кто так справляется, настоящим мастером родиться надо.
Узбек ухватился за тему для гаснущей беседы:
— Тогда, пожалуй, еще по чашечке? Скоро нам этого удовольствия уже не доставят. Где такого мастера кофейной церемонии еще хоть разочек найду? Он кофе не мелет, он его жарит и толчет, ладанчиком окуривает, что-то там еще делает… Бедный я человечек, и впрямь не в денежках счастьице, ничего-то за них хорошего купить нельзя…
Меркати, всю жизнь полагавший, что тем деньги и хороши, что на них можно купить другие деньги, кивнул: выпьем, мол, еще по чашечке, покуда не призвала нас вечная темнотушечка.
Тонкий, как тростинка, юноша принес кофе, меняла краем глаза глянул на него и подумал, вспомнив педофильство хозяина, что дело тут не в одном кофе. Однако торговец есть торговец, даже такой взгляд от внимания узбека не ускользнул.
— Замечательный мальчонка! И кофе, и охранник тоже. Подобрал его между будочками, еще убежал бы у меня, тоже. Национальный палочный бой — держите только, любого японца отколошматит! А кофеек умеет толченый с ладаном!.. — заметив, что все это на гостя впечатления не производит, с грустью добавил: — Жаль, стареет…
Парню наверняка не было и двадцати. Если б не пятнадцатикратная выгода, Меркати осудил бы узбека хотя бы в душе. Но тот слишком много было ему должен.
— Почему же с ним надо расставаться?
— Ах, он такой шалунишка, постоянно связывается с хулиганами, бьет их на виду у всех, а они с жалобами, и у него два привода, а на третьем, как вы знаете, высылают.
Охранник, да еще с подобными талантами в смысле кофе, Меркати давно требовался. Уж охранную-то грамоту для парня он вполне мог получить, а расстояние от Петрокирилловской до ближайшего рынка не такое, чтобы одолеть можно за обеденный перерыв. Драться будет не с кем.
Короче, после длинной церемонии и торга Меркати выменял юношу в эквиваленте «один филиппинец — двести пятьдесят хорезмских теньга». Меняла знал, что сильно переплатил, но справки о здоровье короля Нищенки он навел заранее и опасался, что иначе не получит вовсе ничего.
Всего через год узбек и впрямь перебрался в жаннат, с его капиталами наследники обреченно пригласили разбираться опять-таки Якова Павловича, а сто с небольшим фунтов стальной филиппинской плоти и умение варить кофе с ладаном прочно поселились в приемной у менялы. Прошлое парня было новому хозяину не интересно никак, а парень умел ценить защиту, за которую с него требовали только верность, а это, право, так немного. Юноша прежде был никому не нужен. Однако ничто не ценится выше, чем то, что не стоит ни гроша: его нельзя перекупить.
В качестве процента Меркати получил не только охранника, но и немыслимо вкусный кофе, и восточный гость нынче это оценил. Не удержавшись, сделал краткое движение, смысл которого кто другой и не распознал бы. Но Яков Павлович отлично понял: клиент хотел поцеловать кончики пальцев. «Вижу, какой ты христианин», — пронеслась мысль.
— Пока что я хотел бы разместить наличные суммы, скажем, в условном масштабе пять миллионов долларов Северо-Американских Соединенных Штатов.
«Ого». Сумма не была огромной, но заслуживала внимания. В долларе нынче целых два целковых.
— Разумеется. Позволите? — Меняла отлил к себе в бокал немного смеси из декантера, отпил. Гость сделал то же самое. В разгаре июньского дня удовольствие возникало совершенно сексуальное. — Итак, мы рассматриваем обмен на свободно конвертируемую валюту. Британский фунт, швейцарский франк, канадский доллар, южноафриканский ранд, датская крона, корейская вона, японская йена, мексиканский песо, венгерский форинт, золотой юань континентального Китая…
Лицо гостя поскучнело, он огладил бороду.
— Это известно, это обыденно… Хотя швейцарский франк — конечно же. Но золотые гинеи, соверены, динары, дублоны, мараведи, флорины, розенобли, цехины, дукаты, талеры, кроны, луидоры, пистоли, эскудо, солиды, империалы, наконец — разве это не надежней столь сомнительных песо и форинтов? Или динары, дирхемы?
Меняле поплохело. То ли гость слишком много знал про его деятельность, то ли вообще очень много знал, то ли, что еще вероятней, и то и другое. Но в любом случае перед ним сидел второй меняла. Клиент называл только золотые монеты, не ошибся ни разу, не обмолвился никакими попугайными «пиастрами».
— Да, и еще экю, — Меркати не так-то просто было застать врасплох. — Разумеется, хотя эти валюты не имеют сейчас открытого хождения, но они будут для вас… господин…
— Гайдар, Богощедр Гайдар, весь в вашем распоряжении, симпатичнейший господин Меркати, — мефистольски ухмыльнулся гость.
— Да, господин Гайдар, можем предложить, помимо этих валют, возможно, не всех, но большинства, также надежные ливры, риксдалеры, стюверы, абазы, пиастры…
Однако на гнилого червя гость не ловился.
— Нет, давайте остановимся на золоте, хотя, конечно, в допустимых количествах могут приветствоваться также платина и палладий. Но если есть уникальные экземпляры, разумеется, металл уже менее важен.
— Боюсь, что на сумму в пять миллионов подобрать нужные валюты быстро не удастся. Хотя тут есть настолько дорогие и благородные именования, что это скорее всего и не составит слишком громоздкого груза.
— Тогда, возможно, стоит удвоить сумму размещения? Скажем, на первый раз — десять миллионов?
А хоть пятьдесят. Меркати твердо знал, что связывается с золотом только дурак, да еще дурак ленивый. Хотя не такой уж дурак, если брезгает форинтами.
— Разумеется, при условии, что банк получит некоторое время на процедуру оформления. Некоторые из этих валют не подлежат вывозу из России.
Гость расплылся в улыбке:
— Нет, зачем вывозить, я русский, я москвич, мне везти нечего и некуда. Возможно, после конверсии я буду просить вас оставить эти мои средства у вас на хранении. Под разумный процент, разумеется.
Меркати не сразу понял — кто в итоге и кому собирается платить процент, а когда осознал, что все пойдет в его пользу, не на шутку встревожился. Гость шел на прямой подкуп. Подкуп Якова Меркати, ктитора империи, крестника государя-императора. А поскольку гость даже и не очень старался скрыть, что он мусульманин, то ясно становилось, зачем он пришел давать взятку.
Но той ситуации мир не видывал, которую ломбардец не обратит себе на пользу, — в этом Меркати был убежден. Справился с постройкой храма из затонувших ступенек, уж с этим взяточником в незримой чалме он тоже справится.
— Что ж, это можно будет обсудить. Вы предполагаете доставить доллары прямо в банк?
При друзьях Меркати свою контору банком не называл, ему претила уравниловка. Но никаких друзей у себя в кабинете он сейчас не видел.
— О, разумеется, банк «Хелемский и Новиков» берется представить нужную сумму, скажем… в монетах Сакаджавеи?
Чужое слово далось гостю с трудом и с неправильным ударением.
— В любых, господин Гайдар, в любых. Возможно, вы захотите ознакомиться с нашим предложением по интересующим вас валютам?
— Нет, конечно же, нет. Всецело полагаюсь на вас. А подробности, прошу, в приемной ожидает мой финансовый секретарь, Алексей Эдмундович Поротов, ему я доверю всю процедуру. А можно ли еще чашечку вашего изумительного кофе?
Понятно, что было можно, тем более что даже у все видавшего менялы в горле пересохло. Амадо несколько перестарался с ладаном. Но ничего, все равно лучше него кофе не варил никто. Гость сально посмотрел на филиппинца, когда тот исчезал за дверью.
«А вот фигу тебе», — подумал банкир, вслух прозвучало бы как «кольоне», что в принципе то же самое, только грубее. Кому, как не ломбардцу, знать много языков.
— Да, вот еще, — обратился к нему гость буквально с порога, — полагаю, для вас не составит труда найти для меня также и некую сумму в бизантинах, вернее, солидах?
«Приехали», — подумал Меркати, но ответил:
— Разумеется. Приятно было познакомиться.
«Еще приятней было бы тебя удавить», — подумал меняла и кликнул юношу:
— Алак на валанг тубик.
Еще не хватало после такого посетителя воду в вино лить.
Исполнительность стража давно здесь никого не удивляла, и вино он принес другое, заметно более крепкое, и убегать не спешил, полагая, что вино может оказаться недостаточно «малакас», то есть крепким. Но меняле хватило и того, что он принес, по чуть видному знаку Амадо исчез в коридоре.
Высосав подряд два фужера светлого вина, банкир пришел в себя. Ну что случилось? Ну, запасается очередной Худайберганов византийской валютой на случай торжества византийской идеи. В конце концов, бизнес есть бизнес, ничего личного. Отчего бы и не махнуть сотню бизантинов на доллары с мордой этой самой феминистки? И тут же понял: нет, нельзя. По крайней мере оставаясь лояльным к ныне царствующей в России династии, будучи крестником императора — невозможно совершенно.
Но у судьбы бывают неожиданные повороты. Двумя нажимами кнопки на столе меняла дал сигнал в нижние этажи. В кабинете не раздалось ни звука, в подвале зазвенели неслышимые колокольчики.
С трудом двигая больными ногами, вошел Матасов.
Меркати, не сгущая краски, обрисовал ситуацию. Армянский гений понимал работодателя раньше, чем тот произносил слово.
— У вас есть скифаты.
Коротко говоря, заведовавший мелочью приказчик мелочью дать и предлагал. Понтийские клады содержали немалое количество византийских медяков, для которых не было толковых каталогов, в силу чего при известном знании предмета их можно было оформить как немалую редкость. Знание предмета при этом у приказчика было такое, что и Меркати считал его чисто мистическим даром.
— Он просил золото. Можно сказать, что нет в наличии, тогда зайдет разговор про сохранность…
Приказчик поморщился. Нашел кого учить. Можно было не сомневаться, что клиента Матасов нагрузит, как довеском к золоту, такими центнерами средневековой мелочи, что перебирать тому придется ее до тридцатого века. В принципе тоже было жалко, но не отдавать же византины. А соверены, дублоны, флорины, розенобли, цехины, дукаты, луидоры, пистоли, весь этот нумизматический Дюма — к вашим услугам.
— Тогда и правда выберем этот вариант. Но лучше все же дать рассортированные по номиналу…
Можно бы и не говорить. Матасов сам все знал лучше. Уж он постарается, чтобы все эти нуммусы и полуфоллисы блестели, а что гурт у них появился, которого там сроду не было, так не хотите — поменяем на такой же, без гурта, но более поздний.
Золотой солид, если попадал на аукцион, меньше тысячи зеленых вообще не стоил. Только вот найти его на аукционе было в высшей степени сложно. Потому как лежали те, что сохранились, преимущественно у немногих Меркати, рассеянных по земному шару.
Но редкое золото и дурак оценит. А вот поищите, друзья, на том же аукционе серебряный доллар семьсот девяносто седьмого, так устанете нули считать. Поищите тетрадрахмы Бактрии. А что попроще, так на десять гайдаровских миллионов только и купишь — в теории — сорок или пятьдесят петровских копеек. Правда, надо знать — каких именно. Но если найдешь — в одном кошельке унести можно. Византийское золото и близко к тому не котируется.
Меркати почти допил содержимое второго декантера, понимая, что вообще-то хватит уже, сон ночью пропадет. Наводить справки про этого Гайдара с бредовым именем можно будет и завтра, а пока есть дело. Он вытащил из нищи подсвечник с единственной свечой, вышел в коридор и дал знать охраннику — идем. На лестнице он зажег свечу и стал спускаться. Филиппинца слышно не было, но меновщик знал — он за спиной, в двух шагах.
Миновав несколько пролетов, Меркати достал ключ и отпер дверь. Цифровым замкам он не верил. Себя он толком не мог бы защитить, но как крестник царя имел право на некоторые привилегии. И в качестве подарка к пятидесятилетию шесть лет назад намекнул секретарям царя, что хотел бы получить надежную дверь. Мог ли царь отказать своему другу и почти родственнику?
Дверь была тяжелая и костяная, со знаменитым клеймом фирмы «Чертог». Яков Павлович уже тому дивился, что эту кость вообще как-то можно обработать, производитель гарантировал ее устойчивость при направленном взрыве двух тонн «китайского разрушителя». Что это такое — меняла и представить не мог, но догадывался, что это очень много, скорее стену разнесет, чем дверь проломит. Но стену в два метра, притом еще и со свинцовой прокладкой, тоже ломать замаешься.
Сюда, помимо самого хозяина, имел право входить только филиппинец, но этот вообще имел право на что угодно. Имел право и Матасов, но он зашел сюда всего раз, выяснил, что мелочи тут почти нет, а та, у которой поднебесные цены, и не мелочь вовсе, и потерял интерес.
Шести сундуков скупого рыцаря у Меркати не было, но тот по сравнению с ним был сравнительно небогатым человеком. Золота императрицы Елизаветы, надо думать, не было не только у барона Филиппа, но и у самого Пушкина. Выложи Меркати десяток их на аукцион — цена бы, пожалуй, и упала. А вот если выложить один… При таком товаре Гайдару на его миллионы портмоне хватит, и место останется.
Сейчас полагалось переместить в один сейф все русское золото восемнадцатого века. Не поздней Александра Благословенного, разумеется, более поздние Романовы нынче очень не в чести. Жаль, но, возможно, придется ссудить кое-что царю. О крестном отце положено заботиться, коль скоро ключи от твоих дверей все равно у него.
Но имелось и второе дело. Оно ненароком могло оказаться даже более важным.
Открыв кляссер с нижней полки огромного сейфа, Яков Павлович стал методично выстегивать из него листы, предназначенные для более надежного хранения, условно говоря, для личных нужд. Это были золотые византийские солиды.
Увидь подобное, пушкинский барон Филипп во второй раз стал кричать про ключи.
Что произошло бы с наркобароном Константином, уже появлявшемся в нашем повествовании, — сказать трудно. От восторга бы он не умер. От жадности тоже. Скорее всего, он немедленно стал бы пламенным нумизматом.
В минус пятом этаже особняка Артур Матасов выпил рюмку коньяку и не стал закусывать. Если что его не интересовало, так это было все золото мира.
VI
29 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ТИХОН-УТЕШИТЕЛЬ
Разве гавани существуют не затем,
чтобы снова и снова заходить в них
после долгого плавания?
Эрих Мария Ремарк. Гэм
«Ну и процветай себе», — подумал Елим Павлович, оглянувшись на темный юго-запад, примерно в сторону Сицилии. Мысль была адресована за две тысячи километров наследнику византийского престола, отбывшему на недельку в «поместье» Ласкари на Сицилии. Высокогорский никогда там не был и не видел смысла туда стремиться. Мало ли где он не бывал, он вообще из Тосканы дальше Тристеццы почти не отлучался. Тем более — никогда не был в России. Уже пять поколений Высокогорских рождалось и умирало то в Италии, то в Германии, лишь изредка бывая в России. Последним покинул ее прадед Елима Павловича, его полный омоним, когда в двадцатом году барон Врангель через Диоскурию эвакуировал свою армию подальше от зверей садиста Фрунзе.
«Но человека человек послал…» Вот именно, послал. Куда подальше. Путь на Москву возможный император всея Византийской Руси Константин Ласкарис наметил для своего будущего предводителя дворянства через Черное море в Икарию, дальше через перешеек, а там вперед, в Москве встретят. Ну ладно, кто даму ужинает, тот ее танцует. Обедневшему потомку богатейшего рода Российской империи приходилось исполнять волю работодателя.
Когда с шлюпбалки «Святого Фоки» спустили лодку, он даже весла в темноте с трудом нашарил. Оттолкнулся и поплыл к почти спящему берегу Итаки Таврической. Город был сильно разрушен царскими бомбами и гражданской войной, три года как отбушевавшей, но слишком памятной.
Было новолуние, — лишь огромная Капелла в созвездии Возничего, она же арабская звезда Альхайот, и знаменитый Алголь, «звезда демона», он же Глаз Медузы в созвездии Персея, кое-как заставляли воздух мерцать. В принципе плыть через Черное море из Трапезунда на жалкой парусной шхуне нужды не было, пустили бы и по туристической визе, он имел два достойных гражданства, итальянское и княжества Тристецца, но по намеченному плану для тех, кто мог заинтересоваться Высокогорским в России, его вообще не существовало, он якобы лечился от алкоголизма в обитой войлоком палате в городе Умаге, в Хорватии, что в двух шагах от Тристеццы. Пусть проверяют.
Марафета было не так уж много, и сбыть его предстояло здешнему барыге, на которого указал трапезундский агент Константина Ласкариса, Манолис Ставраки. Избавиться от порошка — поддела сделано. Порошковая империя Константина Ласкариса нуждалась во многом, но этого товара у нее было — хоть слона в нем топи. Хоть всю давно навербованую армию национальных меньшинств Икарии, которым вина нельзя, а про кокаин пророк инструкций не оставил. Им вроде бы ничего, что в голову бьет, нельзя, а кто кофе тогда ведрами хлещет?
История города простиралась в прошлое чуть не до гомеровских времен. Считалось, что он основан беженцами из Каппадокии, которым в их столице, в Кесарии, угрожали воинственные жители Киликии. Переплыв с юга на север Эвксинский понт, каппадокийцы, то ли фригийцы, то ли кто они были, почувствовали себя в безопасности на берегу Икарийского полуострова. Там, потеснив морских пиратов тавров, сложился никому особо не мешавший новый этнос.
Последующие века отдавали город во власть Афин, скифов, сарматов, готов, гуннов, аваров, аланов, бандарлогов, Митридата Понтийского, Рима, Византии, хазар, печенегов, Золотой Орды, генуэзцев, икарийского ханства, Российской империи — и никто уже не знал точно, в каком порядке все это происходило. Город строили и разрушали, он то безлюдел до того, что в нем и голодные псы не рыскали, то разрастался и становился больше Константинополя. В середине XVIII века окончательно полуостров прибрала к рукам матушка Екатерина, поставила по всем городам побережья памятники самой себе, ее внучок публично заявил: «Где русский флаг поднят, там он опускаться не должен», а его внук еще и добавил: «Россия для русских и по-русски». Оригинальней всего было то, что в жилах того последнего внучка русской крови текла одна шестьдесят четвертая, примерно полтора процента. Вся остальная, сколько ни высчитывай, была якобы немецкая. Хотя если посчитать немецкую, то клевета это: в жилах мужа дочери Петра Великого, Анны, Карла-Фридриха, по сути дела, почти вся кровь была скандинавская, приходился тот Карл-Фридрих племянником шведскому королю Карлу XII, раздолбанному Петром, а уж это ли не благородное происхождение?
Но город все-таки жил прошлым. Море тут почти не исказило линию побережья. На добрых две версты тянулась, опоясывая бухту, набережная с непонятным названием Исалабре; Елим знал, что слово это, по догадкам исследователей Икарии, вроде бы должно означать «козий сыр» и свидетельствует о том, что то ли стоял здесь в античные времена храм Приапа, то ли коз пасли, то ли и то и другое, то ли вовсе ничего такого. При мысли о сыре рот князя наполнился слюной: он вспомнил осетинские пироги ресторана «Доминик» в Тристецце, рецепт которых кто-то дал Долметчеру во время Курдской войны, хотя бы в которую Россию, слава Трифону, святому покровителю виноделов, не втянули: никому не хотелось очередного сухого закона. Долметчер, как помнил князь, обещал встретить их в Москве именно пирогом и молитвой святому Трифону. Слюну князь проглотил и грести стал быстрее. До пирога все равно еще было далеко.
Здесь, кроме моря, до недавнего времени имелось три важных достопримечательности. Первой была винодельня, где татары производили дорогущий белый портвейн «Сурож», и виноградники окружали стоящую на холме генуэзскую крепость (вторую достопримечательность): туда стремились в основном приезжие каждым утром, — оттуда их привозили каждым вечером во все дни курортного сезона. Доходы города от этого аттракциона сильно зависели. Во время войны крепость бомбили, но не так-то просто оказалось одолеть генуэзские стены.
Третьей достопримечательностью был музей художника Вазгена Душукяна, лучшего в XIX веке русско-армянского мастера изображения морской воды, репродукции картин которого висели в каждой второй каюте российских пароходств от первого до третьего класса. Художник больше ста лет как умер, картины его подорожали. На каждую подлинную приходилось теперь по десять подделок. Дорожали даже они.
В начале XX века город мог считаться одним из старейших в Европе. Он менял названия, — некогда он звался Итака, хазары называли его Малый Хамлых, татары — Ичеришехер, византийцам он был известен как Дорилей Таврический, генуэзцы обозвали Кафой, османы прозвали Кучук-Стамбул, а матушка Екатерина вернула древнее название, против чего если кто и противился, так его не слушали.
Город мирно прожил после этого еще двести лет, несколько раз получив право на звание порто-франко и столько же раз его потеряв, живя под звон колоколов и азан муэдзинов, продавая и покупая, рождаясь и умирая, привлекая туристов и контрабандистов, — в основном это были одни и те же люди, — короче говоря, существовал беззаботно, как любой южный порт, куда заходит не особо много океанских судов. Но новый век принес с собою и новые войны; на городе это не сразу, но сказалось.
Итака к этому времени разрослась. По значению она не уступала двум другим крупным портам Икарийского полуострова, Диоскурии и Тиритаке. Здесь, в память, видимо, о минувшем статусе порто-франко, таможенные пошлины были несколько ниже и через город за моря увозили пользовавшийся изрядным спросом товар — легкие аэропланы фирмы «испано-сюиза», — фирма, принадлежавшая подставным родичам Высокогорских, перебралась сюда из Одессы еще во время русско-японской войны, опасаясь приближения какого-нибудь фронта, — не иначе как с Дальнего Востока. Икария одним своим названием привлекала авиаторов, летчиков и планеристов. Но если первая мировая ничем, кроме бомб с немецких дирижаблей, прилетавших из Болгарии, особо не повредила, то потом полуострову выдали по полной — перебив оставшихся после Врангеля офицеров, коммунисты организовали такой голод, что лучше не описывать. Потом были недолгие советские именины, немецкая оккупация, выселение татар, еще одни именины, еще один голод и, наконец, в начале нового тысячелетия, бессмысленная Икарийская война на истребление, когда Россия не могла победить душманов Бахадыр-Герая, а Бахадыр-Герай не мог понять, что Россия войн не проигрывает, она лишь меняет тактику. Война царем была выиграна, но только потому, что Гераев на свете нашлось немало и каждый хотел на место Бахадыра. Вот и сидел нынешний Кырым Второй у себя в Салачиксарае и периодически наносил визиты в Кремль, не стеснялся кланяться и плевать хотел на всю автономию. Именем Бахадыра даже моста в Петербурге не назвали, хоть и не запрещалось. О нем велено было забыть. Все и забыли.
…В пятидесятые годы позапрошлого столетия поругался родич нынешнего царя с двоюродным прапрапрадедом Елима — Анатолием, поругался из-за денег, хотя мог бы и поблагодарить: на заводах Высокогорского сумели найти способ чеканить монету из платины, притом право на чеканку было безропотно отдано царю, но тот такой мелочи не заметил, его все равно оскорбляли лишние доходы Анатолия. Не имея права запретить ему его новый титул князя Сан-Донато, император разбушевался, что твой Фантомас, признавать самозванский, с его точки зрения, титул отказался — и больше не пустил в Россию.
Двоюродный попереживал в своей Тоскане, ему это надоело, и он приказал привезти в Италию из своих уральских рудников пятитонную глыбу родонита. Два года трудились над глыбой мастера, разделили на две части, обработали и явили свету диво дивное, произведение камнерезного искусства: огромный каменный саркофаг. Сделав вид, что никакого намека нет, отослал Анатолий Николаевич это творение в Петербург, в подарок царю. Угодил подарок в аккурат в Первую Икарийскую войну, так что неизвестно — угодил ли этот подарок царю, увидал ли его царь тогда — чем отдарил его непослушный князь, или уже нет, ибо тихо скончался в Петергофе. Ходил слух, что ушел царь из жизни добровольно, но разве проверишь? Высокогорские всех Романовых, кто правил по линии того царя, на дух не переносили. Видимо, это было взаимно. Как относиться к нынешнему — Елим не задумывался, но жизнь в лице Константина Ласкариса все решила за него.
Следующий царь, сын того прапрадеда, взойдя на престол, мелкие перегибы своего предшественника постарался устранить: родонитовый гроб отослал в Киево-Печерскую лавру с намеком на то, во что следует уложить все местные идеи о независимости, и кое-как признал за непослушным двоюродным право на русский титул Сан-Донато: однако с тем условием, что положил ему выстроить такового имени малый городок на Урале, — вот и будет ему княжье достоинство. Хоть прокорма от того городка, понятно, не будет, расходы одни, но честь дороже.
Счастливый обладатель титула выстроил городок Сан-Донато рядом с Нижним Тагилом, но детей не имел, и, когда преставился, титул перешел к его племяннику Павлу Елимовичу, прямому предку Елима Павловича. Больше императоров титулы Высокогорских долго не интересовали, у них своих проблем хватало.
История повторилась, когда в России грянули одновременно Германская война и сухой закон. Под влиянием последнего, очевидно, тогдашний государь обратил внимание на то, сколько нелегального вина «Карнавале» поступает из Тосканы через Икарию в якобы отрезвевшую Россию. Да еще не только вина, а и соблазняющей, вызывающей у людей непомерный аппетит граппы! Царь тогдашний, четвероюродный дядя нынешнего, опять придрался к незаконности титула и выгнал всех Высокогорских-Сан-Донато в Италию.
Прадед и полный омоним Елима Павловича пожил недолго в Греции, потом работал на Врангеля, а позже убрался под крылышко к Муссолини, который по неясному капризу признал его право на виллу в Тоскане и на тамошние виноградники.
Прадед, в свои неполные сорок отнесся к событию легко: он любил тепло и итальянский язык, проводил дни напролет на виноградниках и в давильнях, для него ни войны, ни казни египетские страшны не были, если он чего и боялся, так коричневой тли, она же филлоксера. Но шел год за годом; лозы исправно прививались; между рядов винограда созревали мелкие персики, про которые правнук его знал только то, что если они заболеют, так это сигнал к болезням винограда. Но и персики, и собственно виноград героически сопротивлялись вредителям и войнам.
В тридцать девятом и прадед, и его сын Анатолий надолго уехали отдыхать и разводить персики в Тристеццу, где у Анатолия появился сын Павел, будущий отец человека, добиравшегося сейчас в Икарию. Он оказался последним богатым человеком в роду, и когда пять лет назад титул перешел к Елиму Павловичу, тот оказался первым среди Высокогорских, кому за столетия пришлось думать о хлебе насущном. Если быть точным, то об осетинском пироге, прижившемся у них лакомстве.
Как ни печально, отпраздновавший свое двадцатипятилетие Елим не имел родичей ближе, чем сколько-то-юродный брат — Эспер Эсперович, тоже Высокогорский, хотя и не Сан-Донато. Брат гордился своим прадедом, дипломатом, в некотором роде блестящим: именно он, как секретарь посольства Российской империи, сопровождал посла Матвея Севастопуло на подписании Версальского мира в мае 1917 года. В ожидании неизвестно чего Эспер-самый-старший (по семейной традиции в той ветке рода всех старших сыновей звали одинаково) застрял в Париже и в сентябре того же года приехал в Тоскану к родному брату передохнуть и попить молодого вина.
Поскольку русские дипломаты оказались в двадцатом году у разбитого корыта, Эспер так и остался в Италии, завел винную лавку, продавал то, что делали на давильнях Сан-Донато, отосканился полностью и дожил до семидесятого года. Правнук его, очередной Эспер, все-таки получивший в Риме приличное образование, порою тоже гостил на вилле, он был всего на два года старше четвероюродного брата, и, покуда нынешний царь воевал в Икарии с татарами, братья не то чтобы близко сошлись, но вместе пили, а Павел Анатольевич недальновидно отдал Елиму ключ от подвалов. Молодежь, будучи уверена, что их имена, данные по праздникам святых мучеников Эспера и Елима, самые редкие на свете, нашла православные святцы и стала пить по ним, выбирая святых наименее известных: апостолов Асинкрита, Евода, Крискента и Сосфена, Евагрия богослова, мучеников Еввула, Иперихия, Картерия, Мелевсиппа, Паригория, Парода, Турвона и многих, многих других. На третий день, разумеется, святые не кончились, но вернулся с виноградников отец, разразился русской и итальянской бранью, загнал братьев в баню вытрезвляться, приказал верному Джанпауло больше чем по стопке граппы им не давать, кормить одним помдетером фри и поить саламойей, покуда не протрезвятся, а потом и сына и племянника показать: может, выпорет, может, нет. Потому как ему плевать, кто они такие, потому как он — князь Сан-Донато и в своем праве.
Картошка и рассол помогли, отцовского самодурства хватило на сутки. К следующему вечеру гнев его остыл, братья почти протрезвели, все трое устроились на веранде; глядя в густую итальянскую ночь, они наливали в стаканчики крохотными порциями граппу и тихо беседовали о родине предков, перебирая отодвинутых нынешним царем кандидатов на российский престол, исходя из самых разных предположений. В республику никто из них не верил. Возведенные в дворянство Петром Великим, потомки Акинфа Высокогорского и его сына, раздолбая Пафнутия, точно знали, что российское купечество всех революционеров и демократов купит и продаст, как уже много раз делало, и кабы не старообрядческие и не еврейские миллионы, никакой бы этой уже основательно всеми забытой советской власти не стряслось в России.
Эспер, как и можно было ожидать от внука царского дипломата, выступал за утверждение на престоле прежнего, младшего дома Романовых в каком угодно виде, исключая кандидатуры князей, — тут он выстреливал списком в дюжину имен настолько же длинным, насколько и однообразным, ибо чередовались лишь имена Николаев, Константинов и Михаилов с редкими добавками Петров и Дмитриев: в этом перечне понять остальные собутыльники не могли ничего.
Отца, напротив, никакие Романовы не устраивали: именно они пытались лишить его княжеского титула, оставив только графский, так что он стоял на стороне тех родов, которые в 1613 году на Выборном соборе первенство уступили, иначе говоря, Голицыных, Мстиславских и Воротынских, Пожарских и Трубецких, да хоть кого угодно, лишь бы из старых бояр, во времена которых потомки мастера Акинфа из села Высокие Горы делали навесные пищали, чьи ложа инкрустировались перламутром, и которые задорого продавались на тульских рынках. Особенно симпатизировал отец князьям Пожарским, потомкам Дмитрия, освободившего Москву от поляков и за то получившего сан боярина. Хотя потомки этого рода изрядно измельчали, но что не измельчало за быстро бегущие века?
Елим, гордившийся прежде всего оружейным ремеслом предков, мнения особого не имел, ему годились вообще все кандидаты. Возвращение на историческую родину он воспринимал символически, жить он там не собирался; коль скоро нынче столица опять в Москве — ну, купит он там себе особняк или построит новый, женится, будет проводить там лето, а на остальное время возвращаться в Тоскану. Отец такую позицию осуждал, брат тем более, начинался переход на личности предков, и, кабы не граппа и не общая усталость, все бы со всеми переругались. Но падающие звезды тосканского лета действовали умиротворяюще, вечер превращался в ночь, и верный Джанпауло, увидев такое, растащил отца, сына и племянника по комнатам.
Но в России шла война. Лишь недавно ставший кардиналом Микеле делла Кьеза в первые дни икарийской войны взошел на священный престол под именем Иоанна XXIV и молился о милосердии для Полуострова, который грозила раздавить царская армия, а все члены семьи Высокогорских молились о том, чтобы Россия от ханов избавилась и по возможности даже в разговоры с ними не вступала, пусть сваливают, пусть с ними битая Турция разведывается. Судьба в скором времени удовлетворила обе просьбы: война кончилась, неудобных ханов заменили удобные, а Высокогорские с удивлением обнаружили, что разделяют мнение нынешнего Кремля.
Царь гарантировал в Икарии свободу собраний с условием предварительного извещения властей, свободу слова с ограниченной премодерацией, свободу перемещения при наличии документов-удостоверений, а главное — свободу исповедовать православную веру и непрепятствование для перехода в нее лиц мусульманского вероисповедания. Восстановлению патриаршего престола он вновь воспротивился, напомнив, что со времен Петра Великого глава русской церкви — православный царь. Митрополиты утешились кое-какими привилегиями и торговыми монополиями, прежде всего на воск и прополис, смута в стране понемногу стала утихать.
Зато набрала силу другая смута, в которую заметно обедневшие Высокогорские попали неожиданно для самих себя. Обедневшей семье стало не до покупки особняка в Москве, напротив, пришлось расстаться с очаровательной усадьбой в княжестве Тристецца. На довольно дорогой домик сразу нашелся покупатель, а то, что покупателем этим оказался наследник византийской династии, он же еще и сицилийский наркобарон, они узнали куда позже. Отец умер через несколько лет, и Елим, уже как князь Сан-Донато, оказался вынужден делать то, что ему говорилось в приказном порядке.
…Елим пощупал веслом берег, в который уткнулась лодка. Осторожно вытащил со дна посудины холщовый пакет, связанный с торбой, закинул за плечо и шагнул в воду. По счастью, вода в сапоги не попала, повезло. Суша была близко. Наконец-то он был у икарийской земли, которую его род покинул больше девяноста лет назад.
Он сделал два-три шага, с большим трудом вылез на берег и перевернул лодку — пускай сохнет, словно карфагенский корабль, авось украдет кто. Переложил за пазуху пакет и на ощупь двинулся в город.
Прибрежная тропка вывела его на Исалабре. Держась правой рукой за парапет из ракушечника, Елим двинулся вдоль берега, прячась от тощего луча, обмахивавшего берег с маяка. Не дойдя до его башенки примерно версту, нашел поворот налево и двинулся прочь от моря — на Карантинную. Не то чтобы он точно знал дорогу, ноги сами несли туда, где, как он знал, его ждали в любое время… конечно, только ночи.
Ночью в Итаке все еще почти не было света, для этих мест война никак не кончалась. Исключение составляли две тусклых лампочки почти точно одна против другой. Елиму нужна была та, что слева, — он прочитал узкую вывеску — «Фармацевт Гробман» и звякнул в колокольчик. За дверью послышались небыстрые шаги, дверь приоткрылась на цепочку. Из щели послышалось заинтересованное молчание.
— Господин Гробман, тут у меня рецепт на пентесилею амазонскую.
Молчание нарушилось откашливанием.
— Именно амазонскую?
— Именно.
— А точно не египетскую?
— Точно, как свет Антареса.
Звякнула цепочка.
— Входите, милостивый государь. По ночам на улицах пока что очень опасно.
Гробман повел гостя по коридору в глубину аптеки, пригласил в комнатку без окон, где все-таки обнаружилась электрическая лампочка свечей в двадцать.
— Не желаете ли чаю? Из икарийского лимонника, лучше настоящего. Нигде не растет, кроме Икарии. Железница еще называется.
Елим подумал о замерзших ногах и согласился:
— Нет сил отказаться.
Нестарый еще хозяин склонил кипу, зажег керосинку. Поставил чайник, присел к столу.
— Ждал вас сегодня, ждал. Точнее, начал ждать сегодня. И по одиннадцатое включительно.
— Да, государь сохранил европейское летоисчисление. Вчера вторник был, кажется.
— Сто пятьдесят шестого сароса солнечное затмение. И Корабль ушел из зодиака.
Елим предъявил свои подробные верительные грамоты. В ночь на двадцать восьмое июня солнце и впрямь покинуло Корабль, знак верхнего зодиака, и полностью вступило в знак Рака.
Чайник вскипел. Покуда хозяин заваривал лимонник, гость вытащил холщовый пакет и осторожно положил его на край стола.
Принимая из рук хозяина кружку с горячим напитком, Елим произнес чуть слышно:
— Десять аптекарских фунтов.
Хозяин вздрогнул.
— Это сто двадцать унций, три тысячи шестьсот драхм… Это больше трех с половиной килограммов! Помилуйте, это сколько же будет, сколько будет… почти четыреста пятьдесят тысяч долларов, шестьдесят тысяч червонцев! Я столько не видел за всю жизнь! Столько денег нет во всей Итаке!
— Положим, есть. Меньше миллиона рублей. Мне столько не нужно, мне от этой суммы нужен один процент наличными, всего-то шестьсот червонцев, еще аккредитив на Икарийский банк в Москве процентов на десять, остальное пусть останется у вас в качестве вклада.
Глаза аптекаря загорелись, он отставил чайник.
— Дозволите взглянуть?
Князь развязал шнурок и отсыпал на ноготь хозяина крохотную щепотку ослепительно-белого чуть отливающего розовым порошка. Аптекарь аккуратно втер порошок в верхнюю десну, обождал, закатил глаза и произнес:
— Прекрасно, прекрасно, князь. Скажем, под три процента. По рукам?
Елим покачал головой:
— Господин Гробман, даже в восьмом, в кризис, было шесть.
— Не может быть и речи! У меня нет таких денег! Даже господин Ставраки всегда согласен на три!
— Господин Ставраки меня к вам и направил, и я хорошо знаю, на сколько согласен он и на сколько — вы. Ему семь, разумеется, положены. Мне — срочно, хотя я девять десятых оставляю у вас и мне подумать страшно — сколько вы на них наварите. Себестоимость товара — сто гринов грамм, но так вы и будете продавать чистый. Я уступлю, но немного. Господин Ставраки, кстати, рекомендовал вас как на редкость щедрого и отзывчивого человека.
— Без ножа, без ножа, — хозяин нервно теребил пальцами, — пользуетесь моей беспомощностью в черте оседлости, обещают вот ее опять… Скажем, три с половиной?..
— Пять, ни копейкой меньше. Вы получите втрое больше, я считать умею.
На глазах хозяина выступили слезы.
— Вы хотите моей смерти… Четыре!
Елим стащил мешочек со стола и затянул шнурок.
— Придется обратиться к Аптекману. Он торговаться не будет, господин прокурор Ставраки его тоже рекомендовал.
Хозяин зашелся кашлем.
— Что вы говорите! Этот могильщик, который роет ямы всему городу! Этот грабитель без стыда и совести! Этот хазер!..
— Сколько мне известно, других процентщиков в Итаке нет. Но городов тут немало.
— Кто тут процентщик? Кто? Я честный банкир! Хорошо, я согласен на четыре с половиной!
— Пять.
— Четыре и три четверти!
— Пять.
Гробман откинулся на спинку стула, достал платок и стал сильно тереть очки.
— Но с отсрочкой!
— На два месяца, кроме первого процента.
— Вы немилосердны!
— Аптекман, полагаю, не закрыл еще.
— Этот хазер!..
— Послушайте, мне надоело. Забираю марафет и ухожу.
Процентщик обиделся.
— Зачем же так грубо: теперь говорят «джанкой». Мы все-таки икарийцы.
— Знаю я вас, икарийцев.
— Ладно, ладно. Но вам, конечно, золотом?
— Нет. Дайте, пожалуй, монетами штук шестьдесят, девятьсот целковых. Прочее купюрами, но последите, чтобы только новые…
Хозяин принес аптечные весы, долго возился. Князь дважды хватал его за руку; наконец процедура завершилась.
Нехотя выползли из бюро и утекли в замшевый мешочек князя пять дюжин золотых кружочков с известным всему миру утиным профилем Павла II. В который раз подумал князь, что несчастливое это имя для русских царей. Опасное. Но этот все сидит, и все ему нипочем.
Аптекарь медленно и старательно выводил букву за буквой на гербовом бланке аккредитива. Князь терпеливо ждал. Выходить на улицу не хотелось, долго быть наедине с процентщиком он тоже побаивался; о его прибытии в Итаку вроде бы никто не знал, кроме тех, кому знать полагалось. Наконец дело было сделано, князь кивнул, вышел в густую летнюю итакскую ночь.
До развидненья оставалось еще несколько часов. Поблизости виднелась еще одна лампочка: Елим Павлович знал, что там расположена контора гробовщика Аптекмана, тоже крупного процентщика. Других фонарей на улицах ночной Итаки пока не было, не дотянули еще нитку через Пролив, от Таматархи в Тиритаку.
Князь неторопливо дошел до набережной и свернул на запад. Море лежало плоской чернильной лужей, полностью оправдывая свое название, от него тянуло гниющими водорослями и дымом, хотя ничто поблизости вроде бы не горело.
Князь вгляделся в темноту. Прямо на него надвигалось нечто невероятное: это был старый трамвай с прицепом, освещенный изнутри. В нем не было ни одного пассажира и водителя, кажется, тоже не было. Князь успел прочесть надпись: «Караимский форштадт — Могила Юнге». Трамвай беззвучно прошел мимо князя и канул в темноте. Удивленный князь достал фонарик-суперлюкс, посветил, пощупал мостовую: рельсов тут не было.
«Призрак», — подумал князь. В жизни он видал еще не такое, но что-то стояло и за этим зрелищем, вот так встретила его историческая родина.
Князь подумал о семье барона Юнге, вымершей и разъехавшейся еще до икарийской войны, слава богу, не увидевшей, как склеп родоначальника в поселке Афинеон разорили и почти разрушили черные партизаны. Рядом с разрушенным склепом было кладбище, где хоронили коренных жителей весь позапрошлый век. Там лежали несколько поколений татар и русских, итальянцев и греков, там сейчас не было ни одного надгробия: все, что не раскололось, растащили дачники.
Князь подумал: «А мы все плачем над ними».
Между тем отоспаться за день полагалось, и путь Елима Павловича лежал как раз туда, куда ушел трамвай, только еще дальше, за форштадт, как выражался наркобарон, в «митрокомию ассирийцев». В приморском разнообразии народов Икарии ассирийцы были малозаметны, притом их нельзя было счесть за особо пламенных почитателей династии Ласкарисов, но уговор, по которому им гарантировалась свобода торговли и предпринимательства после восстановления черты оседлости, был дороже денег, и приют резиденту чистильщики обязаны были дать.
Загадочное слово «митрокомия» означало большую деревню. «Ох, придется России много греческих слов учить», — подумал Елим Павлович о возможных временах победы византийской идеи. Греков он уважал, но сочувствие к ним имел самое малое: русских князей нельзя брать за горло наркобаронам, даже если они потенциальные императоры. Князем Сан-Донато Елим был уже пять лет. Константин Ласкарис, с его точки зрения, не был пока что вообще никем, кроме как торговцем хурмой.
Незримого трамвая не только дожидаться не хотелось, даже думать о нем было неприятно. Предстояло топать самое малое две версты, хорошо еще, что по темным улицам и при выученном маршруте. Если Ставраки нигде не проврался, пути было на час, и до рассвета полагалось успеть. Акцента у Елима не было никакого, но не хотелось этого доказывать, все же он еще слишком мало знал страну.
Во время войны портом рулила шайка Набирахмана, судя по всему, араба, превратившего побережье к западу, до самого Афинеона, в лагерь тренировки террористов. Царские казаки митридатовского круга не располагали и десятой долей его боевых возможностей и вынуждены были отступить за пролив, в Таматарху. Однако старый, кстати, именно арабский принцип «Враг моего врага — мой друг» сработал и тогда: Набирахман стал душить икарийских греков, а те, при всей нелюбви к Москве, вспомнили, кто защитник христиан. О том же вспомнили здешние армяне, итальянцы, ассирийцы, поляки, украинцы и русские, которых сунниты ненавидели разве только меньше, нежели шиитов. Набирахман настроил против себя всех, а к концу своей бурной жизни даже Бахадыра, — на тайном совещании в Икариополе он был приговорен к казни, которая не замедлила исполнением: террориста поймали и выдали персам, которых он тоже до кучи резал несколько лет. Дурака повесили за ноги, не дав помолиться. Через год с небольшим война кое-как кончилась, Набирахман забылся, но его тренировочные полигоны вдоль берега зияли черными проплешинами верст на тридцать.
В те годы через территорию Икарии в империю хлынули фальшивые сторублевые ассигнации, что изрядно повредило царской экономике, но катастрофой не стало, в обращении оставалось много царских пятнадцатирублевых империалов, подделка которых распознавалась всего-то легким прикусыванием, но основным бизнесом Набиррахмана, Тигирджана ибн Амира и прочей сволочи, которую даже Гераи презирали, были выкупы заложников. Самые крупные иной раз достигали сотен тысяч империалов, хотя такой, помнится, был всего один, за тогдашнего медицинского министра империи, но чаще хватало и десяти тысяч. Царь платил, за четверть века скупости он накопил кое-какую казну и, справедливо полагая, что татары прежде всего побоятся что-либо вывозить, просто ждал возвращения мятежной Икарии в лоно империи. И дождался. Деньги вернулись к нему с процентами — имущество мятежников он конфисковал до последнего лукового перышка.
Ибо в Москве объявился истинный слуга престола, один из младших в роду Гераев, Сулейман, обвинил Салачиксарай в торговле людьми, трансплантационными органами и религией, возглавил его величества особого назначения Икарийскую гвардию. Сулейман наскоро выбил сепаратистов из больших городов, загнал в горы, на яйлу и дальше в ущелья, куда потом последовательно были сброшены несколько вакуумных бомб, что не сильно уступало по мощности атомному взрыву. Красоты гор и Южного берега немного пострадали, но политический конфликт себя исчерпал. Мировое сообщество выразило царю неудовольствие, однако вакуумная бомба свое действие оказала и со всех сторон себя оправдала.
Царь даровал икарийским мусульманам право на многоженство в пределах Икарии, к концу восьмого года все было кончено. Нечего и уточнять, что трон достался отцу Сулеймана, а сам он совершил хадж, намотал на голову зеленую чалму и являлся народу в мечети по пятницам, проводя остальное время в обнимку с женами и наргиле. Разумеется, будучи готов в любую минуту появиться в Москве по зову непосредственного начальника, Тимона Аракеляна. Но пока что его никуда не вызывали. Правда, немусульманские икарийцы считали, что татары получили слишком много власти, но временно Икария центром вселенной быть перестала, хотя и стоила всем воевавшим сторонам чуть не сто тысяч жизней, притом в основном гражданских. Втрое больше народу за четыре года войны полуостров покинуло и все еще не торопилось возвращаться. Да и куда было возвращаться, если от части селений остались одни названия. Да и те за время войны менялись столько раз, что для того, чтобы в них разобраться, нужен был либо компьютер, либо пол-литра.
Елима не оставляло ощущение того, что он находится на пожарище. Состояние городских окраин было еще хуже, чем он ожидал, идти приходилось держась за глиняные стены, то и дело обрывавшиеся в проломах. Князь устал, но деваться было некуда. Наконец битая стена сменилась сплошной, оставалось всего-то три сотни «оргий», не подумайте плохого, византийцы так называют сажень, но, одолев их, князь чувствовал себя выжатым сицилийским апельсином.
Немного света пробивалось из-под двери, смотревшей в сад. Хозяева, видимо, уже проснулись, новый день для них начался. Паролей тут не было, отношения с этим народом были проще, все же ассирийцы христиане, да еще чуть ли не первые в мире.
— Аскер Апримович свободен?
«В шесть утра мало кто занят», — подумал князь.
Дверь открылась. На пороге стоял настоящий древний шумер, хотя и довольно молодой.
— Вы по вопросу?..
Князь поднял ногу и недвусмысленно показал каблук, вполне нормальный, впрочем.
— Входите, посмотрим, чем можно помочь.
Князя провели в помещение, которое ничем, кроме сапожной мастерской, быть не могло. Сильно пахло кожей, гуталином, воском и каким-то курением. Гость с трудом распознал запах болгарской розы. Похоже, хозяин как-то ароматизировал ваксу.
Хозяин уселся и кивнул гостю. Здесь церемоний не требовалось.
Князь выудил из кармана аккуратно заранее упакованный столбик, развернул его. Благородный металл, несмотря на безрадостный профиль царя, утешал зрение.
— Здесь двадцать. На нужды сопротивления. Мне нужно провести у вас две ночи, то есть дня, а потом — ну, ясно.
Хозяин коротко кивнул, без всякого почтения смахнул монеты в длинный ящик.
— Это пойдет сопротивлению.
— На оружие этого недостаточно, это так… маленький аванс. Основные средства оставлены у аптекаря. Он о вас не знает, но… вы знаете, как действовать.
— Разумеется. Правда, ассигнации сейчас очень упали.
— Там нет ассигнаций. Там… иная валюта. Вы меня поняли.
Ассириец еще как понял. При его работе и широких связях на рынке в Икарии ему требовалась не только вакса, которую он сам варил. Без контактов с империей Ласкариса мало кто мог обойтись.
Но вопросы у него остались.
— Сопротивлению действительно хватит. А как быть с нуждами контрсопротивления, там все и сложнее и, к сожалению, дороже — приходится действовать через несколько агентов?
Вот уж о чем князь знал точно. Финансирование сторонников Ласкариса большой проблемы не составляло, кокаин — вещь расходная, на старость не запасешь. Финансирование его противников шло из другого кармана, еще более туго набитого, но куда менее склонного бросаться деньгами. Цена особо чистой сальварсанской ртути марки Р-0 ниже пятидесяти тысяч долларов за тонну давно не опускалась, но спрос настолько превышал предложение, что даже полмиллиона иной раз получить было проблемой. К тому же бумажный доллар, как и рубль, сильно пострадал от фальшивок времен икарийской войны, его тоже приходилось во что-то конвертировать, и тут начиналась такая карусель валют, что и креольский владелец ресторана в Тристецце, через которого эти средства поступали, с трудом в ней разбирался.
Князь удовлетворенно думал, что не поддерживает в этой борьбе ни одну сторону. Просто дает возможность получить каждой по тысяче червонцев насущных, а там воюйте, господа, бизнес есть бизнес, ничего личного. Предки делали пищали тоже не для кого-то одного, кому нужна пушка, тот ее купил, а мы идем лить следующую.
Он достал из другого кармана еще один столбик. Деньги, которые вручил ему в Тристецце от имени одного южноамериканского политического деятеля Долметчер, были никак не в русских червонцах, это были экзотические южноафриканские крюгерранды с портретом легендарного президента и антилопой. Экзотичны они были, правда, разве что в России, в Южной Америке их было достать проще всего. Число монет было другим, но сумма по курсу — ровно та же самая.
Сапожник удовлетворенно поместил деньги в другой ящик.
— Позавтракаем? Или отдыхать будете?
У князя не было мыслей ни о чем, кроме как насчет поспать. Он сложил ладони под щекой, недвусмысленно намекая, что ничего, кроме сна, ему не нужно. Ассириец понимающе кивнул и провел гостя в соседнюю комнату, с плотно задернутым окном, с низкой, хотя и широкой кроватью. Сон поплыл в воздухе, изымая князя из мира зримых очертаний. Но он огляделся.
На стене висел портрет человека средних лет, с усиками, не современный, написанный в слегка пастозной манере. Лицо было знакомо, сам портрет — нет. Елим, надеясь, что вопрос не прозвучит бестактно, спросил:
— Что это за портрет?
Ассириец ответил с нескрываемой гордостью:
— Это Александр Гран, икарийский классик начала прошлого века. На самом деле он Грановский, но подписывался Гран. Он долго был под запретом, теперь, конечно, нет, но тут главное, что это наша семейная реликвия. Дедушка ему обувь чинил бесплатно, тот ему книги дарил, дружили. Только Гран сильно пил, он от этого и умер, а незадолго до смерти принес этот портрет деду и подарил, так и сказал: «За все сапоги». Дед отказать не мог, думал, что потом тот портрет назад возьмет, только тот умер, а вдова сказала, чтобы мы хранили. Так вот и хранится в семье все годы, и в ту войну висел, и в эту. Художника не знает никто, а кто изображен — всем все равно…
— А художник-то кто?
— А он деду не сказал или сказал, но дед забыл. Жил в Старой Икарии один, но не знаю — он, не он… Он больше розы писал, окна ночные, розы падают на зрителя, но фамилию забыл.
Князю тоже познаний не хватало, но имя писателя он запомнил, — кто знает, что в жизни пригодится. Последнее, о чем он подумал, засыпая, было то, что не зря и теперь, через две с половиной тысячи лет после падения своей империи, ассирийцы неплохо живут.
VII
8 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ПЕТР И ФЕВРОНИЯ
Не отчаивайся! Худшее еще впереди!
Филандер Чейз Джонсон
Тимон Аракелян помотал головой, отгоняя видение:
— Двухголовый!..
— Именно так. В еженедельнике описывают герб Халкидона Изумрудного именно так. Пока неясно, был медведь бурый или белый, хотя теперь Обдорск находится у Полярного круга, но восемь тысяч лет назад, когда византийская администрация обустраивала его, там могли водиться и бурые медведи.
Велиор Генрихович Майер обреченно перевернул очередной лист распечатки. Генерал приготовился слушать дальше: византийский кошмар рвался отовсюду, — из интернета, из телевидения, даже голоса навигаторов теперь говорили с греческим акцентом — с полным игнорированием русских шипящих. И русский хоровод — не что иное, как сиртаки, и балалайка — бузуки, и русская печь сконструирована древнекритской цивилизацией как защита от похолодания, когда византийцы мигрировали с первопоселения, с острова, ныне известного как остров Теодора Врангелиса, в доантичные времена там были приручены мамонт и белый медведь, позднее мамонт, потеряв шерсть, был выведен в Византию Индийскую, предки шерстистые вымерли от холода, медведи же одичали. Предки византийцев, населявшие Южный Урал, построили город Гелиополь, ныне известный как Аркаим, и оттуда заселили Атлантиду и Лемурию.
Что-то много всего, подумал Тимон. Окажется еще, что они Тихий океан выкопали и Гималаи насыпали тем же грунтом. Референт перевел дыхание.
— Так, я продолжаю. Костакис пишет в передовице, что византийцы — древняя нация, изобретшая колесо. За четыре тысячи лет до Рождества Христова они уже почитали Христа. Византийцы были первым народом, который начал использовать иероглифы, изобретенные ими более девяти тысяч лет тому назад. Доказано, что двугорбый верблюд был впервые приручен в окрестностях города Староконстантинополь, ныне Екатериносвердловск, за двадцать две тысячи лет до Рождества Христова. Что еще более отдаленные предки византийцев за две тысячи триста лет до этого изобрели кукурузу, музыку, а также приручили лошадь, еще ранее — кошку и собаку. Ставили эксперименты по дрессировке пастухов-мегатериев, но те вымерли от эпизоотии, потому что оказались ленивцами. Они изобрели философию, бином Ньютона, бумеранг, также закон бумеранга и еще дышло. Все эти неоспоримые факты привели исследователей к выводу, что Среднему Византинуму, известному ныне как Москва, должно быть по меньшей мере три тысячи лет. В Новое время византийцы придумали первый вертолет, трамвай, искусственный спутник Земли, рентгеновский снимок, стиль диско, сковороду, гипсовую повязку, футбол, интернет и много других полезных вещей, без которых сейчас не может обойтись целая планета.
— Канарейку тоже они изобрели? — мрачно спросил Аракелян.
— Не говорится, но о колонизации Византией Канарских и Азорских островов упоминание в конце передовицы есть. Мы изучаем ежедневно все шестнадцать полос. Но «Вечерний Афинеон» с понедельника, а это уже завтра, начнет выпуск приложения — «Утренний Афинеон». Можно не сомневаться, что поток информации, повествующей о приоритете Византии, будет расти. Да, и вот еще.
Референт положил перед генералом толстый том — Адам Дракондиди. Словарь древневизантийской мифологии. Тимон нехотя открыл книгу. Предисловие было озаглавлено: «От Геродота до Константина».
— До которого Константина? — обреченно спросил он.
— Боюсь, до нынешнего. До Ласкариса.
— Ну и что с ним делать? Уж больно много денег у него.
— Боюсь, господин генерал, дело не в деньгах, у Ласкариса слишком много кокаина, вероятно, больше, чем в Колумбии, а считалось, что там производится половина того, что есть в мире. Он почти вытеснил с рынка колумбийцев и вытесняет талибов с их опием.
— А мы что же?
— В моем секторе данных нет, вам узнать будет легче.
И то верно, подумал Тимон. Майер был аналитиком по внешним делам, а киргизский и прочий опий его не касался. Чертов грек смутил человеческий род тем, что в его торговой сети кокаин оказывался дешевле героина, хотя понять, как такое может быть, никто не мог решительно. Притом проверяли его товар десятки раз, и результат оказывался неутешителен: кокс с каждым месяцем становился все чище, а был дешевле маковой соломки.
Ловкости барона позавидовал бы любой иезуит: кокаин продавался не на граны, а исключительно на драхмы, ненавязчиво используя греческое слово. И плевать ему было, что за драхму, в которой три с половиной грамма, колумбийцы требовали полторы сотни, он продавал вдвое дешевле. В итоге кокс даже в розничной продаже уравнивался с герычем в цене. «Дорогое» оказывалось много дешевле «белого». Оставалось подозрение, что этот кокаин синтезирован. Но как?..
И второе подозрение, несравненно худшее: что у него есть неучтенные, очень обширные плантации кокаинового куста. Царские, американские и китайские спутники сфотографировали поверхность земли чуть ли не по сантиметру, но кроме давно известной плантации на острове Ломбок, ничего не нашли. Да и там это были в основном склоны вулкана Ринджани, весьма небезопасные, особенно после имевшего место два года тому назад извержения. Двести пятьдесят килограммов листа коки в теории должны давать килограмм кокаина, сто пятьдесят тысяч зеленых. Грек с учетом неизбежных затрат на производство получал меньше половины, и ему почему-то хватало. По сути, Ласкарис продавал чистый кокаин по цене грубого сырья — кокаиновой пасты.
Тут впору было поверить в греческое колдовство и торжество византийской идеи.
Аракелян в сотый раз задал вопрос вопросов:
— И как его терпят колумбийцы?
Майер ответил то же, что всегда:
— Это Сицилия все же, там он вроде бога. Проще Этну потушить. Он весь свой город, Ласкари, разве что в колыбельке не качает. Медицина любого уровня бесплатная… И пущен слух, что он хороший. Вроде бы не убивает…
— Все же бедными колумбийских баронов не назовешь. И не могут турки терпеть грека, мало ли кто, шахиды всякие, неужели справиться не могут…
— Мы же вот не можем. Видимо, и другие не могут. Не смогли же Кастро убрать. Восемьдесят пять, а все чадит. И по приблизительным данным, еще… — Майер посчитал в уме, — тысяча девятьсот шестьдесят семь дней проживет. Это пятница будет.
«Вот уж неважно, какой день недели будет».
— Ну да, а этому шестьдесят. Есть данные, сколько еще проживет?
— Ваш брат не сообщил. Полагаю, не хочет огорчать его величество. Но более вероятно — оставляет нам свободу действий по прямой просьбе его величества. Его величество никому не позволяет расслабляться.
— Если так, посмотрим. Сантьяго Родригес спокойно живет у себя на Доминике, надо полагать, не бедствует… Хотя он не колумбиец, но через известного человека можно поискать контакт. Можно бы найти общий язык, пожалуй, Грисельду Бланко, «черную вдову», убьют в Медельине ровно через четырнадцать месяцев, мы должны иметь в виду. Может быть?.. Есть ее сын, Майкл Корлеоне Бланко, имя красивое, данных нет, но тоже, быть может?..
— Да, и вот еще. Отмечено приобретение его агентом, неким Ставраки из Трабзона, большого земельного участка вдоль берега реки Сангариус, в центральной Анатолии.
— Ну и какое это отношение имеет к нам?
— Это примерное место расположение древнефригийской столицы, города Гордиона. А территория Фригии почти совпадает с территорией Никейской империи, во главе которой стояли Ласкарисы и откуда они отвоевали Константинополь. Не хотелось бы думать, что он собирается там купить всю землю вплоть до Мраморного моря. Иначе зачем ему турецкая деревня?..
— Может, он там коку собирается сажать. К сожалению, он совершает непредсказуемые поступки, в которых позже обнаруживаются и цели и системы. Впрочем, ладно, как говорят в этих кругах — мир принадлежит терпеливым. Хотя там же говорят, что мы не можем простить нашим врагам, прощает Бог, а наша задача лишь организовать их встречу.
Майер грустно улыбнулся, принимая инструкцию. Но оба собеседника понимали, что такое куда проще сказать, чем выполнить.
Референт вышел совершенно черный. «Бедный, он, бедный», — подумал Тимон. Мать, умирая, взяла с парня клятву, что он никогда не сменит имени. Впрочем, звучит-то нормально, никто и не понимает, что Велиор — сокращение от «великая октябрьская революция». Каково такое знать, служа русскому императору не за страх, а за совесть и спецпаек.
Следующий визитер сулил ничуть не менее скверные мгновения. Генерал мигнул внешней лампочкой: можно впускать.
На пороге возник лысеющий блондин с зачесанными вперед висками. Бакенбарды ему было приказано сбрить, чтоб не косил сходством на двоюродного прапрадеда, хотя и сводного, но все равно сходство неприятное, все они курносые, будто утки, чтоб на червонце чеканить удобней было. У византийских императоров на монетах каждый век шеи толстели, это Тимон знал, и не случайно, было где наблатыкаться. Жуть, какую шею себе этот Константин начеканит, если что, представить страшно.
Игорь Васильевич Лукаш, пятиюродный брат императора, хоть и сводный, был фигурой неудобной, но по стесненности обстоятельств бережно хранимой. Его нельзя было отправить в референты туда, откуда не доходят вести, потому как могут на его место прислать другого, и того не отследишь, и потому, что совсем уж нельзя было перевербовывать, — для двойного агента он был туповат. Или только прикидывался. Однако по капле какая-то информация от него поступала. Это важно было именно сейчас, когда византийствующая икарийская газета «Вечерний Афинеон» откровенно пошла доказывать, что на русский престол даже у Рюриковичей права нет, потому как Македонская династия, при которой Русь была крещена, никакого права это делать не имела, ибо империи были нужны рабы, их не хватало, так для чего было делать рабов христианами, лишая империю поставок рабочих рук и тем самым приближая неудачи в более поздних войнах? Ну, разумеется, обратив народ в рабство, его следует крестить. На это есть право. Однако именно лжеимператор Лев Шестой Македонянин низложил патриарха Фотия, приказавшего крестить Русь. Тоже не имел права. У кого вообще какое право есть? А только у Византии, она колесо изобрела, верблюда одомашнила, прочее читай в докладе Велиора Майера. Боже правый, неужто придется весь этот бред про ипостаси тоже учить? Хватило бы верблюдов.
Выходило, что и этот патентованный предатель нынче мог пригодится как очень мелкий, но все-таки союзник. Хотя бы на размен. Но ведь и тут оформлять паек придется. На осетрину, а ее мало.
— Садитесь и рассказывайте.
Лукаш сел и уставился на генерала наглыми, почти синими глазами.
— Явился по приглашению.
— Где вы сейчас с точки зрения фирмы?..
Лукаш несколько пригасил синеву в глазах.
— Ваша сотрудница эскорта…
— В таком случае времени у вас немного, фирма знает ваши возможности и в физиологическом, и в финансовом отношении. Докладывайте, словом.
— У нас готовятся, да, готовятся. Сезон созревания мезильмерийской хурмы в разгаре, как и моро, тарокко и сангвинеллы, красные апельсины то есть, содержат больше антоцианов, нежели обычные, поэтому для кремлевского стола предпочтительнее, а дороже незначительно. Полагаю, неразумно также все еще действующее эмбарго на поставки плодов опунции сицилийской, она же индийский инжир, она же теночтли окультуренный, аллергические свойства плодов легко устранимы…
— Кончайте валять дурака с фруктами. Прекрасно знаете, о чем я.
— Я как раз о том. В случае снятия блокады на поставки теночтли появится возможность ограничить поставки сангвинелл. Полагаю, это будет в высшей степени полезно для империи.
— Это еще почему?
Лукаш наконец-то поднял глаза, тут он мог не стесняться.
— Плод индийского инжира покрыт глохидиями, мелкими волосками. Из-за этого его нельзя брать руками, не лишив товарного вида и не повредив руки. А это значит — в него нельзя, или очень трудно, поместить посторонние вещества до созревания или даже после снятия плода.
— Сказать бы вам об этом год назад?..
— Сбор плодов заканчивается в августе. Вы же пригласили меня на беседу лишь в сентябре прошлого года, когда в Москве заканчивалась гарь.
И впрямь. Меньше бы навезли кокаина. Но всего не предусмотришь.
— Хорошо, оставим глохидии. Сейчас нам все-таки не до фруктов… По нашим данным, количество поступающего в одну лишь Москву кокса многократно превышает пропускную возможность фирмы.
— А это точно наш? Это не крэк? Возможно, но при наличии чистого продукта по низкой цене, зачем он?.. Кир Ласкарис не занимается синтезом морфина, следовательно, не разводит мак и не приобретает опий на стороне. Следовательно, встречающийся вам спидбол не сицилийского происхождения…
— Что ж думаете, у нас кокс от спидбола не отличают? О нем и речи нет, это совершенно точно кокаин, аналогичный вашему. Чистый гидрохлорид. Или почти чистый. В таких количествах он вообще не должен существовать!
— Кир Ласкарис очень ловкий человек. Практически ни один из сотрудников московского офиса сейчас не имеет возможности ни отправиться в отпуск, ни съездить домой на выходные. Все только в пределах Московской кольцевой.
— Значит, что-то готовится. Вы понимаете, что это означает лично для вас? — Аракелян сверкнул почти черными армянскими глазами.
Лукаш обреченно кивнул. Он понимал, что его повесят первым, и хорошо, если только повесят. У его пятиюродного брата служили замечательные специалисты по всякому индийскому инжиру.
— Словом, коротко. Вами завербована сотрудник эскорта Вивиана Бороздкова. Жалованье ей, при условии еженедельной поставки информации, вы установили в полтора империала еженедельно, девяносто рублей, или же сорок пять долларов Северо-Американских Соединенных Штатов по ее желанию и при наличии таковых в кассе. Связь только через вас на явочной квартире на Трубной.
— Хорошо бы не только через меня.
— Полагаю, у вас найдутся реальные желающие пользоваться эскорт-услугами, да еще в данном случае бесплатно. Но следите за сменщиком. Вы можете кого-то рекомендовать?
— Да. — Пятиюродный написал имя на обороте визитки и положил перед Тимоном. Тот поднял брови.
— Знаменитая фамилия, но какое странное имя.
Визави криво ухмыльнулся:
— Две недели как в Москве на постоянном контракте. Уже пытался найти для себя эскорт… но едва не угодил в полицию. Нарезался на вашего сотрудника, ледибоя, а он традиционалист.
Теперь хмыкнул Тимон: полицейские ледибои составляли не только гордость московской полиции, но и заметную часть ее резервной кассы.
Лукаш обреченно откланялся и исчез. Выбора у него не было никакого, он с большими основаниями предполагал, что любая победившая сторона его повесит.
Аракелян довольно долго думал, выпил стакан очень светлого сока со льдом, нажал две клавиши на пульте, стал ждать. Потянулось время. Он налил второй стакан, но выпить не успел, в дверь стукнули один раз, она открылась. В кабинет вступил полковник из «Дома на набережной», на этот раз в форме. За ним следовал уже известный Дмитрий Панибудьласка, в количестве одной личности, что в его случае означало высшую степень почтительности.
— Ну давайте, — с ходу сказал Тимон, когда гости разместились.
Полковник положил на журнальный столик красный, почти бордовый апельсин.
— Это моро, — сказал он, — горечь невыносимая. Используется редко, но зато доза огромная.
Тимон повертел плод одним пальцем.
— Ну и что моро?
— Ну вы же знаете, как действует красный апельсин?
— Знаю, его нельзя — во избежание.
— Да, возможна химеризация. А получить толпу рогатых и хвостатых никто не захочет.
— Не знаю, всякое может понадобиться. А в чем прикол?
— Вот в том, что с этой начинкой он действует иначе. Расчет по Горгулову-Меркадеру дал результат неожиданный. Антоцианы в соединении с гидрохлоридом кокаина дают умножение, кратное возможностям личности, но на выходе мы получаем необычную химеру — аллегеви с двумя бумерангами и хеклером в плечевой кобуре.
Повисло молчание.
— Страшный сон, — продолжил полковник, — толпа индейцев под три метра ростом, два бумеранга, не маленьких, и оптимальный пистолет-пулемет с хорошей оптикой.
Тимон опять покатал плод одним пальцем.
— Испытано?
— Разумеется. В небольших масштабах.
— Насколько небольших?
— Стандартный взвод. Тридцать шесть особей.
— А меньше можно? Хочу посмотреть.
Полковник окинул взглядом кабинет, внимательно рассмотрел высоту потолка.
— Это Дмитрию решать. Скажем, отделение? Восемь особей.
— Прошу, Дмитрий. Одежду сложите сюда, — генерал указал на журнальный столик, — или она тоже… размножается?
— Жаль, нет, — вступил в разговор Дмитрий. Он наскоро сбросил одежду, очень легкую по июльской жаре, пронял позу дискобола, держащего апельсин, затем резко раскусил его.
Воздух замерцал и сгустился, раздался хлопок. В кабинете немедленно стало очень тесно. Группа устрашающего вида индейцев с алыми перьями в волосах, с бумерангами в каждой руке, с вороненым столом у каждого левого плеча, застыла по стойке «смирно». Ни шевелюра, ни перья, впрочем, не могли скрыть небольшие рожки. Изо рта у каждого торчали устрашающего вида клыки, индеец был буквально саблезубым.
— Все равно химера, — отметил генерал, явно впечатленный. — Он хоть говорить-то может?
Восемь голов синхронно качнулись в общепонятном жесте отрицания.
— С большим трудом, — ответил полковник, — только отдельные слова без шипящих. С греческим акцентом.
«Вот опять», — подумал генерал.
— А рога можно убрать?
— Пока не выходит. Если увеличить антоцианы — наоборот, начинают ветвиться. Если гидрохлорид — рога исчезают и клыки тоже, но вместо зубов образуется роговая пластина, как у черепахи, и шипы вдоль хребта. Нет, хвоста не возникает, — полковник предупредил незаданный вопрос.
Генерал протянул палец — но апельсин уже был съеден. Воинственная толпа так и стояла с бумерангами на изготовку.
— Ладно. А магазин?
— К сожалению, только тридцать патронов… Но у каждого.
— Ну, а множитель?
Полковник потупил глаза.
— К сожалению, неизвестно. Это выясняется только экспериментально, выше тридцати тысяч особей до сих пор никто не испытывал. Если учесть, что способности Дмитрия, видимо, выше, чем у автора учебника, Диониса Порфирия, можно предположить, что и шестьдесят тысяч на сутки, на двое можно обеспечить. Холодный синтез, трансмутация его организма, осваивая водород воздуха, образует все необходимые элементы таблицы Менделеева, в теории, возможно, множитель вообще не имеет значения. Умножение до миллиона особей уже бессмысленно.
— А пулеустойчивость?
— На Дмитрии не проверялась. Абрамов проверен как двадцать особей. Летальных исходов нет, но жаловался: больно.
— А чем проверяли?
— Тот же хеклер. Одиночными.
— Тогда придется и Дмитрия проверить. Не здесь! Вольно! — скомандовал генерал оборотню.
Все восемь индейцев выдернули длинное орлиное перо из прически и с трудом пропихнули его в пасть, придерживая свисающие ниже подбородка клыки. Воздух вновь загустел, вновь послышался хлопок, Дмитрий собрался в одно тело, стоя в чем мать родила огладил голову, — видимо, рога ему все же мешали, и стал одеваться.
— И как ощущения? — спросил Аракелян.
— Сложные, господин генерал. Все же кокаин, поначалу тело немеет. Потом ничего, масса тел… тела компенсирует. Но с бумерангом пока неважно, прежде не было случая практиковаться. А так ничего, не сложнее обычной стачки или митинга. Рога, правда, зудят, из-за клыков слова не выговорить. Но… за веру, царя и отечество!
— А запах такой откуда?
— Это ящеричное масло и бизонья желчь в равной пропорции, аллегеви ею волосы закрепляли, чтобы перья держались. А без перьев нельзя выйти из образа, как видите.
— А что с настоящими аллегеви?
— Пятьсот лет, как вымерли, можно не беспокоиться.
— Хорошо. При ночной атаке, да еще если использовать моро с кокаином, то есть оружие врага, спишут на глюки. Возможна ли утечка?
Полковник отчаянно замотал головой.
— Множителей на весь мир десяток. Они легко выявляются и обычно легко вербуются, ибо нуждаются контроле и поддержке.
Генерал откинулся в кресле.
— Хорошо. Тогда Абрамов и Вовкодав в резерве, а Панибудьласка в составе ограниченного контингента императорских аллегеви готовится к вводу в Икарию… или иное место, которое будет указано. Питание — в профессорской столовой, двойной паек. — Генерал перебросил Дмитрию щедрую пачку талонов с лиловой печатью. — Если мало будет — там шведский стол есть. Но с контролем коэффициента переоборачиваемости, плоских персиков ни-ни, не думать!
Дмитрий благодарно спрятал талоны.
Гости удалились. Тимон с наслаждением выпил стакан сока, забыв лед и подсластитель добавить; в другое время от сока зеленой кокколобы, прописанной ему, чтоб не засыпал от усталости, его бы стошнило, но нынче вкусовые ощущения у генерала отключились.
Кнопки он трогать не стал. Подошел к стене, вынул из часового кармашка позеленевшую монету, выступал на панели что-то вроде первых тактов ре-минорной токкаты, стал ждать. И дождался.
Прямо из стены вышел человечек ростом едва ли в полтора аршина, не поздоровался, важно прошествовал к столу и забрался в кресло.
— Здорово, умник.
Генерал на «умника» не обиделся. Говорить с этим чудом природы — или даже не природы, вообще непонятно с чем и с кем — приходилось на том языке, который человечек раз и навсегда выбрал.
— Здорово, Шубин. Как дела?
— Вежливый выискался… Ладно, хуже бывало. Чего звал? Я своих выпасал.
— Опять лягушек? Пиявок?
— Темнота! Пиявок в июле строгий запрет — распложается она! А какая лягушка в июле, когда сушь такая? К августу на них лов пойдет, а сейчас только в тело входят. Лучше в октябре. Ох, жирна тогда лягушка — хоть к царскому столу!
Тимон сделал в уме отметку: спросить брата, а потом царя. Может, впрямь не лишние? Лучше даже обоих младших братьев спросить. Царя тогда и тревожить не надо.
— Так кого?
— Клады, как всегда. Иван Купала прошел, клады открылись, дальше их до Зеленых Фердинандов пасти надо, там они скрываются. А пока — глаз да глаз, черный археолог придет, не досмотришь — утащит что, сиди на нем потом ночью, души его полночи во сне, а это скарбнику во грех, лучше археологу глаза отвести, грибов хороших наслать, он сытый и живой, а клады на месте. Ну, хоть мухоморов, но губить-то лишний раз не люблю все же, сам знаешь.
Тимон по движению рук скарбника понял, что тот хочет закурить, и выставил пепельницу. Мужичок-лесовичок спасибо не сказал, но вынул из рукава пенковую трубку, набил чем-то ярко-желтым, щелкнул пальцами. Огонек затлел, поднялся дым.
Собственно, это был не лесовик. Это был шахтный дух с Дона, почему-то звавший себя «Шубин». К какому миру его отнести — Тимон и понять не пытался. Однако дружбу с ним водить приходилось: скарбник умел ходить между мирами. По сути дела, он был почти единственным оперативным каналом связи с царем, когда тот оказывался в Кассандровой Слободе. На контакт с ним Тимон вышел совершенно случайно три года тому назад, и это чуть не стоило ему жизни. Добираясь очередной раз в Сестробратово с инструкциями, переданными от царя через офень к Артамону Шароградскому, смотрящему Слободы, он по известной нужде буквально в ста метрах от знаменитой избы слез с мотоцикла. Сделав дела, хотел вернуться, но обнаружил, что нога его зажата чем-то вроде волчьего капкана. Это был не капкан, а волосатая лапа Шубина, охранявшего старинный, мужицкий клад истертой медной монеты. Тимон был без охраны, предполагая, что на десять верст в округе ни одной живой души нет, и, видимо, был прав, ибо считать сбежавшего на Волгу от перипетий первой германской войны Шубина за живую душу не приходилось. Имей он таковую, между мирами ходить бы он не мог. А он ходил. Правда, был на Россию обижен: почти сто лет назад его силой забрали в царскую армию.
Душить Тимона дух не стал, потому как понял, что в его спокойствии гость заинтересован чуть ли не больше всех. Он не стал отводить глаза генералу, всего лишь предложил стереть память. Тимон спросил: можно ли не стирать? Скарбник согласился и предложил посидеть у костерка. В жизни Тимона чудес не было, не считать же за таковые служивых оборотней и собак-телепатов, который век пахавших на госбезопасность, и он с интересом устроился на кочке. Скарбник тоже пристроился, собрал сухие веточки, развел костерок. Темнело, но дорога вела не к царю, а от царя. Значит, очень большой спешки не было.
— Шубин я. Девяносто лет тут живу. Как с фронта ушел, так здесь живу, тихо тут. Да и землю стеречь тут некому. Клады, хоть и медные больше, но стеречь их надо или как?
— С какого фронта, дедушка?..
— Какой я дедушка? Шубин я, запомни! Все мы Шубины, сколько нас есть. Скарбники. Шахтники. Есть которые в горах, а мы по шахтам да по кладам. Ты не бойся, не придушу, не за что покуда, как увижу непослушность в тебе, так мигом память сотру, закружу, вылезай тогда сам из болота… Ты не обижайся, это я так, по-стариковски. Мне тут годами словом перемолвиться не с кем. А говорить, чтоб память потом отшибать, так самого себя не уважать. Вот и молчу годами. Так что Шубин я. И не выкай, мы простые.
— Да как же вы… да как же ты на фронт угодил? Если девяносто, так, видать, до революции?
Шубин долго молчал. Он всегда был таков — кряжистый старикан с яркими глазами, весь покрытый то ли волосами, то ли шубой.
— Забрили и все. Уцепили на Калмиусе возле шахты, я там в затоне раков хвостом ловил… хорошие были раки, выбросить пришлось, даже теперь жаль. Ничего не спрашивают, рост мерят: им подавай два аршина и три вершка. А во мне откуда три вершка?.. И двух-то аршин нет, да кто ж мерит? Сказали, — горблюсь, а так — гожусь, мол, в писаря альбо ж в трубачи. Ну, и забрили, крышу на них обрушить не успел: а откуда ж во мне сила своды рушить, когда лоб у меня бритый?.. Так вот и сидел в окопах три года, и сбежать-то некуда: мое дело — уголь, хоть бы и бурый, но только уголь. А откуда там уголь? Одни болота… Так и торчал наш десятый Гренадерский Могильноярский Болотный полк при Австро-Венгерском фронте, а какие там бои? Сам знаешь, стоим да стоим. Потом все как пошли бежать с фронта, я тоже. Прибился к тверским, на Дон дороги не нашел, через Волгу нашему роду пути нет, сам, поди, понимаешь.
Пламя, повинуясь голосу Шубина, взметнулось и облизнуло мохнатую ладонь скарбника. Темнело. Генерал решил послушать, авось не отнимет лесовик память. Да и послушать участника первой мировой — не каждый день выходит. Скарбник продолжал:
— Роста мы завсегда небольшого, да и мало нас. Так виданное ли дело, слыханное ли: нарушая свои же уложения, забривать в солдаты народ, в котором самый набольший великан сроду до двух аршин трех вершков не дотягивал, а кто ниже — тех и у людей призывать не положено! Так нет же, говорят — иди в трубачи! Мы покрепче человеков, но все равно для войны мало приспособленные — топать строем на польского, на австрийского кобольда либо же скарбника? Да если подумать, он — скарбник, и я — скарбник… хотя нет, я Шубин, их порода пожиже будет, наша погуще… но все равно. Вон, стуканцы их, даром что евреи когда-то были и за то наказаны, а субботу свою блюдут, не дерутся в нее и не работают. Хоть от своего племени и ушли уже лет с тыщу альбо же две.
Генерал слушал во все уши: такого ему даже в мультфильмах видеть не приходилось. А скарбник все дымил трубкой. Тяжелый запах неведомой лесной травы, которая позже оказалась желтым донником, висел в сумерках, отгоняя комарье.
— Знаешь, добрый я сегодня. Добрый Шубин. Не всегда Шубин добрый, а сегодня добрый. Говори желание, может, исполню.
Тимон точно не хотел смотреть «Лебединое озеро» и лучше всех знал, сколько и чего добавит прокурор, Колыбелина Матрена Порфирьевна, ясное солнышко императорской юстиции. И сказал самое заветное:
— Чайку бы попить сейчас. С медом. Лучше диким…
Тут обалдел скарбник:
— И ничего, кроме чая?
— Да нет, хотя меду тоже бы… Или уж нет, на худой конец…
Над костерком откуда-то появился кипящий котелок. Через минуту скарбник протянул генералу горячую жестяную кружку, от которой на весь лес пахло дымом и медом.
— Ну пей, коли так… И я с тобой за компанию…
Кружки себе скарбник не сотворил, он пил из берестяного туеска. Громко прихлебывал, больше ни о чем не говоря. Оба долго пили чай.
Наконец лесовик снизошел и стал сам расспрашивать Тимона: кто таков, да что в чащобах забыл, да женат ли, да есть ли дети, да справная ли хата, да кому служит. Генерал по возможности старался не врать, ему ли было не знать, как легко обмануть полиграф. Похоже, как раз этого не умел скарбник, не было детекторов лжи до первой мировой в донских шахтах, да и скрывать, что квартира у него хорошая, дочек две, а служит он царю — смысла не было. Он долго и подробно описывал все, что мог, но на вопрос — что он тут делает — ответить так и не сумел. Но Шубин оказался проницательней, чем казалось сначала.
— Да ты никак в харчевне надумал бывать. Неужто дорогу знаешь?
Врать было опасно.
— Угу.
— Дорогу сам находишь? Проходить умеешь?
— У меня сторож там…
— А, это твой дурак? У него под порогом Род спит, а он и не знает.
— Какой род?
— Род! Тот, которого род в этом доме жил. Хозяев в расход вывели, а Род под порогом заснул, глаза нелюдям отвел, дом уберег. Ходил к нему весной, помолчали вместе. Хороший он, Род, только и дела ему, что беречь дом и вход. А, так ты про вход в другой день знаешь?
Скарбник знал про вход в «запасной мир» Кассандровой Слободы.
Тимон, глава службы безопасности империи, обнаружил утечку чуть ли не главной тайны российского императорского дома. Знал тайну второго выхода, которая охранялась пуще, чем здоровье царя и предиктора. Все, что он мог сделать, — попытаться обратить ситуацию на обратную, минус на плюс.
— Ты, Шубин, того, а ты там бывал?
— Я-то?.. К зверям хожу иной раз. Спокойные там, добрые. Люди есть ваши, но обратно не ходят, так понимаю, не умеют. Но там мир особый. Тому миру люди чужие, он их только терпит. Вот как я тебя. Или как ты меня, чего уж. Пользы нам изводить друг друга никакой. А если миром, так и чаю вот попить можно. Или покурить. Ты что не куришь?..
— Не привык как-то. В семье не курят.
— А, ну ладно. А старые монеты ты как?
Тимон вспомнил про теневого банкира.
— Очень их люблю, только денег на них много нужно, а у меня дочки. И времени тоже надо много, изучать их.
Насчет денег — в конце концов, это была правда. Своих денег он на это не тратил и нужды не было, а до ведомственных скарбнику нет дела. Золотой запас у государя стерегут совсем другие скарбники, казначеи называются. А что касается старых монет — Тимон всегда предпочитал новые и даже электронные.
Скарбник сунул руку в догорающий костер, поискал, вынул большую медную, почти зеленую монету. Положил в ладонь генералу. Чей профиль на ней — понять было невозможно. На реверсе обозначался непонятный треугольный крючковатый знак.
— Ты вот что, — сказал Шубин, — ты это береги. Будет что нужно или поговорить захочешь, постучи вот этим в стену вот так, — он простучал по своему же, похоже каменному, ногтю, — я приду. Может, я не самый веселый собеседник, но повидал кое-что…
…Вот именно этим способом и вызвал только что генерал Тимон Аракелян Шубина. И надеялся, что сегодня этот Шубин добрый. Потому как злой Шубин мог и потолок обвалить. Но приходилось идти на риск: потолок мог рухнуть без всякого Шубина.
— Ты кури, не стесняйся. Жарко только очень…
— К грозе, сам чувствую. Суставы ноют. Ой, чувствую, не про погоду ты со мной говорить хочешь.
— Да уж точно не про погоду. Как раз про клады, про главное твое.
— А что надо? Если немного, то могу…
— Нет, Шубин, нет. Я за консультацией. Ты скажи, греческих монет по кладам много лежит?
Скарбник задумался.
— Пожалуй, почти вовсе нет. Так, на клад монетка-две. И то только в самых старых. А вот в прошлом на Дону, там бывали. Там в прошлом лет за тысячу, считай, одни только греки и жили. Еще хазары, но и у тех в кладах половина всегда византийская. Странные такие монеты, больше вогнутые, зачем такое — не знаю, а видно бывало сразу, кто чеканил. И совсем старые были — в Тиритаке чеканенные, в Икарии, в Афинеоне. Таких и по музеям нынче нет. А старые клады там беречь давно некому, как в ту войну весь Дон оголили от нас, так и заменить некем, мы ж рождаемся сам знаешь как редко, хоть и долго живем.
Это Аракелян знал, за годы общения с Шубиным слово за слово узнал он, что размножается малый народец на неких «свадебных кругах», когда единственно только и встречаются Шубины с противоположным полом. Человеку с их дамами знакомиться не рекомендовалось ни в коем случае, отличались эти дамы редкой стервозностью, даже и со своими мужиками иначе, как в свадебный период, не общались, и слухи о них ходили самые мрачные.
— Так могут быть византийские там, на Дону?
— Спроси чего полегче, — Шубин засопел, — я ж почти сто лет как оттуда вышел… не по доброй воле, тогда водились точно, а теперь, после германской войны, да после немецкой, да после татарской… Нет, что-то осталось, конечно, всегда остается что-то. Да что тебе проку-то от них?
— Да вот интересно, у нас тут греки силу большую завели, вот и пытаюсь ума набраться, а у кого, как не у тебя?
Шубину фраза польстила.
— Я совсем еще малóй был, как эти, румеи, вроде тоже греки, на Дон из Икарии переселялись. Ну нет, деньги у них турецкие были либо же и вовсе русские, их царица Екатерина, царя вашего бабка, к нам отселила, а у них какие ж деньги, они переселенцы были. Но вот кто им лошадей и прочее продавал, те большие деньги, бывало, сколачивали, а большие куда ж деть? Понятное дело, только в землю. А уж дальше это мое ведомство. Больше ста лет соблюдал. Ну, потом, конечно, уже русскими добавляли. А в последние сто лет я все только под Морщевой, при мне и затопили ее. Через широкую воду мне пути нет, а по болоту пожалуйста. Могу и посмотреть в кладах-то, открыты сейчас, до Фердинандов ревизию полную учиню. Тебе греческие учесть или еще какие?
На такое Аракелян и не рассчитывал, заикнуться не посмел бы.
— Интересно бы, конечно. Мне хоть названия бы. И посмотреть интересно, из твоих рук, конечно.
Честно говоря, генерал был уверен, что Шубин сейчас же начнет таскать монеты из кошелька или из-за уха, приготовился смотреть, но ничего такого не произошло, гость невозмутимо посасывал трубку и пускал клубы едкого донникового дыма, от которого исчезали комары и дохли мухи.
— Слушай, тут такое вот еще дело… ты меня с царем не мог бы на пару слов связать?
— Так ночь там глубокая, спит, поди.
— Мое дело служба, рабочий день вот только кончился, надо бы доложиться.
Скарбник невозмутимо выложил на стол современный айфон, явно не фабричный, сработанный под портсигар. Аракелян с благодарностью взял его, долго набирал номер, послышались гудки.
— Вы позвонили в канцелярию государя-императора Павла Федоровича. В настоящий момент глава протокола его величества, его превосходительство Анатолий Ивнинг, находится вне зоны связи. Если вы хотите оставить голосовое сообщение — нажмите цифру один.
Аракелян дал отбой. Он не то чтобы огорчился, докладывать царю все нынешние неутешительные выводы было почти опасно. Но звонок в памяти телефона у Ивнинга застрянет. Каким образом работает мобильник там, где не зажигается даже лампочка, — Тимон и вопросом не маялся. Работает, и хорошо. Скарбник сам не понимает, для него что кисет с донником, что айфон: вещи полезные, так пусть служат, а над прочим чего ломать голову?
— Спасибо, старика помнишь. Хорошо поговорили. Ты зови, если чего. — Шубин спрыгнул с кресла. Для него сотня слов, которой он перекинулся с генералом, была чем-то вроде месячной нормы, сверх которой баловство, а меньше которой нехорошо. Вроде как чекушку принял.
Сделав ручкой, скарбник ушел туда, откуда пришел, — в стену. Аракелян долго смотрел в никуда, ни о чем особо не думая. Потом нацедил все того же тошнотного сока, добавил подсластитель и лед, медленно выпил. Потом включил ноутбук и вызвал нужный файл. По экрану побежали строчки стилизованных литер. Генерал стал медленно читать, многие слова повторяя по несколько раз, он зазубривал все необходимое. Необходимое ли? Береженого Бог бережет. Хорошо бы не зубрить. А вдруг надо?
— Геникон — министерство финансов, — шептал он, — Эпопт — ревизор. Куропалат — начальник охраны. Портарий — лейтенант. Протиктор — старший лейтенант. Асикрит — секретарь. Номофилакс — судья. Мегадука — адмирал. Протохартуларий — генерал. Тавуларий — юрист. Ксенохейон — гостиница. Фоникон — штраф за убийство. Аристон — завтрак. Дипнон — брекфест, можно ланч. Папий — комендант, ну, скажем, Кремля. Трапезит — меняла, ну да, меняла, знаем того менялу…
За окном серп растущей луны явно намекал, что христианство — величайшая, однако все же не единственная религия на земле. Но генерала это пока никак не интересовало. Возможно, не зря.
VIII
15 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
БЕРЕГИНЯ
Если бы мусульмане знали,
что христиане, и в особенности
византийцы, не имеют ни наук,
ни литературы, ни глубоких познаний,
но всего лишь мастера в ремеслах,
то они бы никогда не удостоили
их звания цивилизованных людей
и вычеркнули их имя из книги
философов и ученых.
Абу Усман Амр ибн Бахр Аль-Джахиз
И был месяц шабан. И была ночь с четырнадцатого на пятнадцатое, ночь со дня сонглу, или ас-ара куну, или, точнее, со дня ас-сабт на день аль-ахад. И была ночь Бараат. Была ночь непричастности, ночь освобождения от огня, и стояло полнолуние. Опасна такая ночь. Опасна для неверных.
«Ночь Бараат Всевышний выделил затем, что это ночь приговора и предопределения, ночь гнева и довольства, ночь принятия и отвержения, ночь достижения и сохранения добрых деяний, ночь счастья и несчастья, ночь милости и добра. Одни в эту ночь станут счастливы, а другие лишатся милости, один получит воздаяние, а другого подвергнут унижению, одного возвеличат, другого лишат величия, один получит награду, другой же не получит ничего…»
Алпамыс Шараф, бывший отец Прокл, а некогда Иван Степанович Блинов, замолк. Кому он проповедовал сейчас в почти пустом помещении? Евнуху Барфи с его вечно остекленевшим взглядом? Имам со своими ближними, с двадцатилетним Эшонкулом и еще с более юными Андалебом, Имомали и Рузи, как чаще всего бывало в субботу, не делал вообще ничего или молился у себя в просторных дальних покоях. Спать в ночь Бараат никто не решится. Тем более в канун решительной битвы за утверждение халифата. Около девяти окончился вечерний намаз аль-магриб, без чего-то одиннадцать окончится ночной намаз иша. Потом начнется общее бдение. Собрания в такую ночь не рекомендованы, положено молиться в одиночестве, но в канун величайшего сражения действовали, пожалуй, иные правила. Пока что было время обо всем подумать.
В целом человеком он был восприимчивым и обладал хорошей памятью. Единожды перейдя в ислам, он отдался ему со всей страстью неофита. В нем кипела масса прописных истин шариата и того, что восходило к более чем сомнительным хадисам, но, хуже того, — к оговоркам его вероучителя, во имя такийя вынужденного на людях прикидываться православным. Способности отделить зерна от плевел он был начисто лишен, получалась изрядная каша.
Алпамыс рад был бы сейчас находиться с остальными, но, будучи старше шейха больше чем вдвое, понимал, когда надо предлагать свое общество, когда лучше воздержаться. Окончательно принятое решение было уже оглашено, шейх считал отныне первоочередным врагом не позорно бежавшего императора Павла, а императора страны аль-Рум Константина, готового захватить новый Эйс-тин-полин, новый Истанбул, временно именуемый Москвой. Всего лишь надо обождать, чтобы те, кто придет из стран зинджей и Нового аль-Андалуса, истребили неправо благословенный народ Бану Исраиль, не приемлющий умму, чтобы правоверным рук не марать: среди того народа свет ислама не открывается почти никому. Ведь говорят же суфии, что ничто слишком агрессивное долго не живет, а кто агрессивней нынче, нежели Бану аль-Асфар, или же Византия, засыпающая харамным белым порошком горла, носы, уши и глаза нынешних и будущих правоверных? Неужели не ясно, что тот, кто впереди, никогда не бывает позади, однако же и пребывающему позади тоже впереди не бывать?
Да и чего было ждать от державы по имени Кюстантинийя, если не имела она ни искусств, ни наук, и не были ее сынами ни Аристотель, ни Архимед, ни Гиппократ? В чем был ее ум, кроме греческого огня, крепостных стен и златокузни?
Ар-Русия все же в целом всегда была куда более разумной страной. Должны ведь понимать христиане, что благородный мусульманский правитель не притесняет христианских подданных, напротив, защищает их, требуя за то лишь незначительную дань, джизью, в ожидании, что свет истины пророка, мир ему и благословение, озарит заблудшую душу каждого высшим благословением ислама. Что касается политического устройства, то, навсегда верный единожды принесенной клятве, халиф всюду и во всем довольствуется весьма умеренной данью. Мусульманский владыка по природе своей гораздо мягче, чем любой император, который вечно высасывает кровь из народов, не обращая внимания на их веру.
То, что просто, никогда не бывает сложно! В законах шариата без необходимости не меняется ничто. Христиане сохраняют жизнь и имущество, храмы их неприкосновенны, они пользуются свободой исповедания своей веры и не препятствуют желающим из своей среды переходить в мусульманство. Как подданные халифа они должны платить наложенную на них более чем умеренную подать. В сущности, это весьма важные привилегии, гарантирующие жизнь и свободу каждого. Чего еще желать?
И уж совсем нельзя сравнивать страну Бану аль-Асфар со страной ар-Русия. Первая только и делала тысячу лет, что теряла провинцию за провинцией, уступая где франкам, где язычникам, где правоверным, притом многие из провинций без боя сдались воинам пророка, мир ему и благословение, ибо видели, как слабеет Кюстантинийя, как отыгрывается на своих, не в силах победить чужих.
Однако, когда Кюстантинийя наконец-то обрела свет ислама, случилось непредвиденное: разбросанные по Анатолии греки-урумы получили возможность благоразумно поменять либо вероисповедание свое, либо язык общения. Они же, неблагодарно не приняв дары султана, стали принимать не веру, но лишь османский язык, на что султан не рассчитывал. Видимо, это позднее и привело Оттоманскую Порту к неудачам: под слабеющей властью султана осталось слишком много темных и неблагоумиротворенных умов и целых народов.
Зато страна ар-Русия преспокойно взяла от румов их веру, но в спасении страны Бану аль-Асфар подчеркнуто никакого участия не приняла, напротив, отдала ее правоверным туркам и арабам. Замкнувшись в новом, третьем и последнем Руме, стала она собирать близлежащие земли, не особенно обращая внимание на вероисповедание новых подданных, умеренно борясь лишь с язычниками, молящимся идолам. Как и любая великая империя, она лишь приумножала свои территории, народ же приумножал себя сам, притом, в силу невероятных размеров державы, в ней вполне могли до времени ужиться и двадцать религий. К тому же ар-Русия, дабы отстоять себя перед шайтанским умыслом и латинским натиском, со времен Искандера аль-Петрогради обернулась лицом к Востоку, к ханствам, и дала понять, что земли ее будут собраны во имя торжества пророка, мир ему и благословение. В греческую веру русские, видимо, вообще пошли из осторожности: им грозили захватчики Бану Исраиль из Хазарии, а прийти им на помощь в триста семьдесят восьмом году от Хиджры в беззащитный Хохлобад, ныне временно известный как Кыйив, было вовсе некому. Но не таков был новый Эйс-тин-Полин, ныне временно известный как Масква. Богословы и историки давно и точно установили, что при основании города имам Эльхареф, прозванный Длинная Рука, первым делом воздвиг мечеть. Безумный царь Иван в момент просветления поставил русским царем истинного мусульманина по имени Саин Булат, хотя потом низложил его и унизился до многобожия. Незадолго до смерти царевна Суфия, заточенная в монастырь, тоже приняла ислам, надела хиджаб и паранджу. Принять ислам готовился и император Павел Первый, но не успел, ибо поспешно был убит коварными заговорщиками Бану Исраиль.
Как ни жаль, но исторического значения появления на картах Третьего Рума даже покорившая второй Рум Оттоманская Порта не поняла, упустила инициативу, не удержала ни Балканы, ни Сирию, потеряла Эль-Кудс, хорошо еще, что Истанбул не утратила, а дело к тому шло: франки очень на него целились, но обошлось как-то.
На протяжении столетий остатки некогда великого эллинского народа, мечась из одной веры в другую, разрастаясь до больших государств и сжимаясь до одной всеми забытой крепости на острове Корфу, никак не унимались. Отгрызали, отъедали у благородных, умеренных и веротерпимых правоверных по кусочку то для себя, то для латинян, то для Бану Исраиль, то вовсе для безбожников. Нынче же обнаглели до последнего, покусились на самое дорогое для мусульманина на — сердце халифата ар-Русия. Даже здесь, на задворках далекого московского рынка, был слышен мерзостный дух харама, вещества, коим начиняли они свои кровавые апельсины, — презренного кокаина из великих, но оскверненных городов аль-Мадина и Каср-Ианни.
…Коллективные молитвы в ночь Бараат нежелательны, конечно, но это решать должен шейх. Сегодня он троекратно будет читать суру «Ясин», а кто читает ее, тот подобен тому, кто прочел Коран десять раз.
«Какая жалость, — думал бывший отец Прокл, — что по-арабски я ни в зуб ногой, так и ползаю по переводу Саблина и слушаю каждый день попреки, что это и не Коран вовсе, ибо истинный — только на арабском. А ведь в эту ночь прощаются все людские грехи, кроме самых больших, вроде распития особо крепких алкогольных напитков и колдовства, тех самых, которыми только и защищал свою державу позорно бежавший император Павел. Харам-кокаин, иди войной на харам-водку, растворите друг друга и утеките в ад, в джаханнам — место, вам назначенное».
Ночь Бараат! Каждый год в эту ночь происходит сотрясание дерева жизни, на листьях которого написаны имена всех живущих. Людям, чьи имена записаны на опавших листьях, предстоит умереть в течение года. В эту ночь Аллах опускается на нижайшее из небес, чтобы отпустить раскаявшимся грехи и принять решение о судьбе каждого человека с учетом его благочестия и просьб, высказанных в молитвах. Людей с дурными делами он отлучает от Рая, а людей с добрыми делами — от Ада. В ночь Бараат определяется бытие людей на год вперед. Для шейха и для ближних его, возможно, и нет ни в году, ни во всей жизни более важной ночи, нежели эта: именно на ближайший год открыл шейху видением ангел Джибриль тайну: именно в ближайший год сменится в земле ар-Русия власть и восторжествуют истина и закон пророка, мир ему и благословение.
Осталось немногое: сбросить византийцев со стен их презренной твердыни заблуждений в бездну бесповоротной безвидности, поднять над Кремлем зеленое знамя и под азан муэдзина дать русам свободу произнести шахаду, открывающую единственный путь к величию, ибо воистину молитва лучше сна.
О, ночь Бараат, Ляйлятуль-Бараат! Все рассказано о тебе между строк ненаписанной книги, книги уходящего дня ас-Сабт, посвященного планете Зухал, скорописью солнечного ветра вдоль бороздки щели Кассини, наискосок до щели Коломбо и росчерком пера до самого Черного Солнца, иначе именуемого ромеями планетой седьмого неба, Сатурна, где Пророк, мир ему и благословение, повстречал Ибрахима, обитающего там после смерти.
О, ночь Бараат, в этом великом году завершишься ты приходом дня аль-Ахад, посвященного планете Солнцу, а наутро, когда в восемь утра звезда Бет-эль-Джейзе встанет незримо сиять в небесах возле Солнца, настанет запрет поста. Ибо благословенный сподвижник Абу Хурайра, да будет Аллах доволен им, передал, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: «Не поститесь после того, как прошла первая половина месяца Шабан». Хотя в другом месте вроде бы после ночи Бараат поститься как раз обязательно. И есть третья версия, наиболее общепринятая: пророк, мир ему и благословение, считал этот пост добровольным, рекомендуемым, мустахабб, ибо сам постился, а другим приказал не поститься после 15-го шабана из-за опасения, что они потеряют силу и бодрость перед началом Рамадана и не смогут с воодушевлением встретить месяц Рамадан.
В конце концов это дело имама. Аллах знает больше. Возможно, во имя такийя надо все как раз сделать наоборот. Бывший отец Прокл восхищенно прошептал:
— Ныне, накануне священного месяца Рамадан, зимние звезды созвездия аль-Джаббар, восходящие летом в небо, провозвестят зимнее торжество новых звезд над страной ар-Русия! Нет Бога кроме Аллаха…
От полноты чувств он простерся ниц и отбил три поклона в сторону Мекки, может быть, и не очень ошибаясь в направлении. В Москве это почти точно на юг, если кто не знает.
Алпамыс жаждал совершенства веры. Он знал, что в исламе есть четыре степени веры. Есть вера неустойчивая, смешанная с сомнениями, такая вера, не принимается Аллахом. И есть еще вера в силу дани традиции, когда человек принимает ислам потому, что его родители были мусульманами, — такая вера принимается Аллахом, но мечтать ли о ней было Алпамысу? И есть вера, берущая начало в твердой уверенности человека в шахаду. И еще есть вера друзей Аллаха, познавших его. Бывший отец Прокл молил ниспослать ему ну хоть какую-нибудь из этих двух последних, любую, ему нравились обе.
В последней трети ночи, но прежде более ценного, чем жизнь, намаза фаджр, в дальних покоях откроются четыре двери, и четыре воина Аллаха — Эшонкул, Андалеб, Имомали, Рухи — радостно и добровольно войдут каждый в одну из них и встретят там часть награды за грядущий подвиг во имя торжества халифата: райское блаженство, ласки дев, прекрасных рабынь Сахаи, Шебэки, Лудли, Сэхэли, специально купленных для них из числа пленниц хана Икарии. Еще не так давно носили они имена Валентины, Екатерины, Маргариты и Раисы, но добровольно, по приказу имама пройдя священные обряды гименопластики и принятия ислама, стали достойны ласкать юных шахидов, идущих на смерть, предваряя свидание юношей с семьюдесятью двумя девственницами среди белых ягод виноградных лоз и алых апельсинов. И продлится вся их сига, добровольный временный брак, весь двухнедельный праздник, до самого наступления Рамадана, до первого августа, по истечении же Рамадана назначен для них день великого подвига, день первого шавваля, день тридцать первого августа, когда наступит праздник Ид аль-Фитр, Ураза-Байрам. Но в тот день все юноши уже войдут в обитель праведных воинов Аллаха.
Алпамыса трясло. Будто не сам он ездил в Икариополь покупать пленниц у хана, будущих временных жен, наложниц для юношей, не сам их выбирал из десятков других, разве что экзамен по специальности не проводил, хотя шейх и не имел бы ничего против. Будто не сам возил их в Дербент восстанавливать их девственность у лучшего хирурга, будто не присутствовал при том, как ученый мулла следил, чтобы каждая хотя бы с минимальными искажениями произнесла формулу шахады и стала воистину правоверной, получив высокую честь стать наложницей для мусульманина? Что прекрасней, чем покорность исламу, если само слово «ислам» означает «покорность»?
Песочные часы звякнули и перевернулись, — нигде, кроме как в доме Файзуллоха Рохбара, не сохранились эти безделки работы мастеров исчезнувшей страны Укбар. Пользы от них никакой, но все же приятно услышать звон из такой глубины веков, когда мусульмане, может быть, даже не приручили еще верблюда и коня, не вырастили финиковую пальму, не вспахали Антарктиду, не изобрели философию, колесо, бумеранг, музыку и кукурузу, не создали трамвай, не запустили искусственный спутник. До ночного намаза оставалось совсем мало, Алпамыс начал ревностно к нему готовиться, для чего положено очистить тело и дух. Первое сделать было несложно, но второе, достижение умиротворения, достигалось лишь с большим трудом, ибо нельзя было даже в наушники услышать азан, нельзя было душой ответить муэдзину. Но имам запретил, спалиться можно и не на такой мелочи, а ему пока что любой ценой требовалось соблюсти такийя, ложь во имя ислама.
Как истинный неофит, Алпамыс следил за тем, чтобы войти в туалет левой ногой, а выйти правой, хорошо помня слова пророка, мир ему и благословение: «Чистота — это половина веры». К тому же помнил сказанное в сунне: «В раю не будет естественных испражнений — все будет выходить из людей посредством особого пота, подобного мускусу, с поверхности кожи», — но ведь до того еще ждать и ждать!.. Он, как и полагалось, трижды прополоскал рот и нос, без чего прекрасно обходился, пока был православным. Ноги он вымыть не мог, негде было, а с бородой оказалось вовсе плохо: вплоть до восстановления законной власти в Кремле шейх отращивать таковую запретил, не надо светиться, бородачей в Москве немного, будет еще время соблюсти все на свете. Хотя если б Алпамыс нашел еще что-нибудь, что можно добровольно соблюсти, — он бы точно соблюл.
Слово «ночь» в арабском языке, как и в русском, женского рода, и сегодня должна была быть женская ночь, однако в языке Бану Исраиль, не приемлющем умму, именуемом иврит, это слово мужского рода. Великая ночь сегодня была двупола, однако родным языком имама и его ближних был фарси, в котором нет ни женского, ни мужского рода, и поэтому великая ночь Бараат нынче, в ожидании своей последней трети, была бесполой. Лишь в последнюю треть будет разрешено разделиться ей на инь и ян, чтобы вновь… ой, подумал Алпамыс, становясь на намаз, что-то меня нынче заносит, надо в руках себя держать.
Закончив последний ракаат правым и левым салям-алейкумами, — с чудовищным произношением, но что делать, — Алпамыс свернул коврик и удалился к дальней стене, устроившись на диване насколько возможно дальше от евнуха, который, хоть и совершил свой намаз, но сделал это так нехотя и пренебрежительно, что только и оставалось постараться представить, будто в комнате больше нет никого.
По лестнице из торгового зала спустился новый персонаж — двухметровый богатырь Пахлавон, выдуманную фамилию которого Алпамыс все никак не мог запомнить. Этот человек совмещал в себе две обязанности и являл собою два достоинства — он был владельцем овощного магазина и начальником охраны имама Файзуллоха. Похоже, он тоже совершил намаз у себя в служебном чулане, также, возможно, совершил гусл, большое омовение, ибо находился до того в большой нечистоте, трахнувши продавщицу в том же чулане вместо намаза, кстати, потом никакого омовения не совершив, будто намаз вуду после и вовсе не касается, хотя чего от него ждать, если он не совершил омовения.
Плюхнувшись на диван между Алпамысом и евнухом, богатырь поерзал и достал из кармашка половину сигары. Говорить на фарси имам запретил и ему, хотя наверху, в торговом зале, при обсчете клиентов это ему дозволялось, но там был саларьевский рынок, а здесь, внизу, начинался халифат ар-Русия. Под километровыми эллингами рынка много чьи магазинчики процветали, не только мусульманские, но что было делать — строили их еще в восьмидесятые, с намерением разместить здесь императорский прогулочный парк дирижаблей. Эллинги построили, но после первых атак и взрывов, устроенных икарийскими сепаратистами, а чаще террористками-смертницами, пользоваться летающими кораблями, способными погибнуть из-за одного вшивого стингера, стало нельзя. Лет пятнадцать ряд эллингов ветшал и намеревался рухнуть, но оборотистый цыганский миллиардер-лошадник Полуэкт Мурашкин предложил градоначальнику миллиард целковых, то есть пятьсот миллионов зеленых, на превращение бывшего аэродрома в куда более нужный людям вещевой, зеленной и всякий иной рынок. Пока градоначалие сомневалось, вторая Икарийская война стараниями благоразумного Сулеймана окончилась, в итоге градоначальник утратил доверие, — Полуэкт же таковое, напротив, обрел и вовсю занялся бизнесом: добился даже разрешения торговать лошадьми. Кроме того, цыган добился уж совсем невозможного — получил разрешение держать при рынке свой личный цыганский суд. И это не был суд шариата: цыган не был мусульманином. Он платил налоги, чего от нормального цыгана нигде в мире не ждут, и притом ничего не требовал от государства. Имаму цыган не нравился, как и любой цыган, но под его крышей было безопасней, чем где бы то ни было в ар-Русии.
— Нет цыгана, который не просит, и нет цыгана, который не даст, — неизменно повторял миллиардер, сбрасывая в кассу стопки золотых. Как и большинство богатых людей нового тысячелетия, в другие деньги он не верил, отчего и процветала чеканка золотых монет как в России, так и в Южной Африке. Фразу не без основания можно было понять так, что если ты, цыган, просишь, то я поищу, нет ли такого цыгана, который даст. Хотя, конечно, ничего такого он мог и не иметь в виду, но ни имам, ни его подставные владельцы магазинчиков ничего просить у миллиардера не имели оснований, не так уж и мало давали родные опиумный мак и конопля, сырье для производства великого множества нужных людям вещей.
Имаму казалась позорной цыганская традиция, когда Полуэкт ворочал миллиардами, а два старших брата богача в охотку работали на задворках рынка не кем-нибудь, а конюхами при его же лошадях. Хотя красиво жить не запретишь, но имам полагал, что, взявши власть, он всю эту публику хотя бы выселит за сто первую версту.
Пахлавон с наслаждением затянулся.
— Отличная ночь, просто отличная… У меня сегодня весь рахат-лукум раскупили. Удивительно, то не берут неделями, то вот так. Не сезон ведь, свежий фрукт сейчас кушать надо, дыни продаем, персики…
Барфи невольно дернулся, но никто этого не заметил.
— Не сомневаюсь, это добрый знак. Султаны Порты всегда любили рахат-лукум. Русские покупают водку. Благоразумные люди покупают рахат-лукум.
Файзуллох, переодевшийся в простую таджикскую куртку, шаровары-иштон и не достающий до щиколоток бархатный чапан (шариат запрещает более длинные, вспомнил Алпамыс), с тюбетейкой на голове, короче, по-домашнему, вошел в комнату. На его особое положение намекал только шитый золотом пояс. Алпамыс не сомневался, что имам совершил намаз: мусульманин он был не чета охраннику, пропускал, лишь если прикидывался православным в нечастых путешествиях по городу.
Имама, увы, выдавали жесты. Сейчас он сделал движение, собираясь огладить бороду, ухватился за бритый подбородок, и сразу перешел к делу:
— Надо провести совет. Потом аят. Пройдем, словом.
Может, и нехорошо заниматься в ночь Бараат даже важными делами, но на то они и важные, что их нельзя отменить. Все трое, даже евнух, вместе с имамом направились во внутренние покои. Из мебели там были только ковры и подушки.
Идти пришлось минут пять. Внутренний «дворец» имама располагался в глубине давно ликвидированного и рекультивированного полигона, иначе говоря, исполинской подмосковной свалки. Сколько здесь комнат — Алпамыс не представлял. Наверное, много десятков.
Комнатой помещение, куда они вошли, назвать было трудно — скорей это была имитация юрты с шестью решетками-ханами, площадью заметно больше цирковой арены. Отличие от юрты было в том, что здесь не стояло ни одной подпорки. Еще бы им стоять под бетонным потолком. Имам прошел на свое место, все расселись согласно протоколу, повисло молчание.
Видимо, предстоял серьезный разговор: даже рукав наргиле имам к себе тянуть не стал.
По его знаку заговорил Алексей Поротов — рыжий мужчина средних лет, сидевший по левую руку от имама, как и все, «по-турецки».
— Информация по наблюдению за так называемым опорным пунктом фирмы на сегодня. Итак, в основном проходка туннеля от бывшего «дома Берии», ныне головного офиса фирмы «Ласкарис», в целом завершена. Он начинается под бывшими кудринскими катакомбами невдалеке от планетария и ведет к центру города приблизительно параллельно улицам Никитской и Знаменской, проходит под всем Александровским садом, местами, видимо, имея выходы в русло реки Неглинки, и завершается непосредственно под Никольской башней Кремля. Возможно, планируется направленный взрыв, затем через образовавшийся вход войска Византии намерены выйти к Арсеналу и Сенату, закрепиться там и захватить казармы полка внутренней охраны, нейтрализовав возможное сопротивление. По нашим данным, атака будет предпринята силами трех последовательно вступающих в бой батальонов в составе не менее четырехсот морских пехотинцев каждый. В бой предполагается бросить испытанных бойцов двадцать восьмой Санторинской дивизии. В настоящий момент дивизия расквартирована в служебных помещениях Азовского, Батайского, Восточного рынков, а также рынка «Элеонора» в Ростове-на-Дону, кроме того — в подмосковном эллин-тауне города Лобня и ряде других мест. Полный список получить не удалось, но до половины мест дислокации установлено. Командует генерал Фань Мань Как.
— Ничего так, — отозвался имам, — тупое, однако, имечко. Хотя был бы тупица — грек его не послал бы. Или этот не вьетнамец?
— Не вьетнамец, он кохинхинский грек, — ответил Поротов. — Биографию не прорабатывали. Может иметь ценность только как заложник.
— Выясните, если сможете. Все равно начало только в шавваль.
«В сентябре», — перевел про себя Алпамыс, хорошо, что не в Рамадан и не в запретные для войны месяцы. Запретное время начнется еще через луну, когда шавваль окончится, когда Кремль уже полностью будет принадлежать войскам пророка, мир ему и благословение.
— Еще что важное?
— Есть и это. — Поротов перевернул листок. — Оплата ведущему информатору — за раджаб — две тысячи кувейтских динаров, то есть шесть тысяч шестьсот долларов Северо-Американских Соединенных Штатов, то есть восемьсот восемьдесят золотых царских империалов, или семьдесят шесть тысяч золотых крюгеррандов без стоимости конверсии…
— Ладно, это придется платить, нет выбора, купите ранды сами знаете где, всем спокойней, наверное, кленовый лист купить проще, но в России опасно все-таки.
Третьей страной, наводнявшей планету золотыми монетами, была Канада, но с ней у России были традиционно плохие отношения.
— Но есть и вспомогательные выплаты.
— Много?
— Нет, к тому же основной информатор сам принимает деньги и должен их раздать, нам лишние контакты опасны. Но там всего менее тысячи кувейтских динаров. Кроме того, за шабан… впрочем, эту выплату лучше отсрочить…
— Ладно, экономить потом будем, мы не русские императоры. С деньгами, надеюсь, все. Теперь — главное, так что переходите.
Поротов притащил из чулана основательных размеров рюкзак.
— Как легко понять, если позволить боевикам византийцев занять Кремль, им станет не нужна опорная база, их элитные подразделения быстро элиминируют царскую армию, столица перейдет под контроль сторонников Ласкариса. Поэтому наше дело — не допустить их вступления в Кремль вообще. Мы сами войдем в него вскоре, но иначе, сейчас об этом можно не заботиться. Мехбубзахир информирован.
«Могу подтвердить», — ехидно подумал кто-то из присутствующих.
— Домулло Диловар, — шейх использовал исламское имя Поротова и вежливое обращение, без чего мог бы и обойтись, — покажите все же, что у вас сконструировали.
Поротов выудил из рюкзака известный всему миру пояс-жилет шахида, по кругу обшитый стандартными шашками.
— Мне предложили обычный тротил и гвозди. Я отказался: для нас важно поразить не столько живую силу противника, сколько требуется элементарная мощь заряда, позволяющая обрушить туннель и коммуникации. Конечно, перебить сотню-другую греков будет тоже хорошо, но… короче говоря, я выбрал октогеновые шашки. Привычно и достаточно мощно, да и не так тяжело. Хотя четырех бойцов для операции, как я уже не раз говорил, недостаточно, и поясов мне готовы изготовить любое количество за самое короткое время, всего лишь двести динаров за пояс, но и при четырех бойцах значительную часть туннеля мы можем обрушить. Однако, должен предположить, все же надо запланировать второе обрушение в районе Искандер-баге, Александровского сада. За сутки-двое они ничего не восстановят, при этом пятого сентября казармы неизбежно окажутся в состоянии боевой готовности: день памяти жертв Красного Террора, это праздник как раз внутренних войск, парад на Ивановской площади, момент для любой атаки будет упущен. А долго ждать им нельзя, все должно быть закончено в шавваль.
— Это у нас шавваль, — по привычке поправил шейх, — у них это сентябрь пока, — но выходит, что для атаки у нас самих только несколько дней? За сколько дней они смогут восстановить подкоп?
— Муаллим Файзуллох, если все провести оперативно и по-умному, не думаю, что его вообще можно будет восстановить. Царский Сумской мотострелковый — все же девятьсот гусар. Москву они не защитят, но фактор внезапности грекам обломят, тем временем подойдет Донской казачий Каледина с пластунами, которые сами весь подкоп проползут и прикончат всех, кого найдут, а ведь есть еще и другие войска, никому этого не надо. Они рассчитывают занять Кремль, после этого смогут диктовать условия. Только, надеюсь, не смогут. — Поротов нежно погладил пояс шахида. — В конце концов, даже ржаной сухарь — это взрывчатка, если его макнуть в жидкий кислород. Мы платим бешеные динары за октоген, а это намного более надежно для объемного взрыва. При желании мы могли бы обвалить хоть весь подкоп, две тонны в тротиловом эквиваленте купить не проблема, но нести будет некому. Сколько навесишь на человека? Ну, тридцать килограммов, так уже опасно… Как ни жаль, «китайский разрушитель» в нужном количестве оказалось невозможно купить: его синтезирует здесь только царская лаборатория, а на контакт с ней опасно идти, да и находится она в Печорском море. Царских сторонников все же сбрасывать со счета нельзя, но дожидаться, что греки и они перебьют друг друга, рисковать не стоит. Чью сторону примут икарийские гвардейцы, лучше не выяснять, там на все один ответ — вакуумная бомба, оставят от Кремля одну яму.
Казначей-стратег разошелся. Он заранее, как было ему обещано, считал себя кастеляном Кремля и заботился о крепости.
— Ладно, — печально сказал шейх, — дополнительных добровольцев мы доставим уже в Рамадан. Жаль, им небесных благ, как нашим ветеранам, — он кивнул на коридор, — мы уже не сможем предложить. Остается лишь уповать на милость Аллаха.
Звякнуло. Укбарские часы стояли и здесь, обозначая астрономическую полночь. Сейчас имам свернет заседание. Потом станет трижды читать аят. Потом — проводы шахидов к их мутъа, к временным женам, которых они до сих пор в глаза не видели: таков был приказ шейха, и Алпамыс честно его исполнил. Воины Аллаха должны восходить на небеса не только в чистоте, но и в предвкушении уже познанной на земле восхитительной участи.
Четверо юношей, один из них двадцати лет, прочие по пятнадцать-шестнадцать, давно прокляли слишком длинный аят. Девицы, даром что опять, уже в который раз девицы, припоминали все, чему были обучены в гареме икарийского хана. Алпамыс слушал аят на арабском языке, не понимал ни слова, но истово молился. Поротов, хоть и числился номинальным мусульманином по имени Диловар, переводил в уме динары в пиастры и в копейки. Пахлавон перебирал в уме продавщиц, выбирая одну-две на завтра. Барфи медитировал, уставясь на блюдо с персиками, которых есть не собирался, да и не мог.
…Люди занимались своими человечьими делами, рассвет готовился то ли к утрене, то ли к намазу, а на конюшне цыганского миллиардера длиннохвостый, мохноногий, вороной жеребец фризской породы по кличке Япикс полудремал, слушая через уши сонного и бестолкового евнуха Барфи скучную беседу имама со своими сторонниками. Жеребец приходился троюродным племянником прославленной кобыле Капалли, по большим праздникам все еще запрягавшейся в золотую карету королевы Елизаветы II. Он и сам был немолод, по крайней мере не юн, ему шел двенадцатый год. Рожденного на конюшне во Фрисландии, его трехлетком купил цыган-миллиардер самому себе в подарок, по случаю того, что узнал из рейтинга журнала «Форбс», что он пополнил список российских миллиардеров, и ничего, что покуда его место сто восемнадцатое, — конь, как у английской королевы, у него должен быть, а в первую сотню он подняться сумеет. Конечно, в рейтинге миллиардеров-цыган он и не надеялся обойти «румынскую шестерку», он всегда говорил, что румынский бизнес ненадежен, как любой криминальный: если ты «крестный папа», то кто-то неизменно хочет занять твое место. То ли дело торговля капустой! Редиской! Черешней! Красными апельсинами! Особенно апельсинами, но можно и сицилийской хурмой, от нее у детей зубы режутся быстрее и лучше, а вот уж чего в цыганской семье всегда хватает, так это детей. Внуков тоже. Да и кто заподозрит цыгана в том, что он купил лошадь, коня, точнее, не для драйвинга, а всего лишь для радости общения.
Ну и не только для общения. Конь-телепат был отличным другом цыгану, отчасти партнером по бизнесу. В пределах рынка и даже шире Япикс слышал любой разговор и вполне мог воспроизвести его хозяину, игравшему в свою игру, отлично вписавшуюся в реалии Российской империи, умело направляя в правильный бизнес потоки средств всех, кто хотел захватить тут власть. То, что у него снял помещение под магазины шейх-террорист, было более чем удобно: имам находился в шаговой доступности и его можно было при необходимости почти мгновенно нейтрализовать, сдав весь исламский штаб прошедшим огонь и воду наемникам поставщика апельсинов, да и не только им: на такой овощ покупатель всегда есть. Скорее всего так и будет, считал Полуэкт, любая армия, делающая ставку прежде всего на самопожертвование бойцов, слаба изначально, как это было и с японскими камикадзе, и с советскими матросовыми. Однако столь же просто было сдать шейху наемников, если мусульманин все-таки осилит византийца неким пока недоступным пониманию способом.
Более всего устроила бы Полуэкта ситуация, при которой позиции у всех оставались прежними, чтобы и царь, и апельсины, и рахат-лукум. Хотя, если уж заварится между претендентами драка, — тут цыган точно знал, на чьей он будет стороне.
Время перешло за полночь, высоко в небеса поднялись две звездных птицы — Лебедь и Орел.
Лебедь, напоминавший по форме огромный крест, ничего хорошего делу Файзуллоха точно не сулил; сияла в его хвосте великая звезда Денеб, Дхенеб-эд-дажа-жех, даром что это «хвост курицы», но как тут не вспомнить гадкого утенка.
За Лебедем спешил в небо и гордый Орел, очертаниями, правда, больше походил он на воздушного змея, клюв его сиял одной из величайших звезд Северного неба, и была это звезда Альтаир, Аль-наср-аль-таир, «летящий орел». Как не передрались в небе эти птицы за многие тысячи лет полета?
Но полет их и впрямь напоминал прелюдию к битве за курятник.
Благо лишь тому, над кем сияют иные созвездия, над кем реют иные птицы.
IX
20 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
АВДОТЬЯ СЕНОГНОЙКА
Целый век Великая Мама была как
бы центром тяжести всего Макондо,
точно так же, как два столетия
до нее — ее братья, ее родители
и родители ее родителей.
Габриэль Гарсия Маркес. Похороны Великой Мамы
Лишь безумцы, шедшие куда глаза глядят, входили в городок с севера, лишь те, кому было дозволено войти, добирались с востока, лишь совсем случайные странники, не знавшие ничего о здешних местах, могли войти с запада, и почти никто не мог войти с юга, хотя там как раз располагались городские ворота.
Корантейн, небольшой город на реке Корантейн в графстве Корантейн, на границе Суринама и Сальварсана, столица штата Сипаливини, находившегося в двух государствах, город Великой Мамы Элианы Эрмосы де ла Седа, не нуждался ни в желтокожих, флегматичных самбо с востока, ни в назойливых, черных как деготь терцеронах с запада, ни в чванливых светло-кофейных креолах с северного побережья, ни в диких татуированных гуахиро, не спешивших покинуть родную сельву на юге. Некогда городок лениво озирал окрестные рисовые поля, чьи чеки дважды в год наполняла покрытая цвелью вода, смотрел на заросли кустов гуайруру, чьи плоды собирали индейцы для браслетов и бус, оберегавших от дурного глаза, морщился на плантации горького маниока, непригодного в пищу сырым, но после обработки способного прокормить целые страны, таращился на заросли одичавшего гибискуса, из которого делали красный и сладкий напиток, покуда кустарник не превратился в бесплодную стену колючек. Все это за последний век было сведено под ноль, теперь на полсотни лиг, до самых предгорий Сьерра Путаны, горного кряжа, за которым на юго-западе лежали земли обетованные Сальварсана, всю каатингу, непрохожую степь, все вновь выросшие леса, все бездонные болота, все, все заполнили плантации чилипонги, лианы, дающий сырье для получения ее сока, священного питья чилипухи, перед грезами которой блекнут видения, которые способна подарить любая кислота и любой спайс, купленные за не такие уж малые деньги в фавеле на задворках блошиного рынка.
Лиана любила виться по сухим стволам и веткам, предпочитая парагвайский падуб, листья которого сами по себе давали великий напиток мате, в итоге чего жители Корантейна, для которых дороги были и чилипуха, и настойка желтого олеандра, и кокаин, имели возможность почти за бесценок пить этот горьковатый напиток, взращенный на помете диких птиц, веками гнездившихся в просторах покрытой колючками сальварсанской степи, пить, не мучась ямайской рвотной болезнью при работе на плантациях махорки, она же «матачо», — без которой чилипуху не сваришь. Между тем городу приходилось не только собирать, но и варить на месте знаменитый шаманский напиток, иначе три четверти доходов сожрали бы перекупщики сырья из Парамарибо. Элиане Эрмосе, Великой Маме Корантейна, они даже седьмой водой на киселе не приходились и поэтому не имели права присутствовать в ее мыслях.
Готовая чилипуха шла почти исключительно на экспорт, но на относительно богатом морском побережье Суринама креолы питьем изредка баловались. Изредка потому, что для решившихся вверить чилипонге жизнь и судьбу выпадало немалое испытание: предстояло питаться одним лишь сырым мясом животных и птиц, исключая малые порции вареного риса, и пойти на полный отказ от секса, любого, с противоположным ли полом, со своим, с каким угодно. К основному питью к тому же, как тоник к джину, требовалось второе — настой камалонги, недорогой, бесполезный сам по себе, — но всегда лучше все купить с одного прилавка, и суринамская провинция собою как раз такой прилавок являла.
Ибо чилипонга, не давая права на секс, его собою стократно заменяла, да к тому же сопровождала перелетами в далекие галактики, где кальмарообразные донхуаны вперемешку с дональбертами, с белоснежками и с белоснегами, кому что выпадет, затевали такие оргии, что мама дорогая, дайте еще дозу. И если давали, человек постигал, каков секс у полярных мхов и древесных грибов, узнавал, от чего вымерли стегозавры и стеллеровы коровы и отчего стенокардия у галапагосских чупакабр, сколько дней продержится у власти президент Суринама подполковник Баутерсе, — отведавший чилипухи человек ненадолго преображался в гиеновидную собаку, медузу, электрический камин, социализм в отдельно взятой стране, теорию Большого Взрыва и свежий кимчхи.
Чилипонга была не столько наркотиком, сколько галлюциногеном. Отрубиться при ее приеме и в обалдении видеть розовые волны было невозможно. Точно так же не лечила она от депрессии и не бодрила; не зря активное вещество в ней сто лет назад кто-то иронично назвал «телепатин». Точней всего можно было бы назвать ее учителем, да многие фанаты так и звали ее. Она учила постижению тайн параллельных вселенных, языку дельфинов, мыслям ягуара, поэтапному избавлению от искушений бриджа и гопака, отказу от выплаты по внешним кредитам, искусствам кристаллической любви. Даже самые брутальные и хаббарднутые альфа-самцы становились перед ней нежней и послушней, нежели единороги перед чистыми девами.
Элиана Эрмоса де ла Седа, Великая Мама Корантейна, была не просто полновластной владычицей плантаций чилипонги, она была сутью лианы, и жители городка и окрестностей не зря полагали, что душа Великой Мамы и душа священного напитка — одно и то же. Она не была дочерью сельвы Суринама или Сальварсана, она появилась на свет в дальней и холодной северной стране, где по-женски долог рассвет и по-мужски протяжен закат, где зимой топором рубят воду, а летом собирают ее в кулак из летучих паров над тазами с кипящим вареньем, — но вот уже почти тридцать лет не выходила она из ворот гасиенды, принимая гостей под опахалами в патио. Ей шел девяносто третий год, и она, не рожденная здесь, все же была одновременно матерью и дочерью, тюремщицей и сестрой милосердия здешней земли.
В саду Великой Мамы зрели ягоды зизифуса, драгоценного средства от хронического запора, поспевали плоды кокосовой сливы, бесценной при диабете, дозревала колумбийская наранхилья, знаменитая тем, что пьющий ее сок никогда не умрет от похмелья, набирали молочную спелость сметанные яблоки, дающие отпор желанию перемены мест, рос белый виноград, ягоды которого превращались в изюм раньше, чем цветы на нем превращались в плоды, наконец, еще тут были фиги Сезанна, способные дозреть лишь в карманах бедняков, хотя последнее, как утверждала Мария Лусия, было лишь гнусным наветом на город Корантейн, которому чилипуха заменяла все фиги мира.
Вечерами с балкона Великая Мама смотрела на пруд, что был застелен листьями голубого лотоса, дорогого удовольствия фараонов и других наркоманов Древнего Египта, на лепестках которого верный Хосе Паласиос настаивал для нее ликер, ибо пряный напиток становился ей нужен в тот миг, когда небо экватора без всяких сумерек обрушивало на мир темноту, но две унции питья с кусочком льда возвращали ей трезвость мышления.
По мере того, как в настойке таял лед, она припоминала, что если афедронный коллайдер нагреть, то движение электронов в нем ускорится, нарушится равновесие между скоростью и величиной орбит, возникнет избыточный потенциал, который приведет к выбросу энергии, и к одновременному переходу электрона на более близкую к ядру орбиту, материя станет энергией, зелье вскипит и великой радостью будет следить за нагреванием зрелых плодов, отдающих сок, стекающий струйкой в перегонную емкость, быстро преобразуясь в величайшую энергию человеческого общества — в деньги, в суринамские гульдены, в сальварсанские кортадо, в доллары, крюгерранды и червонцы, доказывая справедливость законов квантовой физики, принятых и одобренных государственной думой третьего созыва, — обычно примерно здесь нить рассуждений начинала рваться, и полог тропической ночи опускал над Великой Мамой покрывало вест-индского сна, и она отходила в него, держа в левой руке горсть ядовитых ягод ярко-алого бересклета и светло-зеленый ребристый лимон.
В тот июль потоки сезона дождей с ветром, который здесь называли сибибуси, все никак не хотели уняться, да так и было почти всегда, здесь ливни, приходившие из колумбийского селения Тутунендо, длились иной раз и по триста дней в году, хотя Мария-Лусия, что единственная годилась Великой Маме в матери, помнила, как в первый год прошлого века в этот день замерзли лужи и она единственный раз видела лед, покуда через шестьдесят лет в доме у двоюродного племянника Аурелиано ей не бросили два кусочка в стакан кашасы, потому что та для нее была крепковата, а воду лить в тростниковую водку племянник запретил, потому как невеста его сына была из симарронов, потомков беглых рабов, три столетия живших на юге, почти не контактируя с городским населением, но президент Сальварсана, великий Хорхе Романьос, прокладывая транспортный путь для своей самородной ртути в Парамарибо, провел дорогу близ их земель, и им волей-неволей пришлось уступить его безбашенным мерсибокуртам, головорезам хуже гаитянских, и с тех пор на богатых праздниках в Корантейне всегда клали лед в кашасу и в суринамский давет, смесь рома, кокосового молока и лимонного сорго, потому как морозильник в тридцать пять справлялся с работой неплохо, а выше столбик термометра поднимался в тени все-таки очень редко.
Элиана Эрмоса, Великая Мама, некогда носившая гордое имя Елены Шелковниковой, родилась в далекой Риге в незабываемом девятнадцатом, и была тогда Еленой Эдуардовной Корягиной. Она была вдовой великого человека, Бог не дал ей детей, но стараниями младшей сестры Он даровал ей четверых племянников; муж сестры, генерал кулинарной службы, тоже был армянином, наверное, поэтому все четверо выросли умницами, старший сперва неудачно женился, но потом с этим делом у него стало лучше всех, про второго речь отдельная, третий весь пошел в отца и был ректором военно-кулинарной академии империи, а четвертый вознесся на такую высоту, что Великой Маме, когда она хотела на мальчика глянуть, приходилось задирать голову. Что же касается второго из четверых, то самым знаменитым он не стал, но стал ее любимцем, ибо унаследовал пост, который некогда занимал ее покойный муж до того, как стал канцлером, мальчик стал главой службы внутренней безопасности империи. Что странно, именно он был стеснен в средствах более других, и периодически Элиана Эрмоса без просьбы и без возврата передавала ему довольно значительные суммы на самые необходимые нужды, но что не сделаешь для любимого племянника. И в июне, когда река Корантейн еще только начала возвращаться в берега после паводка, ее ничуть не удивил звонок из Европы насчет того, что Тимон Игоревич оказался в несколько затруднительном положении и вынужден будет отложить обычный июльский визит к тетке, потому что из-за финансовых проблем вынужден находиться в Москве. Великая Мама давно не очень представляла, куда девать деньги, потому как расширять гасиенду можно было разве что за счет территории какого-либо третьего государства, на что могли уйти десятилетия, а жить так долго она все же не рассчитывала, она предположила, что едва ли мальчик должен себя ограничивать, она же знает, как тяжела его работа, она готова оказать посильную помощь, просит кого-нибудь прислать к ней, она, как обычно, не может доверить даже копейку почте, но рада будет вручить что-то из отложенного на черный день доверенному лицу. Доверенное лицо улыбнулось в телефоне и предложило заехать к ней, потому что у него, у лица, есть небольшое дело на родине, на Доминике, к другу, Сантьяго Родригесу, надо заехать кофе попить, а оттуда он к ней, а потом, пожалуй, в Сан-Сальварсан, а на следующий день опять в Москву, вот и будет по пути, вот и ладненько.
Что касается Доминики, то не одобряя действий тамошнего премьера-мальчишки, Рузвельта Скеррита, она понимала, что ни сам шестидесятилетний посол-ресторатор Доместико Долметчер, ни барон Сантьяго Родригес, на арест которого давно выдан ордер международной наркополицией, из-за чего ему с острова ни на шаг дороги нет, в премьеры идти не захотят. Однако заказать чартер из Розо Долметчер сможет легко, а хоть вокруг Корантейна одни болота, но самолеты садятся и на бетонку, ведущую от гасиенды к собору Петра и Павла, что в конце позапрошлого века построил из местного кедра Карлос де Охеда, прямой потомок друга и спутника Великого Адмирала Алонсо де Охеды, пятьсот лет назад первым и европейцев высадившегося на берег, наплодившего там детишек, из которых некоторые благоразумно удалились вглубь континента, а старший из них, Хосе Антонио Мануэль Франсиско Луис де Охеда, основал Корантейн, узнал о дивных достоинствах чилипухи, запустил первую чилипуховарню, тоже наплодил детей двадцать, часть его потомков была вырезана рабами, тут же сбежавшими дальше на юг и превратившихся в первых симарронов, лесных негров, но другая часть его потомков догнала значительную часть этих негров, приучила их пить чилипуху и приставила к делу, и дело с тех пор как единожды поставлено было, так и доселе стояло, так вот, вполне сядет самолет на бетонку.
Устав от беседы, Элиана Эрмоса кликнула верного Хосе Паласиоса, и он доложил ей прогноз погоды на завтра, тридцать два и солнце без дождя, а еще число детенышей в приплоде Розалинды, четырехпудовой самки капибары, исполинского грызуна, не просто прижившегося на гасиенде, но обжившего здешние водоемы как свою личную собственность, в тот год оказалось восемь, и все мужчины, а еще что с южного болота пришел человек с тремя ноздрями, левая дышала панически, правая пророчески, а средняя желала странного, а еще что «Санта-Круз» проиграл «Улиссу» с теннисным счетом шесть ноль, чего хотели эти донны Флор против горячих армянских парней, а еще что слухи про планету Нибиру вновь не подтвердились и ее визит в будущем году отложен на сто шестьдесят пять миллионов лет, точнее, как придет время, так скажут, и еще он хотел много всякого рассказать, но кусочек льда в стакане настойки синего лотоса дотаял, и Хосе Паласиос понял, что хозяйка спит и надо бы отнести ее в постель, да только чтобы ее поднять, потребовалось бы шесть Хосе Паласиосов, поэтому он лишь опустил москитную сетку, поправил вентилятор и тихо удалился.
Ночью под кровлей начинали мелькать никак не вымиравшие корантейнские вампиры, мелкие летучие мыши, единственным способом избавления от которых служило в городе то, что они приручались, пили баранью и куриную кровь, найти которую было тоже непросто. Днем крыланы гроздьями висели на каждом чердаке гасиенды, ночью отправлялись на поиски — чьей бы крови попить, а Хосе Паласиос, маясь бессонницей, караулил их с сачком, ловил, сажал в клетку, ждал, что в ней больше не останется места, на рассвете отправлялся к вьетнамскому ресторану, где повар прилично за них платил, ибо если вьетнамец богат, то на втором стакане чилипухи он непременно заказывал, кроме юной девушки, еще и десяток крыланов, которым при подаче на стол отрубали голову, кровь сцеживали в бокал, добавляли шафран и сразу пили, остальная мышь шла на фарш для шавермы; получив деньги, Хосе Паласиос шел к синагоге, где резник, с благословения раввина, продавал ему оставшуюся после кошерного забоя, собранную в миски кровь, которую, конечно, должен был бы зарыть, но синагоге нужно было чем-то кормить бедняков, и, пользуясь правилом приносить меньшее в жертву большему, раввин и здесь пользовался случаем получить гойские сентаво для евреев, ничего в этом не было плохого, бедой городка было то, что людей мало, мышей много, всех не приручишь, хотя и хочется, да и крови на продажу у евреев мало, сколько птицу не режь, всех вампиров не прокормишь, но все-таки Хосе Паласиос уносил в гасиенду жертвенную кровь на прокорм ручным мышам Элианы Эрмосы, и круговорот завершался к всеобщей радости, потому что и люди были сыты, и мыши целы. Не так уж и велика оказывалась цена крови.
Утреннее время быстро становилось дневным, кто-то занимался текущими делами, детей воспитывал и пахал на чилипуховарне, а бедняки, пользуясь тем, что на каждом хлебном дереве всегда есть лишний плод, не делали ни черта, жевали арабский чайный лист, называемый катх, или пили горький отвар гавайской розы, чтобы пять минут превращались в час, чтобы в глазах рябило от разноцветных пятиугольников.
Город был убежден, что предки Великой Мамы владели гасиендой, плантациями чилипонги и дистилляционными мастерскими чуть ли не со времен Великого Адмирала, когда река Корантейн была шире Амазонки, а море еще не отодвинулось от столицы Суринама, от Парамарибо, на полтора десятка миль. Старики из поколения в поколение передавали легенды о блистательных грандах из Севильи, которые некогда выстроили там знаменитый собор Санта Мария де ла Седа, пожертвовав на него двадцать квинталов перуанского золота, затем отослали младших сыновей вслед за Великим Адмиралом в Новый Свет, где те после войне голландцами, португальцами и англичанами выбрали в невесты дочерей семьи Охеда, нарожали новых дочерей, и с тех пор великие мамы рода де ла Седа из поколения в поколение безраздельно правили на этой территории, спокойно уживаясь со столицами в Сан-Сальварсане и Парамарибо, и скажи кто кому, что семьи де ла Седа никогда не было в природе и это всего лишь примерный перевод на испанский армянской фамилии Метаксян, Шелковников в русской версии, а если углубляться в дебри, то и вовсе греческий Метаксас, если кто помнит того диктатора, то можно понять, что перед людьми с этой фамилией каждому лучше тоже быть шелковым, так вот, скажи кто, что де ла Седа вообще в Латинской Америке таких сроду не было — послали бы того вытрезвляться, меньше пей гавайской розы.
А на самом деле Елена Эдуардовна Шелковникова появилась в Суринаме лишь в сорок с небольшим, когда в Советском Союзе целых три месяца граждане увлеченно меняли старые деньги-простыни на новенькие с аккуратным Ильичом и не замечали, с каким блеском их ограбил премьер, лажанувшись на кукурузе и пастернаке. Елена Эдуардовна, по совету мужа, использовав поездку на Кубу для того, чтобы вложить семейные деньги, обращенные из советских простынь в надежную валюту, побывала в Парамарибо, прикупила два борделя, курильню опиума и фабрику косметики, стала бывать там регулярно, но, скоро наскучась тамошней сонной жизнью и невозможностью конкурировать с колумбийскими баронами в смысле производства кокаина, перебралась на границу независимого Сальварсана и на спорной территории бросила якорь в гавани городка Карантейн, среди плантаций чилипонги, на которых хозяйничали местные индейские колдуны. Одолжив у кубинского диктатора сотню коммандос, она репатриировала колдунов на историческую родину, на Огненную Землю, откупила и перестроила пустующую гасиенду Марио Окампо, заменила кубинцев сальварсанскими мерсибокуртами будущего президента Хорхе Романьоса и за двадцать лет полностью вросла в жизнь городка, чтобы за следующие тридцать его вовсе не покинуть ни разу.
В гостях у нее мало кто бывал. Иногда знаменитый писатель из колумбийского города Армения, заинтересовавшись ее бизнесом и самой ее личностью, приезжал к ней, ее рассказы отразились во многом, что попало в его главный роман «Сто лет патриарха». Он привозил ей в подарок цистерны дождя из города Буэнавентура, где ливень хлестал над платиновыми рудниками уже триста лет, и в засушливые годы дождевая влага питала плантации священной корантейнской чилипонги. Иногда приезжали то сестра с мужем, то четверо племянников по одному. Старший всегда заявлялся с множеством женщин, не позволявших на выстрел приближаться к нему ни одной мулатке. Третий, напротив, рвался на каждую кухню, где те же мулатки, лучшие поварихи Корантейна, счастливы были поделиться всеми рецептами, а он всегда готов был взамен дать свой мастер-класс, кровь и наследственность у Цезаря были правильные, и город исступленно ел, чего любителям чилипухи как раз нельзя, и было ясно, что чилипуха для города источник дохода, а не удовольствия. Когда приезжал самый младший — город об этом и не знал, он почти все время молчал, лежа в шезлонге на той же веранде в патио, где коротала сиесту и вечера его тетка, а если он говорил, то о таких мелочах, что и странно было, зачем вообще ради них рот открывать, и лишь спустя долгое время оказывалось, что он говорит о будущем, но этого не поймешь, покуда оно не станет прошлым.
И все бывало иначе, если приезжал любимый племянник, Тимон. Иначе как «дон Тимон» его тут не звал никто, видимо, по роду профессии он, как никто, умел находить общий язык с самыми несговорчивыми корантейнцами, и по первому намеку они изливали ему душу в многочасовых монологах, в которых он, правда, по незнанию испанского, не понимал ни слова, но вечерами верный Хосе Паласиос выслушивал его записи, пересказывал все на более-менее приличном русском, и на следующий день через него тот, кто исповедался накануне, узнавал, сколько и за что ему дадут в какой стране, чего, следовательно, надо опасаться и не говорить даже на исповеди, особенно же на исповеди ни у падре Факундо, ни у падре Примитиво, потому как все что надо они уже знают, а остальное их начальник уже знает, зря, что ли, они у дона Тимона на жалованье. Лишь изредка племянник давал Великой Маме совет взять исповедовавшегося, зашить в мешок с красными пчелами и утопить в глубоком болоте, она понимала, что парень плохого не посоветует, давала кому надо инструкции и никто никогда не жаловался, — так же некогда поступал и ее муж, и тоже не жаловался никто.
Но царь держал парня в черном теле: зарплату платил, хоть и небольшую, но вовремя, а вот на служебные расходы давал безбожно мало. В итоге парень и рад бы доложить в дело свои, но их у него не было физически, и, в память о покойном муже, да и просто любя семью, Великая Мама почти постоянно совала ему тысячу-другую золотыми, потому как других старалась в руки не брать, дурной это тон, хуже чем называть детей именами вроде «Майкл Корлеоне». Если же Тимона не оказывалось поблизости, то в Корантейн заявлялся известный посол-ресторатор Доместико Долметчер, старавшийся не жить на родине, которую английские насильники приучили есть вместо нормальной еды одни бутерброды, готовил для Великой Мамы любимое кушание ее детства — варил банку сгущенки, потом открывал, вставлял в коричневую массу серебряную ложку, подавал ей на подносике, она же, откушав, подносик возвращала заметно потяжелевшим от монет с портретом знаменитого бородатого президента. И Тимон мог подкормить своих сотрудников хотя бы в служебной столовой, куда пускали по спецталонам.
Слово «город» в испанском языке, как и в большинстве европейских, женского рода, тогда как в русском слово это мужского рода, добавим, что, скажем, в малороссийском наречии оно рода среднего и оттого бесполо, но не об Малороссии сейчас речь, а, как ни странно, о кружевах. Корантейнские модницы хоть и были смешанного испанского и креольского происхождения, со времен голландского владычества обожали кружева, однако по многим причинам кружевной промысел в Западной Европе пришел в упадок. Лишь в далекой России, в таинственном городе Арясине мастерицы сохранили традиции и плели из шелковой нити драгоценные «мачехинские» кружева, ценившиеся в Корантейне дороже золота и чилипухи. Женская суть Корантейна влеклась к мужской сути Арясина, и тот, кто привозил на границу Суринама и Сальварсана чемодан арясинских кружев, мог ближайшие лет десять не заботиться о хлебе насущном, а потом, если случайно не помирал или не получал наследства, съездить за новым чемоданчиком, и так, как любил говорить местный ребе Соломон из семьи Соломон, — «до ста двадцати».
В этот день солнце уже четвертый день пребывало в величавом знаке Колесницы верхнего зодиака и неукротимо стремилось к величавому знаку Льва зодиака основного, в день именуемый юматату, иначе чахаршанбег, когда над островом Бали стояла планета Враспати, иначе именуемая Меркурий, со стороны гор Сьерра Путана явился человек верхом на жеребце фризской породы, длинные фризы которого были запятнаны болотной тиной, и въехал в южные ворота Корантейна. Человек был стар как само время, чернокож и сед, морщинист и худ, но в седле держался крепко. Проехав мимо собора, он широко перекрестился, с коня не сошел, но направился прямо на гасиенду Великой Мамы, где его встретил уже оповещенный народной молвой Хосе Паласиос. Это был, как, без сомнения, понял уважаемый читатель, жрец вуду Марсель Бертран Унион, девяностодевятилетний посланник семидесятилетнего президента Хорхе Романьоса, которому Тимон через своего старшего брата Ромео и многочисленных его детей приходился кем-то вроде многократного брата зятя. Не без труда жрец спустился на грешную землю, снял с лошади два очень тяжелых мешка и, опираясь на плечо верного Хосе Паласиоса, прошествовал в патио, где Великая Мама уже окончила сиесту и пребывала во вполне деловом настроении. После того как в прошлом году в Испании добрый знакомый Великой Мамы, эквадорец Педро Сориа Лопес, выиграл всемирный чемпионат по сиесте, она стала соблюдать этот обычай еще более истово, хотя и считала, что при такой жаре в Корантейне сиеста недопустимо коротка.
Жрец был допущен к руке Великой Мамы, поцеловал огромный сапфир на ее руке и опустился в шезлонг, одновременно приняв из рук верного Хосе Паласиоса стакан с охлажденной чилипухой. Было известно, что диету он соблюдает и годами не ест ничего, кроме вареного картофеля и сырого мяса капибары, которую, как и крокодила, за два столетия до его рождения католическая церковь признала рыбой и дозволила есть в пост, что сегодня, в среду, было особенно хорошо, и Хосе Паласиос пошел отдать распоряжения на кухне, ибо Великая Мама не ела мяса грызунов и летучих мышей, любимое в Корантейне, предпочитая им жареную чернобрюхую свистящую утку, мясо которой ей рекомендовали как лечебное. Любила она и другую местную утку, гребенчатую. Еще более ценила местную птицу-пенелопу из каатинги, но та охотникам почти не встречалась.
Унион медленно выцедил весь стакан, белоснежными, отнюдь не вставными зубами разгрыз кусочек льда.
— Бедный мальчик, — сказал он без предисловия, — президент так волнуется.
— Что делать, — ответила Великая Мама, — это тем более печально, ведь царь — его племянник. Так ли следует заботиться о племянниках. Остается лишь помогать, чем возможно, а мы можем уделить только сущие гроши.
— Действительно так. Президент очень огорчен и пошел на беспрецедентную меру.
Великая мама с удивлением посмотрела на него:
— И что же он сделал?
Старик развязал мешок и вытащил оттуда две монеты. Проследив, чтобы одна демонстрировала Элиане Эрмосе аверс, другая реверс, протянул их и, понимая, что глаза у нее уже отнюдь не орлиные, пояснил:
— Обычно Сальварсан воздерживается от чеканки золотых монет, рудник в Орифисьо-де-Оро отнюдь не то, чем располагают Южная Африка и Канада, тем более Сибирь, но в данном случае президент решил сделать исключение. Сальварсанский кортадо стоит сейчас на отметке в один и две десятых доллара Северо-Американских Соединенных Штатов, что при чеканке монет достоинством в двенадцать кортадо, есть семь рублей двадцать копеек по нынешнему курсу, иначе говоря, почти царский полуимпериал. Первые сто тысяч двенадцатикортадовых монет я сегодня привез. Это очень мало, президент понимает, что семьсот с небольшим тысяч рублей нужд вашего уважаемого племянника не поправят, но в ближайшие дни мы доставим еще и надеемся, что хотя бы в ближайшие дни дон Тимон сумеет обойтись этой скромной суммой. Чеканка будет продолжена.
Великая Мама поднесла монеты к глазам. На одной стороне сиял герб Сальварсана, шествующий вправо броненосец-армадильо, чье шествие символизировало все большую и большую правоту сальварсанского броненосца, а под ним номинал — 12 кортадо. На реверсе был оттиснут профиль лысого и курносого человека, знакомый всему миру, по кругу шла надпись: «Creemos en el Presidente», («Мы верим в президента»).
Великая Мама с нежностью погладила монеты: это было то самое, что требовалось сегодня.
— Какой прекрасный человек президент, — сказала она, — какой отзывчивый, как тонко чувствует нужды друзей и родственников. Я, разумеется, добавлю к этой сумме кое-какие незначительные средства, надеюсь, ему пока хватит, хотя бы на месяц-другой. Потом я собираюсь мобилизовать дополнительные возможности, в конце концов, в городе у меня десятки крестников, и не только в городе.
— Как же организуем доставку? — озабоченно спросил жрец. — Пересылать такую сумму можно лишь с очень доверенным человеком, а в ближайшее время у нас никто не ожидается.
Голос Великой Мамы потеплел.
— Как же, завтра с утра жду нашего друга с Доминики. Но скажите, мэтр, ведь монеты очень тяжелы, как вы их довезли? Бедная лошадь!
Унион сделал отрицательный жест:
— Ничего, мой Фриз — конь сильный, а монеты отчеканены из металла девяносто девятой пробы, что сильно снизило их вес. Хотя, конечно, коню досталось. Но мы с ним старые друзья, много пережили вместе. Кстати.
Унион выудил из часового кармашка на брюках замшевый мешочек.
— Это для дона Тимона на самый крайний случай, если случится нечто совсем непредвиденное.
Он развязал тесьму. На его черной ладони засиял множеством граней густо-синий камень.
— Это до сих пор не предъявлявшийся никому постороннему бриллиант, который решено назвать по имени города, где он был найден, — Пайтити. В нем восемьдесят карат, огранка равноценна брюссельской и производилась приглашенным в Сан-Сальварсан европейским ювелиром. У бриллианта нет официального владельца: город Пайтити считался расположенным в Перу, но был обнаружен в Сальварсане в прошлом десятилетии. Его сокровища национализированы, часть отправлена в фонды резервного банка, однако данный камень по специальному решению отошел в собственность главы государства и может быть господином пожизненным президентом подарен по собственному усмотрению. По условной стоимости, благодаря чистоте и внешнему сходству, он может быть приравнен к алмазу «Голубой француз», хранящемуся в Смитсоновском институте в Вашингтоне, иначе говоря, его примерная цена — двадцать семь миллионов царских империалов, они же четыреста миллионов рублей, или двести миллионов долларов Северо-Американских Соединенных Штатов.
Великая Мама взяла камень, долго и близоруко рассматривала, затем откинулась и задумчиво сказала:
— Мне кажется, подобные сокровища не должны покидать руки владельца. В данном случае это национальное достояние республики. Если не всю сумму, то значительную ее часть можно найти. Все же это не скипетр Елизаветы Второй, там в десять раз дороже было бы, а здесь сумма хотя бы обозримая. Построит царь на авианосец меньше, в конце концов, тот все равно утопят. И будет знать, как оставлять мальчика без гроша.
И в сорок семь лет Тимон оставался для тетки мальчиком.
Закат рухнул за горизонт почти сразу, непривычно чистое небо осыпалось миниатюрными копиями бриллианта Пайтити. Синих звезд на небе тысячи, но у города Корантейн имелась своя, и называлась она Сухаил Хадар, иначе дзета Кормы, незримая для Москвы, да и вообще Корма корабля аргонавтов — это созвездие Южного полушария, целиком видимое в Северном лишь для тех, кто находится в южнее города Бейцзин, более известного как Пекин. Сухаил Хадар по-арабски означает «рычащий лев», обычно считается, что этим рычанием приглашают Небеса вступить Солнце в величавый знак Льва, и Солнце, повинуясь, вступает, но сегодня звезда рычала тише, чем обычно, ибо созерцала алмаз, синий бриллиант Пайтити и умалялась гордостью перед благостью чуда доколумбовой Америки. Хотя корабль аргонавтов некогда направлялся за золотым руном, а в Корантейн два мешка золота уже были привезены, все золото мира блекло в эти мгновения перед блеском синего бриллианта.
Испанское слово «кортадо» означало «разрезать», на сальварсанском диалекте оно превратилось в существительное и в название почтенной денежной единицы, хотя весь мир называет так кофе, сваренный из свежеразмолотого кофе с топленым молоком в равной пропорции. Кофе Великой Маме присылали из кофейной столицы мира, колумбийского города Армения, молоко же носили с фермы Марии Лусии, а готовил напиток для нее лично верный Хосе Паласиос, он топил молоко в старинном глиняном горшочке, осторожно вливал его в кофе, чтобы подать владычице, не переносившей жидкого латте, в котором молока во много раз больше, чем кофе. Через мгновение после того, как высыпали на небо звезды, он появился рядом с ней, поклонился и подал большую чашку напитка, старику же поднес его обычный стакан чилипухи со льдом. Насчет легкого ужина он уже распорядился.
На ночь угомонились туканы с огромными клювами, убрались задом наперед в дупла и задремали, то же сделали и ближайшие их родичи, суринамские арасари, скальные петушки устроились на низких ветках близ воды, лазурные котинги до утра пригасили свою лазурь, лишь вечно недовольные жизнью аропонги раскричались в кустах мерзкими металлическими голосами, будто недовольные фанаты футбольного клуба в бразильском Ресифи из-за проигрыша своей команды горячим армянским парням, загустели облака москитов, начались метания вампирских теней, напомнив обитателям гасиенды, что небогоугодно в такое время бодрствовать, что пора помолиться и отойти ко сну. Разжужжались москиты, пятидюймовые бразильские тараканы, бараты, вышли на охоту. Корантейн дожевал последний катх, допил последний мате, докурил последнюю трубку, отправился на боковую и погрузился тропические сны, которыми так любят лакомиться лесные пятнистые тапиры.
В Корантейне, как и во всей северной части континента, не было разницы между зимним временем, как не было и особой разницы в погоде: всегда жара, а разница — это то засуха, то дождь. В том июле дожди закончились, и, накануне августовской засухи, солнце, взойдя над французской Гвианой, двинулось к Армении в Колумбии, по пути озарив и просыпающийся городок Великой Мамы, где, исполняя полученные накануне инструкции, верный Хосе Паласиос призвал всех своих многочисленных внучатых племянников, и эти серьезные мужчины от двадцати до сорока с чем-то лет возрастом отправились с одинаковыми поручениями к десяткам крестников Элианы Эрмосы, ибо никто не сомневался в крепости семейных уз Корантейна, и если надо помочь родственнику, то это категорически означает, что родственнику надо помочь и надо выкладывать все, что десятилетиями хранилось под спудом на самый черный день.
В это время, приветственно качая крылами, наперерез солнцу промчавшись с севера на юг через весь Суринам, ярко-красная шестиместная Сессна-210 из города Розо на острове Доминика, неся на борту кое-какие мелкие подарки Великой Маме и ее племяннику, опустилась на бетонную дорогу между собором Петра и Павла и гасиендой Элианы Эрмосы. Расстояние беспосадочного полета было почти предельным, но пилот знал свое дело. На борту, кроме пилота, был всего один пассажир, темнокожий немолодой креол, знаменитый челночный дипломат-ресторатор Доместико Долметчер. Он махнул пилоту, взял с собой чемоданчик и направился к воротам поместья.
Великая Мама завтракала, ее трапезу разделял, разумеется, Марсель Бертран Унион. Хозяйка дома всем блюдам на завтрак, если день, разумеется, не был днем поста, предпочитала традиционное амазонское пато но тукули — острый соус из кассавы с кусочками гребенчатой утки; уважая местные традиции, Великая Мама уже много лет не баловалась ветчиной, свинину в тропиках не любят, причем не по религиозной причине, а из-за лишней жирности. Прежде чем перейти к бесконечным чашечкам кофе, она выпивала стакан гуараны, напитка, перед которым любая пепси-кола — что луна перед солнцем. Унион, постоянно пивший чилипуху, удовольствовался большим и притом сырым стейком из мяса жакаре, то бишь крокодила.
За этой более чем скромной трапезой застал их Долметчер. Отвесив полупоклон хозяйке усадьбы и вежливо кивнув Униону, присел на краешек треногого стула, потянул носом, с интересом осмотрел обширное блюдо, с которого она брала кусочки утки и которых там для нее было явно слишком много. Великая Мама с подозрением глянула на него:
— Что-то приготовлено не так?
— Нет, у вас отличный повар, я всегда это отмечал. Но что касается приправ, то можно бы их разнообразить, ввести нотку розового перца, да и нанкинской перилы… Если не возражаете…
Великая Мама не возражала, уж кто-кто, а этот всегда знал — что кому надо. Долметчер достал крошечный золотой флакон, поддел вилкой кусочек утки рассмотрел ее и капнул на него янтарный шарик жидкости. В воздухе повис резкий запах кардамона.
— Это старинный бирманский состав «ухэ-тхо», что в буквальном переводе означает «желчь водяного», эликсиру этому не менее восьми столетий, я сам о нем лишь недавно узнал из одной сокровенной книги… Желаете попробовать?
Запах навевал мысль о не лучшей косметике. Великая Мама воздержалась.
Гость разложил перед хозяйкой коробочки: подарки от Родригеса и собственные, а также скромные сувениры от Тимона. Родригес, как обычно, делился старинным китайским фарфором, который коллекционировал, и добавил к нему коробку с двумя фунтами королевского шафрана, ценимого и в Средние века и в наши дни на вес золота. От себя Долметчер презентовал тоже милую безделушку: набор стеклянных фигурок размером с оловянного солдатика, отлитых с полным портретным сходством, соответствующим персонажам членов советского политбюро от эпохи кукурузного премьера и до самого перехода к высшей фазе коммунистического общества, к империи. Тимон же, мальчик занятой, передал рядовые три бутылки армянского коньяка, самого дорогого, какой сумел найти. Элиана Эрмоса давно ничего такого не пила, но знала, что крестники, которых сейчас набежит полный двор, от рюмки не откажутся.
Принимая подарки, Великая Мама задела одну из фигурок, стеклянный Суслов вдребезги разлетелся на мозаичном полу.
— Дрянь человек был, не жалко, — беззаботно прокомментировала она и отказалось от замены. Долметчер вспомнил, что как раз с ним покойный супруг Великой Мамы был на ножах, и согласился с ней.
Ближе к полудню, задолго до сиесты во двор имения стали сходиться крестники Великой Мамы, никто не рисковал навлечь на себя ее гнев, даже если мог уделить совсем немного, тысячу или две суринамских гульденов, каких-нибудь восемьсот бразильских реалов или несчастные тридцать золотых империалов, но ведь не сумма важна, а любовь, рубль или тысяча империалов, неизвестно, чье сердце теплей. Мария Лусия, которая была старше Великой Мамы чуть не на двадцать лет, передала со своими правнуками, — а чьими же крестниками им быть, ясно же, передала лично от себя пятьдесят золотых эквадорских кондоров, стоивших куда дороже номинала из-за коллекционной редкости, сколько именно — Великая Мама не знала, но помнила, что у Тимона есть консультант. Великую Маму особенно растрогал этот дар, она помнила, что эквадорец был первым мужем Марии Лусии и умер много ранее, чем в сороковом году, когда в Парамарибо затопили немцы свой военный корабль «Госпар». Значит, она хранила эти деньги самое малое семьдесят лет и не позволила прикоснуться к ним ни одному из пяти последующих мужей, ныне ровным рядом спавших на городском сементерио рядом с ее собственным грядущим местом вечного упокоения. Крестники шли и с трепетом вручали ей десятилетиями сберегаемые венесуэльские эскудо, колумбийские гранадины, песо Новой Гранады и вовсе ненаходимые ныне старинные голландские гульдены времен осады Пернамбуко. Кто не имел таких сокровищ — приносил золото более позднее, современное, а уж в совсем безвыходных случаях Великая Мама снисходила до ассигнаций, чеков и перечислений на банковский счет.
Первыми появились, разумеется, те, кто ближе жил, — трое братьев — Луис Аарон, Диего и Валерио Робледо, из которых первый страдал изолофобией — боязнью остаться в одиночестве, а второй страдал херофобией — страхом веселья, а третий страдал тетрофобией — китайской болезнью числа четыре, и как жаль их, погодков и первых ее крестников в городе, ныне уже отягощенных на каждого примерно десятком внуков, людей весьма состоятельных, владельцев городской фильтровальной системы, без которой Корантейн давно вымер бы от желтой лихорадки, — они преподнесли общий кошель, упавший с таким звоном, что на содержимое его Элиана Эрмоса смотреть не захотела, лишь протянула каждому сапфир для поцелуя; следом вместе с женой, тремя прелестными детишками, а также всеми признаками еще одного будущего крестника Великой Мамы появился Христофор Мальярино с неожиданным подношением — тремя огромными колумбийскими изумрудами без огранки, однако чистого ярко-травяного цвета, — а ведь с тех пор, как изумруд и рубин стали на мировых рынках дороже алмаза, ладно, не будем продолжать, такой дар бесценен; вслед за ним чопорно пришествовал один из немногих аристократов Корантейна, Уртадо Эскудорохо Сантандер, не без оснований подозреваемый в ростовщичестве, но важно ли это, когда на нужды дорогого племянника он выделил почти сто пятьдесят тысяч долларов Северо-Американских Соединенных Штатов, двадцать тысяч червонцев, а ведь Великая Мама точно знала, что это весь его доход с начала лета, это что-нибудь да значит, вот такова сила родственной любви, прочее не имеет значения. Наконец, любимый крестник ее, с бразильским именем Рафаэл Рубенс Кардозо, не женившийся ни разу, как сам он пояснял, улыбаясь в пышные усы, «по причине крайней многодетности», скромно возложил на журнальный столик у ног Великой Мамы кошелек с двумя тысячами серебряных кортадо старой чеканки, — кто осудил бы его, многодетному отцу нет времени менять серебро на золото, цена та же, а ведь родственные чувства важнее, да и лучше серебро сегодня, чем золото неизвестно когда.
Приблизиться даже вполовину к стоимости синего бриллианта, понятно, доброхотные даяния не могли, но Великая Мама знала, что сегодняшним днем сбор средств не закончится, это лишь часть, которую отвезет в Москву ресторатор.
Долметчер и несколько крестников, удостоенных такой чести, слегка перекусили перед сиестой, по крайней жаре кусок никому в горло не лез, и они по общему согласию ограничились простейшим шураско с морской солью и гарниром из поджаренных фруктов, да и того без рюмки кашасы никто проглотить бы не смог. Унион ограничился обычным сырым куском мяса жакаре, сама же Великая Мама вновь изволила откушать что-то утиное, что именно — никто не понял, но Долметчер одобрительно кивнул, и больше на эту тему не говорили.
Крестники удалились, гости разошлись по гамакам, хозяйка не пошла никуда — она любила дремать в патио под струей обидно теплого воздуха, рвавшегося к ней от вентилятора. Жара еще и не думала отступать, но лишь окончилось время сиесты — пошли припоздавшие крестники, они шли и шли неиссякающей струйкой, но в седьмом часу Долметчер с огорчением констатировал, что Сессна для ночного полета в бурю, которую обещали на рассвете, не годится совершенно. Унион помог с подсчетами, Великая Мама прибавила от себя вдовью лепту, какую смогла уделить, получилось четыре неподъемных чемодана, Унион с сомнением сказал, что Фризу такое не увезти, но верный Хосе Паласиос подкатил грузовую платформу, погрузил на нее все, что полагалось, и покатил к выходу из поместья, где послушно дожидалась посла-ресторатора шестиместная Сессна-210, которой предстояло увезти на себе пассажира и четыре его чемодана — как раз на пределе грузоподъемности.
Унион вцепился в ресторатора как клещ и, несмотря на протесты Великой Мамы, все же заставил того принять бриллиант Пайтити, если не в дар, то хотя бы на хранение в государственную казну Российской империи с правом распоряжаться им в качестве залога. В итоге Долметчер после прощания оказался в кабине самолета, имея при себе для передачи Тимону Аракеляну сумму приблизительно в два миллиона сальварсанских кортадо, или, в русском счете, в триста двадцать тысяч пятнадцатирублевых империалов. Сумма была довольно условной, поскольку в свободно конвертируемой валюте тут имелось не более половины, остальное составляли драгоценные металлы, ювелирные камни, коллекционные монеты, ассигнации, чеки и многое другое. Путь до русской столицы со всеми пересадками с трудом позволял уложиться в двадцать часов, и Долметчер тревожился — не опоздает ли. И не зря тревожился.
Сессна поднялась в черное, осыпанное драгоценностями небо и взяла курс на Большую Медведицу с оранжевой звездой Дубхе, на Кассиопею с белым гигантом Рукбах, на Малую Медведицу, в которой сияла огромная кремового цвета тройная Альруккаба, именуемая Полярной звездой. Звезда эта одинаково сияла на небесах Корантейна, Тристеццы, Итаки и Москвы.
Ее не было лишь на небе Протея.
X
22 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ПАНКРАТИЙ И КИРИЛЛ
ОГУРЕЧНОЕ ПЕРВОВКУШЕНИЕ
В литературе данное мероприятие
иногда называют сдваиванием агента.
Его суть заключается в вербовке
выявленного агента разведки противостоящей
стороны. Поскольку данный индивид уже
завербован «своей» разведкой, то его вербовка
контрразведкой — это перевербовка. В результате
негласный информатор приобретает «свойство»
двоичности: он начинает работать на двоих хозяев.
Валерий Землянов. Своя контрразведка
Архитектора Василия Карнеева в Москве помнили плохо, но знали хорошо. Масоны его знали особенно хорошо, более других — советские масоны. Под трехэтажным чайным домом Расторгуевых, чаще называемом «домом с атлантами», на Солянке еще лет тридцать тому назад заседала ложа «Вера Чибиряк», позже вымершая ввиду смерти своего председателя. Под более поздним одноэтажным особняком Тарасова на Малой Никитской, более известном как «дом Берии», тогда же заседала ложа «Лидия Тимашук», тоже вымершая ввиду смерти своего председателя. Обе ложи позабылись, как забылось и то, что председатель был один и тот же.
Архитектор помер больше ста лет назад на даче в Кунцеве, следующий после Тарасова владелец, купец Бардовский, из вичужинских крестьян, старообрядцев-беспоповцев, вспомнился Российской империи дважды как раз в восьмидесятые прошлого столетия. Хоть и преставился он в двенадцатом году, но оставил по себе память как о таком скряге, что лишь император, десять тысяч лет жизни ему, того Ивана Александровича превзошел. Еще интересно то, что особняк в Старо — конюшенном переулке, где накануне переселения в Кремль жил царь, а раньше ночевал Черчилль, говорят, человек тоже не особенно щедрый, Бардовский некогда купил для своей семьи, которую видеть не хотел, и жил там его сын, Николай, пока его не выгнала оттуда революция.
Особняк на углу Никитской и Вспольного, «дом Берии», некогда был обиталищем именно Вардовского-старшего. И теперь по коридорам особняка бродила тень Ивана Александровича, проходя сквозь тень маршала и нередко на него огрызаясь, ибо тот, убиенный, от стресса забыл русский язык, а купец не понимал по-грузински ни слова, иначе, глядишь, понял бы и то, что маршал давно предпочитает родной мингрельский. Византийцы призраками не заморачивались: город Берия в центральной Македонии, где некогда проповедовал апостол Павел, был им известен лучше, чем блудливый маршал.
Тут был и третий призрак — призрак посла-араба, погибшего под упавшей люстрой лет пятнадцать тому назад, после чего суеверные арабы попросили их переселить: им и двух-то призраков хватало, мир им всем троим. Особняк традиционно постоял несколько лет пустым, а потом его откупил, добившись звания поставщика двора, владелец экспортно-импортной компании «Ласкарис», каковая фирма ввозила для нужд императорского стола оливковое масло и всякую другую хурму.
Его превосходительство Константин Константинович Федоров-Ласкарис бывал здесь нечасто: работал офис безукоризненно и присутствия владельца почти не требовалось. Апельсины и хурма поступали на хранение в близлежащие бывшие Госикаршампанподвалы, где некогда заседали масоны, до того неистовствовал в приступах мопассановского сатириаза маршал, а еще раньше хранилось шампанское Льва Голицына. Хурма шла в Кремль, а что еще в тех подвалах происходило — то, скажем так, пока что было военной тайной Полишинеля: оттуда велась проходка туннеля аж до Александровского сада и дальше под Никольскую башню. Под Кремлевской стеной, правда, жили еще два-три призрака, но имелась надежда, что между призрачными интересами не возникнет конфликта.
Туннель рыли вдоль Малой Никитской до Большой, дальше под всей Моховой до Кремлевской стены, возле Манежа налево, против течения вдоль Неглинки до Арсенальной башни, дальше под Кремлевским проездом — под Никольскую. Привлеченный апельсиновыми рощами Ласкариса, строил туннель архитектор из итальянской Швейцарии, которому импонировало подкопаться под башню, выстроенную миланским архитектором Антонио Солари. Строил не торопясь, выдерживая стандартную скорость сто сажен в месяц и столько же на доводку и облицовку предыдущего участка. Начав работу в год окончания икарийской войны, в общих чертах он довел ее до завершения в мае, накануне бегства царя из Кремля, что совпадало с планами Ласкариса, подтягивавшего армию наемников к Москве на предмет последнего и решительного штурма Никольской башни и Арсенала.
Фирма между тем продолжала работу, не столько для отвода глаз, сколько по инерции: не пропадать же апельсинам, хурме и оливковому маслу. Трудилось тут около двадцати человек, и не более половины из них спускались по службе под землю, прочие держали в компьютерах вовсе не данные о кубометрах вывезенной в Лигурийское или другое какое море земли, а вот именно что об апельсинах. Такой материал содержался в файлах Игоря Васильевича Лукаша, лжебастарда императора Павла Петровича, как он в душе себя называл, не ведая, что одного Димитрия в российской истории уже некогда объявили лжесамозванцем.
Игорь Васильевич был жертвой происхождения, о котором отчего-то знали все вокруг. Он учился во втором классе, когда проведал, что состоит в почти прямом родстве с только что коронованным царем. Это испугало родителей: отец, настройщик роялей, любил закладывать за воротник по-крупному, болтал где не надо о родственных связях, потерял клиентуру, наконец, был насмерть сбит грузовиком, притом, как понял позже Игорь, даже без команды свыше, ибо давший такую команду отправлен был бы под следующий грузовик. С мальчика стали сдувать пылинки, берегли как зеницу ока, но сверстникам было пофиг, они-то все думали иначе про зеницу ока и как раз норовили дать в глаз. Сколько он ни сторонился опеки и драки, но и того и другого получал больше, чем хотел.
Сейчас ему шел тридцать седьмой, специальностью его еще не так давно были мандарины бестревожной и ленивой абхазской земли, но возможностей карьерного роста без переезда в Сухуми не было никаких, а тут еще и абхазский язык оказался трудней китайского. В поисках работы он натолкнулся на быстро монополизирующую рынок итало-греческую фирму, заполнил анкету и был принят на службу вечером того же дня в качестве менеджера по королькам, или же, как их называли здесь, моро и сангвинеллам, они же красные апельсины, всем известные благодаря кинофильму с Аль Пачино. Уже через несколько дней он сообразил, что дело не в том, что кто-то захотел с ним полимонничать, а вновь из-за прапра и так далее дедушки. И так же скоро понял, что владелец фирмы следит за ним в оба и не отпустит от себя живым. Ласкарис при первом же разговоре намекнул, что ему приятно иметь среди сотрудников родственника, пусть и дальнего, высочайшей особы. И прозрачно намекнул, что при случае со стороны Игоря Васильевича будет правильно лоббировать как апельсиновые, так и масляно-хурмовые интересы фирмы, и это положительно скажется на премиальных менеджера. Воспоследовал незамедлительный аванс в двадцать империалов, за которые при обычных обстоятельствах он работал бы месяц. И пришлось… лоббировать.
Возможность появилась в тот день, когда Ласкарис получил право именоваться поставщиком двора, Игоря пригласили на Кузнецкий мост для беседы на минус шестом этаже и вовсе с ним там не о сангвинеллах говорили. Игорь пошел плести небылицы, но вскоре понял, что ненароком попал в старинную русскую ситуацию: «не ври, а то проговоришься». Потомок византийских императоров реально готовился к захвату российского престола.
При второй встрече на минус шестом, произошедшей опять не по его инициативе, попросили, во-первых, успокоиться, во-вторых, не волноваться. Это очень хорошо, что такой надежный и преданный сторонник интересов своей семьи трудится в логове врага, родина оценит его самоотверженность, предоставит и льготы, и медицинскую страховку, которую по условиям хорошо известного на Кузнецком мосту контракта господин Ласкарис господину Лукашу не оформил, да и не требуют от него ничего, кроме верности царю и отечеству, ну, некоторой информации о происходящем в фирме и особенно в особняке, который Москва, так не привыкнув к арабскому посольству, не желала называть иначе, нежели «дом Берии». Не за эти услуги, а в знак признательности за сотрудничество ему вручили двадцать империалов, однако, в отличие от тех, что заплатил Ласкарис, тут его обязали расписаться. В итоге об этой сумме пришлось доложить Ласкарису. Тот против ожидания остался доволен приобретением двойного агента. А что делать было Игорю Васильевичу? Деньги он взял. Он не был скуп, в отличие от родственника, имел расточительную страсть, о чем речь ниже, но что-то ведь должно быть в жизни человека и для радости.
Страстью его была не самая страшная из карточных игр — голливудская канаста. Будучи коммерческой, игра не грозила сумасшедшим проигрышем, хотя при невезении без зарплаты оставить могла. Казино как таковые царь запретил, но оставил клубы по интересам, где по небольшим ставкам коммерческие игры разрешались, — в итоге ничего, кроме денег и времени, он не терял. Правда, из-за карт он был дважды был разведен и платил алименты, но справиться с собой не мог, лишь ограничил себя игрой только по субботам, радуясь, что вторая и третья зарплата поступают уже без необходимости платить на сына и дочку алименты.
Однако бездельничать Игорю Васильевич работодатель не давал, в бездельниках он держал пока что только сыновей, да и то скорей младшего, раздолбал Христофора, поселенного под Москвой, откуда было далеко и до Корфу, и до Ласкари, и до родной, но нелюбимой парнем Тристеццы. Ничто подобное не светило менеджерам, и Лукаш с утра до ночи перемножал ящики апельсинов на упаковки оливкового масла. Вести дела с одним лишь Кремлем фирма не могла, там не съели бы и десятой части того, что продавала в России вставшая на две широких ноги фирма, поэтому оптовые покупатели с московских рынков были в офисе желанными гостями. Понятное дело, итальянцы в Москве торговали своим простонародным товаром, больше овощным луково-морковным, и грек им не мешал, от цитрусовых же Ласкарис умело оттеснил всех, и даже киприотам любой национальности он был несколько неуютен. Поэтому в услугах и товарах фирмы нуждались прежде всего многочисленные московские рынки и магазины не из дешевых. Полгода уже трудился Игорь на обоих хозяев, когда припожаловал в фирму восточный человек, отрекомендовавшийся как Сурабек Садриддинович Эмегенов, представитель компании фруктово-овощного бизнеса «Арзами», фирму чрезвычайно заинтересовали… ну, ясно, всякие хурмы. Так и не сумел проверить Лукаш нигде — на каком слоге ударение в этом слове. В его жизни все пахло изрядной хурмой. Про то, что арзами — сорт абрикоса, он знал, но абрикос абрикосом, а все равно та же хурма.
Сурабек Садриддинович, не бравируя излишней приверженностью к исламу, пригласил уважаемого менеджера обсудить условия сделки в хорошем таджикском ресторане за Пресней, «Шабада» называется, нет, суббота ни при чем тут, шабада — это легкий ветерок, прохладный ветерок от благословенного пророка, мир ему и благословение.
Ну, пошли, даже ехать никуда не надо было, только зоопарк обойти. Заняли столик на двоих, таджик был в курсе меню, смотреть в него не стал, а быстро продекламировал официанту в тюбетейке и халате длинный заказ. Тот исчез и через секунды возник у стола с липкой бутылкой, на этике которой под потеками сахара читалось непонятное слово «Гиссар». Таджик, сделав умиротворенное лицо, поднес пальцы ко лбу, губам, сердцу, провел двумя пальцами вокруг рта, мысленно поминая пророка, и сделал вид, что принесенные пиалы для вина и первая легкая фруктовая закуска не интересуют его вовсе. Потом сбросил из пиалы первые капли и выпил за здоровье — ну да, конечно же, за здоровье господина Ласкариса и процветание его фирмы.
Приканчивая бутылку, Игорь не выдержал и пожаловался, что слишком сладко. Не удивившись, абрикосник сделал жест. На столе появилась бутылка, полная крепчайшей настойки, вроде как на женьшене. Пришлось пить, чтобы смыть дикую сладость «Гиссара», да заодно и бараний жир. Помогло, но скоро стало развозить. Таджик зорко следил за ним, ничего больше не пил, съел, чавкая кровью, почти сырой бифштекс и незаметно перевел разговор на личную жизнь Игоря, на разводы, на детей, на слишком большие алименты, о которых Лукаш вроде бы не докладывал и уж точно на них не жаловался. А тут еще воспоследовал тост за государя императора Павла Второго, не выпить было нельзя, и стало так хорошо, что уже совсем нехорошо.
Прекрасно все знал таджик и насчет прадедушки, и насчет греческого императора. И ничего такого противозаконного не предлагал, он считал своим долгом выказать почтение господину Лукашу в размере восьмидесяти империалов ежемесячно, о да, конечно, половина уйдет на алименты, понятно, но и вторая половина все же будет некоторым дополнением к жизни российского менеджера, у которого жизнь уж точно не рахат-лукум.
Короче, все кончилось еще одной негласной зарплатой, притом вдвое большей, чем две предыдущих, вместе взятых. Алиментов он отдавал половину официальной зарплаты, ему в итоге оставалось чуть не две тысячи целковых, а это много, даже если проигрывать по триста таковых каждую субботу, что непросто, можно ведь иной раз и выиграть, хватит на все удовольствия и на жизнь останется.
Правда, приходилось говорить всем троим правду: каждому о двоих других, поступать иначе он не рисковал. Вдруг да забудешь вранье, ну а если чего ты не знаешь, так тебе о том не сказали, ты не виновен. Хватит и того, что про туннель наврал, а оно сбылось. Так многое можно наврать на свою голову. К тому же о мусульманском штабе он знал мало, его туда не звали. На такую печаль пожаловался он Кузнецкому мосту, там быстро сообразили и попросили рассыпать вот этот совершенно безвредный порошок на ящики с хурмой, а вот этот — на моро и сангвинеллы и дальше пусть вообще забудет. Игорь сделал что велели, потом доложился Алексею Павловичу Выродкову, известному родственными связями с боярским родом, пострадавшим во времена опричнины, своему начальнику по службе, а несколько позже и Сурабеку, когда тот появился. Сурабек помрачнел, но намекнул, что волноваться не надо.
Игорь так и жил, служа трем господам, играя в канасту, путаясь с девками и ни у одной не задерживаясь на ночь, ибо знал от обеих прежних жен, что порой говорит во сне. Он понимал, что идет, словно по мосту Сират, тонкому как лезвие меча, хоть и не уверен был, что в его случае этот мост ведет именно в рай. Порошок был наверняка радиоактивным маркером и привел государственников к логову мусульман, но вольно ж Сурабеку оставлять информанта без контакта, а коли так, то мог бы прийти и раньше.
Он не был предиктором ни в малой мере, всего лишь понимал, что худшее всегда еще впереди. Так и оказалось, когда за персиками и прочей, ну да, хурмой, хурмой всякой, заявился пообщаться с ним лично миллиардер-цыган Полуэкт Мурашкин. Ясное дело, все кончилось тем же самым.
Почти тем же самым.
Полуэкт нашел возможность встретиться с Лукашом не где-нибудь, а за игорным столом. И столь виртуозно проиграл ему чуть не сто империалов за один вечер, что и не придерешься. Никакого жалованья ему цыган не назначил, однако, грустя из-за проигранных полутора тысяч, повел победителя в клубный ресторан пить старинный цыганский напиток — коньяк «Наполеон». Разница по сравнению с первыми тремя хозяевами оказалась немалой: стучать на почтенного владельца саларьевского рынка и знаменитых конюшен, короче, на цыганского барона, не полагалось ни наркобарону, ни шейху, ни уж точно слугам царя. Денег в конвертах и кошельках тоже не было обещано, однако Лукашу странно стало везти в карты, причем и тогда, когда цыган близко к клубу не подходил. Лукаш выигрывал чуть ли не у любых партнеров, а когда сменил игру на куда менее коммерческий, почти азартный стад-покер на семи картах — продолжилось то же самое. Деньги деньгами, но играть-то хотелось на самом деле. Игорь прождал больше месяца, пока встретил в клубе цыгана, после очередного проигрыша Полуэкта пожаловался ему же на отсутствие смысла жизни. Цыган его мгновенно понял и как-то сразу зауважал.
Игорю пришлось завязать с канастой, с покером тем более. Цыган отправил его за бридж, где Лукаш, покуда научился играть, просадил все, что получил от хозяев за три месяца, потом выровнялся и стал спокойно появляться в клубе, зная, что если проиграет трижды, то на четвертый раз все вернет. В жизнь вернулся азарт игры, и Лукаш с вынужденным удовольствием продолжил стучать трем хозяевам друг на друга и на всех троих цыгану, который только веселился и по-дружески водил пить цыганские напитки. Он был единственным, кто откровенно забавлялся и мало заботился — кто кого в России прихлопнет. Пока что Игорь молил всех богов о том, чтобы не приперся и пятый хозяин с предложением, от которого нельзя будет отказаться. Боги пока что помогали.
…Время нынче было уже обеденное, правоверные в мечетях без восьми минут два часа пополудни начали дневной двухраакатный пятничный джума-намаз, а еще через две минуты незримая на дневном небе луна, напротив, зашла за горизонт. Ни о чем об этом не знающий Игорь Васильевич вернулся с ланча в кафе «Олень», где за соседним столиком культовый писатель Кирилл Куськов, автор бестселлера «Последний броненосец» деловито надирался и набрасывал главу из будущего романа «Жизнь птицеедов», порадовался, что в Москве нынче всего двадцать пять по Реомюру, но вентилятор все же включил, а когда повернулся к креслу — обнаружил в нем гостью, удивительной балканской и совершенно лесбийской красоты. Гостью никак не напрягало, что сидит она в хозяйском кресле. Она положила босые ноги на стол и обмахивалась распечаткой отчета по июньской хурме.
— Не тревожьтесь, Игорь Васильевич, ничего для вас неожиданного. Мы вам новых проблем не создадим.
Лукаш понял, что боги его опять бросили на произвол судьбы, которая, увы, махровая атеистка.
— Я Джасенка Илеш, специалист по системам электронной защиты господина Ласкариса.
В помещении офиса стало прохладнее, Игорь присел в гостевое кресло и уставился на безукоризненные пятки гостьи. Она пошевелила пальцами ног и почти дотянулась ими до хозяина кабинета.
— В таком случае будем знакомы. У меня с компьютером все в порядке.
— С ним-то все, а вот багов по кабинету полная горсть. В ином мотеле столько клопов не бывает.
— Видимо, предосторожность со стороны нанимателя.
Гостья состроила рот до ушей.
— Которого?
Боги нынче вовсе обнаглели.
— Опять же не тревожьтесь, я их все передавила, — гостья показала кулек с трухой. — Ближе чем за дверью нет ничего, а там дрянь китайская.
— А здесь не китайская?
— Здесь тоже китайская. Но здесь ничего уже нет. Хотя, разумеется, лучше бы побеседовать где-то, где можно у стойки поговорить. Я с утра трезва как последняя сука.
Лукаш отключил мозги и вверился течению времени. С сотрудницей он мог говорить и у себя, но она наверняка была с Балкан и уж точно не была сотрудницей офиса, он видел ее впервые. Да, к тому же она лесбиянка, волосы подкрашены синим — за версту как вывеска. Греки любили брать на службу не очень строгих женщин, но эта вроде бы была по другой части.
— У нас есть допуск в Дом литераторов, тут по соседству. Литераторов там нет и никогда не было, а бар хороший.
— Ну вот и погнали.
Гостья прыжком оказалась в эспадрильях на нелепо высокой при ее и так большом росте платформе, что-то хрустнуло: вот она чем с багами расправилась. Гостья выразила готовность немедленно приступить к дегустации чего угодно, чтобы «не быть как сука».
Кивнув охраннику, с сомнением покачавшему головой, Лукаш вывел Джасенку на Вспольный. До дверей Дома литераторов было сто шагов ровно, как сказали бы в Париже — семьдесят метров, но империя европейские меры давно не использовала. В Дом пропустили без проблем. Похоже, все были кто за городом, кто в мечети, кто в маразме, кто без гроша, и последних обычно оказывалось большинство. Но деньги у Лукаша были как-никак, да и Джасенка, как сотрудница наркобарона, видимо, не бедствовала.
Присели к стойке. За бармена сегодня стоял тощий человек под два метра ростом, что-то трясший в шейкере, хотя клиентов, кроме них двоих, не имелось.
— Мне «Смерть в полдень».
Бармен послушно кивнул, смешал в высоком бокале зеленый абсент с шампанским, кивнул и подал. Глянул на Игоря.
— Пока что «Имперской». И луковку.
Нарываться на реальную «смерть в полдень» он не рисковал: как любого нормального человека по жаре от абсента его развозило, а историю с Сурабеком он помнил слишком хорошо.
Джасенка без всякой соломинки залпом выпила коктейль и подвинула пустой к бармену. Он повторил.
— Ну так лучше. К делу. Знакомо ли вам имя — Кристиан Оранж?
Еще бы не было знакомо — все уши прожужжали.
— Разумеется. Но какое это может иметь значение?..
— Прямое. Возможно, вы знаете и то, что по запросу королевства Южная Тарабати против господина Оранжа возбуждено уголовное дело?
— Там что-то электронное?..
— Формально нет. Позвольте познакомить вас с господином Кристианом Оранжем, более известным в наших кругах как Махатма Тенгри.
Бармен поклонился. Лукаш залпом выпил всю водку, про луковку забыв. А гостья продолжала:
— Формально дело в том, что Камаимаи, наследная принцесса королевства Южная Тарабати, возбудила дело против господина Тенгри, поскольку ею был запланирован третий оргазм, а господин Тенгри его не обеспечил, поэтому она требует его экстрадиции для отбытия семилетнего заключения.
Это все Лукаш более или менее знал, однако пребывания Оранжа-Тенгри в центре Москвы это никак не объясняло. Но фужер он подвинул, бармен-беженец налил столько же.
— Господин Тенгри является основателем сайта си-ай-пи-ю, союза защиты общих интересов.
Лукаш кивнул. Весь мир облетело года два назад «дело Оранжа», который слил в интернет двести гигабайт секретного материалов министерства национальной обороны Канады, согласно которым эта страна уже двадцать лет была ядерной державой. Скандал разразился не меньше, чем тот, когда Квебек разрешил употребление в пищу тюленьего мяса. Но тюлень все же не Хиросима, хотя «зеленые» и с этим не соглашались.
— Все же поясните. Для меня честь быть представленным господину Оранжу, — императорская наследственность наконец-то взяла верх в Лукаше.
— Тут все понятно. В Москве сейчас красный уровень угрозы переворота, прогнозируемый результат по нижней оценке ожидается в масштабе приблизительно двадцати килочег в первые же полгода. А дело полуголом не кончится.
Лукаш недослышал:
— Чего двадцати?
Джасенка посмотрела на него как на самого тупого ученика.
— Килочег. Килочегевар, если пользоваться официальным названием.
— Это сколько и чего?
— Ну, считайте сами. Если Че Гевара лично расстрелял, как подсчитано, две тысячи человек, то двадцать тысяч расстрелянных составят килочегу. Простым перемножением устанавливаем, что четыреста тысяч расстрелянных составят запланированный масштаб жертв переворота. Мы сообщили об этом социальным сетям, в нужный момент, а он близко, и тогда информация поступит в интернет.
Лукаш предположил, что ему это снится, ни один наниматель не предсказывал такого. Но наследственность опять взяла свое.
— Недопустимо много, — сказал он, — генофонд империи такую потерю тридцать лет будет восстанавливать.
Тенгри и Джасенка переглянулись.
— Речь уже не идет об империи. Точнее, об одной из двух империй речь идти может, но никто не может знать точно — о которой. Возможно, речь вообще идет о халифате. С точки зрения си-ай-пи-ю, тут возможен любой исход, и трудно сказать, какой менее желателен, какой более.
Лукаш задумался.
— Ну, посчитаем. Вы как считаете расклад сил в… килочегах?
— Наименьшие потери дало бы сохранение власти пока еще действующего императора. Наибольшие — победа сторонников халифата, на их стороне шахиды-смертники, жертвы будут тут практически обоюдными и равными. На всей территории империи халифат им установить безусловно не удастся, по крайней мере сразу. Хотя Файзуллох Рохбар будет стремиться именно к этому. Он, к счастью, болтлив и поэтому не у всех популярен.
— Это еще кто?
— А это ваш работодатель. Известен под прозвищем Рахат-Лукум.
— Я его знаю?
— Думаю, нет. Он наверняка уже в Москве, но едва ли на виду. Ранее конца Рамадана боевых действий он не начнет, хотя запрета на войну, тем более на джихад, в Рамадан нет.
— Кажется, зря я ничего не понимаю в исламе.
— В нем никто не понимает до конца ничего, особенно в таком, как у него, где все зависит от толкований. Родной язык Рохбара, согласно нашим файлам, фарси, — точней, язгулямский, бесписьменный, а Коран написан на арабском. Да еще, судя по многим приметам, он шиит, притом из рафидитов, что это такое, не имеет значения, они вроде кадаритов, иначе говоря, толкует законы шариата почти непредсказуемо, в зависимости от установок своего наставника, которого мы и по имени не знаем.
Игорь Васильевич выпил последний глоток и понял, что надо еще. Тенгри понял и налил.
— Еще не легче.
— Вы луковку съешьте, — впервые заговорил Тенгри, по одному подбирая русские слова. Видимо, разговор он понимал, но говорить свободно не мог.
Лукаш съел луковку.
— Ну, с нашим общим работодателем более или менее ясно. Туннель подведен под Арсенальную башню, видимо, уже достраивается бункер под Никольской. Бойцы в византийской армии контрактные, наемники, по большей части прошедшие несколько войн. Основной контингент навербован из числа оставшихся не у дел после третьей икарийской кампании.
— А откуда жертвы у византийцев? Глава фирмы вроде бы планирует мгновенный удар.
— Да, только и шейх его тоже планирует. Причем для начала именно по византийской фирме. В итоге выступает на сцену третья сила — правительственные войска. Их со счетов сбрасывать рано. Но война требует денег. И у царя их меньше всех: шахиды шейху не стоят ничего, кроме взрывчатки, а у нашего босса — кокаин эшелонами, и наемникам он платит вовремя. Это надежней самопожертвования, и если поверить, что император Константин — меньшее зло, так он и есть меньшее.
Триста граммов привели Лукаша в чувство. Гены приказывали быть на стороне царя, все же родня. Самосохранение и желание спокойной жизни предпочли бы Византию. Страх толкал к шейху. Душа звала к цыгану, о котором лишь об одном тут, видимо, только и не знали.
«Пропадай моя телега, — подумал Лукаш. — Тридцать семь лет — тоже хорошо, Пушкина в такие годы свояк застрелил».
— А больше никаких вариантов нет?
— Как будто нет. Если вас еще кто-нибудь не вербовал.
«О господи, — подумал Лукаш, — хоть про цыгана не знают!»
— А что, я один такой?
— О вас известно больше всего. Остальные кандидаты очень неубедительные. Нарышкиных слишком много.
— А это кто еще?
— А это потомки еще одного вашего сводного брата — младшего, Эммануила Нарышкина. Генную экспертизу двух сотен здравствующих членов этой семьи не произвести, к тому же вообще он, возможно, сын мужа его матери.
«Как-то мудрено», — подумал Лукаш. Он-то точно был сыном своего отца, настройщика роялей Василия Лукаша и своей матери, польской маркизы Марии Альфредовны Мышковской, тщательно происхождение скрывавшей.
— А про меня что известно?
Джасенка хмыкнула и отхлебнула:
— А про вас пять мегабайт. Вы сами того о себе не знаете, что мы знаем. Даже то, что в силу приблизительной равнородности вы стоите восьмым от престола в правонаследовании.
У Лукаша тут же заболела шея, и случилось это не впервые.
— Ну так от меня что теперь требуется? Файлы?
— Нет, ваш комп весь у меня, я же хакер, а в фирме вовсе моя система. Покуда мы с подругой… развлекались, я все сбросила на жесткий диск и отрубила сервер.
— Так что теперь от меня?
— А от вас теперь вы. Царь бежал и наследник тоже. Третья от трона — императрица, но она в монастыре на годичном послушании, заметим, добровольном, и есть данные, что постриг она действительно примет. Четвертый, точнее, четвертая пока не появлялась, но это наихудший для России вариант.
— Пять, шесть?
— Взаимозаменяемы и, кроме того, восходят к младшей линии. Дестабилизация полная.
— А седьмой?
— А это Иван Романов, узаконенный бастард царя. На Мальте много лет.
— А он чем плох?
— А знали бы вы его матушку.
Что-то такое Лукаш слышал, но деталей не помнил решительно. Выходило так, что если царь и наследник не найдутся, а императрица останется в монастыре, так ему — в императоры. Кошмар. Игорь Первый. Или второй? Нет, тот не по Москве, киевская линия не в счет, провинция нынче не котируется.
— Это непременно?
— Нет, если Ласкарис возьмет верх. Но тут в перспективе — широкомасштабная война за Константинополь. И не только с Турцией, что совсем плохо.
— А за мной кто восьмой?
— Это опять из младшей линии, некий Арсений Юрьевский, потомок бастарда Александра II. Но он нанят тоже Ласкарисом. Можете представить перспективу.
Насчет водки Лукаш все-таки решил обождать, насчет виски тоже.
— Собственно, вашей организации что надо?
Тенгри кашлянул.
— Нам надо, чтобы все знали все. Только. — Говорил он с трудом, но правильно.
Окон в баре не было, бар размещался в полуподвале. В зале не было ни души. Похоже, вымер весь дом, то ли тут было нечто иное.
Джасенка приняла непредставимую позу — балансируя на краю барного стула, закинула ноги на стойку. Лукаш со знанием дела оценил ее ноги и подумал: «Жаль, что лесбиянка». А может, не совсем? Очень бы неплохо…
Джасенка проследила за его взглядом и ласково провела пальцами ноги его по щеке. И это не было жестом насмешки, что-что, а эротику и вежливость Игорь Васильевич различать умел. Но в присутствии Тенгри ничего больше себе позволить не рискнул.
— Скажите, для господина Тенгри… тут безопасно?
— Только тут и спокойно, здесь, говоря образно, глаз урагана, никакая принцесса со своими оргазмами не полезет. К тому же в обмен на безопасность наш сайт предоставляет некоторые гарантии здешним имперцам. Не очень надежно, но как есть. Гарантии хотя бы на Рамадан, как минимум, до конца лета, в этом году Ураза-Байрам, отдача поста, — 30 августа. Еще больше месяца.
Все трое долго молчали. Внезапно Тенгри что-то очень быстро и вопросительно сказал Джасенке на таком английском, что Лукаш выделил вроде «печенье акулы». Очень бы не хотелось им оказаться. Во всех смыслах.
Тенгри, уже не разыгрывая бармена, налил всем троим чистого виски. Вздрогнули.
Зал тут же наполнился народом — не густо, но человек десять за столиками сидели, притом давно. За стойкой стояла немолодая женщина в наколке, с усталым лицом. Никакого следа Оранжа не имелось.
— Так надо, — отрезала Джасенка, — можем вернуться. Полчаса прошло.
Игорь Васильевич поклялся бы, что раз в пять больше, но решил не спорить.
Спутница, не скрывая, что ей куда лучше, чем было до визита в бар, повисла на его руке.
— Думай что хочешь, но я все знаю. — Она прижалась щекой к его шее.
— Что знаете?
— Брось на «вы». Знаю, что во сне разговариваешь и храпишь, ничего. Я не по этому делу, но иногда можно и по этому… для разнообразия. В фирме в шесть рабочий день кончается. Машины у тебя нет, но такси на Кольце — поднять руку, я уже научилась.
Все это Игорь Васильевич знал, он, как почти любой нормальный мужик, ценил лесбиянок, если те не полностью замыкались только на бабах. Эта же была обалденно хороша и соответствовала его типу женщины, даром что волосы синие. Ладно, пир во время чумы, если боги шлют пятого хозяина, так хоть какая-то компенсация должна быть. Он ее силком никуда не тащил, ну а раз она сама не против, тогда чего?
Оба были навеселе. Джасенка завела его не на шутку. Однако наличие еще одного, пусть и совсем стороннего агента влияния в фирме Ласкариса — да какого, с доступом к базе данных, — навело Игоря Васильевича на мысль, а ну как в фирме и еще работает кто-то в том же роде, слуга не пяти, а десяти каких-нибудь господ? И пришел к выводу, что, во-первых, наверняка именно так. И что, во-вторых, сделать он не может ничего, если все эти килочеги — не пшик, то шансов пережить сентябрь почти нет и надо пользоваться тем немногим, что осталось.
Без двух минут шесть он вышел в коридор офиса и обнаружил ее у ресепшен.
Она вновь повисла на его руке, на Кольце Лукаш поймал такси, но, по случаю часа пик, ехали они домой к нему на Красноярскую в Гольяново столько, что можно бы, возможно, и до Красноярска долететь. Жар страсти Игоря Васильевича несколько угас, зато Джасенка выспалась у него на плече и на подходе к дому на похужевшем русском спросила — что есть выпить. По случаю цыганских денег у него всегда было что выпить, да и не большой он был любитель на этот счет, он ценил канасту, теперь вот бридж, а еще отношения без обязательств. Заводить роман с сотрудницей ему Ласкарис заранее не запрещал, да Игорь Васильевич уже и наблюдал нечто подобное в фирме по меньшей мере один раз, когда затеяли то же самое двое с невероятными именами, но он не очень внимание обратил, его как раз Сурабек тогда захомутал. Но Игорь Васильевич всегда считал, что лучше просить прощения, чем разрешения. Даже лечился из-за этого разок. Пусть тихоокеанской принцессе он бы, увы, ничего такого не обеспечил, из-за чего теперь страдал Оранж. Однако сколько есть силенок, столько есть, а больше взять негде. Ему вообще не хотелось думать ни о принцессах, ни о царицах, ни — в особенности — о царях. Вредная это работа, судя по судьбе прапра Павла и прапрапра Петра.
Кувыркания на тахте оказались неожиданно долгими и превзошедшими ожидания и гостьи, и хозяина. Джасенка была моложе хозяина дома лет на десять, по ее энтузиазму это было заметно, но как-то не мешало ни ей, ни ему, когда требовалось — слегка пили и слегка ели, а потом начинали снова. Солнце зашло часов в девять, кувыркания закончились еще через час. Свет зажигать не стали, Лукаш зажег толстую красную свечу, что осталась еще от позапозапрошлого Нового года и позапрошлой жены. Гостья отрубилась, хлопнув перед сном фужер совсем уже не интересуясь чего, и Игорь Васильевич огорченно понял, что был это дорогой «Мартель» империалов за шестьдесят. Хотя плевать теперь на все деньги. На коньяк. Тем более на троих, четверых, нет, уже пятерых хозяев.
Стемнело, и хотя по понятным причинам на московском небе звезд иной раз вовсе нет, но Гольяново — такая окраина, что почти и не Москва, и тут кое-какие звезды в вышине виднелись, и прежде всего это была главная звезда вступающего в права знака зодиака, Льва — Кальб Аль-Асад, иначе говоря — Кор Леонис, а чтоб совсем понятно — Сердце Льва. Менее всего Игорь Васильевич, стоявший в чем мать родила на балконе одиннадцатого этажа, был лев, он уже полностью превратился в труса, который, как известно, вполне способен стать героем на глазах у толпы.
— Вернитесь, у нас не так много времени, — произнес голос в комнате.
Голый Лукаш обернулся. В комнате догорала давешняя красная свеча. На постели, едва прикрыв нижнюю часть тела, спала Джасенка, и там же сидел, спустив ноги на пол, Кристиан Оранж, так, словно он тут давным-давно и ничего особенного в его появлении нет. Очень давно потерявший способность удивляться Лукаш заметил, что сидит основатель сайта не рядом с Джасенкой, но что тело его отчасти совмещено с ней и как бы из него вырастает.
— Вы завернитесь во что-нибудь, ночью прохладно, — сказал незваный гость почти без акцента. — Все в порядке, я тут с самого начала.
Лукаш смутился.
— Да ничего страшного нет, не волнуйтесь. Все довольны, наша приятельница в суд на вас не подаст, да и заниженная у вас самооценка, как погляжу. А… вы про это. Считайте, что мы — коммунальная квартира, — то по своим комнатам сидим, то в кухню кто выйдет, то и все на ней собираются. Примерно, как сегодня в баре.
Игорь Васильевич плохо понял, но выходило так, что Оранж размещался внутри Джасенки. Получалось, не секс был нынче, а сущая групповуха, если не…
— А что, только вас двое?..
— Нас несколько больше, но, так сказать, на кухню без приглашения выходить не принято. Это очень сложно, я и сам половины не понимаю, как это действует. Но я и в таблетках ничего не понимаю, а вот пью же.
Лукаш ничего умнее не смог придумать, как предложил выпить. Оранж усмехнулся в потемках.
— Странно было бы отказываться. Пока не выйдешь, как сейчас, не достается ни грамма, все уходит ей. Мне часто появляться нельзя, вот и сижу трезвенником. А разделяться и уходить вовсе давно нельзя, руководство должно вестись из одного центра… да, можно бренди, все равно. А, вас мой русский удивляет? Еще не то выучишь, пока сидишь в посольстве.
Выпили не чокаясь. Оранжа было плохо видно. Одет или нет? Какая разница.
Призрачный, хотя и вполне плотный дух, — иначе как бы он спиртное употребить мог, — начал монолог, от которого очень быстро у Игоря Васильевича поплыла голова.
— Надеюсь, вам понятно наше общее стремление к абсолютной демократии и равенству знаний. Как считалось в прошлом, все формы тирании, противоречащие человеческой природе, противоестественны, и борьба с ними является неотчуждаемым правом каждого народа. Это было сформулировано двести лет назад и никем с тех пор не отменено. С каждой новой сменой власти, между тем, во все времена она становилась все менее демократичной: под предлогом борьбы с распадом и деградацией ценностей новые спасители человечества довели мир до торжества фашизма, коммунизма, черной библии, красной книги, зеленого синдикализма, желтой опасности и в итоге до восторжествовавших этнократии, корпоратократической клептократии и до диктатуры, прикрывающихся масками народовластия, а это, как известно, всегда приводит к нимало не просвещенному абсолютизму. Монархия, как теперь видно, вовсе не мать порядка. С другой стороны, нельзя допускать и демархии, осуществляемой по жребию, как убедительно доказывает неработоспособность современного суда присяжных. В эпоху интернета любые выборы монарха или президента подделываются так, как того хочет корпорация, интересы которой выражает монарх, президент или премьер государственного совета…
За потоком слов Лукаш уследить не мог, но понял, что эти тоже за что-то борются, и добром это не кончится. Честно если, так он предпочел бы спящего Оранжа и более-менее проснувшуюся Джасенку.
— Но мы не утописты, — соловьем заливался Оранж, — хотя именно утописты сегодня обладают настоящими ценностями и определяют направление общественного прогресса. Пока что лишь борьба с коррупцией во всех сферах доказала свою пользу, поэтому как традиционные феодально-монархические, так и присвоившие себе название демократических структуры, видя в утопистах опасность для своей жизнедеятельности, противостоят этим романтикам. Но мы не они. Мы ставим своей целью только распространение информации. Все должны знать все и обо всех. Только полная прозрачность! Красивые слова о том, что все обладают равными правами, оборачиваются полным отсутствием прав решительно у всех. Бог-ребенок запустил бесконечный волчок, забыл о нем и то ли пребывает в маразме, то ли умер от старости. Нас упрекают в анархизме. Да, если высокое право знать все и обо всех — анархия, то мы анархисты! И пусть о нас тоже все знают всё!
«Уж ты-то точно обо мне все знаешь, вуайерист чертов. Я о тебе — ничего».
Оранж протянул фужер, видимо, в горле пересохло. Лукаш плеснул. Гость вновь набрал воздуха и продолжил:
— Поэтому мы приходим к выводу, что для человечества как лучший выход возможно лишь управление им из числа законных претендентов: законно избираемый монарх в качестве, допустим, премьер-министра или главы госсовета. В силу того, что в эпоху интернета его выборы подделать будет невозможно, притом все граждане мира будут знать о нем все, они получат неограниченные возможности к борьбе с коррупцией и злоупотреблениями корпораций. Мы живем в эпоху, когда вновь ставятся памятники живым партийным лидерам. Мы должны бороться с постановкой таких памятников. Активно бороться!.. В конечном счете даже черные силы либертарианства не устоят перед правотой сокровенных истин!
Лукаш затосковал. Цыган в карты все-таки играл неплохо, хоть и мухлевал, чтобы проиграть побольше, но мозги не промывал, о лошадях рассказывал. Сурабек хотя бы не занудствовал, только все интересовался, отчего Лукаш кальян курить не хочет. На Кузнецком только вопросы задавали. Грек, в конце концов, вообще требовал только работать и до времени не возбухать. А тут еще и бороться? Однако если правда, что через месяц с небольшим — гражданская война, то придется и пятого хозяина терпеть. С деньгами ладно, и так есть, но хоть Джасенку бы оставили.
Оранж остановиться не мог, говорил и говорил, — откуда только русских слов набрался. И не очень русских. Вообще половину понять нельзя.
Но он внезапно закруглился.
— Так что, как видите, по счастливой случайности, окажись вы на троне Российской империи, это будет отвечать естественному праву каждого человека избрать вас на роль премьер-министра, или, если угодно, президента, название несущественно. И с этого дня коррупционеры начнут терпеть поражение за поражением.
— А почему начнут?
— То есть как почему? Не враги же они себе, голосовать за вас не будут. А то, что они голосуют против вас или вовсе не голосуют, станет немедленно известно благодаря возможностям всемирной сети и в первую очередь сайта си-ай-пи-ю. И мы принимаем меры к тому, чтобы это стало известно всем и каждому. Мы работаем над созданием групп специалистов по борьбе с коррупцией, создаем лагеря для подготовки. Новобранцев нашего сайта обучают испытанные вольноопределяющиеся, бойцы-волонтеры. Мы — верные слуги общества. И, боюсь, других слуг у народа нет.
Получалось, что пятый хозяин и в самом деле предлагал ему место всенародно избранного демократического царя, про которого будут все знать все, и он будет знать все про всех, и он сможет яростно бороться с коррупцией. И, как говорил кто-то в его детстве, пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Ну ладно, все про него и так все знают, и про коронки на верхних слева, и про алименты за июнь, и там еще про что, да хоть про Джасенку, — но так же и в канасту все знать захотят карты, что у него на руках. И каждый ход заранее. И вот такая хурма его уже не устраивала. Ладно бы царство или полцарства, но святое не трожьте.
— Знаете, а мы кое-что забыли, — прервал он Оранжа, — в моем кабинете Джасенка баги убрала и затоптала, а здесь ведь тоже наверняка есть. Пока сюда не пришли те самые, про которых вы рассказывали, ее надо будить. Убрать их и здесь надо, наверняка натыкано.
Оранж не согласился:
— В баре нас не замечали, здесь тоже все чисто. Ну, вижу, что вы устали. Мои строго логичные выводы поначалу всем кажутся непривычными. Но завтра суббота. Хотя уже скорее сегодня, если по здешнему времени… Я тогда исчезаю. Еще по капле, и вы тоже ложитесь.
По капле приняли. Игорь Васильевич обнаружил, что от гостя — ни следа, свеча вконец оплыла. И было раннее утро, и солнце вступило в знак Льва.
«Псу живому лучше, нежели мертвому льву», — подумал Игорь Васильевич, выбросил из головы всех хозяев и уснул, обнимая Джасенку.
XI
7 АВГУСТА 2011 ГОДА
АННА-ХОЛОДНИЦА,
3ИМОУКАЗАТЕЛЬНИЦА
Похоже, я угодил в логово оборотней.
Глен Кук. Жалкие свинцовые божки
Ей было пятьсот двадцать два, она такое повидала, что все кирпичи выплакала. Соседка-напарница была на год моложе, много тяжелее и толще, а она стояла как тростинка среди прочих. Фамилии у обеих были старинные, русские поначалу: соседка была сперва Собакина, теперь Арсенальной записалась. Сама же она шестой век как была, так и осталась Никольской. То врывались сквозь нее патриоты бить поляков, то французы ее через двести лет после того взрывали, чтобы патриотам не досталась, а она все стояла, хотя с той поры в будущем году опять должны были кончиться очередные двести лет. Но Никольская, зачатая итальянцем гордая русская женщина, понимала, что при любом исходе перестоит все на свете. Ее ровесник, Новый Свет, временно именуемый Америкой, того не видал, на что ей насмотреться довелось.
Как и под всем Кремлем, сажен на двадцать вглубь под ней было такое, о чем жителям поверхности не хотелось думать. Кто там разберется в языческих снах дохристианских глубин юго-восточного угла крепости, но страсти, бурлившие под ней самой, вот уже пять веков тревожили ее воображение. Ее забавляла и постройка мавзолея, и его разборка с последующей увозкой для собирания заново в родовом поместье Кокушкине. То ли собрали, то ли нет, Никольская и Арсенальная не знали, а их соседка посреди Красной площади, Сенатская, все никак от счастья прийти в себя не могла: на ней царь устроил смотровую площадку и с нее принимал военные парады. Собеседницей Сенатская была так себе.
В глубокую полость под Никольской вход был из неожиданного места, из колокольни Ивана Великого, короче, очень издалека. Первые пять постов нужные люди, если их можно так назвать, проходили без особого шмона. Но при переходе под фундамент Арсенала следовала лестница, спуск под все культурные слои, и тут случайным людям и сущностям пути не было вовсе. Здесь лежал мощный, молодой, всего лишь трехсотлетний скитал-скоропостижник. Скиталами, если кто не знает, именуются безглазые змеи, одинаковые толщиной по всей длине, телепаты, лучшие в мире охранники, а скоропостижниками их от века зовут потому, что кто на такого наткнется и пароля не знает, с тем все будет очень и очень скоропостижно. Скитала звали Петр, в честь царя, который привез его из Киммерии и поселил тут в тысяча семьсот седьмом, в ожидании того, что шведы придут под стены Кремля и попытаются пойти на штурм, тут-то им скоропостижно и будет. Однако средней степени величия шведский король, кое-кого раздолбав по Европе, решил, что в чистом поле ему воевать привычней и что незачем людей терять при штурме довольно мощной крепости, не ведая, что творит, углубился в окраинные земли, где на окраине под Полтавой сгорел как швед под Полтавой. Скитал Петр на столетия остался почти без работы, впрочем, как и его родной брат Гармодий в замке маршала Сувора Васильевича Палинского на Урале. Однако братья полагали, что придушить раз в год кого-то, кто не имеет при себе ни правильного слова, ни умной мысли, это работа не слишком тяжелая и скорее почетная.
На случай, если бы за триста лет никогда не спавший скитал заснул, за ним был туннель, упиравшийся в скалу. Кто не знал, тот счел бы, что дальше хода нет. А кто знал, тот отлично понимал, как через нее пройти. Но тут не время на этом подробно останавливаться, ибо в мире же наступил вечер тридцатого лунного дня, и евреи завершили обряд Авдала, испив благословенное вино и вдохнув последний раз запахи бсамим — корицы и гвоздики; и наступил последний день перед постом Рамадан, правоверные совершили намаз аль-магриб, при этом шииты, следуя завету аятоллы, прокляли Абу Бакра и Умара, и простились им все грехи до утра; город Минск отметил сто семьдесят первую годовщину того дня, когда не вполне законный император, брат законного императора запретил употреблять слово «Белоруссия» и тем самым осквернил собственный коронационный титул; счастливая южноафриканская коммунистическая партия встретила свою девяностую весну; а еще весь день в Москве было тепло, облачно и противно.
Мало кто умел обойти скалу, точнее, знал, что скалы тут нет, а есть наваждение, то, которое раньше считали мороком, а теперь называлось это твердой голограммой, настолько твердой, что можно было голову об нее разбить. Но кто умел, тот мог видимость выключить и пройти в дежурку, где пятый век сидел дьяк Иван Григорьев сын Выродков, горододелец, человек знаменитый, построивший крепость Свияжск и за то казненный опричниками. Немолодой дьяк был чрезвычайно лениво удушен и так долго мучился во рву, куда его бросили, что явившийся за его душой ангел смерти Самаэль не смог решить: естественна эта смерть, насильственна или вовсе тут о ней говорить рано. В первом случае он пришел сюда по делу, во втором зря тревожился, в третьем рано было говорить, кроме того — всегда успеется. Ангел решил переждать, но подобные проблемы от опричников валились на него кучами уже много лет, опричники работали плохо, и про дьяка все забыли. Не сумев пристойно умереть, он, как опытный зодчий, перебрался под ближайшую башню, согласился пойти в напарники к духу башни, итальянцу Линкетго, три года тому назад они в тесной компании отметили условный пятисотый день рождения дьяка, попили, поели, потанцевали и занялись прежним делами — соблюданием и наблюдением.
Многие столетия абсолютной тайной Кремля был способ его защиты с помощью испытанного штата оборотней-долгожителей, в том числе так называемых множителей, способных превращаться в толпу и в армию достаточно большого ограниченного контингента. В спокойном состоянии такой, условно говоря, человек являл собою тучную и мускулистую личность со здоровым аппетитом и хорошим характером. В раздраженном или усталом он превращался в три-четыре человека, схожих, но не абсолютно идентичных прототипу. Чем в большем числе тел располагалась личность такого оборотня, тем индивидуальней становился каждый и обретал новое качество, во всех своих действиях подчиненное старинному принципу «все как один». Гибель одного из тел не влекла за собой гибели прототипа — собравшись в одно тело, прототип терял, к примеру, ноготь, волосок или кусок кожи и не более: чем сильнее были способности, тем меньше был урон изначальному телу. Оборотни этого типа всегда были очень редки, не более десятка на поколение, однако обычно они играли заметную роль в истории. Наиболее известным оборотнем такого рода являлся, например, знаменитый Ли Сы, главный советник императора Цинь Шихуана, каллиграф и скульптор, оставивший сохранившийся до нашего времени «Автопортрет в парадной форме», более известный как «Терракотовая армия».
Казнен Ли Сы был почти единственным способом, которым таких, и не только таких, оборотней столетиями казнили враги и завистники, — он был распилен деревянной пилой на главной площади города Сяньяна. Во времена его жизни, в третьем веке до нашей эры, не существовало надежных письменных руководств для оборотней. Многими столетиями, методом проб и ошибок, идя на самопожертвование ради науки и служения высоким целям, передовые оборотни узнавали, к примеру, что поглощение гребня черного петуха в новолуние дает возможность волколаку вместо человека или волка превратиться в рыбу лаврак, именуемую иначе морским волком, и уйти от преследования в глубокие воды океана, а когда опасность минует — уже вне зависимости от фазы луны — проглотить близ берега заранее припасенную под плавником перламутровую пуговицу из раковины черноморской устрицы, выточенную одноглазым мастером на Деволановском спуске в Одессе — и немедленно стать человеком. Разумеется, всегда имелся риск пострадать в любом теле, лишь редчайшие оборотни-множители были относительно защищены от случайной гибели врожденным иммунитетом. Но страшно подумать, сколько энтузиастов погибло, прежде чем возникла одна-единственная конечная для всех оборотней подобного типа формула. Лишь к началу XX века множество самодельных учебников были сведены в один, известный под названием «Учебника Горгулова-Меркадера», или в просторечии — «формулы джи-эм».
Учебник несколько раз дорабатывался и обрел последнюю редакцию в декабре 1940 года, когда, сведя все версии воедино, знаменитый впоследствии оборотень Дионисиос Порфирнос с ведома премьер-министра Иоанниса Метаксаса сумел через Лиссабон добраться в Нью-Йорк, где получил работу по специальности и уже в августе 1942 года под руководством иного по специализации, но тоже оборотня генерала Дугласа Макартура высадился острове Гвадалканал и захватил японский аэродром. Под его руководством он провоевал четыре месяца, после чего был отозван в так называемый институт оптимизации политической истории, располагавшийся в те годы в Скалистых горах, и до самого выхода на пенсию работал там в качестве руководителя сектора трансформации, неоднократно дорабатывая свой учебник, воспитывая все новые и новые поколения учеников, ведя научную работу, периодически посвящая время полевым операциям, наподобие проведения марша протеста от побережья до побережья, и многому другому, чего требовало служение новой родине. Последним его подобным делом была неудачная высадка на Кубе в шестьдесят первом году, где в единоборстве с амбициозным выходцем из Аргентины, оборотнем такого же типа, он потерпел поражение и был отозван в Скалистые горы, там в конце семидесятых вышел на пенсию, но до самой смерти в начале девяностых работал вербовщиком и инструктором. После катастрофы самолета под Нью-Йорком, где он полностью погиб в более чем ста телах, его именем был назван колледж оборотней в городе Боулдер, штате Колорадо.
Без учебника Порфириоса, переведенного почти на двадцать языков, судьба оборотней после Второй мировой войны была непредставима. Не считая немногих самоучек, чаще всего становившихся жертвами неумелых экспериментов, жизнь оборотня теперь проходила в строжайшем следовании диете, фазам луны, сароса и зодиака, причем во множествах систем отсчета и, если бы не значительное долголетие большинства представителей вида, возможно, всей этой ветви человеческого рода угрожало бы вымирание. Оборотнефобские законы, которыми с древних времен был терзаем этот избранный и во многом высший народ, упразднялись очень медленно.
Внутривидовой брак оборотней нехотя допускался в некоторых европейских странах, но абсолютное большинство государств отрицало сам факт существования вида. Лишь страны Бенилюкса и часть скандинавских признавали законными такие браки, некоторые другие смотрели сквозь пальцы на регистрацию брака, лишь бы в торжественный момент пара выглядела как человеческая и разнополая. Неевропейские страны вели себя по-разному — в одних существование вида вызывало недоумение, в других оно и под сомнение не ставилось, в него не верили, в третьих державах оборотничество каралось смертной казнью, — хотя на Дальнем Востоке среди стран-изгоев имелась по крайней мере одна, чье население являло собой единственного, совершенно безумного множественного оборотня.
К началу восьмидесятых годов прошлого века наиболее мощной, открыто работающей в США на правительство организацией был «Союз оборотней Бута-Чоглоша-Освальда», чей расцвет пришелся на годы после убийства Кеннеди. Однако лет через двадцать, когда великий Порфирнос отошел от дел, когда отказался от американского подданства знаменитый Дириозавр, он же Жан-Морис Рампаль, союз захирел и скатился до уровня детективного агентства. Тем временем в России, никогда не отказывавшей в отеческом сочувствии своим детям-оборотням, они продолжали нести службу, будучи главной и надежнейшей опорой императорского трона. Притом в первых рядах этих верных слуг несли почетную службу несколько множителей, чью мощь не рисковали проверить. На полигоне в туркменской пустыне Дмитрий Панибудьласка довел свою численность до ста тысяч личностей и был остановлен стоп-словом царя: тот испугался за здоровье столь верного и ценного слуги. Дмитрий был самым сильным, но далеко не единственным из государевых слуг, и жаль только одного — о подвигах этих вернейших сынов страны знали очень немногие. Но патриоты понимали, на что идут, и были верны долгу.
Жизнь настоящего оборотня трудна. Жизнь оборотня-патриота — втройне, об этом знали древнеримские оборотни-жрецы, фламины, они спали только на постелях с грязными ножками, не вкушали ни бобов, ни плюща, ни сырой козлятины, и можно лишь дивиться — как удавалось им выжить, не имея на руках даже учебника для оборотней младшего школьного возраста.
Но ничуть не легче жизнь у современного оборотня, у которого такой учебник есть. Она подчинена дням недели по общемировым правилам, советским непрерывкам, английским двухнедельным фортнайтам, индиктам, периодам затмений, десятичным суткам, календарям шумеров и майя, знакам основного и верхнего зодиака, числу юлианских дней, прошедших со дня основания Рима, индивидуальной кислотности желудочного сока, формам аллергии, зубам мудрости, пятнам на солнце, полету птиц, индексу Доу-Джонса, долговременному прогнозу погоды и десяткам тысяч других причин. Сырое мясо индюшонка на принявшего человеческий облик волколака подействует как ложка виагры, но, если индюшонок убит метеоритом, оно превратит волколака в блеющую овечку, что и случилось по крайней мере единожды, о чем, видимо, помнит внимательный читатель. Будь индюшонок убит шаровой молнией… нет, рука дрожит и не дает автору дописать мысль. Расспросите первого же знакомого оборотня — что случится тогда. Если он менее щепетилен, чем автор этих строк, — он расскажет вам. Но заранее попросите опустить все самое шокирующее. Поверьте, так будет лучше для всех.
Прописной истиной было то, что, как совсем не все оборотни люди, так по меньшей мере некоторые оборотни вовсе не люди и в человеческом виде никогда не бывали и бывать не желали. Самым известным среди последних был в Кремле, точнее, над ним капитан отдельного полка императорских птиц, его благородие Рыбуня, ныне гиацинтовый ара, в предыдущие годы кобель служебно-бродячей породы собак. Эти в обитель под Никольской не спускались никогда, отчасти из-за клаустрофобии, отчасти из-за того, что основной контингент оборотней чаще всего был озабочен чисто человеческими нуждами — неумелостью жокея, отвратительным вкусом ихтиозавровых копролитов, неполучаемой третий год путевкой в Окочуринский дом творчества, бедностью шведского стола в профессорской столовой, истощением зарослей лимонника-железницы в чаирных парках Икарии, без которого так и сиди глухим греком в Таматархе, когда хочется домой к молодым женам в Коканд, медвежьей болезнью, совершенно неприличной у носорогов, славящихся своими запорами, — обо всем таком, что ни попугая, ни пса интересовать не может вовсе.
Харитон Абрамов, престарелый и не очень сильный множитель, сидел при входе в Подбашенную палату, беседуя с дьяком Выродковым о том, как был неблагоразумен царь Иван Васильевич, лишенный ныне почетного воинского звания «Грозный». Царь, не умея отличать предателя от сторонника, приказывал Бомелию составлять яды, коими травил всех подряд. Люди, вне зависимости от убеждений, обычно погибали, с оборотнями было все иначе. Бомелий мало что соображал в трансформациях, хотя о существовании оборотней, конечно, знал. О них тогда все знали, не в пример темным векам Просвещения.
Любимым способом отравления в те времена были мышьяк и ртуть, способные убить по отдельности и оборотня, и человека, но смесь их быстро преображала оборотня в росомаху, а это едва ли было целью царя, у него такого зверья и по лесам хватало. Подобное превращение по меньшей мере один раз Выродков видел своими глазами, поскольку для этого требовалось еще и полное солнечное затмение, а оно имело место в августе 1560 года. На тот месяц как раз пришлась смерть первой жены царя Ивана, Анастасии, а пожары в монастырях Белого города совсем расстроили царя — и он пошел травить кого попало, не ведая, что дети стольника Федора Адашева от волколачихи Люпины все до единого волколаки, и получалось так, что росомахой обернулся именно кто-то из них. Кто именно — точно ни дьяк, ни больше чем на четыреста лет младший Харитон выяснить не могли. И уж точно не знали, удалось ли бедняге раздобыть цветок алоэ к кольцеобразному солнечному затмению спустя пятнадцать лет. Ведь живет-то этот зверь всего лет десять, хоть если в неволе, так бывает, что куда дольше. Может, и сумел выпутаться, интересно, по-любому свой брат перевертень, да ведь не узнать теперь. Старики грустно качали головами и наливали по чуть-чуть.
Как они все только существовали, как выжили в те времена, не только не имея учебника, но в основной своей массе не умея читать? Хотя одной из первых печатных русских книг было неплохое пособие «Како благоистесно во стьбло во краву во козу во аркуду воззверитися», и при известной удаче оборотень мог и впрямь обернуться свиньей, медведем или кем еще, но в книге не было ни слова о том — как стать человеком вновь. Да и дорог был в те времена шафран из Перуджи, безбожно дорог. Он и теперь дешевле не стал, — старики снова качали головами и снова наливали по чуть-чуть. Дорог нынче шафран, дорог. Не укупишь.
Линкетто, как обычно, дремал в стене, выставив из нее длинное ухо и порой высовывая морду, чтобы вставить слово-другое на правах старшего. Он считал царя Ивана мальчишкой, к тому же бастардом, не только что не Грозным, но даже и не Васильевичем. Характер у итальянского «домового со знаком минус» был как у престарелого рыжего у ковра: шутливый и глуповатый, все шутки его были допотопными и чаще всего непонятными, да еще он был и обидчив. Не будучи человеком ни в малой мере, он позволял себе любые выходки по отношению к людям, но их здесь бывали единицы, зато множество приходивших сюда оборотней ставило его перед дилеммой: либо заткнуться, либо крупно наполучать по ушам. Множителей он вообще боялся, а Харитон, хоть и был всего-то способен разойтись в двадцать особей, навешать мог бы ему прилично, и дьяк его не удержал бы: не было у царя верней слуг, чем служивые оборотни. Во все века не было.
В тот вечер дня урбат, или йом шаббат, или гарагай зургаан, что то же самое, и это подтвердят в любом обществе армяно-бурятско-израильской дружбы, с восточной части неба заструился изумительной красоты поток Персеид, сиявший доброй сотней вспышек каждый час, притом настолько ярких, что ими просверкивало даже каменное небо подземелья Никольской башни.
В подвал сегодня собрались многие. Повидаться с братом, Романом, которому полковник Годов на сегодня дал увольнительную, с соблюдением всех мыслимых предосторожностей пришел Антонин Сердюков, вынужденный уж который год торчать в евнухах при дворе таджикского шейха. Братья сидели за дальним столиком с огромным графином воды, которую здесь брали из колодца под Арсенальной башней, — почвенные воды почти во всем мире были для оборотней безвредны. Роман, как более свободный, пил воду и ел мелкие орешки просто так, Антонин-Барфи деятельно поглощал плоские персики «пань тао», доставая их из холщовой торбы. Именно эти плоды позволяли ему и собой побыть сколько-то времени, и легко вернуться в образ евнуха — для этого всего лишь надо было проглотить еще и косточку. Подумать только, ведь столетиями о самом существовании такового плода на Руси не догадывались. Открыта эта формула была еще в древнем Китае, но в европейский учебник внес ее именно Порфирнос.
Евнух удалился от Саларьева по уважительной причине — он пожелал совершить обряд уединения в мечети, обряд благодатный и дарующий покой душе «временного мусульманина», каковым считал себя оборотень. Причем он уже настолько сильно вошел в роль, что стал набожней и ревностней многих природных мусульман. Поститься вообще-то было рано, то ли отследят нынешней ночью на небе астрономы настоящее новолуние, то ли его еще сутки ждать, но шейх отпустил слугу, понимая, что для евнуха духовная сторона поста важней, чем для других, ибо пост успокаивает половые инстинкты, уберегая человека от моральных отклонений.
Шейх не знал, до какой степени пост тяжел именно для оборотня. Две трети того, что предпочтительно для мусульманина в предрассветной трапезе, в сухуре, для оборотня смертельно опасно, вроде фиников, сорванных во время третьей четверти луны при хамсине, тяжела оборотню была нежелательность кукурузы и картошки, обстоятельства могли довести его до того, что единственной разрешенной ему пищей осталась бы гречневая каша, а из напитков — дистиллированная вода. Роман понимал, какой предстоит Антонину август, — и с одобрением смотрел на то, как брат поглощает персики. До сентября это был его последний выход из роли, а что там будет в сентябре, когда, как все уже понимали, грянет битва трех, то ли четырех, то ли еще большего числа воинств за Третий Рим, что там будет — неизвестно, но, без сомнения, не персики.
За длинным столом посредине палаты коротали выходной несколько личностей, на которых, без сомнения, разрешил себе разделиться ради отдыха Дмитрий Панибудьласка, две дамы из числа малоизвестных, впрочем, каких малоизвестных — сидела тут Варвара, жена известного олигарха Джейсона Аргонавта, с камеристкой, но скорее всего не они это были, а какие-то лисы-кицунэ из царской охраны, никто не вникал, еще — собравшаяся в единственное тело Катерина Вовкодав, а рядом с ней Платон Юдин, юноша лет примерно двадцати двух с застывшей маской боли на лице. Немного присмотревшись, можно было понять причину того, отчего парень страдает. Ладони его безвольно покоящихся на столе рук были подкованы. Тот, кто сотворил над ним это изуверское действо, без сомнения, знал, что делает. Видимо, оборотень, пребывая в шкуре лошади, оказался бессилен против пары рогатин, с помощью которых его затолкали в кузницу, подковали и обрекли на мучения, способные продолжаться и после возвращения в человеческий облик. Случилось это, похоже, совсем недавно, скорее всего первого июля ближе к полудню по Москве; поймай его злые люди на час позже — иметь бы им дело с зубром, которого иди подкуй. Таким ему предстояло оставаться до двадцать пятого ноября, до следующего солнечного затмения, кольцеобразного, когда только и сумеет хороший кузнец снять подковы с него, вновь обернувшегося конем. После подобных накладок любой оборотень начинал особенно сторониться того, что великий учитель тактично назвал «ситуативным конфликтом». Можно было спокойно держать пари, что больше парня в конскую шкуру овсом не заманишь. Правда, пари было бы проиграно, но об этом другой раз в другой книге.
Помимо них за столом обнаруживался тощий мужчина средних лет с ежиком начавших седеть волос, сильно напоминавший волка или волколака, не бывший при этом ни тем ни другим. Завсегдатаи московского ипподрома знали его как букмекера по прозвищу Тюлька, не совсем обидном, ибо служило оно уменьшительным от его подлинного имени Пантелей. Кроме букмекерской конторы принадлежал ему там же и солидный ресторан «Перекуси», выросший из крохотного бистро, привезенного с Брянщины в те времена, когда император только еще налаживал хозяйство и производственные отношения в России. Пантелей Крапивин обижался на другую свою кличку, Тюльпан, намекавшую на пассивный гомосексуализм, к которому он вовсе никакого отношения не имел, — ну вот разве что не выгонял их из своего ресторана с порога, ибо бизнес есть бизнес, ничего личного, деньги у всех выглядят одинаково. Выросший среди волков, Пантелей понимал, что на эмоции, как и на войну, всегда нужны большие деньги. У него, при шести-то детях, какие вообще могли быть деньги? Не забыть сказать еще и том, что хоть он среди оборотней вырос, но сам-то был не по этой части. По какой — он глухо молчал, иначе бы его немедленно замучили, а потом убили. Он был высокогоричем, то есть духом-хранителем заветных сокровищ Ермака, а также уральского рода князей Высокогорских, нынче пропавшего где-то на чужбине. Что хуже всего — высокогоричем он был лишь по роду-племени, но, рано оставшись круглым сиротой, он тайн своего рода не знал. Просто ни одной. Был он при лошадях, а сюда его пригласили глянуть на подковы Платона. Увы, он мог дать только обезболивающие. Он их и дал, но ждали-то от него куда большего, и он чувствовал себя виноватым.
Наконец, за совсем отдельным столом восседал, развалясь во всю ширину скамьи, персонаж, к которому подсесть не всякий бы решился. Его звали Тархан, был он старше, чем Москва, и чуть ли не старше, чем Россия, и относился к практически вымершей еще в XIX веке породе безвидников. Название породы не просто говорило само за себя, оно информацию о безвидниках исчерпывало: своего исходного образа они сами не знали, а скорей и вовсе его не имели. Если Тархан и соглашался служить империи, то, видимо, со скуки. Он был исполнителен: понадобилось бы залезть на броневичок — залез бы лучше настоящего, того, который залезал по легенде. Не нашлось бы броневичка — изобразил бы и таковой лучше настоящего. Очень бы надо, так сумел бы изобразить сразу и то и другое, да и восхищенной толпой встал бы вокруг себя, и бросал бы в воздух чепчики, и уж вовсе в порядке импровизации встал бы вокруг толпы отрядом конной полиции. Импровизировать он любил и умел, и это иной раз грозило неприятностями. Мог бы на Саларьевском рынке сам с собой драку не устраивать, он уже соскучился и убрался оттуда, а раздухарившиеся тамошние тавлары как пошли бить тамошних гушан, так и пришлось их усмирять уже самой настоящей конной полиции.
То, что он пил здесь, не всякий рискнул бы не то что попробовать — побоялся бы понюхать. Мед, ставленый на горькой полыни, с добавкой мяты, веточек туи, киммерийского изюма, ядовитого плюща, еще чего-то и еще чего-то, он готовил себе сам и хранил в бочках очень глубоко под Боровицкой башней, там, где некогда стоял языческий алтарь бога Туйона. Получался у него не столько мед, сколько адский декокт, выдерживал он его лет по сорок, то ли больше: времени безвидник, видимо, не считал вовсе. Запах его напитка все-таки был слышен в любом конце палаты и навевал ужас, но никто с замечаниями к Тархану не лез. Пить он бы не перестал, еще чего, а угостить бы как раз согласился, вот и не знали присутствующие, что страшней, его гнев или его гостеприимство. Выглядел он сегодня так, чтобы остальных не пугать, хоть чуть не все тут могли напугать кого угодно. Но он старался не выделяться и являл собою некий гибрид Льва Толстого и Черчилля, разве что покрупнее.
Разговоры сегодня шли о войне. А не о ней, так о драке.
Военная доктрина империи полагалась почти исключительно на две силы — на шестерых множителей и на ядерный арсенал. Сто тысяч контрактников, точнее, морских пехотинцев, которых обеспечивал Панибудьласка, в определенной ситуации были надежней, чем бомбы, да и аккуратней. От них чаирные леса южного побережья Икарии в море не сползли бы, что случилось из-за вакуумных бомб, взорванных Сулейманом над яйлой. На случай же, если бы дальневосточный множитель-психопат все-таки напал на империю с территории своей давно погибшей страны, ну, на этот случай две-три мегатонны всегда имелись в виде «плана бе».
— И тогда, понимаешь, он говорит мне, мол, сдачу давай драхмами, с византинов-то, — увлеченно рассказывал один из Панибудьласка, — а я малой тогда был, про драхмы не знал, думал, он задирается, как дал ему в глаз, а он на меня третий, посреди лба, уставил эдак, и говорит: ты что ж бьешь меня, я диббук, меня бить нельзя, суббота сегодня, я тебе сдачи дать не могу, нехорошо это, ты, говорит, завтра меня бей, узнаешь, кто таков есть диббук. Я озлился вдвое, еще на три тела из себя вышел и говорю: ща во все три глаза дам, понял?..
— У них суббота не как у нас, с полночи до полночи, а с вечера до вечера. Вот сейчас у нас еще сегодня, — вставила одинокая Катерина, — а у них уже завтра. И получил бы ты во все глаза по полной.
Дмитрий удивился:
— Уж так прям и во все? Прям вот так тридцать пять тысяч диббуков, и все как один?
— А ты что ж, уже тогда тридцать пять мог? Сам говоришь, малой был…
— Да нет, еще не мог, но хоть на тысячу-то точно. Ты что ж, так считаешь, что у диббуков столько есть?
— У них нисколько нет, диббук всегда один, я видел, — от своего стола подал низкий и медный голос Тархан. Хоть он и сидел в стороне, общей беседы не сторонился, — людям он опасный, хотите, покажу…
— Верим, верим, — перебил его множитель, — а они что, только для евреев?
— Они евреи, точно, но вселиться могут в любого. Изгнать их без миньяна нельзя. Такой как вселится в союз русского народа…
— Прямо во весь союз?
Тархан осуждающе засопел и отхлебнул из кружки. Запах в комнате загустел.
— Да пожалуй что и во весь. Он же не нашей породы, он бесплотный, скорее душа, чем существо…
— Стой, я же в глаз ему дал?
— А это я не видел. Может, это даже я тогда был… а, ладно, замнем.
Тархан примирительно засопел.
— Не такой уж диббук редкий, — вступил Пантелей, — у нас как подсел на тройной ординар, так от касс и не отходит. Проверяли, — нет, не жучок. Честно играет, так на так. И к «черным» не ходит, тоже проверяли, идет на потолок, но в котел не полезет. Так, сто империалов как максимум, а подсядет, так не на много…
Хотя Пантелей, как мог, упрощал слова, его не понял никто. Лошади оборотней сторонились, а тут вышел и вовсе конфуз: ипподромщик заговорил о веревке в доме повешенного, — рядом с ним двумя подковами опирался на стол тот самый несчастный Платон. Угостил, называется, парня анальгином или чем там.
— Похоже, последний раз этим летом отдыхаем, — перевел разговор на безопасную тему другой Панибудьласка, — я уже выехал контингентом на Сходню, расквартировался, там полковник наемников выявил, буду блокировать. Пока летального не санкционировал, одни световые гранаты, звуковые, все в таком духе. Но до первой боевой очереди с их стороны. А там, конечно, уже по обстоятельствам. «Гюрза», «вереск», всякое такое, чтобы армией не выглядеть, чтобы на расстояние не полагаться, а от этих в ближнем бою никакие бронежилеты не спасают…
— Ты что ж, и сегодня весь не отдыхаешь?
— Куда там, — подал голос третий Панибудьласка. — Добрая четверть в дозоре уже. Так что толком даже и не выпить.
— А что сверху говорят? — снова вставил Пантелей.
— Ничего не говорят. Там знают, когда говорить. Было бы несерьезно — не сказали бы. Было бы серьезно — тем более не сказали бы. Наше дело поросячье, ждать, что большие свиньи хрюкнут…
Катерина ткнула в бок одного из Дмитриев, глазами указывая на Выродкова, царева тиуна. Но тот умел лишнего не слышать и колол на каменном столе орехи.
Панибудьласка, понимая, что вокруг точно все свои, называл номера частей, на которые сейчас разделился, рассказывал, где есть клопы-тараканы, где нет, где хозяйку притиснуть можно, где она сама тебя так притиснет, что зуб вставлять будешь, где у противника сосредоточение, где у самого сапоги худые, — короче, рассказывал как раз то, что в редкую минуту отдыха близких к фронтовым делам кадрам нижнего звена не интересно никак. Тархан чавкал своим питьем, Антонин-Барфи мельчайшими кусочками откусывал персики. Дьяк Выродков, не полагаясь на старые зубы, растирал в ступке большие зерна бразильского ореха и сыпал сочащуюся маслом муку в ладонь Харитону.
Заговорил Платон. Ему из-за чертовых подков было не столько больно, сколько обидно: по инвалидному положению принять участия в сражении он не мог. И без предсказателя ясно, что ноябрь выдастся сырой, а зимой идти в отпуск кто ж захочет. Значит, война должна закончиться за месяц. А если к середине ноября свободных рук не окажется — его в лошадином теле и расковать-то нельзя будет. Хотя ольденбуржец — порода дорогая, на мясо не забьют и собачий корм не сделают. Авось.
— Война всех против всех. Bellum omnium contra omnes. Скатились, — он виновато моргнул. Здесь не знали не только латыни, здесь кроме русского и церковнославянского знали в основном лошадиные и волчьи, а он все-таки два года в университете проучился на классическом, когда его, как оборотня первого ранга, призвали в охранную гвардию Кремля, выдали диплом и сказали, что теперь он должен учиться есть сено, а про гранит науки пусть забудет. — С царем воюют две силы, и если соберется еще одна, переждет, чтобы все друг друга вымотали, тогда мама не горюй…
— Какая сила, сила — это мы!
Панибудьласка обиделся прежде всего за себя. В чем-то он и прав был — пять-шесть до зубов вооруженных дивизий он обеспечивал без труда. Притом холодный синтез в его организме наверняка мог дать и больше. Для трансмутации ему хватало земной атмосферы, что являлось одним из главных секретов империи.
— Отследит нашу драку этот Пак, то ли Ким, то ли как его, и весь Дальний Восток отжует.
Это было болезненно. Диктатор был оборотнем той же разновидности, что и Дмитрий, потомком древней и не менее безумной семейки оборотней. В военных кругах об этом догадывались, но, как обычно делается в этих кругах, предполагали дезинформацию и считали, что диктатор во всех своих миллионах тел голодает и пищи слаще гаоляна не знает. Отчасти это было правдой — шестнадцать миллионов тел двух полов так просто не прокормишь. К тому же как не сойти с ума, если в государстве ты один и нет подданных, можно только соседей грабить?..
Множители знали друг друга и были уверены, что ни одно цивилизованное государство на подобное войско не положится. Россия была исключением: во все века она опиралась на все самое ненадежное и держалась на честном слове. Очень редко кто поверил бы, что самое честное слово — это слово оборотня, хотя это именно так. Только оборотень знает, насколько тяжело вернуться в родную шкуру, если этого не захотят другие, прежде всего те, кто твоей же породы.
— Дмитро, а если пяти дивизий не хватит? В десять уйти сможешь?
Все Панибудьласки задумались, облокотились на стол и стали жевать мизинец левой руки.
— Э… наверное. Хотя не пробовал, царь остановил. Сто тысяч было, это ровно легион. Два легиона?.. Может, и одного хватит?
— Да ведь порубят, постреляют, на протезе потом скакать будешь, на костылях. Не то на кресле кататься. А то ведь икарийские бомбы и хуже натворят.
— Не каркай, Катерина! Государю лучше знать! Может, у него еще какое оружие, нам не доложат. Атомное тоже. Метеорологическое, сейсмическое. А Сулейман где бомбы брал? Тоже ведь у государя. Против такого византийцам не выстоять…
— Для этого греков надо в горы выставить. Или хотя бы из города выгнать.
Ухо к разговору тянули уже все, кроме разве что псевдоевнуха, все так же занятого персиками.
— Никто же не знает, когда греки в бой пойдут.
Подкованный Платон дернул щекой.
— Ясно, что до холодов — армия южная и теплолюбивая, таких в России давно не боится никто. Это с финнами плохо вышло раза два, так там нынче воевать некому, если что, один я на переговорах справлюсь. Это фамилия у меня южная, по матери-то я Турсо, осьминоборотень, так что с ними поговорю и капец. Хотя зимой, конечно, сильно могли бы навредить, тут дипломатия нужна, так ее в сорок четвертом вождь как раз и устроил, — послал в Стокгольм нашу послицу в женском виде, она сунула кому надо золотыми коллонтаями, мигом Финляндию из войны вывел.
— Что-то лишнее болтаешь, Дмитрий, — вступилась мадам Аргонавт, как жена богатого процентщика, приученная не только шибче молчать, но и других за длинный язык одергивать.
— При ком молчать, при нем? — несколько Дмитриев указали на невозмутимо жующего евнуха. — Он свой больше, чем я сам при себе, мы с ним всю балканскую прошли, да и на икарийской он моим связным был в Таматархе.
Мадам Аргонавт взглядом указала на торчащее из стены ухо Линкетто — мол, у стен тоже есть уши, одно уж точно.
— Да ладно тебе, Варвара, у него уж который век в одно ухо влетает, в другое вылетает. Ухо у него, кстати, такое же, как у тебя, государево. Знаю все про тебя, не зря ты в буфетчицах в Доме литераторов всех подряд слушала. Сижу я, понимаешь, вчетвером за столиком, сам себе анекдоты рассказываю, а потом намекаю, я ту буфетчицу очень даже…
— Я и теперь тебе врежу! — окрысилась бывшая буфетчица и рванулась дать Дмитрию пощечину. Покуда выбирала из дюжины Дмитриев, ее обратала камеристка, усадила на каменную скамью, налила в стакан чего-то из бутылочки и силой вылила хозяйке в глотку. Раздалось шипение, мадам помолодела лет на двадцать и мигом унялась.
Внезапно склоку прервал громкий и скрипучий голос Линкетто:
— Полундра! Сюда идут!
На лестнице раздались тяжелые шаги: словно шел мамонт и тащил за собой очень большой мешок. Кроме оборотней и их близких родственников войти сюда никто не мог, но вошедший был совсем не из этой породы, это был собственной персоной чертовар Богдан Арнольдович Тертычный. Вошел неторопливо, как вошел бы лев в загон со своими личными антилопами, отбирая особь на ужин. В лицо его знали практически все. А если кто не знал, то мигом понял — пришел хозяин.
Он и был хозяином. Он был хозяином любой нечисти и нежити, сила неверия в нем была такова, что, будучи некрещеным, он и без креста и без веры мог творить чудеса, да еще и доходные. Судя по тому, что появился он не в парадной части Кремля, а в подземной, интересы он тут преследовал скорее всего производственные. Черти сидели обычно в людях, хотя встречались и бродячие. Первых он называл плесенью жизни, вторых плесенью стихий. Если же ни тех ни других долго не было и мастерская простаивала, он все той же силой извлекал чертей на разделку неизвестно откуда, откуда именно — он не задумывался, а другие спросить боялись откуда, потому как всем совершенно ясно было — откуда именно.
— Всем сидеть по койкам. Ваньку не валять и не петюкаться. У кого плесень, сам выходи, просить не буду. — Чертовар вынул руки из карманов брюк.
Трудно понять, в ком тут могли сидеть черти, но если во множителях — то грибник попал на грибную полянку. Сто тысяч чертей с одного Дмитрия — об этом и мечтать невозможно. Но чертовар сделал жест именно Дмитрию, предлагая посторожить прочих. В слишком большую удачу он не верил. Скорее всего он вообще не верил ни в что. Даже когда вытаскивал чертей из вулканического пекла — не верил ни в чертей, ни в пекло, поэтому оно не обжигало. Напротив, грело: из плесени он варил мыло, и это было очень хорошее мыло. И не только мыло.
Оборотни замерли: за спиной Богдана во весь проем вставала серая масса, похожая на надувную подушку и понемногу, как тесто из квашни, начинала из проема выпирать. Тесто переливалось, и, хотя было безглазым, все знали: оно смотрит. Богдан привел с собой охрану, и охраной его был скитал Петр. Считалось — скитал слушается одного царя. А вот выходило, что не только его.
Барфи перестал есть персики. Единственный из всех, он не застыл, бросил в горло косточку и сглотнул. Расплылся поперек себя шире, обрюзг, сменил расовую принадлежность, короче, из печорского мужичка превратился в таджикского евнуха. А, ладно, все равно до утреннего намаза надо было вернуться в Саларьево.
Выродков отодвинул горстку скорлупы. В нем черти давно не селились, с тех пор как при царе Федоре Алексеевиче чертовар Никита из никониан на них охоту затеял. Никита почти триста лет лежал в Петербурге на забытом погосте, но выплаченные им дьяку двести рублей ефимками дьяк так и не истратил, считал, что пригодятся на черный день. Даже когда французы Никольскую взрывали — не истратил. Вообще-то потому, что, когда взрывают над тобой бочку пороха, не особо про деньги вспоминаешь. Ничего, помог Николай Угодник и так, верх у башни не уцелел, а икона над вратами цела осталась.
Встревожилась мадам Аргонавт. Ей, видимо, что-то было известно. Камеристка успокоила ее, похлопала по плечу, вынула из уха сережку с синим камешком, сглотнула. Закружился смерчик, камеристка сильно выросла, раздалась в плечах, и вот уже стоял на ее месте Джейсон Эолкович Аргонавт, миллиардер, из второстепенных, но очень уважаемый король искусственных удобрений и синтетического клея, почетный ктитор храма Петра Петрова, мученика Екатеринбургского, что на озере Шарташ. Вообще-то все знали, что это за камеристка такая, но во избежание конфуза он решил предстать в подлинном образе. А ну как в нем какой бес все же найдется, так не позориться же в травестийном костюме. Но взор чертовара лишь безразлично скользнул по нему и двинулся дальше.
Роман Сердюков тоже чувствовал себя не лучшим образом. Он знал оборотня Валдиса из Латвии, из которого чертовар изгнал тяжелого велиала, сварил мыло из жира, используя поставлявшийся ему бесплатно Аргонавтом гидроксил калия, снял кожу, выдубил, пустил на юфть, помнится, а бахтарму, как обычно, пустили на клей, ну, кости, ясное дело, отправили в разборку, и тут повезло: кость оказалась качественная и пошла на изготовление дорогой краски «жженая кость». При ее производстве кость выжигалась в особом, «адском» пламени, не дающем света, при отсутствии доступа воздуха, шла такая краска исключительно на изображения двуглавого орла на крыльях истребителей и пользовалась немалым спросом. Потом Богдан Валдиса долго лечил у себя под Тверью, даже выговора не дали, сектанта Виссариона в это время кто-то другой изображал. Но все равно неприятно в такое попадать. Но взгляд чертовара на братьях задержался лишь на миг и двинулся дальше.
Совершенно белый и к тому же подкованный Платон Юдин чувствовал себя хуже всех. Он лишь догадывался, кто вошел сейчас под Никольскую, поэтому боялся. Никто не взял на себя труда объяснить ему, что это вроде как визит к зубному врачу: нет у тебя никакой беды, так иди гуляй, а есть — тебя от той беды избавят да еще приплатят, чего, понятно, никакой зубной врач не сделает. Но Платон этого не знал, он успокоился лишь тогда, когда Богдан отвел взгляд и в упор посмотрел на Пантелея.
Человек, известный в лошадиных кругах как «хозяин окна», имел основания для опасений. В окно своего банкетного зала на семьдесят человек, выходившее прямо на ипподром, он насмотрелся далеко не только на скачки и на лучших лошадей и не только на безумие трибун, насмотрелся он и на холеную публику, поднимавшуюся к нему на предмет перетереть вопросы и перекурить в промежутке, и вот от этой-то публики как раз и несло за версту возможными производными чертоварного промысла, отмочно-зольными процессами, пикелеванием, дублением и жированием кож, их окраской и даже сумасшедшими деньгами, которые платят после того, как френч сделан уже «à la manière de Félix» или за что другое стильное. Он и сам бы пригласил Богдана поохотиться на ипподромщиков, да боялся, что тот чертей повынимает и уедет, а на ипподром набежит новая клиентура, захочет знать, куда делась прежняя, и тогда прощай окно в банкетном зале. Но нет, зоркий взгляд стареющего беркута, которым чертовар окидывал свои жертвы, не задержался и на нем.
Для порядку Богдан глянул и на Харитона, хотя тот, будучи множителем со стажем, боялся меньше других, ибо знал, что ничем ему страшным все это не грозит. Он бы сам предпочел попасть в клиенты к чертовару: долги накопились, зубы новые в три тела вставлять пора, балкон пора пластмассой застеклить, да и к зимней рыбалке приготовиться, два года не ездил. Но, увы, не повезло: чертей во всех его телах не нашлось ни одного.
Пришел черед вздрогнуть Катерине. Было отчего: душа ее была настолько темным омутом, что черти водиться в нем могли. Хорошо, что сегодня она догадалась собраться в одно тело, хотя из-за этого выглядела не полной, а всего лишь толстой; умножителей это была общая беда, великий Порфирнос вообще под конец жизни вынужден был не меньше чем в три кресла садиться, иначе под ним мебель ломалась. Чертовар сделал несколько шагов, присматриваясь к Катерине, щелкнул пальцами. Увы. Ни черта, извините за повторы, тут тоже не было.
Скитал за спиной Богдана выказывал нетерпение, шипел и пузырился, видимо, что-то зная такое, чего не знали остальные. Собственно говоря, все уже все знали, ибо взгляд чертовара уперся в последнего присутствующего, в безвидника Тархана, так и оставшегося при своей кружке невероятного питья.
Безвидник поднял веки, взглянул на чертовара:
— Ты не очень-то!
Он начал меняться, как Вольга из былины, стремительно перетекая из одной формы в другую и ни в какой не задерживаясь. Промелькнули образы кряжистого мужика с верблюжьей головой, морского слона, буйвола с тигриной пастью, экскаваторного ковша, старинной гаубицы, покемона с рогами и чего-то там еще, но Богдан вскинул руки, и в палате полыхнуло желтым. Безвидник грудой ветоши осел на пол. Над тем местом, где он только что стоял, извивался клубок змей, нет, осьминожьих щупальцев, бессильно сплетающихся вокруг напоминающего сточный люк щитка, из-под которого они отходили, вокруг бессильно хлопающих рудиментарных, кожистых крыльев. Все это сливалось в единый комок хлюпающей массы и норовило расползтись на полу.
Чертовар медленно, не опуская рук, двинулся вокруг чудища, словно окружая его пленкой. Дмитрий всеми своими телами двинулся следом, придерживая образующуюся пленку, которая подрагивала, будто занавеска в ванной под брызгами воды. Кто присматривался — мог заметить, как сильно резонирует эта дрожь в напряженной шкуре скитала.
Круг замкнулся. Чертовар пошел дальше, словно заворачивал сверток. На третьем круге стало ясно, что именно сверток и получается. Скатав окончательно шевелящийся ужас в нечто вроде рвущегося во все стороны ковра, Богдан опустил руку и отошел прочь. Дюжина Дмитриев подняла сверток на плечи и приготовилась нести, куда скажут.
От безвидника на каменном полу остался гибрид плохо обтесанного бревна и колокола. Если это и был подлинный вид безвидиника, то вида он впрямь не имел. Богдан удовлетворенно постучал по нему. Звук был глухой и деревянный.
— Ну, завтра очнется. Отличное мыло будет. Жидкое ктулховое. Пять процентов стоимости, пусть он получит у полковника, я дам поручение на банк.
Богдан холодно кивнул присутствующим и удалился, сопровождаем дюжиной Дмитриев, несших добычу. Остальные Дмитрии, как и все прочие, кто присутствовал, притихнув, опустились на старые места. Повисла долгая тишина, которую будто громом взорвал пустяковый треск ореха, который расколол все на свете повидавший дьяк Выродков.
— Да ладно вам, тоже событие, — сказал он, — вот когда государь Петр змея Петра привез, тогда я вправду чуть в портки не наложил…
Не сильно ошибаясь, дьяк упорно называл скитала змеем. Но что такое скитал — из всех присутствующих понимал до конца лишь безвидник, а он пока что по случаю ктулхуизгнания пребывал в отключке. Слово «ктулху» тут тоже понимал разве что подкованный Платон как осьминоборотень по матери, но ему сейчас было не до того, боль не проходила, и что там из безвидника вытащили — он не приглядывался. Его больше волновало, как бы навсегда про чертов ипподром забыть.
…Время отдыха кончилось, оставшимся Дмитриям пришлось собраться в одно тело, у прочих тоже повода расслабляться не было. Бросив безответного безвидника отсыпаться, оборотни и примкнувшие к ним медленно стали расходиться. Линкетто, итальянский домовой, втянул ухо в стену: слушать было больше нечего. Дьяк доел орехи. Междусобойчик быстро завершался. Только со стороны Арсенальной башни продолжались немолчные удары кирки: византийцы неумолимо вели свой подкоп.
Время шло обычным чередом, и с востока на запад на мир катился из Страны восходящего солнца день итинити месяца ситигацу двадцать третьего года хэйсэй. Ночь шла к концу, Алголь, звезда дьявола, глаз Горгоны Медузы, меняющая блеск бета Персея, еще высоко стояла над горизонтом, а под ней все так же сверкал и искрился поток Персеид, именуемый также слезами святого Лаврентия, но уже день независимости республики Вануату окончательно превратился в день Полной Независимости республики Сальварсан.
По народным приметам было время топить бани, парить веники из травы и цветов и смыть с себя страдную усталость. Баня, похоже, и впрямь предстояла весьма жаркая.
XII
12 АВГУСТА 2011 ГОДА
ИОАНН ВОИН
При нынешних временах престол —
это вовсе не тот подарок, который
можно дарить ребенку.
Гастон Леру. Черные невесты
В семье Ласкарисов было не без Христофора.
Он родился в год черного петуха и зеленой собаки, в год скверного начала первой икарийской войны. Аэродром в хорватском Умаге повредило землетрясением, и ни на Корфу, ни на Сицилию улететь было нельзя, мальчик родился в гостевом покое, во дворце князей Фоскарини, князь Марко почел за честь быть крестным отцом новорожденного византийского принца. В итоге мальчик оказался католиком в православной семье. Отец ни при каких обстоятельствах не стал бы ссориться с князем. В смысле престолонаследия младший сын был для него полной обузой: именно такие соправители прежнюю империю и погубили. Константин Ласкарис мало обращал на него внимание, отдал в школу первой ступени, не отпустив даже в Палермо: дети наркобаронов — самое уязвимое их место, даже если в охранниках двое громил, притом оба греки с Корфу. В результате Христофор научился относительно грамотно читать и писать на итальянском и греческом, да еще обращаться с компьютером. Еще ему преподавали рисование, арифметику, музыку, географию, историю и физкультуру, и тут он не научился ничему.
Ни в средние классы, ни в старшие барон отпустить мальчика не рискнул. Он препоручил его домашним учителям, которых поселил на вилле в Ласкари, и знать не хотел — чему они парня научили. Научили его так, что парню в шестнадцать уже пришлось лечиться. По счастью, болезнь оказалась хоть и прилипчивой, но простой, а для неловких сотрудников у Константина всегда имелась возможность сменить профессию. Он трудоустроил всех троих на одно из своих далеких предприятий и куда девать Христофора — тоже придумал.
Думать главе семейства теперь приходилось больше, чем делать. Запутанные византийские законы о престолонаследии будущему императору приходилось учитывать вдвойне. В России они были устроены проще, по майорату, но следовать законам слишком юного государства он считал неуместным. В Византии же были иные правила. Мало ли что император не был связан в них почти никакими нормами права, но это лишь после коронации, потому как с десятого века известно — коронация смывает все грехи. Но в любом самом тридевятом царстве чуть коронуют человека, так без передышки требуют ответа — кто следующий. И вот тут законы Византии с российскими не имели, считай, ничего общего. В Византии действующий император имел право сделать соправителем вообще почти угодно, любого агната усыновить и принять в соправители, тогда соправитель-то и становился прямым наследником. Но Константину об «ком угодно» даже думать не хотелось, лучше уж кого-то своего, пусть он и похуже будет.
Если императрица в законном браке рожала первенца в порфирной комнате дворца, то по рождению первенец имел право зваться Багрянородным, да еще отец-император при жизни успевал признать его соправителем, вот тут право занять престол у наследника было совершенно приоритетное. Даже если ребенок рождался в этой комнате и не был старшим — оспаривать его права было очень трудно. Но если ограничивать правонаследование столь жестко, даже если не применять его к самому себе, то получалось, что его сыновья, хоть и рожденные в законном браке от православной матери-герцогини, оба родились ну никак не в порфировой комнате. Скорее всего в Кремле и нет такой.
Петра Первого, как выяснилось, матушка родила в Теремном дворце в Кремле. Ладно, сперва надо в этот дворец вселиться, мигом его порфиром облицуем. Милое дело: разобрать Большой Кремлевский, в который пока встроен Теремной, только уважать за это будут. Константин прикупил запас порфира в Финляндии и перевез к себе в подмосковное поместье. Чтобы первым делом, как только, так сразу и обязательно в Теремном. Потому как порфирородность давала возможность наследовать престол вне майората, она фиксировалась миллионом документов, а теперь могла бы записана быть и на видео. А пока? Ну что — пока. Ну не будут первые Ласкарисы-на-Третьем-Риме Багрянородными. Ничего, как обустроим порфирную палату, все придет в порядок. Может, хоть на то сыновья сгодятся, чтобы внуков настрогать порфирородных.
И Константин твердо решил сразу после Триумфа обоих сыновей женить. Для старшего несколько невест подобрано, авось управится с таким нехитрым делом. Маргарита Гримальди давно просватана, хотя старшему говорить пока рано. На то есть византийский обычай, хорошо известный России, — смотр невест. Уж тем обычай хорош, что оздоровляет кровь династии. Маргарита, правда, и так чего-то там чемпионка мира, и очень с лица ничего себе. Младший уж точно с какой угодно управится, козел чертов.
Но сын есть сын, даже если младший, в окошко не выкинешь, как-то надо его к новой жизни тоже готовить. Два языка Христофор знал с детства, но на Сицилии и в Греции отец работу заканчивал, так вот пусть принц, покуда выздоравливает, дурак набитый недолеченный, хоть русский-то язык выучит, даже если он принц бесполезный, дубина стоеросовая, козел чертов. Константин купил поместье у города Дармоедова на Пахре под Москвой и решил, что будет младший сын жить именно там, в имении Куськова пустынь, Лукино тож. Что парень по-византийски изнежен, — ну так не весь же год в России зима. Конечно, не родная Сицилия, где больше трехсот дней в году солнце, так ведь и не Петербург, где их всего семьдесят. Но способов согреться Христофор к своим семнадцати изучил куда как много. Присматривать за ним здесь было кому, отец обеспечил пяток воспитателей. Однако следить слишком внимательно тоже было невозможно, проходка туннеля на Кремль, сангвинеллы и кокаин требовали больше внимания, чем сыновья, и младший опять пустился во все тяжкие. И то хорошо, что его с детства тошнило от кокаина. Но за всем не уследишь.
Христофор нимало не был альфа-самцом, но он не был и бетой. От него, выглядевшего даже моложе своих семнадцати, исходила густая мускусная сексуальность, но это была сексуальность махаона, еще только-только готовящегося выпорхнуть из куколки. Тех, кто был сильно старше него, она скорей всего и не достигала, не был он ни смазлив, ни хотя бы просто красив, как старший брат, — но ровесницы, посмотрев на него, через пять минут бессознательно начинали сжимать колени, а ровесники, понаблюдав за ним, начинали с удивлением начинали сомневаться в правильном выборе своей ориентации.
Патологически тяготея к полиамории, юноша не любил никого из членов семьи: со старшим братом общего языка не искал, отца так и вовсе то ли ненавидел, то ли презирал. Мать он еле помнил, она умерла в девяносто седьмом и нынче давно спала в Риме на некатолическом кладбище, что было немалой иронией, потому как младший ее сын оказался вот именно что католиком и крестником итальянского князя. По материнской линии в сыновьях Константина Ласкариса текла частичка крови генерала Александра де Богарне, которому за двести лет до рождения Христофора отрубили голову в революционном Париже. Константин надеялся, что это разбудит в сыновьях ненависть ко всем революциям. Но кровь Богарне, как с грустью подметил Константин, разбудила в них, хоть и по-разному, полное нежелание влезать в какую бы то ни было власть и политику. Старший хотел снимать кино. Ему не позволяли. Младший, судя по всему, хотел трахать все движущееся и слушать рок. Как младшему, это ему пока удавалось, хотя все хуже: поместье под Москвой, некогда купленное впрок, перестало быть таким уж совсем уютным гнездышком для кувырканий с ровесниками и ровесницами. Всем бы и наплевать на игры в сатиров и нимф, которые устраивал Христофор на куськовских прудах с приятелями и подружками не совсем законного возраста, но, когда из пруда того гляди перископ поднимется, а по тропиночке танк прокатится — как бы не рухнули все твои сибаритские декорации.
У Константина в голове между тем кипела юридическая каша. Вопрос о том, насколько оперативно сумеет он ввести в России крепостное право, решительно не давал ему покоя. По византийскому праву крестьянин, просидевший на земле тридцать лет, становился крепостным автоматически. А как с этим быть в эпоху, когда фермер и читать умеет, и считать, и, просидев на одном куске земли двадцать девять лет, махнется ею с соседом? Как-то надо все это по-умному сделать. Очень серьезна была и проблема лишения гражданских прав, которую он намеревался применить к мусульманам за их коварное нападение на его столицы, Никею и Константинополь. Ребром стоял и вопрос превращения мечетей в православные храмы. Не было ясности с евреями и буддистами, хотя ясно, что синагоги и дацаны тоже переделать придется. С институтом рабства в Икарийском ханстве, наконец. Может, перенять? В таких мыслях проходил для него день, и наступал новый день, и не было конца проблемам.
…Местная обитель, известная некогда как Куськова пустынь, как была закрыта еще в двадцатом году прошлого века, так и не открылась, ибо стены ее разобрали на кирпич. Господская усадьба Лукиных уцелела, хоть и побывала колонией для малолетних. Ее советское название «Клементъефремово» не прижилось по непроизносимости, в итоге наследник византийского престола и его принцы получили в распоряжение сразу и монастырь, и поместье, и колонию. Клиенты колонии выросли и пошли в большой бизнес, усадьба лет двадцать пустовала, и, когда владелец разрешил поселиться тут в прошлом году шестнадцатилетнему парню, тот очутился в хорошо отремонтированном, но совершенно нежилом доме на двадцать комнат, где все еще обитал дух краснознаменного макаренковского промискуитета.
Поначалу Христофор потерялся. После цветущих Балкан и Сицилии очутиться в бедной и холодной стране без моря и гор — затоскует кто угодно. Купаться можно было только в бассейне под выцветшим светло-голубым небом, а то и вовсе под дождем. От русской бани он тоже в восторг не пришел. Еда была лучше европейской-скучной, но на семнадцатом году это как-то мало радовало. Пить водку он не хотел, новые друзья отказывались пить мастику, в итоге он пил по большей части воду «Байкал», пахнувшую чем-то приятным. Христофор не знал, что это запах иперико, он же зверобой, но запах был хорош и без названия: слов Христофору в жизни нужно было немного.
Кокаин его так и не увлек никогда, хотя и пригождался, если нужно было делом занять приставленных к нему надсмотрщиков. Ни Константин, ни сам Христофор до конца не понимали еще, что в младшем сыне уже созрело зерно византийства, умеющего управляться по жизни с любой угрозой куда надежней с помощью яда, чем при помощи сабли. А кокаин — он еще надежней, чем яд.
Ни в карты, ни в кости, ни, упаси Господи, во что помудреней вроде всяких сказочных шахмат с их обратным матом Христофор отродясь играть не пытался, не мог понять — зачем, если деньги и так дадут, а хорошей погоды не выиграешь. С другой стороны, путешествий он опасался, ибо с детства боялся похищения, особенно же — любой боли, тут имелось у него слабое место. Иной раз ему доставалось от приятелей, и тут он пасовал, жаловаться было некому, плакать он стыдился, но при византийской злопамятности становился для обидчика смертельно опасен даже в самой дальней перспективе. Пока что он никого не отравил, но его преподаватель византийской истории, жаль, нынче отправленный отцом неизвестно куда, хорошо объяснил ему еще в двенадцать лет, что в Византии не только дети травили отцов, чтобы на престол взойти, но иной раз и наоборот, как поступил император Флавий Зенон Исавр со своим сыном Львом II. Конечно, Зенона потом жена живым похоронила, и пусть это дело житейское, византийское, но отравленному сыну оттого едва ли стало легче. От подобных историй желания занять престол у Христофора не прибавлялось. Но отцу на его мнение было плевать, ему нужны были потомки, он создавал императорскую династию не на год и не на век.
Спасла молодого человека от российской тоски, как и следовало ожидать, греческая гиперсексуальность и неутомимость, отягченные полной неразборчивостью. Правда, теперь он был в этом пункте умный и болеть больше не желал. Стоило ему приглядеться к контингенту местных ровесников плюс-минус, как пришел он в возбуждение крайнее, ибо почувствовал себя тем самым козлом в том самом огороде. И как-то переосмыслил обидные слова отца, который постоянно звал его «κατσίκα σας λάγνος» по-гречески, «qui si cazzo di capra» по-итальянски, в самом деликатном переводе — «ну и козел ты похотливый». Но это только с одной стороны fucking goat, а так вообще-то парень клевый.
Во времена интернета и легализованной порнухи подвиги несовершеннолетнего Христофора ничем выдающимся не выглядели. Ну, скучно было мальчику с одной девочкой. Забавлялся с двумя. Хотел с тремя, не справлялся, звал помощника, а тот, не ровен час, больше проявлял интереса к нему самому, дело молодое и византийское, далее по кругу. И пока это все происходило в поместье на охраняемой территории — да хоть всю губернию перелюби и перетрахай, отец слова не скажет. Кувыркайся сколько хочешь, плоди бастардов, меняй девок и парней в любой комбинации, принципиально одно — не вздумай заболеть или что-то сделать такое, что опозорит имя отца. Бастарды — это не позор, это как раз опора твоя: они только при тебе и уцелеют. Лишь следи, чтобы они были на самом деле твои. Нынче строго — генная экспертиза легко подтвердит, ты девку обрюхатил или кто другой. Если нагуляла пузо, так сразу выясняй — от кого. Выблядков беречь надо. Запасай выблядков. Кстати, учи русский язык, оно способствует. В койке это просто, но только не учи никого греческому, сам русский учи.
И был приставлен к Христофору необычный специалист — учетчик бастардов, профессор-бастардье, генетик со степенью и не только со степенью, большой знаток в своей области. Учитывать ему за год, что прожил в России принц, пока было почти некого, так, двух-трех, и он бездельничал, как и остальные, здесь поселенные. Христофор на кокаин его подсаживать не стал, хороший парень оказался, Арсением звали, лет ему было около тридцати, и можно было очень многому у него поучиться, конечно, не в смысле генетики, Христофор вообще не понимал, что это за наука. Зато Арсений разбирался в том, как ловчее и быстрее плодить бастардов. У него получалось, у Христофора пока хуже, поэтому принц тщательно учился. Поведением и привычками принц напоминал скорей турка-османа, чем византийца, но ужасно бы обиделся, если бы ему такое сказали. На «козла», заметим, он не обижался.
Раза два в год Христофор вспоминал о существовании старшего брата и всегда думал об одном: этот-то что молодость теряет? Под него любая ляжет и спасибо скажет. Вроде к двадцати семи две сотни подружек мог бы при себе держать. Христофор был необычным собственником: единожды переспав с кем-то, он желал иметь того в шаговой доступности на всю оставшуюся жизнь, ну, по крайности, пока не вовсе надоест с ним или с ней общаться. Пиши византийский принц стихи, желательно хорошо, по-английски и в романтическом духе, он сошел бы за нового Байрона в своей полиамории. Но он не только по-английски лыка официально не вязал и стихов не писал, он и на родных-то языках мало что читал. Из него мог бы получиться Казанова, но очень уж односторонний, общее было то, что девиц юноша перетрахал многие десятки, а залетели от него пока совсем немногие, как, говорят, и от подлинного Джакомо Джироламо. А ведь отцу-то был нужен именно производитель, а не секс-инструктор.
В кино Христофор никакой пользы он не видел, интереса тоже, разве только уж совсем какую-нибудь заковыристую порнуху, вот ее можно. Хотя чему и какая порнуха его могла научить — он и сам бы не ответил.
Понятно, что круглые сутки заниматься только любовью и Христофор не мог, он любил рок, преимущественно классический вроде пинк флойд и айрон майден, редко снимал наушники, и часто они были его единственной одеждой. Девочки сперва обижались, если он не снимал их и в интимные моменты, но потом привыкли: все равно говорить с ним было не о чем, да и говорил он по-русски через не могу. В коллективные компьютерные игры не играл тем более, полагая их чем-то вроде кокаина для очень бедных. Приличный кокаин, что известно каждой кошке, в три раза дороже золота, он героина вдвое дороже, а у отца этой белой грязи мешки, он иной раз продает товар по цене серебра, дешевле спайса. Уважения к отцовскому финансовому гению у парня не было тоже ни на грош.
Словом, искать хоть какие-нибудь привычные достоинства у принца Христофора Ласкариса пришлось бы при помощи электронного микроскопа, да и то без гарантии найти хоть что-то. Да и кто стал бы? Всерьез парня не принимал никто. Пока что.
…И вот в тот сотый год эры миньго, в тот год двести двадцатый республики, в тот год огненной векши, в тот месяц сравана, в тот месяц мордад, в тот месяц Рамадан, в тот самый второй священный день яум аль-джумаа, в день савато, в день хагас сайн федер, в день священномученика Елима, в день высылки поэта Пушкина из Одессы, в тот Силин день, когда ведьмы обмирают, опившись молока, короче, тот день, когда очередной раз великий небесный поток Персеид достиг максимальной яркости, когда Геспер перешел в созвездие Льва, в тот день наконец-то хоть одно достоинство у Христофора нашлось: он против воли стал сторожем поместью отца своего. О, конечно, ничего он не сторожил, стерегли его самого в этом поместье, но дела это не меняло, он находился на охраняемой территории близ готовой сдаться столицы. Здесь и предстояло разместиться на ближайшие недели штабу византийской армии. Да и некоторой части армии тоже не всей, а так, полку-другому. По крайней мере чуть ли самый надежный кулак своей частной армии, объединенный китайско-ирландский полк, квартировал у Константина именно в Лукине.
В том следует усмотреть перст судьбы, что именно тогда Елим Павлович Высокогорский через захолустный Ростов-на-Днепре наконец-то добрался до никогда не виданной им Москвы, побывал в «доме Берии», без удивления и без радости наткнулся на компьютерную лесбиянку, — женщин тут вообще было немало, получил у г-на Выродкова множество инструкций, из которых главной была «немедленно валить в Куськово» — и свалил по указанному адресу. Дороги он не знал и был препоручен заботам сравнительно еще молодого менеджера, который представился как Игорь Васильевич. Чем-то этот тип Елиму кого-то напоминал, но князь Сан-Донато даже не силился вспомнить — кого. Разговаривать с ним оказалось возможным почти только о хурме и апельсинах, а про это потомку тульских оружейников беседовать было скучно. Он смотрел по сторонам из пассажирского окошка джипа чероки, обращая внимание на многочисленные церкви, сиявшие куполами, свежим ремонтом и духом святости. Решительно все они были православными, это не удивляло, видимо, не зря нынешняя российская церковь приняла имя Державствующей, и номинальным ее главой оставался русский царь. Но Елим Павлович знал, что Константина заботит обряд миропомазания: тот гордился, что именно его прямой предок Феодор восемь столетий тому назад стал первым помазанным на царство императором. Принимать от нижестоящего помазание было бы неловко, и Константин Ласкарис, как знали все, склонялся к восстановлению патриаршего престола.
— Здесь часто стреляют? — неожиданно для самого себя спросил Елим. — В полицейских, в гражданских?..
Игорь Васильевич поперхнулся и на мгновение выпустил руль, но лишь на мгновение. Он понимал, что Елим — такой же двойной или тройной агент, как он, но на всех ли он хозяев работает и на тех же самых ли? Хорошо бы и на цыгана тоже…
— Да вроде бы нет, — подумав, ответил он, — даже на митингах только драка, а чтоб стреляли — вроде бы нет. Но на митингах жертвы есть все время. Режим непрерывно прибегает к карательным мерам, он висит на волоске. Тавлары, гушаны. Икаряки.
Елим подумал.
— Неужели до сих пор икарийские татары теракты устраивают?
— Грозят. На периферии. У себя они там вроде бы порядок навели, только сунуться к ним нельзя, угробили полуостров, весь курорт разрушен. На Южном берегу оползнями поселки посносило. Жалко.
— Татарские небось поселки?
— Кто ж считает, чьи? Война все спишет, с обеих сторон, если затяжная.
Елим, понимая, что спутник в курсе дела, подумал: «До холодов надо все успеть».
Что именно успеть — он не ответил бы и сам себе. Он-то Икарию повидал лично и видел большой город, сидящий без электричества, чуть ли не без воды. И так ясно, что какая сторона ни победи — войну надо окончить до холодов. Он привез деньги обеим сторонам, он знал, что деньги возит в Россию не он один. Наемников ничем другим не заманишь, но огромная страна рассредоточена так, что войск на нее не напасешься, разве уж будет где какая разруха и где какой всенародный порыв, тогда люди и сами взбесятся. А какой порыв, если одна сторона только и хочет, что бороться с коррупцией, а другая отвечает тем, что сдает проштрафившихся толпе, выпускает пар и получает передышку. В торжество же византийского православия над русским православием Елиму верилось еще меньше, он не понимал разницы, ибо мало интересовался историей вне своей семьи и вовсе не знал, кто такие патриарх Никон и протопоп Аввакум.
В одном он был уверен, в том, что у обеих сторон сил мало. И в итоге все решат такие факторы, которые предвидеть невозможно. Отец давно сказал: «Мы тех людей и знать не можем, которые главными станут». Это уже сбылось в полной мере.
Мысли скользнули на другое. В коридоре московского офиса он встретил миниатюрную восточную девушку с довольно темной кожей, видимо, представительницу какой-то индийской народности или типа того. Жаль, ничего Елим в Индии не понимал. Елим думал о девице, с которой двух слов не сказал, не знал ее по имени, но образ из головы не уходил. Женщины в его жизни играли роль весьма большую. Елим Павлович предполагал, что унаследовал эту озабоченность по линии матери, Софии Монтекастелло, представительницы очень старого и очень захиревшего дворянского рода из Умбрии. С материнской стороны родичей двоюродных и троюродных он и сосчитать бы не сумел, с отцовской, Господи прости, имелся только Эспер, седьмая вода на киселе, кабы не верный друг и собутыльник, так о нем бы можно и не знать.
Была у Елима и тщательно скрываемая ото всех — разве что не от Эспера — страсть: он западал на азиаток, по принципу — «чем восточней, тем лучше». Даже когда он узнал, что кореянки сплошь и рядом делают себе операцию, сужая глаза и наводя на них столь таинственный эпикантус — его это не смутило. Мало ли что нынче оперируют, но если что-то выглядит кошка, так оно кошка и есть. У женщины разрез глаз важен только до известной минуты, потом уже гораздо меньше. Всю жизнь его забавлял итальянский закон, приравнивавший того, кто не заплатил проститутке, к насильникам. Ему это не грозило, услугами таких девиц специально он не пользовался, хотя понимал, что среди его китайских и вьетнамских подруг есть и те, уровень нравственности коих можно было разве что на аптечных весах взвешивать.
Однако восточная девица из офиса из головы не шла. Наконец он решился спросить.
— А что, фирма завела контакты с Дальним Востоком?
Лукаш, готовый приревновать Джасенку даже к фонарному столбу, испустил вздох облегчения. Ловушка захлопнулась, зря, что ли, он весь день гостью из Непала гонял из кабинета в кабинет? Сам он на хорватскую лесбиянку запал основательно и норовил затащить ее к себе в любой день и вечер. Он даже привык к незримому присутствию Оранжа, который высовывался очень редко и только затем, чтобы попросить два раза по два пальца.
— Это вы про нашу девицу? Это не Дальний Восток, она из Непала, из народности шерпов, скалолазы которые. Цинна ее зовут, а фамилию не выговорить. Хотя нет, она, кажется, не из Непала, но откуда-то оттуда.
— А что ее занесло-то в Москву, она ведь юная совсем?..
— У них масса пищевых запретов, а растет очень мало что, редьку есть круглый год надоест кому угодно. Как они выяснили, им разрешена гречка. Но ее в мире не выращивают почти нигде, в Китае да у нас только, но Китай удавится раньше, чем с кем-то станет делиться. В других странах из гречки муку делают и зеленым зерном скотину кормят. А в горах ее как раз выращивать запросто можно, вот и решили там землю гречихой занять. Вроде бы гречиха вообще из Непала завезена к нам, но урожайность там — пшик, она почти дикая. Вот девицу и прислали гречиху в Москву изучать, не знаю, что она там изучила, но у нас все время толчется, хотя какая у нас гречиха?.. Плохо в зерновых понимаю, но вроде бы она сорняки вытесняет, что-то еще и что-то еще. Видимо, похужело с восхождениями в Гималаях, если гречневая каша потребовалась.
Лукаш ничего больше не знал, разговор про гречку был непродуктивен. Елиму девица приглянулась, а не каша.
Чероки повернул влево, на прямую и узкую трассу, которая быстро привела к глухим воротам в бетонной стене метра в четыре высотой. Охранники тут дежурили серьезные, трое смуглых, один чернокожий, еще один шкафообразный, скорее всего китаец. Китайских мужчин, в отличие от женщин, Елим побаивался, бессознательно видя в них конкурентов.
Лукаш показал пропуск и отдал китайцу большой жетон, в котором Елим опознал нечто вроде пайцзы, временного символа власти. Китаец кивнул и открыл ворота.
Поместье лежало на крутом берегу реки Пахры, неширокой, почти перекрытой ветвями старых ив. Вдоль берега через равные промежутки виднелись непонятные возвышения, будто в каждом стояла пушка, готовая обстреливать противоположный берег. Елим понял, что так оно скорее всего и есть и что скорее всего этими пушками тут дело не ограничивается. Наверняка внутри бетонного периметра есть минное поле, а скорее всего есть оно и снаружи, судя по отсутствию с той стороны деревьев.
Лукаш, заметив, куда смотрит Елим, поспешил разъяснить:
— Тут вообще-то парк просто, главное внизу. Вон там, смотрите, — он указал на нечто вроде большой и ржавой железной будки, — наблюдательный пункт. Что-то тут испытывали, но когда хозяин купил поместье — много металла в лом отправили, какую-то гаубицу с танка сняли и в музей услали на Сицилию. Старый металл только мешал, когда новые завезли. А они тут отличные, — опять сменил Лукаш тему и потянул носом.
— Кто они? — не понял Елим.
— Ну подосиновики же. Подберезовики, самое время сейчас. А, вы про то… ну, танки новые сюда завезли. Швейцарские, говорят, самые надежные. Нынешние «маттерхорны» король распродает — ему воевать не с кем. Вот покупатель и пользуется.
Лукаш указал в сторону Москвы, ясно указывая на покупателя и точно имея в виду не русского царя.
На веранду, протирая глаза кулаками, вылез загорелый парень, вся одежда которого состояла из красных стрингов и наушников, правда, на руке у него висело длинное махровое полотенце. Парень пританцовывал, присутствие гостей игнорировал, слегка кружился и дергался в ритме ему одному слышимой мелодии. Понятно, это был принц-разгильдяй.
Гости были ему малоинтересны, едва ли он помнил Елима, они и виделись-то всего раз в Тристецце в «Доминике», где парень в отсутствие отца и владельца ресторана все лил и лил в пустую чашку от мате из фляги мастику, быстро перестал соображать — где находится и был скоренько унесен отдохнуть в подсобку. Ни Лукаш, ни Елим не заинтересовали парня вовсе, мало ли стариков вокруг шляется. Следом на веранду вылез другой персонаж, тоже в стрингах, зато без наушников и в шлепанцах, заметно постарше. Редеющие волосы немедленно выдавали опять-таки сходство с кем-то, с кем — неясно, но вот сходство между Игорем Васильевичем и этим почти голым типом, назвавшимся Арсением, было почти семейным. Но выяснять подробнее было неловко.
— Мы устроимся тут? — Лукаш увел Елима на веранду, и тот был благодарен, в середине августа торчать под мелким осенним дождем — радости никакой. — Гостя устроить надо, кир Константин временно селит его здесь.
Юноша продолжал танцевать, а старший любитель солнечных ванн указал в дом, — проходите, мол, я тут не хозяин, но места всем хватит. Елиму казалось странным почти нудистское поведение здешних постоянных обитателей: не только солнца нет, но по привычным меркам холодно. В Тоскане такая погода бывает в феврале, ни один фанат загорать не захочет. Хотя Долметчер рассказывал, что в Москве зимой при минус двадцати резко повышается спрос на сливочное мороженое, так, мол, русские греются, но Елим не смог понять, в чем прикол и не издевается ли ресторатор.
В доме князь возблагодарил небо: здесь работал обогреватель, стало быть, страну населяли не одни психи. Через холл прошествовала девица все в таких же стрингах и топлес, видимо, такова была здесь униформа. Девица на присутствие новых лиц не отреагировала, зашла за ширму, вышла с высокой бутылкой и стала пить из горлышка, и был в той бутылке, судя по урчанию девицы, вовсе не лимончелло. Девица насосалась и громко рыгнула.
Со стороны Пахры опять взревела лесопилка.
— Что это?
Лукаш пожал плечами, но вернувшийся с веранды Арсений снизошел до ответа:
— Там старинную самоходку нашли, пытаются завести. Все проржавело, но вещь музейная, посмотрите непременно.
— Как — нашли, она ничейная была?
— Чему удивляться, Русь — страна бескрайняя, в ней всего не присвоить…
Девица, видимо вспомнив что-то, сорвалась с места и опять исчезла за ширмой. Что-то позвякало, пошумело, следом она все так же топлес выплыла в холл и вручила князю и Лукашу по высокому, почти до края полному стакану. Понюхав, князь пришел в ужас, это была не граппа и не водка, это была самая грубая сивуха, к тому же, судя по всему, ломовой крепости.
— Тройной крыжовень французский! Из гнилого крыжовника с черникой, пальчики оближете, — заявила девица и в самом деле облизала пальцы.
Елим мысленно перекрестился и сделал глоток. Оказалось не так страшно, хотя градусов на пятьдесят тянуло. Поискал взглядом — чем бы закусить, но поймал только презрительный взгляд девицы, развалившейся в кресле врозь ногами и кверху пузом, при ее пышных формах вид представал потрясающий, чтоб не пролить питье, князь глотнул — и потерял всякое дыхание.
За окном опять взревело, но к реву добавилась вспышка, а следом и близкий гром, начиналась гроза. Лукаш тоже выхлебнул граммов сто из стакана, и тут же стало ясно, что в Москву он уедет не скоро. Девица его не заинтересовала, — в отличие от Елима, который, намечтавшись о восточной девушке в офисе, был согласен чего уж там, и на невосточную. Девица нацедила такой же стакан «крыжовеня», чокнулась с князем, назвалась Палладой, от чего князя бросило в дрожь, и одним глотком выпила все двести пятьдесят, от чего его бросило в дрожь еще сильнее.
За окном взвывало и грохало, даже найдись тема для разговора с быстро пьянеющими обитателями поместья, слышно им друг друга все равно бы не было. Лучше всех чувствовал себя танцующий в наушниках и явно трезвый принц. По молодости в алкоголе он не сильно нуждался.
…Но и здесь все было не тем, чем казалось. Конечно, гром в небесах был настоящий, но разве уж только он. Рев, доносившийся с Пахры, был вызываем отчаянными попытками техников привести в действие двигатель старинного чудовища, террохода «Змей Мидгарда», некогда забытого нацистами под Кенигсбергом, брошенного там на многие годы на произвол судьбы и давно бы рассыпавшегося ржавой пылью, если бы не крупповская композитная броня, которой на ржавчину и через семьдесят лет оказалось плевать. Пятисотметровый поезд из множества вагонов, частью жилых, частью набитых термитными снарядами, в теории мог бы пройти под землей от Берлина до Москвы, но припоздал к сорок пятому году так же, как атомная бомба, не дойдя до испытаний. Как притащил его Ласкарис в поместье — было натуральной тайной византийского двора, но главной загадкой было то, за каким лешим греку это вполне бесполезное диво науки минувшего века понадобилось. Проходку туннеля в Москве закончили и так, а больше рыть вроде бы ничего не предстояло, и тут пасовали умственные способности премудрого бастардье Арсения, присматривавшего за византийскими происками в Куськове по поручению генерала Тимона Аракеляна. При всей неполноценности рода, Арсений Андреевич Юрьевский был праправнуком императора Александра II, все-таки близкого родственника государя Павла Федоровича. Арсений был очень редким образцом агента — он работал лишь на одну сторону и чин потому имел маленький, лейтенантский. Генерал из-за этого считал его дилетантом, но какой есть агент, такой пусть и будет. Двурушников и так хватает, тут еще ломать голову из-за чьих-то принципов — так сам толком греческий выучить не успеешь.
Паллада Димитриади, вроде бы пьяная в стельку, на самом деле была, что называется, ни в одном глазу, гостей она поила и впрямь черным ужасом с черничным запахом, но сама пила ту же чернику как без ужаса, так и без градуса. За бестолковым принцем она присматривала по прямому приказу верной и очень, очень близкой своей подруги, ну да, Джасенки Илеш, она отлично знала, чего и когда принц захочет, и кого кто тут вообще хочет, и когда кого с кем свести, чтобы самой не слишком уставать, и кому чего налить, чтоб завелся, или, напротив, чтоб утих и не откинул копыта, или кому дать какую таблетку, чтобы неплановых наследников престола не было.
Она, понятно, тоже делала ошибки. Препятствуя по мере сил появлению на свет бастардов Христофора, она полагала, что от детишек, которых штампует Арсений, беды не будет. Знать бы ей, что эти детки все как один Романовы-Юрьевские, что узаконить их генетика и царь могут в одну минуту — не валялась бы она кверху пузом в позе «лягушки табака» с таким спокойствием. Но знал бы где споткнешься — подстелил бы соломки.
Борясь за вечные ценности сайта си-ай-пи-ю, за право каждого знать все обо всех, она справедливо предполагала, что вокруг нее все тоже отнюдь не то, чем кажется. Ей, как и любому сотруднику Оранжа, хотелось все знать про всех, и это было смыслом ее жизни. Нельзя сказать, что ее вовсе не увлекала возможность нырнуть в койку с подругой или с парой-тройкой мужиков, но все же это было не главное: это — как усы у мужчины, можно с ними, но без них тоже хорошо. Что подземный поезд рычит, неприятно, конечно, ни кайфа, ни комфорта, но если он заведется, так разве ж не по кайфу будет сесть в него и рвануть отсюда хоть к центру земли, хоть куда и дальше? Зачем ей туда — Паллада не знала, но, как сторонница абсолютной свободы считала, что если человек куда захотел, так он туда имеет право, и плевать на всю грамматику.
Меньше всех иллюзий имел Ляо Силун, капитан местного полка наемников, уроженец южного тайваньского города Пиндун. Самой для него неприятной истиной было то, что, погибни в войсках византийцев хоть все наемники до единого — в число известных человечеству потерь их не впишут, армия всегда оглашает лишь свои потери, а поскольку своих граждан у Византии пока что нет вовсе — потери будут нулевыми, война окажется великой и бескровной, манага пиа ванбадан! И хуже того — потерпи наемная армия поражение, ее потери вообще объявят жертвами среди гражданского населения, а по чьей вине, так по вине того, кого припомнят, хотя бы и самого Ляо, припомнят как чемпиона паназиатских игр за девяностый год по снукеру, а дальше на столетия — катайся в истории как во всем виноватый бильярдный шар.
Ляо понимал, что и при наилучшем исходе в этой войне он получит только деньги. Завербовавшись десять лет назад в войска Тигирджана ибн Амира, приняв ислам и довольно болезненный хоть и торжественный обряд обрезания, он прошел все икарийские войны, досыта наглядевшись и на то, как заложников, за которых не внесли выкуп, татары разбирали на органы для трансплантации, и на то, как накрывало взрывной волной целые деревни татар, оставляя от жилых кварталов что-то вроде вспаханного поля, и на разношерстную армию хана, далеко не всю исламскую, к слову, и на не очень сильную, но колоссальную по численности армию царя, за сутки занявшую Диоскурию так, что жителям выйти на улицу было некуда. В этой толпе взрывались живые снаряды хана, но царю, похоже, было все равно — место десяти погибших занимали десять новых, и заняло бы двадцать, если бы нашлось место. Так продолжалось, пока наводка по мобильному телефону не оставила от Тигирджана мокрого места, — сколько ни орал он на всех языках, что сколько триллиардов миллионов ни будет брошено против него, его никто не победит и не убьет. Царю триллиарды не понадобились, ему хватило одного принца Сулеймана, чтобы ханская столица стала мирным и процветающим исламским городом, куда христиане уже и сами не рвались.
Ляо к концу войны выучил русский язык не хуже родного мандаринского, только вот годы его стали не те, чтобы опять лезть в дебри Бурунди. Как обычно делал в прежние времена, он добрался до старинной биржи наемников в Танжере, у Малой Крепости, где долго капризничал, но все же поддался уговорам византийского вербовщика, затевавшего нечто именно там, где китаец теперь чувствовал себя как дома: в России. Ляо, выполняя условия контракта, отрекся от ислама, с огромной радостью прошел весьма болезненную операцию хирургического восстановления крайней плоти, без которой чувствовал себя не столько мусульманином, сколько идиотом, был в святом крещении наречен Иваном Константиновичем, потом, как всегда, перечислил половину аванса страховому агенту в Тайбей и отбыл возрождать из праха полузабытую империю. В России не стреляли пока что. Но деньги Ласкарис платил исправно, а более верного способа гарантировать верность армии ни один полководец за всю историю не выдумал.
Царь и византиец радикально различались подходом к войне. Всеобщая воинская повинность, наследие советской власти, которую царь и не думал отменять, давала многие миллионы душ и тел, заваливая живой массой армию противника; так некогда под Москвой немцы узнали, что для того, чтобы остановить танк, нужно от семнадцати до девятнадцати движущихся лошадей и пехотинцев, а можно, чего уж мелочиться, и кавалеристов. Воевать с такой страной невозможно и не надо, главный секрет побед России всегда был в том, что какую армию контрактников ты против этой живой массы ни двинь — контрактники будут стоить втрое дороже, а гарантии победы не дадут. Мафиози не зря говорят, что мир принадлежит терпеливым. Может быть, у Ласкариса хватило бы денег и на пятикратное превосходство. Только существовал скверный вариант, что царь все-таки переломит свою жадность, залезет к себе в казну, половину наемников перекупит, в итоге наемников с обеих сторон не останется ни одного, деньги кончатся у обеих сторон, но царь останется при России, а византиец — ни при чем. Наполеону в свое время хватало отдельно и ума и денег, но не хватило умения их сочетать. Едва ли Ласкарис был умней Наполеона.
…«Что знают двое — то знает свинья». Эту прописную истину советские люди усвоили более всего из уст шефа гестапо группенфюрера Генриха Мюллера в исполнении славного актера Леонида Крейсера, за каковую роль именным указом императора он был пожалован дворянским достоинством и возведен вместе с нисходящим потомством в князья Серебряноборские. Сериал царь не только не запретил, он приветствовал появление на телевидении многочисленных сиквелов, приквелов, интерквелов и спин-оффов того же восхищавшего и его, и всю империю сериала. Никого не интересовали глубокие познания свиней в человеческих тайнах, важно было лишь то, что мысль эту выразил мудрый еврейский актер, играя роль мудрого нацистского генерала. Поскольку сериал стал одной из тех многочисленных вещей советского прошлого, которые в полной мере вписались в реалии последующей эпохи, за пределами России, где империю традиционно ненавидели буквально все, он был не известен никому. В нем не пользовались гаджетами, не звонили по мобильным смартфонам, не пожимали руку голограммам, не тыкали в контекстное меню, не перебирали имена исполнителей рэпа, даже марихуаны не курили и не занимались однополым сексом, короче, все это никакого отношения к искусству не имело. Даже если бы имело — Христофор Ласкарис все равно смотреть бы этого не стал. Давно, задолго до проклятого герпеса, он усвоил: тайна — это то, что знаешь только ты и больше никто на свете, а для этого телевизор не нужен.
Будучи совсем еще юн, он обнаружил, как выгодно при посторонних сделать вид, что твой родной язык итальянский, а по-гречески ты ни бум-бум: глядишь, такое узнаешь о самом себе и не только, что очень может потом пригодиться. С тупицы нет спроса, и ничего нет на свете выгодней, чем изображать дурака, будучи себе на уме. Не то чтобы совсем и всегда он выходил сухим из воды, герпес тому свидетельство, но по большей части — очень даже. Непонятно как догадавшись, откуда у отца столько кокаина, он совсем не удивился, языком — и то не цокнул: ухватил человек синюю птицу за хвост и держит, ну, пусть старается, перьев у нее на всех детей хватит. Христофор почти ничего не читал, но обладал уникальной способностью делать правильные выводы, минуя промежуточные логические связи, более того, иной раз из неправильных предпосылок умудрялся сделать правильное умозаключение. Если отец и впрямь сумеет восстановить прапрадедовскую империю, то не вечно же он будет сидеть на престоле. Что зеленую яблоню не надо трясти, он с колыбели знал и умел ждать золотых яблок. Что старший брат, Василий, этого места боится как огня, Христофор знал лучше всех, с ним не надо было бороться, напротив, нужно было помочь ему отбрыкаться от любой свадьбы, потому как меньше племянников — меньше головной боли, в этом принц был сам с собой твердо согласен.
Если Константин Ласкарис был византийцем до мозга костей, то Христофор византийцем был до последнего завалящего гена. Ему не требовалось почти никакого знания истории, чтобы ощутить свое право вершить судьбы полумира. С дураками не борются, от них ждут, что они сами глупостей наделают и приключений на свою задницу обеспечат выше крыши. Но этого ждут от дураков только умные. А очень умные сами прикидываются дураками, чтобы с ними не боролись. А то, что вокруг почти все считают себя умными, таковыми не являясь, мальчик понял раньше, чем научился тыкать в то самое контекстное меню. На то, чтобы основать династию, отцовского ума хватит. Все остальное упадет в руки Христофора само. Он даже решил поберечь старшего брата, не виноват он, что старший. Хочет снимать кино, вот и пусть снимает. Отцовских денег все равно за три жизни не истратить.
Втихую играя то в «Айон», то в «Красный террор», он стал уделять внимание не особо популярной обучающей программе «Агамемнон», с чьей помощью выучил сперва английский, а теперь вот уже и русский язык, о чем не знала ни одна душа. Поймал бы кто — ответил бы, что сто английских слов необходимы, чтобы знать, куда курсор наводить, а русский отец велел зачем-то учить, будь он проклят, и тут уж неважно кто проклят — отец или русский язык. Да и вообще, папа, non scopare il mio cervello. Заставил, так не цепляйся, не мешай, говоря понятным итальянским языком, mην σκατά τα μυαλά μου, что то же самое. Do not fuck my brains. А что κατσίκα, так сам такой.
Пока шел дождь, пока гости кто упившись, а кто пьяным прикидываясь, спали в холле, босой принц танцевал и прикидывал — каких бы еще глупостей натворить, чтобы совсем недотепой считали. Длинный летний день не собирался кончаться, небо не очищалось, и сверкавший на нем поток Персеид не светил в европейской части России никому. Даже сегодняшнее полнолуние сулило ночь охоты только самым сильным из волколаков, таких, к примеру, как санторинский псевдоупырь Ликоэргос, по поручению Ласкариса-старшего присматривавший за главой китайских наемников с точной инструкцией — когда и каким способом капитана следует устранить. Санторинцев Константин боялся, но понимал, что иной раз ручной мертвяк незаменим. Он вообще мечтал взорвать или затопить Санторин, но сейчас на такие мелочи отвлекаться не мог.
Тем временем дождь усилился. Императорская телевизионная башня на Теплостанской возвышенности окуталась слоистыми тучами, громыхнуло раз, другой, и на столицу повалил град, огромный, будто грецкие орехи или мячи для гольфа, пробивая крыши домов и автомобилей, лупя прохожих, останавливая жизнь горожан и смиряя патриотизм митингующих сторонников правозащитника Льва Подневольного на бульваре у Царе борисовских прудов, а также тех, кто требовал его ареста по делу о хищениях в Сырборульяновске, шедшем на площади Поклонной горы.
И тогда над головой Льва Подневольного раскрылся большой зонтик, и он продолжил орать про коррупцию. Он не знал покоя и больше ни про что говорить не умел.
И тогда наркобарон Константин Ласкарис с удовольствием зачеркнул еще одну дату на перекидном календаре. Это успокаивало.
И тогда нумизмат Яков Меркати с удовлетворением записал число из четырех цифр: именно столько золотых никейских гиперпиронов имелось сейчас в его казне. Он был спокоен.
И тогда шейх Файзуллох Рохбар, с благоговением приготовившись к предвечернему намазу аср, коснувшись мочек ушей, произнес тахбир, восхваляя Аллаха. Он тоже был спокоен.
И тогда генерал Тимон Аракелян со вздохом принял таблетку транквилизатора. Он был старался по возможности не волноваться.
И тогда миллиардер Полуэкт Мурашкин, вовсе без необходимости выйдя к любимому гнедому жеребцу-телепату фризской породы, не сказал ему ничего.
Оба они вообще ни о чем не беспокоились никогда.
XIII
19 АВГУСТА 2011 ГОДА
МИРОН-ВЕТРОГОН
Закон средних чисел, если я правильно
понимаю, означает, что шесть обезьян,
будучи подброшены вверх достаточно
высоко, должны примерно так же
часто шлепнуться на спину, как и…
Том Стоппард. Розенкранц и Гильденстерн мертвы
— Опять, как двадцать лет назад. Опять, день в день.
Тимон Аракелян поскреб пальцем по стеклу с видом на площадь. Уже лет пятнадцать на ней торчал камень, с обещанием воздвигнуть здесь монумент в честь четырехсотлетия дома Романовых. Знаменитый грузинский скульптор Вахтанг Ананидзе вроде бы работал над памятником, но про его установку не было ни слуху ни духу: все понимали, что дело это частное и платить император за такие игрушки не намерен.
Редкий гость в этом кабинете, старший брат генерала, Ромео Игоревич Аракелян, с трудом цепляя коротко остриженными ногтями шкурку, чистил красный апельсин. Кожура съеденного ранее валялась на столе Тимона. Сношарь села Зарядья-Благодатского сегодня отдыхал. Видимо, и на него память о событиях двадцатилетней давности давила не лучшим образом.
Империя тогда почти уже доползла до десятилетия великого дня коронации императора Павла II, кое-как встала на ноги после шести с лишним десятилетий полуголодной советской жизни по беспределу с пустыми полками не только в магазинах, но и в распределителях, с политинформациями без единого подлинного факта, узаконенным для миллионов рабством, при котором даже поход в ресторан становился поводом для почти гласного надзора, после непрерывного укрощения строптивых режимов за ближними и дальними рубежами, после эпохи владычества насквозь продажной милиции, после всенародно бесплатной, но бесполезной медицины и такого же всенародного образования, дающего хоть историкам, хоть математикам лишь научный коммунизм, диалектический материализм, всенародный атеизм и физкультуру.
Император худо-бедно разрешил приватизацию столовых и ресторанов, комиссионных магазинов, часовых мастерских, молочных и овощных хозяйств, дал возможность без опаски покупать хоть какие-то иномарки, открывать валютные счета — словом, неторопливо наращивал список всего того, что двадцатый век отнял у России, наращивал медленно и долго, будто зачитывая свой собственный бесконечный коронационный титул. Денег он не давал почти никому, то ли их у него и правда не было, то ли берег их на армию, и последнее казалось весьма вероятным — людей в форме в государстве прибавлялось все более, почти одинаковых спортивного вида мужчин и женщин, вежливых и исполнительных, столь слаженно несущих службу, что иной раз они казались одним человеком в десятках и сотнях тысяч тел.
При этом частному бизнесу Павел особо не препятствовал: хотите напитать народ пятью пачками югославской вермишели и двумя сыроежками — ну, питайте, налог будет самый малый. Хотите издавать книжки про черную и белую магию — издавайте, но только чтобы бумагу покупали отечественную. Хотите торговать тортом «птичье молоко» или печеньем «святая Русь» — торгуйте. Хотите продавать в вокзальных буфетах крутые яйца и вареную сгущенку — да за милую душу. И более того: если у вас в саду выросло гавайское дерево кокко, или кактус сагуаро, или зацвели эдельвейс и исполинская насекомоядная раффлезия — идите на рынок или открывайте киоск и торгуйте всем этим, только обработайте раффлезию дезодорантом, она красивая, но тухлым мясом воняет. Если на даче, в питомнике, ожеребилась южноафриканская квагга, или принесла потомство самка тарпана, или бегают юные галапагосские черепахи и висят по веткам такие же лемуры сифака, продавайте их хоть на экспорт, только получите лицензию от московского императорского зоопарка, потому как отечественный генофонд этих животных должен пребывать в неприкосновенности.
И случилось чудо: помимо вермишели и сыроежек, помимо вареной сгущенки на прилавках стали встречаться суповые наборы, пусть пока что из обрезков козлятины, стало появляться жигулевское пиво, пусть пока зеленое и содовое, сливочное масло, пусть пока никакого отношения не имеющее к молоку, сметана, пусть пока пополам с крахмалом, замороженные куры, пусть и накачанные льдом, вареная колбаса, пусть и натертая хозяйственным мылом, пельмени, пусть пока из рубленой кожи, но все же говяжьей, — и первый голод истосковавшихся хотя бы по такому пиршеству тела и души в империи утолился. Триумф расцветших на таком бизнесе производителей продлился месяцев десять, но к первой годовщине коронации царь допустил в империю две-три сотни плохо говоривших по-русски инспекторов из какой-то южной страны.
Тут пошла самая веселуха. Императорский верховный суд внезапно вспомнил про никем не отмененный указ государя Петра Первого об учреждении наказаний за продажу «нездорового съестного харча и мертвечины», в котором устанавливались жесткие меры наказания: «За первую вину будет провинившийся бит кнутом, за вторую — сослан на каторгу, за третью — учинена будет смертная казнь». До первой дело доходило нередко, до второй — уже не очень часто, а до третьей — всего раз десять, хотя смертную казнь царь упразднять не имел намерения. И скуповат был на помилования. Разве что когда светлейший князь Устин Кузьмич Бибирев-Ясенев попался на использовании перекиси ацетона, вообще-то взрывчатого вещества, для выпечки куличей пасхальных общегражданских, и обвинитель потребовал для него публичного сожжения на Васильевском спуске, то царь, мотивируя тем, что данный спуск отдан в аренду на девяносто девять лет селу Зарядью-Благодатскому, отменил публичную казнь и милостиво разрешил бывшего князя скромно повесить во дворе Бутырской тюрьмы.
Инспекторы работали полгода, составляя реестры подделок, часть производителей куда-то исчезала из конкурентной борьбы, на их место приходили новые, уже совсем наглые, эти исчезали еще быстрее, и кому везло — тех обнаруживали в Камбодже на островах посреди озера Тонлесап, а кому не везло, те обнаруживали себя среди белых медведей свободного выгула на Новой Земле. Смена разновидностей российских производителей и импортеров очень медленно приводила к цивилизованным формам, и, покуда на рынок не поступили высококачественные сухие дрожжи будущего миллиардера Зиновия Михайлова, казалось, что ничего легального и доброкачественного в империи не будет никогда.
Однако дрожжи по девять копеек пакетик привлекли на сторону Михайлова и царя сердца домохозяек, а тут еще вопреки всякой логике год случился урожайный на пшеницу и сахарную свеклу, и на ближайшей Пасхе, под колокольный звон, хозяйки и хозяева торжественно разрезали куличи, уже не общегражданские на ацетоне, а вполне домашние на дрожжах, и что-то в России с мертвой точки все же сдвинулось. Разумеется, воровство не кончилось и фальсификация всего, чего можно, никуда не делась, но столь яростной, как раньше, она уже не была. За резервуарное шампанское, киснущее в чанах вместо бутылок, за несмеяновскую желатиновую икру, ароматизированную ржавой селедкой и за все подобные деликатесы можно было огрести по полной строгости указа Петра Великого и сверх того. Теперь аферисты использовали в основном недолив, недовес и обсчет. Нет совершенства на свете. Дознаватели взялись и за мастеров этих премудрых наук.
Понятное дело, бывших функционеров, рванувших когти в свободное плавание по волнам предпринимательства, вся эта система преследований со стороны, казалось бы, своего в доску парня, простого советского царя, не устраивала никак. Ропот в их среде поддерживался не только опасением за кровью и потом приобретенные плантации ананасов, но и боязнью того, что новые порядки могут повредить достойному трудоустройству и бытовому благосостоянию их сыновей, дочерей, внуков, внучек, сестер, братьев, жен, тещ, шуринов, свояков, племянников, племянниц, пасынков, падчериц, братанов, брателл и выблядков: поди уследи за всеми, а ну как кто в аморалку, либо же в коксыч-герыч, либо же в отрицаловку.
Не очень тщательно скрываясь, ропщущие функционеры создали свое новое правительство, которое и заявило о себе двадцать лет назад, это была Российская Советская Чрезвычайная Директория, РСЧД. В нее совершенно официально вошли бывший премьер-министр, предводитель дворянства Московской губернии князь Иван Иванович Петровско-Разумовский, бывший председатель крестьянского союза, позднее председатель Московской земской управы, почетный олигарх Харлампий Илларионович Крылатский-Отрадный, бывший комендант Москвы, его превосходительство генерал-лейтенант Богдан Афанасьевич Гольяно-Выхинский, бывший президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, позднее верховный маршал коронации, граф Петр Алексеевич Лианозов-Теплостанский, бывший петербургский городской голова и губернатор светлейший князь Евстафий Илларионович Электросильный-Автов и еще несколько персонажей со столь же враными фамилиями и наспех сочиненными титулами.
Хотя в девять утра правительственные телеканалы традиционно для любого переворота разразились «Лебединым озером», плавно перешедшим в первый концерт того же голубого Чайковского, вроде бы отправленный на лечение в закрытый санаторий император лечиться вовсе не захотел. Генеральный контролер империи Иосиф Остапович Лихобабенко недаром по поручению канцлера Шелковникова собирал досье на всю эту переодетую советскую камарилью. Не зря маршал Феодосий Корсаков, немедленно назначенный временно исполняющим обязанности военного министра, немедленно выдвинул к Москве пятую танковую имени князя Антиоха Кантемира дивизию. И не зря царь, поднявшись на поваленный среди троллейбусов площади памятник поэту из грузинских водопроводчиков, произнес свою попавшую позднее в школьные учебники Триумфальную речь: «Минуло триста семьдесят восемь лет с того дня, как наши пращуры воздвигли из праха империю, своим рождением обязанную свободе и посвятившую себя доказательству того, что православное самодержавие есть высшая из возможных форм государственности. Сейчас мы проходим великое испытание гражданской войной, которая решит, способен ли устоять наш народ или любой иной, подобный ему по рождению или по призванию».
Короче, мятежа хватило на три дня, и во все три дня никто из членов самозваного РСЧД трезвым не был ни минуты. Когда же гвардейцы Галактиона Захарова, тогда еще вполне зрячего и полного сил, выудили их из нор и отвезли в известный санаторий возле Таганки, люди выдохнули и перекрестились. Но надолго отучилась Москвы при звуках выстрелов бежать к окну, теперь все знали, что бежать надо от окна, а лучше и вовсе лежать на полу. Петровско-Разумовский, лишенный всех титулов и прав, в отчаянии повесился на батарее в камере, Электросильный-Автов за минуту до ареста успел выброситься с тридцатого этажа, прочие же, отсидев год-полтора, были высланы кто в Бурятию, кто в Якутию, постепенно вымерли и стали для народа чем-то вроде повода вспомнить о великой победе.
При колоссальном авторитете, который возрос у императора на всенародных дрожжах Михайлова, победить эти убогие заговорщики не могли вовсе. Тем более жалкими попытками выглядели вопли о том, что некие окраины хотят от России виддилытысь или там аддзялицца, алые сындырып, атирукти и контерент эум.
— Опять стрельба, — с тоской констатировал генерал, — ведь уже было двадцать лет назад. Я тогда как раз отцом стал, а теперь внучку нянчу, — со вздохом добавил он. Все-то он врал: обеих дочек он спихнул на жену, ей же досталась и внучка, и наверняка ей же должна была достаться еще одна, запланированная второй его дочерью. Природа решила подкорректировать семью Аракелянов: раньше в ней плодились только парни, теперь косяком пошли девки.
— И зачем только силы тратишь, — тоже со вздохом возразил ему старший брат, — отдал бы их мне в деревню, бабы с них бы пылинки сдували. Опять же молоко парное, воздух деревенский, хороводы, приволье…
— Ну уж и приволье, полторы версты всего от Зарядья до Лубянки.
Ромео обиделся.
— Ты заехал бы хоть раз, убедился бы. Бабам понравишься, мужик ты видный вполне, да и родственник, дядя родной уже половине, считай, деревни…
— Ромка, я женат все-таки!
— Ну и что? Если жена хорошо готовит, так ты и в столовую не ходишь?
— Стараюсь не ходить, — покраснел генерал.
— Ну и наживешь катар, или там гастрит, или импотенцию, не знаю. Вредно это, уверяю, светлой памяти великий князь мне разъяснил все и навсегда, так я сразу в ум вошел.
— И хороводы?..
— Нет у меня на них времени, а так что ж не водить? Моим-то старшим под тридцать уже. Самому старшему, Павлу Ромеовичу, тридцать ровно, скоро дедом будет. Давно сами детишками обзавелись, ладно, не коли глаза, что эти тоже мои, не в том дело, а в том, что спокойно живет деревня, не как все. Суеты вокруг много, вот что! Ко мне кто сунуться попробуй — мигом в мешок увяжут и с булыжником в Яузу, не повыступаешь и с коррупцией не поборешься.
Тимон понял, что пора перейти к главному делу.
— Ромка, сам видишь, митинги, то, се, пятое, десятое. Набережную против Кремля в реку второй раз высаживают. А твоя гвардия в двух шагах — и ни гугу. Твоим бабам такой митинг разогнать — полчаса.
— Это дело международное, мы не вмешиваемся, пока к нам на бруствер не лезут. Но если на мост зайдут, моя гвардия разрешения не спросит, всех порешит, давно предупреждали.
— Ловко ты, Ромка, устроился…
— А тебе кто мешал? Мог бы тем же самым заниматься. Бизнес семейный поддержал бы. А то у меня все девки косяком идут, может, у тебя бы парни пошли?..
— У меня тоже девки, — поневоле уронил генерал, вообще-то на эту тему говорить не желавший. Очень уж он боялся проколоться, проявив хотя бы на булавочную головку интереса к главному делу жизни Ромео. Черт возьми, ведь хотелось узнать что-нибудь. Еще как хотелось. Но он сменил тему: — Так, а если Подневольный у тебя агитацию разведет про коррупцию?
— У меня — коррупция?.. У меня?.. — Ромео подавился апельсином. — Яйцами, что ли, бабы взятки берут или я сам за яйцами бегаю?
— Ну не знаю, — смутился Тимон, — ты же как бы член семьи, имеешь доступ. Можно обвинить в присвоении собственности, в лоббировании интересов, в незаконном обогащении, в препятствовании допуску, в противодействии децентрализации, в разбазаривании средств на военно-полицейские операции, — он найдет, в чем обвинить, а если это все не проканает, так переставит слова и начнет по новой.
— И как его царь терпит?.. — Ромео флегматично потянулся за четвертым апельсином.
— Царь, — совсем тоскливо протянул генерал, — где сейчас царь?..
— А Матрена что?
Матрена Порфирьевна Колыбелина была обер-прокурором империи и действительно отвечала за привлечение к ответственности по статье о клевете. Но всем было понятно, что любое покушение на неприкосновенность Льва Подневольного обернется не рычанием, а митингом с выбросом скунсовой струи.
— Знаешь, Ромка, — в порыве вдохновения произнес генерал, — ты представь, что у нас не один Подневольный, а восемь. Это что получится?
Понимание между братьям было полное.
— Ну да, один на шнурках повесится, другой из окна выбросится, третий помрет от страха, остальные сядут в камере писать мемуары, ты это хочешь сказать?
— Да… отчасти. Только сейчас все серьезнее. Через десять-двенадцать дней тут не выстрелы будут, а взрывы, и тремя днями путча не отделаемся.
— А что Корсаков?
— А что маршал, опять на Валдае на учениях. Хотя к двадцать седьмому с дивизией должен быть здесь. Как штык должен быть. Мои добровольцы могут не управиться. Византийцы навербовали такую частную армию, что мамочки мои.
Ромео снял ноги с братнего стола.
— И впрямь царя не хватает. Ну, коли так, держи в курсе. Все-таки у моих баб две тысячи штыков, не баран начхал. Кремль защитить не смогут, но твой квартал — вполне, да и Красную заблокируем. Если хочешь, так прямо сейчас. — Деревенский владыка потянулся за мобильником. — Полковник Настя?..
Тимон попытался прервать монолог брата, диктовавшего дислокацию батальонов, но тот только отмахнулся. Дал отбой, встал и обнял Тимона.
И ушел. Четыре бабы в портупеях с толстопятовыми наперевес сопровождали его в качестве личной охраны. Каждая из них уже родила от Ромео по два парня, заслужив тем самым высокую честь сопровождать его в составе личной гвардии.
Тимон сам себе не хотел признаться, но чуть ли не первый раз в жизни ему было страшно. Хоть и не очень много времени, но сколько-то месяцев он провел и на настоящей войне, когда душманы шейха Набирахмана трупами заложников забаррикадировали весь перешеек Ферх-Кермена и грозили заразить Россию чумными крысами, когда лишь вмешательство благоразумного принца Сулеймана спасло несчастный полуостров от перспективы полного и взаимного геноцида, тогда Тимон был в двух шагах от фронта, а через двое суток уже принимал посетителей в гарнизонном штабе Армянска. Потом все лето седьмого года Панибудьласка под руководством Тимона рыскал по улицам Тиритаки, Итаки, Диоскурии и смирного Икариополя, вылавливая затаившихся моджахедов, наконец, настиг в сурожских скалах брошенного сторонниками Набирахмана и, что греха таить, утопил того в ближайшей яме с нечистотами.
Но это была уже не война, это была бойня. Принц Сулейман торжествовал у себя в Салачиксарае, предавался намазам и гаремным утехам и вообще пользовался всеми привилегиями вассального, но предельно лояльного владыки. Тимон Аракелян вернулся в московский кабинет, щедро выдал оборотням талоны в профессорскую столовую и добавил чеки на получение премблюда, осетрины с горошком, в течение месяца, а то и двух, наградил Дмитрия Панибудьласку немного подержанным «субару» с переделанным в левосторонний рулем — и вновь генерала поглотила рутина.
Не то было теперь. Византийцы сосредоточили под Москвой целую армию испытанных наемников из Ирландии и Китая, лишь отчасти допустив к себе чернокожих, что чрезвычайно затрудняло их выявление. Тимон оценивал эту армию в десять тысяч человек плюс-минус одна-две. Конечно, один лишь множитель Дмитрий был способен поставить на службу царю в десять раз больше бойцов, да к тому же несколько тысяч могли и другие добавить, притом среди последних имелся еще и джокер в рукаве, нечеловек, оборотень-множитель Фостирий, конголезский исполинский крот больше метра длиной, способный двигаться под землей со скоростью трамвая не менее чем в тысяче тел. Фостирий трудно шел на контакт, был капризен, непрерывно ел, отдавая предпочтение кольраби и сахарной свекле с добавкой ядовитого и дорогого «пьяного меда», служившего ему чем-то вроде аперитива, любил Баха и Букстехуде, таскал на спине миниплеер, часто ломал его и куксился из-за этого, но полезен был бесконечно. В частности, он отследил мельчайшие изгибы туннеля, пробитого византийцами от Садового кольца к Александровскому саду и Арсенальной башне. В воды Неглинки он лезть отказался, но тут специалисты Тимона справились сами.
— Велиор, войдите, — сказал он полушепотом. Каким-то образом Майер умел слышать любое распоряжение откуда угодно. Проверяли — не телепат, просто очень хороший слух у человека. Жаль будет его, когда все кончится… а, ладно, все потом, неизвестно еще, для кого и как оно кончится и когда.
— По вашему приказанию явился.
— Докладывайте по грекам.
Велиор присел на краешек кресла, разложил распечатки.
— Туннель полностью закончен и облицован, выплаты за железобетон и за сами тюбинги произведены через банк Тортола на Британских Виргинских островах, сумма уточняется. Выплаты инженеру-архитектору Стефано Инганнаморте произведены через банк в Лугано, сумма уточняется. Выплаты завербованным в Танжере наемникам за июль произведены…
— К черту все выплаты, давайте боеготовность.
— Отдельный Куськовский полк десантников под командованием капитана Ляо Силуна выдвинут на позиции к позиции у поселка Бурабино близ Дармоедова и расквартирован в состоянии постоянной боеготовности. Отдельная Сходненская вьетнамская дивизия под командованием бригадного генерала Фань Мань Как — аналогично. Подразделение парашютистов под командованием капитана Шона О’Флаерти в Капотне — аналогично. Полк штурмовиков имени полковника Аурелиано Буэндиа под командованием полковника Йоханнеса ван дер Мерве…
— Много там этих полков?
— Четыре… И две дополнительных дивизии.
— И сколько это в человеко-единицах?
— Порядка восьми с половиной тысяч.
— А греков как таковых?..
Велиор смутился, видимо, точных данных тут он не заготовил.
— Пренебрежимо мало. Не более ста в составе упомянутого отделения, — нашелся он, — командует знаменитый полковник ван дер Мерве, вы помните, это даже его подлинное имя.
Тимона это не утешило.
— Тоже мне грек… И куда они лезут? Ведь им тут эту армию поселить негде, не прокормить, гражданская война на годы.
— Мы уже прошли через две икарийских.
— Тоже верно. Вот и жди теперь еще одного Сулеймана. Не с турками же вступать в союз… Где царь, где царь… Ладно, что насчет штурма?
— Предполагается второго сентября, в годовщину, хотя и некруглую, вступления в Москву войск Наполеона.
— Значит, раньше конца октября его не выгнать. Хотя сейчас в Кремле гореть особо нечему. Ладно, пусть у коменданта голова болит. Что с Петровским дворцом?
— Полностью, по периметру и под фундаментом. В залах использованы голосники, все закончено.
— Десант с Курил?
— Двенадцатичасовая боеготовность. Ёсикава Кадзицу, Рафаэль Монжуа.
Тимон потер виски. Это уж совсем на крайний случай. Оба множителя, много лет сдерживавших на Дальнем Востоке ополоумевшего диктатора, служили царю с первых дней царствования и вместе могли, наверное, дать не меньше солдат, чем Панибудьласка. Но оголять восточную границу империи было чуть ли не опаснее, чем временно потерять Кремль.
— И что еще?
— «Вечерний Афинеон» с первого августа дважды в неделю выходит на среднегреческом, точнее, поздневизантийском языке. По наблюдениям специалистов, язык значительно улучшен и приближен к классической кафаревусе. В устном бытовании никто на таком языке не говорит… пока не говорит. Оригинальных материалов пока единицы, в основном публикуются переводы с русского и обычного новогреческого.
— Понять в этом хоть что-то можно?
— Менее, чем церковнославянский язык для русского слуха. Но в этом я, право, не специалист, читаю вам заключение экспертов.
— Есть хоть что-то из коммуны Ласкари?
— Только то, что вы и так знаете, после извержения Этны девятнадцатого июля над кратером поднимаются кольца дыма, все идет к новому и очень мощному землетрясению и новому извержению. Хотя Этна значительно восточней Ласкари, но есть сведения о частичной эвакуации коммуны…
— Что запросто может быть запланированным поводом для переезда жителей в Россию. Он что ж, вулкан заставил извергаться?
— Не могу знать. Но с начала года это уже третье извержение. От Ласкари до Этны километров сорок, но при сильном извержении, как сообщают, дышать будет нечем.
— Ну и что делать? Монетку бросать?..
— Не могу знать…
— Не спрашиваю, идиот. Что есть еще?
Велиор стыдливо потупил взор.
— Тридцатого в Москву прибывает их высочество Сулейман-Герай.
— С целью?
— Окончание поста Рамадан, очевидно. Ураза-байрам, Ид аль-Фитр, окончание поста, для мусульман один из главных праздников. Видимо, к восходу солнца намерен быть в Соборной мечети на проспекте Федора Романова.
Упоминание имени отца императора болью отозвалось в душе Тимона. И вот в такой момент царь покинул столицу. Впрочем, его пращур Наполеона тоже не сам из Москвы выгнал.
— Выходит, к событиям он со своей свитой окажется в Москве.
— Вероятно. Меньше трех дней он в Москве не проводит. Из них два или три — в заведении мадам Делуази. К этому времени фирма «Пфайзер» поставляет в заведение две тысячи упаковок виагры, естественно, не для единовременного употребления. Большую часть принц увозит с собой. Заведение на время его визита полностью закрывается. К работе допускаются только скандинавские девушки не ниже двух с половиной аршин…
— То есть по старому почти метр восемьдесят. И это при том, что в нем два аршина два вершка. Полтора метра по-старому. Разговеться юноша едет.
— Они обычно просят, чтобы он их купил к себе в гарем, но у него и так есть. Хотя мадам и держит тут одну невредимку, она принцу сына родила, и генная экспертиза подтвердила, и вроде бы девицу специально никому не подкладывают…
— И где ребенок?
— В Завидове, разумеется, где все экологические дети.
Мог бы и сам догадаться. Вообще бордельные подвиги принца его сейчас не занимали вовсе. Старший брат над принцем открыто издевался и, надо сказать, имел к тому основания.
— Так, что известно о «кротах» византийца?
— Практически ничего, кроме известного лица. В отделе предполагают, что в силу ротации кадров сейчас они уже могут быть отозваны и ликвидированы. Князь Сан-Донато, вероятно, будущий глава московского дворянства, от контактов полностью изолирован. Его брат полностью загружен проблемами логистики. Братья, насколько известно, в Москве не виделись.
— Выходит, меньше двух недель, — подвел черту генерал, давая понять Велиору, что в кабинете тому делать больше нечего. Референт испарился, оставив на столе пачку документов, каковые хотел генералу зачитать, да тот не позволил.
Как следовало из них, референтура обследовала не только византийские войска и приготовления, а и прочие грозящие Российской империи как центробежные, так и агрессивные внешние силы. До внутренних врагов сейчас Тимону дела не было, таковые и сами сидели прижавши уши. Военной разведкой командовал незаменимый Адам Клочковский, удивительный человек, наотрез отказывавшийся контактировать с вернейшими слугами империи — с оборотнями. Как поляк и в прошлом католик, перешедший в православие ради генеральского звания, он был ощутимо суеверен и не желал якшаться с тем, что напрямую называл нечистой силой, не понимая, что оборотни, домовые, водяные и даже черти существуют на свете вполне объективно, согласно законам природы, пусть пока еще и не открытым современной наукой.
Референты Клочковского считали, что в настоящий момент дальневосточный диктатор пребывал в коллапсе безумия. Аятолла Мохаммед Джаннати был слишком занят проповедями среди руин разрушенного землетрясением Кандагара, чтобы лезть в дела России. Таджикский имам, хотя торчал в Москве, надеясь, видимо, все-таки что-то урвать во время византийской заварушки, но серьезной угрозой мог считаться едва ли. Канадская военщина, традиционно размахивая боеголовками, требовала вернуть ей то ли Гренландию, то ли Антарктиду, то ли Атлантиду. Султан Брунея увлекся подледным ловом судака, намораживал на своих прудах искусственный лед и при плюс тридцати с удочкой сидел возле лунки. Икарийские Гераи блаженствовали в гаремах и борделях.
— Заколебали, — почти прошипел генерал, откидываясь в кресле. Все это были мелочи. Он был уверен, что какие-то чуть ли не самые важные факты ускользают от его внимания, а когда они проявятся — будет слишком поздно.
Что он упустил? Кремлевское «метро-2», давно залитое стеклобетоном? Штурм Кремля через туннель и Боровицкие ворота? Возможный взрыв Теплостанской телевизионной башни? Черт с ней, есть спутники и есть тарелки. Таймырские сепаратисты? Китайская угроза и прочая желтая опасность? За этим следили японец и француз на Курилах. Малейшая заваруха — и почти сто тысяч вооруженных бойцов немедленно вступят в Даурию и Монголию, к тому же оба говорят на мандаринском, а Кадзицу от китайца еще и внешне неотличим.
Нервы дрожали как натянутые струны, и Тимон прибег к последнему средству. Он глянул на часы, прикинул, что полчаса до следующего клиента есть, достал из нагрудного кармана истертую медную монету, шатаясь, подошел к стене, выстучал ритм токкаты, вернулся в кресло и стал ждать.
Через минуту из потолка выдвинулся древесный корень. По нему с глиняной крынкой в одной руке спустился Шубин, стянул с головы картуз, вскарабкался в кресло и привычно произнес:
— Здорово, умник.
Обмен репликами всегда был один тот же.
— Здорово, Шубин. Как дела?
— Вежливый выискался… Хуже давно не бывало, сам, поди, знаешь.
— А что так?
Скарбник посмотрел на него разноцветным, безумным глазом. Второй он вообще закрыл.
— Да ты вовсе дикий? Зеленые Фердинанды прошли позавчера, Лев к Деве движется, по верхнему зодиаку нынче Рыцарь в полной силе, а наши уходят. Бегут!
— Кто наши-то, Шубин? Вроде как говорил ты, что ближе Дмитрова ни одного Шубина нет в губернии?
— Какой Дмитров?.. Шубин оттуда аж на Вологду удрапал. Из Коломны тоже тамошний рванул. Старуха Шубина, что под Котельнической химичила, вовсе неизвестно где, а ведь какая баба была, какая баба.
— Вы что же, как змеи, перед землетрясением бежите?
Скарбник посерьезнел.
— Ну, бежим — это громко сказано. Сам видишь — не бегу. А вот начнет австрияк из какой-нибудь двадцатидюймовой дряни, из какого-нибудь Длинного Густава снаряды по восемнадцать вершков метать, так и я побегу, и ты, думаю, тоже вперед меня помчишься.
— Откуда австрияки, откуда Густав, если такое тащить к Москве три месяца?
— Ты Сулейману это скажи. Он семерых Шубиных на Яйле угробил, с трех бомб, если помнишь. На Икарию всего один остался, да и тот в Салачиксарае, по-арабски только и бормочет, а я в этом ни бельмеса. У него там куфических, арабских монет клады девятого века, а я в этом что понимаю?..
— Совсем ты меня запугать решил.
Шубин молча грыз ноготь. Тимон взял из вазочки последний красный апельсин, предложил скарбнику, тот мотнул головой: из человеческой еды он, кажется, признавал одни сырые грибы. Генерал пожал плечами и взялся за апельсин сам, думая, что скоро возненавидит эти плоды навсегда. Но пока было вкусно.
Вдалеке опять послышался выстрел. «Полицейский», — только и подумал генерал.
Шубин поставил горшочек на стол, достал оттуда монетку.
— Слушай, мы с тобой не увидимся… долго, наверное, вот так. Загадай, брось на счастье.
Тимон глянул. Был это потертый екатерининский четвертак. Как любой, кто лишнего в уме не держит на такой случай, загадал — «орел». Выпал орел. Бросил еще раз, опять орел. И еще раз — опять орел.
— Как видишь, — хмыкнул Шубин. — То ли все равно пан, то ли все равно пропал. На тебе горшочек. А лучше нет, подели, пусть половина — твоя, прочее в землю верну.
Генерал подумал. Следующий клиент запаздывал. Тимон стал раскладывать монетки: одну налево от горшка, другую направо, стараясь, чтобы монеты совпадали достоинством. Его не покидало ощущение, что он — банкомет и мечет к себе на рабочий стол настоящий азартный банк. Только какой тут может быть выигрыш? Он просто деньги делит, делит, делит…
Деля серебряную струйку монет надвое, он думал о битве при Марафоне: спартанцы там персов победили… но ведь и сами полегли. Спартанцы. Нет, на такую победу генерал согласен не был. Мерзкий народ, мерзкие обычаи. Опять те же греки чертовы. Банкир Меркати говорил, что даже деньги, назывались они пеланоры, спартанцы намеренно чеканили из железа — чтобы воровать было тяжело и невыгодно. Хуже того — чтобы их нельзя было перечеканить, прежде чем пускать в оборот, пеланоры опускались в уксус. Металл становился хрупким и мало на что пригодным. Но тут монеты были надежные, императорские, хоть и мелкие.
Ближе к дну котелка стали попадаться и полтинники, притом совсем старые, чуть не петровских времен. Приходилось приглядываться: отчего-то суеверно не хотелось генералу ни себя обсчитать, ни Шубина обидеть. Справа и слева выросли приличные кучки монет: рублей на пятьдесят каждая, немало, потому как это и впрямь серебро, а не бумага. Хотя зачем серебро на войне и тем более генералу госбезопасности?
Наконец в руках у Тимона остались две последние монеты.
Тимон смутился. В левой руке он держал тяжелый, старинный, екатерининский или старше, полтинник, в правой — вполне еще новый двугривенный с профилем очень позднего императора.
Генерал решительно положил полтинник на правую кучку монет и подвинул ее Шубину, ничего не говоря. Шубин засопел.
— А что ж ты себя обидел?
— Твое добро, тебе и положено больше. Я тебе спасибо сказать должен.
— А коли спасибо, так добавь в мою кучку и тот двугривенный.
Тимон беспрекословно добавил.
Шубин мечтательно взял две последние монетки, поднес к глазам, поиграл, позвенел ими. Скорее постучал: серебро, как известно, металл не особо звонкий.
— Вот и счастье, что не жадный ты. Это ж богатство целое в шахтерских руках, это семьдесят копеек! Шахтер за неделю труда, за работу кайлом под землей, за шесть дней, получает, как положено, рубль двадцать. Три дня труда — шестьдесят копеек. А ты мне — за три с половиной денежку подарил! А ты знаешь, что такое семьдесят копеек?
Отвечать Шубину на его же языке всегда было трудно — шахтных слов генерал не знал и боялся напутать.
— Не знаешь? А это, милый человек, то самое, на что можно купить обушок. Обушок! — воскликнул Шубин. — А обушок — это кайло! А без кайла какой шахтер человек? Он, имей в виду, даже не крыса. Ему самая дорога… ладно, не буду говорить куда.
Шубин засунул две заветные монеты куда-то в шерсть у подбородка, а остальные решительно передвинул к Тимону:
— Все. Бери, твоя доля, мне вовсе не надо, понимаешь ведь. Ты не жадный, так и мне брать не положено, чего не надобно… Тебе пригодятся, попомнишь. Ладно, пойду…
Он бросил обе монеты в пустой горшок, ухватился за корень, вскарабкался и исчез в потолке, генерал слова сказать не успел.
Генерал едва успел глянуть на часы, однако Шубин появился в кабинете вновь, буквально упал с потолка.
— Иди, родной, иди, — он указал на дверь, — совсем там нехорошо. Зови помощь. В тамбур выйди.
Тимон, стреляный воробей, не сильно испугался, хотя знал, что секретаря сегодня нет, а гость ожидался всего один, одернул форму и вышел в тамбур.
Тут и впрямь было на что посмотреть. Прислонясь к стене, в позе, несовместимой с жизнью, в огромной луже крови, с перерезанным до позвоночника горлом устало сидел восьмой от престола наследник дома Романовых, Игорь Васильевич Лукаш, пятисторонний и всеобщий шпион, а также агент влияния. Судя по белизне лица и количеству крови на полу, скорую можно было не вызывать, тут требовалась труповозка. Тимон закрыл глаза несостоявшемуся царю и пошел за телефоном.
Снаружи, в Фуркасовском переулке, появился с ключами от машины главный референт генерала, Велиор Генрихович Майер. Он вошел во двор так называемой усадьбы Черткова и там сел в дожидавшийся его джип. За рулем он хищно облизнулся, потом отер губы от остатков крови. Он сильно состарился, выпив традиционный стакан человеческой крови, без чего в настоящий облик трансформироваться не мог. Он был отщепенцем своей расы, притом слабым, зато он переносил дневной свет и мог некоторое время, хотя небольшое, довольствоваться кровью домашних животных.
Двор имел и второй выезд. Джип тронулся и выехал на Малую Лубянку. Теперь за его рулем сидел Сурабек Садриддинович Эмегенов, старший менеджер фруктово-овощной компании «Арзами». Он двигался к Саларьеву не торопясь, строго соблюдая рядность. Он понимал, что сегодня, в день яум аль-джумаа, то есть в пятницу, в девятнадцатый день Рамадана, необходимо совершить, помимо вечернего намаза аль-магриб и ночного намаза иша, еще и желательный намаз салят ал-лейл, ибо с того, кто в такую ночь прочтет два намаза по два ракаата, читая после каждого «Альхама» один раз «Альхакумуттакясур» и семь раз «Кульху», смоются все грехи. Грех сегодня на нем был, и Сурабек очень надеялся, что не стал в нем подобием Абдуррахмана ибн Мулджамма, да пошлет Аллах ему проклятие, и грех этот, тахриман-макрух, совершенный во имя такийя, которое предписывает сура «Али ‘Имран», следовало смыть как телесным очищением, так и дополнительным намазом и постом до самой предрассветной трапезы, именуемой сухур и состоящей из фиников, бобов и хлеба. Крови он уже напился.
И еще нужно было совершить намаз-тасбих, совершаемый для раскаяния в совершённом грехе. Намаз-тасбих имеет четыре ракаата, совершаемые вместе или два раза по два ракаата, пятнадцать раз… Каша в голове у вампира была почище той, что кипела в мозгах бывшего отца Прокла.
XIV
27 АВГУСТА 2011 ГОДА
МИХЕЙ-ТИХОВЕЙ
Что же касается сообщений о том, что
в эту ночь собаки лают редко или не лают
вообще, то они не являются правдивыми.
Если внимательно наблюдать за
происходящим во все десять последних
ночей Рамадана, можно убедиться в том,
что собаки лают и не умолкают.
Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин. Шарх аль-Мумти
Никто не знает, когда наступает эта ночь. В хадисах сказано, что пророк, мир ему и благословение, вышел, чтобы сообщить о Ночи Предопределения, но тут двое мусульман стали спорить друг с другом, и он сказал: «Я вышел, чтобы сообщить вам о Ночи Предопределения, но эти двое поспорили друг с другом, и меня лишили знания о ней. Может быть, так будет лучше для вас. Ищите же ее за девять, за семь и за пять ночей до конца Рамадана!»
Получалось, что она приходится в ночь на двадцать пятое, или двадцать седьмое, или двадцать девятое число Рамадана. Принято было считать, что это ночь на двадцать седьмое, хотя полной уверенности никогда нет и точно можно узнать о том, когда придет эта ночь, лишь тогда, когда она уже уйдет. Ибо другой хадис сообщает, что пророк, мир ему и благословение, о признаках Ночи Предопределения сказал: «Признаком Ночи Предопределения является то, что эта ночь чистая и светлая, а луна в ней словно блистает. Она тихая и спокойная, ни холодная, ни жаркая. В эту ночь не падают с неба звезды, пока не наступит утро. И еще ее признаком является то, что солнце наутро восходит ровное, без лучей, подобно луне в ночь полнолуния, и шайтанам в этот день не разрешается выйти вместе с ним». А что можно знать о тихой погоде и ночной тишине ранее того, чем прозвучит утренний азан, призывая правоверных к намазу фаджр? Между тем правоверному точно надо знать все об этой ночи, ибо любое благодеяние с магриба до фаджра в Ляйлятуль-Кадр равноценно тысяче месяцев поклонения, равно целой жизни.
Алпамыс Шараф, бывший отец Прокл, лишь второй раз в жизни переживал Ночь Предопределения, Ляйлятуль-Кадр. Выученные со слуха и по кириллической транскрипции арабские слова звучали в его устах полным надругательством над верой. Но никто из его учителей, у которых, увы, по неспокойности эпохи не было для него достаточно времени, не издевался над ним. Поэтому он истово соблюдал все, что хоть как-то мог усвоить. Он так и не понял окончательно, в чем разница между шиитами и суннитами, от всего сердца проклинал вечером Абу Бакра и Умара, надеясь на прощение грехов, и решительно не догадывался, что для девяти десятых мусульман мира это не макрух, а полный куфр. Кладя перед собой на коврик во время намаза керамическую плитку, он полагал, что так поступает каждый мусульманин. При этом намазов он совершал ежедневно пять, в том числе на заре и ночью, в чем явно входил в противоречие с требованиями шиитов. Он был очень огорчен, узнав, что на десятый день мухаррама, в праздник Ашуры никакого шествия шейх не планирует, — а ведь он так готовился к кровавому самобичеванию! Правда, он рассчитывал, что после водворения власти правоверных в Кремле хоть немного посамобичеваться ему позволят, но уверенности у него все же не было: шейх во многом был сторонником умеренности и сам бы точно к процессии не подключился.
Выходить из павильонов Саларьевского рынка без специального приказа шейха он не имел права. Шейх держал его пока что как наиболее желательного в Москве имама для первой мечети, какая появится в Кремле, — прежде всего с учетом его православного прошлого. Имам из неофита пока был никакой, но другого у шейха не имелось. Шейх мечтал о полной и окончательной исламизации православного духовенства, но увы. Больше всех страдал при этом сам Алпамыс — бывало, что ни в какую в мечеть он не попадал неделями и вынужден был ограничиваться нерегулярными службами, которые отправлял у себя в покоях имам. Особенно горестно это было в священный месяц Рамадан, хотя бывший отец Прокл строго соблюдал воздержание в дневное время и от еды и от питья, не говоря уже о чем другом. Он тщетно смотрел на оштукатуренный потолок, словно стараясь увидеть сквозь него чистое и светлое небо и нежно блистающую луну.
В Ляйлятуль-Кадр лучшим для человека во все времена было совершение покаяния, таубы, и сердцем, и речью, чтобы Аллах простил все его грехи. В эту Ночь совершались пропущенные намазы, читался священный Коран, прощались былые обиды, строились планы на будущее. Пропущенных намазов за последний год за Алпамысом не числилось, он, собственно говоря, ими одними и заполнял свое время, обиды тоже прощал непрерывно и уже не помнил таких, какие не простил. Зато он каялся в совершенных и несовершенных грехах. Зато он изводил себя, сочиняя бесконечные планы на будущее, — притом доходил в них до возведения посреди Кремля мечети превыше любой сталинской высотки. Но говорить об этом имаму все же пока не решался.
Натаскавшись за свои пятьдесят три года по горкомам комсомола, политехническим институтам, неоконченным духовным академиям и православным монастырям, мятущийся душой Иван Блинов лишь случайно не стал добычей кришнаитов, сайентологов, адвентистов седьмого совокупления, приверженцев бога Зуси или кого там еще, — кто пригрел бы, в того бы и уверовал. Но ему повезло: вместо того, чтобы стать молчаливой овцой бессловесного стада, он стал любимым белым псом при отарах и табунах шейха, именно белым, ибо, как известно, лишь белую собаку любит пророк, мир ему и благословение, а черную повелевает немедленно убивать, ибо она — шайтан. Ислам привлек его прежде всего простотой и ясностью жизненных инструкций: достаточно их соблюдать, и ты уже угоден Аллаху. Хуже всего обстояло дело с изучением арабского языка. С трудом выучив алфавит, он пришел в ужас от немыслимого числа глагольных форм, коих там оказалась не одна сотня. Начав, как говорят на Балканах, кормить пятьдесят второй год своей жизни, он уже не был в силах браться за такое и с разрешения шейха немалую часть намаза произносил по-русски, хотя, понятно, открывающую суру Корана приходилось выдавливать из себя на щербатом арабском, выходило нечто-то вроде «бисмилляяхиррахма-аниррахиим», которого он даже на слоги разделить не мог. Лучше вовсе не пытаться изобразить, как в его исполнении звучало все остальное. Он натер мозоли на коленях и на мочках ушей, но арабский его лучше так и не стал.
Зато душа его ликовала, когда наступал очередной исламский праздник, будь то Ид аль-Адха, Ид аль-Фитр, Гадир-Хум или просто пятница. По любому поводу он был готов встать ночью и на шестой, всего лишь желательный намаз, именуемый тахарджуд, — и было это ему не в тягость. Короче, все то, от чего рядовой мусульманин мог бы рухнуть, как загнанная лошадь, было теперь для него смыслом жизни.
Дни его бежали, как арабские кони, а ночи священного месяца Рамадан бежали еще быстрей. Они бежали от праздника мавлид в прошлом году, когда он впервые произнес шахаду и принял ислам, к уже второй для него Ночи Предопределения и далее, к будущему, уже третьему для него празднику мавлид. Думается, во всей столице империи долго пришлось бы искать человека счастливее, чем Алпамыс Шараф. Если бы кто-то в этот миг его убил и он угодил в джаханнам, мусульманский ад, он и там оставался бы всецело счастлив. Летя во ад, он еще успел бы выполнить намаз ишрак, и тогда все его грехи были бы прощены, и он оказался бы в раю.
Словом, бедный Алпамыс Шараф. Бедный бывший отец Прокл. Бедный бывший Иван Блинов. Отчего случилось с тобой такое — Аллах знает лучше.
Он не знал, назначит ли шейх штурм византийской твердыни на Ид аль-Фитр, на день разговения, который длится вообще-то три дня, но полагал, что так оно и будет, что третий день окажется третьим числом месяца шавваль, это будет день яум аль-хамис, день планеты ал-муштари, грозной звезды, более чем уместной для начала битвы с неверными румеями. Говоря по-русски, он полагал, что все начнется первого сентября, в четверг, в мусульманский день планеты Юпитер.
И хотя ночь эта в теории обещала быть чистой и светлой, и луне полагалось блистать, и погоде быть приятной, ничего этого на самом деле в природе не было, — как не было и в ночи на двадцать третье и, возможно, не собиралось быть в ночи на двадцать девятое. Солнце в этот день то ли восходило, то ли нет, найти его сквозь потоки ливня и грозовые облака было бы вообще очень трудно, а гром гремел такой, будто именно совершенно неограниченный контингент шайтанов там беснуется и не хочет угомониться. Что ж касается температуры воздуха, то в общепонятных единицах составляла она +50 градусов по Фаренгейту, а это температурой августа можно назвать лишь издевательски.
Однако ж и смешной человек был этот Габриэль-Даниэль Фаренгейт, все-то с ним северные американцы возились и расстаться не хотели! Еще при Петре Великом в Данциге выдумал он такую «шкалу»: сперва с помощью спирта смерил температуру за окном — а на дворе зима была, судя по всему — унеси мои печали. Потом смерил температуру жене: а она как раз сильно хворала. Первое принял за ноль, второе за сто градусов, разделил. Закипать у него вода стала при 212 F, а что все цифры были взяты от балды — кто о том и когда беспокоился? Победителей не судят. Хотя какой он победитель — поклонников у него становилось все меньше. И то, что сегодня, в священную ночь было плюс пятьдесят по Фаренгейту, означало плюс двести восемьдесят три по британскому Кельвину, плюс десять по шведскому Цельсию и чуть меньше плюс девяти по русскому императорскому Реомюру.
Может быть, ничего и не значила эта дурная погода. Как навеки доказал великий салафитский ученый Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, Солнце вращается вокруг Земли, а кто думает иначе, тот кафир, впавший в куфр. Просто потому, что рабу нет дела до установлений хозяина, и если в Коране сказано, что Солнце течет к местопребыванию своему, то это Солнце движется, а не Земля. Все же прочие умствования являются плодом воображения. Поэтому нет человеку дела до погоды, она всегда хороша, ибо ниспослана свыше, и не нам ее обсуждать. И не зря, надо думать, весь мир отмечал эту ночь как Международную Ночь Летучих мышей, — что-то это, видимо, значило.
Однако в глухих катакомбах под Саларьевским рынком подобное мало кого занимало: всего два дня отделяло правоверных от конца Рамадана, им было совершенно не до наблюдений за знамениями природы, хотя, возможно, и зря. Вверх и вниз по лестнице, ведшей на склады и в торговый зал фирмы «Арзами», бегали люди Пахлавона, таская вниз и дальше, в покои к шейху, тюки, коробки, свертки и мешки неизвестно чего, хоть и ясно было, что чего-то тяжелого. Учитывая, что в такую ночь положено молиться и читать Коран, оставалось предполагать, что происходит это все по прямому приказу шейха, а он знает больше, при том, что больше шейха знает только Аллах.
Шейх вышел совсем ненадолго, потому как явно не хотел пускать в свои покои банкира Алексея Поротова, который явился с отчетами по платежам за шабан и прежде всего потребовал «оплату ведущему информатору — две тысячи кувейтских динаров, то есть шесть тысяч шестьсот долларов Северо-Американских Соединенных Штатов, то есть восемьсот восемьдесят золотых царских империалов, или семьдесят шесть тысяч золотых крюгеррандов без стоимости конверсии», и, как всегда, шейх приказал заплатить, не до того ему было, чтоб экономить. Если при удаче за такие деньги можно купить всего-то две снайперских винтовки Драгунова, а если уж приличный анзио, так разве что один. Банкир успокоил шейха, что империалы сейчас есть и он рассчитается завтра же. Шейх кивнул и ушел к себе, банкир растворился в воздухе, Алпамыс же вновь остался в зале один в сомнительном обществе евнуха, да и эту тишину все время нарушали бегающие, как блохи, рабочие Пахлавона.
Евнуху было и вовсе нестерпимо скучно. Мечталось ему об одном: чтобы кто-нибудь, хоть византийцы, хоть царевы оборотни, хоть бабы сношаря Ромео, хоть банда православнутых из гостиного двора и охотного ряда, хоть мерсибокурты южноамериканского диктатора, хоть зомби с Гаити, хоть китайцы из провинции Юннань, да хоть австралийские аборигены, да хоть какие мушрик-многобожники пришли бы и перебили всю эту то ли шиитскую, то ли ваххабитскую публику. Потому как в этом случае можно будет вернуться в обжитую многими десятилетиями им и братом квартиру в «доме на набережной», где годами копилась пыль, где не горел свет и лишь полковник Годов оплачивал мелкие счета. Отпуск у Барфи-Антонина не был использован за восемь лет, и пользоваться им он едва ли захотел бы. Пользуясь льготами для сектора трансформации, он собирался выйти на пенсию на год раньше, если отпустят. Уж больно надоело сидеть в евнухах и слушать идиотские разговоры на трех языках.
В тревоге пребывал и незримо присутствующий здесь дополнительный участник событий, вороной фриз, жеребец-телепат по имени Япикс, слушавший мысли исламского штаба через уши Барфи и некоторых помимо него, уже отлично знавший, что именно сделал с «ведущим информатором» санторинский вампир, служивший на подхвате у исламского банкира. Что он с ним сделал — пока знали здесь только Поротов, ну, конечно, и цыганский миллиардер, владелец жеребца. Но цыган не вмешивался, а Поротов положил пока что в карман восемьдесят империалов, которые Лукашу можно было теперь не отдавать, — и столько же собирался присвоить по счетам за Рамадан.
Было бы странно думать, что византийский штаб уж так совсем мог игнорировать исламскую угрозу. Не имея в штате ни одного толкового оборотня, бросив на произвол судьбы собственных санторинских вампиров, — что прямо толкнуло их крошечный клан в объятия ваххабитов, византийская команда держала при себе толкового арабиста, специалиста по современному исламу в его экстремистских и террористических вариантах, по имени Эспер Эсперович Высокогорский, и в фирме он числился специалистом по реэкспорту мезильмерийской хурмы в страны Ближнего Востока. Зачем в Турции или в Сирии сицилийская хурма — до сих пор никто не спросил, а Константин Ласкарис полагал, что теперь уже и не спросит: до штурма оставалось всего ничего, а там хоть всю увезите и в Черное море бросьте где угодно. Забавным тут казалось разве только то, что на мякоть хурмы была у Эспера аллергия.
Специалистом по исламу он был неплохим для европейца. Едва ли он смог бы наизусть прочесть «Зад аль-мустакни» и «Альфия ибн Малик», но точно не спутал бы, в каком намазе сколько ракаатов, и точно знал, зачем выполняются шесть ракаатов после намаза аль-магриб и, с другой стороны, зачем выполняются четыре ракаата через четверть часа после полного восхода солнца, а также почему этого можно вообще не делать и что думают об этом в шафиитском мазхабе. Все это не мешало ему, как и всей младшей ветви Высокогорских, быть верующим католиком или православным по обстоятельствам и, с другой стороны, таким же озабоченным дальневосточной расой патологическим бабником, как и его отягощенный княжеским титулом брат. Даже после самой триумфальной победы будущий византийский император намеревался оставить Эспера на том же рабочем месте, ибо понимал, что в стране мусульмане никуда не исчезнут, а в мире — тем более.
Нравы в Москве оказались легче, чем ему могло померещиться в подростковых мечтах. Он уже имел серьезный адриатический опыт и знал, что пользоваться даровым сыром опасно, поэтому предпочитал то, что сам некогда случайно назвал «добровольным комфортом». Увы, как раз женщины белой расы увлекали его меньше всех. За год работы в Москве Эспер спутался то ли с десятком, то ли с дюжиной приятных девиц, не возражавших закрутить роман с аристократом русско-итальянского вида и греческой зарплатой, которой арабисту на них вполне хватало. К татаркам и узбечкам он охладел почти сразу, лучше них оказались немногочисленные бурятки. А вот с китаянками и вьетнамками вышел облом, в России это были забитые тинейджерки дистрофичного вида, исламист побывал в Сходненском чайна-тауне, рядом с дислоцированной там дивизией Ласкариса, и пришел в уныние. Но когда вернулся в Москву, прямо в коридоре офиса обнаружил необыкновенной горской красоты девицу с непроизносимым именем Цинна Питхорогарх.
Как и впоследствии запавший на нее Елим, Эспер тут же потерял интерес к остальным женщинам, вежливо и щедро попрощался со своим телефонным гаремом и приступил к штурму этого удивительного дзонга, — если кто забыл, то в Тибете и Бутане по сей день так называют изумительной красоты крепости и монастыри. Насчет монастыря, тут много чего понимавший в женщинах Эспер сразу понял, что в смысле неприступности перед ним отнюдь не монастырь, то есть до такой степени не монастырь, что скорее это университет, где такое преподают, что по сравнению с этим Камасутра — учебник для младших классов. А вот в смысле того, что данный дзонг — крепость, так тут случай необычный: штурмом взять можно, а вот удержать — только если ты там поселишься. Как востоковед, Эспер не читал Макиавелли и тут сильно уступал Тимону Аракеляну, человеку вообще-то довольно темному. Эспер мог лишь догадываться, что по флорентинцу с завоеванными государствами можно поступить только так: способ первый — разорить их; второй — самому там поселиться; третий — наделать разных глупостей, делегируя полномочия кому-то еще, кто все равно тебя надует. Эспера первое не устраивало никак, ибо втюрился он по уши, третье устраивало еще меньше, потому как подобных лошадей сторожам не доверяют, и оставался второй способ, который вел под венец или куда там в их буддийской религии ходят, — однако о таком поступке Эспер в свои двадцать семь как-то не задумывался еще, он все еще имел планы окучивания еще сотни-другой кандидаток… Но, похоже, в этот дзонг сия тропинка вела наиболее привлекательно и живописно. Он был даже не стомиллионным мужчиной из тех, кто что-то понял в единственной женщине, а через нее — в себе самом. Правда, мнение самой Цинны тоже не худо бы выяснить, но он был даже не стомиллионным из тех, кто забыл спросить у женщины — каково ее мнение о его мнении.
Она была неприхотлива, как любая женщина Востока, если она не махарани из особо знатных и не мадам Вонг на пиратском крейсере. Из драгоценностей она любила лишь собственные бесконечные нитки бирюзовых и коралловых бус. Эспера очень смутило, что в Москве он так и не отыскал ювелира, способно принять заказ на что-то подобное, купил килограммовую цепь из янтаря и был за то весьма вознагражден. Однако больше ничего придумать в подарок пока не мог, от чего переживал. В смысле прочего — он долго не понимал, зачем она приехала изучать гречиху. Но оказалось, что она ее изучает на самом деле, ибо та спасает за северной границей Непала, на территории Китая, сотни тысяч жителей. Обедневший Непал, привыкший жить за счет туристов, несколько талантливых женщин за гречневой кашей по разным странам разослал.
Она уж точно была талантливая женщина. При всей своей прежней полигамности Эспер задумывался: может, поддаться соблазну, всегда ведь лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном? Сейчас, ночью, священной для более чем миллиарда человек, он лежал за спиной Цинны, повторяя собою изгибы ее сильного, но отнюдь не спортивного тела. Она говорила, что ее крошечный народ ненавистен непальским мусульманам и что ненависть эта взаимна. Глубокие свои познания в исламистике Эспер не афишировал, предпочитая все мыслимое время заниматься с ней любовью, зная при этом, что устанут они оба не скоро, а он, будучи мужчиной озабоченным, как все Высокогорские, умел такое ценить.
Ее лицо не было идеально правильным с точки зрения его прихотливо и восточно ориентированного вкуса. Оно было чуть шире и чуть округлей, чем привык он, перебирая китаянок и кореянок, но в остальном девица была безукоризненна, малоросла и предельно эмансипирована. Однажды, почти перед сном, она вдруг спросила его на своем упрощенном английском — отчего он ставит свою комнатную обувь у постели? Эспер не понял чем такое плохо, и захотел знать, а куда надо ставить тапочки? Цинна простодушно объяснила ему, что тапочкам место за дверью, чтобы младший муж мог не тревожить старшего, когда тот занят любовью с общей женой. Так вот прямо и брякнула — common elder brother’s wife. Много чего повидавший Эспер понял, что это прямой намек на бытующую в Непале полиандрию, и прямо спросил: а сколько мужей она считает для женщины хорошим количеством? Цинна так же простодушно объяснила ему: сколько есть братьев, столько и хорошо, двое так двое, семеро так семеро, только вот больше плохо, потому что кому-то иначе больше недели придется have to starve. Ну да, голодать, оголодаешь тут при таком количестве соавторов, — думал Эспер, у которого братьев не было. Может, и ничего страшного, пусть бы жена из дома не бегала неизвестно к кому, но как-то все это было непривычно. Не то чтоб он был традиционным средиземноморским альфа-самцом и собственником, бета бывают в любой стае, но не ждать же, что жена привезет такового из Непала?.. О том, что брат у него все-таки есть, он не подумал ни разу. Покуда не узнал, что Елим уже в Москве, точнее, под Москвой, там, куда Константин поселил младшего принца. Они так и не свиделись, но до того ли сейчас? В конце концов, по сравнению с троюродным он все-таки чувствовал себя немного альфой. Ему никто не рассказал заранее, что в любви у беты очень часто шансов куда больше.
В эту священную ночь образ брата лишь промелькнул в мыслях Эспера и погас, он думал о подружке. Принадлежа к народности, заполнившей места своего обитания изображениями самых откровенных поз Камасутры, она почти ни в каком случае не могла быть агентом профессионально ненавидимого им ислама. Это было третьим соображением в ее пользу, — первыми двумя были идеальное для него соответствие в постели и, возможно, даже в большей степени — ее легкий характер. Однако все эти соображения были сейчас личными и несвоевременными. Его пугала перспектива событий, запланированных противоборствующими сторонами на ближайшие дни.
Нечего и говорить, что все фронты многомудрый византиец старался максимально обезопасить и мусульманскую угрозу пусть не сейчас, так в будущем, предвидел. Даже достопамятный миллиардер Халифа бен Заид Аль Нахайян в Абу-Даби со своими двадцатью миллиардами не располагал теми кокаиновыми россыпями, которые держал в своих виртуальных сундуках Ласкарис. Тридцать миллиардов Пабло Эскобара, второго в мире кокаинщика, мало интересовали византийца: двадцать лет назад это было много, у грека и половины того не было, однако кто кого ликвидировал? Вот именно. С прочими случилось то же самое, кроме Родригеса на Доминике, но тот не мешался под ногами, к тому же за него попросил личный друг Ласкариса, — да и не был так уж особенно богат Родригес. А кто богат? Ну, король Таиланда точно, так на то ведь и буддист. Хотя мериться миллиардами так же глупо, как длиной разных частей тела: не длина тут важна, а что? Спросите у специалисток. Подводя итог, можно сказать, что угрозы своей империи со стороны буддизма Ласкарис не видел, а вот со стороны ислама — как раз наоборот.
Агент у Эспера, точней, у Ласкариса при дворе шейха, безусловно, имелся. Ничего таинственного не было в том, что ни на идеологию, ни на религиозные убеждения, ни на шантаж, ни на что подобное византиец при вербовке не опирался никогда, он опирался только на деньги, на человеческую, притом долговременную, жадность. Если бы шейх не витал в облаках намазов, аятов, толкований и провозвестий, да еще меньше полагался на шахидов, возможно, владелец магазина «Арзами», уважаемый господин Пахлавон Анзури, и не продал бы его византийцу с потрохами. Среди всех шпионов и предателей эпохи византийского кризиса этот работал просто: на того одного, кто мог заплатить за всех. Сколько стоил Ласкарис — не знал никто, но как-то не наблюдалось никого, кто мог бы его с пьедестала свергнуть, и давно покойный Эскобар тому свидетель.
Как Ласкарису было почти плевать на хурму, так и Пахлавону было плевать на «турецкие сладости», они же рахат-лукум. Шейх со своим опием и героином против византийца не канал, потому как за восемь с половиной столетий колесо истории повернулось и пресловутая пассионарность опять перешла к христианам, о чем пока не знали достоверно ни те ни другие.
Нынче каждый из противников в чем-то недооценивал прочих. На первый взгляд самый опасный из всех, шейх, главную большую ставку делал на свои живые факелы одноразового действия, но он воевал на чужой религиозной территории, надеясь лишь на смутную возможность союза с икарийским ханством, забывая при этом, что в ханстве все мусульмане до единого сунниты. Хотя, согласно древним законам, если бы две христианские армии слишком серьезно побили друг друга, перевес был бы именно на стороне шейха.
С другой стороны, царь, точнее, верные ему войска шейха, кажется, вовсе во внимание не принимали, а византийцев недооценивали, видимо, не понимая, как можно протащить чуть ли не через дыхательное горло империи десятитысячную армию до зубов вооруженных наемников ирландского и китайского производства. Они тоже не умели считать мигрантов.
Но и те и другие недооценивали армию царя. В ней воевали не одни только гвардейцы, уланы, гусары, снайперы и диверсанты, в ней воевали прежде всего те, кого и шейх и византиец даже в бреду не брали в расчет: оборотни, в том числе множественные. Без учебника Порфириоса в само их существование поверить было вообще крайне трудно, а хоть немного в учебнике понять мог только сам оборотень. Кроме редких и неумелых одиночек почти все они служили царю. Россия сколько угодно могла страдать расизмом, сексизмом и гомофобией, но была совершенно лояльна к оборотням, особенно к тем, кто соглашался идти на службу к государю. За неимением альтернативы оборотни соглашались и обычно не жалели. Конечно, потенциал термоядерных и вакуумных бомб тоже имел место, и ракетные войска с военно-морскими силами все-таки никуда не делись, и с помощью подобного оружия царь мог бы воевать, — но где угодно, только не в собственной столице. Это, кстати, сковывало и прочих, собственных столиц на данный момент не имевших вовсе.
И никто из них не принимал во внимание тот факт, что мир давно перестал быть биполярным или трехполярным, по Оруэллу. Никто из них не считал реальной силой подрывную силу знания всех обо всех, мощь отдельных повернутых на собственной свободе народов и общественных групп, силу фанатизма ежедневно рождающихся в мире религий, да и интересы многих отдельных людей, от цыганского миллиардера в Москве до ассирийского сапожника в Икарии, одинаковых и равноценных в доле безвременья и вечности перед лицом Всевышнего, какое имя ты ему ни дай.
Возьмем и прикинем возможные ответы на вопросы, заданные в эпиграфе к этой книге, прибавив к ним еще один, первый.
Итак, что было бы, если бы в противостоянии Москвы и Великого Новгорода в 1478 году победу одержал Новгород? Если бы Иван III, Иван Великий, каким-то образом проиграл своему двоюродному брату, князю Михаилу Олельковичу, который бы семью годами ранее не сбежал оттуда в Киев, а привез бы к себе в столицу, в Новгород, жену, наследницу византийского престола, двадцатитрехлетнюю Зою-Софью Палеолог?
Ясно, что первым делом в Новгород привезли бы московского князя и пятнадцатого января утопили его в Волхове. Тот прожил бы на 27 лет меньше. Михаил присоединил бы Тверь, послал куда подалее Золотую Орду, ввел Судебник, всего не перечислишь.
Именно Михаил Олелькович, отстраивая Новгородский Детинец, воздвиг бы в нем Успенский собор и Грановитую палату, пригласил бы Антонио Солари для постройки Златоустовской, Дворцовой и, заметим, Спасской башен Новгородского Кремля и часто выходил бы на Волхов любоваться на обширные дали быстро собираемой российской земли.
Но его правнук Иван Васильевич ввел бы опричнину и был бы за это отравлен.
Лжедмитрием оказался бы беглый монах Свято-Юрьевского Новгородского монастыря Григорий Отрепьев, это само собой.
Великий князь Московский Петр Алексеевич не основал бы город Петербург, но его основал бы великий князь Новгородский Петр Алексеевич со всеми вытекающими для Великого Новгорода последствиями.
И заодно, несмотря на сравнительно меньшую численность населения, в Новгороде Великом было бы куда больше трактиров и питейных домов, нежели в Петербурге.
И все так же в Петербурге был бы немыслим трактир Тестова, извините, Друкалова, тот, что на Людогоще, да и поросенок и расстегаи были бы те же.
Заодно уточним, что в тысяча девятьсот сорок четвертом году, возвращаясь с фронта в Икарии, мой овдовевший отец встретил бы мою молодую мать. Поженившись, они вернулись бы в город, к которому возвратилось достоинство столицы империи, и спустя шесть лет я появился бы на свет — угадайте, в каком городе?
И не пробуйте угадывать — какую книгу вы читали бы сейчас. Вы и так уже догадались. За окно-то гляньте.
Изменилось бы кое-что, конечно, но мало: туннель к Детинцу был бы шагов на сто короче, но план Новгорода на план Москвы похож удивительно. Правда, идея Новгорода Великого как Третьего Рима и теперь буквально висит в воздухе. А уж мусульман, да и цыган там не перечесть.
Ну, жив был бы Игорь Васильевич Лукаш, не съел бы его вампир, он съел бы кого другого. Ну и все… И стоило ради этого Новгороду завоевывать Москву?..
И уж точно тот же самый Пахлавон Анзури, начальник охраны шейха Файзуллоха, продал бы своего босса с потрохами даже дешевле, чем сейчас, когда он получал в месяц не деньги, а килограмм чистого кокаина, что было раз в десять больше, чем платил шейх. Так ведь и скромные суммы шейха Пахлавон Анзури тоже не жертвовал голодающим Буркина-Фасо.
К пять утра небосклон понемногу стал светлеть, намекая, что до азана, зовущего к более ценному, чем жизнь, намазу фаджр осталось всего полчаса и надо приступить к утренней трапезе, именуемой сухур и состоящей из фиников, бобов и хлеба. Едва ли, судя по погоде, уходящая ночь была Ляйлят аль-Кадр, Ночь Могущества и Предопределения, если судить по погоде: она была облачная, туманная, и моросил дождь, и солнце стыдливо пряталось за тучами, где-то негромко гремел гром, и едва ли была уверенность в том, что шайтанам в этот день не разрешается выйти вместе со встающим днем. Во все нечетные дни Рамадана в Москве не выдалось хорошей погоды, и хотя могло быть так, что о ней было возвещено в иных городах и весях, но оставалась и возможность того, что ночь эта выдастся на последнее нечетное число месяца, всего этого в точности знать нельзя, и лишь Аллах знает больше.
Нервным сном забылась на почти одиноком своем ложе сторонница всеобщего знания всех обо всех, мастерица компьютерного искусства Джасенка Илеш. «Почти» потому, что спала она неглубоко, лишь скрытый в ее теле журналист Кристиан Оранж не спал никогда, сейчас он нервничал из-за исчезновения Игоря Лукаша, причины которого оставались неясными уже целую неделю.
Таким же нервным сном забылся в комнатушке отдыха генерал Тимон Аракелян, на плечи которого все сильнее давила как ответственность за судьбу столицы Российской империи, так и неприятная мысль о том, что его греческий язык так и остался на самом примитивном уровне.
Спал безо всех бесчисленных своих задних ног Дмитрий Панибудьласка, максимальный оборотень по кличке Миллион бутонов, собравшись в одно-единственное мощное тело, предвидевший, что нормально отдохнуть ему теперь удастся не скоро.
Спал уморенный собственной сексуальной юношеской неутомимостью принц византийской империи Христофор Ласкарис, спал, обнимая сразу двух девиц, вроде бы и не тех, с которыми нырнул накануне в постель. Во сне он матерно требовал от отца «non si preoccupano di scopare», или, что примерно то же самое, «mην τον ενοχλείς!», предлагая тот единственный способ, которым тот получит внуков. Самый мягкий перевод этой фразы можно бы предложить как «не надо тратить время, папа».
Спал вольнонаемный оборотень-безвидник Тархан, наконец-то избавившийся от остатков отвратительного чудища ктулху, которого изгнал из него чертовар Богдан Тертычный, изгнал, да еще и приплатил.
Спал лауреат Нобелевской премии, знаменитый русский поэт Исаак Дымшиц. Этот спал мертвым сном на кладбище в Сан-Микеле, на острове близ Венеции, спал уже полтора десятилетия.
На конюшне при Саларьевском рынке не спал и не собирался спать вороной жеребец фризской породы по кличке Япикс, — хотя в штабе шейха спали даже шахиды, он вслушивался в их мысли, — мало ли что там проскользнет.
Не спал российский император Павел II у себя на Протее, там был белый день, и он обсуждал с наследником престола порядок отправки последних партий метамускарина к месту применения и распределял инструкции.
Не спал сторож Никольской башни Кремля, Иван Григорьев сын Выродков: его, пятисотлетнего, уже полвека мучила бессонница и он не знал, пройдет она у него когда-нибудь или нет.
Не спала у себя в Суринаме Великая Мама Элиана Эрмоса де ла Седа, в ее краях лишь недавно окончилось время сиесты вчерашнего дня.
Не спал и санторинский оборотень-вампир Сура бек Садриддинович Эмегенов, коего звали вовсе не так и который стариком вовсе не был. С вечера он надулся кровью первой отрицательной группы, драгоценной для него, как старое бургундское для нас с вами, а в такие ночи ему всегда было приятней бодрствовать и ловить кайф. Труп коменданта Петровского дворца, где должен был разместиться во время штурма Кремля штаб византийского императора, был надежно спрятан в подвал, в мешок со взрывчатым цементом, и теперь никто, кроме вампира, не знал кодов доступа к единому взрывателю, позволявшему нажатием клавиши уничтожить и дворец, и всех, кто неосторожно подойдет к нему на сотню шагов. Этим вампир гарантировал себе защиту и от византийцев, и от слуг царя, по приказу которых и произвел минирование и которые вот уже неделю не могли понять, куда делся их доверенный референт Велиор Генрихович Майер. Прикрывшись маской старого мусульманина, готовящегося к самому главному событию в жизни каждого правоверного, к хаджу, он собирал вещички. Со стороны своих хозяев он никаких неприятностей не предвидел, ибо служил городским связным банкира шейха Алексея Поротова. К примеру, получивший вчера за месяц шабан восемьсот восемьдесят империалов царской чеканки банкир делил их в соотношении: восемьдесят — «ведущему информатору» Игорю Лукашу, которому вообще-то теперь можно и не передавать ничего, ибо там, где он нынче находился, деньги ценности не имели, четыреста — ему, честному и преданному слуге шейха, Сурабеку Эмегенову, ну а четыреста, конечно, организатору всей финансовой цепочки, банкиру.
Наконец, не спал и спать не думал спокойствия ради так и не принявший ислама банкир шейха Файзуллоха Алексей Поротов. Деньги за шабан месяц, полученные для передачи ведущему информатору при византийском штабе, предположительно полагалось разделить так: восемьдесят империалов, или же тысяча двести рублей Российской империи, — непосредственно информатору. Ну и по шесть тысяч рублей преданному полевому агенту шейха, Сурабеку Эмегенову и ему, банкиру шейха Алексею Поротову.
Столько же выплат предполагалось произвести и за Рамадан, что будет в шавваль, то есть в сентябрь, знает лишь Аллах: если победят сторонники шейха, то платить агентам больше не будет повода, если же шейх будет побежден, что более чем возможно, то о дальнейших выплатах не могло идти речи, и получалось, что вся доля поступлений банкира за эти важнейшие месяцы составит какие-то жалкие двенадцать тысяч рублей, или же всего-то восемьсот империалов, тогда как целых четырнадцать тысяч четыреста рублей, целых девятьсот шестьдесят империалов провалятся в бездонную дыру, короче, пропадут впустую! Больше половины из двух тысяч золотых кувейтских динаров, короче, окажутся выброшены на ветер!
Как банкир, как инвестор, как частное лицо и как очень стреляный воробей Алексей Поротов к такой беде был готов всегда, он твердо настроен был ни такого, ни какого иного грабежа не допустить, и он принял меры. Он был оповещен об успешной ликвидации тройного агента, работавшего на слишком многих хозяев, и под предлогом необходимости честно поделить полученные для отслужившего агента восемьдесят империалов, не стал передавать деньги через условленное дупло в одном из троекуровских дубов над Андреевскими заразами в Нескучном саду, а договорился о личной встрече поблизости, в беседке-ротонде близ Канатчиковой имени почетного купца Константина Алексеева-Станиславского психиатрической дачи. Он запасся арбалетом, осиновыми стрелами с деревянными наконечниками, освященным в семи церквях мачете типа кукри флоридской фирмы «Декстер Лимитед», лассо из чертовой жилы настоящего арясинского производства и стал терпеливо ждать, разместив и нацелив арбалет под крышей ротонды. Егеря Нескучного сада утешились сторублевыми банкнотами, было их всего двое, и банкир почти не волновался.
Рассвет только-только стал проступать сквозь морось и туман, когда от реки, скользя на влажной траве у тощего ручейка, с трудом поднялся тяжелый от фунтов непереваренной крови, дряхлый на вид, а на самом деле всего-то тридцатилетний вампир, не имевший отношения ни к какой религии, — не только что к исламу. При нем были пустой кошель на поясе, постная гримаса и зачем-то слуховой аппарат, — самая ненужная для вампира вещь, как знал банкир.
После обмена приветствиями похожий на рыжего Ваньку-извозчика банкир и похожий на старика Хоттабыча вампир начали делить добычу, которую предусмотрительный финансист принес, заранее старательно перемешав золотые царские империалы, полноценные, хотя и недорогие крюгерранды Южно-Африканской Республики, золотые канадские доллары и даже столетней давности вполне коллекционные эквадорские кондоры, которые с видом умного специалиста и с немалой финансовой для себя потерей якобы в коллекционных: целях приобрел прямо в меняльной конторе нумизмата Якова Меркати. Оно того стоило: пересчет монет и перевод их к единому курсу с целью справедливого дележа Поротов доверил вампиру.
Условно-старый вампир не рисковал превратиться в референта средних лет и вынужден был с трудом перебирать тяжелые, сырые от утренней прохлады золотые монеты, занося их стоимость по единому курсу кувейтского динара в память калькулятора. Более всего раздражали его эквадорские кондоры, стоимость которых буквально по одной выяснялась лишь на встроенном в айфон приложении, что невероятно замедляло подсчет. Каждая тянула то на пять империалов, то на шестьдесят пять, вампир ощутимо нервничал, а банкир лениво отдыхал. Почти на него не глядя, банкир дернул шнурок, и заранее нацеленная стрела рванулась и пробила сердце вампира.
Несмотря на всю осиновость и наговорность, такого удара для вампира было мало, да он и ждал чего-то подобного, очевидно, иначе не напялил бы слуховой аппарат. Мигом выронив и золотой кондор, и айфон, он перемахнул через каменную скамью и протянул быстро отрастающие когти к горлу Поротова. Но тот тоже был наготове, а движения вампира сковывала избыточная сытость, на которую оппонент и не рассчитывал. Чеснок брать с собой банкир не рискнул и, памятуя вампирское обоняние и боясь спугнуть добычу, действию святой воды тоже не доверился. А вот чертовой жиле и мачете — так очень даже. Лассо из чертовой жилы захлестнуло восточного старца мертвой, неразрываемой даже силой двух танков петлей, и прыжок у него не получился. Покуда вампир корчился на полу ротонды, банкир выхватил тяжеленный кукри и рубанул врага по лицу. Хотел по горлу, не попал, напротив, вампир вцепился ему в ступню, исход битвы перестал быть однозначным. Банкир буквально шинковал лицо врага, понимая, что тот за сутки все свои потери может восстановить регенерацией, поэтому для битвы остаются разве что доли секунды. Между тем его ступню враг откручивал и старался оборвать. Но тут на помощь пришла природа: тело вампира свела страшная судорога, из рассеченного лица, прямо из желудка, стала хлестать мирно непереваренная кровь первой отрицательной группы, которой накануне неблагоразумно поужинал вампир. Используя выигранную долю секунды, банкир резким движением декстеровского ножа отделил голову чудища от тела.
Все произошло практически беззвучно и кончилось за минуту. Банкир сидел на полу ротонды, подвернув сломанную ступню, и тяжело дышал. Рядом пузырилось, распадаясь, тело санторинца. «Хоть с ним не возиться», — думал Поротов и понимал, что возиться ему как раз-таки и предстоит: нужно было отмыть от крови коменданта золотые монеты, улов за месяц шабан, полновесные две тысячи кувейтских динаров, которые теперь не нужно было ни с кем делить. Вместе с истребленным вампиром погибли также и коды к взрывателям октогеновых мин, заложенных под Петровский дворец, и козырь попал в рукав той самой стороны, которая для его получения даже не жульничала: он достался византийскому штабу, — его теперь, во время запланированного сражения, оказывалось невозможно взорвать.
Однако всю картину происходящего через несколько часов смог представить лишь один человек в Москве, и был это владелец Саларьевского многопрофильного рынка, цыганский миллиардер Полуэкт Мурашкин, которого в курсе всех последних событий держал вороной фризский жеребец-телепат Япикс. Но цыган во всех этих событиях принимать участия не желал: он знал, что бизнесу частных лиц война всегда мешает.
Рассвет вступал в права, и на небе сияла сквозь облака великая планета Аурвандил, именовавшаяся в греческом мире звездой Фосфор, или, иначе, Геспер, арабами же наименованная Зухра, иначе Тарик, что же касается названия, данного звезде римлянами, то означало оно неприличную болезнь и повторять его нет нужды.
В это время на посадку в аэропорт Шереметьево-5 в Москве пошел самолет «Солодка-Богатырь» российских императорских авиакомпаний, и на нем прибыл из города Розо через Париж чрезвычайный и полномочный посол республики Доминика господин ресторатор Доместико Долметчер. В аэропорту его никто не встречал, все полагали, что сейчас он заканчивает отпуск в своем маленьком поместье на родине.
Только у креола в эти дни были совсем иные, неизмеримо более важные дела.
XV
30 АВГУСТА 2011 ГОДА
АЛИПИЙ ИКОНОПИСЕЦ
Наемникам, чтобы выступить против
тебя в случае победы, потребуется
большее время и благоприятное стечение
обстоятельств, так как они не образуют
единого целого и к тому же наняты
и оплачены тобой. Назначенный над ними
командир не сможет сразу приобрести
такую власть, чтобы выступить против
тебя. В общем, в наемных отрядах
следует больше опасаться трусости,
а в союзных — доблести.
Никколо Макивелли. Государь
Кто-то дал ему прозвище Манта. Отчасти это было верно: так называют исполинского ската, он же морской дьявол. Пяти аршин длины в нем не было, но под семь футов роста — очень даже очень. Манты бывают черные и белые. Он был белым мантой из черной страны.
Он родился в пятьдесят третьем. При рождении будущий великан получил имя Йоханнес ван дер Мерве, — не считая пяти дополнительных имен, добавленных пастором-кальвинистом при крещении, которые сам он не вспоминал годами. С рождения у него было три родных языка: вокруг звучал язык родителей и более дальних предков, похожий на голландский африкаанс, на английском приходилось говорить с победителями войны начала века, англичанами, с нянькой, «айей», мальчик говорил на ее родном языке, щелкающем тсвана: нянька была столь набожной, что всякую охоту молиться у мальчика отбила. Мальчик, как многие африканеры его поколения, вырос законченным расистом, но в силу этого обстоятельства не признавал никаких женщин, кроме темнокожих, — так некоторые антисемиты ценят женское начало только в еврейках.
Из детства запомнилось ему море: Атлантический океан, в котором совсем близко к берегу приближались белые акулы, никогда не нападавшие на людей: они приходили сюда рожать детенышей. Почти все в городке боялись их, и при появлении в воде белого плавника с воплем выметались на берег. Йоханнес не боялся, — он вообще не считал тогда, что в мире для него есть какая-либо угроза. Он сам был для всех угрозой; но это чувство росло в нем непоспешно: он-то знал, что это акулы боятся его, — ну, или должны бояться. Тогда, пожалуй, он и стал Мантой — той самой рыбой, шестируким скатом, живущей в гордом одиночестве и способным испугать кого угодно всего лишь своим размером.
Йоханнес даже для бура, народа, где все мужчины очень высокорослы, был огромен. Он редко охотился и совсем не ходил смотреть на акул потому, что они казались ему скучноватыми и предсказуемыми, он-то знал, что хотя акулы эти и бывают футов до пятнадцати в длину, но хищными только прикидываются, коль скоро они приплывают к Херманусу рожать, инстинкт отключает всю их хищность, — не то начали бы они есть собственных детей, тут и конец всему акульему роду. Куда интереснее были настоящие южные киты, появлявшиеся у побережья в августе и не исчезавшие до ноября. На них юноша мог смотреть часами: эти были с ним вполне сравнимы. Этих он уважал. Они казались ему родственниками.
Родной городок был глухой курортной дырой даже по южноафриканским меркам. Однако отцы-застройщики начала века, гордясь, что Херманус перестал быть деревней с невозможным для почтовой службы названием «Хермануспитерсфонтейн», решили свой город украсить и построили в нем вокзал. Хороший вокзал с буфетом, в городе, где нет и никогда не было железной дороги, — ее те же самые отцы-основатели постановили не строить, чтобы городок остался курортом. И сейчас, в начале XXI века, железной дороги там не было, и строить ее было незачем, но буфет работал. Правда, город забыл своего уроженца, мальчика из семьи ван дер Мерве, да и сам мальчик его почти забыл, зато стал, скажем так, крупной рыбой, умеющей рвать самые хитрые сети.
Йоханнес рос как истый сын своего народа: стрелять научился раньше, чем читать, умел отсыпаться, не слезая с лошади по два дня, безусловно считал себя лучше всех европейцев, от которых происходил, и тем более лучше американцев, давших свободу разноцветным недомеркам, из еды признавал почти одну морскую рыбу, ну, мясо в крайнем случае, — и очень любил ходить босиком. Еще мальчик любил драться, желательно со старшими. Сперва его били — но скоро он стал бить сам, причем так, что с ним перестали связываться. Тогда Йоханнес решил превратить драку в искусство, а искусство — в профессию. Он был очень скрытен и замкнут, что для бойца всегда полезно.
Правда, большой рост таил в себе неудобства: молодой человек нигде не мог смешаться с толпой. Карьера обычного наемника его не прельщала, ибо он не хотел работать в толпе, да и не мог. Он стал мастером-одиночкой, контрактником на доверии. Некогда его предки жили по принципу: «Одной рукой держи лопату, другой ружье». Йоханнес, держа одной рукой ружье, другой предпочитал держать пистолет или самурайскую катану.
Октябрь 1971 года застал девятнадцатилетнего Йоханнеса, из-за большого роста нигде не способного слиться с толпой, но еще не вполне заматеревшего, в Таиланде, в рядах наемников Тана Киттикача. Фамилию ему дали тогда другую, — нынче, спустя тридцать лет, он точно не помнил — Хонгсаван или Вонграт. Было это полной нелепицей при его росте, но иначе не нанимали. 1974 год перебросил его в Португалию, накануне падения режима Салазара, его и там можно было опознать посреди загорелых молодых людей, приветствовавших совсем не сторонников династии Браганца. Фамилию тогдашнюю он припоминал смутно: ему казалось, что вроде бы Лопес, но иногда думалось, что Кабрал.
Осенью 1975 года его видели в Испании, где он то ли защищал режим умирающего Франко, то ли помогал свергнуть его. Санчес он был или Мартинес — какая разница? Весна 1980 года обнаружила его в числе английских морских пехотинцев, подрабатывавших в Монровии в армии полковника Сэмюэла Доу. И откликался он если не на фамилию Кеннеди, то уж точно на фамилию Кармоди. Кстати, десятью годами позже он лично поймал того полковника, кастрировал, отрезал ему ухо, заставил съесть, а потом милостиво повесил.
Если вспомнить неудобства жизни любого наемника, то надо констатировать, что молодой человек успевал очень многое. На языках стран, где он бывал, Йоханнес говорил весьма бегло. Умел ли он на них писать?.. Кому какое дело. Португальский, испанский, немецкий, хауса — как предполагал невольный полиглот, трудны только первые пять языков. Дальше любое изучение идет само по себе.
Кому служить? Йоханнес не заморачивался. Англичан он ненавидел за слова Черчилля о том, что «надо убить родителей, чтобы заслужить уважение сыновей», — этим методом некогда англосаксы и выиграли войну с его народом. Однако почему не пойти с ними на временное сотрудничество, если цели совпадают? Кроме того, среди англичан полно шотландцев и ирландцев, а им от Лондона осталось не меньше, чем бурам.
Йоханнес не служил государствам, не служил отдельным людям, — он мог пойти лишь на союз с конкретной группой, объединенной интересами. Или необходимостью защитить честь и могущество тех, кто рискует не только утратить их, но и вовсе исчезнуть — таковы были, к примеру, курды-христиане в Турции в середине девяностых, которых он вывел из войны, как Моисей из Египта, — и так же бросил. Йоханнес любил чувствовать себя рычагом, с помощью которого то ли Господь, то ли Архимед переворачивает мир. Точку опоры для Бога-Архимеда Йоханнес умел найти и сам.
Его и наемником-то назвать можно было лишь с большой натяжкой. Скорее то, чем он жил, было шахматной задачей, игрой на турнире с маленьким призовым фондом: выиграть почетно, проиграть не разорительно. В принципе он хотел бы играть с противником сильнее себя, потому как свергать черных президентов, чем уперто занимался старый знакомый Манты зануда Боб Денар, ему к наступлению миллениума надоело, и он переместился в Европу. Небелым нанимателям он отказывал, не начиная разговора. Курдская война кончилась. Израиль не считал его за человека, впрочем, он Израиль тоже за государство не держал. Тигирджан звал его в Икарию, Манта поразмышлял и пришел к выводу, что сочувствует больше царю, человеку довольно белому и точно христианину. Но царь его не приглашал, а потом выиграл две войны сам. Манта скучал.
И когда в седьмом году к нему в Шотландию приехал с дружеским визитом собственной персоной Константин Ласкарис, он наконец-то понял, что лекарство от скуки нашлось. Предложение стать полковником в войсках Ласкариса он принял не торгуясь и меньше всего думая про кокаин, которого и не нюхал никогда. Впрочем, какое там полковником? Была бы тут настоящая армия — быть бы ему генералом. Но вот уж на что ему было плевать — так на чины. Он был Манта, Йоханнес ван дер Мерве.
И вот он стал одним из четырех полковников византийской армии, двоих из которых знал раньше — желтую вьетнамскую обезьяну генерала Фаня и ирландского выскочку О’Флаерти. Третий, трехсотфунтовый китаец с Тайваня Ляо, вызывал некоторое уважение — уж хотя бы тем, что его подчиненные, весившие каждый как два вьетнамца, при нем вели себя как шелковые, будучи стальными. Самому Манте достался маленький полк колумбийцев, присвоивший себе имя какого-то своего полковника Аурелиано, поди выясни, кто это. Пять сотен вполне боеспособных ребят. Жаль, что все — грязные латиносы, а так — ничего.
Служба в освобожденном от вертолетов ангаре шла по восточному обряду, служил сам патриарх, и двое епископов помогали ему, видимо, так полагалось. Себя Манта считал христианином, хотя и не помнил, был ли он когда-нибудь в церкви. Надо думать, в детстве был, но за полвека человек много чего забывает. Христиане ли прочие полковники? Ирландец, видимо, таковым был. Что там на самом деле — неизвестно. Все истово крестились по-католически, слева направо, как и младшие офицеры-латиносы, которые стояли в ангаре маленькой группой в шесть человек. Всего в ангаре было народу человек пятьдесят, из условно гражданских — только кандидат в императоры и два его сонных чада и еще человек семь-восемь, присутствие которых на службе Ласкарис считал необходимым. Манта опознал главу контрразведки, министра финансов, еще одно лицо показалось знакомым. Прочие же были неизвестно кто.
Литургия совершалась на фоне ряда внедорожников, отнюдь не новых «хаммеров» — каждый всего-то на шесть мест, включая водительское, но вместительней достать не удалось. Правда, здесь была лишь очень малая часть высшего состава армии, хотя, надо полагать, главная: не вел бы иначе службу лично Досифей, патриарх Солунский, который, похоже, намечен был императором в будущие патриархи всея Руси. Но кто их, православных, разберет. Манта по-русски понимал еле-еле, что уж говорить по-гречески, dit is vir my in grieks, подумал Манта на родном языке, что в русской версии звучало бы как «для меня это китайская грамота». По-китайски он еще что-то понял бы, по-гречески — ни в зуб ногой, короче, в службе он не понимал ни слова, не знал и того, на каком языке она идет.
В потоке певучей речи он распознал испанскую фразу «los bendiga, Señor, soldados del emperador», «благослови, Господи, бойцов императора» и догадался, что идет чин благословения бойцов на их родных языках. Что-то мелькало еще, но смысл повторяемой фразы не менялся. Манта понял это по английскому варианту с неописуемым произношением какого-то восточного типа. Разобрать «Bless, Lord, the Emperor’s soldiers» он успел, потом служба вновь перешла в эмпиреи глоссолалии. Ну ладно, благословение всяко не повредит, если нынче «C-Day», «час Ч», как тут говорят. Уж на котором языке Манта запоминал этот термин — он и не старался вспомнить.
«Интересно, как они разберутся со всеми своими склоками, эти православные?» — подумал Йоханнес, понимая, что в любой религии у пастырей главное занятие — драка между собой, а потом все прочее. Из детства помнил проклятия родителей, посылавшиеся папе Римскому, и не сомневался теперь, что любовь у всех священнослужителей примерно одинаковая. Однако христиане в любом случае были все-таки лучше прочих, даже если они — грязные латиносы… но что поделать.
Манту изрядно развлекало, что наутро, как поставили их в известность, у мусульман всего мира намечается один из главных праздников года. Поскольку этой ошкуренной снизу публики в России жило до фига и больше, а именно они, по словам Ласкариса, некогда погубили его великую империю, он рад был им этот праздник испортить, как и все прочие, если будет возможность. Подсознательно он уважал китайцев прежде всего за то, что среди них мало мусульман: нечего дурью маяться. У Ласкариса в войсках, наверное, мулла-другой найдется, — но лишь бы с ними за одним столом не сидеть.
Время шло к трем часам ночи, а служба — к концу. Ветер утих, прошлая ночь и прошлый день выдались теплыми и безветренными, солнце наутро взошло ровное, без лучей, подобно луне в ночь полнолуния, и шайтанам в этот день не было позволено выйти вместе с ним, а значит — это как раз и была Ляйлятуль аль-Кадр, Ночь Предопределения, когда правоверные испросили прощения у Аллаха, затем миновал последний день священного Рамадана, и лучшие из них выстояли молитву на Идуль-Фитр, чтобы позже плотно покушать, после чего наступила нынешняя ночь, Ляйлятуль аль-Джаиза, Ночь Вознаграждения, длящаяся до намаза фаджр, более ценного, чем жизнь, и утренний восход звезды Тарик призван был знаменовать чью-нибудь победу у стен Кремля.
В победе абсолютно был уверен лишь один человек — Константин Ласкарис. У него был полный примус, извините, рукав, козырей в этой игре, и предполагать возможность поражения он не имел права. Затем ли он истратил четверть века, десятки миллиардов золотом, многие сотни тонн кокаина? Он, первый из мировых кокалерос, о кокаине сегодня не думал. Это мысли вчерашние и завтрашние, а сегодня — сегодня была война.
Из внешних событий, помимо восхода в небеса звезды Тарик, в Москве — и прежде всего в заведении мадам Делуази — ожидалось начало визита наследного принца Икарии Сулеймана Герая, будущего, надо полагать, Селима, а пока что знаменитейшего плейбоя исламского, да и не только, мира, которому давно простили и вакуумные бомбы, и планомерное истребление политических конкурентов, и подхалимаж перед империей.
…Служба кончилась, православные стали подходить под благословение к патриарху. Манта с удивлением заметил среди них несколько офицеров из ирландского корпуса. Не привыкать, он знал, что иные боевые товарищи успели вероисповедание поменять три-четыре раза. Ничего, тому, кто тебя хочет нанять, совсем не надо, чтобы тебя нанял противник. А он ведь может. Но православных оказалось немного: вместе с августейшей семьей десятка два. Вроде бы и августейшие там были православные не все, но в такой день не до деталей. Латиносы к амвону не пошли, но крестились весьма истово.
До восхода оставалось добрых полтора часа, а Манта уже сидел в джипе, в длинной колонне двигавшейся к Москве армии наемников. Дорога была темной, освещали ее почти одни только фары. Двигалась колонна совершенно беспрепятственно, опознавательных знаков она не имела, но была оснащена номерами Сорок пятой императорской митридатовской генералиссимуса Михаила Черкасского бригады специального назначения. Дорога вела сперва из Куськова в Лукино, дальше в Новофедоровское и оттуда уже на Москву. На официальных картах эта дорога считалась гравийной, хотя на деле тут был бетон, и бетон этот был, разумеется, крепко замешан на кокаине. Другими клеевыми составами византиец никогда и не пользовался. Добравшись до хорошо освещенного Киевского шоссе, колонна пересекла его и двинулась на север, пересекла такое же Минское и вновь продолжила перемещаться к северу и, лишь доползши до Рублевского, тяжело повернула к центру Москвы, видимо, намереваясь достичь Кудринской площади, — ну, а там уже имелся подземный путь, готовый принять всех, кого пошлет в битву наследник византийского престола. На Кудринской площади машины свернули вправо, но у тех, кто это видел, не было времени осознать происходящее.
Мусульмане Москвы и Мекки, городов, где совпадают часовые пояса, почистили зубы, совершили омовение, надели лучшую одежду, умастились благовониями, съели по горсти фиников, кто запасти их сумел, а кто нет — тоже что-то сладкое съели, потом отправились на молитву. Успел ли на нее Сулейман — сказать трудно, ибо ранее, чем наступило время полдневного четырехракаатного намаза зухр, столице стало сильно не до Сулеймана.
Бригадный генерал Фань Мань Как знал о войне, надо думать, больше любого бойца в армии Ласкариса, вьетнамскую войну он прошел с первого до последнего дня и, если бы американцы не мешались под ногами, от режима дедушки Хо за два года не осталось бы воспоминания. Но они мешали изо всех сил, и поэтому с семьдесят пятого года он воевал уже в других странах, воевал практически непрерывно. Приволок его к византийцу все тот же Ляо, отнюдь не друг, но человек деловой, понимавший, что война — это бизнес и в нем нет ничего личного. Вьетнамец был нанят для действий много более опасных, чем все, что должны были делать прочие, поэтому ему, как и всей его крошечной дивизии, платили много больше, чем прочим. Сегодня ему свои деньги предстояло отработать.
С вечера разместившись в бывших шампанских подвалах, ровно в пять утра, по знаку генерала бойцы по двое вступили в туннель и с максимально возможной осторожностью двинулись к Кремлю. Тимон Аракелян, предупрежденный об этом с вечера и кротом и Шубиным, которому будущие новости сообщил младший брат, императорский предиктор, потребовал к телефону коменданта Кремля, и Анастасий Праведников разбудил отдельный императорский полк кремлевских стрельцов, расквартированный в помещении Арсенала. На замкнутом четырехугольном плацу выстроились почти триста молодых людей, понятия не имевших о том, где и как им предстоит воевать. Получив более чем точные данные о более чем скором штурме Кремля со стороны Никольской и, возможно, Арсенальной башни, генерал армии Адам Клочковский принял командование и вывел солдат на позиции. Солдат было немного, но теснота мешала даже им. Дмитрий Панибудьласка в скромном количестве двадцати человек рассредоточился по Красной площади, готовый дать отпор любому противнику с помощью лучшего известного ему оружия в рукопашной — бейсбольной биты. Поскольку биты, в отличие от Дмитрия, не размножались, ими были заполнены все подходы к площади со стороны Верхних Торговых рядов, в советские времена известных как ГУМ.
Следуя согласованному с Ласкарисом плану, Эспер Высокогорский еще с вечера предупредил Пахлавона Анзури о готовящемся в шесть утра штурме. Поскольку информацию он сопроводил двухфунтовым пакетом кокаина, таджик временно покинул лоно ислама и за час до драгоценного намаза зухр испортил шейху весь праздник Ид аль-Фитр: из более чем надежных источников ему, Пахлавону, было сообщено, что византийская армия в ближайшие часы начнет штурм Кремля. Шейх, надеявшийся два дня праздника прожить спокойно, от ярости забыл русский язык, но взял себя в руки, плюнул на все празднование и призвал шахидов. Те расстроились, узнав, что больше им своих временных жен не видать и что жить им осталось считаные часы, но тоже взяли себя в руки, натянули пояса с октогеновыми шашками и погрузились в специально купленные для такого случая лимузины с номерами посольств мелких эмиратов. Шейх не был вьетнамским генералом, но тоже кое-что в войне понимал, лично перестреляв в недавние годы полторы сотни курдских христиан.
Эспер следил за передвижением лимузинов через те же спутники, что и Аракелян, но волновался меньше, ибо в победу шейха не верил ни минуты, а в то, что с любыми другими победителями сможет договориться, напротив, верил абсолютно, арабист всем нужен, кроме мусульман. Сам шейх со всеми мыслимыми предосторожностями добрался до своей опорной базы в центре: заранее, на подставное лицо, на некоего Ивана Степановича Блинова, он откупил весь третий этаж бывшей четвертой московской женской гимназии, расположенной почти точно напротив начала Малой Никитской, на которой, в доме бывших Тарасова, Бардовского, Берии и арабского государства, располагался московский офис фирмы Ласкариса, пока еще также и Федорова, но в любом случае к вечеру эта вторая фамилия обречена была сгинуть.
«Овозаи халифату!» — прошептал шейх, «Слава халифату!», лег под окно и поднял перископ. Его мальчики свое дело знали, и он им был не нужен, да и далеко было от Садового кольца до мест, где разразится запланированное. Во всех вариантах туннель рухнет самое большее через час, а дальше, ну, Аллах знает больше.
Джасенка Илеш, вместе со всем своим штабом борьбы за свободу всех от всех на всякий случай убралась на Красноярскую, в квартиру так и пропавшего ни за понюшку Игоря Васильевича. Что с ним случилось — она все еще не выяснила, но на его возвращение почти не надеялась, несмотря на все заявления Оранжа о том, что «месть будет страшной». Месть ее не утешала, мужик был классный, не чета некоторым, за кем гоняются тихоокеанские принцессы.
Побывавший накануне в кабине у Тимона посол-ресторатор Доместико Долметчер избавился там от очередных суринамских даров его тетушки, однако, как и всегда, вынужден был с антиквариатом отправиться к Меркати. Антиквариата было совсем немного, всего фунтов двадцать колониального золота, но среди него имелась настоящая редкость: несколько золотых макукинов, грубых, клейменных прямоугольным крестом монетных заготовок из Попаяны в Колумбии, которые пожертвовал Великой Маме для передачи ее племяннику великий колумбийский писатель. Оценить такое мог только Меркати, да и хранить в такие времена нечто подобное стоило только у него в подземельях. Долметчер с вечера то засыпал ненадолго в гостевой комнате, то призывал Амадо и пил бесконечный кофе, каждый раз называя новый рецепт и каждый раз получая именно заказанное. Найти для себя такого баристу он и не мечтал и понимал, что хозяин усадьбы скорее с дублонами расстанется, чем с филиппинцем.
Не прошло и часа, как в двух шагах от Бульварного кольца, на Малой Никитской, прогремел взрыв, и хрупкий, очаровательный особнячок Рябушинского, более известный Москве как «домик Горького», взлетел на воздух вместе с окружающим садом, и греза Шехтеля вместе с гордостью Москвы превратилась в зияющую дыру посредине улицы. За первым взрывом последовал второй, и четырехэтажный куб Телеграфного агентства Российской империи, агентства ТАРИ, просел сам в себя, гремели взрывы вдоль всей Большой Никитской. Внутренние войска, заранее приведенные в боевую готовность, не ожидали масштабов столкновения и ненадолго растерялись, а тут из-под земли, как муравьи, полезли вьетнамцы в сатиновых формах, из домов, как горох, посыпались орущие голые обыватели и началась уже не Ходынка — начался бой, какого Москва не видывала более девяноста лет.
Пока шейх взрывал свои живые боеприпасы, половина вьетнамского полка успела дойти до Кремля, треть втянулась обратно в особняк, потеряв убитыми и ранеными человек пятьдесят, — этого тоже было многовато, — однако жизнь наемника именно такова, что не гарантирована. Огромные семьи во Вьетнаме теперь должны были получить компенсацию, на которую, надо думать, уже много лет надеялись. Бойцы знали, что они — расходный материал, но Ласкарис платил больше и регулярнее других. Теперь вьетнамский генерал ждал уже совсем другого взрыва. И он прогремел.
Покуда кремлевский полк яростно готовился к защите угловых башен, а бабы оплотника, — сношарем Ромео называть себя запретил, — села Зарядья-Благо датского обороняли подступы к Кремлю и к селу со стороны реки, взрыв грянул совершенно не там, где его ожидали. Почти двести лет любовалась Москва на выстроенный в Александровском саду, в том месте, где французы оставили в Кремлевской стене дыру, Итальянский грот. Колонны, обрамленные аркой, сложенной из обломков разрушенных французами зданий, средневековое каменное ядро, вмурованное в нее, все это рухнуло на клумбы. Почти мгновенно там же, в глубине стены, грохнуло еще раз, и не самая популярная из башен Кремля, Средняя Арсенальная, стала разваливаться на глазах.
Таджикская армия шейха запаздывала, застряв среди молящихся в Касимове, запас шахидов иссяк, новых должны были завезти только завтра, и Файзуллох понимал, что время сейчас работает против него, — если враги либо отстоят Кремль, либо возьмут его, сражаться придется всерьез и долго, а вот к этому он был не готов, слишком привык три дня Ид аль-Фитра проводить в отдыхе и молитве. Но, сколь бы ни был враг силен, Аллах еще сильней, и шейх твердо верил, что именно его мусульманское дело правое и поэтому он непобедим.
В Кремле не было паники, трусы в императорскую гвардию не попадают. Клочковский спешно бросал короткие приказы, офицеры выполняли все, все было выполнимо, только вот выполнимо было не все: игнорируя подземный ход, со стороны Никитской валила на Кремль многосотенная, совершенно профессиональная армия вьетнамских наемников, детей народа, как начавшего воевать во времена Наполеона и первых императоров династии Нгуен, так за двести лет и не успокоившегося.
Дмитрий заметно разрастающейся толпой через Кремлевский проезд стал втягиваться в Александровский сад, но по нему был открыт кинжальный огонь из противотанковых винтовок, и он попал в затруднение: предстояло штурмовать баррикаду из тел самого себя, что было и трудно, и больно, к тому же бейсбольные биты против пуль — аргумент слабый. Жертвовать собой до последнего тела он не имел права, уже сейчас, потеряв несколько десятков тел, он утратил значительную часть боеспособности. Разрастись он заранее тысяч до десяти, он бы этой полусотни жертв не почувствовал, но он элементарно не успел. Однако кремлевская гвардия тем временем привела себя в порядок, переместилась на северную стену и подняться вьетнамским штурмовкам Ласкариса на нее не позволила. Пулеметы у гвардии тоже были. Хотя Средняя Арсенальная и грозила рухнуть, но три четверти стены, ведших и к Арсенальной, она же Собакина, и Троицкой, она же Куретная, оставались целы, вьетнамцев туда поднялось лишь несколько. Кого-то из них застрелили, кого-то спихнули вниз.
Со стороны Моховой в две сотни тел давила толпа Катерины Вовкодав, и нельзя сказать, что совсем безуспешно. С запада и севера, несмотря на дыру в стене, Кремль позиции не сдал, с юга же была река, и туда бабы оплотника Ромео никого бы не допустили. Напротив, Ромео выделил брату отдельный батальон и выслал его для охраны довольно беззащитного здания на Лубянке, где на плюс шестом этаже ничего не понимающий Тимон глядел на врученный Шубиным бланк приказа с золотым обрезом, на котором стояло «Вводить войска запрещаю. Павел», и ниже — подпись круглым почерком учителя средней школы. «Не иначе брат подсуетился», — подумал генерал и был прав.
Все могло бы решиться в пользу царских войск, если бы кремлевский полк при поддержке баб и верных оборотней боролся только с вьетнамской дивизией. Однако со стороны Чертолья, со стороны его императорского величества бассейна «Петербург» на Кремль, держа ровный строй, шли внедорожники с ирландцами О’Флаерти, канадцами Макдоннела и китайцами Ляо. Сборная дивизия Манты, полковника ван дер Мерве, вообще ушла в резерв, готовая в любой момент остановить танки дивизии князя Кантемира. Тут на вооружении было оружие более серьезное, но его Ласкарис решил не использовать до переломной минуты, а бомбить Кремль запретил вовсе: собственный дом способен бомбить только идиот. Ольстерский парашютный десант сбрасывать на Кремль раньше полудня он тоже не собирался. Хотя две гаубицы на Софийской набережной против Кремля накануне собрали, но что толку от двух гаубиц?
С юго-запада Москвы, одновременно с Икарийской площади и с Якиманки к Боровицкой и Водовзводной башням Кремля двигались основные войска Ласкариса во многих десятках «хаммеров», и это была элита армии — восьмипудовые бывшие «морские котики» Северо-Американских Соединенных Штатов, морские десантники Кореи, чьи собратья только и сдерживали десятилетиями сумасшедшего оборотня на севере, черные ветераны конголезского регби, в котором играют человеческими головами, бразильские индейцы бороро, способные в одиночку порвать пасть крокодилу, парни из канадской JTF2, ветераны британской SAS, короче, все, кому недоплачивало или не платило вовсе их правительство.
Этим парням кокаин был ни к чему, да они и обиделись бы на подобную валюту. У каждого из них был надежный счет, у кого на Тобаго, у кого на Тортуге, у кого на наиболее популярных в этом смысле Каймановых островах. Ласкарис пока что не чеканил звонкой монеты, но у него карман был полон товаром более чем надежным, ибо тот, кто был его покупателем, вынужден был обращаться к нему снова и снова. В атаку византиец не полез, как и планировалось заранее, он почти без стрельбы занял Петровский дворец. Охрану наскоро перебили, поставили в импровизированном кабинете экраны, будущий император устроился в кресле и стал следить за боем. Приятно было думать, что именно отсюда в прежние века русские цари начинали свой коронационный путь в Кремль, да и нынешний, все еще недосвергнутый царь Павел Федорович — тоже. Ничего, о его низложении не сегодня-завтра уже можно будет объявить.
Почти двести лет тому назад в этом дворце, чей первый вариант воздвигли по приказу немецкой императрицы Екатерины Великой, отсиживался от кремлевского пожара император Наполеон. Последний император из династии Младших Романовых так и вовсе считал дворец чем-то вроде своей московской квартиры. Ему, будущему императору Всея Византийския Руси Константину Константиновичу Ласкарису, Константину I, тоже не хотелось каждые четверть часа слушать в Кремле надоедливый звон курантов. Здесь, в глубине подковообразного двора, было тихо. Правда, пока не совсем: шум войны доносился с Петербургского шоссе и сюда.
При всем при том своей наемной армии Константин Ласкарис не верил ни на минуту. Лишь он один до конца понимал, что его очень разношерстную армию спаивают в единое целое не одни только деньги. Не зря в его армии амазонские индейцы готовы были порвать горло не одним лишь крокодилам, но и почти белым колумбийцам. Конголезские футболисты готовы были резать буров, а те имели большой зуб на намибийских овамбо. Тамилы с Цейлона только минуты расслабона ждали, чтобы вырезать всех сингалов, а ольстерские протестанты давно заточили ножи на своих же католиков. Эту армию скрепляла ненависть почти каждого почти к каждому.
Может, кто об этом и догадывался, но протестовать против такого положения было некому. Может, кое-кто и знал, что кокаиновые реки текут через византийские желоба совсем не только с острова Ломбок. Но дураку не поверят, а умный сам промолчит, по крайности возьмет деньгами, а не возьмет, так ему же хуже.
Время шло к полудню, и колонна десантников уже вломилась в Боровицкие ворота Кремля, устраивая кровавую баню тем из защитников, кто подворачивался под горячую руку. Ласкарис посасывал леденец, потирал виски, вглядывался в экраны и все время менял очки, проклиная свой астигматизм. Мысли лезли в голову посторонние: хотелось знать — мается ли опять приступом Василий, мается ли опять дурью Христофор, где братья Высокогорские, где, главное, Долметчер?
Вот как раз Долметчер был рядом, сопровождаемый греческим гвардейцем из охраны, он шагал через круглый двор к парадному подъезду дворца. Гвардеец скользнул вперед и доложил, посол-ресторатор вступил в разгромленный кабинет и без удивления пробежал глазами по экранам, на которых была видна почти одна лишь поднятая сражением пыльная буря.
— Ваше величество, — обратился креол по-русски. Он знал, что в ближайшее время, по крайней мере, ранее коронации, Ласкарис из Москвы отлучаться не намерен, из всех общих ресторанных языков к тому же Долметчер лучше всего русский как раз и знал.
— Рад видеть вас в Москве. — Кандидат в императоры привстал. Они были почти ровесниками, но Долметчер давно достиг всего, чего хотел, в своей кулинарии и в своей дипломатии, а вот Ласкарис был уверен, что в его жизни все самое интересное только теперь и начинается.
Креол разместился в соседнем кресле и на экраны больше не смотрел. Он достал планшет и начал записывать то, что одобрял византиец. Идей у него было немало, хотя уверенности в том, что пригодится хоть одна, как раз не было. Но почему бы, соблюдая пост, не сочинить скоромное меню?
— Итак, как мне удалось установить, в парадных и воскресных трапезах в Никее на императорский стол подавали жирного козленка, вымоченного в рыбном соусе, фаршированного чесноком, луком и луком-пореем, посыпанного тертым миндалем. Не будет возражений?
— Не будет, — ответил Ласкарис и неожиданно сглотнул слюну: со вчерашнего дня у него во рту маковой росинки не было.
— Далее. Угодно ли вам увидеть среди блюд коронационной трапезы жареного василиска?
Ласкарис вытаращил глаза. Ему все было в кухне Долметчера угодно, но такое он представить не мог. Долметчер поспешил разъяснить:
— Это составное блюдо: петушиная голова присоединяется к туловищу поросенка, кроме того, присоединяем крылья и хвост павлина, фарширует бразильским орехом и вуаля! Можно выбрать и голову тукана, но клюв тогда лучше присоединить марципановый. Можно добавить и акулий плавник. Рекомендую из рыбных деликатесов соленую щековину жизель под пищевым золотом. Это — нежные щеки золотых рыбок, гарнированные мозгами колибри, в меню византийского двора не входили, но сам рецепт — очень византийский по сути…
— Мелидзаносалата? — произнес Ласкарис невозможное для русского слуха слово.
— Разумеется, но салат из печеных баклажан — что же в нем праздничного? Выберем тарамассалата, только тресковую икру заменим на осетровую. Позвольте, я продолжу меню: в России кулинарного императорского двора в значительной степени утрачены… по известным причинам. Итак, продолжаю. Черноморский осетр: больше трех-четырех купить не удастся, рыба вымирающая, но для парадного стола достаточно. Напротив, лосось по-средиземноморски, salmone sul Mediterraneo, доступен почти неограниченно, если одобрите. Соус, полагаю, кипрский. Вино… рицину не предлагаю, сосновый привкус оценят только… византийцы. Все же лучше пригласим сомелье, на тысячу человек даже бароло хорошего года трудно купить.
— Право, вы знаете лучше…
Крайний экран слева вспыхнул и погас — видимо, выстрел угодил прямо в камеру. Вид Манежа исчез, но там ничего особенного и не происходило. Но Долметчера это не заинтересовало.
— Хотелось бы узнать ваше мнение об эскарго. Виноградные улитки — безусловно достижение высокой средиземноморской кухни, но для России это блюдо непривычное. Как решите?
Ласкарис подумал.
— Пожалуй, в Греции тоже удивились бы борщу. Давайте воздержимся.
Вспыхнул и погас еще один экран. Через секунду на него дали другой ракурс, но ресторатор не поднял взгляд от планшета.
— Кней де броше из гавайских омаров? Увы, не достанем мы гавайских на тысячу порций. Новошотландские… Но правильно ли поймут, с Канадой у России традиционно плохие отношения.
— Любые, давайте любые. Все равно никто не поймет ничего, а на императорский стол подадите гавайские.
— Разумеется. Также, полагаю, морские ежи — фирменное блюдо ресторана «Доминик». Нет возражений?
Экран опять потух. На прочих все равно рассмотреть нельзя было ничего.
— Из национальных блюд Вест-Индии можно подать крокеты из филе кубинского крокодила… но, честно говоря, боюсь рекомендовать. Вид находится на грани вымирания и, если кто-то из экологистов узнает о том, что на банкете в честь коронации подавалось блюдо из мяса кубинского крокодила…
— А шли бы они! Ставьте в меню. Не напасешься на них. Лучше сразу весь вид съедим, и проблемы не будет. Не забудьте и черепаховое что-нибудь.
Долметчер сделал пометку.
— Цесарский гриб, разумеется? В тарталетках?
— В тарталетках….
— Клубника в портвейне?..
Креол заканчивать и не думал, а на дворе уже разгорелся белый день. Ласкарис бросил взгляд на часы, потом на экран прямо перед собой. Размещенная на высоко висящем вертолете камера демонстрировала, как раскрываются над Кремлем разноцветные шляпки парашютов: на Ивановскую площадь, на Дворцовую, Соборную и Сенатскую, на плац Арсенала опускались многие и многие десятки колумбийского десанта полковника Манты. Конечно, в течение ближайших часов чуть ли не половина из них погибнет, но такова судьба расходного материала войны. Не за это ли он, Константин Ласкарис, заплатил многие миллиарды долларов, положил на эту всю свою жизнь, в конце-то концов?
— Тирамису?.. Джелато?.. Яква?.. Нанаймо?.. Гулаб джамун?.. Дадар гулунг?..
XVI
5 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
ЛУПП СОЛУНСКИЙ
С высот Кремля, — да, это Кремль, да, —
я дам им законы справедливости, я покажу
им значение истинной цивилизации,
я заставлю поколения бояр с любовью
поминать имя своего завоевателя.
Лев Толстой. Война и мир. Том 3
Шел год тринадцать чен. Шел год тысяча семьсот двадцать восьмой по эре Диоклетиана. Шел год тысяча сто тридцать первый эры Непал Самват. Шел месяц мисра. Шел месяц панипет. Шел месяц бхадрапада. Был день лусни. Был день ан луань. Был день святого Луппа, и поэтому рожь было сеять нельзя, зато можно было льны лупить.
А вот про то, улетели ли в тот день журавли, низко ли они летели, высоко, не то со стыда, может, и вовсе не летели, уже не думал никто: едва ли смотрел народ тогда в небо, ему совсем было не до того. Не зря в тот день отец Иоанн Балабустман захотел быть избранным в патриархи альбо же в президенты. Не зря в этот день всемирно известный садовод Трифон Карасенко снял первый урожай помидоров с кремлевских голубых елей, в рассуждении подарить таковой новому императору на коронацию. И не зря Федор Охлябинин интервью каналу «Аль-Джазира» заявил, что ни при каких обстоятельствах не позволит инспектировать импортируемый им из России природный газ ни на халяльность, ни на кошерность, ибо он человек светский.
В Москве было пыльно. Еще бы не было пыльно, если всего несколько дней назад кремлевские гвардейцы, понеся немалые потери, по прямому приказу генерала Аракеляна отступили на позиции в Красногорск. Спасские ворота были закрыты намертво, притом с двух сторон: снаружи их стерегли бабы Ромео, внутри — китайцы Ляо. Троицкие ворота перегораживала полностью рухнувшая Кутафья башня, и единственным входом в крепость служили ворота Боровицкие. Вьетнамцы строго их стерегли.
Все девятьсот гусар Царского Сумского мотострелкового отправились по приказу того же Тимона в Лефортовские казармы. Донские казаки с пластунами хоть и роптали, но встали лагерем в Химках и не смели носа оттуда показать до новых распоряжений: это был недвусмысленный приказ императора Павла Федоровича, переданный через генерала Тимона Аракеляна. Отчего опять через него? А вот отчего.
Такого позорища Москва почти сто лет не видела, с самого триумфального въезда в Кремль краснозвездатой сволочи в конце семнадцатого. К позднему вечеру тридцатого августа, в лучших традициях Ходынки войска победителей спешно произвели косметическую уборку территории Кремля, и туда на бронированных автомобилях въехал через Боровицкие ворота кортеж Константина Ласкариса. Сразу за воротами византийцу подвели пегую кобылу породы пейнтхорст, ранее содержавшуюся на конюшнях московского ипподрома именно для такого случая. Белого коня не достали, но пришлось обойтись тем, что имелось. Подтянули подпруги, подсадили, Константин тяжело опустился в седло и при всем параде въехал на относительно прибранную Соборную площадь. Здесь его встретили хлебом, солью и русским самогоном глава военной разведки империи, генерал армии Адам Захарович Клочковский и советник юстиции высшего имперского ранга, обер-прокурор Матрена Порфирьевна Колыбелина. Приветствовали, стоя на коленях. Мало того — трижды отбили узурпатору земной поклон. И правительственное телевидение его императорского величества Павла II этот кошмар транслировало через спутники на весь мир, и мир ни фига не мог в этом понять. Выиграв две тяжелейших икарийских войны, русский царь почти без боя сдал свою столицу.
Хорошо еще, что вместе с ними не стоял в одном ряду военный министр империи маршал Феодосий Корсаков. Напротив, располагая на Валдае двумя полными дивизиями, он предлагал в течение двух суток выбить византийца и из Кремля и из Москвы, но Тимон, располагая прогнозами Горация и рекомендациями не менее осведомленной организации Оранжа, ответственность за гибель более чем двадцати тысяч человек в течение ближайшей недели на себя не принял, отлаялся от маршала все тем же приказом царя. К тому же не был уверен Тимон, что так уж легко одолеют простые солдаты маршала чуть ли не равное количество тренированных наемников-десантников, воюющих не патриотизма ради, а элементарно ради жалованья.
Константин Ласкарис новым императором провозглашать себя не спешил, очевидно, из суеверия, среди руин и мусора тоже селиться не пожелал, попросил найти где почище. Милостиво принял из рук коленопреклоненной Матрены каравай, отломил корочку, крепко посолил и съел. Стопку самогона из рук Адама тоже принял и выпил. Передернуло от сивухи, конечно, но сделал вид, что ух как здорово. Доверенные референты сообщили, что в Большом Кремлевском и прочих помещениях, мягко говоря, не прибрано, а вот в Грановитой палате с ее итало-византийским стилем будет самое то. Можно и в Потешном дворце… но нечего смешить потомков.
Ладно, депутатов от кремлевской камарильи дождался. Так сказать, ключи от Кремля уже есть, а где нобили, олигархи, бизнесмены, поставщики двора, наконец? От неуместности мысли Ласкарис чуть язык не прикусил — он вспомнил, кто именно поставлял все последние годы оливковое мало и красные апельсины к столу императора. Ну надо же. А что, остальные, выходит, свалили по Лондонам и Пномпеням? И сам себе ответил: точно свалили. При таком раскладе он бы точно взял сыновей и свалил. Кстати: парней немедленно — к ноге.
Надеясь, что акцента у него минимум, Ласкарис пригласил по совету тех же референтов чуть ли не единственного серьезного человека в администрации Кремля, который на площадь к нему с холуйским хлебом-солью не поперся. Оказался это управляющий делами Кремля, средних лет и среднего ранга чиновник Анастасий Праведников, известный своим загадочным многолетним отсутствием и неожиданным карьерным взлетом. Тот был мрачен и нервозен. Константин, сколько мог, постарался его успокоить и сразу заверил, что никаких репрессий не будет, что его собственные боевые потери выше, чем у защитников Кремля, — это было то ли правдой, то ли нет, сказать пока никто не мог.
Ответной реплики будущий император не понял. Какие две тысячи убитых и покалеченных? Много, если пятьсот с двух сторон. Кто такой Дуров и его зеленая свинья? Какие две тысячи порций камбалы-сольолы, морских языков, не заказывал он камбалы на коронацию, заказал лосося по-средиземноморски, ну, морского ежа, так не праздновать же коронацию сухарями, всегда что-то на стол надо поставить?
Как и каждый, кому была дорога жизнь при дворе царя-историка, Анастасий сравнительно хорошо знал историю. Он пояснил, что на праздновании в честь коронации неудачного последнего царя из младшей ветви династии, на так называемой Ходынке, точнее, на площади с таким названием, во время народного гуляния погибло и было искалечено более двух тысяч человек. Причем семье каждого погибшего правительство вынуждено было выплатить цену крови — тысячу рублей на человека, что примерно равнялось тогда пятистам долларам Северо-Американских Соединенных Штатов, так эта небольшая сумма в обычном перерасчете один к двадцати пяти составит от пятидесяти до пятидесяти пяти миллионов рублей, и лично у него, у Анастасия, подобных свободных сумм нет в наличии. А еще надо и хоронить всех погибших за государственный счет. А еще и по бутылке мадеры за каждого погибшего. По полубутылке за покалеченного.
Для Ласкариса сумма была умеренной, к тому же платить предстояло только половину — вторую составляли его собственные запланированные расходы, получалось всего-то расходов на чемодан-другой кокаина. Он попросил Анастасия об этом не думать, расходы новая администрация возьмет на себя.
Анастасий поинтересовался — какая такая новая администрация и не может ли он быть ей представлен? Византиец ответил, что отчасти может, и с новым комендантом Кремля будет легче всего познакомиться, посмотрев вон в то венецианское зеркало у окна. Анастасий шутку не оценил и прямо заявил, что верен своему царю. Ласкарис не зря был и византийцем, и наркобароном: никто от скромного чиновника и не думал требовать изменить присяге. Предлагалось лишь взять на себя приведение в порядок столичного оплота, ремонт, уборку, обеспечение функционирования текущих служб, да и все. В общем-то Анастасий, собиравшийся идти на плаху, был растерян, потому как «быть на хозяйстве» он за много лет полностью привык, а тут ему новая власть предлагала заниматься тем же самым. Хорош он будет, если к возвращению законного царя Кремль так и останется разгромлен?
Он подумал — и временно согласился. Временно потому, что не был уверен — справится ли. Но Ласкарис знал людей лучше и полагал, что справится.
Дел у византийца было невпроворот — и налаживать контакты своей церковной иерархии с местной, и устанавливать контакты с органами полиции и правопорядка, готовя страну к скорейшему восстановлению крепостного права с возвратом к формам эффективного рабовладения, и к репрессиям в отношении мусульман всех разновидностей, и к дипломатическим вопросам, и к зачистке остающихся сторонников прежней династии, и к восстановлению в стране правил византийского наследования, и к оборудованию порфировой комнаты…
А на дворе была полночь, день дефтера плавно перетекал в день трити, именно так и подумал по-гречески Ласкарис, отчаянно уставший от русского языка, или, чтобы понятнее было, перетекал день уторак в сриеду, день лунеди в мартеди, именно так сказали бы в Тристецце, хотя как там еще как-то по-истрорумынски было бы, он не помнил, тем более что это диалект очень сложный, и все это сейчас, когда Кремль лежал у его ног и предстояло бороться за процветание обновленной страны с восстановленной династией во главе, какое ему было дело до наречия, на котором говорит три сотни человек?
Зря будущий император не вспомнил о том, что своими руками угробил нынче куда больше трех сотен. Но он, как и любой простой наркобарон, полагал, что не надо трогать проблему, пока она тебя не трогает. Ему всего лишь хотелось спать в последний день метагейтниона, тьфу, надо переходить на российский календарь, восьмого месяца, проще сказать — августа.
Но это было в тот день, а сегодня на дворе стояло уже пятое сентября, первая неделя осеннего Симеона Столпника, и задолго до рассвета в небесах воссияло созвездие Северной Короны, иначе — аль-Факка, а в нем — звезда Гемма. Возможно, это была звезда Ласкариса. Но кто его знает, это ведь звезда хоть яркая, но двойная и, заметим, что очень важно — это звезда затменная.
И опять-таки напомним, что было холодно, сыро и все еще пыльно.
Оборотни и прочие сверхъестественные существа теснились в палатах дьяка Выродкова под Никольской башней. Набилось их сюда раз в пять более обычного — никому не хотелось шататься по разгромленному городу и попадаться под горячую руку. Отсутствовал разве что Барфи, который сидел тише мыши при исламском штабе вне Москвы, поскольку мусульманская война разразилась у Касимова, и ее подробности стали известны позже.
Многие ели. На этот раз Катерина Вовкодав, разделившись на четыре тела, кухарила: две ее части сосредоточенно следили за гречневой кашей в огромных кастрюлях, две — кашу по столам разносили. Один из двух престарелых Абрамовых мыл миски в корыте, другой, как обычно, сидел за столом дьяка и тихо чесал языком. Дьяк печально не знал куда руки деть, орехов ему никто не принес, не до того было, да и не всем они были разрешены; из безвредного и доступного у оборотней имелась только гречневая каша, по счастью, крупы в запасах Арсенала хранилось на годы, а вода была в колодце под Арсенальной башней.
Грустно бездельничал, подпирая стену, поделившийся на дюжину покрытых синяками тел Дмитрий. Ему до восстановления требовалось еще недели три. Такой неудачи, как в этот раз, за ним не помнил никто. Поскольку до вызова с Сахалина ни Ёсикавы Кадзицу, ни Рафаэля Монжуа дело так и не дошло, других множителей в помещении не было и быть не могло, да больше бы сюда и не поместилось. Целую лавку занимал широкой тушей почти выздоровевший Тархан, грустящий лишь оттого, что не может проесть и пропить выплаченные ему чертоваром сто восемьдесят золотых. Виртуоз-провокатор Роман, удобства ради вернув себе волчью голову, единственный из всех кашей побрезговал и глодал огромную кость неизвестного происхождения. От него отворачивались, делая вид, что это его личное дело, на самом же деле ему завидовали, для большинства такая косточка кончилась бы печально.
Среди тех, кто бывал здесь редко, выделялась своеобразная пара близнецов. Их имен никто не помнил, да и не понять было тут, кто есть кто. Их условно звали Кай и Кайя. Это были близнецы-суккубы из императорского секретариата. В дни штурма и стрельбы они пешком, перебегая под пулями от одного укрытия к другому, добрались до Никольской и теперь судорожно переводили дух, уплетая за четыре щеки крутую гречневую кашу. Сказывалось напряжение, и раз примерно в четверть часа каждый из суккубов становился инкубом, притом происходило это в противофазе, и зрелище получалось потрясающее.
Из независимых оборотней, в штате отдела трансформации на постоянную работу не оформленных, присутствовали тоже многие. Не все знали друг друга в лицо, да и как его, это лицо, узнаешь, если оно каждый день новое, даже если человеческое. За средним столом все так же, положив на стол невыносимо болящие подкованные руки, сидел несчастный Платон, а рядом с ним — снова один из немногих допущенных сюда почти-людей, ресторатор Пантелей Крапивин. Он только что втер парню в запястья по щедрой порции бутадиеновой мази. Особых перемен во внешности оборотня это не вызывало, но почти что и не действовало. Пантелей с ужасом думал о том, что у парня ведь и на подошвах такие же подковы.
Как проходил сюда Пантелей, вообще-то формально приставленный смотреть в Кремле за кобылой Ласкариса, — понять еще можно было, он человеком был не на сто процентов. Хоть и не знал он никаких тайн своего рода, но все же был высокогоричем, существом безусловно сверхъестественным. Из людей совсем без особых способностей здесь ожидаемо присутствовал полковник Юрий Годов, официальный начальник военнообязанных оборотней России. Как он сюда проходил — все знали: приходил и проходил, его попросту сюда пропускали.
Годов сидел с открытым ноутбуком. Вайфай под башней все еще работал, взрывы в Александровском саду кабель тоже не повредили. Новости по лентам шли совсем неутешительные, по меньшей мере странные. Премьер-министр Канады Лорна Маккензи первая из мировых лидеров заявила, что ее страна готова признать новое российское правительство. Однако Паналык Нанук, премьер канадской территории Нуннавут, имевший право по конституции наложить вето на такое признание, заявил, что ни один эскимос мира не признает подобного правительства, вставшего во главе России в результате путча и внешней интервенции. Эскимосы многие столетия терпели над собой византийский гнет и с хунтой сотрудничать не намерены.
Ему вторил премьер-министр территории Северо-Западных территорий, Ричард Три Медведя, от имени всех атапасков мира обещавший предъявить византийцам счет за долгие века унижения и угнетения. В политических бурях ОНЗОН, международной организации, доедавшей свой последней красный апельсин в Нью-Йорке, кто-то не очень умный попробовал задать вопрос — а когда и где эти народы контактировали, но ему напомнили, что мировые запасы полония-210 сосредоточены в месторождении на византийском острове Корфу, а это безусловно доказывает агрессивность Византии в отношении любой демократической страны, которая может подвергнуться интервенции со стороны российских войск. В Канаде разразился политический кризис, и ей стало не до Византии.
Напротив, о категорическом непризнании византийского режима в Москве решительно заявили страны, непосредственно заинтересованные в разрешении конфликта: Турция, Греция, Италия и оба Кипра. Исламский мир, будучи проинформирован о непрекращающихся столкновениях войск, лояльных к царскому режиму, с войсками исламской шиитской и ваххабитской оппозиции, имевших место под татарским городом Касимовом, выжидал: победа любой из сторон грозила неизвестно чем, но в осквернении священного праздника Ид аль-Фитр, очевидно, были виновны обе стороны, и богословы, стоящие у власти практически во всех мусульманских странах, пока что готовили каждый по две речи на любой возможный исход сражения.
Глава императорской Державствующей церкви, митрополит Мартиниан, в миру Мартын Полнозубов, после трехмесячного отсутствия внезапно объявился в старинной Пимиевой пустыни, что в Красноярской губернии, и возгласил пока еще не коронованному императору Константину трегубую анафему. Богословами ему было поставлено на вид, что анафема возглашается на первой неделе Великого поста, а до него еще весьма долго. В ответ на это митрополит возгласил им редко используемое «маран-афа», проклятие до пришествия Господа нашего, и добавил, научая, что в таких делах потребна не ученость, но вера.
В Кремле же Досифей, патриарх Солунский, исправно вел службы в Успенском соборе, благоразумно в молитве за здравие властей державы никого не поминая по именам. К нему неожиданно примкнул всегда бывший лояльным к официальной российской церкви митрополит Шантарский и Тугурский Афинодор. Этот у себя в храме блажного Димитрия Рейфмана возгласил, что, хотя доказательств существования как Российской, так и Византийской империй у науки нет, он готов приветствовать ныне возглавившего Россию президента Мохаммеда Хусейна. В ответ на его очевидным образом шизофреническое заявление сторонники Державствующей истинно-православной церкви епископы Полихроний и Родопиан провели противусолонь Красной площади многократный двенадцатичасовой крестный ход, требуя возвращения обновленной церкви так называемого Дворца Съездов в Кремле. Комендант Кремля, Анастасий Праведников, вышел к молящимся и пообещал, что ходатайство будет непременно рассмотрено. Кем рассмотрено — он не сказал, а спросить никто не догадался.
Наконец, старообрядческий владыка протопоп Евкарпий вновь объявил двоперстие единственным верным знамением, в очередной раз проклял патриарха Макария с его «Издревле прияхом творити знамение Честнаго креста тремя персты десныя руки» и добавил обычное про Никона, делая тем самым прямой намек, что если двоперстие станет на Руси официально единственно верным знаком благословения, то он склонен признать Константина императором. Но Евкарпия со всеми его пятью сторонниками никто не слушал. Зато бог Зуся объявил, что его божественность возросла еще на три процента.
Пророка Виссариона, бога Зусю, Порфирия Хладобоймана, Иоанна Протопарторга и прочих ересиархов спешно удалили с горизонта событий. Заклеймителя Льва Подневольного вообще перестали слушать, узнав о планируемом введении крепостного права и догадываясь — кто именно угодит в первые же крепостные и рабы или, при удаче, в пятое сословие.
Мелкие московские императоры-олигархи вели себя строго индивидуально: дрожжевой король Зиновий Михайлов заявил, что в таких условиях вести бизнес не может и временно переводит его в Лондон. Напротив, король-сапожник Николай Кионгели по понятным причинам заявил, что теперь он из России — ни шагу. Так же и по тем же причинам обещал поступить король-кондитер Захар Мурузи. Зигфрид Робертсон объявил, что хочет возродить в России гладиаторские бои. И так далее, и так далее.
О битве под Касимовом сообщалось меньше, но в основном потому, что надежных сведений поступало очень мало, а ненадежные, хотя и поступали каждый час, но на то и были ненадежные, что в них верить и не предлагалось. Достоверно было известно лишь то, что уже вечером тридцатого августа, успев совершить в Соборной мечети Москвы лишь вечерний намаз Магриб, не посетив ни разу заведения мадам Делуази, сильно огорчив тамошних скандинавского типа девиц, наследный принц Икарийский сел в личный бомбардировщик «Симург» и отбыл на Оку в расположение быстро формируемого там фронта противостояния, призванного защитить столицу от укуренных шиитских полчищ. Некий Мехбубзахир Гулат, лидер неясного происхождения, появился в Касимове всего несколько дней назад и, встав во главе неизвестно из каких зубов дракона выросшей армии, привел войска в боевую готовность и повел их маршем на Москву.
Однако у Икарии, в отличие от мирных народов Северного Кавказа и Сирии, очевидно, имелись свои собственные зубы дракона, а также, как все помнили по отбушевавшей всего два года тому назад войне, имелись у нее и вакуумные бомбы. Оружие это на равнине малоэффективно, для него предпочтительно действие в условиях ограниченного пространства, но тому, кто под него попадет, мало не покажется, в радиусе двухсот метров не останется ничего живого, а в ста метрах даже от танков останутся одни обломки. И ведь тут речь шла лишь о тактическом варианте бомб, о прочих модификациях этого оружия не хотелось думать.
К тому же в России не действовал пакт от девяносто седьмого года о запрете противопехотных мин, подписанный шестьюдесятью государствами в Оттаве. Ни одну из международных инициатив Канады царь не поддерживал принципиально, и в итоге на его стороне оказывались там не только эскимосы, а чуть ли не все прочие национальные меньшинства, включая монреальских французов. Сулейман воевал на своей земле, не столько российской, сколько татарской. Мехбубзахир Гулат и Файзуллох Рохбар воевали в стране, где счет шиитов и ваххабитов шел на единицы. Запас шахидов был изрядно ограничен, а снайперши отряда «белые хиджабы» в условиях полевого сражения и отсутствие лесных массивов, пригодных для приковывания стрельчих к веткам, оказались малоэффективны. Шахиды в полевых условиях вовсе никуда не годились, да и пояса у них из-за нестабильности октогена гробили своих больше, чем чужих. Российские же установки залпового огня класса «Бабай», по-икарийски «Су бабасы», коих у Гулата и Рохбара не было, вообще сводили численное превосходство их армии на нет.
Судьба немногочисленных отслеживаемых членов семьи то ли правящей в России, то ли уже нет династии пока мало кому была известна и столь же малоинтересна, коль скоро и царь, и цесаревич три месяца как пребывали неизвестно где. Общеизвестно было, что большой треугольник в центре Москвы, от Москворецкого моста до Лубянской площади и до Садового кольца византийскими войсками не контролируется, что попытка штурмовать окружающие эту территорию баррикады по приказанию старших братьев Аракелянов приводит чуть ли не к стопроцентным потерям в рядах штурмующих. Контрактники Ласкариса на ведение долговременной осады не подписывались, и район пока оставался подчинен царскому правительству. После того как в том же районе открылся штаб войск мгновенного реагирования и его на вертолете посетил маршал Корсаков, пошли и вовсе неясные слухи о том, что все это не война, а сплошная видимость под кислотой. Правда, уцелевшие остатки кремлевской гвардии и практически не понесшая потерь особая женская бригада села Зарядья-Благодатского имени великого князя Никиты Романова район успешно защищали, но если бы осада затянулась на годы — кто знает, что могло бы случиться.
Кто сегодня воевал и за кого — понять было не проще, чем в Италии эпохи Возрождения и в Германии времен Тридцатилетней войны. Проще было вычислить тех, кто не воевал вовсе, потому как их было в России совсем мало. К тому же они, как заключенные в бетон русла подземных рек в наводнение, тоже переполнялись окружающим напряжением и стремились исторгнуть из себя все, что не могли в себе подавить. Фанаты императорского футбольного клуба «Красный пятигранник» уже пикетировали Кремль с требованием не отменять матч с римским «Аллегро канарино», а в Кремле их силу недооценивали, не зная, что империю способно погубить и меньшее.
Из нафталина высунул нос уже забытый историей мятежный генерал-путчист Богдан Гольяно-Выхинский. Несмотря на свои полные восемьдесят лет, он считал, что, восстановив в партии нормы марксистско-ленинской дисциплины и морали, можно поставить задачу обеспечить в процессе строительства материально-технической базы коммунизма ускоренное сближение и слияние советских наций и народностей в новую историческую общность — советский народ, и тогда пойдет процесс стирания граней между классами и группами общества, после чего страна выйдет на новые рубежи. Генерала осмотрели, снова одели в пижаму и увезли обратно в Кащенко. Прочих членов Директории, кто еще оставался жив, перевели в надзорные палаты.
Неполных десяти тысяч бойцов Ласкарису было достаточно, чтобы удержать основную часть центра Москвы, — кроме аракеляновской территории, само собой, где из них черно-панёвная бабья гвардия сделала бы то самое, что бог сделал с черепахой. Восемнадцать километров протяженности Садового кольца и кусок Петербургского шоссе до Сокола — это и было сейчас Византийской империей. Но, к сожалению для Ласкариса, только и всего. У него был кокаин и были деньги, но он понимал, что лишь как миропомазанник Божий сможет говорить на равных с народом, которому все равно какой царь, — лишь бы царь, а не манная каша.
Пожалуй, в его штабе и семье происходило событий больше всего, хотя это мало кому было видно. Менее всего это касалось его четверых «генералов», у которых боевые потери составляли от четырех до пяти процентов личного состава, иначе говоря, не менее четырехсот человек. Конечно, это не тысячи и тысячи, которые бывают на войне, но восполнить такую утрату было трудно, а противнику своего народа было не жаль, да и не вводил еще противник в бой свои элитные части. Ласкарис в первый раз в жизни немного психовал. Ляо или Манта могли бы его утешить, но они воевали не из высоких побуждений. Получалось, что из таковых побуждений воевал он один.
К тому же под Касимовом начали войну между собой две исламские группировки, и ни с одной нельзя было войти в союз: икариец был откровенно перчаткой на руке царя, ваххабиты же и вовсе играли только в свою пользу. Ладно, пока пусть бьют друг друга, но имелась опасность, что один из них победит.
…Сицилийский чартерный «боинг» привез из Тристеццы старшего сына. Младшего привезли из бывшего монастыря в бронемашине. Обоих вселили во все еще обстроенный новоделами Теремной дворец. Поблизости от них разместили нужных людей, возможного главу московского дворянства Елима Высокогорского, его троюродного или какого там брата, Эспера, почти наверняка будущего верховного референта по исламским вопросам. Здесь же разместились банкир Крутозыбков и главный контрразведчик Выродков. Всегда казалось Ласкарису, что слишком много он держит при себе паразитов, которые могут пригодиться только в качестве будущего московского правительства, а вот теперь получалось, что было их недопустимо мало.
Вазилис-Василий чувствовал себя хуже всех. Его оторвали от адриатической синевы и бросили в московскую слякоть, где без куртки и зонтика на улицу выйти нельзя. Василий начал казаться себе неким Гамлетом наизнанку: того отставили от трона тем, что матушка по новой выскочила замуж, а его, вдребезги больного Василия, насильно сажали на трон потому, что отец вовремя не женился по новой. Василий знал, что в ближайшие дни отец изменит российское правило наследования трона по старшинству, введет в России чисто византийское понятие «клирономья», κληρονομιά, которое недвусмысленно разрешит соправительство, и тогда наследование трона пойдет строго по нему. И быть ему, Василию, соправителем. Кажется, уже и монеты отец чеканить собрался с двумя портретами. То ли солиды, то ли, может, византины. Как ни назови, все одно народ рублями назовет. Целковый византин? Ну и похабщина. Ударение на первый слог.
Василий воспринимал человечество как толпу, годную в кино только для массовки, отдельных людей — как актеров, в крайнем случае годных на роли в эпизодах, самого себя — максимум в качестве актера, получающего «Оскара» за лучшую роль второго плана, — но и без этого лучше бы обойтись, а еще, а еще… Василий не знал, что еще. В главные герои он не годился, опасался он и того, что не годится по большому счету в режиссеры. Вот разве что в продюсеры. А отец упорно навязывал ему главную роль в эпопее.
Хоромы семнадцатого века его насмешили восточной дикостью, с одной стороны, и откровенным византийством, с другой. Он что-то понял в стремлении отца объявить Третий Рим — Вторым. По-гречески тут можно было говорить только с отцом да с братом, но говорить с ними ему ни на каком не хотелось. Отец не вылезал из государственных дел, брат-бездельник — из наушников, из которых несся такой хард-рок, что сидеть рядом с ним было тошно. К тому же в свои хоромы парень навез ровесников и ровесниц российского производства, своих и чужих любовниц и любовников, и от тамошней круглосуточной пляски сатиров и нимф дрожали потолки допетровских палат. Какие планы на будущее строил втайне Христофор — знал лишь он один, хотя зоркий Елим Павлович о чем-то начал догадываться, обнаружив, что все это промискуитетное ликование устроено более всего для отвлечения внимания: кто ж примет всерьез раздолбая?
Елим сошелся поближе с Арсением Юрьевским, единственным в стане византийца, кто имел отношение к сбежавшей династии, и убедился в худших подозрениях, узнав, что общая у Арсения с Христофором любовница Паллада Димитриади не только почти не пьет, но ведет досье на каждого члена веселой компании. Правда, из какого источника узнал об этом Арсений — оставалось загадкой. Тем временем оргия не прекращалась. Этому всему безобразию место бы в Потешном дворце, но в него Ласкарис переместил то, что только что было офисом фирмы в «доме Берии». Эспер Высокогорский получил там кабинет и вполне официально числился «главным референтом» по мусульманам России. Елим, которому отчего-то доверялось больше других, отныне заведовал всем кремлевским секретариатом. Электроникой бывшей фирмы, ныне правительства, занималась, ясное дело, Джасенка Илеш. В напарницы, и слепому ясно, что не только в напарницы, она выбрала себе ту самую горскую красавицу по имени Цинна, на которую так безнадежно запал Елим. Безнадежно ли? Смутный слух о ее не самой каменной нравственности князь Сан-Донато поймал и не намерен был отступать.
В Патриаршем дворце вместе со всем своим пока еще немногочисленным причтом разместился патриарх Солунский Досифей, явно претендующий на вакантное место Патриарха Всея Руси. Вполне законопослушные епископы Полихроний и Родопиан уже признали его главенство, ожидалось признание и со стороны большинства митрополитов. Крепкий, нестарый македонский мужик, едва ли настоящий грек, он искренне считал, что, оставив место патриарха тридцать лет назад пустым, царь его тем самым не ликвидировал и занять его в качестве местоблюстителя вправе любой из православных первоиерархов. В десятке имеющихся ныне патриархов он едва ли был последним, поскольку Салоники — все же второй в Греции по величине город, но руки относительно свободны были только у него. Уже тридцать первого августа в день памяти Иоанна V, патриарха Константинопольского, он отслужил божественную литургию в Успенском соборе и был удивлен большому количеству молящихся. Не того он ожидал в стране, не признававшей первенства среди равных патриарха Константинопольского, его божественного всесвятейшества архиепископа Константинопольского Каллиника VI. Но Досифей понимал, что нужен он Ласкарису ровно для миропомазания, а дальше могут и обратно в Грецию отослать.
Тимон чувствовал себя в осажденной крепости и не верил в преданность военачальников. Шубин таскал ему записки от царя, наверняка надиктованные братом-предиктором, и смысл их был всегда один: ничего не делать, войска использовать лишь в том случае, если Византия начнет покидать Москву или взрывать храмы и винно-водочные магазины. Референты провели экспертизу и дали заключение, что допускать коронацию Константина Ласкариса в Кремле опасно: крепость была покинута царским правительством, арестовать себя правительство не дало, и дипломатически становилось доказуемо право новой династии на престол. Но и по этому поводу царь приказал мозги не ломать, а отдыхать пока что. Как же, отдохнешь тут.
Что там думали жители Кассандровой Слободы в своем белокаменном городе — знали только там. А там, судя по всему, как сказал Гораций Аракелян, что не надо трепыхаться, все само получится, так никто и не трепыхался. За тридцать лет такого не было, чтобы он что плохое посоветовал или что-то из предсказанного им не сбылось.
А так — ничего особенного не происходило. Кроме всеобщего внедрения выражения «нагамис ти манос»: это звучало прекрасно и, главное, то самое и значило, что подозревал простой народ. Фастфуд предлагал сувлаки, кокоретци, катаифи, а на десерт — василопату и курабьедес, всего же популярней стала спанакопита. Мужчины оделись кто в фустанеллы, кто во враки, женщины предпочитали теперь дефины. Телевидение чуть не на сотне каналов вело себя привычно, не ощетиниваясь ни «Лебедиными озерами», ни военными маршами, разве что вместо гитары все чаще звучали бузуки, багламасы, сантури, гайды и цабуны. Помимо сиртаки по телевизору проходили соревнования по классическим микраки, хасаликосу, зейбекико, а также по ставшей популярной в России классической карагуне. Участились случаи самоубийств среди телеведущих, неспособных все это выучить.
Как всегда лучше и спокойней других чувствовал себя вольный цыган-миллиардер, чей рынок и чьи конюшни располагались от центра Москвы настолько далеко, что он и вовсе мог бы о переменах не думать. Конечно, рахат-лукум теперь требовалось переименовать в лукумадес, йогурт в дахи, но и только. Зато густое виноградное вино, икарийский мусаллас, можно было продавать открыто и не бояться шиитской мести. Апельсины, похоже, тоже не собирались пропасть с прилавка, да и сопутствующие им сицилийские товары — тоже. По крайней мере, фризский жеребец Япикс никаких негативных прогнозов не делал.
Мусульманский принц, хоть и был и отменный болтун и плейбой, если требовалось, с военной стороны показать себя умел. На Сулеймана Великолепного он, возможно, и не тянул, но после его атак поле можно было не перепахивать, можно было сразу сеять, — только разве что дождавшись, пока все высохнет и уберут покореженный металл. Воевать за убеждения и даже за деньги он был не готов. Он воевал за Гераев и за Салачиксарай, а заодно уж за ту власть, которая давала ему оружие и не совала нос в его гарем, и еще он знал, что армия, воюющая за высокие идеалы и готовая к самопожертвованию, обречена. Потому он и побеждал, что идеалами голову себе не морочил. Ислам все равно победит, а когда и как — Аллах знает больше.
В итоге шииты медленно теряли численное превосходство, а от снайперш под артиллерийским обстрелом толку было немного. Танки превратились у обеих сторон в первые же дни в металлолом, икариец вообще жалел, что связался с ними, только два десятка отличных парней потерял и со зла десяток заложников из недорогих перестрелял, потом очухался: деньги всем нужны, и Гераям тоже.
Война войной, но буйство гормонов в человеческом организме, если он не состарился вовсе, отменить невозможно. Иной раз выглядело это диковато. Электронщица Джасенка, оставшись без классного, хоть и закомплексованного мужика, с горя утащила к себе в койку горскую девку, утешаясь тем, что та была решительно без комплексов и много чего умела. Правда, Оранж, проживавший в ее теле, горевал больше: выйди он погулять, он бы точно был тут третий-не-лишний, а так, в бестелесном виде, даже возбудиться толком не мог. Двое других коммунальщиков, таившихся от правосудия тихоокеанской принцессы там же, где Оранж, и примерно по тем же обвинениям, были в ужасе. Но не от Джасенки, а от расовой неполноценности ее подруги: были они законченные расисты и сексисты, в чем боялись сознаться даже себе.
Подруга ее, горянка Цинна с непроизносимой фамилией, прибывшая из горного вроде бы Непала по поручению тамошних оборотней, заинтересованных в скорейшем увеличении долинных посевов гречихи, культуры, для оборотней всего мира спасительной, уловила не только недостаток внимания, которое проявлял к ней теперь поселившийся в Кремле, отличный в общем-то парень, Эспер Высокогорский, рассудила, что все это хорошо, но такими огрызками чужого пиршества, какое выпало ей нынче, питаться негоже. Обладая тончайшим секс-радаром, воспитанным на тысячелетних традициях своего народа, она огляделась и заметила признаки томления, которые в отношении нее проявлял брат Эспера, приятный парень немного восточного вида. Она заметила, что ему даже ходить было трудно, такой, извините, бедняга стояк схватил, и в чем проблема? Вечно у мужиков такие вот заморочки. Поболтать с ним в коридоре, потом в трапезной, где их до самой коронации щедро и бесплатно кормили, намекнуть, кивнуть, согласиться и что там далее на очереди, было вопросом половины дня, который предсказуемым образом закончился у нее в койке к общему удовольствию, да и ночь закончилась там же. Поскольку двое братьев и Джасенка — это было все, на что оставалось время от гречихи, Цинна пока решила от добра добра не искать, хотя и была способна на большее.
Если кремлевские страсти кипели будто на пиру во время чумы, остальная Москва, хоть и отплясывала сиртаки под бузуки, в остальном жила более-менее привычной жизнью, и банкоматы почти везде продолжали работать, и даже водка не подорожала. Это в пределах Садового кольца, а за его пределами большинство верило, что это вот такие учения царь проводит. В нумизматическом особняке на Петрокирилловской, близ Чертолья, филиппинский мальчик, красавчик Амадо Герреро, был спрошен дочкой банкира Клавдией, сколько можно скрываться, когда и так все знают, и сказала, что готова поговорить с отцом, он человек широких взглядов, итальянец, и тоже, в конце-то концов, был молодым. Амадо обдумал свои жизненные перспективы, вызвался поговорить сам и в тот же вечер, в никем не праздновавшийся в текущем году день памяти жертв коммунизма, появился в кабинете у банкира-нумизмата, который тщательно составлял реестр наличных византийских солидов.
Как ни странно, представитель переходной южновосточной расы, тагал по национальности, Амадо сперва покраснел, потом поставил на стол к банкиру и кофе и стакан воды, басо капе ат тубиг, а затем побледнел и без всякой вводной речи попросил у Якова Павловича руки его дочери Клавдии. Поскольку и так давно все всё знали, и если чего боялся Меркати, так того, что он этой просьбы может никогда и не услышать, к тому же старый нумизмат уже не мог обходиться без кофе, который мальчик варил, а дочь была согласна, Меркати подумал и согласие дал, при условии, что венчание состоится в храме Петра Алеута, что на Пресне.
Доместико Долметчер в двух шагах от Меркати напряженно подбирал соусы к грядущей коронации: знаменитый дзадзики на йогурте — штука простенькая, что ж в ней праздничного? А как обойтись в греческой кухне без чеснока? Для рыбы, как всегда, ну, скордалия. А что под сувлаки, под греческий шашлык? И где молодых козлят напасешься, когда тут одни старые козлы? Ну, из старинного — свинина под соусом из меда и уксуса. Думается, ни у кого так не болела голова в эти дни, как у ресторатора-дипломата. И так половина времени уходила на снабжение небольшими суммами сторонников греческой династии, а вторая половина — на снабжение более крупными суммами ее противников.
Дипломатия — хитрая и трудная наука.
XVII
19 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
МAMAHT-ОВЧАРНИК
Пусть это будет вам уроком, товарищ
нацистский майор: никогда не молите
о том, что вам совсем не нужно, не то
обязательно это получите.
Гарри Тертлдав. Флот вторжения
Первый раз в жизни Константин Ласкарис ощутил, что ему изменяют собственная невозмутимость и целеустремленность. Одно дело — взять власть и умеренно поликовать по этому поводу первую неделю, а другое — понять, зачем тебе власть и что ты с ней будешь делать кроме того, как стоять на очень хлипком пьедестале. Кремль — и не только Кремль — покорно лежал у его ног. Но двести лет назад перед Наполеоном он тоже лежал. Причем было теперь в Москве даже спокойнее: ничто не горело, ключи, прошу прощения, хлеб-соль-сивуху вынесли, стрелять почти перестали. Можно было готовиться к коронации, раз уж ипподром под контролем и соборы в Кремле тоже. Дерьмо, а не ипподром, но нет другого.
Шестого он выступил по интернету. Телевидение тоже на сотне каналов транслировало. Но все его красивые, торжественные, чисто византийские фразы будто в песок ушли. В мировых новостях все это уложилось в одну строчку, даже о битве за Касимов писали больше. Референты внимательно следили за новостями, но толку было чуть: прогнозы матча клуба «Красный пятигранник» с римским «Аллегро канарино» волновали человечество больше, чем смена династии в Российской империи и чем девальвация рубля, в котором теперь содержалось два доллара, а не наоборот, как раньше. И то еще хорошо, что промолчал про крепостное право, про гладиаторские бои, запрет ислама и право первой ночи. Про отмену митатства, если оно раньше было тут. Про барщину. Про оброк… Хотя про оброк уже можно бы.
Организация в Нью-Йорке еще сессию не открыла, поэтому будто в рот воды набрала. Другая, тоже международная, «Монархисты без границ», что-то бормотала, но у нее влияния было меньше, чем у князя Марко III в Тристецце, да ведь и тот пока отмалчивался. Были и вопросы дипломатического признания, но с ними как раз Ласкарис, понимая шаткость своей позиции, разбираться не торопился. Он отложил это дело до коронации, но она тем временем пробуждала к жизни тот вопрос, которым всегда мучились императоры, причем более всех именно византийские. Это был вопрос правопреемника. Судя по старинным, плохо сохранившимся законам погибшей империи, в ней император назначал себе соправителя, и тот после его смерти сам выбирал себе соправителя, а тот, в свою очередь, выбирал следующего. Притом соправитель мог принадлежать и к другой семье: смена династии не происходила. Но за две династии до Ласкарисов, у Комнинов, закон о наследии через старшинство в роду все же был. Словом, чем хочешь, тем пользуйся.
Если чего Константину не хотелось, так срочно чего-то хотеть и решать прямо сейчас. Но надо было: во всех вариантах византийский наследник коронуется вместе с императором, соправитель он или нет, требуется только совершеннолетие. Что Василий, что Христофор шестнадцать лет уже пересекли. Клирономья, будь она проклята, что с ней делать?
Как там ни есть, а Василий мальчик был все же взрослый и послушный, Да и сам Константин надеялся, что завтра не помрет и чему-нибудь сына да успеет научить. Только бы Василий на коронации не опозорился, слабенький он с этой малярией, не надо бы ему в императоры, а кем заменишь? Смутная мысль о том, что еще какой-то выход есть, мерцала на грани сознания, но в слова пока не облекалась.
И выход нашелся. Хорошо подкованный в византийской истории император выяснил, что Роман I Лакапин, отметим, выходец из крестьян, да и далеко не он один, держал при себе двух цезарей, двух соправителей. Так что пусть Христофор и оболтус, но, может быть, из двух негожих один более-менее приличный получится? Константин сомневался, но другого выхода не видел. Только надо было доделать еще одну корону. Брильянты и рубеллиты в запасе были, так нечего им пылиться.
Но сейчас впереди всех прочих дел стояла коронация, без которой вовсе говорить было не о чем. Ее чин Ласкарис заготовил давным-давно. Все было давно спланировано и, как всегда во всем, на девяносто процентов не готово. Одной лишь церковной коронации новому императору было мало, он желал начать с другой, с провозглашения воинской славы, утверждения силы византийского оружия и себя как великого полководца. Он знал из семейной истории, что именно при первых Ласкарисах был возрожден в Византии древний обряд поднятия нового императора на щите, и еще впервые появился обряд миропомазания, и он понимал, что без всего этого не обойтись.
Сперва, как в Константинополе: Ипподром. Там Константина, стоящего во всех доспехах, шестнадцать воинов должны были поднять на серебряном щите. Серебряными доспехами он давно обзавелся, тренировался стоять в них. Но готового щита он в Россию не привез, предстояло из чего-нибудь его выплавить, притом из чего-то такого, что на две тонны не потянет, иначе даже самые дюжие китайцы поднять щит не смогут. А ведь его еще с ипподрома в Кремль тащить, а это чуть не три версты…
Послабление самому себе он решил сделать своеобразное: пусть тащат щит не шестнадцать китайцев, а тридцать два, и если кого грыжа прихватит, так сразу его подменять, потому как едва ли кто сильней китайцев найдется, да и рост у них одинаковый. Да только вот народ поймет ли?
В смысле вступления к речи, которую собирался произнести Ласкарис еще на ипподроме, — ликование трибун он решил пропустить, потом пусть ликуют, — лучше сразу начать каноническим: «Бог всемогущий и решение ваше, храбрейшие соратники, избрали меня императором государства российских ромеев!» Попробовали бы не избрать, но неважно. Разноцветных партий по колесницам пока московский ипподром не имел, Константин боялся обзывать дворян «голубыми» или «зелеными», да еще «красными» и «белыми»; слова эти по-русски что-то другое неправильно значили, но не было времени выяснять и подбирать другие расцветки.
Дальше там же положено будет принять на шею церемониальный обруч, а потом все четыре легиона, если так можно было назвать наемников, должны будут склонить штандарты и хоругви. Кстати, выяснить: а есть ли у них хоругви эти самые? Для себя он давно припас лабарум. Да, и попросить, чтобы обруч делали не очень тяжелый.
Дальше, как возложат обруч, пусть в Кремль несут. Жаль, в неправильные ворота, но в Спасские не пробьешься. Ну ладно. По дороге пусть встречают его кортеж разные нобили и землевладельцы. Прежние дворянские звания император собирался сохранить, и его канцелярия уже подсчитывала — кому какие земли и на сколько десятилетий дать в кормление вместе с крепостными и рабами. Что дарить принцам на коронацию — он пока не думал, потому как знал: что даст, то и возьмут. Наверное, старшему — киностудию, младшему бардак… правда, бардак он и сам устроит из чего угодно.
…А потом он со щита сойдет перед собором, широко перекрестится, облачится в царские одеяния — византийский далматик и тяжеленную порфиру, — потом зажжет свечи, пройдет к солее, помолится перед царскими вратами и взойдет во сретение патриарху. Что такое сретение, кстати? Ну ладно. Патриарх также выйдет на амвон, и в церкви водворятся «великое молчание и тишина». Патриарх прочтет молитвы, составленные применительно к чину миропомазания, — одни тихо прочтет, другие полным голосом, — после чего помажет крестообразно голову императора миром и возгласит: «Свят!» Окружение на амвоне повторит возглас трижды, а затем повторит его трижды и народ. Потом патриарх прочитает молитву над императорской короной и собственноручно, с благоговением, возложит ее на императора. Народ воскликнет: «Свят, свят, свят! Слава в вышних Богу и на земле мир! Константину-василевсу и автократору многая лета!» И — все, и вот он император с этого мига. Примерно с двенадцати тридцати, может, с часа дня — император!
Ну, потом в храме служба на русском и на греческом, патриарх лучше знает, что читать. Чертову уйму денег за эту корону отдать пришлось, да и камни бразильские — не дешевые вовсе. Скипетр тоже дорогой ужасно, а за державу вообще содрали семь шкур, обидно. Но потом будет вовсе в России никогда не виданное: коронование императора-соправителя старшим императором и патриархом, а потом — еще и третьего, причем уже двумя императорами! Держитесь, православные, мы еще покажем вам, что такое воинствующее православие!
Ну да, не забыть: соправителя тоже поднять на щите положено, а их еще и двое будет!.. Не напасешься на них серебряных щитов, пусть на том же самом таскают. Первый раз в жизни подумал барон о том, что у скупости русского царя, кажется, имелись причины.
Хотя у русского царя все же не было того чудесного вещества, которым располагал он: это был кокаин. Этот лист древние инки сжигали на жертвенниках, пытаясь уговорить своих богов защитить народ от светлолицых пришельцев. Боги, вероятно, балдели под кайфом и молитв не слышали. Отомстили европейцам не боги, отомстила сама великая мама Кока, однако и ей не по силам было отменить третий закон Ньютона насчет действия и противодействия. В итоге наследник престола империи, погибшей ранее, нежели Европа добралась до Америки, к началу XXI века от Р.Х. контролировал добрых две трети богатств мамы Коки и священным листом инков мог приструнить что угодно, стоило лишь определенным образом обработать его — вот и все, на две-три короны должно хватить.
…Потом, понятное дело, банкет, повара и свои есть, хотя надоели они, есть и здешние, очень даже ничего, ну, и дипломат-ресторатор в Москву уже вернуться должен с морскими ежами. Последить, чтобы Христофору ежей не давали, не то прямо от стола по бабам побежит.
Беспокоили Константина сейчас не морские ежи, а больно уж тесные границы его державы: империя была стиснута в пределах Садового кольца. Одного соправителя стоило бы поставить на Бульварное кольцо, второго — на Садовое. Кого куда — можно потом решить, а может, можно и что получше сочинить, но пока лучше было не ломать голову.
Пока что после коронации на втором месте и впрямь стояли вопросы банкета. Для подобных дел имелась у Кремля своя военно-кулинарная академия, и отправлять ее в расход он пока не видел повода. Директором там, как выяснил, был отдаленный и невлиятельный «член прежней семьи», но вот это Константину было совершенно пофиг.
Этот самый Цезарь Аракелян — надо ж, цезарь — занимал в прежней империи весьма высокий пост, но был не очень известен, о нем редко вспоминали. Он был всего-то полковником, генералу не пристало печь блины. Он унаследовал пост отца и был ректором Военно-Кулинарной академии Его Императорского Величества. Что это за должность — каждый мог угадывать сам, однако одних лишь главных поваров и кондитеров на кремлевской кухне трудилось шестьдесят, и это не считая сомелье, шоколатье, витолье, кавист и барист. И это не считая диетологов, токсикологов, инспекторов и официантов. Приходилось держать раздельно также энологов, — по красным винам и по белым: эти отвечали за комплектацию погребов. Что уж говорить о халяльном поваре боуршы, бравшимся за работу, когда в Кремль заваливались мусульмане. Чтобы приготовить канонические цимес, бархес, пархес, латкес, прикес, пончикес, блинчикес, варничкес и гефилте фиш, пришлось обзавестись еврейскими поварами и мясником-кашрутником. Армянские кутапы и миджурумы он готовил сам. Тафельдекеров, кухеншрейберов, зильбердинеров, келлермейстеров, корфянщиков и прочих по названиям-то перечислить было трудно. Кофешенков Цезарь подбирал сам и не знал, какие золотые горы посулить Меркати за филиппинца. Но у нумизмата золотые горы и свои были, а обращаться по такому делу к царю было неловко.
Константин Ласкарис назначил коронацию на двадцать первое, на воскресенье, на большой церковный праздник. Обряд коронации он, похоже, сочинил сам. По сравнению с той единственной коронацией, которую в юности видел ректор, распорядок оказался полностью изменен. Примерно до четырех часов академии это дело не касалось, но после четырех Цезарь за все отвечал головой, притом не только своей. Коронационную трапезу византиец запланировал на тысячу человек, к тому же отказался от фуршета, видимо, решив заставить новых подданных потренироваться во вставаниях, поклонах и осенениях. Значительную часть желаемого меню сильно заранее сообщил Цезарю посол-ресторатор. Креол вроде бы не принимал в конфликте ничью сторону, вел себя так, будто каперсы для него важнее кремлевских звезд и орлов.
Морских ежей, крокодильи стейки и всякую малодоступную в Москве продукцию Долметчер брался достать сам, отчасти он принимал на себя и обязанности эксперта, но сверх того мало чем мог помочь. На подготовку банкета Константин дал меньше двух недель, и Цезарю предстояло совершить чудо насыщения тысячи человек семью буханками и двумя лангустами, извините, двумя морскими ежами.
В меню поразило Цезаря невероятное количество выпечки и самого обычного хлеба: видимо, император собирался всерьез возродить кулинарные традиции византийского двора. Обычно боявшиеся располнеть русские царедворцы от хлеба отбивались, но что ж, хозяин, даже если он хозяин временный — барин, даже если он временный барин. Ладно, как раскладывать хлеб на пирожковые тарелки он и сам знал: ржаной справа, пшеничный слева, мякишем к середине тарелки. Требовалось подать очень много лесной дичи, даров моря, притом о пресноводных рыбах как-то почти вовсе не упоминалось. Это была какая-то неведомая философия питания, она не интересовалась никакими диетами: главное, чтобы всего было много, чтобы оливкового масла было хоть залейся, вина — хоть топись ты в нем, а размышлений о еде — ноль.
Большую помощь оказал Цезарю всемирно известный справочный роман Христорада Кривича «Византийский словарь». Он узнал оттуда, что слово «литр» до сих пор в России было мужское, но теперь «литр» будет женским, и в литре той будет четыре пятых фунта, иначе говоря, триста двадцать пять граммов по-старому, и на столе по две литры хлеба должно стоять на каждого. От такого хлебного изобилия Цезарь в ужас пришел, он и половины съесть бы не смог, робко спросил у Долметчера при встрече: можно ли, чтобы весь этот хлеб не на столе стоял, а где-нибудь рядом? Креол подумал и сказал, что можно. Цезарь, не стесняясь, перекрестился.
Дальше предстояло выучить новую сервировку. По счастью, как раз Византия в одиннадцатом веке изобрела вилку, по крайней мере так считалось. Посуды в греческом стиле в Кремле не оказалось вовсе, и, если бы вся эта византийская вакханалия затянулась, ею пришлось бы обзавестись. Названия всех этих гидрий, мастософов, киликов, ритонов и скифосов Цезарь когда-то зубрил, при желании мог вспомнить. Что же такое красовулия для вина — выяснять было не надо: в чем подается вино, то и красовулия, а что это бывший декантер, так первый раз слышу.
В целом, как понял Цезарь, собственно византийская кухня славилась, кроме хлеба, морских гадов и уксуса, еще медом и козлятиной, и все это в тысяче сочетаний и без малейшего понимания дела. Ничего против козлятины и устриц Цезарь не имел, но устраивать преждевременные похороны всем придворным аллергикам и диабетикам его не просили. Вино можно было подобрать почти любое, погреба Гиммлера и Саддама опустошены еще не были. Ссылаясь на то, что сосновую рицину пьют только греки, а старые византийские сорта содержали, судя по всему, столько гипса, что пить такое не смог бы последний алкаш, не то что император, Цезарь передоверил винное устройство своим сомелье и перестал о выпивке думать. Правда, вмешался патриарх — требовалось вино для причастия. Доставили вертолетом тридцать бутылок мавродафни, на праздник должно было хватить.
Империя в конечном счете оставалась империей, Кремль Кремлем, Москва Москвой, козлятина козлятиной. И вырезка из четырехнедельного козленка была не хуже говяжьей и даже из шестинедельного была не хуже. С черносливом можно сделать. И как раз аллергикам годилась. А греческий черветги на вертеле из козленка — так просто в десятку. Цезарь повеселел. Диабетики пусть курятину едят.
Некоторое количество якобы византийских рецептов, как подозревал цезарь, были сочинены на ходу и без захода к плите. Какие такие пельмени с мякотью киви? Какие драники антиохийские из манго и папайи? Какие такие морские гребешки по-константиновски? Долметчер успокоил ректора, что это очень хорошие пельмени, драники и гребешки, а прочее не должно никого волновать.
Тем временем кулинарные службы Кремля и в первую очередь академия Цезаря получили от Ласкариса тот еще подарок. Канцелярия патриарха Досифея провела ревизию храмов Кремля, после чего потребовала введения постоянных служб во всех, в том числе и в до сих пор недоступных для посещения. Один из алтарей храма Ризоположения, одного из древнейших в Кремле и посвященного чисто византийскому празднику, патриарх приказал заново освятить сразу после коронации, в среду 24 сентября, в день памяти византийца, святого Ефросина, покровителя поваров. Службу собирался вести патриарх лично, и ясно было, что без огромной жрачки дело вновь не обойдется, и ведь как назло это была среда. Постный день! И все на голову бедного полковника.
Яблочный, говорят, святой. Что бы это значило?
…Но было в эти дни и забавное. Ласкарис ломал голову над еще одним делом, тайным и нечестивым. Как и любой наркобарон, он был не только человеком верующим, но куда более он был человеком суеверным. Полностью отрицая на людях существование всяких мелких духов стихий вроде домовых и водяных, вроде оборотней и вампиров, он свято верил в нечистую силу, в дурной глаз и вставание не с той ноги.
Желая узнать, откуда ему знать подлянки, Константин обратился к некоему кудеснику Балтабаю, слепцу с заграничного пока что Саларьевского рынка, который прочитал на темной воде имя того, кто грозил благоденствию Ласкарисов — не все имя, лишь первые буквы, и буквы те были гамма и ро. Поскольку знаки не истолковывались однозначно, напротив, расшифровок появилось больше, чем расшифровщиков, Ласкарис подумал-подумал и поступил как наркобарон: отложил решение проблемы до тех пор, когда она на самом деле не подопрет.
Но спокойствия ради Константин предпринял меры радикальней некуда: призвал для разговора своих личных осквернителей. Обоих.
Подлинных имен своих они, как любые злые колдуны, никогда и никому не называли. Впрочем, так же всегда поступали и относительно добрые колдуны. Поэтому звали их прозвищами — Фобос и Деймос.
Где выловил Ласкарис запланированное колдовство — выяснять было безнадежно. Мало ли где заполнял собою горные склоны и берега альпийских речушек этот похожий на терновник, долговечный и неприхотливый куст тропических лесов. У баронов, у кокалерос всегда были тайны от кокерос, от тех, кто употреблял этот священный лист в сыром виде.
В четырнадцатый лунный день, в понедельник, в час, когда ни один бог не сулит ни единой благоприятной минуты ни единому человеческому начинанию, в тяжелый час, когда бедный разум угнетаем наигоршими чувствами, оба осквернителя встали на Боровицкой башне лицом к западу, спиной к востоку, достали каменные ступки и круглые полуаршинные зеркала, разбили их, истолкли в порошок и смешали полученную пыль с равным количеством снежно-белого кокаина, добавили сушеной бузины, чернодейника, злобоносника и тридцати других проклятых трав, бросили по щепоти смеси левой рукой через правое плечо и пошли, не благословясь и не перекрестясь, по стене посолонь, дабы осквернить Кремль нечестивым веществом, действом и чтением молитв от конца к началу.
Первые полчаса наблюдавшие за этими событиями приближенные Ласкариса только и заметили, что наследник византийского трона спокоен и чего-то ждет. И лишь когда по той же стене и тем же путем двинулся патриарх вместе с верховными сослужающими, кое-кто стал понимать смысл действа: Константин не знал точно, благословенна крепость или проклята. Чтобы не терзаться проклятыми сомнениями, он поступил, как поступили бы его далекие предки в Никее: приказал умеренно осквернить крепость, а потом многократно ее благословить: пусть вместе с наведенной порчей сгинут и все иные. Кто его знает, помогало ли. Под Никольской башней покатывались со смеху. Прочим было либо не до смеха, либо плевать.
Дни ползли, как виноградные улитки, которых общим решением исключили из меню коронационного банкета.
Из всех заметных и не шибко публичных граждан новой империи наиболее свободный доступ на обе части коронации имел Пантелей Крапивин: на ипподроме он владел неплохим рестораном «Перекуси», в Кремль же имел доступ как несовсем-человек, как высокогорий, из не самой знатной родни известных демидычей, — если его и не пустили бы в Успенский, то в хоромы под Никольской башней еще посмели бы не пустить.
Не пустили бы — тут же прокрался бы в кладовые и кухни Кремля, и прокисло бы там молоко, и прогоркло бы масло, и превратилось бы в уксус лучшее вино, и засахарился бы лучший мед, и протухла бы лучшая рыба, и красные вареные раки стали бы живыми и зелеными и уползли в какую-нибудь дальнюю московскую старицу. Но семьдесят семь казней египетских Пантелей пока отложил до другого раза. Уж больно ему казалось забавным то, что сейчас происходило.
Из главного, панорамного окна ресторана открывался почти идеальный вид на овальное поле, где сегодня не было лошадей, зато по периметру стояли в камуфляжных формах карикатурно толстые китайцы и не менее карикатурно тощие, миниатюрные вьетнамцы. Над ними реяли знамена с изображениями драконов и грифонов, которых, как принято считать, в природе не водится. Попадались звери и вовсе непонятные, но ясно было, что это тоже порождения чьего-то бреда, наверное, византийского.
Ипподром был площадкой маленькой, три с половиной тысячи человек — вот и весь праздник, вот и вся любовь новому императору. Возможно, было это хорошо. На стадионе в Лужниках с его сотней тысяч мест коронация провалилась бы с позором, трибуны остались бы пусты. То, что некогда на прежнем великом Ипподроме в Константинополе, тоже помещалось сто тысяч, новую власть не напрягало, ну, нет хорошего ипподрома в столице, воспользуемся тем, какой есть. Ибо нужен именно ипподром, потому как Византия — страна традиций. Стотысячный позже отстроят те, у кого не спрашивают, хотят они строить или нет.
В девять утра загремели трехметровые фанфары, задудели непонятные, огромные трубы едва ли византийского происхождения, чем-то обо что-то грянули стражи у периметра поля, отворились врата под вип-трибуной, и полыхнуло красным, но не пламенем. Сам Константин и все его ближние были в разных багровых тонах, а он опознавался по ярко сверкавшим на осеннем солнце доспехам. «Серебро», — уважительно отметил высокогорич.
Император вышел в центр, на траву перед ним опустили белый, овальный, плоский предмет; в бинокль Пантелей увидел, что это, видимо, серебряный щит. Константин встал на него, широко перекрестился в сторону Петровского дворца — на восток, стало быть, и заговорил хорошо поставленным голосом:
— Граждане великой Российской империи, господа и товарищи, братья и сестры, леди и джентльмены, киры и кирии! К вам обращаюсь я сегодня, друзья мои. Я, законно избранный единой волей народа из прочих миропомазанных родов священного Рима, был призван моими соотечественниками для того, чтобы встать во главе величайшей многомиллионной империи, наследницы тысячелетних традиций христианского мира. Российский народ! Пробил час. Ты, веками томившийся под властью сменяющихся, но одинаково незаконных заправил, устал. Пора принять судьбоносную роль в человеческом мире, возвратить господам их законное место среди истинных владык, а рабам указать их рабское место.
Столетиями культивировавшаяся славянофобами ненависть масонов и демократов, жидофилов, либерастов и ваххабитов довела страну до нищеты, до братоубийственных гражданских войн. Поэтому Российская империя должна действовать только в качестве самозащиты перед лицом угрожающего ей глобального заговора. Ввиду этих обстоятельств я посчитал себя обязанным принять на себя всю ответственность перед лицом моей собственной совести и перед историей российского народа…
…Пантелей перестал слушать, где-то все такое уже слышал, и, похоже, слышал не раз. Скучноватую судьбу обещал России новый император. Раздолбайское государство царя Павла Федоровича жило по принципу: «Воруй, но не все: другим тоже надо». Поезда в нем ходили не строго по расписанию, но ходили же. Пушки, может, были, но за маслом в очереди никто не стоял. Если человек выигрывал на ипподроме миллион, он платил только двести тысяч налога, никак не девяносто процентов и даже не пятьдесят. И до последней возможности царь старался не воевать. Ни в балканские, ни в курдские, но в восточноафриканские войны Россия не лезла. Две икарийских войны случились не по ее вине и выиграны были без ее участия, хотя и с помощью ее оружия. А вот император Константин призывал сплотиться перед лицом и встать единым фронтом во имя высокой идеи, а также не жалеть последних сил.
Последние силы, да и первые, Пантелей берег для себя. Налоги в оба профсоюза, в ипподромный и в трансформерский, он исправно платил и повода сплачиваться не видел. А Константин все молол и молол языком, и Пантелею казалось, что этот сияющий серебряный щит давит на его плечи не меньше, чем на китайские.
Но император тоже стал хрипнуть и закашлялся. Толпа на трибунах, по большей части военные в маскировочной форме, заревела что-то с тысячей разных акцентов, некий деятель духовного, вероятно, сословия, в лиловой сутане, застегнул на шее Константина нечто вроде ошейника. Но в тот самый момент, когда стало казаться, что оперетта окончена, на меньшего размера щите на ипподром внесли еще одного человека, молодого, златокудрого и мрачного. По снимкам, попавшим в интернет, Пантелей узнал наследника престола, цесаревича Василия Константиновича, отныне — цезаря и младшего императора Второй Римской империи, как в просторечии теперь именовалась Вторая Московская империя. По счастью, родительскую ахинею младший повторять не стал, перекрестился на четыре стороны света и так же раскланялся. Китайцы спустили его наземь. Он остался стоять рядом, но следом на том же малом щите принесли и предъявили народу еще кого-то. В бинокль и на мониторе Пантелей опознал младшего сына императора, юного Христофора, которого средства массовой информации постоянно именовали «вторым от престола». Пантелей удивленно понял, что России предлагаются сразу три императора. А если считать Павла — то четыре. Если считать и наследника, Павла Павловича — так и вовсе пять. Ну ни фига ж себе!
Нереальность происходящего заставила Пантелея плеснуть себе дважды по два пальца бренди. Но лучше не стало. Без удивления увидел он, что дотащили китайцы щит и Константина на нем только до ворот. Там, видимо, даже им ноша стала не в подъем, ее опустили наземь, а императорам, всем троим, подали открытый белый лимузин, явно из свадебной конторы. Видимо, трех достойных внимания белых коней не нашлось, или опасались византийцы, что в седлах не усидят. Но какая теперь разница.
Все-таки Пантелею было интересно и продолжение. Ожидать, что одетая в маскировочную форму публика с ипподрома в сопровождении присутствовавших тут довольно-таки многочисленных сотрудниц из заведения мадам Делуази хлынет в ресторан, не приходилось, и Пантелей решил добраться до Кремля. В собор он, как существо некрещеное, зайти не рисковал, но как верховный спец по жратве в России туда имел право зайти его добрый знакомый Цезарь Аракелян, да и посол-ресторатор наверняка там должен был присутствовать, а ипподромщик был знаком с обоими. Да и еще один персонаж, обожавший коронации, среди знакомых Пантелея имелся, да и несчастному подкованному надо было бутадиеновую мазь передать.
К колдовским методикам Пантелей прибегал редко, да и не умел он ничего особенного. Однако пробиться сквозь строй оцепления, через баррикады мешков с цементом, которыми пока что была обозначена граница империи Ласкариса, он все же мог: попросту делал небольшое наваждение и казался наемникам византийца особо тяжелым мешком с цементом, мешкам же — восьмипудовым китайцем из личной охраны некоей крутой триады. Он переоделся в трико и легко для его возраста — сорок два все-таки — кувыркнулся через голову. Для постороннего глаза не произошло ничего, но только если глаз не был глазом наемника или мешка. Для тех кое-что изменилось, и об этом было рассказано выше.
Умел бы он запрячь золотую карету мышами — точно бы запряг ее и поехал бы в Кремль на ней, изредка останавливаясь, чтобы тех лихих мышей напоить. Умел бы он летать ясным соколом в поднебесье, лишь изредка в нем повисая, чтобы кому-нибудь на плешь нагадить, — полетел бы. Умей он, наконец, строго по науке, а то и вовсе без нее, в Кремль телепортироваться — он бы точно телепортировался. Только Пантелей не умел ни первого, ни второго, ни третьего, и поэтому он пошел пешком.
Говорят, в этот день русские войска одержали великую победу на Куликовом поле, — хоть и жаль, что нет доказательств тому, что битва это вообще имела место. Говорят, в этот день католики почитают память евангелиста, который однажды попросил у Понтия Пилата кусок козьего пергамента, — о чем, правда, в Евангелии ни слова нет. Говорят, в этот день был издан знаменитый роман-ходилка «Туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно», и вот это почти наверняка, потому как весь роман — выдумка для детишек.
Но вот коронация императора Константина I Константиновича Ласкариса в Успенском соборе Московского Кремля действительно имела место.
Обычная коронация московских царей и императоров всегда бывала призвана убедить в богоизбранности главы империи даже не народ, а самого императора. Если некогда на подготовку коронации царя-юноши, несчастного царя-охотника Петра II, было отведено больше четырех месяцев, то здесь надо было обойтись двумя неделями. Многим пришлось пожертвовать во имя утверждения в России новой, наконец-то законной власти. К примеру, не отыскалось ни малейшей возможности снабдить новыми костюмами даже наиболее приближенную элиту войск Ласкариса, — и полковникам-то велено было не особо выделяться на фоне народных масс, полностью одетых в обычную форму, то есть камуфляж. Тем не менее праздника ради надо было обеспечить коронационную форму лакеям, водителям, музыкантам, литаврщикам, валторнистам, бузукистам, а также шести арапам и четырем скороходам. Вместо лошадей, к счастью, удалось реквизировать свадебные лимузины и другие хорошие иномарки, но не заставишь же их кататься за публикой с ипподрома три-четыре раза.
А ведь еще и на кухне чертова уймища людей нужна. Ласкариса успокоили, что вот тут проблемы нет: эти со своего в прямом смысле слова хлебного места сбегать и не думали, а насчет припасов и прочего, так можно считать, что кремлевские повара новому императору присягу принесли первые.
Самое же важное, чудесную икону равноапостольного императора Константина, святого покровителя нового императора, уникальную, византийскую, конца седьмого века, отыскали прямо в Кремле. Была она туда пожертвована каким-то итальянским богачом, чьего мнения наркобарон спрашивать не собирался, и ее как раз на редкость удачно можно было сразу на входе в Боровицкие ворота из рук законопослушных епископов Полихрония и Родопиана получить. И не забыть сказать Досифею, чтобы за хорошее поведение возвел их потом в митрополиты. Если, конечно, вести себя хорошо и дальше будут.
Икону брали из того самого собора, где Константину предстояло венчаться, так что можно было ее туда отнести, да туда же и пожертвовать. У хозяина земли русской все хозяйство — свое собственное, икона же византийского письма, потому — своя собственная. Константин гордился тем, что может сделать такой взнос в государственную сокровищницу русских царей, и намеревался пожертвовать в дальнейшем еще три, которые тут были обнаружены. Он сравнивал себя с последним царем-скупердяем из прежней династии, и сердце его сладко ныло, погружаясь в восторг от того, как широка и щедра его русская натура.
…В ворота Пантелей сунуться не рискнул: охраны много, шума, да еще и святости и скверны, откуда-то взявшейся, и всего этого ему видеть не хотелось, поэтому, пройдя по Тверской до самой Арсенальной башни, высокогорич погрузился в землю и, почти с помощью одних лишь рук, протиснулся подземным ходом в палаты к дьяку. Палаты, как он и ожидал, были битком набиты, все знали, что хоть вся Москва рухни — эта башня уцелеет. Над Кремлем гудели колокола, пока что малые, в Царь-колокол обычно ударяли в миг провозглашения императора императором, а до него время еще оставалось. Пантелей поискал глазами и с удивлением констатировал отсутствие того самого персонажа, который отсюда носа не казал, и был это престарелый дьяк Выродков. «Ну, что ж, имеет право, человек крещеный», — рассудительно подумал Пантелей.
Тем временем новый император уже тащил в собор якобы свою, на самом деле реквизированную из того же собора икону, а патриарх Досифей судорожно молился над извлеченными из некоего сундука с тремя замками императорскими регалиями: державой, скипетром, ключом и мечом, а также тремя коронами, которые доставили из личного багажа Константина. Императорская была больше других, тут патриарх был спокоен, но две других казались почти неотличимы, и он был уверен отчего-то, что непременно их перепутает. Кроме того, он не знал, сколько народа будет в храме. По приказу нового властителя отпечатаны были два разных типа билетов. На одном значилось «С сим билетом входить в Екатерининский зал Сенатского дворца и в церковь». Выше текста был изображен сидящий на ветке двуглавый орел. На билетах второго сорта писалось: «С сим билетом входить в церковь». Выше был крестик. Досифей догадывался, что войска у Константина лишь на малую долю были православными, это успокаивало, значит, толпится не будут, и это же огорчало: слаба, видать, вера греческая.
Константин гордо посмотрел под ноги, будто решал, которая из них больше правая, и вступил в храм. На какое-то время повисла тишина, только позванивали, скорее, постукивали друг о друга серебряные червонцы в руках «метателей» — минут через двадцать ими должна была быть осыпана восхищенная толпа, к вечеру те же монеты полагалось по счету сдать обратно в казну, император надеялся на честность наемников, хотя и понимал, что местные все равно что-нибудь да украдут. Но что поделать, это Россия.
Пока Константин раскланивался на все стороны самым неподобающим образом, патриарх благословил корону, затем Константина. Даже стук монет заглох, когда сияющая синими камнями корона легла на голову византийца. Еще через мгновение над Кремлем грянул Царь-колокол: Россия обрела нового императора. А следом второго. А следом и третьего.
— Свят, свят, свят! Слава в вышних Богу и на земле мир! Константину-василевсу и автократору многая лета! — строго по тексту возопил народ в храме, и тем же кличем отозвалась — правда, с акцентом — толпа на Соборной площади.
То, что империя получила трех императоров комплектом в течение получаса, не особо напрягало публику. Немногочисленные, но более чем профессиональные имиджмейкеры ненавязчиво напомнили о том, что такое на Руси не впервые, что была уже одновременная коронация старшего не очень удачного царя Ивана и младшего, совершенно удачного царя Петра, а при них еще эта была, царевна-лебедь или кто там, неважно уже. Хуже было то, что младший император Василий стоял на коронации весь зеленый от лихорадки, а младший император Христофор выглядел на коронации не совсем трезвым. И то и другое было отчасти правдой: у Василия не нашлось времени и сил выгулять сегодняшний приступ, а Христофор хоть и не сильно, но немного опохмелился после вчерашнего, да к тому же старался изображать, как всегда, раздолбая.
Местных на коронации оказалось немного — все, кто подносил хлеб-соль на коронации, еще назначенный комендант Кремля, десятка два олигархов преимущественно греческого разведения, им молчать никто не приказывал, напротив, когда начался торжественный крестный ход, они старались держаться к Константину поближе — настолько, насколько позволяла охрана.
Однако народ воспринимал соправителей как то ли принцев, то ли царевичей, между тем коронованы они были именно как младшие императоры: хочешь не хочешь, а держи спину прямо и бросай в толпу горстями серебряную мелочь. При выходе Константина на площадь пушки грянули двадцать один раз, по одиннадцать раз бабахнули они и в честь каждого из младших. Осеннее солнце радовало глаза телезрителей игрой на золоте корон, блиставшем среди черных ряс духовенства. Константину пришлось просить Досифея строго приказать причту молчать: по-русски говорили все, но неистребимый греческий акцент немедленно выдавал их импортную сущность.
Кремлевские площади императору заполнить все же удалось: по случаю коронации он распорядился выдать бойцам не новую форму и не деньги, а нечто лучшее — по полфунта кокаина на брата. Так Константину было проще: пусть сами покупателей ищут, цена не опустится, а ему теперь деньги стали нужны больше, чем кокаин, пусть даже самый лучший. Император оказался в положении собаки, догнавшей собственный хвост: он контролировал почти весь мировой рынок кокаина, но сам этот рынок не мог стать больше, чем сумели бы употребить по назначению пользователи, от него быстро помиравшие.
Чтобы добраться до Сенатского дворца от Успенского собора, требовалось всего лишь обойти Царь-пушку, но и на это ушло чуть не полчаса: народ ликовал на все полфунта, хотя себе для пользования это добро, ясное дело, оставлять никто намерен не был. Кто-то, вероятно, уже и покупателей себе нашел из местного народа: кокаин здесь всегда был дорог и народ прозябал, довольствуясь убогой коноплей. Но эту проблему он мог решить ранее всех других и хоть сию минуту. Куда сложнее было объяснить самому себе: во что это он, черт возьми, ввязался и что ему теперь, нáхрен, со всем этим делать?
Все трое подошли к Сенатскому дворцу. Константин выбрал из ног наиболее правую и медленно прошествовал в Екатерининский зал, где на столах пока стояли еще одни уксусники да солонки, но духота уже была дикая. Официанты пока не показывались, лишь несколько распорядителей наличествовали. Возле назначенного императорам, похожего на тройной трон сиденья стоял бритый до синевы средних лет мужчина со всеми приметами Закавказья на лице. Император догадался, что перед ним Цезарь Аракелян, и мысленно сделал отметку: пройдет все гладко — быть этому ректору генералом.
Константин тяжело опустился в кресло, и тут же прогремело еще несколько залпов, народ устал их считать. В последнюю минуту он сообразил, что Христофор по рождению — католик и надо было сперва перевести его в православие, короновать лишь потом, но решил, что самому принцу безразлично, а другие сообразят, лишь когда будет уже совсем поздно. Да и совершилась над всеми троими также и светская, она же военная, коронация, и все они — помазанники Божии, а если кто недоволен, то пусть поищет начальство, которому можно пожаловаться. Вперед.
Шепотом Ласкарис попросил включить вентилятор. Зашумели сразу несколько, но прохладней не стало, лопасти всего лишь размешивали духоту. Официанты сдержанно уплыли в раздаточную, а потом чинно стали вносить все, что приготовила Академия на закуску. С удовольствием увидел император среди присутствующих седого креола с небольшим подносом: тот нес Константину привычный ассортимент — рюмку мастики и греческий салат с фетаксой. «Хоть что-то в мире есть вечное», — подумал Константин.
— Здоровье его императорского величества, государя нашего батюшки Константина Константиновича! — провозгласил накануне возведенный в княжеское достоинство Рэм Выродков. Ухнула пушка, сперва одиноко, но после первого глотка пошла лупить будто прямой наводкой по рейхстагу. По этому же знаку патриарх благословил трапезу.
Ласкарис знал, что никто не начнет есть раньше, чем он, как император, попросит пить. Как ему ни хотелось от этого уклониться и сохранить голову трезвой, пить пришлось. Долметчер лично показал ему бутылку зеленого португальского сансера, лучшего, что может выбрать человек под этот салат, любимый всеми мафиози в мире, к тому же доступный в любое время года. Император выпил вино, отставил рюмку и лишь тогда понял, что проигнорировал поднесенную ему мастику, а та, что поделаешь, с этим салатом гармонировала бы лучше, нежели сансер. Но что делать, видимо, императорам тоже свойственно ошибаться.
А пушки гремели почти без перерыва.
«Под устриц и прочих морских гадов, наверное, сотерн будет, шато-клеман, — мечтал император. — Хотя опять-таки сансер годится, но не дуть же его весь обед, можно анжу, да и вообще почти любое бургундское», — мысль уносила русского царя в бескрайние коридоры подвальных хранилищ, заполненных бочками мадеры, токая и хереса, штабелями бутылок с сицилийскими катарратто и нерелло маскалезе со склонов Этны, к которым Ласкарис питал особенную слабость по некоторым личным причинам. Но сейчас он старался пить поменьше: и за гостями наблюдал, и хотелось услышать не только гром тостов, возглашаемых распорядителем, и не только сопровождавший трапезу грохот пушек.
«Свои» были посажены за стол не совсем близко, но и не так, чтобы далеко. Совершенно арийская внешность как бура, так и ирландца позволяла не доказывать гостям, что он вовсе не въехал в Москву на азиатских штыках. Основная же масса гостей сосредоточенно стучала ножами и вилками: кремлевские повара свое дело знали. С отдельных столиков желающим подносили синие узкогорлые бутылки с минеральной водой, элитной «роммельквеллер», судя по всему. Византиец вспомнил, что раньше в таких хранили яды, себе попросил налить стакан, другой сам, из той же бутылки, налил и вручил Аракеляну. Тот понимающе кивнул и воду выпил. Выпил и Константин. Хорошая, однако, оказалась минералка.
Жестом император позвал к себе креола. Тот не присаживался, ходил между столами, таскал с подносов то кусочек рыбки, то веточку рукколы, то ломтик сельдерея, остальное мелькало вдалеке, и ясно было лишь то, что в целом он кремлевской стряпней доволен. Куда меньше радовала внешность Василия, этот вообще есть не мог, он только оставался за столом, он привык повиноваться воле отца. Младший как-то разгулялся на горячей закуске и похмельной гадиной выглядеть перестал. «Хоть кому-то хорошо», — подумал Константин. Креол тем временем утащил с его тарелки кусочек и кивнул: мол, кушайте, и вкусно и не отравлено.
Расслаблена была и свита императора, рассаженная на обозримом расстоянии. Банкир и контрразведчик что-то внимательно жевали, им явно не улыбалось то близкое будущее, в котором от военного безделья предстояло перейти к будничным делам времени мирного. Где-то подальше, но тоже относительно близко сидели братья Высокогорские, а между ними восточного вида девушка, едва ли из заведения какой-нибудь мадам. Дальше у стола просматривалась электронная Джасенка. Император, находясь вполне в теме, догадался, что дамы здесь нынче в основном ею и приглашены.
С грустью смотрел на происходящее военно-кулинарный ректор. Он вспоминал коронацию императора Павла, которой дирижировал его отец. При некотором сходстве все тут было другое: поддельное народное ликование, восхищение розданным кокаином, — надо же, ему самому купить предлагали, звон чужих колоколов, а главное — границы империи, сжавшейся от трех океанов до всего лишь некоторой части Садового кольца. Он понимал, что даже если природная русская династия пальцем о палец не ударит для возвращения Кремля, рано или поздно все это кончится не тем, чем двести лет назад, не бегством чужих войск из Москвы и погромами водочных лавок, а тем, чем кончились события здесь же еще за двести лет до того, когда войска пана Жолкевского без боя заняли столицу. Чуть ли не в точности четыреста лет назад их заперли в пределах Белого города и заставили отсиживаться там и виновных и невиновных, и поляков и бояр, в том числе, что интересно, и будущего первого русского царя из династии Романовых, Михаила. И ведь главной бедой тех лет в Москве не бесхлебица была, а отсутствие водки, хлебного вина. Сомневался Цезарь, что так уж много этой драгоценной субстанции припасла для себя Византийская Садово-Окольцованная империя. А кончится водка — та же самая империя подсядет на кокаин, и чем все начиналось, тем все и кончится. Хотя нет, скорее, опять-таки, как и в прошлый раз, все кончится банальным людоедством, и он на том пиру категорически не повар, полякам все же лучше было, надо отметить: у них имелись лошади, не деликатес, конечно, но все же еда, а вот автомобиль — штука несъедобная. А если к Москве подойдет регулярная царская армия, то никакие наемники византийца не спасут. И хотя ректор знал еще кое-что, чего ни в коем случае не должен был знать ни один византиец, картина нового Смутного времени не давала ему покоя.
От жирной и соленой русско-византийской еды, от бесконечных пирогов с козлятиной всем хотелось пить, но тосты следовали один за другим, и надувать трех императоров, лакая минералку или сок, было некрасиво. Однако совсем скисший от малярийного приступа Василий боялся блевануть, есть ничего не стал, — он отодвинулся от стола и горестно попросил у креола чашку мате. Дали. Зоркий Христофор заметил это и немедленно сделал вид, что уже надегустировался. Радости их компания императору не доставляла, и он отпустил сыновей по спальням.
Радость и вообще как-то растаяла в воздухе. Было начало десятого, и прожекторы скрещивались в небе в ожидании имеющего состояться через полчаса византийского салюта в честь коронации государя императора Константина I.
В смежном зале что-то одновременно маршевое и танцевальное лабал тот же оркестр, что и днем на площади. «Гимна не сочинили!» — с обидой подумал Ласкарис. Незримая порфира русских царей все сильнее давила на несгибаемые плечи мафиозо.
Он подумал, насколько спокойнее сейчас было бы в Мраморном море, в убежище на острове Антигони, где много лет назад он оборудовал надежное конференц-убежище для себя и близких сотрудников. Тем более — насколько идиллично сейчас в теплом, родном и любимом Ласкари на Сицилии.
Зря он проявил широту щедрой византийской души. В России спокон веков богатые бояре, кто за стол приглашен, у нового царя горшок каши покупают — деньги на него, то ли под него, кладут. Кто больше даст — того и каша, и хоть ешь ее, хоть в людскую отдай. А царю деньги. Нет, зря он прежнего царя за скупость корил. Деньги — они счет любят, и любой наркобарон туго выучил, откуда их брать.
Под Никольской башней у оборотней стоял непрерывный и многоголосый ржач: Выродков, опознавший в толпе на коронации своего прямого потомка, изображал происходившее в лицах. Ему, свидетелю коронации Федора Иоанновича и Бориса Годунова, Лжедимитрия и Василия Шуйского, было с чем сравнивать. Жрать здешней сверхъестественной публике полковник Годов пока что запретил что бы то ни было, кроме все той же гречневой каши на воде из-под Арсенальной башни, запретил под страхом увольнения. Не мог он уволить разве что итальянца-домового, всем же прочим приходилось принять инструкцию к исполнению. Дмитрий чувствовал себя определенно лучше и в сорок глоток рубал кашу. Катерина, глядя на него, нарадоваться не могла, хоть и было в хоромах из-за него тесно.
— Понимаешь, — веселился дьяк, — стоит он на Красном крыльце и весь народ озирает, эдак тупо смотрит, будто хочет взять в толк и не может никак понять: на хрен ему все это сдалось? Воевал, воевал, голыми руками взял, будто мыло в бане руками держит, а с мылом куда ж податься? Срам сказать-то, куда в России с мылом шлют.
Оборотни, известные долгожители, опять заржали. Пантелей, человек ипподромный и азартный, принимал ставки на то, до какого числа какого месяца усидит на троне новый император.
Рейтинг пока что у Константина был низкий. На то, что он дотянет в Москве до Рождества, почти не ставили. Хотя дьяк и напоминал, что четыреста лет назад осадное сидение почти два года длилось, но рассудительный тархан тоже напомнил, что тогда у России законного царя не было.
— А теперь что, есть? — пискнул кто-то из олигархов.
Дьяк пристально посмотрел на безвидника:
— Ну да, теперь вообще-то есть.
Загремел Царь-колокол, и одновременно с ним запели куранты. От этих мелодий всех присутствующих давно тошнило, но все-таки человек Годов, почти человек Юдин и бывший человек Выродков все же перекрестились.
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением…»
Вот именно.
XVIII
20 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
ЛУКОВ ДЕНЬ
Смерть — это однофамилец сна,
только фамилия эта нам неизвестна.
Милорад Павич. Хазарский словарь
И были перевернуты песочные часы истории.
И был день митмр. И был день йейшемби. И был день кушкыжмо. И был день защиты русских слонов. И был день, когда скончался царь Василий Шуйский. И далеко не только он один.
Ночь длилась долго. Когда в шесть часов и двенадцать минут муэдзины Москвы сообщили правоверным, что молитва лучше сна, и призвали их на намаз фаджр, более ценный, чем жизнь, некоторые из гостей государя-императора с жизнью уже простились. Отнюдь притом не те, кого угощал он в Екатерининском зале, он хотя и был императором, но как раз он отравителем не был, люди в Москве нынче умирали бессистемно.
Мусульман среди них не было, — разве уж какие засекреченные чуть ли не от самих себя, скорее наоборот. Непуганый город покупателей, впервые изведавших настоящую дешевизну белого порошка, набросился на него и очень часто не успевал даже разориться, ибо не знал летальной дозы. Покупая скромную порцию в одну драхму, чуть меньше четырех граммов, и тратя на это удовольствие всего лишь недельное жалованье, москвич высаживал ее в один понюх, как высадил бы единым духом поллитровку или пачку сигарет в те времена, когда людям еще по карману было курить. Жалованье за вторую неделю москвич истратить уже не мог, и грустили по нему только солдаты императора Константина, лишавшиеся надежного на первый взгляд покупателя.
Вторая часть жертв, не столь уж маленькая, пришлась на события, имевшие место на Кремлевской набережной, откуда спецназ Ляо Силуна попытался штурмовать баррикады бабьего царства в Зарядье-Благодатском. Все бы кончилось как обычно — ничем, но чья-то слишком удачливая пуля нашла дыру в обороне села и на месте убила известную Настасью, дочь небезызвестной Настасьи, к тому же любимицу и дочь отца нашего Ромео Игоревича. После нее сиротками остались две миниатюрных девочки-близняшки, — Ромео был известен тем, что от него часто рождались именно близнецы, и в батальоне вооруженных до зубов вскипел гнев. Да чтоб какие-то желтые обезьяны косорожие на родное село покушались, даже если они белые свиньи или восьминоги чернозадые?
Бабы выкатили на Москворецкий мост гаубицу и стали бить по Кремлевской набережной прямой наводкой. Поскольку перемирие нарушили именно китайцы, Праведникову в Кремль отправили телефонограмму, что при попытке дальнейших недружественных действий военизированные соединения села приступят к бомбардировке, а затем и к штурму Кремля. Подобное в день коронации не было нужно никому, двоих уличенных в нарушении перемирия — то ли других, но дело сделано — расстреляли прямо на набережной, и бомбардировка была временно отложена.
Ну, и кое-кто в эту ночь просто умер. Как? Как умирают все и всегда. Событие для Вселенной небольшое. Да и вообще тут говорить не о чем.
На рассвете, пока Джасенка Илеш еще дрыхла без задних ног в одинокой своей постели, проснулся и поднялся из ее тела прославленный борец за право всех знать все обо всех Кристиан Оранж. Не найдя другой одежды, он завернулся в купальное полотенце, налил с полстакана скотча, принял, потом толкнул и разбудил Джасенку. Она посмотрела на него так, как если б с ней захотела говорить ее поджелудочная железа.
— Что тебе?
Оранж налил еще.
— А то. Отрава уже действует. Пора, не то и себя упустишь, и меня, и этих всех своих.
— Цинну?..
— И ее тоже.
Не дав Оранжу ни секунды на то, чтобы спрятаться, электронщица напялила джинсы с заплатами на коленях и что-то вроде толстовки и вылетела в коридор. Судя по всему, она хорошо знала, что делает.
Оранж сиротливо остался в кресле. Джасенка же помчалась на кремлевскую кухню и потребовала немедленной аудиенции у ректора. Тот, как полагается любому виртуозу от кулинарного искусства, обходился без белого халата и провел ее к себе в кабинет.
— Господин Оранж… — начал он, видимо, уже находясь в теме.
— Ну да, Оранж. Не тяни кота за хвост, сыпь две дозы.
— Кому вторая?
— Кому, кому. Будто сам не знаешь.
Цезарь вскинул брови.
— Так ведь господин Оранж…
— При чем тут Оранж? У меня что, личной жизни нет?
Если бы и не намекнула Джасенка столь ясно на подругу, любой бы догадался, о ком идет речь.
Аракелян посмотрел на нее с тоской.
— Ну договорились же до вечера? А ну как заметит кто?
— Знаешь, не тебе помирать, гони дозу, другую сама отнесу.
Ректор достал из стола глиняный непрозрачный пузырек и отсыпал из него в мерный стаканчик примерно чайную ложку похожего на сахарную пудру порошка. Плеснул в стакан минеральной воды из стеклянной бутылочки, набрал жидкость в шприц и подал Джасенке с виноватым видом.
Электронщица с видимым отвращением, по-американски вонзила себе в шею иглу и жестом потребовала еще.
— Может, прислать ее к тебе?
— Ни в коем случае, — ужаснулся Аракелян, — тут же спалюсь, если ко мне вереница пойдет. И так-то токсикологов, всех четверых, сдать пришлось.
— Сдать?
— А как это называть? Разберется Тимоша, он у нас быстро с народом общий язык находит.
За окном, шумно гремя полными баками, проехал мусоровоз, увозя на свалку остатки вчерашнего пиршества, с кухни доносился звон перемываемой посуды.
Шприц был набран, пакет был насыпан, синяя бутылка получена и ко всему — запасные иголки, хотя от этой системы давно отказались во всем мире и пользовались одноразовыми. Успокоенная Джасенка побрела на первый этаж терема, где отсыпалась ее подруга. Войдя без стука в незапертую дверь, помимо подруги она обнаружила на том месте, которое считала своим законным, еще и князя Сан-Донато. Она ничего против не имела, но порция порошка была только одна, и она не знала, что делать.
Елим, вполне отдававший себе отчет, что в данном случае всего лишь ест краешек чужого пирога, хотел оставить подруг наедине, но Цинна его удержала:
— Ты куда? Без тебя не хочу.
— Тут на одного, — огорченно сказала Джасенка, знала бы она про такое, так просила бы на всех.
— А ты ему отдай, я сама схожу.
— Ну и все тогда?
Цинна откровенно оскорбилась:
— Как все? А еще один?
— Кто?
— Брат.
Уж на что считала себя эмансипированной электронщица, но чтобы просить порошковый чертов безоар на двоих любовников у своей же любовницы — было чему подивиться. Хотя после потери Игоря Васильевича Джасенка кое-что поняла и решила этой своей обретенной в византийских боях семье немного помочь. Без арясинского порошка экстракт протейских мухоморов, метамускарин, который царские гости принимали за соль, сахар, соду, ароматизатор или что еще, убивал человека в течение тридцати шести часов.
Джасенка по своим неперекрываемым каналам знала, что безоара у ректора хватило бы и на сотню человек, но спасаться массовым спасением утопающих готова не была.
— Уж решим сразу, кто тут достоин спасения. Только не очень тянем: хлипкие к шести занемогут, к десяти им конец, а таких, кто протянет двое суток, нет в природе.
Елим, о чем-то лишь догадывавшийся ранее, чувствовал, что его душа ушла в пятки и там ей неуютно. Догадаться, что русский царь настропалил на византийского императора мышеловку с отравленным сыром, можно было еще три месяца назад на Балканах за секунду, предположи хоть кто-то, что на подобный чисто византийский шаг способен советский учитель из средней школы, — так ведь быть того не может. Елим не понимал, что царь тут ни при чем, а при чем только братья Аракеляны и самый младший — более всех. Но в его существование редко кто верил.
Непонятно откуда выглянул Оранж.
— Список лиц, имеющих право на антидот, в мае продиктован господином Горацием Аракеляном; он предусматривает вариации, хотя и незначительные. Список визирован царем.
Кое-какие мысли у князя были, он сел в постели и посмотрел в потолок.
— Детей-то за что?
— Это кто дети? — удивленно бросила Джасенка. — Христофор и его бляди… обоего пола?
— А хотя бы. А хотя бы Паллада, она чем виновата?
— Ну ладно, что еще и кто еще? Мне много не дадут — им на всю кухню нужно, все-таки старались люди.
— Ладно, кто не успел, тот опоздал. — Электронщица стала загибать пальцы. — Ты, он, принц, девка его. Все?
Князь подумал.
— Он не принц, он император. Думаю, он куда интересней, чем кажется.
— Я заметила, — подтвердила Джасенка, — по-английски ни слова, а у самого «Гарри Поттер» одиннадцатый в оригинале зачитанный. — Ну так что, подвели черту?
Елим подумал.
— Еще одна доза. Арсений. Он не виноват, и он Романов, и это последнее важно.
— Ладно, но это все. Пять порций еще дадут, но с концами. Кстати, скоро эта радость в воде перестанет растворяться, и надо спешить. На Василия не просите, хотя, может, он ничего и не ел. Но едва ли, все что-то ели или пили, на войне как на войне… Ладно. Иду, иду. — Электронщица увидела, как ее подруга воткнула единственный наличный шприц в шею князя.
«Везет же некоторым», — подумала она в коридоре. Два мужика и подруга, и молодость при ней — всего-то двадцать третий год!
Цезарь посмотрел на возвратившуюся девицу вопросительно, скривился, но пять полных шприцов выдал. Потом постучал по столу левым указательным.
— Больше ни одной. У меня своих сто шестьдесят, упущу хоть одного — мне не жить.
— Да ладно тебе, — обмирая от собственной наглости, бросила Джасенка и покинула кабинет ректора.
Эспера обслужить во всех смыслах бралась Цинна, на Елима повесили визит к Христофору и Палладе. Князю думать не хотелось о том, что случится, если он их не отыщет.
В покои самого младшего из императоров попасть можно было только через длинный старинный тамбур, в котором дрыхли двое постельничих, недоросли из охраны. «Недолго вам дрыхнуть», — подумал Елим, еще час тому назад не знавший о том, что его самого и решительно всех гостей на пиру во дворце отравили. Для молодых людей он в любом случае сделать уже ничего не мог, он и так чувствовал себя странно, заявившись спасать более-менее законного и коронованного в Успенском соборе императора Христофора I.
Как ни странно, младший император вовсе не танцевал в наушниках. Он сидел, скорчившись в глубоком кресле, подобрав под себя ноги, в одних стрингах. Его трясло.
— Не зовите никого, государь, — более чем официально обратился Елим и подумал, что государем парня больше никто никогда скорей всего не назовет, — никто не придет. Вижу, вы уже догадались.
— Я думал, ребят пожалеют. Как понял с утра, что вот тут болит, — он показал куда-то ниже пупка, — так и… понял. Ведь на что купились… Ну я-то ладно, я наследник, что со мной церемониться. Но они, они… Их за что? — Парень забился в истерике.
Князь достаточно сильно врезал императору по загривку.
— Христофор, для вас еще ничто не кончено. Вода тут есть?
— Нет воды, только сок…
— Не годится сок, небось тоже с банкета. Вода в ванной есть?..
— Посмотрю…
Христофор рванул в ванную и победно принес стаканчик с водой. Даже щетку зубную не вынул.
— Хорошо, есть чем размешать.
Елим высыпал порошок в стаканчик, разболтал получившуюся муть, набрал шприц и воткнул Христофору иглу выше локтя.
— Опусти, дете, — от волнения Елим сбился на хорватский.
Христофор рухнул обратно в кресло.
— Что это было?
— Антидот. Из тех же рук, что и отрава, так что будь благонадежен.
— Так меня-то с чего спасать?
Елима прорвало.
— Царь с засранцами не воюет. Ты уже четыре месяца как в списке тех, кому велено дать антидот. И не скрою, что мы тебя запросто упустить могли. Легче легкого. Это ты папеньку надуешь, мол, танцую-трахаю и оставьте в покое. Было б это на самом деле так, ты бы сейчас уже корчился.
Христофор затравленно обнял себя за плечи, вжимаясь как можно глубже в кресло.
— Да как же… да у отца охрана…
— У отца была охрана, да вся вышла, сбежала наверняка или передохла. Все возьмут по чемодану, и только их и видели, ну а большинство, конечно, тут ляжет в ближайшие сутки. Праздник для всех был, для наемников тоже.
— Елим Павлович, я что же, все время под колпаком у вас был?
— Да не без этого…
— И что же, всех теперь забыть?..
— Ну нет, для Паллады тоже приготовлено. Только тащи ее сюда сам, я в коридор больше не пойду.
— Неужели все? А Василий?..
— Христофор, я его едва знаю. Я своих-то защитить не могу, еле-еле твоей бабе выпросил. Ну, для Паллады. Ну, для ее Арсения. Ладно, знаю, что и твоего, но это она без него жить не может, ты обошелся бы. Ты бы ради меня голову на плаху не положил, как я вот сейчас.
Парень вспыхнул. Елим был уверен, что это половозрелое чудо уже ничем не проймешь, а вот поди ж ты.
— Елим Павлович, да если б я знал…
— Хотел бы, так знал бы. Куда у отца люди пачками исчезают? Слушай, и хватит, беги к Палладе, не то поздно будет, себя же не простишь никогда. Кстати, пожалуй, если не всех твоих засранцев спасти удастся, так хоть кого-то, глядишь?.. — Мысль посетила Елима совершенно самаритянская, и он сам удивился. Хотя что дивиться: одно название, что князь, но если льешь царям пушки, получается, прочее тоже делать придется.
Парень напялил совершенно не императорские штаны, влез в халат и помчался спасать подругу. Князь остался с последней дозой в руках. Предстояло неизвестно где искать Арсения. Елим и вовсе не был уверен, что тот в Кремле и если это так, и тот в помощи не нуждается, то кому отдать чудесно обретенный антидот. Получалось, что Василию. Князь подумал и загадал, что до четырех поищет, а потом отдаст шприц с раствором первому, кого встретит, если тот не окажется отпетым мерзавцем вроде контрразведчика Рэма.
Князь вышел в тамбур. Один из охранников стонал, другой, то ли еще, то ли уже, но нет. «В крайнем случае — любого». Потомок тульских оружейников всегда старался сделать хоть что-нибудь для спасения души. Какой-никакой, а помазанник Божий и уж точно отцовской наркоторговлей не запятнан. Тому, который стонал, князь дал по затылку. Тот захрипел и уставился на дальнюю дверь, последнюю в коридоре. Князь понял. Там помирал обоеполый императорский гарем. То ли их там шесть, то ли их там семь. Через минуту он был в кабинете у ректора, достал припасенную на черный день старую добрую лимонку и выдернул чеку.
— Господин ректор, за убийство несовершеннолетних что положено?
Цезарь вскинулся:
— У меня приказ…
— А у меня видите что? Пусть хоть все ваши старики подохнут, а ребят спасайте. Скольких сможете, стольких спасайте. Все в одной хоромине против покоев Христофора. И один у него в тамбуре. Для второго, похоже, все кончено.
Цезарь скис, но граната убеждала. Когда ректор убрался спасать малолеток, князь вернул чеку на место и пошел искать незаконного Романова.
Арсений отыскался, притом не где-нибудь, а в том месте, которое боярин семнадцатого века назвал бы сенями. Он сидел на скамье, свесив обе руки между коленями, и тяжело дышал, видимо принимая свои ощущения за похмелье.
— Идем уже, — встряхнул его князь. Арсений ничего не понимал, но послушался. Князь отвел его к себе, развел порошок и через рубашку воткнул иглу князю под лопатку. Видимо, тому было уже очень плохо, он поднял мутные и совершенно непонимающие глаза.
— Что это было?
— Это была смерть, Арсений Андреевич. Тихо, тихо, все уже случилось, вы живы.
Арсению, видимо, стало чуть лучше, он попросил воды. Князь тщательно вымыл стакан, нацедил самой холодной, какую получил из общего смесителя, и принес бедолаге.
— Что это было, что это было? Что, что это было?..
Князь с грустью посмотрел на Юрьевского. Тот был на несколько лет старше него, но рядом с ним мудрым старцем чувствовал себя сейчас именно Елим. На удачу предприятия Ласкариса он даже в Тристецце поставил бы разве что гривенник против рубля. Теперь он не поставил бы ломаного гроша против любой, сколь угодно баснословной суммы.
Хотя деньги в Россию он привез для обеих сторон, он понимал, что ни одна из них, победив, сотрудничества с противоположной не простит ему по определению. Отлаяться дипломатической нейтральностью мог в такой ситуации разве что креол-ресторатор. Ну, брат: хороший арабист всегда нужен, а шииты копали яму для того, чтобы похоронить все стороны конфликта, царскую, византийскую, икарийскую, наверное, и еще какие-нибудь, все равно все, какие есть. Валить с Цинной в горный Непал?.. Лучше, конечно, чем подыхать в затонувшей субмарине. Однако, если он и не владел больше виллой Сан-Донато во Флоренции, домик возле Кастельфьорентино близ Флоренции с виноградником при нем вполне годился для жизни. Князь и вообще не собирался оставаться жить в России на холодное время года. Он в ужасе вспоминал о том, как в январе прошлого года в Тоскане случился дикий, непередаваемый, не российский даже, а какой-то полярный холод. Сообщалось, что приключилось такое впервые за тридцать лет, но ведь в России, говорят, такое каждый год. Для его нежной итальянской шкуры сама мысль о подобном климате была невыносима.
Куда податься остальным, спасенным ныне той же рукой, что вчера всех отравила? Без горской девицы ближайшие годы он, видимо, обречен был чувствовать себя голодным сиротой, для начала надо было решить этот вопрос, но сейчас на него смотрел безумными глазами Юрьевский. «Хорошо, что я не Романов», — подумал Елим.
— Да неважно, что было, теперь надо думать, что будет. В ближайшие часы вся крепость превратится в Изонцо… извините, в России говорят Куликово поле, смысл тот же, поле трупов и много стервятников. Лучше спокойствия ради всем нам отсюда отбыть.
— Куда?
Елим смутился:
— Ну, каждый, думаю только для себя этот вопрос решает. Я буду пытаться вернуться в Италию…
— Ну, мне в какую Италию, дома, в Петербурге, мне точно конец. Английский знаю плохо, да еще и происхождение на мне висит.
— Пожалуй, я знаю, кто нам лучшее присоветует, тем более что там и отсидеться можно, но пока что нам всем надо из Кремля выбираться.
— Подумать только, вчера — такое торжество, сразу три императора! Теперь — ни одного…
— Один как минимум есть и чувствует себя лучше вашего, ему антидот раньше ввели. Христофор. Тут с детьми не воюют, кого хотите спросите, у воров в законе такие правила. А что в органах делали с ними, так другие нынче времена. Не византийские.
Что почувствовал после такого сообщения Арсений — можно было не гадать, поэтому князь быстро добавил:
— Палладе вашей общей тоже отнесли. Но, боюсь, это все, разве что кому-то сказочно повезет по какой-нибудь из других линий.
— Что будет, что будет?..
— Да брось ты, что было, что будет, было ни черта не понятно, вот и дальше будет не понятно ни черта. Сваливать отсюда надо, и это все.
— А выпустят? Все же ворота?..
— А мы без ворот. Найдем дыру в заборе. Это сюда не пускают, а отсюда что же?..
Выскользнувшие из объятий смерти бывшие сотрудники наркобарона собирались в комнате у Джасенки. Цинна сидела, держа между сжатых ладоней пальцы Эспера, и, судя по всему, не собиралась их выпускать. Елиму это крайне не понравилось, ничего подобного он не ожидал. Брат посмотрел на него совершенно затравленно.
— Мы решили пожениться! — радостно, тонким голосом прощебетала горянка.
— Ну поздравляю! — выдавил Елим.
— Правильно! И с тобой мы тоже решили пожениться!
Как-то всего этого много было для бедной головы князя. Его только что отравили, потом вытащили буквально с того света, потом предложили решать судьбу не самых ему близких людей, а теперь вот всерьез предлагают вступить в групповой брак на основе этой, как ее, полиандрии. Он умоляюще посмотрел на брата. Тот молча кивнул: соглашайся, не то хуже будет.
— Может, не надо так вот сразу, да еще в такой момент? Да и не обвенчает нас никто…
— Вы сможете жить во блуде! — до неприличия весело рявкнул Христофор, по привычке залезая в свою раздолбай — скую личину.
— Вот именно, во блюде, — повторила за ним горянка, с гарантией не понимая, что именно она только что сказала.
Братья переглянулись. Девица совершенно открыто жила с ними обоими и так же совершенно открыто давала им понять, что если они недовольны, так она найдет еще вполне сорок тысяч шекспировских братьев и не откажется ни один. «Идиотов нет, — подумал князь, — всегда лучше просить прощения, чем разрешения».
— Ну, соглашаемся? — робко спросил он у брата.
— Будто у нас есть выбор, — почти без грусти ответил арабист.
— Так, приношу извинения, — заговорил новый участник разговора, никем ранее не замеченный, разумеется, это был покинувший тело Джасенки, все еще завернутый в полотенце Оранж, — на свадебные церемонии времени нет совершенно. Вам, точнее, нам, раз уж мне приходится вот так скрываться, надо покинуть Кремль и где-то переждать, потом предположительно покинуть Москву. На одну ночь можно разместиться… в известной квартире. Считаем: семья Высокогорских, не возражаете, так буду вас называть, — трое. Мы с Джасенкой, Паллада, император, князь Юрьевский за рулем. Все, семь человек. Втиснемся как-нибудь, это «хаммер». Его величеству отказать не посмеют, если кто живой сторожит, а если кто не живой, так и спрашивать незачем. Собирайте минимум. После этого — в Гольяново или куда глаза глядят.
— В Гольяново опасно, — неожиданно для себя самого заявил Елим. Он понятия не имел, что там в Гольяново, да и вообще что это такое, но чувствовал, что никто их там цветами и криками восторга не встретит. — Я скажу куда. Это гораздо ближе. Если улицы прибраны, будем через два часа.
— Есть вариант попробовать договориться с академией, — вставил свои пять копеек и Арсений. — Это ведь он нам антидот выделил?
— Я бы не рисковал, — ответил Оранж. — Ректору предстоит слишком многих защищать, и не надо бы отягощать его нашими заботами, коль скоро мы их можем решить сами. Император, вам бы одеться, вы же, извините, не император сейчас, вы же выглядите как полный лаццарони.
— Да какой я император, — буркнул Христофор и побежал одеваться.
— Как ни странно, самый настоящий, — бросил ему вслед Оранж.
Кремль умирал на глазах. Пан Жолкевский и его соратники повидали тут четыреста лет назад детский праздник, если сравнивать с тем, как выглядела крепость теперь. Поляки тогда друг друга хотя бы успели съесть. Сейчас люди умирали, не успев вкусить ничего, кроме яда, и они умирали много быстрее, чем предполагали те, кто наварил на них отравы.
Правда, были и те, кто что-то понял и пытался спастись. Кто-то ломился в десятилетиями не отпираемые двери, кто-то пытался врубить сигнал противопожарной опасности, при этом, не ведая, что творит, включал аппарат кислотной дезинфекции, кто-то орал благим матом, а кто-то уже и не орал ничего, в корчах заканчивая жалкую свою жизнь на ступенях кремлевских дворцов.
Очень редким везло. К числу последних неожиданно прибился банкир Ласкариса, носивший липовую фамилию Крутозыбков. Он очень рано понял, что отравлен, добыл на кухне — банку горчицы, в ванной — зубную пасту, побежал смешивать их и по возможности блевать, блевать, блевать. Конечно, в общем туалете, а не в собственном, где проще простого потерять сознание, удариться головой и более не проснуться.
Рвотное подействовало, но довольно слабо, банкир понял, что получил только отсрочку, получил ее слишком поздно. И вдруг увидел, что у соседней раковины как ни в чем не бывало человек стоит со стаканчиком и набирает из него в шприц что-то мутное. «Антидот!» — догадался банкир. Человека он тоже знал, это был комендант Кремля из прежней администрации, Анастасий Праведников.
Цепенеющими пальцами банкир впился в шприц и к немалому собственному удивлению вырвал его. Драка на скользком полу привела бы к неизбежному — драгоценный предмет не достался бы никому. Решив последний раз пойти ва-банк, он рванул к двери, оказался за ней, захлопнул и бросился по коридору, бросив коменданта умирать в одиночестве.
Но везение кончилось. Коридор круто свернул направо, а в конце нового коридора стоял, будто статуя командора, и сверкал налитыми кровью глазами император всея Руси Константин I Ласкарис, которого бросили телохранители, накануне по обязанности ничего не пившие и не евшие. Он видел, куда идет дело его жизни, и полон был решимости дорого продать эту самую жизнь. Хотя на что он мог надеяться?
— Ваше величество, — пролепетал банкир.
— Дай сюда, — не терпящим возражения голосом сказал император.
— Ваше величество, тут только для одного доза…
— Вижу, что для одного. Для меня. О твоей семье позабочусь. Моему слову — как швейцарскому банку, лучше верить. Шиву над тобой сидеть не буду, и вера другая, и времени нет. — Император с размаху вкатил иглу себе в предплечье, крякнул, будто чистого спирта хватил, и успокоился. — Проигрывать надо с достоинством, не как ты, мразь жидовская.
Банкир корчился на ковровой дорожке, не столько даже от яда, сколько от вот этой последней неудачи, когда спасение было так близко.
Константина здесь больше ничто не интересовало и не удерживало. На сутки или на тридцать лет — истории безразлично, но он знал, что теперь его имя будет вписано в века как имя одного из государей всея Руси. В конце концов, первый император в роду Ласкарисов, тоже Константин I, надо же, правил всего-то тридцать пять дней и даже коронован не был, так что цели он своей достиг… А большего, возможно, и нельзя было достигнуть в этой стране, где меняются только имена и названия, и может чем-то обладать лишь тот, кто хочет, чтобы другие не обладали ничем.
«Не стоишь ты моего кокаина», — зло подумал Константин, глядя из окна за разбитую стену, в сторону Замоскворечья. Жалкая и мерзкая страна. Москвополь. Москвапур. Москвасарай…
Он уже не помнил, сколько лет и миллиардов ухлопал на этот сарай. Ему уже ничто не было нужно. Он забыл о сыновьях. И главное, ему, одному из очень немногих, было куда бежать из Москвы. И туда за собой брать он был не намерен никого.
Понуро брел он по коридору к своему кабинету, отмечая изредка встречающиеся синие лица отошедших в лучший мир дежурных. Похоже, здешние кулинары не оставили без угощения никого. Хотя не может быть, чтобы совсем никого, всегда ведь кто-то уцелевает. И в Петровском дворце кто-то остался на дежурстве. И тут он же понимал: да, может, кто и остался, но кровь за императора проливать не захочет точно. Ни за какой кокаин, который нынче любой у него отберет голыми руками.
…На Ивановской площади, не обращая внимания на последние стоны вокруг, семеро беженцев грузились в «хаммер». Раздобыли его довольно легко: огромный наемник, совершенно здоровый на вид, грузил своих немногочисленных и тоже здоровых солдат в три других и ничего не имел против, если погорельцы-беженцы заберут хоть все остальные. Видимо, ему не привыкать было к поражениям, и он знал, что от лесного пожара пантеры и зайцы бегут вместе и в одну сторону.
Вещей у беженцев не оказалось почти вовсе, точнее, было немного, но только у женщин, да и то главной вещью Джасенки ожидаемо оказался ноутбук. Христофор заявился как настоящий император: он нес нечто вроде завернутой в тряпицу бейсбольной биты, но была это бита или что другое — осталось тайной. Арсений обошелся барсеткой, братья вовсе пришли с пустыми руками.
Арсений, которому антидот дали позже всех, был зеленоват. Все разместились как могли, и Елим, как единственный, знавший, куда надо направиться, оказался за рулем.
Штурмовать стену не пришлось, Боровицкие ворота стояли пустые, как во время идиотского путча двадцатилетней давности. Елим догадался, что расчистили их бойцы огромного полковника. Он медленно вывел джип из ворот и осторожно двинулся по совершенно мертвой Волхонке.
Почти по прямой добравшись до Пречистенских ворот, он сделал крутой и запрещенный правилами уличного движения зигзаг, въехав на Петрокирилловскую и останавливаясь на углу Щепетневского, у нумизматического особняка Меркати.
Елим, как человек, с хозяином дома знакомый, негромко постучал бронзовым молотком, — звонков тут избегали. За дверью далеко не сразу раздались звуки чего-то отодвигаемого. Наконец в глазке появился чей-то зрачок.
— Мы к Якову Павловичу. Нам не назначено, но он нас примет. Мы без оружия.
Глазок захлопнулся, ждать теперь пришлось минут двадцать, беженцы занервничали, но ожидание пришло к концу, и тяжеленная дверь без малейшего скрипа отворилась.
Филиппинец, которого сопровождал другой сотрудник, с трудом передвигавший ноги, отвел гостей в крошечный кабинет нумизмата. Там немедленно стало тесно до невыносимости. Меркати, распознав среди присутствующих младшего из императоров и князя Сан-Донато, стал благостен и предложил перейти в более надежное помещение. Таковым оказался меняльный зал, где сейчас не было ни единого оператора, видимо, в конторе был выходной.
Меркати обождал, пока все рассядутся, разместился у журнального столика и спросил сразу всех:
— Кофе?
Поскольку после вчерашнего ядовитого банкета ни у кого маковой росинки во рту не было, кофе хотели все.
— Капе са питонг тубиг, — видимо, познания банкира в тагальском ограничивались десятком слов, да и те произносил он по привычке: кроме кофе, воды и вина Меркати не просил ничего никогда, тем более мальчик почти уже превратился в зятя.
Покуда филиппинец варил кофе, Меркати обозрел пеструю компанию, объединенную каким-то висящим в воздухе византийским страхом.
— Так чем я обязан? — обратился он к юному императору, прямо указывая на свою лояльность.
Христофор ткнул пальцем в Елима. От маски раздолбая он избавиться все еще не мог.
— Яков Павлович, византийская династия Ласкарисов более не находится у власти в России. Видимо, вы первый, кто узнает об этом, и вольны извлечь из этого любую мыслимую выгоду. В ответ мы просим у вас несколько дней гостеприимства, чтобы иметь возможность покинуть Москву. Гарантии нашей платежеспособности предоставит… известное лицо, находящееся сейчас в Москве.
— Понял я, понял, понял, — перебил его Меркати, — но в Кремле-то что случилось, ведь это целое правительство, неужто армия, да вот и его величество…
Елим вкратце рассказал. Видимо, не так уж и вкратце, если к окончанию монолога Амадо расставил чашки с кофе и стаканы с холодной водой.
— Бисквит, — бросил нумизмат, на этот раз на общепонятном. Мальчик послушно отправился за печеньем, а хозяин перевел глаза на Христофора, — но если вы, ваше величество, живы и другого коронованного и миропомазанного властителя у страны нет, то вы и являетесь ее государем.
Христофор только отмахнулся и сделал большой глоток кофе. Елим, знавший несколько больше того, что было позволено знать присутствующим, вновь перехватил нить разговора:
— Полагаю, этот вопрос династии должны решать между собой. Между ними нет войны и даже конфликта нет. То, что в России греческий патриарх короновал всероссийского императора, можно и не оспаривать, коль скоро патриаршего престола в стране уже более трехсот лет нет, не считая краткого нелигитимного периода в прошлом веке, — в случае возвращения государя Павла Федоровича эта коронация вообще не будет иметь значения, ну, в других вариантах — решать народу. И точно не мне, я гражданин итальянской республики.
— Княжества Тристецца, — подал голос Эспер, намекая на то, что Россия республиканским режимам традиционно не доверяет.
— Да, так же, как и независимого нейтрального Адриатического княжества Тристецца.
Меркати долго смотрел на Христофора, и ничто не отражалось на его лице. А думал он о том, что ведь вполне бы хорошая пара получилась из этого парня и дочки Клавдии, хоть она и постарше, хоть парень и знаменит своим блядством, но дочка тоже не ангелица с шестью крыльями. Жаль. Хотя, может, и спокойнее. Царей убивают без причины, а за кофе убивать странно бы… потом понял, что за такой кофе, как варит филиппинец на ладане, могут и туга-душителя прислать, — и ломать голову перестал.
Что-то делать надо было со всеми этими гостями. Солиды и византины как-то сразу померкли перед духовным взором нумизмата. И зачем он столько их нагреб, да еще по таким ценам? Хорошо, хоть кожаную коллекцию не разорил. Русское золото восемнадцатого века тоже цело. Юбилейные знаки Петра II… А что со вкладом этого самого байдара-гайдара? Не так уж много, но десять миллионов, и ведь ясно, что духу этого субъекта при императоре Павле в Москве не останется, у него свои мусульмане, личные, икарийские, Касимов взяли, теперь идут на Казань или куда там…
В помещение на негнущихся ногах вошел давешний сотрудник Меркати.
— Яков Павлович, немедленно включайте телевизор. Или что у вас там, интернет, и дайте сразу на экран, это всем будет интересно.
Понимая, что Матасов по пустякам не вломится, Меркати настолько быстро, насколько смог, включил ноутбук и перевел изображение на висящий на стене экран. Там среди ликующей толпы что-то двигалось к центру, кажется, по проспекту Федора Романова, бывшего Мира. Поверх толпы колыхалось море трехцветных и черно-желто-белых знамен, плыл маленький кортеж, и звучал из тысячи глоток клич:
— Слава императору Павлу! Павел у ворот!
XIX
20 АВГУСТА 2011 ГОДА
ТО ЛИ ДА, ТО ЛИ НЕТ,
БЕЗ ГАРАНТИИ
Никакого числа. День был без числа.
Н. Гоголь. Записки сумасшедшего
Хватит мучить читателя загадками: место, где числа нет, существовало.
Это планета, — чего уж там выдавать ее за неизвестно какие земли, это планета Протей. В небесах там были не только иные звезды, там даже Млечного Пути и того не имелось, и наклона земной оси не наблюдалось, поэтому весь год стояла то ли теплая весна, то ли нежаркая осень, и всегда что-то созревало, и всегда что-то зацветало. За тамошними звездами давно велся надзор, и составлены были их подробные карты, правда, лишь для Северного полушария, ибо само существование Южного там ставилось под сомнение. Полярная звезда этого мира, подобострастно названная астрономами «Сердце Павла II», была по приказу царя переименована в «Сердце Павла I», но постояла-постояла в небесах, скрылась и более не показывалась. Из средств дальнего передвижения имелся лишь аэростат, да и тот без разрешения Сосновского было не получить, а он разрешение давал раз в год после дождичка в четверг, и, хотя дождичек тут бывал, вот насчет четверга имелись сомнения: один еврей на Протее был, волчеуст, гораздый беседовать с волками всех разновидностей, Соломон Соломон-оглы из семьи Соломон, который как начинал молиться, так из любого четверга могла сотвориться суббота, хотя большой роли ни в жизни Кассандровой Слободы, ни в истории византийского кризиса евреи не сыграли.
Сколько суток прошло на Протее за те примерно сто десять, не то сто двадцать дней, как бежал в свой личный Таганрог правнук пращура Александра Благословенного, едва ли кто мог сказать с точностью несмотря на то, что миры были смежными, но точек соприкосновения у них было всего ничего, главное же то, что не совпадало время суток, человек при переходе попадал либо из темени в свет, либо наоборот.
Про свистопляску здешних расстояний, про трехметровых зебу с заячьими ушами, про двоякодышащих бобров, про лишние лосиные зубы и прочее, даже про здешние мухоморы можно было бы и не повторяться. Но если в России про дела Кассандровой Слободы знали человек пять-шесть и несколько существ из числа сверхъестественных, то в самой Слободе за российскими делами те, кому было позволено, смотрели с предельным вниманием. К примеру, двадцать лет варила Слобода мухоморы, превращая их в мелкий, похожий на сахарную пудру порошок, наварила его на целый город, но легко ли было перевезти его со всеми сложностями в Москву? Да и подобрать рецепты изысканного кремлевского стола, позволяющего после однократного угощения гостей избавиться сразу от всех? Необычная задача стояла перед токсикологами: отравить не хлеб и не вино, не уксус и не сахар, но абсолютно все, что окажется на столе. Антидот царь тоже копил несколько десятилетий. Хоть и не часто, но довольно регулярно доставал из желудков забиваемых чертей Богдан Арнольдович Тертычный безоары, которые после превращения в другой безвкусный порошок становились радикальным антидотом, нейтрализовавшим действие даже такого мощного яда, как протейский метамускарин. На вкус порошок из грибов был как глутамат натрия. Порошок из безоаров был на вкус от него неотличим.
Газета в Слободе все-таки стала выходить. В силу того, что на грибоварне на неопределенно долгое время высвободилось некоторое количество рабочих рук. Потребовалось всего лишь некоторое количество двуручных пил. Лес был практически неограничен, в том числе березовый, воды — немного, но хватало. Срубленные стволы ошкуривались, распиливались, измельчались в щепу и в опилки, в полученную массу добавляли клей, местный, превосходный, мездровый клей, снимаемый с изнанки лосиных и туровых шкур, а дальше — дело техники, вращать барабан и вытягивать бумажный рулон довольно приличного качества Эльдар Гивиевич смог к тому времени, как в небе воссияла прекрасная синяя звезда альфа Добрыни Никитича, хотя, возможно, это была желтая двойная бета Ильи Муромца или же в крайнем случае маленькая, но все равно радующая сердце красная гамма Алеши Поповича.
Черная типографская краска, получаемая из печной сажи, льняного масла и некоторого количества канифоли, в условиях, когда не работал ни один прибор и приходилось полагаться только на огонь да на человеческие руки, стоила немало, но поскольку все, что требовалось Слободе для жизни, находилось в шаговой доступности, газета сразу же стала процветать: было, кому делать бумагу и краску, было, кому писать материалы, было, кому делать оттиски, было, кому разнести готовые газеты, и было, кому читать.
Название газете дали простенькое — «Посадская молвь». Редактором ее обязали быть камергера Анатолия Марковича Ивнинга. Цензором при нем поставили Вура, Верховный Ужас России, Галактиона Захарова, тот был неспособен поднять веки. Текст ему тихо зачитывали, в нужных случаях открывали ему глаза и демонстрировали отпечатанный лист, а следом он его читал и наглядно демонстрировал сотрудникам всю их недальновидность.
Вести из России «Молвь» приносила постоянно, но верить им было необязательно. К мелькавшему здесь и там имени Константина Ласкариса отношение было ироничное по принципу «Дай бог нашему теляти та вовка зъисты». Когда у того что-то получалось, информация давалась сухая и неполная, а если его планы терпели крах — комментарии звучали как классическое «Не повезет, так не повезет…», что там дальше про родную сестру, тот знает и уже хрюкнул со смеху, а кто не знает, тому и хрюкать не надо.
Земные международные новости воспринимались тут примерно как информация о том, что внесли нового в Камасутру деды морозы, то есть нечто совершенно нереальное и разве что смешное, зато сказочную популярность приобрела кулинарная колонка, рецепты в которую слали все кому не лень, главный санитарный врач Слободы Геннадий Григорьевич Глущенко тщательно изучал их и потом тщательно обосновывал, почему это не только готовить нельзя, но самая мысль об этой каше/яичнице/джамбалайе преступна. Приказанием откровенно забавлявшегося цесаревича Павла Павловича газета печатала рядом и рецепт и запрещение, и развлекухи было городку на день-другой.
Отец с каждым днем мрачнел: для начала его стали некоторые лица раздражать до предела, и безумный санитарный врач был первым. Он уже поставил тому на вид, что заказанный полгода назад учебник «Теория и практика самоубийства» до сих пор не сдан цензору и Вур простаивает, что теперь, когда Слобода располагает своей печатной базой, совершенно возмутительно.
Раздражал его, хотя и меньше, сам Вур. Верховный Ужас во многом был опорой царя, убей его молния — замены царь бы ему не нашел. Хотя молний Протей не видел годами, но время — штука пострашнее молний даже на Протее. Ужасу шел семидесятый год, и все чаще в разговоре с сыном, расшифровывая прозвище министра, вместо «Ужас» он говорил «Угребище».
И еще он раздражал себя сам. За тридцать лет работы царем царь надоел себе больше, чем своему народу. В конце концов, Иваны Третий и Четвертый правили каждый дольше сорока лет, Петр Великий тоже. Он же, тот, кто останется в истории под неприятным прозвищем Павел Скупой, не находил в себе сил начать четвертое десятилетие царствования, до чего оставалось еще больше года.
И грядущее прозвище, и совет обо всех этих мелочах не думать, понятное дело, принес царю Гораций Аракелян. Нечего обижаться — в истории остались и Людовик Заика и Карл Лысый, кто-то там Толстый, кто-то там Простоватый, кто-то там Косой, кто-то вовсе Безумный, так это, видимо, были всего лишь их объективные характеристики, а на такое что ж обижаться, могло бы и хуже быть. «Ничего, у меня прозвище тоже будет, вовсе не царское», — утешил он в заключение. «Какое?» — «Понятия не имею, не задумываюсь», — простодушно ответил предиктор. Ему такие мелочи и вовсе интересны не были. Какая разница, если все равно дадут и сделать ничего нельзя. Это не смена династии на русском престоле.
То ли по вечно-весенней, то ли по вечно-осенней погоде Протея царя мучили головные боли, но к вечеру они проходили — так обычно бывает в русской литературе не с одними только царями. Он не считал, что по жизни был неудачником, и в особую звезду свою не верил, даже альфу Микулы Селяниныча в свою честь назвать не позволил. Его заботила, притом куда более серьезно, чем всегда, его личная жизнь и связанная с этим судьба государства, точнее, государства с довеском в виде Протея.
Проблем первоочередных было три, и наименьшей из них был именно Протей. Тайна города-государства давно была под угрозой, и даже не из-за грибоварного цеха, сотрудников которого в конце-то концов можно было решить общей командировкой в один конец где-нибудь за колючим периметром. Но подобное решение было прежде всего преступно. Благосостояние внешней Руси, как предсказал Гораций, гарантировал вываривавшийся долгими годами экстракт из местных грибов. Тот же Гораций уже условных месяца два тому назад предсказал, что нынешних запасов метамускарина достаточно, в силу чего производство такового будет остановлено, ибо новые нужды станут куда актуальнее. Ответа на вопрос «какие нужды» предиктор традиционно не дал, лишь мельком посоветовал царю «заняться своим здоровьем», чем того здорово перепугал, и не был намерен сообщить ничего успокоительного.
Павел понимал, что в его возрасте положено думать, что останется после него, тут было совершенно ясно, что Протей с его десятитысячным населением в одну минуту не вымрет, даже если и прервутся неким катастрофическим образом связи с загубленным российским городом Морщевой, не имея приличной водной артерии, не имея доступа к горам, которые здешний министр воздухоплавания, ничего лучшего не придумав, с горя нарек Новым Уралом, добраться до них было невыносимо трудно, но можно. Во-первых, имелся опыт казаков, за полвека прирастивших к Москве все, что лежало между ней и Тихим океаном. Причем даже при отсутствии лошадей выведенный местными учеными домашний лось породы «мегалоцерос Щепетнева» по крайней мере тяжести мог везти. Кроме того, при полностью не работающем здесь электричестве и не желающем гореть порохе, тут хорошо горел древесный уголь, позволяя работать кузнецам. Аэронавты Сосновского, уже человек десять, налетали на воздушных шарах тысячи часов и хоть как-то обеспечить прием путешественникам в горах Нового Урала могли. Но оставить новую, независимую от Слободы колонию без центрального управления Павел не мог. В этом случае пришлось бы полагаться на гелиограф или на звуки тамтамов, а также, что всего хуже, на верность наместника. Первое куда бы ни шло, но вот последнего Павел допустить не мог.
Но горы были для него единственным возможным, да и то без гарантии, источником тех металлов, без которых цивилизация должна была деградировать. На аэростатах в Новое Верхотурье, как опять-таки неостроумно нарекли в Слободе несуществующее пока поселение, много не навозишь. Любой ценой требовалось придумать хоть какое-то оперативное средство сообщения. Сосновский подумал и проблему решил почти радикально. Но, как водится в России, решил не ту проблему, которая перед ним стояла. Он решил, как можно быстро из Верхотурья вернуться обратно в Слободу. Новый Урал представлял собою не очень высокий, но длинный хребет, и ровные площадки там на нужной высоте где в сто, а где и в пятьсот аршин имелись. При необходимой дальности полета в тысячу или около того верст это расстояние без всякого напряжения и без единой посадки мог преодолеть планер. Для его постройки в Слободе имелось все свое, кроме чертовой жилы, а жила… ну что, Богдан Арнольдович Тертычный готов был предоставить царю хоть сегодня аршин восемьсот наилучшей, а будет нужда — так добавить еще столько же и столько же. Если взят старт, то дальше высота полета будет такая, какая нужна, а дальность, ну что, хватит вам две тысячи верст? Даже и не на пределе, из Икарии давно умеют без посадок летать в Москву, был бы пилот умелый.
Только это была меньшая часть проблемы. В условиях Протея единственным способом поднять тысячефунтовый планер на все ту же высоту в сто-двести аршин был его подъем на аэростате, так можно было доставить в любой конец триста-четыреста пудов полезного груза. Это было удовлетворительно — и невыносимо дорого, учитывая износ полотна каждого аэростата, и без того с трудом переносившего много если десяток полетов. Выходом могла бы оказаться стартовая вышка аршин в сто, нечто вроде крыши дома этажей в двадцать пять.
Павел изучил историю, потому как справедливо считал, что ни в одной другой науке толком не понимает ничего. Слава Христофора Колумба в Слободе принадлежала Артамону Шароградскому, это он первым нашел дорогу к Протею. Павлу тоже досталась слава Колумба, только другого, его брата — Бартоломео. Тот первым, свыше пятисот лет тому назад, основал в Новом Свете европейский город — Санто-Доминго. Такой приоритет ему нравился, но как-то мало было прибрать к рукам этот мир и построить в нем город ради того, чтобы вечно варить в нем мухоморы. На Павла Скупого Павел был согласен, но не на Павла Мухоморного.
Но проблему взлета для планера аэростат решал разве что однократно. Максимальная высота деревянной вышки на земле в Альбукерке для нужд Сосновского годилась абсолютно, почти сто саженей, и дело было за малым — эту вышку построить. Удивительнее всего, что разобраться с этим делом оказалось несложно.
Когда в 1492 году испанские гранды вышвырнули с иберийской земли последнюю мавританскую рвань и разнесли Гранаду к чертям собачьим, перед королевской четой, перед Изабеллой и Фердинандом, встал серьезный вопрос: чем теперь этих грандов занять, если они рвут и мечут, хотят сражаться, а по ту сторону Гибралтарского пролива столпились уж такие мавританские полчища, что туда и лезть никто не хочет. Разобравшись с маврами, королевская чета решила сорвать злобищу на евреях, но те истребить себя по большей части не позволили и сбежали. Дело запахло порохом, который на Земле, в отличие от Протея, отлично взрывался.
Королева, горюя, что вот-вот утратит по этому случаю трон, стала искать выход, заложила свои драгоценности у одного национально неполноценного и доверилась другому, генуэзцу Колумбу. Тот открыл для нее Америку, из которой приволок лавэ по самое не балуйся, гранды туда рванули дуван дуванить, и на столетия сотворилась в королевстве испанском большая пассионарность. Короче, с кого брать пример — Павел нашел и, поскольку освободившиеся на грибоварне приблизительно полторы сотни пар человеческих рук надо было чем-то занять, выделил далеко за периметром три квадратных версты леса, приказал его вырубить и воздвигнуть стартовую планерную вышку в сто пятьдесят аршин самое малое, из ценных, пусть и безымянных пока пород местного дерева. Строить вышку поручили грибникам под началом Сосновского, а наследнику престола, цесаревичу Павлу Павловичу, поручили придумать для тех пород благозвучные названия. Он помудрил вечер — и все придумал.
Тем самым задача закладки первой промышленной колонии у Слободы решалась, хотя ее осуществление должно было занять долгие годы и жизни человеческой на то могло не хватить. Но исполнение ясно поставленной задачи можно было надежным людям доверить. Эти люди работали на него чисто по-русски — не за жалованье, а за патриотическую идею народа-богоносца. На таких людей, как Юрий Сосновский, Эльдар Готобед, как местные офени, взявшиеся первыми донести инструменты и прочее до стоянки у Нового Урала, — на таких людей можно было положиться. Да и Вур был еще не совсем стар и в ближайшие годы на пенсию не собирался.
Но это были вопросы Протея, а не собственного здоровья, о котором говорил предиктор. Свой врач у него был, да и вообще, если что было тут на уровне чуть ли не двадцать второго века, так это медицинский центр. Павел лег туда на обследование. Он боялся болезней своих предков — водянки, мочекаменной болезни, колита, гипертонии, апоплексии и прочих семейных удовольствий. Гипертонию у него, понятное дело, нашли, но чтобы ее лечить, не требовался даже врач, достаточно было призвать лосевала с инструментами. Лосевала?.. Какое слово хорошее, ведь и впрямь, если коней нет, а вместо них есть лоси? А тот, кто валит зебу, — зебувал?.. А кто придумал слово? Разве важно, было бы слово хорошее.
Похоже, Гораций имел в виду иное, и царь примерно догадался — за тридцать лет работающий металл и тот накопит усталость, а работа русского царя — это не износ металла, это износ всего организма сразу, который способен подарить своему обитателю мгновенный и бессрочный отпуск. И Павлу приходилось думать о том, о чем он даже мысль к себе боялся допустить.
Беда была та самая, которая увела в монастырь его любимую жену, Антонину, коронованную русскую императрицу Антонину, беда была та, что шел уже четвертый год тому, как их сыну Павлу Павловичу врачи поставили жестокий и пока что неколебимый диагноз: молодой человек обладал нулевой фертильностью, не имел шанса обзавестись собственными детьми ни в каком случае. Генные исследования показали, что беда эта у парня не наживная, но пришла из глубины веков, видимо, с генами матери, которая и его-то родила чудом, ибо находилась во время родов в каком-то всеми богами хранимом чудесном месте. Павел и Антонина оба знали, что это место — Киммерион. Там чудеса еще и не такие бывали, но главный врач города-губернии Пол Гендер лишь горестно развел руками: чудеса были не по его части.
Наследование русского престола, только-только восстановленное воцарением государя Павла II, обречено было оборваться на государе Павле III. Напрасно отец и мать подкладывали в койку цесаревича кинозвезд и купчих, ему нравились и те и другие, но если кто и тяжелел, то неумолимая экспертиза твердила: не твой, царевич, не твой. И даже усыновить никого было нельзя. Генная экспертиза — штука вредная, она способна как доказать права на престол, так и лишить их. Закон о передаче престола за двести лет в России не менялся: старший в роду и есть император, и не о чем говорить, но что делать, если продолжателей рода и родственников в проекте нет, кроме совсем уж седьмой воды на киселе, к столь ответственной работе негодных. В свете науки XXI века оставался, конечно, последний вариант — клонирование, но полтора десятилетия тому назад Павел сам сжег за собой и корабли и мосты, росчерком гусиного пера на веки вечные запретив на Руси клонирование членов императорской семьи с целью признания их прав на престол и на оный дальнейшего возможного возведения на престол. Закон был знаменит на весь мир, и отменить его без катастрофических для страны последствий царь не мог.
В свои шестьдесят четыре Павел мог предполагать для себя еще лет десять ясной головы, но планировать дальше надо было уже не для себя. Сыну было тридцать, даже при лучших обстоятельствах через тридцать-сорок лет линия наследования обречена была оборваться. Развестись с женой по случаю того, что та ушла в монастырь, Павел право отчасти имел, но заводить новую жену без гарантии получить от нее хотя бы еще одного наследника мужского пола ему не хотелось категорически, очень было это похоже на известный фортель прадедушки, Петра Великого, ничем хорошим для русского престола, как известно, не кончившийся. Престол тогда пришлось передавать через потомство привенчанной, то есть рожденной до заключения брака, дочери Анны Петровны, которая родила сына, будущего императора Петра III, по иронии судьбы внука не самых дружных государей Европы — Петра I и Карла XII Шведского. Но тут хотя бы имела место чистота происхождения: злые языки, пустившие слух о том, что ребенок был рожден Анной не от герцога Карла-Фердинанда, не могли оспорить того, что мать его, Анна Петровна, уж точно была дочерью Петра Великого. У Павла не было и такого выхода: что сводный незаконный брат Петр, что собственный незаконный сын Иоанн оказались полными отморозками и устроили бы в России то ли новое Смутное время, то ли гражданскую войну, то ли все вместе с пожаром, потопом, поносом, запором, закупоркой мочи и обращением к трудящимся массам.
В итоге оставалось одно — как-то менять законодательство. А как его менять, чтобы и сына не обидеть, и не посадить на престол мерзавца, и… Получалось, что в отсутствие родни имелся какой-то смысл. Претендовать на престол могли бы представители давно скомпрометированной младшей ветви династии, но тут в Павле просыпалось старинное русское «на-кась выкуси». Доводить Россию до того, до чего довели они? Лучше уж вообще объявить страну протекторатом АЦА, православной державы Американского Царства Аляска, где в новой столице, в Святобарановске, правил женатый на его, Павла, бывшей жене Кате царь Иоаким Первый, друг его молодых лет, когда он еще звался Джеймсом Найплом, — да еще были у них двое совершенно законных парней, Павел и Никита, чего бы лучше, да ведь не поймут, все же царица-то разведенка. Лучше было обратиться к двоюродному брату отца, Георгию Романову, известному президенту южноамериканской государства Хорхе Романьосу, так ведь республиканец, так ведь католик, не поймут…
На такие вот грустные размышления уходили у царя день за днем, и дни эти отличались не больше, чем поленья, тлевшие в камине. Павел любил смотреть на огонь и печально думал, что выхода из этого тупика нет. Верный во всех делах Гораций и тот не отвечал ничего, даже своего любимого «Ничего не делайте, все само образуется». Он часто составлял Павлу компанию у огня, и лицо его выражало лишь некогда им же сформулированную мысль: будущее не написано, оно как шахматная партия, хоть и знаешь, что чем-то и когда-то она кончится, с доски не убежишь, только вот закончиться она может очень по-разному. И не говорил, гад подколодный, какую фигуру двигать, куда бежать и почему так все мерзко даже здесь, на спокойном Протее.
Но это все было на Протее, в городе Кассандрова Слобода. И если чего больше всего на свете хотелось сейчас государю всея Руси Павлу II, так это такого, чтобы никуда больше никогда не выходить и не дергаться. Займет сын престол сейчас или через тридцать лет — не принципиально совершенно. Отречься в его пользу он был готов хоть сегодня. Ну да.
…Хоть сейчас, хоть сию минуту. Где расписаться? Дайте перо. Гусиное. Здесь? Спасибо. И вам спасибо, отличный был гусь.
День, когда нет числа, принципиально не то же самое, что день, которого вовсе нет. Такой день отличен от привычных нам, но отличен меньше, чем день на полюсе или на Луне, а ведь и там и там людям бывать случается. И Кассандрова Слобода — еще не весь Протей, как убедили себя и других царь, офени, авиатор Юрий Сосновский да и все прочие. Понять в здешних землях почти ничего не мог даже волчеуст Соломон Соломон-оглы, а уж он болтал с волками обо всем на свете, хотя они старались любой разговор свести на мясо да на баб. Они и в принципе-то не знали, что такое уа-уа-уэ-уэ-пуфф, то есть снег. Про уа-уау-э-ууу, короче, про большую реку, только и могли сказать, что она «там, далеко» — и указать мордой в сторону, противоположную Слободе.
Однако Протей, удивительный мир без морей, хотя и с горами, и болотами, и реками, был куда просторней, чем его знали волки. Здесь были вулканы. Хотя в Слободе в такое поверили бы с трудом, но там склонах паслись лось, и косуля, и другие их родичи, которыми так любил закусывать местный пещерный медведь. Двоякодышащие бобры отнюдь не воевали с сумчатыми енотами. В местных, пока что безымянных озерах сохранились давно почти уже вовсе истребленные на земле пресноводные тюлени, почти один в один такие, как еще плавали иногда в то время по эту сторону мира, в озере Байкал. Тут были родственники тех животных, которые на Земле вымерли в исторические времена, такие, как речные дельфины, шерстистые носороги, мегатерии. Не совсем те же самые, но изрядно похожие.
Металл здесь был, если честно. В здешних горах, пока что по преимуществу еще безымянных, лежали невостребованные железо и олово, молибден и цирконий, титан и натрий, и если бы кто о них знал, тот предполагал бы зря, что никто до них добраться не захочет. Хотя порох и не взрывался, но люди тысячелетиями без него жили, даже армия первой в мире империи, Ассирии, как-то без него обходилась. Смешно? А вот вовсе нет.
Дубиной можно воевать, а уж каменным топором легко. Если горит огонь, то неважно, что греться рядом с ним ни к чему, это значит, что мясо будет жареным, топор железным, да и стекло хоть и мутным, но прозрачным. Только допусти человека в такой мир, и он сразу устроит тут цивилизацию. Он засрет этот мир.
Вы что же, думаете, что этот мир не был засран?
Он давно уже был засран, да еще как.
По эту сторону от Протея, еще до того, как телевидение предъявило миру толпу, ликовавшую по случаю возвращения в Москву Павла Романова, законный и миропомазанный император всея Руси Константин I решил рвать когти. Страна оказалась неблагодарной, ей не нужны оказались ни золотые горы, ни кокаиновые моря, ни единственно законный император. Тут вообще нагло отравили дорогих ему людей. Тут попрали все святыни, особенно православные. Тут заботились лишь о наживе, а не о душе. Тут изнеженные юнцы прожигали состояния, скопленные несколькими поколениями бескорыстных тружеников. Они купались в пищевом и обыкновенном золоте, они без сожаления разбивали папенькины яхты и продавали маменькины драгоценности. Они играли в азартные игры и погружались в пучины разврата, они нюхали кокаин…
Константин был все же умнее собаки, вцепившейся в собственный хвост. Он выбросил филиппику из головы. Пока он вызывал по спутнику из Лукина-Куськова максимально мощный вертолет, пока тот поднимался в воздух, чтобы на Соборной площади Кремля принять его на борт, оставалось еще время попрощаться с этим отвратительным, как любой вонючий сарай или как старый хлев гнусным городом, совсем не великим, а, напротив, ничтожным и по-русски мелким, попрощаться со страной, вцепившейся в высокие идеи вместо гарантированного высокого жалованья, благоразумно интенсивной и экономичной системы как рабства, так и крепостного права. Как можно уважать страну, примирившуюся с мусульманами, жидокоммунистами, масонами, родноверцами, веганами, демократами и прочей либеральной сволочью?
А ведь как хороша была мечта. Лет бы двадцать на переустройства, и все мусульмане стали бы православными или легли в землю, масоны дали лататы в свой Билдербергский клуб или там в землю, на выбор, родноверцы на остров Буян, демократы и вовсе пошли бы на мясо для веганов и так далее. И так далее! Уж он дал бы отпор малодушию, взял бы эту страну к ногтю, выкорчевал с корнем все невыкорчеванные корни зла. В этом мире не было бы места слабоволию и распущенности!.. Слабость сменилась бы силой, мелкие цели — великими, ничтожность — гордостью, зло — добром!
День был довольно ветреный, и Константин упустил момент, когда над Соборной площадью завис здоровенный «Сикорский». Баки у вертолета были полны. Лететь предстояло далеко и долго, без хотя бы одной дозаправки, притом на земле, было не обойтись. На пределе возможностей, конечно, но до лужайки возле виллы Ласкариса близ венгерского Дебрецена вертолет должен был дотянуть. Оттуда, напрягаясь уже куда меньше, предстоит перелет хоть в Палермо, хоть и прямо в Ласкари — теперь уже безразлично куда. Денег у Константина меньше почти не стало. Напротив, надежд у него не осталось почти вовсе.
Москва лежала внизу, как паук-голиаф, раскинувший паутину в ожидании добычи в каком-нибудь богом забытом Суринаме, внизу лежала ненавистная, омерзительная Москва. Источая миазмы и болезни, исходя свинцовыми и ртутными парами, захлебываясь околоплодными водами и помоями, исходила ненавистью ко всем великим цивилизациям чудовищная столица современных австралопитеков.
…Константин устал от своего же потока проклятий и полез в мини-бар. Самая мысль о том, что он сможет пить сейчас что-нибудь вроде водки или мастики, была кощунством. Он достал из бокового кармашка хайбол, выплеснул в него стограммовый пузырек скотча, совершенно варварски плеснул поверх него столько же медицинского спирта и немного успокоился. «Сикорский» мерно рокотал, на трехкилометровой высоте двигаясь к западу, стингерами вроде никто снизу не лупил. Ну просто совсем никто. И не обидел он там никого, и всем на него плевать. Но он еще вернется. Он еще покажет всему миру, каков гнев императора всероссийского Константина I Ласкариса. Кстати, а зачем возвращаться?..
Вертолет, стараясь держаться высоты в три тысячи и скорости не больше трехсот, неторопливо уползал по небу вслед за заходящим солнцем. На венгерской вилле Ласкарис бывал не каждый год, он изредка прятал здесь несговорчивых партнеров, покуда они не становились более сговорчивыми, осознав перспективу ощутить дно реки двумя ногами в цементной обуви. Он даже кокаин здесь почти не хранил, уж разве по мелочи на взятки венгерским и прочим чиновникам. Он предполагал часа два полежать на веранде, может быть, вздремнуть, чтобы не загнать пилотов, и валить на Сицилию. Или все-таки наведаться в Тристеццу, посидеть у князя? «Ну и чем хвастаться?» — спросил себя неудачливый император. Пришлось бы оправдываться. И это после такого блистательного начала, после воинского триумфа, после коронации, после миропомазания?..
От визита к князю он решительно отказался, добавив у себя на вилле полстакана какого-то зловеще синего венгерского рома в красный апельсиновый сок. Получилось мерзко и на вкус и на цвет, с горя он опять долил спирта и принял как лекарство, помогло совсем ненадолго. Он позвал пилотов, предложил обоим вздремнуть до рассвета, а там будить его, грузиться и брать курс прямо на Бычью долину возле Этны, на Валье дель Боле, все равно возле кальдеры не живет никто, а вопросов будет меньше.
Неумолимый рассвет пришел вместе с неумолимым похмельем, и от него не избавиться было ни ста граммами чистого спирта, ни двумястами. Вертолет миновал Венецию и продолжил путь на юг над голубым до синевы, словно нравственность римского императора Адриана, Адриатическим морем. Этна уже виднелась прямо по курсу, но Ласкарис, отлично знакомый с местными кольцами дыма и с прочими последствиями извержения девятнадцатого июля, намеренно попросил быть поаккуратнее. Даже во влюбленном в него городке Ласкари ему нечего было делать, он хотел побыть один.
Этна была высоким, не очень скалистым вулканом. Очень часто извергаясь, она накопила множество отдельных кратеров, порою спавших веками и вновь взрывавшихся столбами огня. Дыма от нее было много, неприятностей тоже, но деньги окрестному населению она давала самые серьезные, она в прямом смысле дышала деньгами, точнее, выдыхала их. Дело не только в туристах, хотя и в них тоже. Тысячелетиями накапливая на своих не особо-то крутых склонах плодоносный пепел, она позволяла выращивать на своих склонах больше двух десятков сортов уникального винограда, из-за которого и занесло на эти склоны чуть ли не сорок лет назад с родного Корфу византийца.
Теперь и вспоминать было странно о том, как купил он здесь, возле поселка Маскали, свой первый, совсем еще небольшой виноградник, дом и давильню при нем. Он много заплатил, рискнув всем наследством отошедшего в лучший мир Константина-старшего. Он мало хотел: ему нравился огромный, сизый виноград на его лозах, дававший после отжима и обработки уникальное, долго живущее нерелло маскалезе, благородно кислое, вяжущее язык и требующее немедленного куска белого овечьего сыра. Больше двоих работников он позволить себе не мог, тот же нерелло вокруг него рос почти у каждого, и еще неизвестно, чем кончилась бы винодельческая карьера Ласкариса. Но то, что он получил, в первый же год назвали «красивым вином», посоветовали отложить бутылки на два-три года, перебиться как-нибудь и лишь потом продавать. Вино пахло фиалками, напоминало дорогое пино нуар, и отчего-то Константин поверил в свою звезду, он ничего не продал из тех двух тысяч бутылок, и угадал: год был засушливым и, как всегда в таких случаях, вино оказалось еще лучше, чем могло бы быть. В знак благодарности за экспертизу Константин отослал эксперту в Милан ящик своего нерелло, прикупил еще один небольшой виноградник, ближе к морю. Он взял кредит, нанял третьего работника и приготовился навеки стать «сицилийским виноделом греческого происхождения». Хотя позже выяснилось, что лучше было бы отложить эти бутылки не на два года, а на двадцать лет, написать бы на этикетках «Пить в 1990»… но кто ж тогда знал.
На Этну можно было подняться пешком, кривые туристические тропы тут лучше всех знали в те времена немногочисленные гиды. В поселках были магазинчики, они охотно взяли бы у Ласкариса его нерелло, но он высоко ценил свои вина и продавал их прямо в Палермо и Рим, где за них со вздохом переплачивали, в лицо называя «маэстро фьолетте», «мастер фиалок». Ласкарис скопил некоторую сумму и стал бродить в окрестностях, прикидывая, что бы еще прикупить, чтобы и лоза была хотя бы лет пятнадцать, и почва была та же, и семь шкур бы не содрали. В таких поисках он уходил все дальше к югу и приближался к местам опасным, где нерелло грозил обернуться потоком лавы, и здесь даже самые бедные старались судьбу не испытывать, несмотря на роскошную золу под ногами. Но Ласкарис пока ничего там не купил. На первых виноградниках все зрело уже без него, а деньги пока были при нем.
Воздух в тот неприметный день был полон густой гарью. Дым шел от Валье дель Боле, Бычьей долины, невероятно популярной у туристов, но, в общем-то, интересной только им дыры в земле, оставшейся от очень давнего извержения. В жаре и в дыму грек угорел и, плохо соображая, что делает, нашел тень среди скал, прислонившихся друг к другу широкой аркой, похожей на литеру омега, улегся на траву и, не понимая, что запросто может не проснуться, заснул.
Проснулся он, видимо, не скоро. Дым в воздухе исчез, но солнце пекло чуть ли не сильнее. Порадовавшись этому, — засуха опасна, но она же лучший друг вина, Константин решил встать и неожиданно понял, что никаких скал над ним нет. Местность была той же, холмистой, но от всей Этны осталась только дыра Бычьей долины, да и та как-то съежилась. А главное — тут не было никакой Этны, напротив, Константин стоял чуть ли не на самой высокой точке холма, земля со всех сторон уводила вниз. Воздух был свободен от гари, напротив, в нем опознавались запахи розмарина, амбры, камеди, бензоя, гвоздики, очень странные поблизости от жерла вулкана запахи.
А еще перед ним сидел еж. Он нагло разглядывал Константина, словно так и положено, и бывают в мире ежи весом в три-четыре килограмма. Ласкарис помнил, что никаких ежей на Сицилии вроде бы нет, и протянул к капризу природы руку. Еж не двинулся с места, но как-то склонил голову набок, будто у него была шея, в глазах у него совершенно по-человечески читалось: «Псих ты, что ли?»
Еж был вовсе не похож на привычных в Европе. Он был рыжий с проседью, размером с большого кота, — а иголки делали его похожим скорее на дикобраза. А еще он тут был не один.
На земле вокруг Константина кружком сидело десятка два таких вот лапочек. Совершенно непуганых и, судя по мордочкам, весьма наглых. Константин сел на землю. Так и просидел Ласкарис в компании ежей, коих собралось тут на большой цыганский ужин, с четверть часа. Потом ежи интерес к виноделу потеряли и рванули прочь, в сплошные кусты дрока, в то, что зовется на Сицилии гаригой. Константин решил, что насмотрелся на ежиный парад достаточно, и решил повернуть домой. И понял, что возвращаться ему некуда. Это была не Сицилия, это был какой-то экватор. Солнце висело почти точно над головой, а ведь когда Константин лег отдохнуть, было утро, притом не позднее. И только что вокруг была хоть и выжженная, но трава, теперь под ногами были песок и гравий. Было жарче обычного. Он сделал несколько шагов в сторону дома, но там не было ничего: ни дома, ни дороги, ни туристической тропки. Только опять вернулись наглые ежи.
Забегая вперед, скажем, что ежей этих в здешнем краю оказалось невпроворот. Обозвал их кто-то «ежи дамиани», по названию ювелирного бренда, да так и прилипло, потом отвалилось и слово «еж» — особенно когда кто-то из отселившихся в здешние края антивеганов обнаружил, что на вкус они, как почти любой насекомоядный зверь, — то самое, что надо человеку, поставившему в жизни целью святое дело борьбы с вегетарианством.
Но это выяснилось потом, а пока что Ласкарису хотелось домой, на северо-запад. Но там было все то же. Что хуже всего, куда-то исчезло море. Когда Ласкарис отыскал тощий ручеек и напился — он был счастлив, как приговоренный, которому отсрочили приговор. Он упорно шел туда, куда вели ноги, а вели они вверх по течению ручья, но и там был только жесткий кустарник в кожистых листьях. Не совсем понимая, что делает, он сорвал лист и разжевал его. Это был не дрок. Вкус почти не ощущался, но пришло что-то вроде сытости, такое бывает, когда разжуешь свежий чайный лист. Константину стало легче.
Этот лист спас его во всех смыслах. Им можно было набить полный рот, жевать его час и два, он отбивал усталость и голод, позволяя обойтись самым коротким отдыхом и вновь брести неизвестно куда вдоль очередного ручья, впадавшего чуть ли не в себя самого. День тут был то ли короче привычного, то ли длиннее. Небо днем оставалось прежнее, сицилийское, ярко-синее, и ночью — тоже сицилийское, только черное. Но когда ночью Константин стал разглядывать его, он не нашел на нем ни Большой Медведицы, ни Малой, вообще ни одного знакомого созвездия, не очень-то он разбирался в звездах, но куда делись эти — он не понял. Да и луна тут была какая-то странная. Но о ней ли сейчас было думать. Есть ему не хотелось, но есть было и нечего, и он тащился на северо-запад, совсем не будучи уверен, что это не юго-восток.
Позднее Константин разобрался кое в чем. Он насквозь пропотел, хотелось вымыться. Набредши однажды на хоть и небольшой, но привлекательный водоем, Константин нырнул, вынырнул и увидел невдалеке группу закусывающих крестьян. Что они ели и пили — теперь неважно, важно было то, что делали они это на фоне Этны. Ласкарис вернулся в свой мир. Без штанов, но вернулся. Поскольку украденная одежка — самая малая беда, какая может приключиться с человеком на Сицилии, над ним посмеялись, дали что-то прикрыть наготу. Он пообещал расплатиться — и сделал это со временем, сделал во всех смыслах, и с удивлением узнал, что вылез он из ежиной дыры у крошечного городка с символичным названием «Ласкари». В городке ему сперва не поверили, но связались по телефону с Маскали, где подтвердили, что на винограднике его уже две недели как отчаялись найти и с собаками ищут по всей Этне. За Константином приехали, он добрался домой и стал думать, что со всем этим делать.
Он понял, что открыл дорогу в какой-то неизвестный карман пространства. На Этне в прежние века пропало множество людей, и не обязательно все они рухнули в кратеры. Работники получили от него утешительные наградные за терпение, а сам он сказал им, что после пережитых волнений хочет отдохнуть дней десять где-нибудь в Рагузе, на юге, экипировался и пешком ушел в сторону Бычьей долины.
Скалы, образовавшие арку в форме омеги, он нашел после двух часов поисков. Все повторилось, только он не спал. Он смотрел вверх. В какое-то мгновение скалы исчезли, и над ним вспыхнуло синее сицилийское небо. Только оно не было сицилийским, а вокруг вновь сидели наглые дамиани.
Ласкарис нашел свою дорогу на Протей. Однако здесь не было лесов, одна сплошная, заросшая кустарником равнина, пересеченная мелкими ручейками, одни ежи, мыши, землеройки, зайцы и лисы, коты устрашающего вида, луговые собачки, тощие койоты. Зато кустарника с кожистыми листьями тут росло немерено. Его тонкие, овальные, кожистые листья приходилось рвать, иначе было не пройти. Зная действие листа, Ласкарис набил им полный рот, убедился, что дорога к виноградникам исчезла безвозвратно, и двинулся в путь, надеясь пройти прежней дорогой, надеясь добраться в сицилийские края там же, где в первый раз.
Он хотел поймать местного ежа, но тот только исколол его и не дался. Зато кожистым листом Константин набил рюкзак и вынырнул из непонятного мира все-таки с добычей. Местные жители, посмотрев на листья, только и сказали, что никогда такого не видели.
Обращаться за экспертизой ни в Палермо, ни в Неаполь грек не рискнул. Он поехал прямо в Рим, к своему контрагенту, у которого были и дегустаторы и эксперты. Он суеверно выложил перед ним ровно двенадцать листков, будто у него больше ни одного, и стал ждать. Дегустатор ничего не сказал, позвал коллегу, каждый взял по листку и долго жевал. Эксперты перекинулись десятком слов вроде бы на латыни.
— Вино Мариани запрещено, — сказали ему, посоветовав не связываться. Ласкарис понятия не имел, что это такое, пожал плечами и ушел к себе в гостиницу за Тибр. Тогда своей квартиры у него в Риме, понятное дело, не было.
Утром он уже выяснил и кто такой корсиканец Анджело Мариани, и что такое его вино, которое запретили еще в Первую мировую войну, но не так уж надежно запретили, если эксперт в Риме с одного листка распознал его чарующий, дающий второе и третье дыхание привкус. На этот раз Ласкарис уехал в Милан, где жил настоящий знаток своего дела, тот самый, который убедил его не базарить нерелло с его виноградника, про вино Мариани уже знал и решил пустить пыль в глаза, заявив с порога, что хочет понемногу и для себя делать этот любимый папой Львом XIII напиток. Откуда взялся лист? А, из Колумбии. По дружбе привезли.
Папа был неаполитанцем и в Милане котировался средне. Но идея эксперта заинтересовала. Пусть вино и запрещено к продаже, но почему бы не делать его немного, если за сырой лист не будут драть три шкуры и не снизят качество? Колумбия далеко, но в конце концов между ней и Сицилией только море, и дорога отыщется всегда. Эксперт предложил вступить в долю, но Ласкарис предпочел заложить оба виноградника, он знал, что делает.
Дальнейшее можно пропустить. Лет за десять под яростным солнцем экваториального Протея, среди бескрайних в прямом смысле плантаций кокаинового куста возникла коммуна, городок Санта-Кока, заселенный теми, кто разорился на землях родной Сицилии, родной Калабрии, родного Пелопоннеса и много еще где. Они вербовались на заработки, им обещали нетяжелую работу на плантациях, возможность прокормить семью, гарантированное медицинское обслуживание, — ну, кроме самого дорогого. И ведь это было почти все правдой. Если кто-то настойчиво хотел потом, через год, через два, вернуться в свою Калабрию, в свою Апулию, в свою Лаконию, ему объясняли, что количество рабочих мест куда меньше количества желающих, и отказывали, без него полно всяких вагабондо и малак, что то же самое. Их привозили на катере в Катанию, ночью долго вели куда-то вверх, потом устраивали им привал с ночевкой и выпивкой, после которой они обнаруживали себя посреди солнечного одноэтажного городка — и могли приступать к работе хоть сегодня.
Здесь говорили на итальянском и греческом, но больше на них молчали: когда рот набит кокаиновым листом, не особо-то поговоришь. Собирать лист, используя наемный и рабский труд, было невыгодно, но труд крепостных, прикрепленных к земле, при наличии единственной валюты, которой здесь была кокаиновая паста, был куда как рентабелен. Из центнера листа получалось чуть не четыре килограмма пасты, во много раз больше, чем на Земле. После второй обработки от пасты оставалось два килограмма кокаина несусветной чистоты. Если вспомнить, что на Земле это вещество стоит чуть не вчетверо дороже золота, а у Ласкариса запас не ограничивался ничем, он набрел не на золотые россыпи. Он набрел на брильянтовые, только брильянты из-за какой-нибудь новонайденной кимберлитовой трубки дешевеют, а кокаин — никогда.
Маскотом своего бизнеса Ласкарис сделал ежа — тот принес ему счастье, и еж смотрел с печати на его пакетах с белым порошком. Настоящие деньги потекли к нему в руки после того, как он надолго наладил общее дело с доминикским наркобароном Родригесом. Чтобы тот не задавал лишних вопросов, Константин купил небольшую плантацию того же куста в Индонезии и убедил всех, что его паста и порошок — с того самого острова и от того самого вулкана, как их, ну, вы знаете. Обычно тут от него отцеплялись: плантация кокаина на Ломбоке была, урожаи с нее исправно снимались, Ласкарис делился с кем надо, — а что это была капля в море его доходов, так это никого не касалось. Индонезия вообще предпочитала сам продукт натурой. Остаток ломбокских денег шел сицилийским адвокатам и судьям.
Постепенно он все наладил. Как войти в мир Санта-Коки — знало человек двадцать, как выйти — того меньше. К тому же и вход и выход были теперь глубоко упрятаны в его виноградники, дававшие самое настоящее вино — изумительное нерелло у входа, приличное неро д’авола у Ласкари. Поскольку тут совпали название городка и его древняя византийская фамилия — он стал почти все неро дарить городу, где были уверены, что благодетель у них — ну просто святой Гаэтано Катанозо. Ласкарис не возражал, он налаживал производство. Он прикупал окрестные земли, на которых, помимо винограда, созревали сангвинеллы и хурма, и недорого сбывал их, ценами топя соседей-конкурентов.
Через два года у него был первый миллиард, и вовсе не лир, потом миллиард стал не один, но тут мы вступаем в область догадок. Если в Маскали его любили, а в Ласкари обожали, то для Санта-Коки он был богом, абсолютно беспощадным, мрачным, богом, без которого человеку не прожить. Кокаиновым листом нельзя питаться, а на горьком маниоке, на с трудом уловляемых зайцах и ежах тоже долго не протянешь. Зато его фактории прекрасно давали все, что нужно для небогатой жизни, за сухую кокаиновую пасту. Всего сто-сто пятьдесят граммов без напряжения месяц кормили семью из четырех человек, только нужно было приготовить эту пасту: ночью рвать листья, утром утоптать их, днем выпарить на водяной бане, к вечеру высушить на солнце, обменять на хлеб насущный и вновь идти с корзинами за быстро возобновляемыми в этом краю запасами священного листа.
Лачуги из легкого дерева, обнаружившегося возле склона холма, Ласкарис предложил строить людям самим, — зато, пользуясь обнаруженными здесь залежами отличного белого известняка, выстроил для верующих четыре храма, три католических и православный, своего святого, Константина Великого. Но католиков тут было большинство, поэтому храмы святого Калогеро и святой Агаты не пустовали никогда, а главный собор, святого Джулиано Палермского вообще был центром жизни Санта-Коки. Название города пришло как-то ниоткуда, вовсе не дышало святостью, но никто не возражал, вопросов не задавал, все привыкли. По крайней мере настоятель собора святого Джулиано падре Дезидерио не противился. Все были уверены, что он во благости своей дойдет до ранга епископа, но Ласкарис знал, что едва ли такое случится. Так вот он отсюда не выпускал никого и уж точно не выпустил бы того, к кому сборщики десятками ежедневно приходили на исповедь. И отца Нектария из православной церкви тоже не выпустил бы, хотя того подозревали в любви к сырой пасте.
Ласкарис вернулся сюда потому, что здесь для него не было разве что моря, а все прочее — было: вилла с атриумом и мраморными панелями. Здесь у него была жена-мальтийка, Уарда, о самом существовании которой вне Протея не знала ни одна душа; она была куда моложе его старшего сына и лишь немного старше младшего. Он сотворил здесь личную тиранию, то ли Древнюю Грецию, то ли императорский Рим, возможно, это и навело его на мысль превратить Россию в Византию, ведь было же у него право, было. Он понадеялся, а вот не вышло.
К тому же он знал, что болен, — за пределами Санта-Коки этого не надо было знать никому, в лучшем случае врачи обещали ему два-три года. Он твердо решил быть похороненным поблизости от здешней виллы, дабы не дать глумиться над своей могилой на Земле, но он хотел уйти императором, вознестись неизвестно куда, стать для России тем «королем под горой», возвращения которого чуть ли не каждый народ ожидает веками — будь то Себастьян в Португалии, Хольгер Данске в Дании, Петр Великий в России. А что будет с Санта-Кокой после его ухода? Ну что же, это он давно решил. Вход сюда один, выход отсюда один, оба заминированы, на замке от взрывателя тройной цифровой замок, и никто, кроме него, не знал шифра.
Плевать, что здесь другие звезды, и не леса и не горы, а равнины с природными плантациями кокаинового куста. Плевать, что без внешнего снабжения тем, кто останется здесь, придется питаться ежами и луговыми собачками, — те же белки и протеины, в конце концов, — пусть учатся ловить их и варить из них похлебку или что там из них варят. Пусть выживают как умеют, это больше не его дело. Десятки тысяч лет человечество и близко того не имело, что оставлял он этому жалкому племени. И это весь его народ? Да пропади он пропадом.
Тут остается все — крестьяне и рабочие, священники и врачи, тут остается кокаиновая паста, и больше его ничто не касается. Инки выживали с меньшим, ну, или с тем же самым, все уже неважно. Пора складывать шатры.
Хотя он и был православным, но это его уже мало волновало. Он прошел длинной улицей, будто в насмешку называемой дорогой Константина Великого, и вошел в собор святого Джулиано. Было прохладно, полутемно. Он попросил служку позвать падре Дезидерио. Тот, узнав о подобном госте, бросился к исповедальне, что-то дожевывая: такой гость был для него крайней редкостью.
Ласкарис вошел в другую дверь исповедальни и опустился на колени.
— Простите, святой отец, ибо я согрешил, — сказал несостоявшийся император.
XX
25 АВГУСТА 2011 ГОДА
АРТАМОН ЗМЕЕВИК
Глядя на них, он думал, что для каждого
мгновения его и их времени в качестве
материала использованы потертые
мгновения прошедших веков, прошлое
встроено в настоящее и настоящее состоит
из прошлого, потому что другого материала
нет. Эти бесчисленные мгновения прошлого
по нескольку раз на протяжении веков
использовались как камни в разных постройках;
и в нашей нынешней жизни, стоит только
присмотреться повнимательнее, можно
совершенно ясно распознать их, так же
как мы распознаем и вновь пускаем в обращение
золотую монету времен Веспасиана.
Милорад Павич. Хазарский словарь
Е ‘stato lo stesso anno. Ήταν το ίδιο έτος. Год был тот же самый. И совершенно уже не важно, что шел месяц ашвина. Никому не интересно было знать, что шел месяц ташрит. Можно вообще не упоминать, что шел месяц сирудян. Незачем искать доказательства того, что был день дынчгюн. Кому какое собачье дело, что был день робибар. Решительно неважно, что был день црон. Однако день был Артамон, и звери уходили и прятались в леса, и змеи вереницами ползли, чтобы спрятаться под землю, и никто не убивал их, ибо убивать змей в этот день — к неурожаю.
Кстати, возможно, ничего этого не было, но перо, то есть мышь, мчится к концу книги, и я гоняться за ней не буду, пусть сама бежит, куда ей приспичило.
Столице казалось, что жизнь, будто кобыла, лягнула ее в лоб задней подковой; столица была жива, но плохо понимала — на каком она свете. Начнем с того, что два дня тому назад она лопухнулась на весь белый свет не хуже, чем когда в очередной раз без боя сдалась очередному узурпатору, потому как Павел Романов и впрямь был сперва у ворот Москвы, потом у ворот Кремля, потом у врат Успенского собора. Только это не был Павел Федорович Романов. Это был Павел Павлович Романов, и, покуда средства массовой информации разобрались с этим, космонавты на Императорской космической станции «Триколор» успели дважды облететь вокруг шарика, а это как-никак полные три часа. Толком опознали цесаревича только у алтаря. Наследник был мрачнее тучи.
Москва постепенно приходила в себя, даже мусор из Александровского сада за двое суток солдаты почти вывезли, хотя до восстановления поврежденных башен и стен было еще далеко. Прослышав, что Петровский дворец заминирован, да еще своими же и да еще и коды взрывателей утрачены, велел сперва его разминировать и только потом «водку пьянствовать и салюты салютовать», побрезговал предложенным ему чудовищным дворцом барона Фонрановича на Патриарших, водворился пока в самый дальний угол Теремного дворца в Кремле и не хотел никого видеть. Генералу Аракеляну к нему явиться пришлось именно туда, и вернулся от него Тимон — зеленей некуда. Новостью было то, что новый выход из Кассандровой Слободы, коим прибыли и митрополит, и цесаревич, и вскоре должен был прибыть предиктор Гораций, существует, и он даже, о Господи, сообщил, какой это выход, — и одновременно сообщил то, что царь наотрез не хочет возвращаться в Москву, уже и отречение подписал. Первым оригинал отречения в России увидел Тимон. В царевиче всегда чувствовалась отцовская жесткость, но теперь он вел себя как выполняющая высшую волю машина. Он и всегда-то был хорошим сыном, но теперь это ужасало.
Замок барона Исайи Фонрановича Тимон временно аннексировал. Барон все равно совершал в южных морях кругосветное плавание и в Москву не торопился. Замок его был копией замка Пьерфон в долине Луары, известного в России прежде всего потому, что у Дюма его прикупил Портос, еще потому, что в нем, как в лучше всех сохранившемся, что ни год снимали костюмированные фильмы из эпохи Людовика XIV, а еще потому, что именно его не так давно пытался купить растерзанный толпой Кондратий Азарх. Фонранович был умнее, обошелся копией, толпа его не растерзала, а то, что безопасное министерство попросило дворец одолжить, так всегда пожалуйста, неловко же звать дипломатов и других важных людей на Кузнецкий, да еще на минус шестой этаж. Теперь временный кабинет генерала смотрел, будто на смех, на синагогу у Никитских.
Почти одновременно с цесаревичем в Москву из богоспасаемой Пимиевой пустыни на огромном самолете «Солодка-новгородец», оборудованном под перелетный храм, прибыл со всем причтом митрополит Мартиниан и хотел настоятельно попросить патриарха Досифея покинуть империю, но тот, православным чудом уцелев на банкете, предпочел собраться и удалиться в любимые Салоники. Жизнь духовная и церковная вернулась к статус-кво раньше всех. Другим бы так.
Про незаконную коронацию византийской троицы вспоминать не хотелось, хотя приходилось, ибо с точки зрения традиций она как раз была совершенно законной: русские царь и цесаревич сбежали, и за время их отсутствия власть перешла к другой, очень древней императорской династии, да еще новый император и его кесари были и коронованы в Кремле, и миропомазаны, не халям-балям, в окошко не выкинешь. Правда, император Константин I сам потом драпанул, и это попало на видео. Правда, младший император Василий V пропал неизвестно куда, то ли погиб в Кремле на банкете, то ли нет. Правда, самый младший из императоров, Христофор I, неизвестно как уцелевший, попал на камеру при выезде из Кремля и, похоже, где-то отсиживался, народ считал, что он правильно делает, и каждый тут же вспоминал, что стоит Христофору высунуть нос, как тут же начнется российский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Да еще и уверенность в том, что государь Павел вдруг так вот сразу отрекся от престола, была основана ни на чем. С чего он в Фингалию эту собрался, что в ней хорошего, да и нехорошо там, говорят, революция там, и декреты народной власти про заводы и фабрики, так что именно в Фингалию — это он едва ли. Мало ли что прапрадедушка его с посохом в Сибирь ушел, с чего это ему вдруг прапрадедушка указ? А что он в батискаф спрятался и на дно Байкала залег, так факты в студию, не верим. Над Россией висели тени императоров: одного отрекшегося, одного сбежавшего на вертолете, двоих коронованных и находящихся неизвестно где и одного законного и наличного, да только пока еще и не коронованного и даже не женатого.
Над столицей, а вернее даже над миром плелась кевларовая паутина слухов и догадок, и уже случившееся путалось с тем, что никогда не случалось и никогда не случится, а то, что собиралось случиться вот-вот, выглядело как наиболее убедительная из поддельных летописей, повествующих о преданьях то ли существовавших держав, то ли вымышленных.
Кто поверит, что на банкете отравили всех, а умерли не все, — так это, говорили, потому, что, во-первых, не на всех подействовало, потом еще во-первых потому, что некоторые ничего не ели, и потому, во-первых, что они правильно блевали, и потому, во-первых, что они-то сами всех других и отравили. Последняя версия была даже немного похожа на истину, но кто ж мог угадать, что мухоморный яд с другой планеты нейтрализуется в человеческом организме при помощи порошка из растертого камня, выросшего в Тверской губернии в желудке у черта летнего забоя? Да и кто знал о чертоварне Богдана, и подавно, кто знал о Протее, если Протей, чем он ни будь, неузнаваем по определению, и понять в нем ничего нельзя — он ускользает, как время, и как капли воды, и как уносимая к звездам лессовая пыль земных пустынь.
…Оборотни под Никольской башней сидели ни живы ни мертвы — такого за пятьсот лет даже башня не видала, что уж говорить о них, и даже старший, домовой-башенный Линкетто, целиком вылез из стены и мотал головой: ни одному царю, даже Ивану Четвертому с его «Бекбулатовичем», так виртуозно надуть их не удавалось. Царь Павел вывернулся с отречением от престола в пользу сына, вообще-то так делать не положено в России, где царь — глава церкви, но мало ли что бывает по состоянию здоровья, и тут лучше пусть будет молодой и здоровый, чем старый и усталый, проведший на престоле полжизни. На работу их пока не гнали, и они все еще обходились гречневой кашей.
В происходящем на поверхности более всех пытался разобраться Пантелей Крапивин, высокогорий. С опозданием сообразил он, что в свите Константина странствовали двое Высокогорских, братья Эспер и Елим, к тому же один из них именовался князем Сан-Донато, что автоматически означало старшего в роду. Он не мог подарить им сокровищ рода, спрятанных под Уральскими горами, потому как эти тайные истины так и остались ему по его сиротскости неизвестны, но вот что касается ипподрома, что касается прежде всего ставок на ипподроме — тут он, думается, мог их утратам сильно помочь. Найти бы их самих только.
А как их найдешь в городе с населением в двенадцать миллионов, даже если они из города не уехали? Будучи существом хоть и совсем немного, но сверхъестественным, Пантелей к Высокогорским испытывал чувства такие примерно, как бывают у пса тридцатого поколения из собачьего рода, живущего двести и триста лет в одной и той же семье: он от этой своей неожиданной преданности изнывал, но при этом ей радовался, почти сто лет не видела Россия Высокогорских. Очень хотелось думать, что они не сбегут опять, хотя говорили про них что-то вовсе несусветное — будто оба они отбыли в Тибет на поклонение Далай-ламе, а там, в Тибете, нет повести печальнее на свете.
Русский пофигизм ему не годился. Был бы он знаком с горняцким скарбником Шубиным — тот бы его успокоил, тот много чего умел. Но Шубин публику под Никольской всерьез не воспринимал, справедливо полагая, что оборотни к людям все же куда ближе, чем, скажем, к Шубиным.
Шубин снисходил в Москве только до визитов в кабинет Тимона Аракеляна, да и то почти всегда без посторонних глаз. Тимон, с его точки зрения, к человечеству отношения имел мало.
— Можно было предвидеть, — печально сказал Тимон, — каждый когда-нибудь устает.
— Нас только трое, насчет предвидеть — это Гошина забота, — меланхолично ответил Ромео, глядя в окно на синагогу светло-голубыми глазами, более всего отличавшими его от братьев, — князь Никита до девяноста четырех не устал, я свидетель.
— Меня до сих пор трясет: пока своим порошки в рот совал, думал, не закончу, не успею, помру на месте, — в десятый раз сказал Цезарь.
Братья крайне редко собирались вместе, тем более в кабинете самого среди них сторонящегося известности, главы кабинета безопасного наблюдения за государством, как назывался теперь бывший комитет.
— А что трясет, креол же рядом был? — спросил Тимон.
— Мне всегда кажется, что захочется креолу, так нас мигом закопают, а тех, кого мы закопали, выкопают. Чувство такое, будто он всю эту нашу жизнь придумывает…
— Ну уж конечно, — отозвался Ромео, — был бы он автор-сочинитель, не был бы негр. У меня бабы смотрели на негров, не так, чтобы по-настоящему, а по интернету, интересовались, все ли у них там черное.
— И как?
— Да говорят — черное. Не понравилось им.
— Дело вкуса… — Тимон ощутил, что ляпнул что-то невозможное, и полез за сигаретой, хотя выкуривал полпачки в месяц. — Ну и где дорогой младший? Его тут обещали к нам… нетрадиционной дорогой привести.
Это был намек на старую шутку того самого четвертого брата, Горация, которого подпивший царь как-то спросил — каким он видит путь в будущее. Гораций пятки умел резать даже у анчуток беспятых, ответил, что таковой путь он видит нетрадиционным. Никто ничего не понял, но формула вспоминалась теперь кстати и некстати.
— Уже одиннадцать, — протянул Ромео, — мне с четырех работать, шестеро сегодня ко мне записались, обленился я.
Тимон и Цезарь стыдливо отвели глаза: работа у Ромео была весьма нетрадиционная. Он с восемьдесят второго был подмастерьем, а с девяносто шестого полноценным сношарем, или, как говорили в новом веке, оплотником: село Зарядье-Благо датское рядом с Кремлем, оплотом коего он был, состояло почти исключительно из его дочек, сыночков, а вот теперь уже внуков и внучек. Никто уж и не верил, какая странная дорога через какой скверик привела его на этот ответственный пост в дом боярина Романова, что на Варварке. Но и то правда, что шесть на день — очень тяжелой нормой для него не было, бывало и десять баб. И не было на свете тех баб счастливей.
Воздух завибрировал. Такое бывало перед появлением Шубина, но тот даже тенью в воздухе не мелькнул.
— Это приказ, — сказал Гораций, выходя буквально из стены, причем из внешней, и это впрямь могло иметь место на самом деле, если его сумел протащить Шубин, о каковой возможности младший Павел как раз генерала и предупреждал, — это приказ его величества, вероятно, последний его приказ.
— Чего приказ? — вскинулся Тимон.
— А, ну да, вы ж сидите тут и ничего не знаете. Я предупредил государя о том, что он изменит порядок престолонаследования в России. Пророчество сбылось: Павел Федорович отменил прямое наследование престола по старшинству и вернул нас к старинным, истинно петровским обычаям, строящим судьбу России на прочной основе неукоснительного соблюдения православных норм, верных также и заветам византийских традиций.
— Это как?
Гораций никогда не говорил даже четырех-пяти фраз подряд, но сейчас, видимо, излагал царскую волю и позволил себе некое красноречие.
— В тысяча семьсот двадцать втором году государь Петр Великий издал указ о престолонаследии, который никем не отменен по сей день. Тот указ определил, что царь может назначить наследником кого захочет, и Феофан Прокопович, муж для своего времени ученейший, в «Правде воли монаршей» научно доказал справедливость и полезность царского указа. Государь Петр никого назначить не успел, но действие указа не прекращено и, как следствие, возвращение его в законоустановления следует нормам законов православной империи. Своим наследником государь Павел Федорович ныне назначил цесаревича, будущего императора Павла III, однако по возобновленным законам первым агнатом его будет теперь по его выбору тот, кого тот сам изберет. Иначе говоря, новый император должен избрать себе младшего по возрасту соправителя, усыновить его, если надо и по возможности сохранять такой порядок, передавая власть от одного к другому живущему, никогда более не повергая страну в бездну богопротивной демократии.
Ромео явно скучал, его тянуло домой, к работе. Цезарь ничего не понимал, но, видимо, рад был, что сейчас не у себя на кухне и проклятыми сомнениями не терзается. Однако что-то понявший Тимон, к тому же видевший подлинник отречения Павла, пискнул:
— Гоша, ты можешь сказать, что будет?
— Могу… Ты, Тима, как мне кажется, нынче же озаботишься розысками императора Василия и императора Христофора.
Почему-то именно этого Тимон и ждал. Он на своей работе уже давно вынужден был заменять предиктора. И знал, что этот хлеб очень горек и солон. А еще он знал, как задавать брату вопросы, на которые тот хоть и редко, но все же отвечал.
— Гоша, какие я для это предприму шаги?
Гораций даже не улыбнулся, только ноги в кресле вытянул, взял из воздуха красный апельсин и стал чистить. Тимон поклялся бы, что видел руку Шубина.
— Тоже мне закон Ома, таблица Менделеева. Креола спрашивай, он все и всегда знает. — Гораций впился в апельсин. Брызнул сок.
— Значит, ехать. Звать сюда неудобно. — Тимон, не ставя слова брата под сомнение, встал и поправил знаменитые роговые очки. — Так понимаю, Ромк, что ты не поедешь, у тебя работа. Зарик?
Цезарь на глазах съежился, но кивнул: для него креол-ресторатор был коллегой, ехать полагалось. Тимон вопросительно посмотрел на самого младшего.
— Дай апельсин доесть, зануда, — сказал предиктор.
Хлебный переулок, где уже тридцать лет работал во все восемь столиков долметчеровский «Доминик», был от поддельного «Пьерфона» в четырех кварталах. Как человек облеченный в империи немалой властью, спрашивать у ресторатора разрешения на визит Тимон не собирался. Трое Аракелянов погрузились в ЗИП, Ромео им вслед даже не кивнул.
Хотя и было далеко за двенадцать, ресторан оказался закрыт, что во все еще не пришедшей в себя из-за византийского кризиса столице было не удивительно. Отловили метрдотеля, вполне русского Никифора Саввича, наверняка из старообрядцев, кто еще пошел бы служить в некурящий ресторан, тот мигом опознал знаменитые очки, встал по струнке и сообщил, что их сиятельство отбыли на Большой Щепетневский и важные посетители могут найти его там, а если пообедать, так сию минуту.
Насчет пообедать, так Тимону было сейчас не до того, у него и так в машине свой кулинарный маршал сидел и дрожал. А вот насчет Большого Щепетневского, так тут к гадалке не ходи — в чьем доме толокся нынче креол. До Пречистенских ворот и до Петрокирилловской тоже было два шага, и очень скоро огромная машина весь переулок собой перегородила.
В особняке Меркати жизнь особо никогда не кипела, но на этот раз ни стук, ни звонки не действовали. Тимон решил действовать совсем несолидно: попросил Цезаря подсадить его, — что при толщине министра оказалось непросто, — дотянулся до окна в цоколе и той самой монетой, которой обычно призывал Шубина, стал назойливо стучать в стекло. На это реакция воспоследовала: седой старец на негнущихся ногах и тонкий филиппинец немедленно пропустили всех троих в коридор, замкнув у них за спиной дверь полуметровой толщины.
Из кабинета в зал навстречу им вышел неизменно благообразный Меркати.
— Я очень надеялся на встречу с вами, генерал. — Нумизмат церемонно пожал руки всем троим. — В последние дни я опасался вас тревожить, а ведь именно у меня хранится для вас новая скромная передача от вашей дорогой тетушки.
Знал Тимон те передачи и боялся их, хотя не они бы — прогорела бы вся профессорская столовая и оборотни померли бы с голоду или одичали, что много хуже.
— Я бесконечно благодарен и тетушке и вам, но мы сейчас не за этим. Нас проинформировали, что у вас может сейчас находиться господин Доместико Долметчер.
— Отчего же «может находиться»? Он тут и находится, мы с ним с утра в моем кабинете опись даров вашей тетушки делаем. Любопытные экземпляры — поразительные золотые экселенцы тысяча четыреста девяносто седьмого года, совершенно упоительная редкость, ведь это едва ли не первое американское золото в Европе!.. А какова сохранность!
Если Меркати впадал в нумизматику, остановить его было не проще, чем укротить глухаря на току. Тимон мягко взял его за руку.
— Так мы можем встретиться с господином Долметчером?
— Разумеется, — пришел в себя Меркати, — уже, уже зову.
Через миг он вернулся из кабинета с ресторатором. Тот аккуратно стаскивал с рук нитяные перчатки.
После любезностей и представлений, хотя представлять пришлось только Цезаря и Меркати друг другу формально, прочие были знакомы, Тимон решил брать быка за рога.
— Господин посол, — такое обращение к креолу допускалось крайне редко и немедленно изменяло тон беседы, — к нам поступила непроверенная информация о том, что вам может быть известно местонахождение императоров-соправителей Василия и Христофора.
В почти черном лице ресторатора не дрогнула ни одна черта. Зато побелел итальянец.
— Я полагаю, в ближайшее время один из них к нам поднимется, — сказал Гораций, глядя в потолок.
Креол соображал быстро.
— Безусловно, подобное мнение бытует. Однако насколько быстро это произойдет — можно лишь догадываться.
— Не надо догадываться, вот он я, — заявил Христофор, вступая в открытую дверь. Он был заспан и неприбран, но затравленного вида не имел.
— Ваше величество, — поднялся ему навстречу Тимон: как минимум один император оказался жив-здоров, прочие проблемы временно откладывались.
Христофор глянул на него с сомнением:
— А почему величество?
— Потому, ваше величество, что вашей коронации никто не отменял и вас не низлагал. Мы находимся здесь по непосредственной просьбе цесаревича Павла Павловича. Государь Павел Федорович отрекся от престола в его пользу. Все остальное наследник престола хотел бы обсудить с вами и с вашим братом. Он здесь с вами? Можно будет с ним побеседовать, ваше величество?
— Будет нельзя, совсем нельзя, — грустно ответил Гораций и невежливо вынул из воздуха зрелую антоновку. «Он что, личного Шубина за собой водит?» — подумал генерал.
По лицу Христофора было ясно, что Василия он не видел весьма давно, может быть с самой коронации.
— Цезарь, что ел император Василий на банкете? — грозно спросил Цезаря Тимон. Кулинар смешался.
— Кажется, вовсе ничего… у него лихорадка была. Разве что во время причастия… Хотя нет, туда мы только вино дали, а оно в сургуче, просфоры в церкви были свои… Нет, у него лихорадка была, он попросил мате… Я сам заваривал, вот и все. Да нет, что ты, просто обычный, отличный мате по-асунсьонски, ничего больше, он и ушел сразу…
— Не хитри, Зарик, не хитри! Ты порошок ему давал или тоже на поварят извел?
— Ничего я не изводил. На камерах его искать надо. Все побито в основном, но осталось же что-то, да и спутники…
— Гоша, ты видишь что-нибудь? — спросил генерал.
Гораций обиделся:
— Что я, баба Манга, чтобы вечную славу Бармалея пророчить? Ничего я не вижу, проверяйте камеры. Если я что и вижу, так глазами и прямо в коридоре.
За спиной у Христофора было и впрямь людно. Братья Высокогорские с общей на двоих женой, еще с кем-то и еще с кем-то там толклись.
— Когда взрывы были, нас Яков Павлович в подвале спрятал, — с детским восторгом объявил император.
Брат помочь больше не мог, а скорее не хотел, он опять играл в уме в какой-то там четырехмерный мацзян.
— Яков Павлович, вы не позволите нам ненадолго похитить у вас одного из гостей? В Кремле ждут.
Нумизмат развел руками.
Трое братьев прихватили императора, засунули в ЗИП и умчались к близким Боровицким воротам. Долметчер поехал отдельно, забрав остальных. В городе еще погромыхивало, но это были взрывы довольно безопасные. Императорские саперы обезвреживали свои и чужие мины. Наиболее опасные свозились на пустырь против Нескучного сада. Было их немного, но разорвись они у Кремля… ладно, не будем.
Именно там, на набережной под огромным Икарийским мостом, вторые сутки ночевал Василий Ласкарис. Проснувшись наутро после памятного банкета, все еще в поту и горячке, он обнаружил вокруг одни трупы и понял, что не отравился вместе со всеми по чистой случайности. Едва одевшись и не взяв с собой ничего, кроме заблокированной кредитной карты, он рванул куда глаза глядели, а глядели они сперва на Боровицкие ворота, потом на набережную, то ли вверх по реке, то ли вниз, подальше от крепости, ставшей моргом для чужих и своих. Москвы он не знал, но встреченный мост был столь огромен, что Василий, как парижский клошар, решил под ним отсидеться. Правда, то же самое решил сделать еще десяток бедолаг, но мост был колоссален, и места всем хватало.
Весь день и весь вечер Василий простучал зубами, не столько от страха или холода, скорее просто от непрошедшего приступа малярии. Забываясь на приступке неспокойным сном, он видел нечто, никакого отношения к его жизни не имевшее, это был какой-то бесконечно повторяющийся «День сурка» с обонятельными галлюцинациями из «Парфюмера» и каким-то полным дальневосточным бредом из «Семи самураев». Просыпаясь, первым делом Василий думал — как там Дуглас, потом начинал чесаться, лесные или какие там клопы не дремали, потом шел к реке и горстью пил из нее грязную воду. Босяки, составлявшие ему под мостом компанию, давно выяснили, что взять с него, кроме кредитки, нечего, разобрались, что она заблокирована, отцовское кольцо без камня снять не сумели, приняли за дешевку, палец рубить не стали, потеряли к нему интерес, отправились резаться в секу.
На вторую ночь стало холодно и нестерпимо, Василий был на грани того, чтобы вернуться в Кремль, но был так слаб, что встать не смог, а ползти два километра с малярией — подвиг для Геракла, а не для хворого и голодного грека. В поисках тепла он стал присматриваться к босякам, но они костра отчего-то не разжигали, видать, для них эта погода холодной не была. Впал в знобкий полусон и не хотел выкарабкиваться. Чуть ли не впервые в жизни Василий почувствовал, что одиночество — это все-таки плохо, сейчас он согласился бы даже на общество оставленного в Тристецце половецкого телохранителя. Но рядом все так же не было никого.
Утром дня без числа он утратил последнюю связь с реальностью. Он забрался в самый тесный угол, где было если не теплее, то хотя бы темнее, и вновь попытался заснуть, однако почувствовал, что он тут не один. Присмотревшись, он понял, что ближе к свету сидит, обнимает собственные колени и трясется в рыданиях совсем юный паренек, лет шестнадцати, а то и меньше, восточный и совершенно истерзанный. «Надо ж, кому-то хуже, чем мне», — подумал Василий и стал вылезать из своего убежища, решив предложить свою слабую руку помощи товарищу по несчастью.
Мальчик обернулся, взвыл, рванул на груди грязную рубаху, и это было последнее, что в жизни увидел Василий Ласкарис, а услышать он уже ничего не успел. Больше трех недель болтавшийся по Москве в неразорвавшемся поясе юный шахид Андалеб, временный супруг прекрасной Лудли, все искал и искал — в каком бы людном месте рвануть свой пояс еще разок, на авось. Он пытался взорвать его добрый десяток раз, но ожиданий пояс не оправдал, юноше стало казаться, что он вообще плохой воин ислама. Окончательно оголодав и завшивев, он спрятался под попавшийся мост и решил отсидеться. Народу здесь было немного, и никто вроде бы к нему не приставал. Однако длилось это недолго. Выползши из темноты, очередной смазливый грязный русский извращенец-тахриф полез к нему со своей любовью, и Андалеб не выдержал, даже в его родной стране все-таки не каждый к нему с этим приставал. Он рванул за кольцо, боясь, что опять не получится.
Но получилось.
Взрыв был довольно сильным, моста он не повредил, но ни картежникам, ни шахиду, ни императору Василию V похороны заказывать уже не пришлось, чистильщики, которые далеко не сразу добрались до Икарийской площади, поняли, что тут что-то взорвалось, но, поскольку на другой стороне реки, у Нескучного, что-нибудь и так взрывали целый день, не придали значения и взрыву под мостом.
Кольцо без камня кто-то подобрал все-таки. Оказалось, это не серебро, а белое золото, валялось оно совершенно отдельно в траве, и в буре сентябрьских событий искать его хозяина никто не подумал. Лишь несколько лет спустя сотрудник императорского золотого фонда, перебирая предметы, предназначенные для переплавки, безошибочно отследил среди серебряного лома очень старое, скорее всего византийское, белого золота кольцо-печатку с переплетенными литерами «бета» и «лямбда». Он не поверил глазам и добился того, чтобы кольцо осмотрели на самом высоком уровне. Христофор долго разглядывал его, побледнел, ушел к жене, потом заказал в Успенском соборе службу за упокой души брата: он-то знал, что кольцо с пальца снять было нельзя. Но это все случилось уже куда позднее. Старший император выразил соболезнования и наутро учредил третий по значению, после орденов святого Андрея Первозванного и святого Георгия, орден империи — орден Василия Великого.
…Возле города Тезоименитовска, бывшего Нижнекамска в Татарии, заканчивалась последняя война этого неспокойного года. Икарийские войска Сулеймана Герая, получив три десятка новых швейцарских танков, единым строем шли на бегущих шиитов, уже не рвавшихся соблюсти шесть дней поста, столь полезного душе мусульманина в месяц шавваль, дабы получить от Аллаха вознаграждение, равное зачисляемому за пост в течение века. Они уже не отличали друг от друга намазы фаджр и магриб, и даже исправно молившийся по всем возможным правилам новопросветленный Алпамыс подумывал, что в чем-то он был неправ, и зря ему виделись пустыми пророчества адвентистов седьмого совокупления, и духовные собрания приверженцев бога Зуси, и даже ужасная для мусульманина мысль, что иртидад, то есть вероотступничество, в каких-то случаях, может быть, все-таки оправдан и не ведет к куфру?.. Фронт, что ни день, двигался километров на десять к юго-востоку, Файзуллох никого к себе не допускал, затворялся с мрачным Мехбубзахиром, и они орали друг на друга на фарси и утром вновь, почти не сражаясь, отступали, и позором для них было прежде всего то, что на танках Сулеймана вместе с царским черно-желто-белым триколором реял зеленый икарийский стяг. Даже белохиджабщицы остерегались стрелять по зеленому знамени.
Война для шиитов, начавшись с неправильно рассчитанного дня начала боевых действий, заканчивалась в день, не поддающийся расчету, ибо он не имел числа. Два часа артиллерийской обработки, еще два часа танковой атаки и беспорядочной перестрелки и еще два часа воя мелкой авиации, уже не сбрасывавшей даже легких бомб, — то ли их экономили, а то ли решили, что уже и стараться ни к чему, — а потом еще что-то, и еще что-то, и мокрый небосвод, и мокрая равнина, топь и грязь от разбитой дороги до разбитой дороги, натуральное болото, и не надо говорить, что это солнечный Татарстан, семь раз в душу вам такое с барабанным боем к той бабушке, будь она здорова сто лет и кушала бы компот, как сейчас хотелось Алпамысу топать неизвестно куда и не иметь возможности не только коврик расстелить, но даже взять себя за мочки ушей!..
Под вечер Файзуллох собрал свой штаб. Зачем ему понадобился Алпамыс-Прокл, коль скоро воздвижение первых мечетей в Кремле отодвигалось на неопределенный срок, понять было нельзя, но сам приглашенный решил, что это по привычке. На деле это было не так — сидеть без него с начальником охраны и казначеем перед бросающим зверские взгляды Мехбубзахиром не захотелось бы никому, и поэтому шейх просто звал всех, кто был рядом и кто хоть немного располагал его доверием. Прочие куда-то разбежались.
Ничего внятно он сказать не мог, потому как боялся своего странного союзника. Бригадный генерал Мехбубзахир был немолодым и сухим воином с выжженным лицом, его щеку пересекал до самого уха шрам, было видно, сколь неполноценны молитвы этого бойца, потому как одной мочки у него просто не имелось. Алпамыс несколько раз молился рядом с ним, с наслаждением слушал чистую, рокочущую арабскую речь, в которой мог выделить разве что три-четыре слова. Сегодня приблудный союзник был в ярости и если бы не сидел на ковре, так наверняка бы топал ногами, чем больше повышал на него голос Файзуллох, тем страшнее было молчание оппонента. Когда оба вскочили, где-то вдалеке ухнула бомба. Эффект был совершенно тот же, как если бы они, вскочив и ударив в землю ногами, этот взрыв вызвали намеренно.
Внятные речи закончились. Казнокрадствующий контрразведчик Пахлавон Анзури, как и столь же вороватый казначей Алексей Поротов, жались по углам ковра, двое воителей встали в стойки, и каждый полез за ножом. Через мгновение в воздухе закружился единый шар из рукавов, штанин и ножей, и через короткое мгновение появился победитель, и он был предсказуем. За спиной Файзуллоха, прижимая голову и почти назад откинув ее за волосы, стоял бригадный генерал. Он взвыл и резко перерезал шейху горло от уха до уха. Кровь ударила так, словно взорвался у вампира баллон с двухнедельным рационом питания. А сам великий воин Мехбубзахир Гулат сделал последнее, чего можно было ждать в такое мгновение от великого воина: он достал из складок одежды плоский персик, раскусил и съел одним глотком с косточкой.
Братьев доставили к наследнику престола и закрыли за ними двери. Беженцев вымыли, отпарили, одели, на полчаса загнали к откуда-то немедленно появившимся визажистам и парикмахерам. Затем им сообщили о предстоящей аудиенции, что всех, кроме тибетской девицы крайне смутило, она же начала своим мужьям задавать совершенно неуместные вопросы, притом сразу обоим, и тогда оба умоляюще попросили ее помолчать.
Их долго вели коридорами, заставляли пройти через раму, вынуть ключи из кармана и сказать, сколько у кого вставных зубов, впрочем, все заметили, что от позорного обыска был избавлен Христофор. В конце пути они оказались в таком глухом бункере, что ясно было — без разрешения или без приказа отсюда никто не выйдет. А чего было ожидать?
Но и тут пустили их к Павлу Павловичу далеко не сразу. Чудовищной толщины дверь неслышно пропустила их в тамбур, где началась идентификация радужной оболочки и просвечивание всем, чем можно, потом они попали во второй тамбур, где дюжие бабищи всех перещупали, в третьем их чем-то опрыскали, и лишь потом ветхий камердинер, которого новый государь получил в наследство вместе с престолом, по одному пригласил их в кабинет. Камердинер считался немым, и никто не знал — правда это или нет.
Пришлось пройти через арку, образованную двумя огромными мамонтовыми бивнями, кремового цвета, в тончайшей резьбе. Видимо, владелец кабинета решил сохранить память о киммерийском детстве.
В кабинете за столом уже сидели трое братьев и известный всему миру Павел Павлович, почти уже император всероссийский, в форме подполковника Преображенского полка, с единственным, но очень почитаемым в России орденом преподобного Никиты Столпника. Трое братьев поднялись из-за стола, но по знаку наследника сели обратно, и Тимон отметил про себя: а порядочно народу-то набилось. Электронщица Джасенка подумала примерно то же самое и на мгновение дала выглянуть на свет божий Оранжу. «Ну ни фига ж себе публики», — подумал незримый Оранж.
Новый царь даже минеральной воды не предложил, а сразу приступил к делу. Втянул в себя воздух — и выстрелил в собравшихся монологом, явно заготовленным заранее:
— Наш царственный родитель милостию Божией государь Павел Второй решил отойти от дел и провести остаток дней на покое. Согласно с волей нашего глубокоуважаемого венценосного отца, сегодня мы на себя принимаем бремя ответственности за судьбу Российской империи. Однако волею опять-таки нашего отца с сегодняшнего дня изменяются законы престолонаследования в империи. Дабы не сеять смуту, решено, что венчаемый государь-император выбирает себе по личному разумению младшего соправителя и коронуется вместе с ним. В дальнейшем тот из двоих императоров, кто по естественным причинам останется один, назначает себе соправителя и оба придерживаются того же порядка дальше. Власть обоих монархов абсолютна, лишь в случае несогласия между ними предполагается считать, что старший император имеет два голоса против одного у младшего. Случай одновременной гибели обоих императоров в законе тоже оговорен, предусматривается безусловная невозможность подобного события… что подтверждено господином Горацием Аракеляном. — Царь посмотрел на предиктора в упор, но тот не уделил ему внимания.
Повисла тишина.
— Далее возникает вопрос об имени династии. С этим просто. Дабы не утрачивать традиции и не прерывать династий, в соправители мы призываем Христофора Ласкариса как младшего императора Христофора I с присвоением фамилии Романов-Ласкарис. Правда, будет необходима вторичная коронация после того, как будет исправлена ошибка и он перейдет из католической веры в православие.
«Ну Мартиниан, ну черемис!» — подумал Тимон и тихо цокнул языком.
— Это, собственно, все, что я хотел сообщить вам, — сказал император, сцепляя руки на столе.
— А можно нас тоже повенчать? — спросила Цинна, крепко вцепившись в руки обоих мужей.
— Все можно будет, только потом, — шепнула ей Джасенка.
Христофор сидел как водяной на солнцепеке, маска раздолбая скукоживалась на нем и облезала, ибо он понимал, что вот теперь-то ему предстоит царствовать на самом деле.
Подал голос тот, от кого этого ждали меньше всех, заговорил кулинарный ректор:
— Как же в новом законе вопрос о приоритетах дальнейших агнатов?
Царь был готов к ответу:
— Закон полностью прописан, зачитывать его потом все равно придется, так зачем сейчас время тратить? Но насчет агнатов все верно. Разумеется, потомки царствующих или царствовавших императоров будут пользоваться приоритетным правом наследования, но не более того. Мы восстанавливаем Теремной дворец и оборудуем в нем Порфировый покой, где жены императоров будут рожать отпрысков династии. Но с этим спешить не надо, Кремль бы восстановить…
— Бросьте, государь, — сказал Гораций, словно кроме него и царя рядом не было никого. — Вы же давно знаете, что служба царя — тяжелая и порою довольно гнусная работа, и тот, кто рвется к ней, просто не ведает, что творит. В вашем случае и выбора нет, кроме вас некому больше, иначе — гражданская война и… эти, как, килочеги жертв. Десятки тысяч, короче. Кому оно надо? Думаю, по достижении двадцати одного года, в две тысячи пятнадцатом государь Христофор женится… ладно, могу ведь и ошибаться.
«Черта с два ты когда ошибаешься», — подумал Тимон.
— Ну, будем заканчивать? — спросил царь. — Есть просьбы?
Заговорил Христофор. Он был красней вареного рака.
— Ваше величество… Я боялся, что пропадет… Я биту искал бейсбольную, не нашел, а это так вот…
Он положил на стол государственный скипетр Российской империи. Ослепительно сверкнул «Орлов». Присутствующие переглянулись.
— Так есть просьбы?.. — спросил Павел Павлович, будто перед ним положили оброненную дирижерскую палочку.
— Есть, — ответил Гораций, — думаю, вам захочется приказать Пантелею Журавлеву, владельцу ресторана «Перекуси!» на московском ипподроме, подобрать в Амстердаме на аукционе молодую кобылу фризской породы и в знак доброй воли подарить ее цыгану Полуэкту Мурашкину, есть такой миллиардер, на окраине, ему рынок принадлежит, вам легко его найдут. Но не так просто подарить, а пусть Мурашкин вам сношенную подкову взамен подарит. Это будет, полагаю, благодарностью за то, что он единственный не в свое дело не совался. Вот и всё, наверное, и все довольны, и у всех все есть…
«Только у тебя нет совести», — подумал Тимон.
Царь сделал знак: мол, свободны. Поулыбался вслед каждому, даже Горацию, которого давно и сильно ненавидел, но понимал, что сделать с ним не сможет ничего и никогда. Чуть за гостями затворились двери, он сцепил руки перед собой и оперся на них подбородком. С яростью стиснул зубы.
Ох и страна же ему от отца досталась. Всех распустил папаша. Ничего, он этих быстро к ногтю возьмет. Рассказывали про Пал Федорыча анекдоты, так тот смеялся со всеми вместе. Ничего, папа им еще покажется зайкой. Пусть посплетничают о Пал Палыче! Мухоморов запасено на всю империю. И не только его, и не только на империю.
— Ненавижжжу… — чуть слышно для себя самого прошептал царь.
…Долметчер стоял на Ивановской и смотрел на темнеющее московское небо, решительно не желавшее показать москвичам ни единой звезды. Только и было это в нем общее с небом планеты Протей, что в пасмурную погоду выглядели они одинаково. По небу Протея, у коего даже карты еще толком составлены не были, ничью судьбу прочесть было нельзя, хотя седой креол и знал о человеческих судьбах очень многое, пусть и меньше, чем несловоохотливый Протей русских царей, предиктор Гораций. Креол не задумывался, доживет ли он до какой-нибудь следующей коронации; для него праздничный обед у князя Фоскарини в Тристецце, где всех надо было накормить, и пир на императорской коронации в России, где всех надо отравить, были во многом одним и тем же. Искусством было и то и другое.
Для него тут не было особой разницы, был лишь едва намеченный путь по темной дороге Александра Грана. Жизнь человеческая всегда проходит на лунной тропке Моря Печали, среди океана хаоса, над которым только и светит тусклый маяк для странствующих и путешествующих в ночи.
Ибо каждый мир — в конечном счете Протей. Неприветливый мир, предстающий человеку в образе льва, росомахи, дракона, леопарда, вепря, лося, мегатерия, воздуха и земли, воды и огня.
И не надо искать его облик: сгодится любой.
P.S
ПОСТСКРИПТУМ
Это все, дорогой читатель. Если ты читаешь эти строки, ты, вероятно, одолел все эти четыре романа, из которых первый был в трех томах и писался тринадцать лет без малейшей надежды на публикацию. Вся же работа над тетралогией, начавшись в сентябре 1980 года, кончается в марте 2017-го, больше тридцати месяцев прошло с тех пор, как гуляла страна на свадьбе юного императора Христофора, ну, ты меня понял. Если прочел, зацени, тридцать семь лет писалось. И хотя ясно, что прочесть — это тоже труд немалый, но мне, чтобы свести во всех сюжетных линиях концы с концами, приходилось текст переписывать столько раз, что вспомнить не могу. Тем более что на самом деле тут не конец истории, надо бы досказать ее, потому что сюжет, где две головы двуглавой птицы вцепились друг в друга, достоин отдельного романа. То ли успею написать, то ли нет…
Этот выдуманный мир имеет много общего с Россией, но он очень даже не Россия, а местами и вовсе не она. Если кто заметил, то ни о каком подписании Германией капитуляции весной 1917 года и речи быть не могло, война шла еще полтора года, Швейцария и по сей день Конфедерация, указываю на это тем, кто будет меня ловить на мелочах и утверждать, что «толстопятов» не автомат, а самодельная стрелялка, так я это сам знаю, — в том мире отличный толстопят выпускается всемирно известным концерном «Толстопятов». И если поймают, что я где-то проврался с календарями, так точно не я первый. И не надо меня ловить на том, что Сан-Донато никогда не были Высокогорскими и что Икария называется совсем иначе. И так далее. Не так-то этого много. А что до оборотней, так правильно говорит наш друг Василий Павлович: не стоит село без оборотня.
Меня спросили бы, думаю: как такое сочинилось, что за считанные месяцы если не страну, то Москву даже в сказке могла бы захватить выдуманная политическая сила? Вопросом на вопрос невежливо отвечать, но каким образом то же самое в семнадцатом году прошлого века проделала неизвестная группа аферистов, у которых даже такой военной поддержки не было? И еще не то бывало в истории.
…Я очень изменился за эти годы, хоть и меньше, чем окружающий мир. Какой такой компьютер в восьмидесятом году, я слова-то не знал такого. Впрочем, перечислять, чего не было, не буду. А что было у меня в тридцать лет — догадывайся сам, кто умный. Вот уж о чем ни минуты не жалею, так о молодости.
Весь цикл действия тетралогии укладывается во временные рамки: 1980–1982 «Павел II», следующие 12 лет роман-сказка «Земля святого Витта», весна-осень 1994 — иронический ужастик «Чертовар», ну, и четыре месяца летом-осенью 2011 года, роман-оборотень «Протей», заставивший возиться с ним, как можно видеть, шесть лет.
Я очень много написал, читатель.
Я совсем немного написал.
Может, больше не увидимся. Хотя кто его знает.
Давай обнимемся. Вот тебе огонек — из пригоршни в пригоршню.
Передай дальше.
На всякий случай — прощай.
Март 2017