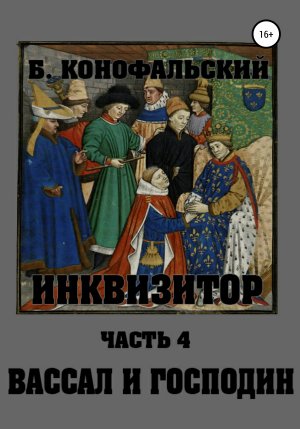
Глава 1
В Вильбурге Его Высочества не оказалось. Он отбыл со двором в свою резиденцию в Маленберг, в замок, что находился в половине дня пути на юг от Вильбурга. Полдня пути. Всего полдня. Пусть он со своими людьми придет к ночи, но лучше добраться к ночи, чем здесь, в Вильбурге, встретить Адольфа фон Филенбурга. Этого жирного и истеричного вильбургского епископа.
Аббат Илларион, посмеиваясь, рассказывал Волкову во время пиров в Хоккенхайме, что епископ зеленеет лицом и трясет своими подбородками, когда слышит имя кавалера. Епископ всех уверяет, что Волков вовсе не рыцарь, а вор, который его обокрал, выманив у бедняги пятьдесят талеров на дело, которое не сделал. И что сам он, епископ Вильбурга, не просил своего брата, архиепископа Ланна, производить этого проходимца в рыцари. И что письмо, которое привез мошенник от него, подложное. В общем, встречаться с этим жирным попом Волков не хотел ни при каких обстоятельствах и задерживаться в Вильбурге не стал.
С ним были офицеры Рене и Бертье и их люди, почти сто шестьдесят человек. Дело в том, что еще в Хоккенхайме он выдал им деньги вперед за месяц, и месяц этот заканчивался только через неделю.
Можно, конечно, было их отпустить с Богом, все равно они ему были особо и не нужны, но Волков потащил с собой всех этих людей. Ему почему-то казалось, что приди он к курфюрсту не один, а с хорошим отрядом, курфюрст выкажет ему больше уважения. А может, и награда будет побольше. Вот и не отпускал он их, даже несмотря на то, что «кров и прокорм» были за ним. И все это не считая людей Карла Брюнхвальда. Они тоже были оплачены вперед. Их было еще почти сорок человек. В общем, затрат было немало, но он готов был нести эти траты, лишь бы прийти к герцогу во главе отряда. Гордыня? Да, гордыня. Но пусть герцог знает, что он способен вести и содержать без малого две сотни людей, да еще с тремя офицерами.
Так он и выехал из Вильбурга впереди колонны солдат. А с ними был и обоз, во главе которого ехала роскошная карета некогда страшной ведьмы Рябой Рут из города Хоккенхайма, из окна которой поглядывала на всех, одетая в парчу, совсем молодая женщина. Она не была красавицей, но все говорило в ней о ее высоком происхождении. И вид ее был притягателен, многие мужчины сочли бы ее желанной. Лик ее, осанка и высокомерный взгляд заставляли простых людей кланяться карете. Все, кто знал девушку, обращались к ней не иначе, как госпожа Агнес. А те, кто не знал, завали ее госпожа Фолькоф, считая ее какой-то родственницей рыцаря. На что она благосклонно отвечала и не исправляла обратившегося. Видимо, она была не против, чтобы все так и считали. А вот те, кто знал, где рыцарь ее подобрал, и Сыч, и Еган, так они вообще без необходимости к ней не обращались. И хотели бы держаться от нее подальше.
— Ну ее к черту, — коротко выразился Фриц Ламме по прозвищу Сыч.
И Еган, человек, который никогда с Сычем не соглашался ни по каким вопросам, тут был с ним абсолютно солидарен:
— Дьяволова баба, жду не дождусь, когда господин ее попрет от себя.
Но сейчас Егану было непросто ее избегать. Господин не дал Агнес денег нанять кучера, и кучером пришлось быть ему. А он всю свою крестьянскую жизнь управлял только телегой. А тут на тебе, карета. Да еще в четыре коня. Шутка ли? Он старался, как мог, но за каждую яму на дороге за каждое резкое движение или крен кареты в спину ему летел выговор. Выговаривала ему не сама Агнес. А новая служанка ее, некрасивая, но молодая бабенка с жирным лицом и сильными плечами, как у мужика. Госпожа звала ее Астрид.
Она и говорила ему, хоть и громко, но постным голосом без чувства в словах:
— Неумение своим ты госпоже докучаешь. Беспечный ты кучер.
Здоровенный мужик ростом едва ли не выше Волкова и уж точно толще его, разъевшийся на хозяйских хлебах, втягивал голову в плечи, словно его хлыстом ожгли. Морщился и вздыхал, как мог старался объезжать ямы, чтобы только не злить лишний раз важную госпожу Агнес. Ту самую Агнес, которою год назад рыцарь нашел в трактире в Рютте, когда она мыла там заблеванные полы и грязные столы.
Максимилиан, сын Карла Брюнхвальда, что со штандартом Волкова ехал в голове колонны, обернулся и крикнул отцу и рыцарю, что ехали на десять шагов после него:
— Господа, замок!
Брюнхвальд и Волков, занятые беспредметным разговором подняли головы, поглядели туда, куда указывал юноша. Они за день видели много замков, наверное четыре, не меньше, но этот замок, несомненно принадлежал Его Высочеству.
Маленберг стоял на скале, возвышался над лесом. Родовой замок дома Ребенрее был виден из далека.
— Надо бы добраться до него до темна, — сказал кавалер.
Очень ему хотелось, что бы герцог увидал его отряд.
— Успеем, — заверил его Карл Брюнхвальд и, обернувшись назад крикнул: — шире шаг, ребята. Скоро постой. Вон у того замка встанем.
А кругом было на удивление хорошо. Поля со всходами, луга, кони пасутся, коровы. Дома мужиков вовсе не хибары. Побелены, крепки. Кирхи не бедные. Коров вокруг много, на каждом клочке земли вдоль дорог, там, где есть трава — корова. Ветряки мельниц то тут, то там. Богатая земля, богатая. Одно слово — родовой домен герцога. И великолепный замок на горе. Замок новый, крепкий, высокий, как скала, красивый. Брать его — только зубы ломать, на горе стоит, вокруг него даже пушек не поставить. Разве только предместья пограбить. В общем, все здесь хорошо и красиво. Видно, ни разу сюда еретики с войной не доходили.
Как стали ближе подъезжать к замку, навстречу им рысью прискакали два господина. Ретивые, но вежливые. Сначала у Максимилиана спросили, чей стяг он держит. Строго спрашивали, но без грубости. А как он им сказал, так они подъехали к Волкову и Брюнхвальду. Поздоровались, представились и спросили, зачем это они ведут столько добрых, оружных людей к замку Его Высочества.
— Это рыцарь божий Фолькоф, — за Волкова сказал Брюнхвальд, — а то люди и офицеры его. Идет он к замку Его Высочества, так как барон фон Виттернауф звал его, чтобы герцог мог наградить рыцаря по его заслугам.
Один из господ сказал тогда:
— Станьте под замком, там постоялых дворов довольно, и велите людям вашим вести себя смирно, простой люд не обижать и ждать, когда принц вас пригласит.
Брюнхвальд, видно собирался ему ответить, что они и не думали этого делать, чай не разбойники, но Волков его опередил и сказал:
— Так мы и поступим. Предайте Его Высочеству, что я в смирении жду его аудиенции. И передайте барону фон Виттернауфу, что я прибыл.
— Мы все передадим, — обещали господа и уехали в замок.
Под горой, на которой стоял замком, было большое село, да и не село уже, скорее город, просто без стен. Город, да и только. И дома у него каменные, и ратуша большая, рынки, церкви. Чем не город? Там постоялые дворы были. А один и вовсе не плох. Волков снял комнаты всем своим офицерам. И Бертье, и Рене, и Брюнхвальд были командами довольны. Солдаты, по разрешению хозяина, за малую плату расположились в палатках на скошенном поле возле села. Они ставили котлы с бобами на огонь, резали двух баранов, что купил им кавалер, пили пиво и ели свежий, белый хлеб. И все были довольны. Все, кроме Агнес.
А чего ей быть довольной? Комнату господин ей снял маленькую, с узкой кроватью и без стола. Столоваться ей внизу велел со всем постоялым людом. А ее служанку Астрид так и вовсе оправил спать в людскою со всякой сволочью, с лакеями и холопами. Авось, не барыня. Госпожа Агнес хотела по лавкам хорошим пройтись, слава Богу, они тут были. Она видела из кареты хороший лен, да еще и шелковую лавку. Так господин денег не дал. Отчего же ей быть в добром расположении духа? Так и ходила по трактиру после ужина злая. Встретила в коридоре Максимилиана. Говорить с ним хотела, да он убежать норовил, говорил, что по делам господина старается. Так от злобы она ущипнула его за щеку. Сильно. А он взвизгнул, отпихнул ее и убежал. А она посмеялась немного, хоть чуть развеселилась и пошла Егана искать. Решила отчитать его за нерадивость и неумение водить карету.
Не нашла, пошла в покои господина, а там с ним мужчины за столом. Офицеры. Ей очень нравилось, что эти господа всегда вставали и кланялись ей, когда она входила в комнату, шурша своими дорогими платьями. Все вставали, только кавалер не вставал, говорил с ней неучтиво. А мог и вовсе, коли в дурном духе был, из-за стола ее выпроводить бесцеремонной фразой: «Спать ступай, к себе иди».
Все ее чтили, все ей кланялись, и господа, и холопы, даже те, кто видел ее первый раз, а он как со служанкой с ней говорил. Или еще хуже, как с ребенком. И еще при людях небрежно протягивал ей руку для поцелуя. И она целовала эту руку с поклоном. И в этот момент сама она не знала, нравиться ли ей при людях ее целовать или злиться она на него за такое унижение. Скорее, и злилась она, и нравилось ей. Все сразу.
Иногда он дозволял ей посидеть с ними за столом. Выпить вина. Но недолго. Затем всегда отсылал ее. И опять обидно отсылал, словно она была дите неразумное. А она вовсе не дите. Может, ей и интересно было поговорить с господами офицерами. И блеснуть званиями своими. Увидеть в их лицах удивление и восхищение. Зря она, что ли, книги читала одну за другой. А господин говорить ей не давал, гнал ее безжалостно. Или шутливо спрашивал господ офицеров, не знают ли те кого, кто взял бы Агнес замуж. Те отвечали, что таких богатеев среди своих знакомых не знают и что госпоже Агнес в мужья пойдет только граф, никак не меньше. И тогда господин говорил, что графов он не знает и за неимением таких выдаст ее, наверное, за Сыча или Егана. И тут следовал смех.
Солдафоны, чего от них взять.
И вот от этого она уже точно на него злилась. Краснела и говорила ему слова негрубые, но тоном дерзким, отчего все мужчины смеялись от души еще больше, и кавалер ее выпроваживал прочь. Вот и в этот вечер в постоялом дворе Волков и офицеры посмеялись, и он опять выгнал ее из-за стола. Она выпила вина и была зла, раскраснелась, даже стала хороша собой. Вскочила и убежала, как обычно, даже не пожелав ему спокойного сна, а после нее Брюнхвальд, Рене и Бертье тоже откланялись и пошли по своим комнатам.
Трактирные лакеи быстро убрали посуду и остатки ужина со стола, ушли. А Еган взялся смотреть одежду господина. Приговаривая:
— Это чистое. И это чистое. И это еще поносите.
— Ты не забывай, что завтра меня может герцог звать, не дай Бог у меня одежда грязная будет, — напомнил ему Волков.
— Все, что нужно, сейчас прачке снесу, ждет она, — обещал слуга, — сапоги вычищу, завтра будете сами как герцог.
— Туфли тоже приготовь, может, в туфлях пойду, — задумчиво произнес кавалер и добавил, — сундук мой дай.
Еган бросил копаться в тряпках господина и приволок к столу тяжелый сундук.
Волков достал из кошеля ключ и отпер его. Откинул крышку. Сундук был железный, кованый, с хитрым замком и очень крепкий. Внутри было много отделений, но занято всего три. Одно, самое большое, занимал мешок синего бархата, в котором лежал голубоватый стеклянный шар. Его кавалер трогать не стал. Он не любил эту вещь и без необходимости даже не прикасался к ней.
А вот все остальное из сундука достал, выложил на стол.
И теперь перед ним на столе лежал, расплываясь от тяжести, большой суконный кошель и кожаный плоский кошель для важных бумаг. Там был имперский вексель на тысячу с лишним монет. Он его и доставать не стал, проверил, на месте ли, и все. А вот из холщевого кошеля содержимое он вывалил на скатерть.
Золото! Никакого серебра, только золото!
Он и так знал, сколько у него этих славных монет, но решил еще раз пересчитать их. Стал раскладывать их столбиками. Гульдены, флорины, тяжелые цехины, флорины папской чеканки, эгемские кроны, королевские экю и даже старинный «пеший франк». И самые ценные из всех, тяжелые дублоны. Четыреста две золотых монеты. Волков не мог сказать точно, но приблизительно они стоили восемнадцать тысяч талеров Ребенрее. А значит, все двадцать тысяч талеров Ланна и Фринланда. Да, это были хорошие деньги. Очень хорошие. И все это он заработал всего за один год. Год был, конечно, непростой, но и награда была намного больше, чем он заработал за двадцать лет в солдатах и гвардии. В разы больше.
И это не считая векселя, кое-какой брони, аркебуз и арбалетов, что лежат у него в доме в Ланне. А еще кусочек земли в Ланне с кузницей. А еще карета, хорошие кони. Да-да, еще и серебришко в кошельке. Там монет полторы сотни. Не меньше. Черт, еще пушки! Три пушки, что он вывез из Ференбурга, они тоже стоят больших денег. И все это не считая связей и знакомств, которыми он оброс. Несомненно, Бог был к нему милостив и воздал ему по делам его, хотя и нелегко ему все это далось. И это еще не все, завтра он получит то, о чем мечтал всегда, с самых первых времен в солдатах.
Да, он мечтал о земле, всегда мечтал. Он заразился этой мечтой от офицеров, у которых служил в молодости. Все они до единого, всегда копили деньги, и копили только на одно. А придворные, он насмотрелся на них в годы своей гвардейской службы, готовы были на любые подлости и на самоубийственные безрассудства, только чтобы сеньор дал им землю. Все эти твердые, жесткие, жадные люди мечтали бросить свое ремесло или удалиться от двора, как только накопят достаточно денег на клочок земли. Земли с мужиками, чтобы больше никогда не нуждаться. Чтобы до конца дней своих быть господином. И умереть господином.
И Волков тоже заболел этой болезнью. Думал о земле всегда: длинными ночами в караулах, и стоя в конце штурмовой колонны с арбалетом в руках, и на привалах, экономя деньги в кабаках, и торгуясь с маркитантками, он все время копил. Все это время мечтал о земле. И вот теперь эта мечта была совсем рядом. Если, конечно, барон Виттернауф его не обманул. Нет, он не обманет, не посмеет. Барон стал его уважать, может даже побаиваться, после того, как Волков на его глазах ловко и хладнокровно разбирался в тюремных подвалах Хоккенхайма с тамошними хитрыми и злобными ведьмами.
Нет, барон сделает все, что обещал. Если, конечно, герцог не будет против и даст обещанную землю. И тогда… Тогда деньги ему будут кстати. Вряд ли ему дадут очень хорошую землю, никто не будет раздавать добрую землю с мужиками. Дать-то дадут, но или земля будет плоха или мужиков на ней будет мало. Мало того, еще и потребуют, что бы спасибо говорил до самой смерти. И служил. Ну и черт с ними, лишь бы дали, лишь бы не обманули. А уж он как-нибудь поднимет ее. Тут Волков в себе не сомневался.
— Лишь бы дали. — произнес он, сгребая золото в кошель.
— Это вы про что? — полюбопытствовал Еган.
— Да про землю, может, герцог мне земельки даст, — сказал кавалер.
— Земля! — слуга замер с новым колетом господина в руках. — Земля — это очень хорошо. Особенно если с мужичьем.
— А на кой черт она мне без мужиков.
— Это да, — соглашался Еган. — Это да, только вы и без мужиков берите, не отказываетесь.
— Брать?
— Обязательно. Если крепостных не будет, так свободные набегут, безлошадные да безземельные. Лошадок им купим, покос выделим, лужок какой дадим под козу, оброк честный положим, опять же, дозволим хворост собирать, глину жечь, запруды на ручьях под рыбу ставить, обязательно мужички набегут. А если скажем, что первые пару лет без барщины будут жить, так и много набежит. Лишь бы земля была не камень, да не болото.
— Думаешь, справимся? — спросил Волков в первый раз наверное, всерьез рассчитывая на своего слугу.
— Эх, господин, — растянулся в улыбке Еган, — вы думайте, как мечом махать да ведьм палить, а в мужицком деле я разуберусь. Всю жизнь им занимаюсь.
— Ладно, — Волков вздохнул и захлопнул сундук и запер его на ключ. — Давай спать, на рассвете встанем.
— Давайте, господин, — согласился слуга, — сейчас только вещи к прачке занесу и тоже лягу.
Он ушел, а кавалер запер дверь и завалился в кровать. Кровать была далеко не так хороша, как кровать, на которой он спал в Хоккенхайме. Но человеку, который много лет своей жизни проспал на солдатском тюфяке или на земле, и такая кровать — счастье. Хоть и волновался он, хоть и думал о завтрашнем дне, но заснул сразу, как и положено бывшему солдату.
Глава 2
На заре он просил себе завтрак в покои. Пригласил офицеров, а Максимилиана послал в замок, узнать, когда курфюрст его примет.
Еще в Хоккенхайме Волков безвозмездно выдал Рене и Бертье деньги, видя их бедственное положение. Он считал укором себе, что его офицеры ходят в разорванных солдатских башмаках и что колеты у них в локтях и на манжетах протерты. А на их шляпы он и вовсе смотреть не мог. Оттого и не поскупился, выдав им в подарок по пять талеров. Тогда денег у него были сундуки целые. Пока их попы не отняли. И если взрослый и взвешенный Арсибальдус Рене деньги потратил с толком и теперь выглядел вполне прилично, хоть и небогато, веселый и голосистый Гаэтан Бертье деньги потратил как минимум оригинально. Вместо нового колета, он купил себе рубашек с тончайшим кружевом, вызывающе красные сапоги выше колен и роскошный алый кушак. И теперь поверх растрепанных в нитки манжетов и воротника у него торчали роскошные кружева. А видавшие виды широченные зеленые панталоны никак не гармонировали с красными сапогом и кушаком алого шелка. Ничуть не смущаясь, этот диссонанс он решил с солдатской простотой, он напялил на себя свою кирасу. Рубленую и кое-где мятую, но начищенную до зеркального блеска.
Как ни странно, но Рене и Брюнхвальд также явились к завтраку в кирасах. Чуть подумав, Волков решил, что это даже неплохо. Он, конечно, пойдет на прием без доспехов, но эти кирасы подчеркнут этакую бравость его людей. Правда, наделся кавалер, что веселый Бертье не осмелится при герцоге надевать свою рваную шляпу.
И когда они ели молодой сыр, топленое молоко, белый хлеб и окорок, прибежал Максимилиан и рассказал им:
— Поначалу меня в замок не пускал сержант, — юноша с трудом переводил дух, — но как я сказал, что меня послали вы и что вас пригласил барон, так сразу пустили и сказали, где найти барона. Думал, барон еще спит, а он не спал, я ему сказал, что вы ждете дозволения герцога, а он сказал, что ждать не нужно, а нужно через час прийти к его обеденному залу, пока герцог завтракать будет, и тогда он вас представит.
— И все? — спросил Волков, чувствуя, что от волнения начинает гореть лицом.
— Нет, еще сказал, что вопрос ваш у него решен, — проговорил Максимилиан. — И чтобы вы не волновались. Сказал, что все будет по уговору.
— А что же за вопрос? — пылкий и шумный Бертье даже усидеть не мог на стуле, вскочил. — Ну, кавалер, расскажите!
Волков не говорил офицерам о награде, вернее, говорил, что награда будет, но не говорил им, какая именно. Даже Брюнхвальду, кажется, про землю не говорил.
— Узнаете, господа, — ответил он с напускным спокойствием, хотя у самого кипела кровь от волнения. Просто он вида не показывал. — Придет время, и узнаете.
Кавалер даже смог улыбнуться.
— Вот какой же вы холодный человек! — восхитился Бертье.
— Хладнокровие очень важное качество для офицера, — нравоучительно заметил ему Рене. — Вам, Гаэтан, есть чему поучиться у кавалера.
Но Волков только показывал, что он спокоен. На самом деле он волновался. Так волновался, что расхотел заканчивать завтрак, и, чтобы избавиться от гостей, крикнул:
— Еган, подавай одеваться.
Гости тут же встали и пошли из покоев, а Еган принес от прачки чистую и лучшую одежду господину. Кавалер оделся, стал осматривать себя, пока слуга держал для него зеркало. Колет, шитый серебром, был изумителен, панталоны в меру широки, из бархата. Сапоги решил не надевать, до замка недалеко, поедет в туфлях, авось грязи нет, не запачкается.
Перед тем, как ехать, он решил взглянуть и на своих людей, и был ими доволен. Даже неряха Сыч, и тот был чист и брит. А уж Максимилиан и вовсе был образцовым знаменосцем. Видно, Карл Брюнхвальд проследил за тем как выглядит сын.
Так и поехали. Дорога была не крута, но все время шла в гору.
Волков и офицеры разглядывали замок герцога и пришли к выводу, что в нем легко можно разместить и тысячу солдат — так велик был замок. И все сошлись на мнении, что этот замок штурмом не взять и что просидеть под ним можно годы — и все будет без толку.
Мост был опушен, и решетка поднята. Едва Максимилиан крикнул, что едет кавалер Фолькоф, офицеры и люди его, сержант сразу отошел с дороги, пропуская их и указывая рукой:
— Езжайте к восточной коновязи. Там гости ставят коней.
Двор был велик и мощен ровным камнем. На удивление чист. Даже под коновязями было чисто, словно лошади сами разумели чистоту. Такой чистоты Волков не видал ни при дворе де Приньи, ни при дворе архиепископа. Остальных тоже поразило это. И стены были выбелены, двери чистые, словно новые везде.
Тут же во дворе их встретил мажордом. Неюный муж солидного вида и с большой тростью, что была завершена серебряным набалдашником. Кроме серьезной трости о важности этого человека говорила не только добрая одежда, но и золотая цепь гульденов на двадцать.
— Я прибыл по приглашению барона фон Виттернауфа, — сказал Волков, бросая повода Сычу.
— Барон дожидается вас, — с едва заметным поклоном величаво отвечал мажордом.
— Ишь ты, серьезный какой, — тихо сказал Еган, — и не поклонится даже толком.
— И не говори, боится, спина переломиться, — согласился с ним Сыч, с интересом разглядывая цепь мажордома. — Вон сколько золота на себе носит, важная видать птица.
Они с Сычем так и остались при лошадях.
А всех остальных мажордом жестом пригласил следовать за ним. И все пошли. Шел он подлец так, что Волков едва поспевал за ним, непросто ему было хромать по высоким и вычищенным ступеням. Да еще если они не кончались. Подъем — коридор, подъем — коридор. Подъем — длинный коридор. Кавалер покрылся испариной, сжал губы в нитку. Ногу на ступенях стало выворачивать, словно он уже целый день ходил, становился он на нее все тяжелее. Но просить мажордома не спешить он не хотел. Не к лицу рыцарю божьему выглядеть немощным. А вот по шее мажордому он дать хотел. Но вряд ли бы это вышло, угнаться ему за ретивым мужем не было никакой возможности. Да и догони он его — сдержался бы. Ничего, он потерпит, не для того он здесь, чтобы слуг герцога задирать. Вот и шел он за мажордомом, сопя и стискивая зубы. Терпел боль в ноге и обиду в сердце.
Наконец, они пришли. Наверное, на четвертом этаже замка, в гулкой зале, с большим столом и огромным камином, мажордом остановился у больших дверей. Трижды стукнул в них посохом.
— Рыцарь Фолькоф к вам, барон! — звонко крикнул он.
— Проси, — донеслось из-за двери.
Волков подумал, что и герцог там, за дверью, быстро вытер пот с лица и пошел к двери, стараясь не хромать сильно. Мажордом услужливо открыл ему дверь, хотя это и должен был делать лакей.
Жестом пригласил его войти, бесцеремонно останавливая всех господ офицеров, что собирались следовать за кавалером.
Те послушно остановилась. Стали разглядывать гобелены на стенах. А Бертье не постеснялся, взял стеклянный кувшин со стола, потряс его и радостно сообщил:
— Господа — вино!
Рене, Брюнхвальд и Максимилиан ничего ему не ответили и смотрели на него осуждающе. Бертье вздохнул и поставил кувшин на стол.
Барон, как увидал кавалера, так встал из-за стола и развел руки для объятий, словно встретил старого друга.
— Кавалер, ну вот вы и добрались сюда. Рад вам, рад.
Они обнялись. И Волков, отстраняясь от барона, вдруг увидал на нем золотую цепь, еще более тяжелую, чем была на мажордоме. Заканчивалась цепь медалью с изображением подковы. Волков удивленно глядел на медаль и, указав на нее пальцем, спросил:
— Обер-шталмейстер?
Они уселись за стол.
— Да, — расплылся в улыбке барон. — Его Высочество счел, что мои старания заслуживают награды. И теперь я Первый Конюший двора. Но вы не волнуйтесь, кавалер, ваши старания тоже не остались без внимания. Герцог и канцлер приняли решение, правда…
Барон замялся, немного сморщился, как от неудовольствия.
— Что? Говорите, барон.
— Был у вас недоброжелатель. И многое он сказал против вас.
— Это обер-прокурор, — догадался Волков, вспоминая лицо графа на суде в Хоккенхайме.
— Да, это граф фон Вильбург, дядя нашего герцога.
— И что же за упреки он приводил?
— И то, что вы чинили неправедный суд в Хоккенхайме, и то, что вы разграбили Ференбург, и то, что вы убили лучшего чемпиона герцога в нелепом поединке.
Волков молчал, хотя ему было, что сказать на каждое из этих обвинений. А барон продолжал:
— Но на все это у меня был ответ, и тогда граф Вильбург высказал тезу, которую мне парировать было нечем.
— И что же это за теза?
— Вильгельм Георг фон Сольмс, граф Вильбурга, сказал, что вы рыцарь Божий и человек курфюрста Ланна и Фринланда, доброго брата нашего герцога.
Волков помолчал и спросил:
— А они что, и вправду братья?
— Да какой там, — барон наклонился к Волкову и зашептал, — курфюрст Ланна и Фринланда урожденный Вуперталь. Это древний род из старых дюков такой же, как и Бюловы или Филленбурги. В общем, все родовитые курфюрсты, чей род, хоть раз занимал императорский трон. Ребенрее ни разу не сидели на этом троне. А имя предков нашего герцога Мален. Двести лет назад о Маленах и не слышал никто. Имя Ребенрее они носят всего сто пятьдесят лет, — он поднял палец вверх: — Но не вздумайте это где-нибудь упомянуть, сразу наживете себе десяток влиятельных врагов.
Кавалер кивнул, и барон продолжил:
— В общем, мне нечего было ответить графу по поводу вашей преданности архиепископу Ланна. И герцог с канцлером сказали, что примут решение, поговорив с вами.
— И когда они хотят поговорить со мной? — спросил Волков, мрачнея.
Никогда, никогда и ничего не проходило в его жизни гладко.
— К концу завтрака, ко второй перемене блюд. То есть сейчас.
Барон встал, и Волков с трудом поднялся со стула. Ну, хоть не пришлось ждать. И то хорошо.
Глава 3
Они вышли из комнаты, вышли из богатой залы, захватив с собой всех пришедших с Волковым, и направились к столовой герцога. А путь к ней вел через длинный балкон, что тянулся на четвертом этаже замка вдоль восточной стены. Барон не спешил, как мажордом, видимо, из чувства такта, и Волков был ему благодарен.
Он все больше проникался расположением к этому человеку.
А на балконе, чем дальше они шли, тем больше было важных людей. Нобили, влиятельный горожане, придворные — они стояли группками и с интересом наблюдали за Волковым и его офицерами. Если кавалер глядел на них, то эти господа ему слегка кланялись, он так же отвечал им поклоном. А барон улыбался и кланялся всем. Видимо, знал тут каждого. Когда Волков и сопровождавшие его офицеры проходили, господа начинали шептаться им в след. А в конце коридора так и вовсе было не протолкнуться. Там стояли молодые люди, разодетые в меха, шелка и бархат, их пальцы были в золоте, и уже с десяти шагов кавалер почувствовал запах благовоний и духов. Все до единого были при оружии. У всех модные мечи с затейливыми гардами. Да и кинжалы у многих. Эти господа на вид были столь же прекрасны, как и опасны. Волков служил в гвардии герцога да Приньи, он знал, что это за люди. Они везде были одинаковыми. Только назывались по-разному, где-то они звались Молодым двором, где-то просто Выездом, а кое-где Чемпионами или Ближними рыцарями. Это были безземельные младшие сыновья, вечные участники рыцарских турниров, дуэлей, интриг и убийств. В общем, беспринципная, жадная свора опасных людей, которые ждут ласки синьора, ждут, что им выпадет удача и сюзерен даст им землю за какое-нибудь грязное дельце, или же им удастся выгодно жениться. В общем, опасная сволочь. От таких господ кавалер желал держаться подальше. Он старался пройти, даже не взглянув в их сторону. Так бы все и вышло, господа рыцари учтиво расступались перед бароном, который, видимо всех их знал. Если-бы один из них вдруг не сказал, обращаясь к Волкову:
— Извините, добрый господин, но ваше лицо, кажется мне знакомым. Мы нигде не встречались?
Всем пришлось остановиться, даже барону. Кавалер сразу узнал этого господина, но говорить с ним ему совсем не хотелось, он ответил:
— Наверное, мы встречались на юге. Я провел там двенадцать лет.
— Да нет же, я там не бывал, — продолжал молодой господин. Он нахмурил брови, вспоминая и не очень-то вежливо указывая на Волкова пальцем. — Вы, кажется, коннетабль из Рютте. Точно, вы служите у барона фон Рютте.
Волков не мог вспомнить имени этого господина, но несомненно помнил его лицо, он был одним из тех, кто приезжал в Рютте еще с двумя мерзавцами его убить. Он стоял и думал, что бы этому человеку ответить. Скорее всего, это была бы колкость, но ему не дал ее произнести барон:
— Господа, — громко сказал он, — этот добрый человек божий рыцарь Иероним Фолькоф. Он прибыл сюда по приглашению Его Высочества, чтобы получить награду, что он заслужил деяниями своими в Хоккенхайме.
— А, так это вы тот самый ловкач, что палил баб в Хоккенхайме? — язвительно поинтересовался один из рыцарей, высокий молодой красавец в роскошном берете с дорогим пером.
Его вопрос был встречен остальными господами с интересом и весельем.
А кавалер расценил этот вопрос как вызов. Ну а как иначе, слово «ловкач» в устах этого господина носило смысл уничижительный, даже презрительный. Безусловно, это был вызов. Вот только кавалеру не было понятно, этот господин хочет его проверить или хочет драться. И то и другое было возможно, от этих господ всего можно было ожидать. И теперь этот человек с вызывающей улыбкой ждал от него ответа.
И остальные заметно посмеивались. Тоже ждали, пребывали в любопытстве. На их благородных лицах играли надменные улыбки, усмешки, светились высокомерие и интерес. Но Волков знал, что им ответить. Никогда, да благословен будь Господь, что научил его читать, никогда он не лез за словом в карман. Глазами он нашел того, кто задал ему этот вопрос, сделал к нему шаг и спросил у него вкрадчиво:
— А не из тех ли вы господ, что мнят себя ведьмозаступниками?
— Что? — не понял сразу сути вопроса молодой господин, только что считавший себя удачным шутником.
— Не из тех ли вы господ, что считают, что к ведьмам надобно проявлять милосердие?
Шутник молчал удивленно, явно не ожидал он, что разговор так обернется.
— А может, вы считаете, что Матери Церкви нужна реформация? — повысил голос Волков, все еще сверля взглядом молодого рыцаря. И делая еще один шаг к нему.
— Да нет же, — промямли тот в ответ. — Это была шутка.
— Шутка? Вы шутите над Святой Инквизицией, которая спасет верующих от козней ведьм и ереси? — кавалер оглядывался и видел, как с лиц рыцарей исчезают улыбки, и с внутренним удовлетворением он продолжал, обращаясь к барону:
— Горько мне видеть, что среди рыцарей курфюрста, опоры трона императора, есть люди, для которых Матерь наша Святая Церковь является объектом шуток.
— Не огорчайтесь, друг мой, — сказал барон, взяв Волкова под руку и погрозив молодым придворным пальцем, — это глупцы, повесы. Попрошу нашего герцога сделать им внушение. Распоясались. Пойдемте, пойдемте, друг мой.
Больше ни один из рыцарей не произнес им в след ни одного слова.
Когда Волков и его офицеры оказались в отдельной комнате, где лакеи суетились подносами и кушаньями, а дверь на балкон за ними затворилась, Бертье перевел дух и сказал:
— Фу, прошел между ними, словно штурм стены отбил.
— Да уж… — многозначительно поддержал его Рене.
— Не волнуйтесь, господа, — произнес Брюнхвальд спокойно, — кавалер Фолькоф владеет словом не хуже, чем мечом или арбалетом.
— И, слава Богу, а я уж думал, что дуэли не избежать, — сказал Бертье. — А то я стоял среди этих господ, как будто голый среди стаи волков.
— Да уж… — повторил Рене.
А Брюнхвальд только посмеялся тихо, и его смех кавалер расценил как похвалу.
А барон тем временем ушел в обеденную залу, но тотчас вернулся и сказал важно и громко:
— Его Высочество курфюрст Ребенрее соблаговолит принять вас немедленно, кавалер.
Волков оправил одежду, сжал и разжал кулаки. Вздохнул и шагнул в столовую залу, барон сразу зашел за ним и прикрыл дверь.
Удивительные окна под потолок пропускали в залу много света. Там пахло кофе. Редкое зелье в этих северных краях. За столом, уставленным кушаньями, сидел один человек. Одет он был на удивление просто. Менее богато, чем лакей, стоявший за его спиной и намного менее богато господина в мехах, поверх которых лежала тяжелая золотая цепь. Господин в мехах и золоте читал сидевшему за столом документы ровно до той секунды, пока в залу не вошел Волков.
Чтец остановился и уставился на вошедших. Волков низко поклонился человеку, что сидел за столом. Лицо у того было выразительное. Глаза навыкат и внимательные. Нос, длинный нос был фамильным знаком Ребенрее. Даже дамы этого рода не могли избежать этой характерной родовой черты. А еще эта фамилия плохо переносила оспу. Болела этой болезнью тяжело. Вот и лицо герцога было изъедено этой болезнью.
— Рыцарь Божий, хранитель веры, коего многие заслуженно зовут Инквизитором, Иероним Фолькоф. — Представил Волкова барон.
Герцог и господин в мехах поклонились ему в ответ. Вернее, господин поклонился, а герцог выразил свою благосклонность милостивым кивком.
Барон начал расхваливать кавалера, говорил, что рыцарь, принял близко к сердцу то положение, в которое попал двор, и сделал все, что было можно, чтобы положение сие не усугубилось.
Он говорил и говорил, нахваливал, Волкова, рассказывал, что он претерпел, в Хоккенхайме, а герцог тем временем встал и, подойдя к Волкову вплотную, заглянул ему в лицо и спросил негромко:
— Так это вы убили моего лучшего рыцаря?
Барон замолчал. В зале стало тихо. И только кавалер стоял напротив герцога. Лицом к лицу. Мог, конечно, кавалер начать спрашивать мол, кого, когда. Но это было бы глупо и низко, словно он юлит и боится. И он ответил просто:
— На то была воля Божья.
— Божья? — на изъеденном оспой лице герцога появилась недобрая улыбка.
— Не я искал ссоры. Не я приехал к нему? — твердо сказал Волков. — Он искал меня.
— А арсенал, что вы разграбили в Ференбурге, тоже искал вас? — продолжал улыбаться курфюрст. — А храм там же тоже вас искал?
— Раку из кафедрального собора Ференбурга я забрал по велению епископа Вильбурга. Он дал мне денег и велел собрать людей, чтобы сделать это. А арсенал города я не грабил, я отбил его у рыцаря Левенбаха, врага вашего, и рыцаря этого я убил. В моем обозе его шатер. А то, что люди мои взяли себе что-то из арсенала, так пусть лучше им достанется, чем врагам Господа, еретикам. К тому же, одну пушку, отличную, новую полукартауну из хорошей бронзы через офицера вашего, я предал Вашему высочеству.
Герцог обернулся к господину в мехах и тот подтверждающее кивнул: «Да, было такое».
Курфюрст понимающе кивнул пару раз и сделал рукой жест: «Давайте, несите сюда».
Тут же господин в мехах взял со стола подушку черного бархата, та была покрыта шелковой тряпицей. Он сдернул тряпицу и понес ее герцогу. Волков сначала не мог понять, что там, а потом и разглядел: на черной подушке сияла белым цветом роскошная серебряная цепь из красивых медалей. С гербом дома Ребенрее в конце.
— Склоните голову, — тихо сказал барон.
И Волков наклонился. А герцог взял цепь с подушки и надел ее на шею кавалера. Вроде, и цепь та была великолепна, и стоила только в серебре, без работы, талеров пятьдесят, но все-таки думал кавалер, слоняясь еще ниже в поклоне, что денег из Хоккенхайма герцог получил столько, что и на золотую мог расщедриться.
Да, золотая цепь ему очень бы пошла.
А герцог тем временем вернулся за стол и заговорил:
— Барон уверяет меня, что вы и впредь будете полезны дому Ребенрее, мой канцлер тоже так считает.
Господин в мехах опять кивнул головой соглашаясь.
Барон взял в руку удивительную белоснежностью чашку с черно коричневой жидкостью.
А курфюрст продолжил:
— Они полагают, что лен будет хорошей платой за ваши деяния. Готовы вы принять лен и стать моим вассалом?
— Для меня великой наградой была бы и чашка кофе из ваших рук, Ваше Высочество. А уж земля, так будет для меня неискупимым долгом перед вами, — смиренно сказал Волков.
Все присутствующие, включая герцога, засмеялись. И герцог после этого сказал:
— Что ж, раз так, то и тянуть не будем. Канцлер уже подготовил бумаги и согласовал с нами землю, что вы получите.
Кровь зашумела в его ушах. Господи! Кажется ему это, сон это или явь? Кавалер едва не покачнулся. Не злая ли это шутка? Не шутят ли эти господа над ним? Он растерянно глядел то на герцога, то на канцлера, то на барона. Те улыбались ласково ему и были доброжелательны. Ни в чем не видал кавалер подвоха. Неужто все наяву?
Черт с ней, с цепью, пусть серебро, пусть ее совсем не будет, лишь бы не обманули с землей.
— Если вы согласитесь принять мое старшинство, мою синьорию, — продолжал курфюрст, — то дело за малым, остается только принести присягу.
— Ваше высочество, я готов принести ее прямо сейчас, — с трудом и сипло произнес кавалер.
— Нет, кавалер, — тут же сказал канцлер, — все должно быть по правилам. Для клятвы мы подготовили часовню, там, перед святыми образами, вы и будете клясться. Святые отцы и рыцари свидетели ждут нас.
— Я готов, — повторил Волков, взяв себя в руки и переборов волнение.
— Так не будем тянуть, — сказал герцог, вставая, — у нас сегодня еще много дел, не так ли, канцлер?
— Именно, — согласился господин в мехах и золоте.
Глава 4
Как и все в этом замке, часовня была светла и чиста. И поп был чист и благочинен. И служки, и даже мальчишки из хора были благовидны. В часовне не было амвона и не было кафедры, сразу перед образами расстелили ковер, на ковре стояло кресло, оббитое в цветах дома Ребенрее. Тут же перед ним лежала подушка. А народу в небольшую часовню набилось много, человек тридцать или сорок даже, разве всех сочтешь. И брат Ипполит каким-то образом сюда проник, стоял едва ли не в первом ряду. Осеняя святым знамением кавалера исподтишка. Офицеры, что пришли с кавалером, стояли в задних рядах, их ему видно не было. Сам он стоял рядом с попом, и поп ему что-то говорил милостиво улыбаясь. Волков, убей Бог, не понимал ни слова. То ли от духоты, что была в часовне, то ли от волнения. Он только кивал согласно и старался усмирить в себе кровь, что приливала к лицу и шумела в ушах. Но все тщетно. Разве можно быть спокойным человеку в такую минут.
Карл Оттон Четвертый герцог и курфюрст Ребенрее пришел в часовню в одежде, которую можно считать официальной. Только он, кроме попа, был в головном уборе, богатом берете черного бархата. Но его герцогу сняли, водрузив на голову небольшую, корону из золота. Сам он был в длинной собольей шубе, подбитой горностаями, поверх которой висела тяжелая и старая золотая цепь.
Гул в часовне сразу стих, как только он приклонил колено пред образами, перекрестился, поцеловал руку попу и сел в свое кресло. Канцлер встал рядом. А сразу за спиной у Волкова появился человек.
Стало тихо. Поп стал читать молитву. Читал расторопно, но внятно и хорошо. Все слушали, и где было нужно, крестились. И соглашались с попом: «Амэн».
Затем, красиво запел небольшой хор, и как только он стих, поп нараспев сказал, глядя на Волкова:
— Кто ты, человек добрый? Как нарекли тебя, и чьей ты семьи? Говори, как перед Господом говорить будешь, без утайки и лукавства или подлости.
— Назовите имя свое, — прошептал человек, стоявший за кавалером почти ему в ухо.
— Имя мое Фолькоф, а нарекли меня Иеронимом, — твердо, почти без волнения сказал он, он не хотел говорить другого.
— Имеешь ли ты достоинство, что дается по рождению, или берется доблестью? — продолжал поп.
— Говорите, что вы рыцарь, — шептал человек за спиной.
— Я рыцарь Божий. Достоинство рыцарское возложил на меня архиепископ Ланна.
— Подайте мне меч свой, — сказал поп. — Пред сеньором на клятве без оружия будьте.
Человек за спиной произнес:
— Отдайте слуге Господа меч с ножнами вместе.
Волков быстро отвязал ножны с мечом от пояса и передал их священнику.
— Ступайте сюда, — пригласил его канцлер, после этого указывая место на ковре перед троном.
И он собственноручно положил подушку у ног герцога.
— Поставьте колено на подушку, — шептал человек за спиной.
Волков подошел к подушке и не без труда опустил на нее колено здоровой ноги. Теперь он стоял пред герцогом на колене.
— Сложите руки в молитве, — шептал человек за спиной.
Волков повиновался, он сложил ладони перед собой, словно молил Бога.
И тогда герцог взял его ладони в свои руки, крепко сжал их и спросил, громко и четко выговаривая слова:
— Скажи мне, рыцарь, перед лицом других рыцарей, и нобилей, и других свободных людей, принимаешь ли ты мое старшинство?
— Громко скажите: «Принимаю», — послышался шепот за спиной.
— Принимаю! — повторил Волков.
— Принимаешь ли мой сеньорат над собой?
— Скажите громко: «Принимаю».
— Принимаю!
— Скажешь ли ты без утайки при других рыцарях, нобилях и при свободных людях, что я твой сеньор?
— Скажите: «Вы мой сеньор».
— Вы мой сеньор! — повторил кавалер.
— Клянешься ли, что будешь чтить меня как названного отца или старшего брата?
— Повторите дословно, — шептали из-за спины.
— Клянусь, что буду чтить вас как названного отца или старшего брата.
— Клянешься, что по первому зову моему, придешь ко мне конно, людно, оружно и станешь под знамя мое.
— Повторяйте дословно, — говорил человек, но Волков уже не прислушивался к нему.
— Клянусь, что приду по первому зову вашему конно, людно, оружно и встану под знамя ваше.
— Клянешься не замышлять против дома моего, людей моих, замков моих? Не служить врагам моим?
— Клянусь, не замышлять против дома вашего, людей ваших, замков ваших. Клянусь не служить врагам вашим.
— Клянешься быть знанием и советом со мной? Клянешься, что не утаишь от меня знаний своих и поможешь советом своим.
— Клянусь быть знанием и советом с вами. Клянусь, что не утаю знаний от вас и поделюсь советом с вами.
— Клянешься, что будешь мечом и щитом моим?
— Клянусь, что буду мечом и щитом вашим.
— Примешь ли суд мой, как суд отца своего.
— Приму суд ваш как суд отца своего.
Герцог сделал паузу, заглядывая кавалеру в глаза, видимо остался доволен смиренным взглядом Волкова и продолжил:
— Верую клятвам твоим, ибо сказаны они рыцарем, перед рыцарями, нобилем перед нобилями и свободным человеком перед свободными людьми. — произнес герцог. Он встал. — И даю тебе в лен землю, что с юга и востока омывается быстрыми водами реки Марты и что зовется Эшбахтом. Или как ее еще зовут Западным Шмитцингеном. И так и будет до дня, что держишь клятву ты.
Среди собравшихся в часовне прошел ропот удивления. Но Волков ничего уже не слышал. Он завороженно повторял про себя название своей земли: «Эшбахт. Эшбахт». Как удивительно и приятно оно звучало.
— Встань, друг и брат мой, — сказал курфюрст. — Отныне, пусть все зовут тебя Иероним Фолькоф господин Эшбахта. А ты будь добрым господином и справедливым судьей людям Эшбахта.
Он помог Волкову встать и дважды поцеловал его в щеки. И громко проговорил, обращаясь к собравшимся:
— Господа, перед вами Иероним фон Эшбахт.
Люди зашумели, Бертье звонко и неподобающе громко для церкви кричал: «Виват». Но кавалер не слышал ничего больше.
Не слышал он и хоров, что запели «Осанну» по такому случаю, и как громко, почти над головой ударили колокола в его, видимо, честь. Он почти не отвечал на поздравления, только стоял истуканом и улыбался, слегка кивая головой. И повторял про себя всего одну фразу: «Иероним Фолькоф фон Эшбахт. Иероним Фолькоф фон Эшбахт». Как удивительно и красиво теперь звучало его имя.
Он очнулся от своего чудесного забытья, когда стоял уже во дворе замка, окруженный своими и чужими людьми, среди них все еще было много вельмож, и все тех же рыцарей Молодого двора. Один из молодых придворных кричал ему:
— Послушайте… — он видимо хотел польстить Волкову, — Эшбахт, с вашей стороны было бы невежливым не устроить пир.
Остальные, особенно молодые рыцари Выезда, громко поддержали предложение своего товарища.
Волков согласно кивал, хотя страшно не хотел ни тратиться, ни пировать с этими господами, он для вида соглашался, но тут же оговаривал пир и, слава Богу, у него была такая возможность:
— Добрые господа, прошу заметить, что вино и пиво на пиру подаваться не может.
— И что ж это за пир без выпивки? — удалялись вельможи и рыцари.
— Господа, господа, — кавалер поднял палец как в назидание, — пост господа, не будем про него забывать. Пост. Надеюсь, что среди нас нет таких, кто ради радостей мирских готов рисковать бессмертной душой?
Лица господ рыцарей сразу стали кислы. А Волков продолжал:
— Думаю, что хорошие бобы с луговыми травами, репа, нежирный сыр, будут уместны за столом даже в пост, или… — Он оглядел собравшихся, — или я клянусь, что устрою настоящий пир с вином и медом, и самыми дорогими кушаньями, но только после поста.
— Уж лучше дождемся конца поста, — разочарованно соглашались придворные. — Репу, да бобы, пусть мужичье жует.
А тут пришел слуга, очень кстати, и сообщил ему, что его ожидает канцлер. И этим он избавил кавалера от продолжения этого неприятного разговора с этими неприятными людьми.
Лакей, это не мажордом, лакей шел не торопясь, чтобы господин Эшбахт не морщился на каждой высокой ступени замка. Он привел Волкова к большой зале, в которой находился огромный стол и стеллажи с книгами. Там его ждал человек в мехах и золоте, звали его Рудольф фон Венцель, фон Фезенклевер канцлер его высочества. Правда, меха он снял, оставив на себе только золото. Он, несмотря на утро, уже поигрывал вином в высоком стакане. И увидав кавалера, заговорил, тон его был скорее деловой, чем приятельский:
— Проходите, Фолькоф, вина?
— Нет. Спасибо.
— Ну и прекрасно, — он жестом предложил Волкову пройти к огромному столу, что тянулся вдоль всей залы.
На столе расторопный молодой человек раскладывал карту.
Постучав по карте ладонью, фон Венцель произнес:
— Все это земля нашего господина, она обширна и местами богата.
А вот и ваша земля, — он ткнул в самый край карты перстом в хорошем перстне.
О, это было самое интересное, что только могло быть. Кавалер стал разглядывать свою землю.
— Ваша земля обширна, так как обширно не всякое графство, — продолжал канцлер. — Смотрите, — он водил пальцем, — с севера на юг, миль тридцать, день пути всадника. А с запада на восток полдня, не меньше, ну или чуть меньше…
— Мои владения огромны! — негромко произнес Волков, разглядывая карту с замиранием сердца. — не знаю даже, как и отблагодарить сеньора.
— Вам обязательно представится возможность это сделать, — заверил его фон Вецель, глядя на кавалера едва не с усмешкой, и продолжая, — владения ваши с востока через реку Марту граничат с Фриландом. Герцоги Фриланды семьдесят лет самонадеянно считают вашу землю своей и называют ее Западный Шмитценген.
Волков глядел на канцлера удивленно, и тот, заметив удивление, опять усмехнулся и продолжил:
— Река по низине поворачивает на запад, огибая вашу землю с юга, за ней, — он сделал паузу, и опять пальцем в перстне стал стучать по карте, — за ней свободные кантоны. Горцы.
— Еретики! — догадался Волков.
— Да, свободные кантоны стали прибежищем всем безбожникам, но и праведные люди там тоже живут.
Волков стал, кажется, догадываться. Не могло быть все гладко. Не могло! Ну, а с чего бы ему в лен дали такую большую землю. Столько лет он пытался отвязаться, убежать от войны, стать помещиком или бюргером или… да кем угодно, лишь бы больше не видеть оружия. Но его тянули и тянули назад, на коня и в доспехи. Его настроение сразу ухудшилось, он спросил мрачно:
— И моей земле, придется быть аванпостом на юге?
— Ни в коем случае, — твердо сказал канцлер, — слышите, ни в коем случае вы не должны враждовать с кантонами.
У кавалера камень упал с сердца. И он уточнил:
— То есть, мне не придется воевать?
— Только не с соседями, — канцлер положил руку ему на плечо и продолжал, — дом Ребенрее воюет двадцать лет, еще отец нашего сюзерена начал воевать, помогая императору, сначала в южных войнах, потом в войнах с еретиками. Дом оскудел, дом изможден, если все пойдет хорошо, то герцогу удастся расплатиться с долгами только через одиннадцать лет. И дорогой мой Эшбахт, самое меньшее, что нам сейчас нужно, так это то, чтобы какой-то вассал устроил нам новую войну с кантонами. Надеюсь, вы меня поняли?
— Я сам устал от войн, — сказал Волков. — И давно мечтаю хоть немного пожить в мире.
— Хоть немного пожить в мире, — повторил фон Венцель. — Да, да. О большем я и просить вас не смею, — улыбаясь, произнес канцлер.
Глава 5
— С запада от вас проживают два барона и несколько мелких владетелей, люди все хорошие, верные слуги нашего герцога. Один из них мой старший брат Георг фон Фезенклевер. Он будет рад хорошему соседу. Ну а на севере от вас земли графа фон Малена. Кстати, ваша земля входит в его графство. В случае войны сбор поместного ополчения проводит он, он же и дает оценку вам. Добрейший старик хлебосольный, но первый раз постарайтесь предстать пред ним бравым и во всей красе, очень он любит рыцарей и чтобы послуживцы у них были добрые, и кони, и доспех. Если есть возможность, прибудьте к нему в полном копье, он возлюбит вас как сына, тем более что с родными сыновьями у него долгие распри.
Кавалер понимающе кивал, он мог собрать полное рыцарское копье сам, выступая рыцарем. Хотя рыцарским копьем как оружием он не владел вообще. И не пробовал никогда даже. Коней, доспехов и оружия у него хватало. Вот только мужик Еган никак не тянул на боевого послуживца, как и Сыч, разве что Максимилианом сошел бы за второго оруженосца, но кто их будет проверять под доспехом, если войны не предвидится. Все будут в хорошем доспехе, на хороших лошадях, с хорошим оружием. Как говориться, он прибудет к графу конно, людно и оружно. Четыре закованных в латы всадника — это, считай, копье.
— Но это только для показа? — уточнил Волков.
— Только для показа, покажитесь графу во всей красе и все, — подтвердил канцлер, — до графа доведены пожелания герцога, как и до вас — хранить мир всеми силами.
Кавалер кивнул. Это его устраивало. Но он уточнил:
— А не будут ли злы соседи, не будут ли покушаться? Вы говорили, что Фринланды считают эту землю своею.
Канцлер поглядел на него, как галдят на дитя неразумное, вздохнул и произнес:
— Дорогой мой Эшбахт, скажу вам честно, будь ваша земля богата, так иссушили бы они нас своими придирками. А ваша земля не богата, хоть и обширна. Пашен в ней мало, лугов и покосов немного, лесов тоже немного. Так, что вспоминают они о ней больше для острастки в переговорах, чем по делу. Не волнуйтесь, никто на вас не покуситься.
Вот и новость. Он не нашелся, что сказать. Вот так вот. Земля у него обширна и бедна. Он сначала даже расстроился, услыхав это, но тут же одумался. Да как бы бедна она не была, всяко и пашни есть и луга и леса, хоть всего этого и немного, но не отказываться же. Ничего-ничего, он хозяин рачительный, всегда был таким. Он и из малого сделает хорошо. Лишь бы… Да-да, самое главное он чуть не упустил!
— А мужики там в крепости? — спросил Волков. — И сколько их?
— Все в крепости, — ответил канцлер, но как-то странно. Вроде, даже отвернулся от кавалера. — Но сколько их, я сказать не берусь. Семь лет назад и пять лет назад еретики из кантонов дважды ходили на Мален, второй раз взяли его. И ходили через вашу землю. А потом там чума прошлась немилосердно, а прошлый год так и вовсе дождями все смыл, там вдоль реки, по востоку вашей земли болота стояли. И сколько там сейчас мужиков живет, не знаю. Поедите и посчитаете.
Волков был человеком недоверчивым. Столько раз его обманывали, уж научился. Кавалер потихоньку стал распознавать лицемерие, ложь или недосказанность. И теперь чувствовал, что канцлер ему не говорит правду.
— А отчего же у этой земли нет хозяина? — спросил он.
— Так был один человек. Дали ему лен три года назад. Звал его граф на смотр, не приходил. Говорил, что болен. А когда два года назад начался мятеж в Ференбурге, усмирить его надобно было, его позвал герцог, так он опять не пришел, сказал, что коня у него нет. Герцог и граф ему сказали о неудовольствии, а у него как раз и жена погибла, так он и вовсе бросил лен и уехал за реку, на юг, к еретикам подался.
Волков понимающе кивал и, когда канцлер, закончил он спросил:
— Значит, земля моя небогата?
— Дорогой мой Эшбахт, отчего же ей быть богатой, если земля ваша это предгорья. Камень повсюду, овраги от весенних вод. Но доход она может давать, всегда давала, хоть и не большой.
Вот теперь канцлер, кажется, не врал. Небольшой так небольшой. Пусть так, Волков кивнул понимающе. Он был уверен, что справиться, он не боится трудностей, он готов взять эту землю. Лишь бы мужички были. Тем более что, если там когда то был хозяин, может, и замок какой-никакой от него остался.
— До города Малена отсюда полтора дня пути, а от него еще полдня и граница ваших владений. — продолжал канцлер. — В Малене найдите имперского землемера Куртца, он поедет с вами и покажет вам всю вашу землю.
— Имперский землемер? — удивился Волков.
— Именно, все земли империи, что граничат с соседними государствами, всегда показывает имперский чиновник. Чтобы не было лишних споров и конфликтов с соседями. Императору, как и нашему герцогу, совсем не нужны сейчас лишние войны. Поэтому ваши владения вам и покажет имперский землемер. Вот письмо для него.
Канцлер протянул кавалеру свиток.
— А это вам, — он протянул Волкову еще один свиток, только с печатью и лентой, — это вассальный пакт, подтверждающий ваше владение землей.
Волков с поклоном взял свиток.
— Вы уже вписаны в реестр земли Ребенрее как землевладелец. И в вассальный статут нашего курфюрста. Езжайте, друг мой, владейте своей землей и помните главное — меньше всего сейчас дому Ребенрее нужны новые войны. Храните мир с соседями, какими бы они ни были. Кстати, будете в Малене — посетите Епископа Маленского, отца Теодора. Предобрейший человек. Передайте от меня поклон.
На том дело было и кончено. Иероним Фолькоф, рыцарь Божий и господин Эшбахта, забрал у канцлера свои бумаги и письмо к имперскому землемеру и откланялся. Вышел из залы, и еще постоял рядом с дверью. Перечитывал свой пакт. Рассматривал печати. И был, кажется, поначалу всем доволен. Но потом задумался.
Брюнхвальд и все остальные очень хотели знать, что делал кавалер Волков так долго у канцлера, но Волков сел на лошадь молча, и всю дорогу до трактира задумчиво молчал.
Никто его тревожить не решился, только когда он уселся внизу в общей столовой, а не пошел к себе в покои, Брюнхвальд отважился его спросить:
— Кавалер, от чего вы так задумчивы?
Волков положил пред ним на стол свиток, мол, читайте.
Брюнхвальд взял его с благоговением, прочел внимательно и сказал:
— Так отчего же вы грустите? Получи такой свиток, я бы благодарил Бога до конца дней.
Офицеры Рене и Бертье брали свиток и тоже читали, даже монах и Максимилиан заглядывали им через плечо, тоже желая знать, что там написано. Все были в восторге.
— Дьявол, что нужно сделать, чтобы получать лен? Я готов на все! — заявлял пылкий Бертье. — Да вот до сих пор случая не представилось. Ни разу мне никто такого не предлагал.
А вот серьезный и взрослый Рене молчал и шевели губами.
— Так чем же вы огорчены? — все не понимал Брюнхвальд, садясь за стол напротив Волкова.
— Ничем, добрый друг мой, ничем, просто задумчив я, — отвечал Волков, — отчего же мне грустить, разве от того, что земля моя велика, но не богата, оказывается, так пусть, мне много и не надо.
— А найдется ли на вашей земле место, где я мог бы поставить сыроварню, и выпас, где я мог бы пасти коров? На выгодных для вас, кавалер, условиях, конечно? — спросил Брюнхвальд.
— Сыроварню? — удивился Волков.
— Вы же знаете, что я женился недавно, и жена моя, Гертруда, держит сыроварню в городе Альк, — пояснил Брюнхвальд, — вы ж знаете мою жену?
— Конечно, конечно заню, — все еще удивленно говорил кавалер.
— В городе, после суда, люди ей больше не рады, — невесело сказал Брюнхвальд, — мы решили продать сыроварню и уехать. Думали переехать в Ланн, там и поставить сыроварню, но глава цеха сыроваров Ланна сказал, что за вступление в цех нужно будет внести в цеховую казну пятьсот сорок талеров и платить в цех десятину. И это не считая городских налогов и налогов церковных. В общем, я подумал, что вы, может, не будете против, если я поставлю сыроварню на вашей земле и арендую у вас выпас для десятка коров или, может, дюжины…
Волков помолчал немного и, видя, что Брюнхвальд, да и Рене с Бертье тоже ждут его ответа, сказал:
— Друг мой, сегодня Бог щедр ко мне, почту за честь помочь вам. Я рад, что вы поедете со мной.
— Человек, — звонко крикнул Брюнхвальд, — вина нам! Немедля!
— Ах, как это здорово, господа, — говорил Бертье. — А что же нам с Рене делать?
Волкову захотелось сделать что-то и для этих офицеров хорошее, и он произнес:
— Господа, с сего часа считаю, что контракт ваш закончен, вы и ваши люди свободны от обязательств передо мной. Забирайте провиант, все бобы и весь горох, остатки солонины, там еще бочонок свиного сала жира есть… Муку тоже забирайте. Соль. Это вам подарок от меня, вы свободны. Этого вашим людям должно хватить на две недели.
— О, это очень щедро, — сказал Рене и поклонился. — Нам это точно не помешает. Наши люди будут вам благодарно, господин кавалер. Храни вас Бог.
А Бертье вдруг фыркнул весело и, кажется, раздраженно, схватил Рене за рукав и потащил от стола прочь. Они стали в темном углу и молодой Бертье стал о чем-то горячо говорить Рене, безжалостно тыча ему в живот пальцем. Тот смотрел на него и молчал, внимательно слушал и пытался отвести от себя палец товарища.
А на стол, расторопный лакей поставил уже кувшин с вином и стаканы. Появилась и Агнес, она, не спрашивая разрешения, села за стол рядом с Волковым, совсем близко к нему, неуместно близко, и опять же без разрешения взяла свиток владения. Прочла и положила его на стол.
— И что, не порадуешься новости такой? — спросил у нее кавалер.
— Так то для вас новость. — сказал девушка с улыбкой и свысока глянула на своего господина. — А для меня и не новость это. Всегда про то знала наперед.
Пока Волков смотрел на нее удивленно, а она потянулась за стаканом с вином и рукой своей, как-бы невзначай, оперлась на его бедро. Так не всякая жена ведет себя с мужем. И все это при людях его, при Егане, Сыче, Максимилиане и монахе, что все еще стояли у стола. Может, и не видели они этого, но Волков ее руку со своей ноги скинул без всякого почтения. Чтобы не думала себе ничего.
А она только засмеялась и стала пить вино, глядя на него поверх стакана. И все вокруг видели, какая она стала, и злая, и смелая, и даже красивая.
Волков глядел на нее и удивлялся про себя. И не замечал он изменений этих прежде. Нищенская худоба ушла. Губы полны, красны. И грудь под платьем заметна стала. Волосы чисты и ухожены, сложены затейливо под богатый чепец. Да и не чепец это, это дорогой гребень под шелковым шарфом. Последнее время она вся стала заметно круглее, добрая еда у господина, хорошая одежда, уход — все красило ее. Даже косоглазие, кажется, стало менее заметным. Откуда только взялась вся эта приятность в ней.
Пока он глядел на нее удивленно да думал о ней еще более удивленно, Бертье и Рене договорились и подошли к столу. И Бертье заговорил, как всегда горячо и быстро, и от того его акцент стал еще более заметен.
— Кавалер! Мы с моим другом Арисбальдусом Рене договорились вас просить.
— О чем же, господа? — спросил Волков, горячо надеясь, что денег они у него просить не будут.
— Раз ротмистру Брюнхвальду вы предоставляете землю под сыроварню, значит дозволите и дом поставить на своей земле.
— Ну а как же женатому человеку без дома? Дом ему обязательно нужен, — сказал кавалер.
— А может, и нам позволите у вас жить, домов у нас нет, ни у меня, ни у Рене. Может, и мы в земле вашей дома поставим? И мы будем добрыми соседями Брюнхвальду.
— Глупцом нужно быть, чтобы отказаться от двух хороших офицеров, — обрадовался кавалер, что у него не попросили денег. И от радости сам предложил. — Господа, коли пойдете жить в мою землю, возьмете и вы, Карл, и вы, господа, камня, глины и леса столько, сколько на добрый дом идет, и все бесплатно, коли есть все это в моей земле.
Рене и Бертье переглянулись, а Брюнхвальд и вовсе рот раскрыл.
— Так вы не шутите кавалер? — уточнил Бертье.
— К дьяволу, какие еще могут быть шутки, — сказал за Волкова неожиданно разгорячившийся Брюнхвальд. — Кавалер никогда так не шутит.
— Тогда выпьем, господа! — заорал Бертье стащил с головы шляпу и подкинул ее к потолку.
Уже поздно вечером, кутеж стоял в трактире, и музыканты играли уже из последних сил, а стол Волкова был залит вином, так как не раз на него опрокидывали кувшины и стаканы, пьяные руки, которые пытались обнять его. Рене вскакивая орал песни, хлопая пьяного Брюнхвальда по плечу, и даже монах брат Ипполит был изрядно навеселе. И когда пьяный Арисбальдус Рене тыкал пьяного Волкова в грудь пальцем и непрестанно повторял: «Вы очень хороший человек, господин Фолькоф».
Тут в трактир вошли два господина. То были рыцари из Выезда герцога, молодые и бедные. Один из их сразу заприметил веселье и, указав на стол, за которым сидели господа офицеры и новоиспеченный помещик, сказал:
— А не тот ли это святоша, что отказал нам в пире, сославшись на пост?
— Точно, это он, хитрый мерзавец, — ответил второй. — Этот святоша предлагал нам подождать до конца поста. Сам, видимо, не дождался.
— Пойдем-ка к нему, — сказал первый.
Они двинулись к столу, то ли хотели погулять, то ли затеять ссору, но Волков уже встал из-за стола, веселая Агнес и Еган с Сычом помогли ему подняться и повели его по лестнице в покои. Кавалер неумело пел ту же песню, что пел Бертье, он и так и не узнал, чем в тот вечер все закончилось.
Агнес и Еган довели господина своего до покоев, Еган дверь открыл и хотел пройти внутрь вместе с хозяином, но Агнес вдруг дорогу ему перегородила. И сказала:
— Ступай, я сама.
— Так я его уложить… Пьян он.
Начал было слуга, но девица как рявкнет на него:
— Вижу, что пьян. Сказала же, сама!
И глядит на Егана, а из глаз злоба такая, что обжечь может.
Он и побоялся перечить.
И Агнес закрыла дверь на ключ, и господина не удержала. Попробуй удержать его, он едва меньше коня. Тот и упал с грохотом на пол. Да забурчал что-то пьяно. А девица залилась смехом. И в правду смешно было. Кое-как, с трудом подняла его да дотащила до кровати. Повалила его навзничь, встала рядом. Щеки горят, дышит часто. Стоит на него смотрит. А потом взялась все свечи к комнате поджечь, пока поджигала, платье с себя скинула. И башмачки сафьяновые. И нижнюю рубаху скинула и волосы освободила. Теперь вся одежа и валялась по комнате. Как свечи были зажжены, так она нагая и простоволосая подошла к кровати. Не без труда перевернула господина своего на спину, залезла, рядом с ним стала на колени. В лицо ему стала смотреть. И все нравилось ее в нем, ничего, что пьян, что вином разит, ничего, ей он и такой по нраву. Она хотела уже лизнуть его лицо, да вдруг в колене больно стало. Она опустила руку, что там под коленом? И вытащила на свет ключ. То не простой был ключ, тот ключ выпал из кошеля господина. И был тот ключ от заветного его сундука. И от этого она в лице изменилась сразу. Уж и румянец почти спал с лица. Она то на господина поглядит, то на сундук, что стоял в углу, в темноте за кроватью. И решиться не могла. И тайные страсти разрывали девицу. Не знала, что выбрать.
И так сидела она и сидела, и все-таки решилась. Господин, конечно, ей интересен был, волновал ей кровь, хотя и злил ее изрядно, но… Не сегодня…
Она сползла с кровати и села у сундука. Легко, отперла его и не без труда, отварила крышку. Заглянула внутрь, поднеся к сундуку свечу. И там, на дне в темноте в не завязанном, расползшемся кошеле мерцало желтым золото. О, она очень любила золото, может, даже больше, чем почести и уважение, и в другой раз не удержалась бы, но не сейчас. Девушка запустила руку в темноту и с замиранием сердца нащупала там благородную нежность бархата. Да, да, да… Это было именно то, что она искала. Чего она вожделел больше, чем своего господина. Она потянули из сундука тяжелый мешок синено бархата. Вытянула и вытряхнула из него на перину рядом со спящим кавалером голубоватый шар. Она уселась поудобней, взяла шар в руки. Дураки считали, что он холодный, нет, он был теплый. Дураки говорили, что от него тошнит, если в него глядеть, а у нее от этого только приятно кружилась голова. Она даже не взглянула больше на господина своего, что спал рядом. Ее плечи передернулись от приятных мурашек, и она заглянула в шар. И начала улыбаться.
Глава 6
Ни секунды Волков не сомневался, что мошенник ему врет. А тот не отступал, делал серьезное лицо и говорил:
— Господин хороший, да как же так, наели, напили и теперь платить не хотите.
— Талер сорок два крейцера? — в который раз спрашивал кавалер. — Что ж мы ели у тебя? Чего в твоей дыре можно наесть на талер и сорок два крейцера?
— Так вы пили много, руки устали вам вино носить, вы то ушли, а ваши дружки, да гости, требовали и требовали вина. Едва к утру разошлись. У меня уже спину ломит, а ваши все кричат: «Трактирщик, вина тащи». И вино все лучшее просят. А я им говорю: «Господа, ночь на дворе, вы за выпитое еще не заплатили», а они угрожать, звали меня по скверному, и все одно, требовали вина. А я людишек-то своих отпустил и носил им вино сам, а у меня спина болит, думаете, моей спине полезно в погреб и обратно по десять раз за ночь, лазить. У меня спина…
— Заткнись ты со своей спиной, — морщился Волков, закрывая глаза ладонью. Голова его вот-вот должна была треснуть. — Вино твое — дрянь, от него помереть можно. Не может оно столько стоить.
Он зажмуривается. А глаза у него все равно болят. Лучше бы пиво вчера пили, и голова бы не так болела, и денег этот мошенник просил бы в два раза меньше.
Вошел Еган, и бесцеремонно отодвинув трактирщика, поставил пред господином чашку с густым супом и кружку с пивом.
— Ешьте, поможет, — обещал он и пояснил, — похлебка, чечевица на говядине и пиво. В раз оживете.
Волков нехотя взял ложку.
— Господин хороший, — загнусавил трактирщик, — ну так как же насчет талера и сорока двух крейцеров?
— Заплачу, уйди, — простонал Волков.
А Еган стал выпихивать трактирщика из комнаты, приговаривая:
— Иди, дядя, иди, не доводи до греха, хозяин мой добрый-добрый, а осерчает — так даст, что голова прочь отлетит.
— А деньги? — ныл трактирщик.
— Будут тебе деньги, потом, иди пока что.
Выпроводив трактирщика, он запер дверь и подошел к столу. И сказал со знанием дела:
— Вы похлебку-то кушайте, и пиво пейте, иначе не отпустит.
— А кто у меня был ночью? — спросил кавалер и, собравшись с силами, сделал два больших глотка из кружки.
— Был? У вас? — спросил Еган.
Но спросил он это так неловко, что Волков сразу заметил фальшь. Хоть и больной, но все видит.
— Наблевано возле кровати, — произнес Волков.
— Так может это вы, — говорил Еган, стараясь не смотреть на кавалера.
А тот так и сверлил слугу больными глазами. И ведь не отвернется, не поморщится, так и смотрит. Глаз не отводит.
— Так может то вы? — предложил Еган нерешительно и со вздохом.
— Дурак, — рявкнул господин, и встрепенулся. И тут же поморщился от приступа боли в голове. И переждав ее продолжил. — Дурак! Говорю, со мной такого не было с детства, как в лучниках пить начал, так не было такого. Говори, кто был у меня ночью?
— Может, Агнес была, — нехотя ответил слуга.
В это «может» Волков опять не поверил. Не умел Еган врать.
— Агнес была тут ночью? — уточнил кавалер.
— Да, вроде, — сказал Еган и начал подбирать с пола вещи господина.
Хоть и было ему тяжко, кавалер сразу встал, сразу нашел кошель свой, достал из него ключ, и к сундуку пошел. Переступая через наблеванное, подошел к сундуку, раскрыл его, и только тогда успокоился, когда нашел шар на своем месте. Он и золотишко проверил. На «глаз», так и оно было целым.
Пошел за стол, сел, еще выпил пива. А Еган на него косится и, вроде как даже доволен, чертяка, что господин волновался. Радуется про себя.
— Как пьян буду, — сказал Волков, — так до меня ее не пускай. Понял?
— Да попробуй ее не пусти, — кисло отвечал слуга.
— Бабы боишься? — заорал вдруг кавалер, опять поморщился от боли, но не унялся, и продолжил орать. — Да не бабы боишься, девки, что от тебя в половину будет.
— Да не баба она, и не девка, сатана она злобная, — вдруг храбро забубнил слуга, — и не я ее боюсь, а все ее боятся. Один вы, от глупой храбрости своей, ничего не боитесь, видно всю боязнь вам на войнах вместе с головой отбили, и не видите, что она демоница злобная, ведьмища… Погубит она вас. Она же…
— Заткнись, — зашипел на него Волков, и грохнул кулаком по столу, — прикуси язык. Дурак деревенский. Раскудахтался. Чтобы слов таких я не слышал. Сам подлец — трус, так хоть других не пугай. Пошел вон отсюда.
Еган подошел к двери и сказал:
— Бедой от нее несет, как от падали тухлятиной, вы может и принюхались уже, а другие-то чувствуют.
— Убирайся, — зло сказал Волков. — И язык свой прикуси.
Прежде чем выйти, слуга добавил:
— Господа офицеры вас с утра дожидаются. Сказать им что?
— Умываться неси, — все еще не по-доброму говорил кавалер, — и одежду чистую.
То ли пиво подействовало, то ли похлебка, а может и просто здоровье его крепкое, но через пол часа кавалер спустился вниз вполне бодрым и в чистой одежде.
Господа офицеры встали из-за стола, когда он пришел к ним. И тоже они не все были бодры. Брюнхвальд был зелен лицом, а Бертье грустно морщился, словно проглотил что-то невыносимо кислое. Только не молодой уже Рене был свеж и подтянут, словно и не пил вчера, он и начал разговор после взаимных приветствий.
— Кавалер, поутру мы сказали своим людям, что вы им от щедрот своих передали все продовольствие, что есть у вас в обозе. Они были превелико рады, благодарят вас.
Волков этим словам ротмистра удивился. Он этого припомнить не мог. Неужто он отдал три телеги продовольствия «за здорово живешь». Но удивился он про себя, все равно, обратно ведь не попросишь. Поэтому продолжал слушать.
— И когда мы людям нашим сказали, что вы даете нам землю под дома бесплатно, — продолжал Арсибальдус Рене, — и обещаете помощь, наши люди собрались, поговорили, и решили спросить вас, а не будет ли на вашей земле еще места и для них?
— Земля моя огромна, — ответил Волков, чуть подумав, он как раз был бы не против, если бы хорошие солдаты поселились бы на его земле. Вот только… — Но, сколько их, многим я помочь не смогу.
— Много, — сказал Рене, — те солдаты, что имеют семьи и дома, решили идти к себе, воевать вроде никто из здешних господ не собирается, работы нам нет, а те, кому идти некуда просят у вас дозволения жить на вашей земле.
— Так, сколько же их, сколько? — не мог понять Волков.
— Сто двадцать шесть человек, — сказал Рене, и тут же словно испугался, такой большой цифры, стал Волкова заверять. — Люди, люди все очень хорошие. Послушные, смирные, лодырей и воров мы никогда не держали, — он кивнул на Бертье. — Гаэтан не даст соврать. И солдаты крепкие, арбалетчики есть и аркебузиры.
Сто двадцать человек солдат?! Нет, нет и еще раз нет! Это пусть господа ротмистры кому другому про смирных и послушных солдат говорят, но уж точно не ему. Волков сидел и молчал, он знал, что смирение и кротость солдат длится совсем не долго. Тяжело быть кротким, когда тебе хочется есть, а нечего, и у тебя на поясе тесак, которым ты умеешь, и главное не боишься, пользоваться.
Он прекрасно помнил свою молодость, и как на юге солдаты из его баталии, взбешенные трехмесячным отсутствием жалования, на алебарды подняли собственного капитана, думая, что он зажимал их деньги. Да еще отрубили пальцы сержанту, что пытался их остановить. Капитана раздели и бросили в канаву собакам. Его палатку и личные телеги разграбили. Денег правда не нашли, но не сильно расстроились, тут же выбрали из ротмистров нового капитана, и нанялись служить новому господину.
Нет, столько ратных людей ему точно было не нужно, и он сказал:
— Я бы рад всех ваших людей взять себе в землю, да только сказали мне, что земля моя скудна, и помочь я ничем им не смогу. Не смогу дать им ни ремесла, ни прокорма с земли. Если вам, господа, я обещал, что все, что нужно для постройки дома вы возьмете из земли моей бесплатно, то на такую ораву мне может и не хватить.
— А так им ничего и не нужно, — почему-то обрадовался Рене, — они сами себе все соберут и соорудят, и инструмент у нас есть, и умение. Только дозволение жить на вашей земле надобно.
Волков глянул на других господ офицеров. Бертье, хоть и не весел был от болезни, согласно кивал головой, и Брюнхвальд вроде был не против. Ну как тут было отказать.
— Скажите людям своим, что я строг, — решил припугнуть он. — И шалостей в своей земле не допущу.
— Так все про то знают, — заверил его Арсибальдус Рене, — все знают, что нрав у вас нелегок. Но все знают, что вы добры и честны.
«Дурь какая-то, — подумал кавалер, — кто это думает, что я добр?»
Но иного ответа, как согласие, он дать уже не мог, Рене Бертье откровенно радовались и даже Карл Брюнхвальд улыбался.
— Скажите людям своим, что дозволю я жить им на своей земле, — произнес Волков, уже о дозволении своем сожалея.
И тут он понял, что господа, кроме дозволения его ждут еще кое-чего и крикнул лакею:
— Эй, человек, подавай сюда завтрак.
Все три ротмистра и Рене, и Бертье, и Брюнхвальд сразу оживились и обрадовались, как услышали эти его слова.
Хоть он и поел похлебки, но от хорошего мягкого козьего сыра и меда не отказался, да и от яиц с белым хлебом тоже, и господа офицеры не отставали. Болезнь болезнью, а в дорогу нужно поесть.
А тут появилась и Агнес. Куда только служанка ее смотрела. Платье в пятнах, видно и рубаха под ним скомкана, сама бела как мел, волосы не чесаны, вокруг глаз круги и так черны, словно углями их рисовали. А губы серые и сама не красива. Пришла, села на край лавки, как всегда позволения не спросив. Господа офицеры чинно встали, кланялись, а она и не глянула на них. Они поулыбались глядя на цвет ее лица, да продолжили завтрак, а она тоже есть попыталась. Взяла хлеб, да сыр: нет, не пошло. Подумала молока попить, но тоже не по нраву оно пришлось. Сидела, поджав губы. На весь свет в обиде.
И тогда кавалер ее позвал к себе, поманил пальцем. Нехотя встала, подошла, спросила:
— Ну?
— Что делала в покоях моих? — шепотом и зло спросил он.
Она глянула на него устало, и ответила хоть и тихо, но наголо:
— Спала, а что ж там еще делать.
— Доиграешься, дрянь, — бледнея и теперь уже не от болезни винной, сказал он, — ох, доиграешься.
Пальцем по краю стола постучал:
— Выпей пива, поешь и собирайся, как колокола от заутренней прозвонят, так чтобы в карете была. Едем.
— Куда?! — воскликнула девушка.
— В Мален, — зло ответил ей кавалер.
— Не могу я, дурно мне, хворая я, — заныла Агнес, — мне суп служанка варит, мне ванну лакей готовит, воду греет. У меня рубах чистых нет.
— В грязных поедешь, — заорал Волков.
Господа офицеры, да и прочий люд, что был в трактире, изо всех сил старался не смотреть в их сторону, уж больно страшно орал кавалер:
— Без ванны и без супа! И как заутреня отзвонит, чтобы в карете была, иначе, клянусь распятием, поднимусь к тебе в покои и провожу до кареты плетью. Слышала? Отвечай!
Агнес завыла протяжно, запрокинула голову к потолку, слезы потекли из ее глаз. Очень ей было обидно, что господин так с нею при людях говорит, и побежала в свои покои. Злиться, рыдать и собираться.
Глава 7
Уже ближе к вечеру Карл Брюнхвальд ехал со своим сыном чуть впереди Волкова. И на небольшом подъеме поравнялся с большой телегой, что везла здоровенные корзины с древесным углем. Карл спросил у мужика-возницы, указывая на юг плетью:
— Человек, а не город ли там, что зовется Мален?
— Именно, господин, — мужик оглянулся, поклонился и, увидав пеших и конных людей во множестве да еще с обозом и каретою, повернул свою телегу на обочину, уступая дорогу. — Мален и есть, господин, Мален и есть.
— А не пожар ли там? — спросил у него Максимилиан, разглядывая дымку над городом.
— Да нет, — мужик засмеялся, — то кузни. Мастерских там много, все чадят, вот издали, когда ветра нет, так и кажется, что пожар. А так не пожар, нет. Вот я им, опять же, уголек везу.
Город Мален был сер, то ли сумерки так легли, то ли и вправду сажи на домах хватало. В общем, Волкову город не приглянулся, хотя все отмечали, что лачуг тут нет и нищих на улицах не видать. Но вот что мостовые в городе покрыты золой, а стены копотью — то, опять же, все видели. Солдаты остались за городской стеной с Бертье лагерь разбивать, а все остальные, поспрашивав у местных, нашли добрый трактир и в нем встали. Звался он нехорошо: «У пьяной монашки». Но был он чист, и лакеи в нем были чисты. И конюшня, и двор были просторны.
Не успел кавалер поглядеть для себя покои, спуститься вниз к столам и заказать ужин, как в трактир вошли люди при броне и железе, наверное, стража местная, и старший из них, видимо офицер или сержант, вежливо спросил у господ, кто из них будет предводитель.
— Я буду, — произнес Волков, заглядывая в тарелку с сыром, что ставил перед ним трактирный лакей, — я Иероним Фолькоф, рыцарь Божий. А что нужно вам?
— А не ваш ли отряд из добрых людей разбил лагерь под стенами города?
— Мой, — сказал кавалер, беря принесенную кружку пива.
— А позвольте спросить вас, куда двигаетесь вы и ваш отряд?
— Да кто вы такой и отчего вы изводите нас своими вопросами?! — возмутился Брюнхвальд.
— Я офицер стражи Шмидт и прибыл по приказу капитана городской стражи узнать, отчего по графству ходит большой отряд солдат.
— Так передайте своему командиру, что кавалер Иероним Фолькоф фон Эшбахт едет к себе в поместье, и его офицеры, и его люди с ним, — важно сказал Брюнхвальд.
— Фон Эшбахт!? — глаза офицера округлились от удивления, он поклонился Волкову и сказал. — Немедля передам эту новость командиру стражи и графу.
И ушел. А господа офицеры баловались сыром, ветчиной и пивом в ожидании жаркого из кабана, когда снова пришел тот же офицер и поклонившись, произнес:
— Господин фон Эшбахт, господин граф фон Мален просит вас и ваших офицеров быть к нему в гости к ужину.
Как ни хотелось кавалеру отказаться, как ни устал он после дороги, но разве можно отказать графу в его графстве? Хотел он к графу первый раз явиться во всей красе, в броне и со свитой, но не вышло.
— Показывайте, куда ехать, — произнес Волков, вставая из-за стола.
Дом графа был стар, приземист, но велик, широк и крепок. Окна, не окна, а узкие бойницы, забор вокруг — стена крепостная. Древний дом. Такие уже в городах давно не строят.
Мажордом встретил Волкова, Рене, Брюнхвальда и Максимилиана во дворе с лампой, так как уже стемнело. Он проводил их на второй этаж, где в большой зале с большим столом и камином их ждал граф Фердинанд фон Мален. Как и все Малены, он был родственник герцога и его доверенное лицо. Он был уже немолод, его звезда жизни катилась уже под гору. Седина покрыла его голову, и граф прожил уже не меньше шестидесяти лет. Тем не менее, был он бодр и здрав рассудком. И зубы еще были у него в достатке.
Раскланявшись и познакомившись с графом, рыцарь и господа офицеры рассаживались за стол, звеня шпорами и мечами. Слуги подали вино. Граф говорил с ними, спрашивал о здоровье герцога, о дорогах, о канцлере. А потом он и спросил, как бы невзначай:
— А зачем вам, господин фон Эшбахт, такой отряд солдат?
— Они и господа офицеры идут в мое поместье со мной, чтобы жить там. Все они люди проверенные, и коли будет нужда, так они станут доброй помощью.
— Не сомневаюсь, не сомневаюсь, что будут они доброй помощью в лихое время, — кивал граф, но, видимо, что-то его беспокоило, — только вот не будут ли они опасны соседям нашим? Сумеете ли вы держать их в строгости и благоразумии?
— Дозволите ли сказать мне, граф? — произнес Рене вставая.
— Конечно же! Говорите, друг мой, — разрешил граф.
— Те люди, что идут с нами, так же крепки в бою, как кротки в мире. Никакого воровства и бесчинства от них соседям не будет.
— И то хорошо, — кивал Фердинанд фон Мален. И тут же он повернулся к кавалеру и негромко добавил. — Мне будет достаточно слова вашего господин Эшбахт, что вы присмотрите за своими людьми.
— Присмотрю, не допущу беспокойства ни вам, ни соседям, — хоть и нехотя, но обещал Волков.
— Так и прекрасно тогда, — заулыбался граф и вдруг добавил твердо. — Герцогом мне дело доверено: «Не допустить распри с соседями и блюсти мир, во что бы то ни стало». И если на востоке, во Фринланде, соседи к вам не воинственны будут, а может даже и дружны, то на юге от вас, за Мартой, они злобны и сильны. И повода ищут непрестанно. Так не дайте им повода.
Кавалер помолчал немного и ответил:
— Лучшим средством от алчущих соседей есть не одно миролюбие, но и крепкие роты.
— Истинно, — подхватил его мысль Брюнхвальд.
— Истинно, — согласился Бертье.
— Согласен с вами, господа, — кивал довольный граф и поднял кубок. — Выпьем тогда за крепкие роты дома Ребенрее.
Все встали, и сам граф тоже. Выпили.
И ужин продолжился. И граф всем понравился. Был он любезен и со всеми поговорил, даже с юного Максимилиана спросил, что за путь в жизни он выбрал. И выслушал его, кивая и одобряя его выбор. И Волкову он понравился. Был он и вправду добр, как говорил канцлер, а еще он был очень непритязателен, ибо такого повара, как у графа, сам Волков бы гнал взашей, да еще и виночерпия выгнал бы. А во всем остальном вечер был прекрасен.
А когда господа офицеры уже вставали, раскланивались и шли к выходу, граф остановил кавалера и сказал негромко:
— Вот что я скажу вам, фон Эшбахт, — он секунду думал. — Скажу вам, что герцог добр, но считает, что лучшее средство от спеси вассалов — меч палача. Не забывайте про это.
— Я понял, — кивнул Кавалер и поклонился.
— Храните мир с соседями, друг мой.
— Буду хранить, Ваше Сиятельство, — обещал рыцарь Божий, господин Эшбахта.
Как ни хотел Волков побыстрее поехать в свое поместье, но канцлер рекомендовал ему посетить епископа города Малена отца Теодора. И это дело кавалер полагал полезным и нужным. Он давным-давно понял, что связи всегда помогают, и уж тем более, никогда лишними не будут связи со святыми отцами.
Святой отец был уже в возрасте весьма почтенном и принял его сразу и без церемоний, говорил ласково, но не так, что бы очень уж любезно. Спрашивал что-то, улыбался чему-то. Говорил, что рад знакомству с новым господином земли Эшбахт и что долг Волкова, как господина, привести землю к процветанию. А еще, что мужики тамошние как дети ему быть должны, так что кавалер должен заботился о них. И что главная беда — это волки, что докучают местным мужикам. А также всякие другие бессмысленные слова. Из путного все, что поведал старый поп, было лишь то, что в земле его нет ни оного прихода и что он, Волков, должен приложить все усилия, чтобы это исправить.
— Так как же так случилось, что нет в земле моей приходов? — искренне удивился кавалер и подумал, что поп ввиду старости умом уже слабнет.
— Земля ваша скудна, — умиротворенно отвечал епископ, — кирхи, что там были, безбожники пограбили и пожгли за два похода, а новых не поставили за ненадобностью из-за малолюдства.
— И как же люди там живут без света, что церковь несет?
— А благость Божию людишкам вашим несет брат Бенедикт. Святой человек монашеского звания, что живет среди ваших земель и земель ваших соседей. По хуторам и выселкам ходит и мужикам писание читает, обряды правит: кому свадьбы, кому похороны, а больше света Божьего в земле вашей нет.
— Я попробую восстановить хоть один храм, — обещал Волков.
Он уже попрощался и шел к выходу, думая, что нужно будет выписать из Ланна отца Семиона — нечего ему на монастырских хлебах толстеть — когда его окликнул монах-прислужник.
Волков обернулся и увидал, что епископ спешит к нему, и лицо его удивлено, он подошел и спросил:
— Рыцарь, а не вы тот самый рыцарь, что устроил Инквизицию в Хоккенхайме?
— Это я, святой отец, — Волков был немного удивлен переменой.
— Ах, друг мой, так позвольте же вас обнять, — епископ кинулся обнимать Волкова, — я, старый дурень, и не вспомнил сразу, хорошо, что братья мои напомнили имя ваше. Как я рад! Как я рад видеть вас! Пойдемте же, пойдемте, я велю стол накрыть, хочу сам услышать историю о ведьмах Хоккенхаймских.
— Святой отец, — кавалер был смущен, но вынужден был продолжить, — простите, но сегодня я хотел в земли свои отъехать и до темна там быть. Людей со мной много идет, все пешие. А вот в следующий раз…
— Понимаю, понимаю, сын мой. Конечно, конечно идите, но обещайте, что как будете у нас Малене, так сразу будете у меня, я вас с нетерпеньем буду ждать. Уж больно хочется услышать про дело ваше.
— Клянусь распятием, — улыбнулся Волков.
Он опять уже хотел пойти, но опять его не отпустил епископ. Держал за рукав, а сам завал монаха-служку.
— Ларец, ларец неси сюда, что оружейник подарил, — приказал он монаху, а Волкову говорил, — пождите, сын мой, подождите немного.
Монах чуть не бегом принес из другой комнаты красивый плоский ларец.
— Открой, открой же его, — настаивал епископ, все не выпуская рукава Волкова.
Монах распахнул ларец и поднес его к кавалеру, чтобы тот увидел содержимое. Волков сразу понял, что это. Вещь это была редкая и дорогая.
— Берите, — произнес епископ. — Подарок вам.
— Да не посмею я, — начла отказываться кавалер. — Вещь…
Но отказ этот был игрой. Волкову очень нравилась эта дорогая и нужная вещица.
— Берите, настаиваю, — продолжал старик, — как помру — так украдут. А вы мне за это в следующую встречу расскажите все свои истории. Берите.
Волков взял руку епископа, поцеловал ее и только после этого принял ларец. И уже с ним покинул дом епископа.
У покоев его ждал Максимилиан, он отдал ларец юноше и спросил:
— Вот, епископ подарил. Знаешь, что это?
Максимилиан на ходу открыл ларец и ахнул:
— Боже, какая прекрасная вещь! Это же самопальный колесцовый пистоль!
— Интересно, сколько он стоит? — размышлял Волков, тоже заглядывая в ларец.
Великолепной работы оружие все было в инкрустациях и серебре с позолотой. Много серебра было на шаре. Кажется, шар на рукояти был отлит целиком из серебра.
— Талеров пятьдесят, — сказал Юноша.
— Больше, — ответил Волков, он в ценах разбирался хорошо. — Больше. Нужно научиться им пользоваться.
Юноша только кивнул в ответ и закрыл ларец. Он подумал, что такой ларец кому угодно не подарят, такие прекрасные подарки дарят только настоящим воинам. И он еще больше укрепился в своих целях и в желании идти ратным путем.
Глава 8
Они поехали по городу. Лавки мясников открыты, булочные пахнут топленым маслом, румяные колбасники прямо на улицы выставляют палки, на которых висят колбаса и гроздья сосисок, зельцы в больших деревянных лотках стоят на бочках. И никто ничего не ворует. Кабаки отворяют двери, еще и полудня нет, а людишки там уже гомонят внутри, и душистый пивной запах идет из открытых дверей с запахом жареной, кислой капусты. Нормальный город, да и весьма не бедный. Тут и там вывески портных, а много портных в бедных городах не бывает. Портные верный признак того, что тут богатые купчишки водятся, и нобили городские, и местная земельная знать, помещики сюда заезжают. Кавалер смотрит вокруг, может вчера ему тут и не нравилось, но сейчас он так уже не думает. Нет, конечно! Это не пышный и роскошный Ланн, с великолепными соборами и домами знати. И не спесивый Вильбург с ровной брусчаткой на площадях и сливами вдоль улиц. Малену до них далеко, но что-то тут есть в нем, доброе, крепкое, даже уютное. Да, точно! Нищих не видно нигде, даже на папертях у храмов. Только вот серое все. Сажи здесь видно в достатке. Даже больше, чем золы под ногами.
И верно, свернули на одну улицу, так словно в пелену въехали. Аж глаза режет. Кузни, кузни, кузни, стук молотков, в открытых воротах большие дворы с верстками и наковальнями, горны с красными углями, крепкие люди в кожаных фартуках, тяжкое дыхание огромных мехов. Мастера и подмастерья: крики и ругань кое-где. Шипение воды на горячем металле. И такова вся улица. Повсюду в бочках алебарды, кирасы, шлемы. Оружейники.
— Вот откуда богатство у города, — сказал Волков.
— Что? — не расслышал его Максимилиан.
— Ничего, задохнуться можно тут, поехали отсюда быстрее.
Они, лавируя между больших телег с корзинами угля, или полосами литья, дурного, не кованного еще железа, пришпорили коней и поторопились прочь с этой улицы.
Кавалер может и был уже не молод, но глаз его был все еще остр, как в те годы, когда он попал в арбалетчики. И на главной площади среди толпы горожан, он сразу заприметил брата Ипполита.
— Монах, — окликнул он его.
Тот, увидев его и Максимилиана сразу подошел, поклонился:
— Храни вас Бог, господин.
— Отчего ты тут? — кивнув в знак приветствия, спросил Волков.
— Почту ищу. Отправить письма в монастырь и просить аббата, чтобы теперь слал мне письма сюда, в Мален. Мы ж будем теперь тут рядом жить? — монах указал на крепкое кирпичное здание с императорским орлом под крышей. — Думаю там она.
Кавалер давно начал подумывать о том, что монах много писем пишет своему духовнику в Деррингхофский монастырь. Он волновался, что там, в письмах, есть лишнее, то, что попам, может и знать не нужно. Но запретить монаху писать он не мог. Честно говоря, боялся кавалер потерять такого хорошего человека, и лекаря, а может быть даже и друга, с кем можно вечером почитать книги, и обсудить то, что прочел. Других таких у него больше не было.
— Да, пусть сюда шлет, — сказал кавалер, хотя и без особой радости, — кстати, спроси у почтальона, где сыскать нам имперского землемера. Они, имперские чиновники, всегда держатся вместе, почтальон наверняка знает, где живет землемер.
— Да, господин, — поклонился молодой монах и пошел к кирпичному зданию.
Она ходила по лавкам и злилась. Ей приходилось то тут, то там, кривить губы и делать вид, что ей что-то не нравится. И высокий костяной гребень редкой красоты, который мог изумительно смотреться в ее волосах под шелковым шарфом. И великолепные батистовые нижние юбки, да и еще кое-что она отложила с таким видом, как будто ей сначала эта вещь приглянулась, а разглядев ее как следует, она в ней разочаровалась. А все отчего? Оттого, что господин ей давал совсем мало денег. Как же ей было не злиться.
Да еще служанка Астрид рядом ходила и вздыхала, делала вид, что сожалеет о бедственном положении госпожи. Дура. Агнес не нужно было ее сожаление. Агнес чуть не при каждом тяжком вздохе служанки, ловила себя на желании дать овце этой оплеуху по обвислым щекам. Да сдерживалась. Подумала, что даст ей по морде потом, при случае, уж это поход по лавкам она ей не забудет, а сейчас, вроде, и не за что.
Тут Агнес увидала вывеску в виде книги на одном старом доме. Ей стало интересно, книги она любила, и уже начинала понимать их силу, и девушка сказала служанке:
— Давай зайдем.
— Так то книги, — это дура чуть не скривилась от презрения к таким глупым и бесполезным желаниям госпожи. — Чего нам книги смотреть, мы же не старики слепые.
Агнес глядела на служанку и улыбалась, Агнес была очень молода, сколько лет ей было точно, доподлинно не девушка не знала, не было записи в приходской книге о ее рождении, наверно ей уже перевалило за пятнадцать. А иногда, судя по страстям, что бушевали в душе ее, что ее одолевали, думала она, что может ей уже и все шестнадцать. Но не более. И поэтому память у Анеес была необыкновенно остра. Она легко запоминала целые страницы Писания, да и прочих книг наизусть. Притом что они писаны были на языке пращуров, но все равно, хоть ночью ее разбуди — она ответит. И прочтет, и переведет, и пояснит, если непонятно кому будет. И уж это замечание охамевшей служанки она тоже не забудет. Девушка решила надавать служанке по морде, как только вернутся они в трактир. Для такого она все кольца и перстни свои наденет, хоть и убогие они все за исключением одного. Наденет не для красоты, а чтобы рука тяжелее была, чтобы брызги кровавые летели. Нужно проучить ее раз и навсегда. Чтобы впредь не думала, эта корова дебелая, что кривиться она может от желаний госпожи, что мнение свое говорить может. Что может презирать волю господскую. Злоба белым огоньком загорелась в душе девушки, но девушка, хоть и была юна совсем, но была не проста и сильна характером, и тому огоньку могла дать жить, могла и погасить его, а могла лелеять его и холить, оберегать до времени нужного. И она сказал своей служанке просто:
— Напрасно ты перечишь. Не я служака тебе, а ты мне.
— Простите, госпожа, — ответила Астрид без должного раскаяния сказала, словно отмахнулась.
Дура без почтения ответила, без поклона или приседания. Еще и губы поджала. Что ж, белый огонек в душе молодой девушки стал гореть еще ярче. Она только взглянула на служанку свою и пошла в лавку, переступая через высокий порог, подобрав юбки.
Хоть и весна уже к концу клонилась, хоть и лампы горели по углам, но в старом доме было прохладно. Торговец книгами Ганс Эгельман, был уже не молод, от этого он кутался в меха и уютную шапочку с головы не снимал. Эгельман был немало удивлен, когда в его лавку вошли две молодые женщины. По виду женщин он понял, что одна из них богата, и оттого пошел к ней на встречу, шел среди груд книг, что лежали на столах. И кланялся еще издали.
Девушки тоже ему приседали, как принято у благородных, но не так, чтобы низко. Только из вежливости. И он, подойдя, спросил:
— Какого ангела я должен благодарить, что вижу таких прелестных созданий в своей лавке?
Девицы улыбались и та, что была в дорогом платье, отвечала:
— Зашла поглядеть книги, может найду себе какую по вкусу.
— О, конечно, конечно молодая госпожа, у меня много разных книг, что могут быть по вкусу молодым дамам, — заверил книготорговец. — Как хорошо, что молодым дамам нынче дозволено читать. Вот, прошу вас, соблаговолите пройти к этому столу. Тут у меня романы.
— Романы? — спросила Агнес, проходя к большому столу, что был завален разными книгами. — И о чем же они?
— Так о чем же могут быть романы, если не о любви прекрасных дам и доблестных рыцарей. Или любви прекрасных дам и пажей, или трубадуров или менестрелей, что сладкими песнями разбудили неугасимый огонь любви в сердцах прекрасных дам, и за что поплатились от их мужей. Романов много и…
— И все это про любовь? — спросила Агнес с интересом.
— Да, да, — кивал книготорговец, он чуть наклонился к ней и заговорщицки добавил, — у меня есть и пикантные романы. Если, конечно, ваш папенька дозволит вам такие читать.
— Пикантные? — удивилась девушка, а ее служанка так и вовсе превратилась в слух. — И что же в этих пикантных романах?
— Это разные романы, — продолжал книготорговец почти шепотом, — в которых описываются приключения доблестных рыцарей в сарацинских землях во время освобождения Гроба Господня, как те рыцари захватывали дворцы важных сарацинов и… — Он заговорил еще тише и еще многозначительнее. — И их гаремы.
Агнес много знала об освобождении Гроба Господня, но ничего не знала о гаремах, и чтобы не прослыть невежей скривила носик и спросила:
— А еще, какие есть пикантные романы у вас?
— Так вот, — книготорговец взял в руки увесистый том. — Роман о рыцаре Адольфе и рыцаре Конраде, и их любви к прекрасной графине Дафне.
Он раскрыл книгу и показал первую же гравюру молодой госпоже. На гравюре были два рыцаря в латах с мечами и щитами, они бились, а судьей их битвы была обнаженная дама. На даме кроме диадемы и не было ничего.
— И в чем же суть романа? — Агнес с интересом разглядывала картинку, и служака, не удержавшись от любопытства, глядела ей через плечо.
— Рыцари воспылали страстью к графине, но та не могла отдать предпочтение ни одному из них. И тогда они решили, что спор их разрешит поединок. Но были они равны и в силе и в храбрости, и стали оба изнемогать в бою, и вот когда силы и жизни стали их покидать, графиня попросила их остановить бой, обещав, что будет благосклонна к обоим. Только чтобы они прекратили поединок.
— Господи, стыдоба какая! — воскликнула Астрид.
А Агнес глянула на нее очень нехорошо, и еще пару оплеух прибавила служанке на будущее, и сказала продавцу:
— И сколько она стоит?
— Шесть талеров, — улыбался Ганс Эгельман, он всегда знал, что нужно покупателям.
О, Агнес очень хотелось знать историю о двух рыцарях и графини, у нее даже щеки покраснели от приятного волнения, но шесть талеров…
— На шесть талеров можно двенадцать коров купить, — заметила служанка Астрид скептически. — Отчего же так ломите вы цену?
— Так книги всегда дороги, книги это ж вещи не для черни, — заметил хитрый книготорговец, улыбаясь.
Господи, какой позор, Агнес захотелось выцарапать ей глаза, ну хотя бы один глаз, она даже стала сомневаться, что дотерпит до трактира, а не устроит расправу над служанкой прямо тут. Едва смогла взять себя в руки и сказала так, как будто роман ее больше не интересует:
— А книги для разумных мужей у вас имеются?
— Для разумных мужей? — искренне удивился книготорговец.
Он положил роман в груду книг и пошел к другому столу.
Глава 9
Она давно мучилась. Те книги, что были у господина, или, вернее, у монаха, да еще и Писание она прочла, по многу раз прочла. Книгу, что монах чтил больше, чем Писание, она знала почти наизусть. И этого ей было давно мало. Она искала другие книг, что расскажут ей то, что прочим другим и знать не положено. Тех книг, что помогут ей. А может, расскажут ей и про нее саму. Про ту силу, что живет в ней, растет в ней день ото дня. Про те страсти, что иногда бушуют у нее в душе и с которыми она порой не может совладать.
— Вот, эти книги о древней мудрости, — сказал книготорговец и раскрыл одну из книг.
Он подсунул ее девушке, надеясь в душе, что посмеется над ней, так как книга была писана языком пращуров.
А девушка заглянула в нее и вдруг стала читать, сразу переводя сказанное в книге:
— «А Пятый Легион, что зовется легионом Жаворонков, он велел ставить правым флангом к изгибу реки, тогда как Шестой легион, тот, что зовется Железным, он ставил вторым строем, так как после четырех месяцев компании, многие его когорты были малочисленны», — она подняла глаза на Ганса Эгельмана. — И про кого это все, мне непонятно тут многое. Это книга про деяния Цезаря, кажется?
— Именно, — промямлил господин Эгельман.
Вот чего он точно не ожидал, так это того, что сия юная особа так легко будет переводить сложный текст. Хотя даже и не понимала его толком. Он не знал, что и учитель ее ученый монах, и ее господин удивлялись, как быстро и хорошо она учит старый язык.
И пока книготорговец прибывал в замешательстве, Агнес заглядывая ему прямо в глаза, спросила негромко:
— А есть ли у вас книги, такие, что хранят таинства, которые простым людям знать не надобно?
Улыбка удивления медленно сползла с лица немолодого уже человека. И он спросил медленно:
— И что же это за книги вас интересуют, молодая госпожа?
И тут его как холодом обдало, так девушка глянула, такой ледяной голос у нее стал, что поежился он в шубе своей как от лютого сквозняка, что задувает в щели декабрьской ночью.
— Глухой ты, что ли? — спросила она вдруг без всякого и намека на вежливость, говорила высокомерно и холодно, не отводя злых глаз от него. — Спросила же, есть ли у тебя книги, что в коих открываются разные тайны, что людям простым знать не надобно.
— Я… У меня… — начал мямлить книготорговец.
А она улыбалась ему в лицо и видела то, что любила видеть в глазах других, она увидала в его глазах растерянность, а за нею и страх. Да. Это был он. Страх! Она уже научилась чувствовать его, распознавать, слышать его в едва уловимом дрожании голоса человека, и даже ощущать его запах. Запас страха. Она недавно поняла, что страх пахнет мочой и крысами. И этот запах как-то вдруг для нее стал приятен. Он так приятно щекотал ей ноздри. От него раздувались легкие под платьем. Кровь приливала к голове, и давала ощущение странной силы. Так, наверное, чужой страх чувствуют кошки, которых она стала, почему-то, любить совсем недавно. Так же как кошки наслаждаются страхом птиц или мышей, она стала наслаждаться страхом людей. Ощущая чужой страх не иначе как собственную силу. Вот и теперь она видела, как страх рождается в сердце этого старого человека, и она решила разжечь его еще сильнее.
— Отвечай мне, глупый человек, есть ли у тебя книги, что надобно беречь от людских глаз? — с угрозой в голосе спросила девушка.
И в это мгновение чем-то внутри себя, и не разумом вовсе, не поняла, а почувствовала, что нужно добавить еще немного, для усиления того, что растет в сердце этого глупого человека. Она приблизилась к нему и как кошка, коротко и резко ударила его по щеке. Со шлепком, звонко! И взвизгнула прямо ему в лицо:
— Отвечай мне, есть ли черные книги у тебя?
Хотя ответ ей был не нужен, она и так знала, что хоть одна такая книга у него есть. Иначе он бы не боялся так.
Он дернулся от удара и словно ожил, сразу пошел в другой угол комнаты, там отпер маленькую дверь и скрылся на несколько секунд.
Астрид стояла как столб, не шевелясь, замерла истуканом, а Агнес показалось, что книготорговец, может и воспрянуть, может людей или стражу кликнуть, а может и с палкой прийти. И что тогда ей делать? Она даже немного заволновалась. Но он уже вышел из коморки, неся перед собой большой фолиант. Глаза его, стеклянные от страха, на девушку даже смотреть не могли.
Он молча положил перед ней на другие книги этот фолиант и стал поодаль, на шаг.
— Иоганус Тоттенхоф, — прочитала Агнес имя, что было в заглавии. — «Знание трав и растений, что растут в лесах и полях, и на кладбищах. И создание микстур, настоев и зелий, что придают человеку сил и лишают его их».
Она перевернула первую страницу и чуть не обомлела, там, на гравюре, во весь лист был изображен человек, живот его был разрезан, и все его внутренности были разложены вокруг разверзнутого чрева. И все были помечены сносками с пояснениями. А наверху листа была надпись:
«Глава первая, из которой следует нам уяснить, где и какие органы в человеке есть, и какие вещества на них влияют».
Агнес даже на мгновенье забылась, словно заснула и сон видела, даже дышать перестала: так ей стало интересно, что хоть проси стул и тут читай. Куда там всяким романам про рыцарей и распутных графинь. Ничего интересней, чем это, она в жизни не видела. Девушка, как пришла от радостного удивления в себя, подняла глаза на книготорговца и сказала:
— Это книга мне по душе, а есть еще что такое же?
— Госпожа, сия книга… — он помялся, — сия книга Святой Инквизицией не одобряется, святые отцы считают ее книгой отравителей, попала она ко мне по случаю, купил выгодно иначе и касаться бы не стал, и других темных книг я не держу.
Агнес видела, что он говорит правду, до сих пор стояла, чуть наклонившись над книгой, а тут повернулась к нему и заговорила:
— А у кого еще такие книги есть?
— Ну, это мне не известно… — начал мяться Ганс Эгельман.
— У кого? — взвизгнула Агнес.
Да так взвизгнула, что книготорговец присел, и даже закрылся руками от крика такого, и после заговорил торопливо:
— Не знаю точно, госпожа, но такие книги могут быть у Эрика Гобергофа из Вильбурга и у Удо Люббеля из Ланна, у Люббеля скорее всего, он знаток таких книг. И знает, у кого еще они водятся, может частные библиотеки вам указать, где они есть.
— Удо Люббель, — задумчиво говорила Агнес самой себе, не глядя на книготорговца, — и Эрик Гобергоф из Вильбурга.
Она глянула на служанку и указала ей на фолиант:
— Бери книгу.
— И зачем же нам такая книга? — вдруг забубнила та. — Еще увидит кто, может роман про графиню лучше возьмем?
— Сними передник и заверни книгу в него, — почти ласково произнесла Агнес, уже предвкушая, как будет разбивать лицо служаке. — И не перечь мне, пожалуйста.
Она снова повернулась к продавцу:
— А скажи мне, человек, кто изготавливает стеклянные шары, где мне такой купить?
— Стеклянные шары? — не понял Ганс Эгельман.
— Да, стеклянные шары, в которых якобы что-то можно увидеть, — продолжала девушка.
— Вы говорите про хрустальный шар, что зовется ведьминым оком?
— Наверное, — кивнула Агнес.
— Госпожа, такие опасные вещи вы в книжных лавках не сыщите, — с придыханием и тихо говорил книготорговец. — То можно только у звездочетов искать или у алхимиков. То вещь чародейская, опасная. Где такую искать, может только Удо Люббель знать. Он знаток всего тайного.
— А ты его хорошо знаешь? — спросила девушка задумчиво.
— Не знаю, и знать не желаю, говорят, за ним страшные дела водятся, о которых доброму человеку даже слышать не хочется.
— И кто ж это говорит? — не оступалась Агнес.
— Стэфан Роэм, книготорговец из Хоккенхайма. Я с ним давно в переписке состою. Он мне про Люббеля и писал, говорил, что у него любые книги можно найти, — охотно рассказывал Ганс Эгельман.
Он все готов был рассказать, лишь бы эта неприятная дева, побыстрее ушла из его лавки.
— Значит только Удо Люббель из Ланна? — переспросила она задумчиво.
— Да, госпожа, только Удо Люббель из Ланна.
— А рассказать мне про него может только Стэфан Роэм из Хоккенхайма.
— Он, он сведущий человек. Его лавка находится на улице Мыловаров.
— Что ж, ладно, прощайте, — сказала девушка, и отправилась к двери, и служанка ее пошла за ней, неся тяжелую книгу завернутую, от глаз людских, в передник.
— Госпожа, — вдруг робко окликнул Агнес книготорговец.
Она повернулась к нему, улыбаясь заранее, ибо знала, о чем он сейчас говорить начнет:
— Ну?
— Госпожа, — начал Ганс Эгельман, чей страх был отчасти побежден жадностью, — книга сия обошлась мне не дешево.
— Ты же сказал, что купил ее выгодно!
— Да, но… — он начал делать жалостливое лицо и протягивать к ней руку, словно хотел милостыню просить.
— Сколько же ты за нее хочешь? — интересовалась девушка, все еще улыбаясь.
— Полагаю, что сорок два талера будет честной ценой.
Астрид фыркнула от возмущения. Ее лицо искривилось.
Но ее госпожа даже не взглянула на служанку:
— Сорок два талера? Всего-то? Хорошо, — вдруг сказала она, продолжая улыбаться. — Приходи в трактир «У пьяной монашки», спросишь там господина моего Иеронима Фолькофа, рыцаря Божьего, которого люди прозвали Инквизитором, скажешь, что продал мне эту книгу. Попроси плату у него. Он человек честный, он тебе воздаст по справедливости.
И она засмеялась. Ах, какой он был забавный, этот старый дурак.
— Господин Иероним… — книготорговец запнулся.
— Фолькоф, рыцарь Божий, по прозвищу Инквизитор, — напомнила ему Агнес, все еще смеясь, — да поспеши, не иначе, как завтра, мы съедем к себе в поместье.
Она все еще смеялась, толкая дверь на улицу. Вышла на свет, и задышала легко и глубоко, так ей было хорошо на душе, не хуже чем в тот раз, когда она ночью говорила с той красивой женщиной, в Хоккенхайме, которая называл ее сестрой. А может даже и лучше. И пошла она радостная, изредка поворачиваясь и гладя на свою служанку. Придумывая и предвкушая, как будет эту корову приводить в повиновение. И от этого предвкушения Агнес радовалась еще больше. Она шла по засыпанным золой улицам, чуть подобрав юбки, и буквально цвела от счастья. И многие мужчины, и старые, и молодые, смотрели на нее с алчным мужским интересом, и девушка видела это, и от этого становилась еще счастливее.
Глава 10
Фриц Ламме сидел в трактире и пил пиво. Мало того, что сидел и ничего не делал, так еще каких-то двоих прощелыг угощал. Сидел важный, в доброй и чистой одежде, рассказывал им, как хорошо он устроился. И что теперь ему день и ночь за деньгой гоняться нет нужды, и что господин платит за корм и ночлег, одежду дает хорошую и дает денег столько, сколько нужно. А все отчего? А все от того, что он Фриц Ламме, очень нужный ему и полезный человек. Вот так-то! Два господина не очень приличной наружности — один щетиной зарос, шляпа на глаза, другой лыс и лопоух, оба мрачные, в одежде не новой, слушали его, завидовали, пили пиво. А тут и хозяин появился:
— Сыч, опять бездельничаешь? — сказал кавалер, входя в трактир. Он остановился и поглядел на собутыльников Сыча пристально и спросил. — Вы никак кого зарезать задумали?
Максимилиан, что шел следом за кавалером, засмеялся. И вправду, уж больно вид этой троицы настораживал. Разбойники, да и только.
Сыч руками замахал:
— Да что вы, экселенц, это ж люди моего цеха, судейские!
— А на вид разбойники с большой дороги, — заметил Максимилиан.
— Это все от того, что у судейских жалование скудно, а жизнь тяжелая, — пояснил Фриц Ламме.
— Ясно, вот тебе дело, чтобы не сидел, — сказал Волков и кинул Сычу талер, — обыщи хоть весь город, но найди купца, что кофе торгует, я как у герцога его почуял, так забыть не могу. Не может быть, что бы в таком городе хоть у одного купца кофе не было. Знаешь, что такое кофе?
— Знаю, — сказал Сыч, поймав деньгу, — жижа вонючая.
— Верно, иди и найди мне этой жижи, да смотри, торгуйся. Сразу не бери.
— Сейчас сделаю, экселенц, — обещал Фриц Ламме, вставая из-за стола и на ходу допивая пиво. — А что, мы сегодня не уедем?
— Нет, завтра, — сказал Волков и пошел с Максимилианом на задний двор проверять пистолет.
А Сыч со своими новыми приятелями пошел в город искать господину этот дурацкий кофе.
Он уселся на колоду, что стояла на заднем дворе, Максимилиан принес порох, а пули были в мешочке, что лежал в ларце, в специальном отделении.
Они с интересом зарядили пистоль, взвели ключом замок. Кавалер оттянул пружину:
— Ну, куда стреляем?
Максимилиан сбегал в конец двора вытянул из поленницы большое полено:
— Пойдет?
— Ставь!
Из задней двери трактира лакеи и кухонные высовывали головы — посмотреть, что там задумали господа.
Максимилиан отбежал от полена, и Волков поднял оружие, прицелился. Нажал спуск. Колесико завертелось с бешеной скоростью, с писком высекая живую струйку белых искр прямо на полку с порохом. И не успел бы он сказать бы слово, как пистолет звонко бахнул. Палено качнулось и упало.
— О-ох, — восклицали зеваки. Восхищаясь точностью кавалера.
— Дьявол! — сам кавалер восхитился оружием. Он с интересом разглядывал пистолет. — А ну-ка, Максимилиан, заряжайте еще!
— Вам понравилось? — спросил юноша, забирая оружие.
— Удивительно. Вы понимаете, что это значит?
— Нет, а что?
— Секунда, мгновение, всего мгновение и выстрел! И стрелял я одной рукой. Второй можно держать повод коня, или щит, или секиру, да что угодно!
— Удивительное оружие, — согласился Максимилиан, тоже восхищаясь. — Зарядить?
Кавалер кивнул и на радость зевкам успел выстрелить еще один раз, еще немного повосхищаться, прежде чем на дворе появился брат Ипполит.
— Ну, — спросил его Волков, поигрывая оружием, — нашел, где живет землемер?
— И искать не пришлось, он на почте служит, там и место у него. — ответил монах. — Я ему сказал о деле вашем, так он сам вызвался к вам прийти.
— Вот как, и где он?
— В трактире, ждет, пока разыщу я вас.
Волков сразу понял, кто это. Понял по первому взгляду, что за человек перед ним. Большой берет, видавший виды и давно уже без перьев. Широкие «резаные» штаны на яркой подкладке, чулки штопанные, ветхая, некогда яркая куртка и стоптанные башмаки. Меч.
А на лице от вмятой правой скулы, через всю щеку до уха длинный, глубокий, старый шрам.
Землемер поклонился, не снимая берета. Кавалер, кланяться не стал, он пальцем постучал себя по правой скуле, намекая на правую скулу собеседника и спросил:
— Пика?
— Именно так, господин.
— Вы из ландскнехтов?
— Имел честь стоять под знаменами императора, — не без гордости отвечал землемер.
— Были на юге?
— Четыре компании на юге, одна компания на севере против еретиков и одна здесь, в предгорьях, против горной сволочи.
Волков улыбнулся, землемер, как и он сам, не любил горцев, это было хорошо, мелочь, казалась бы, но хорошая мелочь, и он сказал, протягивая руку:
— Десять компаний на юге и пять против еретиков на севере. Меня зовут кавалер Фолькоф.
Землемер пожал его руку крепко, как положено солдату, и ответил:
— Карпорал Южной роты Ребенрее, Стефан Куртц, — и добавил: — Карпорал, правда, уже в прошлом.
— Ничего подобного, — сказал Волков, увлекая его к столу, — «прошлых» карпоралов не бывает. Рассказывайте, где бывали?
Они уселись за стол, заказали пива. И пока пива еще не принесли, они стали говорить. Как это ни странно, но война связывает мужчин, как ни что другое. Казалось бы, они совсем незнакомы, но тут же начали вспоминать, где были, в каких осадах и сражениях участвовали, под знаменами каких командиров стояли. Радовались, когда оказывалось, что стояли они рядом на осадах или в какой-то стычке были под знаменем одного командира. И все, им этого было достаточно, чтобы проникнуться друг к другу уважением и симпатией. К концу второй кружки пива они наговорились о прошлом и перешли к делу:
— Ну, расскажите, что там у меня за земля? — произнес Волков. — Канцлер говорил, что она нехороша.
— Предгорья, кавалер. И не те предгорья, что будут у вас за рекой, у чертовых горцев, где сплошные луга, а плохие предгорья, — землемер достал карту и разложил ее на столе. — Вот, он ткнул пальцем, с востока и юга у вас река Марта, весь восток ваших владений это низина, там Марта разливается по весне, а болота не высыхают до конца лета.
— Так, ну а на западе, что у меня? — мрачно глядел на карту Волков.
— А на западе все как раз наоборот, тут начинаются холмы, — Куртц снова показывал, водя пальцем по карте, — земля честно говоря — дрянь, холмы, камень…
— Камень? — переспросил кавалер.
— Да, камень, скала по кускам из земли прет промеж холмов. Так горы начинаются. Леса почти нет, порубили весь, что был, а вот кустов просто много, все в кустах, все кустом заросло от севера и до самого юга. Вернее, лес есть у вас немного, у самой реки. Но там, я вам покажу границу, не весь ваш лес, вот здесь, — он постучал ногтем по карте, — в изгибе реки, часть земли принадлежит не вам, хотя она и на вашей стороне.
— А кому она принадлежит?
— Кантону Брегген. Вашим соседям с юга.
— Еретикам? — спросил Волков.
— Чертовым еретикам, — уточнил землемер, — правда, они еретики на две трети, но и те, что не еретики, а люди нашей веры, не сильно лучше еретиков, такие же горные свиньи.
Они посмеялись. И Куртц продолжил:
— Так что не вздумайте рубить их лес, даже если он на вашей стороне реки.
— Так, — сказал Волков невесело, — а чем же мне жить на этой земле? Пашни-то у меня есть?
— Пашни есть, — оживился землемер, — прокормиться сможете, но кушать будете не так, чтобы жирно. Вот тут, тут, тут, и еще здесь, — он тыкал пальцем в карту. — Пашни у вас тридцать тысяч десятин, а может, и больше, вот может и тут пахать будет можно, если вода сойдет. Я нечасто у вас там бывал.
— Тридцать тысяч? — настроение кавалера сразу улучшилось. Это была огромная земля. — Точно есть тридцать тысяч?
— Думаю больше, я не знаю сколько, но точно больше, земля-то у вас огромная. На коне за день едва объехать. Вот только… — Куртц замялся.
— Ну? — не терпел паузы кавалер.
— Земля ваша дрянь. Суглинок, камень, низины болотистые.
— Так можно ее пахать или нет? — начинал раздражаться Волков.
— Можно, конечно можно, мужики как-то там у вас живут. Только вот пшеница, я слышал, там не растет. Рожь.
— И ничего, — вдруг из-за спины заговорил Еган.
Волков и Куртц даже не заметили, как он подошел.
— Ничего господин, была бы землица, а мы и на ржи разживемся.
— Так рожь дешевле пшеницы раза в два, — прикидывал кавалер.
— Так раза в три, — уточнил Еган, — и ничего, господин что-нибудь придумает.
Оптимизм Егана Волкову понравился. Авось знает, что говорит, всю жизнь в мужиках на земле прожил. И тут он вспомнил:
— А мужики-то там у меня есть? Сколько мужиков у меня? Канцер мне не сказал.
— До войны с еретиками были мужики, а после войны, после чумы, так оскудела земелька ваша, — сказал землемер. — Мало людей там.
— И сколько там людей у меня? — кавалер хотел слышать цифры.
— Это когда же было, — задумался Куртц, глаза к потолку поднял, — кажись года три назад, я нового господина туда возил, так было тогда там… Кажется дворов двадцать. Да, где-то так. Двадцать.
— Двадцать дворов? — воскликнул Волков. — На такую огромную землю двадцать дворов?
— Так скажите спасибо, что по уговору с императором кантоны прекратили принимать беглых мужиков, не то и двадцати не было бы, — разумно заметил Куртц, — да и подумайте сами, две войны через вашу землю прокатилось, откуда люду взяться.
Кавалер помолчал, обдумывая что-то, и сказал потом:
— Ладно, можете мне дать эту карту? Поеду, погляжу завтра, что там у меня за земля с мужиками. Погляжу, чем меня герцог облагодетельствовал.
— Карту я вам дам, только поеду я свами, — произнес Куртц.
— Со мной поедите? — удивился Волков.
— По специальному эдикту императора я, как землемер, должен указать вам точно границы владений ваших, если они являются границами империи, чтобы вы ненужными распрями с соседями из-за клочка земли не учинили лишней войны.
— Вот как? Хорошо. Когда выезжаем? — задумчиво спрашивал кавалер.
— Поутру, до утренней службы и поедем. Чтобы к обеду в Эшбахте быть.
— Со мною пешие будут и обоз, — сказал Волков.
— Ах вот как, тогда соберемся до рассвета. На рассвете, как ворота откроют, так и тронемся. — отвечал землемер.
На том и порешили.
Агнес была вся в нетерпении, так она хотела скорее начать читать книгу, что не шла, а почти бежала, а эта корова, что тащила фолиант сзади, скулила, что не поспевает, и просила идти госпожу помедленнее. Агнес только злилась сильнее и прибавляла шаг, в то же время, оборачиваясь и ласково улыбаясь служанке. Уж она ей задаст, когда они придут домой. Все ей вспомнит, и это нытье тоже.
Благо трактир был недалеко, и скоро они были там.
Господин ее сидел, пил пиво с каким-то мрачным мужем с истерзанной мордой. Так она им и не кивнула даже, побежала бегом вверх по ступеням к себе в покои. Корова служанка еще шла по лестнице, когда она сама скинула с себя платье, туфли, гребень вытащила и шарф сняла, волосы распустив. Все успела, пока Астрид шла в покои. И служанка, ни слова не сказав, плюхнулась на стул отдышаться. А книгу небрежно кинула на комод перед этим.
И это небрежение Агнес отметила, сама стала к зеркалу, начала себе волосы чесать. Сама! Дуру дебелую не попросив, а та и рада была, сидела на стуле красная вся, махала на себя рукой для прохлады.
— Расселась чего? — уже начала выходить из себя Агнес.
— Ох, госпожа, дайте дух перевести, помру иначе.
Нет, не такой сначала показалась ей служанка, когда нанимала она ее. Сначала думала Агнес, что та из хорошего дома. Раз грамоте обучена, так и говорить может, как господа говорят, ан нет, купчиха причем из низких. Из бюргеров, а может быть, и из мужиков, что в город подались да на торговлишке какой-то и разжирели.
— Не сиди, иди в кухни сходи, вели вина мне принести хорошего, и окорок, и булок. И чтобы булки на масле были, с орехами.
— Ой, да дайте вы мне дух перевести, — нагло, даже с раздражением, заявила Астрид.
— Иди! — заорала Агнес так, что в соседних комнатах и в коридоре было слышно. Так, что притихли все, кто слышал, и дальше прислушивались, пытаясь понять, что это было.
— Чего вы горланите? — все еще нагло спросила служанка, но со стула встала. — Схожу я. Господи, орут как резаные, чего орать-то…
И вышла.
Последние слова говорила она тихо, почти себе под нос, да не знала девица, что когда Агнес взволнована, то слышит она лучше чем кошка, она и шорох мыши за стеной услышит, не то, что, слова дерзкие.
Глава 11
А Агнес стала в зеркало смотреть и видела, как по лицу ее пятна пошли от последних слов служанки. От злости стала она дышать носом, едва сдерживаясь, чтобы по зеркалу не ударить. Открыла свой ларец, где ее кольца лежали, и обозлилась вдвое больше. Медь, медь да олово, вот и все сокровища ее. Как у нищеты деревенской. Ни золота, ни серебра даже. Вот как, господин, скупость он ходячая, ее ценит. А она сколько раз его выручала. Девица стала кольца на пальцы надевать, напялила все, что влезали. На каждый палец по три налезло. А корова дебелая не идет все, словно на базар пошла, а не вниз в кухню. И от этого Агнес еще сильнее распалялась, так уже стала зла, что на себя в зеркало смотреть не могла.
Ну, наконец-то пришла, толстомясая. Загудела, как вошла:
— Приказала, но булок у них с орехами нет, мед дадут вам. Сейчас принесут.
Тут Агнес вид на себя спокойный возложила, хоть и не просто это было, и говорит, негромко, с рассудком, чуть не улыбаясь:
— Пойди ко мне, Астрид.
— Чего? — спросила служанка, подошла, но шла осторожно, видно стала что-то подозревать, и встала от Агнес в двух шагах.
— Отчего ты перечишь мне, Астрид, — едва ли не ласково спросила ее хозяйка, делая к ней шаг, — отчего не слушаешь меня, отчего говоришь мне помыслы свои и желания? Разве я у тебя советов прошу, или дозволений? Или может я тебе служанка, а не ты мне?
Астрид убедилась, что опасения ее не напрасны. Стояла она рядом с хозяйкой, и была в два раза более нее. И по глупости боялась лишь одного, что хозяйка погонит ее от себя. Пойди потом, место теплое найди. Ну, а что еще эта худотелая ей могла сделать! Вот и забубнила Астрид, вроде и извиняясь, а вроде и спеси не поубавив:
— Да что ж вам надо-то, я…
И не договорила. Раз! И звонкая оплеуха колыхнула ее щеку, да так, что и голова мотнулась.
— Ой! — воскликнула служанка. — Что ж вы это!
Она схватила свою горящую щеку:
— Негоже так, не дозволю я так…
И осеклась на слове. Замолчала, как только глянула в глаза девицы юной, а смотрела Агнес на нее исподлобья, и смотрела так, что слова в горле служанки застряли, затихли выдохом.
Не в глаза взглянула Астрид, а в колодцы бездонные, в колодцы темные, холодные. Замерла служанка, рот открыв, и так загляделась она, что позабыла про руку хозяйскую. А вот Агнес ничего не забывала. Следила она за служанкой, как кошка следит за птицей глупой. Ни звука лишнего, ни жеста.
А как время пришло…
Раз! Наотмашь! И еще одна тяжкая оплеуха, и снова по той же щеке. И кольца, что господские пальцы унизывали, на щеке толстой полосы оставили.
— А-а, — болью ожгло служанку, заорала она сильно, снова хватаясь за щеку. — Не дозволю…
А Агнес ей не отвечает, смотрит на нее все так же исподлобья и молчит, губы сжала, как улыбается. Ждет.
— Не собака я вам… — воет служанка.
А Агнес молчит. Смотрит. И каждая секунда ей нравится. Точно, точно как кошка она сейчас, мышь поймала, теперь играет.
— Уж лучше на улицу пойду, — пугает ревом своим ее служанка. — На что мне такая хозяйка?
Но Агнес знает, что никуда она не уйдет, не дозволит она ей уйти, видит Агнес, как ломается коровнища, трещит нутро ее, хоть и орет она, хоть и пугает. Но больше от страха. Страх выползает из грубых телес этой девицы наружу, и Агнес чувствует, как она, покрываясь липким потом, начинает вонять страхом, и ждет Агнес, ждет с улыбочкой, когда страх совсем ее пожрет.
— Чего? Чего я вам… — воет Астрид. — Чего вы так на меня смотрите?
Агнес молчит, смотрит и улыбается. Ничего-ничего, пусть повоет. Ледяной, высокомерный взгляд ее сжигает служанку.
— Господи, Господи… Да чего вам надо? — служанка, только что оравшая, переходит на жалкий скулеж. Все ее крупное лицо покрыла испарина.
А хозяйка опять молчит.
— Если я вам плохо сделал, так простите, — хнычет Астрид.
Агнес молчит, ждет. Вот, вот теперь уже ближе. Ближе эта здоровенная девица к нужной черте. Надо и дальше ждать.
— Может нерасторопна я была… Так вы скажите когда, я поправлюсь… Чего же вы молчите?
Она начинает искать свою вину и снова рыдает. А Агнес еще на шаг ближе. Но она продолжает молчать и смотреть.
— Простите, госпожа, — заскулила служанка. — Простите…
Вот то, что нужно. Еще немного.
— Простите, за глупость мою, простите…
И еще шаг. Агнес упивается своей силой и слезами девки. И это все без слов, все взглядом одним.
И дальше она смотрит, глаз от Астрид не отрывая.
— Да что ж вам надо-то? — завыла служанка, не зная, что делать ей. Руки ее тряслись, и плечи вздрагивали, а лицо заливали слезы.
Запахом страха вся комната наполнилась. Вот этого и ждала Агнес.
И сказала она служанке, да не сказала, а прошипела сквозь зубы:
— На колени!
Астрид замерла, даже выть перестала.
Так и стоят обе. Одна ждет, другая замерла полуживая от страха.
И видя, что служанка еще колеблется, Агнес шипит опять:
— На колени, тварь.
И не выдерживает Астрид, медленно подгибая ноги, становится на колени. О, как это сладко, слаще меда, слаще, чем мечты о господине, или может слаще, чем губы юного Максимилиана. Ничего и никогда не приносило ей столько приятности, как эта маленькая победа над большой девицей. Но нет, дело еще не кончено.
Как только служанка стала ниже нее, так бить ее было сподручнее.
Забылась Астрид, и девушка снова, да с оттягом, врезала ее опять, да по той же щеке так, что у самой рука заныла.
— А-аоу-у-у, — с неестественным для себя визгом завыла девка.
— Выть не смей, — снова шипела Агнес. — Не смей!
Уж больно надоел ей вой служанки, да и люди вокруг могли услышать. Зачем это ей?
Астрид сомкнула губы, глаза выкатила, а в них ужас. Настоящий нутряной, звериный. Дышать она даже боялась. Дышала носом и давилась теперь своими воплями, про себя выла.
Агнес снова занесла руку, а служанка, увидев, попыталась закрыть лицо. И тогда Агнес замерла:
— И заслоняться не смей, руки вниз опусти.
Поскуливая и всхлипывая, Астрид послушно опустила руки. О, как все это нравилось юной женщине. Как она упивалась своей силой. Только бы не улыбнуться, не засмеяться от счастья. Не испортить ужас служанки. Теперь, когда она заносила руку, все, что делала Астрид, это только вздрагивала да зажмуривалась, прежде чем господская ручка в дешевых перстнях разбивала ей щеку.
И Агнес с удовольствием била и била ее по лицу. Еще, еще и еще! Пока под кольцами пальцы не заломило. Устала. Остановилась.
А на мокром лице служанки багровый отек во всю левую половину.
И полосы, полосы, полосы от колец госпожи.
Она отдышалась и сказала уже не зло даже:
— Ложись лицом на пол.
Кулем повалилась Астрид на пол, не сдержалась, завыла не про себя, хотя и негромко, думала, что госпожа ее теперь топтать будет. Легла лицом вниз, руки под себя взяла. На все согласная.
Агнес встала на нее. Одной ногой на спину толстую, другой на голову большую и заговорила:
— Сказала ты, что не собака, так теперь собакой будешь, спать будешь у постели моей, чтобы, когда ночью я ноги вниз опустила, так под ними ты была.
Агнес чуть подпрыгнула. И служанка тут же содрогнулась всем телом.
— Слышишь меня, собака?
— Да, госпожа, — кряхтела под ее ногами Астрид.
— Лай, хочу слышать, как ты лаешь!
Агнес притопнула ногой по спинище служанки, и та попыталась лаять, да выходило у нее плохо, от страха и перекошенного лица получалось только глупое «ойканье» в пол.
— О, о, о, — вырывалось из под нее.
Агнес засмеялась.
— Дура, а еще перечила мне. На каждое мое слово огрызалась, а сама волю должна была мою исполнять, — и заорала, снова ногой притопнула: — И все! Слышишь, волю мою исполнять!
И опять посмеялась, чувствуя, как вздрагивает от страха под ее стопами спина служанки.
— Отныне, будешь собакой моей, — продолжала она. — И имя у тебя буде собачье. Утой будешь. Слышишь?
— Да, госпожа, — в пол пробубнила Астрид.
— Как звать тебя?
— Звать меня Ута. — глухо сказал служанка.
— Громче!
— Утой меня звать, — отвечала служанка громче.
— И кто ты?
— Собака… Я собака ваша.
— Молодец, — удовлетворенно произнесла Агнес, слезая со спины служанки, — встань на колени.
Та быстро повиновалась. Агнес как увидела синеющую щеку ее, так опять засмеялась, но тут же взяла себя в руки и заговорила строго:
— И бежать не думай от меня, — она с наслаждением стала говорить служанке, заглядывая ей в глаза. — Я найду тебя, коли сбежишь. Найду и покараю. Сначала через дыру твою вырву из тебя твою бабью требуху, затем пальцами этими, — она поднесла к самым глазам служанки скрюченные пальцы свои, — один за другим выдавлю глаза твои коровьи, а после разрежу тебе грудь, и достану твое сердце вместе с бессмертной душой твоей и сожру его сырым. Ясно тебе?
Астрид, а вернее уже Ута, мелко кивала головой, соглашаясь и дрожа от страха.
— Отныне и на век, будешь ты псиной моей, при ноге моей. До смерти. Повтори!
— Да, госпожа, — прошептала служанка, — псина я ваша, навек.
— Вот и хорошо, — вдруг абсолютно спокойно продолжила Агнес.
Она пошла, забралась на кровать и сказала:
— Книгу сюда подай, и поднос мне с едой неси.
Ута вскочила и бегом кинулась исполнять приказание, а Агнес сидела на кровати и была счастлива. Только вот рука у нее стала болеть, пальцы под кольцами опухли, и кольца теперь слезать не хотели.
Ута принесла ей книгу и поднос с едой и вином, поставила ей его на кровать. Делала она это расторопно, не то, что раньше.
— Принеси мне масла с кухни, а то кольца не снимаются, отбила об рыло твое всю руку себе.
Служанка бегом побежала, а девушка осталась в комнате одна на кровати с вином, едой и книгой. И в минуту эту была она счастлива. Так счастлива, как никогда еще не была. Еще бы! За один день она получила себе две нужные вещи — книгу, интересную и нужную, и рабыню на века. За один всего день!
Глава 12
Заспанный сержант городской стражи велел людям своим отпереть ворота, хоть и не по уставу это было, ведь солнце еще не встало.
Волков, все его люди, офицеры Брюнхвальд, Рене и Бертье и землемер Куртц выехали из города, а за ними на своей великолепной карете ехала Агнес и ее служанка Ута. Агнес была весела и бодра, хоть и темень еще на дворе стояла такая, что петухи еще не кричали. Она ехала в поместье своего господина и радовалась. Вот только она это поместье уже своим полагала. И ничего, что оно принадлежит ее господину. Ничего! Он для нее господин, конечно, но для всех других она госпожой будет. Ей не терпелось доехать. Уж всему тамошнему мужичью она покажет, кто у них хозяин. Уж кланяться она их научит.
Напротив, с фиолетовой левой половиной лица сидела служанка. Она была не весела, не выспалась, спала в одежде, на полу, прямо у ночного горшка, без подушки и без одеяла, по-собачьи, как и наказывала госпожа. Спала дурно, но ничего не попишешь, сама виновата, раз госпоже осмелиться перечить. Тем более, что госпожа утром обещала ей подстилку найти. Только не от того, что жалко ей было служанку, а от того, что платье и передник служанки от пола стали грязными, так как пол был не шибко чист. Лицо она пыталась замазать белилами. Да разве такое замажешь? Хорошо, что темно, а то все смотрели бы.
Думали, что людей Бертье и Рене вместе с обозом ждать придется, но нет, люди были дисциплинированы. Вместе с обозом они уже ждали кавалера и офицеров у ворот. Это Волкову понравилось. Не врали Бертье и Рене, хорошие у них сержанты и солдаты. Сразу и двинулись. Темно еще было, а дорога худа. Держались так, что бы солнце по левому плечу вставало.
Поехали на юг в ту землю, что зовется Эшбахт и которую иные называют западным Шмитценгеном. В общем, ехали они в имение, в жалованный удел рыцаря Божьего, Хранителя веры, Иеронима Фолькофа, которого прозывают Инквизитором.
Возбуждение, волнение и желание скорее увидеть свою награду, что жило в нем уже несколько дней и что не могли унять все разговоры о скудости его земли, сразу пошли на убыль, как только стало светать.
Едва солнце осветило их путь, так он увидел дорогу на юг, дорогу, что вела к Эшбахту. И тянулась туда не дорога, а жалкая нитка, две почти заросших колеи от колес мужицких телег, что вели мимо бесконечных невысоких холмов, заросших жестким и корявым кустарником.
Вниз — вверх, вниз — вверх и так до бесконечности.
— Весной тут в низинах вода стоит? — спросил Волков у землемера Куртца, разглядывая окрестности.
— И осенью стоит. Весной от паводка, если снег ляжет, а осенью от дождей.
— Тут, наверное, на телеге не проехать?
— Только верхом, — подтвердил землемер.
— И как же мужики урожай вывозят? — кисло спрашивал кавалер, не очень-то надеясь на ответ.
— То мне не ведомо, — отвечал Куртц, он вдруг поднял руку и указал на восток, — может по реке, вон она, Марта начинается. Тут ее истоки.
С холма открылся вид на реку, в проплешине меж холмов и кустов, в лучах восходящего солнца блеснула вода. Не река, а ручей еще, десять шагов, не шире.
— Марта! — воскликнул Брюнхвальд. — Вот как она начинается, а в Хоккенхайме так широка, что в утренней дымке другого берега и не рассмотреть. А тут ручей — ручьем.
— Кавалер, — произнес землемер, указывая вперед, он уже и карту достал, развернул ее, — видите тот холм?
— Да, — сказал Волков невесело. — Прекрасный холм.
Холм, как холм, разве что выше всех других, дорога его оббегала слева. Ничего особенного.
— Там, где он кончается, — Куртц показал ему карту, указывая линию пальцем, — там начинается ваша земля.
Вот она, оказывается, какая его земля. Бурьян, репей в низинах да унылые холмы, заросшие барбарисом, козьей ивой и шиповником.
Да и кусты-то чахлые кроме ореха, тот рос высокий. Кроме него только лопухи вокруг хороши.
А на срезах холмов земля виднеется, вся желтая или красная.
Волков тем временем объехал холм, реку ему видно уже не было, да и не было у него желания смотреть. Он повернулся и позвал Егана. Тот тут же подъехал.
— Ну, видишь, что за земля вокруг?
— Дрянь земля, — беззаботно отвечал тот. — Суглинок поганый.
— Суглинок, — мрачно повторил Волков оглядываясь. — Ни пахоты, ни лугов, ни покосов. Бурьян да орешник.
Говорил так, словно это Еган виноват. Словно этот он ему лен даровал.
— Холмы есть, — вдруг сказал тот, — трава под кустами есть. Мало-мало, а есть, козы прокормятся, а может, и коровы где поедят.
— Дурак, — сказал кавалер, — я по-твоему что, коз разводить должен?
— А что? А хоть и коз, — не унывал Еган, — чем плохи козы?
Он на секунду задумался и продолжил:
— Коза — она очень неприхотливая скотина. Болота, камень, лес — ей все нипочем, везде себе пропитание найдет. А от нее молоко, шерсть да шкура какая-никакая под конец. И мясо еще, чуть не забыл!
Волков обернулся за спину на людей что шли за ним, там их было чуть не полторы сотни, шли они в надежде, что им будет в его земле прокорм. Тащили и везли в обозе свой нехитрый солдатский скарб, инструменты, палатки, котлы да одеяла.
Конечно, не упрекнут они его. Ведь он не звал их с собой — ни их, ни их офицеров, он даже Карла Брюнхвальда не звал. Ничего им не обещал. Сами попросились. Но все равно было ему неприятно, что ведет он их в такую пустыню.
А еще было ему немного стыдно. Стыдно от того, что все эти люди вдруг увидят, что наградили его землей бросовой. Кинули ему безделицу, мол, и так ему сойдет. Мол, каков сам, такая и награда, и вот от этих мыслей ему совсем тяжко становилось. И начинал он потихоньку свирепеть, как только увидел землю свою. Ехал, глядел на все угрюмо, думая, что его обманули.
А Еган, не видя уныния господина, все еще болтал:
— Коза — она животное нужное, как по мне, так козий сыр он самый вкусный и полезный, вот помню, дед мой покойник…
— Уйди, дурак, — рявкнул Волков.
Еган сразу смолк и придержал коня, отстал. Ну его к лешему, господина, когда он в таком расположении.
— Чего он? — спросил у него Сыч, когда они поравнялись.
— Да как обычно — бесится, — с видом знатока отвечал слуга.
— Чего ему беситься? Весь в серебре, в золоте, землю ему дали, а он все бесится. А он все равно беситься! — рассуждал Сыч. — не понятно.
— Говорю же, блажной он у нас. Неугомонный. Думаю, ему Брунхильду надо, — предположил Еган.
— Да ну! — не согласился Сыч. — Он от нее еще больше звереет иногда.
— Ну, тогда я не знаю, что ему надобно, — сказал Еган.
— И я не знаю, — ответил Сыч.
День уже шел к полудню, а дорога почти не изменилась. Только холмы те, что справа, стали заметно выше, а те, что слева, те, что у реки, стали исчезать. Река стала пошире, и видно ее с дороги было получше. А почти прямая до сих пор дорога стала извиваться, чтобы обойти глубокие и резкие овраги, что тянулись с запада к востоку, к реке. Деревьев было мало да и те все молоды. Кустарник стал гуще, к Волкову подъехал как всегда веселый Бертье и сказал:
— Я так понял, что это уже ваша земля пошла?
— Да, — невесело отвечал кавалер. — Землемер говорит, что моя.
Не хотелось ему разговаривать с ним, ответил только из вежливости. Куртц только кивнул в подтверждение.
— Хотел спросить, может, я тороплюсь, но очень хочу знать, дозволите ли вы нам охотиться на ваших землях?
— А вы что, любитель охоты? — все еще из чувства такта интересовался Волков.
— Страстный, — заверил Бертье. — Мой старший брат выгнал меня из поместья за то, что я охотился. Он мне воспрещал, он и сам был любитель, но я удержаться не мог. Как-то убил хорошего оленя, а егерь каналья донес на меня, брат меня и просил уехать в тот же день.
— А тут-то вы на кого собираетесь охотиться? — спросил кавалер. — Уж, не на щеглов ли? Кто тут может водиться?
— Да полноте! — воскликнул Бертье. — Вы что ж, слепой? Разве вы не видите, что кабаний помет вокруг, следы дорогу пересекали раз десть. Они тут повсюду, такая земля, — он обвел рукой, — самая кабаном любимая. А еще волков тут много. Много.
— Да, волками этот край славиться, — согласился с ним Куртц. — Поэтому местные мужики скотину и не держат. Говорят, от нее глаз нельзя отвести, тут же волки ею полакомятся.
Кавалер никаких следов не замечал, охотник он был так себе, охота — дело господское, а не солдатское. Но слова о местных волках он уже слышал не первый раз, поэтому и сказал Бертье:
— Охотьтесь, конечно, Бертье, но за одного убитого кабана, я хочу получить две волчьих головы. Или на волков вы не охотитесь?
— Отчего же, конечно охочусь, только вот… — он замялся. Поморщился.
Кавалер кожей почувствовал, что будет он сейчас деньги просить. Так и вышло:
— На волков охотиться я тоже не против, своя забава и в них есть, но вот без собак охотиться невозможно, особенно на волков. Да и шкуры их неплохи, в зиму очень даже неплохи шубы из них.
Вот и началось. Волкова теперь интересовало, сколько денег он попросит. Бертье и сказал:
— Денег вот только у меня нет, но вот если бы вы дали мне семь талеров, то, как раз на малую свору и хватило бы.
— Судя по деньгам, то не такая уж и малая ваша малая свора, — произнес кавалер невесело.
— Друг мой, так сразу видно, что не знаете вы цен на собак! — воскликнул Бертье горячо. — Семь талеров самая малая сумма, что возможна. Две суки за пять, да два кобеля по монете, и то будут самые плохие собаки. Щенки будут необученные.
— Зачем же брать плохих? — не понимал Волков.
— Так хорошие суки от десяти талеров идут. Да и не хорошие то, а средние. Хорошие, молодые трехлетки двадцать стоят. А кабели, у которых нюх выставлен и выучка есть, так тоже не меньше десяти. А если еще и порода, стать с экстерьером добрые, то их на расплод берут, такие суки и все тридцать тянут, сорок бывает. То, что я прошу, так то за щенков.
Очень не хотелось кавалеру деньги давать на такую блажь, и он еще раз уточнил:
— Так точно тут волки есть?
— Есть, много, — сказал Куртц. — Иной раз едешь, а они на холм взойдут и сверху смотрят на тебя, стаями ходят.
— Неужто вы не видите следов? Они же повсюду, — горячо воскликнул Бертье. Он обвел рукой окрестности.
Ничего Волков не видел. Не до следов ему было всю дорогу. Любовался он пустыней, дикостью да скудостью земли, что лежала вокруг. Но, кажется, дать денег на собак придется. Если и в правду тут волки резвятся, коровники ставить нет смысла. А без коров и сыроварне тут делать нечего. А без сыроварни и Брюнхвальд уедет отсюда.
Почему-то, Волков уже не сомневался, что Бертье, Рене и их люди уйдут, как только осмотрятся и поймут, куда он их привел. Так пусть хоть Брюнхвальд отсеется.
— Я дам денег на собак.
— Отлично, — обрадовался Бертье, — и не пожалеет, окупятся собачки, поначалу кабанятиной и шкурами волчьим, а затем и приплодом своим. Уж вы, друг мой, не волнуйтесь, будет у вас псарня не хуже, чем у других, я сам этим займусь, — говорил он, как бы успокаивая Волкова. — Я собак люблю даже больше, чем лошадей.
Он глядел на кавалера улыбаясь и в ожидании:
— Ну?
— Что? — спросил тот.
— Давайте деньги, раз решились.
— Вы сейчас хотите? — удивился Волков.
— А что тянуть, мне ж обратно в город за ними ехать! — пояснил Бертье.
Волков вздохнул и достал их кошеля семь монет, вложил их в руку ротмистра.
— Телегу из обоза возьму и одного человека, — уже поворачивая коня, крикнул тот.
И ускакал тут же. По дороге что-то крикнул своему старшему приятелю и поехал на север.
Взрослый и разумный Рене, который, как и положено офицеру, всю дорогу ехал пред своим людьми, поглядел ему вслед и решил догнать кавалера, а догнав, спросил у него:
— Кавалер, дело к обеду идет, люди мои на ногах с рассвета, неугодно ли вам будет дать им отдохнуть и сделать привал?
Не успел Волков ответить, его опередил Куртц:
— В том нет нужды, господа, — он поднял руку, указывая вперед, — вон за той лощиной уже Эшбахт будет. Там и остановимся.
— Прекрасно, — сказал Рене и повернул к своим людям.
— Прекрасно, — мрачно повторил Волков, глядя вперед.
Глава 13
Смотрел он и не верил своим глазам. Эшбахт! Звучит как! Городские стены, башни. Ну, как минимум большое село с кирхой и замком на горизонте. На слух Эшбахт — так это город целый, а тут…
Он уставился на землемера, не перепутал ли он чего, а тот сидел и седел понурый, словно пойманный его на лжи. Словно он больного коня за доброго выдавал, а ложь раскрылась.
— Вы говорили, что двадцать дворов тут? — наконец произнес Волков, разглядывая покосившиеся и сгнившие от влаги лачуги.
— Так то до чумы было, — отвечал землемер, стараясь не смотреть на кавалера.
— А дома, дома тоже чума унесла? — не понимал Волков. — Домов-то всего восемь.
— Не могу знать, куда дома делись, раньше больше было, — отвечал землемер.
Пришел Максимилиан и сказал:
— Мужики почти все в поле, бабы да дети в домах. Я велел за старостой послать, мальчишка побежал уже.
— Значит, есть у них пашни? — с едкостью произнес Волков.
— Да есть, есть, я ж вам говорил и показывал на карте, — сказал Куртц. — И немало их у вас есть!
Хотел ему Волков сказать, что он ему и про двадцать дворов говорил, да не стал. Спросил про другое:
— Думаю, что замка тут нет, ну так хоть дом тут есть? Где господа проживали раньше?
— Так вон он, — землемер повернулся в седле и указал на ближайший холм. — Там все господа и проживали.
Кавалер даже поворачиваться в ту сторону не стал. Еще когда въезжал в сюда, заприметил большой дом из крупных сырых и старых бревен. Уж никак он не мог подумать, что это дом его. Он его принял за старый скотный двор с большой конюшней, хлевом, овином и некогда крепкими воротами.
— Так это не овин с амбаром? Не конюшня? — переспросил он на всякий случай.
— Так все там, и конюшня и амбар, и хлев, и дом с печью и спальней, — говорил землемер.
Он говорил, вроде, без злобы и без ехидства, а Волкову казалось, что смеется он, издевается.
Солдаты тем временем разбивали лагерь, кто-то платки ставил, кто-то за хворостом собирался. Рене с корпоралами взялись отсчитывать съестное на сегодня. Повара пошли за водой. Еган и Сыч бродили по округе. Местные бабы с грудными детьми и детьми, что уже бегать могут, высыпали на улицы смотреть на прибывших, особенно они глазели на карету дорогую, здесь невиданную, и кланялись молодой госпоже. Брюнхвальд уже поехал место искать под сыроварню и дом. Все суетились. При деле были, а вот ему почему-то захотелось уехать отсюда прочь. Как глянет он на местных баб босых, замордованных, да на тощих детей, так повернуть коня охота и поехать отсюда на север, а потом на восток. В Ланн. В большой дом, в большую пастель, в перины к Брунхильде, у которой бедра как печь горячи.
А тут… Грош цена обещаниям барона. Да пропади пропадом такая милость герцога. Не тот это лен, не тот удел, за который он герцогу ежегодно служить должен сорок дней конно, людно и оружно.
— Господин, а тот дом наш что ли? — указал на холм Еган.
— Ваш, — зло ответил Волков.
— Ну, тогда пойду, погляжу, — говорил слуга. — Сыч, идешь со мной?
— Пойдем, глянем, — соглашается Фриц Ламме.
А Волкову и глядеть на дом этот нет охоты. Ему охота уехать отсюда. Но он слез с коня, решил пройтись, похромать, размять ногу. Прошелся и тоже пошел свой дом новый смотреть.
Ворота свалены, лежат. Дери настежь. Непонятно, на чем висят, непонятно, как ветром не оторвало. Дом был брошен давно, в бревнах мох поселился, в маленьких окнах когда-то стекла были.
А сейчас нет. Ничего нет, ни лавок-полатей, ни мебели какой, крыша частью провалилась, воняет, нагадил кто-то. А Еган стоит посреди дома на досках пола подпрыгивает и говорит дурак:
— А что, дом-то неплох. Пол не сгнил, стены без щелей, камин хороший, его почисть только.
— Неплох, неплох, — неожиданно поддерживает его Сыч.
— Болваны, тут даже крыши нет. Худая-то крыша, — говорит кавалер. — Или не видите?
А Еган смеется:
— Да разве ж это нет? Эх, господин, вы еще худых крыш не видали. Смотрите, стропила-то все целые, толстые, крепкие, на них тес положим, проконопатим, утеплим — вот вам и чердак, а потом и крышей займемся. Дранку положить — дело одного дня, будет тес, гвозди, дранка да инструмент, я за два дня управлюсь.
— Сыро, воняет тут, — продолжал Волков, начиная думать, что может Еган и прав.
— Сыро, так пусть Сыч камин протопит, только как следует. Пусть вычистит его, трубу пробьет и топит хорошим огнем, три дня и сухо будет, вони не останется. Все равно ему делать нечего.
— Сыч, — произнес Волков, — Егану в помощь пойдешь.
Не мог Фриц Лемме такого перенести. Хотел было возмутиться, но осекся на полуслове, замер. Сначала кавалер и не понял, чего он, а потом взгляд Сыча поймал и обернулся. На пороге дома стояла Агнес. Юбки подобрала, словно через грязь шла, губы в нитку, нос принюхивается, глаза косят. Огляделась и говорит:
— Что это? Тут мне жить что ли?
— Ничего, поживешь, — холодно говорит Волков.
— Уж увольте, я вам не корова, чтобы в хлеву ночевать, — нагло заявляет девица.
Кавалер и без нее мрачен, а тут она еще, он как заорет:
— Это тебе не коровник и не хлев!
— Так и не лошадь я, — продолжает девица дерзкая, — не буду я в конюшне спать.
— На дворе спать будешь! — орет Волков.
А Агнес ему спокойно и отвечает:
— Денег мне дайте, лучше я в Ланн поеду.
В другой раз он бы не дал, а тут так осерчал, что достал из кошеля пригоршню денег, нашел старый гульден и сунул его ей:
— С глаз долой!
Агнес золотой взяла, низко присела, голову склонила, вроде как смиренность выказывает. А сама улыбается, но так, чтобы господин не видал. И тут же говорит:
— Пусть меня Максимилиан в Ланн отвезет.
— До Малена довезет, а там наймешь себе человека, — зло говорит Волков. — Вон пошла.
А Агнес и рада, кинулась Максимилиана искать. Сама даже раскраснелась.
Сыч глянул на Егана, а тот счастлив, что теперь не ему Агнес возить.
Да Сыч и сам был рад, что эта злобная девица, что вечно ищет свары, уезжает.
«К черту ее, блажную, хорошо, что уезжает», — подумал Фриц Ламме, тоже радуясь ее отъезду.
Агнес нашла Максимилиана, он был около лошадей. Занимался сбруей дорого хозяйского коня. Сразу подошла с удовольствием сказала:
— Максимилиан, господин велел вам отвезти меня в Ланн, — начала она вежливо.
— Что? — спросил он, поворачиваюсь к ней и удивленно глядя на нее. Не ожидал он такого никак.
— Велено вам меня отвезти, — повторила Агнес, но уже про Ланн не сказала. Понимая, что побежит юноша уточнять распоряжение.
— Отвезти вас? — растерянно переспросил он.
— Да что ж ты, переспрашиваешь все? — начала сердиться Агнес, про вежливость тут же забыв. — Поехали уже, нужно до ночи тебе меня в Мален довезти. Уезжаю я, а Еган господину надобен.
— До Мален? — снова спрашивал Максимилиан. До Малена еще куда не шло. Хотя и туда очень не хотелось ему ехать с ней.
— До Малена, до Малена, — уже зло сказала она и пошла к карете.
Говорила она так, что не посмел он ей перечить, лишь бы не злить ее лишний раз.
И так он расстроился, что не подумал ни о чем больше, как о своем печально задании, не пошел спросить уточнений у господина об этом деле, не подумал, что карету он никогда не водил. Ни коня не взял для обратного пути, ни еды, ни оружия, кроме кинжала, что весел у него на поясе.
Побрел за Агнес. Помог девушке сесть в карету, залез на козлы сам, взял хлыст длинный, что был там, и прикрикнув на лошадей, тронулся в обратную дорогу. Агнес сидела, локоток из окна кареты чуть свисал. Сама чуть высунулась, поглядела на спину юноши. Видно, что довольна была.
Сыч, Еган и Волков ходили по господскому двору, смотрели постройки. Там, где кавалер видел гниль и разруху, Еган, крестьянствовавший всю свою жизнь, находил крепкое строение, требующее ремонта.
— Ишь, как умно ясли сделаны! Умно, умно, — восхищался он, когда они в хлеву были. — Телята в холода нипочем не померзнут. И для коз свой угол есть. Хорошо все сделано.
Ему и овин нравился, и сарай для мужицких инструментов, и конюшня. Конюшня, впрочем, и Волкову самому понравилась. И амбар просторный Егану по душе пришелся.
— Вот какой амбар просторный, значит и урожай тут бывает неплохой, — говорил он, оглядывая все и трогая все руками, — и крепкое все. Видно, на века ставили.
Да и Сыч тоже не был грустен, казалось, что ему тоже все нравится.
— Хорошее поместье, — соглашался он с Еганом. — Неплохое.
Это настроение его людей немного успокаивали Волкова. Но несильно, все равно двери кривые, провисшие, крыши проваленные. Запустение. И главное — не было тут ни мужиков, ни хорошей земли, ни даже леса, чтобы напилить его на дранку да крышу сделать.
— А мебель, тут даже мебели нет, — говорил он, — ни кроватей, ни лавок со столами.
Уж о креслах и перинах с зеркалами он и не мечтал.
— Господин, так лавки и стол я вам смастерю, какой-никакой, но стол поставлю, — обещал слуга.
— Какой-никакой, — передразнил его Волков. — Какой-никакой мне не нужен, мне хороший нужен.
Он уже понимал, что все покупать придется, даже тес и дранку, чтобы крыши покрыть. Не говоря уже про стекла в окошки, сундуки, комоды, лампы, посуду, перины и постельное белье. Все покупать, на все деньги тратить. А зачем ему это? Лен вассалу сеньор в прокорм давал, чтобы он себя прокормил и пару послуживых людей в придачу. Чтобы, когда война придет, приехал он на нее в помощь сеньору не один, а с людьми ратными. А это что? Это не в прокорм ему дали, а в растрату. Он опять стал думать о том, что его обманули. И о том, что надо бы плюнуть на клятву, да уехать отсюда.
Тут пришли мужик. Трое их было, одежда у всех ветхая, обуви нет, худые все. Старший из них лет на пятьдесят был. Сам уже от седины пег, костист, высок. Взгляд усталый. Нашел глазами кавалера, поклонился ему. Двое других тоже кланялись.
— Кто старший, как звать? — без доброты в голосе спросил Волков.
— Михаэль Мюллер меня звать, господин, — сказал пегий мужик, — я здесь староста.
— Кто мой дом пограбил? — спросил кавалер у него сразу.
— Никто, господин, бывший господин, когда уезжал, все забрал.
— Бывший господин? — не верил Волков. — Неужто он и стекла из окон вынул.
— Вынул их я, — сказал Михаэль, — но велел это сделать мне он.
Врет — не врет, разве тут угадаешь, а допрос учинять Волков пока не хотел:
— И что, мебель тоже он забрал?
— Все забрал, все, — отвечал Михаэль, — вот мужики соврать не дадут. Сами ему в возы все грузили.
Мужики согласно кивали. Мол, так и было все.
— А отчего он уехал? — спросил кавалер.
— От скудости, господин, — развел руки Михаэль, — прибытков от здешней земли немного. Земля плоха. Пшеницу мы не сеем, только рожь. Скота у нас после еретиков не осталась, они весь скот побрали в прошлый приход.
— А люди где? — спросил Волков. — Землемер говорил, у вас тут три года назад двадцать дворов было.
— Так и было, господин, больше было, так потом померло много от чумы, а те, что не померли, на юг побежали в кантоны от голода.
— А дома их где? Почему всего восемь домов осталось?
Мужики стояли, печами пожимали.
— На нужды и дрова разбирали, канальи, — сразу догадался Еган.
— Господин, — стал просить Михаэль, — может, отпустите нас, потом поговорим, а то мы коней взяли в долг у господина барона Фезенклевера, землю вспахать.
— А у вас своих коней нет?
— Откуда, господин? Ни коней, ни коров у нас нету. Все как еретики забрали, так и нет. Уже три года как. А то, что спрятать нам от них удалось, так все волки порезали. Теперь из скотины на всю деревню и десяти коз не насчитаешь.
— А что ж вы пашите так поздно? — спросил Еган. — Яровые так месяц назад уже пахать нужно было. У вас же может не уродиться до осени.
— Так пахотная земля у нас в низине, ждали, пока вода сойдет, чтобы зерно не погнило.
— Господин, дозвольте я с ними пойду, погляжу, что он там пашут, — спросил Еган.
— Коня возьми, — сказал Волков.
Он был рад сейчас, что у него есть Еган.
Глава 14
Агнес рада была, что уехала. Хоть и тянуло ее к господину, хоть и хотелось ей лечь с ним, но все-таки, не могла она быть собой рядом с ним. Не чувствовала она рядом с ним воли. Так и висел над нею несгибаемый дух его. Очень был силен ее господин. И манил и отталкивал одновременно. И обижал еще, своим пренебрежением и нежеланием видеть в ней женщину.
Она выглядывала из окна кареты, чтобы увидеть бок Максимилиана. Он ей тоже нравился. Не так, конечно, как господин, господину хотелось подчиняться и быть покорной. Иногда. А вот юноша красив был. Губы нежные. Она бы их ему искусала. Да, искусает при первой возможности, до крови. Хорошо бы его тоже себе в лакеи взять, как и эту дебелую служанку Уту. И изводить его и изводить, до тех пор, пока он тоже, как и Ута не станет перед ней на коленях ползать. Она была уверена, что и его ей покорить удастся. Нет в нем той силы, что есть в господине. А вот в ней она была. Девушка все больше в себе чувствовала эту силу. Силу что людей заставляет покоряться. Да, хорошо бы было, взять себе Максимилиана, да разве господин позволит.
— Останови карету, — крикнула Агнес, голосом твердым и даже гневным, испытывая юношу. Хотел видеть как быстро он будет ее приказы выполнять. Еще хотела знать, испугается ли он, а может вздрогнет, может обозлится или досаду выкажет? Все это было важно. Зорко следила девушка за тем, как люди слушают ее, всегда в лица глядела пристально, мельчайшие изменения замечая.
И уже из этого решала, как ей продолжать разговор. Поэтому служанку не просила, сама кричала.
Юноша глянул на нее сверху и потянул вожжи. Нелегко ему было первый раз управлять каретой из четырех коней, он заметно устал, был хмур. Не в радость ему пришлось задание это. Карета встала.
— Дверь отвори! — рыкнула на него Агнес, глаз не отрывая от юноши.
— К чему вам? — нехотя спросил он. — Зачем встали тут, вон дичь вокруг какая. Ехать нужно. Не случилось бы чего.
— Отвари, говорю! — повысила голос Агнес, все следя за ним.
Если не слезет сразу, а начнет оговариваться, значит, не просто с ним будет.
— Да к чему вам? — и не думает он слезать с козел.
Косится на нее с неприязнью. Сидит арапником играет. Хотя длинный хлыст намного удобнее. Думает, что с арапником он смелым выглядит.
Агнес злится про себя: «Плохо, артачится, подлец, за госпожу ее не чтит. Но она уже знает, как давить! Теперь ей нужно ему в глаза заглянуть. Смутить его нужно. А лучше и испугать. Она знает, как это сделать».
Никто ее этому не учил. И не в книгах она это прочла. И ничего не придумывает, она просто знает. Не нужно ей придумывать. Все эти знания вытекают из ее женской натуры. Прямо из сердца.
— По нужде надобно мне, — кричит Агнес со злостью, — этого ты, дурак, услышать хотел?
Он соскакивает уже расторопно, отворяет ей дверь, и откидывает ступени, чтобы сошла она.
— Руку подай, — грубо требует Агнес.
Он подает ей руку, нехотя. Она пытается ему в глаза заглянуть, а он голову опустил, отворачивается. Подлец.
Агнес пошла к обочине, к кустам, взбесилась и крикнула:
— За мной ступай, боюсь одна идти.
— Не пойду я, — говорит Максимилиан нагло с вызовом, — пусть служанка ваша идет.
Наглость эта еще больше ее злит.
А Максимилиан еще служанкой ее распоряжаться вздумал, говорит Уте:
— Иди с госпожою, чего расселась?
Но та без слова госпожи дышать не станет, сидит сидмя. Глаза от страха круглые не знает, что делать.
— Иди же, со мной, — кричит Агнес и не служанке, а ему, — вдруг в кустах звери дикие.
— Да не тебе их бояться, а им тебя, — не громко говорит Максимилиан, вздыхает, но идет следом за девицей.
А та первый раз улыбнулась незаметно. Все же пошел он, хоть и не хотел. Заставила.
Не пошла далеко, юбки подобрала, села прямо у дороги, за кустом. Вовсе не стесняясь молодого человека. И смотрит на него исподтишка, в надежде взгляд его поймать. Ох, как ей хотелось, чтобы он взглянул. Уж она бы нашла, что ему сказать тогда. А он нет, отвернулся, таращится вдоль дороги.
Как все сделала, встала, платье оправила и идет к карете, юноша рядом пошел, и как стал он совсем близко, так Агнес, быстро, его левой рукой за шею обвивает, так, что не вырваться ему, притягивает его, что есть силы к себе, и губами своими в его губы впивается. Да только в первый миг целует и тут же кусать ему губы начинает. Да не стесняется, больно кусает, грызет. Сначала опешил он, растерялся и не противился ей. Но потом, как больно ему стало, стал ее отпихивать. А ей все так это нравится, что она словно звереет. Еще сильнее кусать хочет. Он голову свою от нее оторвал, отворачивается. Больше губ своих не дает, а она одной рукой шею все его еще держит, а второй, от злости, что не уступает он, что не дает своих губ больше, за чресла его схватила. Так быстро нашла, как будто сто раз до этого хватала мужчин. И сжала пальцы сильно, со злостью, с улыбкой дикой. Тут он вскрикнул, и если сдерживался раньше, тот тут уже не сдержался, пихнул ее в грудь сильно, едва наземь не свалил. И как заорет на нее:
— Ополоумела?
А сам уже стоит настороже, опасается ее, она по глазам его видит, что боится.
И от этого ей так хорошо вдруг стало, так весело на душе, что засмеялась она, и говорит:
— Чего же ты как девица, это не я тебя, а ты меня лапать должен.
— Не должен я ничего, — говорит он с опаской, которая так веселит сердце ее. — Садитесь в карету.
— Так руку мне дай, — говорит она, — помоги подняться.
А он стоит, смотрит на нее, и приблизиться к ней не решается.
— Да не бойся ты, — смеется Агнес. — Иди сюда, не трону я тебя, девицу нежную.
— Не боюсь я, — говори Максимилиан. — И не девица я.
А сам подходит с опаской, руку подает издалека.
Девушка на руку почти не опирается, пальцы пальцев едва касаются, и когда она уже поднялась в карету, а он готов был уже ступени поднять, и забылся. Агнес вдруг наклонилась, и что есть силы, ногтями впивается ему в щеки, раздирая их до крови. И шипит по кошачьи, слова тянет сквозь зубы:
— Вот тебе, паскудник, будешь знать, как противиться мне.
Он остановился на дороге, и стоит, щеки разодраны, губы изгрызены, руки липки от крови. И в глазах его страх. А Агнес, усаживается поудобней в подушки, видит все это, и сердце ее поет от радости. Она улыбается, говорит ему, как ни в чем не бывало:
— Так, поехали уже, до города еще не близко, а дело к вечеру пошло.
Он вытер кровь с лица пятерней. Огляделся, эх, сбежать бы, да нельзя, господин задание дал. Никак нельзя. Он подошел, закрыл дверцу кареты, стараясь не смотреть на девицу. Потом забрался на козлы, куда ж деваться, присвистнул и встряхнул вожжи:
— Но, ленивые.
Агнес улыбалась. Она вдруг подумала, что раньше она мало улыбалась.
Да, до того как она встретила господина улыбаться ей было не от чего. А теперь она улыбалась, и даже смеялась часто. Раньше она и подумать не могла, что будет в карете ездить, и носить бархатные платья. Размышляя об этом, она погладила подол своего платья — как приятно руке от бархата. Потрогала батистовую рубашку, кружева на манжетах, и гребень в волосах черепаший, высокий, и шарф шелковый, что гребень накрывает. Все у нее ладно, все красиво. Так чего же ей было не улыбаться. А то, что Максимилиан артачится, так это дело времени. Он никуда от нее не денется. Будет, будет ей ноги целовать. А вот господин… Господин, другое дело, с ним не просто придется… Задумалась она, замечталась.
Ута сидела напротив, не шевелясь и не смотря на хозяйку. Она боялась смотреть на нее лишний раз. Не возможно было знать, что замышляет ее хозяйка, когда так страшно улыбается.
Ветер встречный быстро высушил царапины на лице Максимилиана. На молодых раны заживают быстро. Так же быстро, как он гнал карету на север. Хотел юноша побыстрее сделать дело, довести эту полоумную девку до Малена. Там и расстаться с нею.
Поэтому гнал лошадей, хотя и не умел, как следует управлять ими.
На то специальная сноровка нужна. Но Бог к нему был милостив, вскоре показались стены и башни города.
Немного ошибся он, взял на развилке левее, оттого не к южным воротам выехал, а сделал небольшой крюк и поехал к западным.
А вдоль западной дороги стояли виселицы. Там разбойников, беглых мужиков и конокрадов вешали. Ну не в город же их тащить, в самом деле.
Там, у одной из не занятых виселиц, сидел на колоде, из тех, что ставят под ноги висельникам, немолодой стражник, с кривой и ржавой алебардой и большим ножом на поясе. А в пяти шагах, перед ним, на земле, сидел мужик. Черная, понурая голова, и кисти рук его торчали из тяжких колодок, что были заперты на висячий замок.
Карета шла тут не очень быстро и Агнес устав от кустов да оврагов заинтересовалась мужиком и стражником. Решила выйти, до города уже почти доехали, спешить некуда, и посмотреть, может его вешать будут.
— Вели остановиться, — сказала она негромко, не отрывая взгляда от мужика-колодника.
Ута тут же кинулась кричать Максимилиану:
— Остановите, остановите, госпожа велит встать!
Нехотя, юноша натянул вожжи. Карета остановилась, проехав чуть дальше колодника.
Он спустился, и, открыв дверь, откинул ступеньки, осторожно, чтобы не дать оцарапать себя еще раз, подал руку как-бы издали.
Агнес с призрением глянула на него и, оперевшись на его руку, спустилась из кареты. Пошла, выгибаясь и разминая затекшее тело. Пошла к колоднику. Посмотреть его.
Даже издали он был ужасен. Черные сальные волосы, жесткие, как щетина, заросшее лицо в глубоких оспинах. Но заросло оно не все. Левая щека его была давно разодрана, да так, что дыра свежая в щеке имелась такая, что палец просунуть можно, в которую видны были желтые зубы.
— Госпожа, — окликнул ее стражник озабоченно, — стойте от него подальше, он душегуб. Он девку убил.
— Врешь, — гортанно и хрипло, но негромко отвечал мужик.
— И говорят не одну, работал конюхом кладбищенским, мертвяков возил, бродяг, да нищих мертвых собирал, говорят шлюх за кабаками мучил, говорят и убивал, но то разговоры все были, а тут, на последней его и поймали, — продолжал стражник. — Осудили.
— Брешешь, пес, — зло сказал мужик.
На сей раз, стражник его услышал, не поленился, поднялся, пошел, и как следует двинул мужика в ребра древком алебарды, сел на место и сказал:
— Погавкай мне еще, палачей не дождусь, сам тебя прибью.
Мужик скривился и оскалился от боли, но ничего больше стражнику не сказал.
— Значит, вешать его собираетесь? — спросила Агнес.
— Именно, — кивнул стражник, — только вот палачи сволочи, обещали после обеда быть, я их уже тут полдня дожидаюсь, не дай Бог забыли про меня, я потом, им покажу подлецам…
Глава 15
Агнес его слушать не стала, что-то привлекло ее в этом страшном мужике, она подошла ближе, склонилась, и заглянула ему в глаза. Глаза были карие, с красными жилами, с желтизной в белках. Взгляд его был взглядом животного, что в капкан попало.
— Убивал баб? — тихо спросила она, наклоняясь к нему.
Спросила тихо, да мужик поежился, не будь на нем колодок в палец толщиной, так почесался бы, наверное, так неуютно ему стало под взглядом девушки.
— Отвечай без вранья, — продолжала она, не отрывая от него своих глаз.
А он отвернулся, не выдержав ее взгляда. И промолчал.
— Вы подальше от него встаньте. — продолжал стражник. — Мало ли…
Но Агнес даже не глянула на него, и продолжила:
— Глаза ко мне повороти, на меня смотри.
Мужик чуть поупрямился и опять на нее поглядел.
А она и спрашивает:
— Каково ремесло твое?
— Конюх я, сызмальства при конях, — ответил он.
— А с моими конями управишься?
Мужик с удивлением посмотрел на нее, потом на ее карету и лошадей, затем снова на нее, и ответил:
— Управлюсь, не велика наука.
Агнес смотрит как у него в дыре, что на щеке, зубы двигаются, очень ей это любопытно, но сама дела своего не забывает и дальше спрашивает:
— Так пойдешь ко мне конюхом?
А он глядит на нее и молчит. Смотрит и молчит. Он не смеется, верит ей, что она от петли его избавить может. Сразу как глянул ей в глаза, так и поверил.
— Чего ж ты молчишь, дурак, под виселицей сидишь, или забыл? — говорит дева, торопя его.
— Уж не знаю, госпожа, что лучше, — вдруг хрипло отвечает он, — к вам пойти или тут остаться.
— Дурак, — зло сказала Агнес, — повиснешь сегодня и поделом тебе. То я тебе наперед предрекаю. Завтра вороны клевать тебя возьмутся. Оставайся.
— Нет, нет, госпожа, — вдруг встрепенулся мужик, — к вам хочу. К вам в услужение.
— Хочешь? — спросила она распрямляясь. — Поклянись, что до гроба служить мне будешь.
А он опять молчит. Словно уже и не рад, что освободят его от виселицы. Глаза бегают у подлеца.
— Клянись, говорю, — шипит ему девушка. — И даже не думай, что поклянешься и от клятвы уйдешь. Клянись! Ну! Или палачи скоро придут, тогда уже мне не спасти тебя будет.
— Клянусь, — наконец выдавали мужик.
— То-то, дурак, — зло сказал она, и пошла к стражнику, чуть подбирая юбки.
А стражнику очень интересно было, о чем это она с висельником шепталась, и он ждал пока девушка подойдет.
А она подошла и спросила ласково, как только могла:
— Как звать тебя, добрый человек?
— Иоганном крещен, добрая госпожа, — отвечал стражник с удивлением. Не ожидал он ласки от такой высокой госпожи.
Не каждый день, госпожа, что ездит в карете с четверкой дорогих коней с ним говорит. А может и вообще никогда такая с ним не разговаривала за всю жизнь его. От такого он растерялся так, что даже встать с колоды своей забыл. Говорил с ней сидя.
А она, видя это, произносит с улыбкой, поднося ручку свою к лицу его:
— На ладонь мою смотри, Иоганн. Сюда, следи за ней.
А тот дурень даже и не спросил, зачем ему за ее ладонью следить.
Агнес перед лицом его провела ладонью пару раз туда и сюда.
— Следи Иоганн, следи, — говорит она, а в голосе железо приказа, твердость не женская. — За пальцами следи.
Стражник за ее пальцами глазами водит, старается, и ничего не понимает.
А Агнес, как момента какого ждала, а когда поняла, что готово, тут же, двумя перстами его в лоб и толкнула:
— Спи Иоганн, оставь заботы, забудь обо всем.
Так толкнула, что голова его откинулась, и замер он на секунду с откинутой головой, словно в небе разглядывал что-то.
А потом голову опустил, поглядел на девицу удивленно, и уронил плохую свою алебарду на траву, обмякнув, сполз с колоды, уселся у места своего наземь и замер. Но глаза не закрыл, а стал в траве, что-то рассматривать. Голову низко наклонил.
Спроси кто у Агнес в этот момент, как она так смогла стражника утихомирить, откуда дар у нее такой, девушка бы и не ответила.
Не знала она, откуда эта сила в ней взялась, просто, когда карета встала у виселиц, как висельника она увидела, так знала уже, что делать будет.
И висельник, и Максимилиан смотрели на нее, мужик с восхищением, а юноша замер от удивления и страха. Рот открыв. Это было приятно ей. Особенно, что Максимилиан так смотрит на нее. Агнес и говорит ему:
— Что рот-то раззявил, найди у стражника ключ, отопри колодки, выпусти человека.
— Не слышали вы что ли? — отвечает он ей. — Душегуб это. Вешать его нужно.
А она смотрит на него с упреком и ухмылкой, и спрашивает:
— А ты сам не душегуб?
Обомлел Максимилиан, побледнел, вспомнил он ночь в тюрьме Хоккенхайма, стоит, застыл и понять не может, откуда она про то знает, ее же не было там.
А она и не заныла ничего, просто угадала, угадывать тайны людские направилось ей.
— Так душегуб ты или нет? — спрашивает девушка улыбаясь.
А сама уже все знает по лицу его. И машет на него рукой:
— Не дождешься тебя, — говорит ему девица с досадой, садясь возле стражника, — ни в чем от тебя прока нет. Никудышный.
Находит ключи от колодок в его кошельке, быстро идет и отпирает колодки, приговаривая:
— Торопиться нам надо, скоро люд здесь будет.
Мужик еле встал, распрямился, руки растирает, головой вертит.
А сам идет к стражнику, склоняется над ним, и с пояса его нож вытаскивает.
Агнес только на Максимилиана поглядела, как взгляд юноши увидела и руку его на рукояти кинжала, так крикнула мужику:
— Не смей!
Мальчишка-то пылок был, он мог на висельника и кинуться, хоть висельник в два раза его шире, но Максимилиан целыми днями с оружием упражнялся. Еще неизвестно чья бы взяла. И поэтому Агнес повторила твердо, пока мужик еще не сделал дела:
— Не смей! Ко мне ступай!
Мужик тут же пошел к ней.
— На колени встань!
Тот сразу повиновался, не раздумывая.
— Имя свое скажи! — сказал она, и протянула ему руку к лицу.
— Игнатий Вальковский меня зовут, госпожа.
— Целуй руку, Игнатий, ибо до конца дней своих поклялся мне быть слугой.
Игнатий сунул себе нож подмышку, огромными своими черными руками взял белую руку своей госпожи и поднес к губам.
— Раб я ваш на век, — сказал он и едва прикоснулся к белой коже, чтоб щетиной не царапать ее.
— Не забывай клятву свою, забудешь, проклят будешь, — сказал она. — Все, ехать нужно. Садись на козлы.
И пошла к карете.
— Госпожа, только в Мален мне ехать не резон, — шел за ней следом Игнатий.
— Так поедем в Хоккенхайм, если ночи не боишься? — сказала она, садясь в карету, причем у Максимилиана не попросив руки.
— Так ночь — мое время, — оскалился Игнатий, забрал грубо из руки юноши хлыст и полез на козлы.
А Агнес глянула на Максимилиана из окна кареты и произнесла, губу нижнюю выпятив:
— К господину ступай, увалень никчемный.
Щелкнул хлыст, и уставшие кони почувствовали опытную руку. Карета тронулась, и стала отворачивать от города. И быстро поехала вдаль. А Максимилиан стоял на обочине, он остался один, и к вечеру, и без коня, и почти без денег, с разодранными щеками и погрызенными губами, вдали от своих людей и господина. Но он был несказанно рад, и благодарил небо, что наконец распрощался с госпожой Агнес. Век бы ее больше не видать.
А потом, он поглядел на приближающуюся телегу с мужиками, на стражника, что сидел у колоды на траве, и пошел прочь побыстрее. И толи от спешки, толи от глупости не пошел он в город, где мог бы переночевать, а пошел на юг, обратно в Эшбахт.
Сыч собрал хворост. Велено протопить камин, ну значит будет топить. Волков сидел мрачный у обоза и глядел, как солдаты Рене ставят ему платку. Дома, в Ланне, у него шатер прекрасный был, но не в Ланн же за ним ехать. Ничего, поживет в палатке, пока сырость и вонь из дома не выветрятся. Пока Еган крышу не покроет, пока мебель не привезут, пока стекла не вставят, пока… Пока… Пока…
«Вот тебе и лен в прокорм, — в который раз думал он, раздражаясь, — вот тебе и награда, от добрых сеньоров. Лживые люди, служить им — глупость, верить еще большая глупость, особенно барону».
Он глядел на солдат, которые вовсе не были так грустны как он, наоборот, отчего-то веселы они были, и дело делали так споро, что и сержантам за ними приглядывать было не нужно. Одни ставили палатки, другие рубили кустарник, что рос вокруг, складывали его в большие кучи. Это про запас, через пару дней высохнет на солнце и пойдет в костер. Другие искали деревья, которых было совсем немного вокруг, да и те были совсем молодые, и рубили их на нужды. И все они находились в добром расположении духа. Словно пришли домой из долгого похода.
«Радуются, дураки, — думал Волков, — чего радуются, чем кормиться тут будут в пустыне этой?»
И тут приехал Бертье. Еще один счастливый дурак. Радуется, улыбается. Лошадь еле жива от усталости, не иначе, как гнал ее понапрасну. А лошадь-то Волкова.
К луке седла привязаны три мешка — шевелятся, потявкивают.
Бертье эти мешки к нему несет, хвалится:
— Кавалер, честное слово, удача нам была. Не зря я вас уговорил, не зря поехал.
Злит он своей веселой физиономией кавалера, и тем, что лошадь гнал, и даже акцентом своим злит, но кавалер виду не подает, спрашивает:
— В чем же удача наша, ротмистр?
— Поглядите, что досталось нам за семь монет, — радостно говорит Бертье и высыпает из мешков одну за другой четырех собак, и приговаривает, — это месье Цезарь, прыток, прыток как! А это, поглядите, морда какая благородная, это Филипп Второй, не иначе. Видите, как серьезен. А это мадмуазель Пенелопа, умна очень. Хоть в шахматы с ней играй. А это Милашка Бель. Разве не красавица?!
С этими словами он поцеловал собаку.
Волкову от души хотелось дать Бертье оплеуху, целуется с собаками, дурак, да собак этих пинками разогнать, но он вздохнул и спросил:
— А не молоды ли?
— Конечно, молоды, конечно, — залопотал ротмистр, тиская последнюю собаку, как ребенка любимого, — молоды мы, молоды, но зато сами поставим им ход и нюх, я сам все им поставлю. Поглядите, какой экстерьер, лапы главное, на лапы поглядите, это же не собаки — львы. Видите, как широки, а ведь они еще щенки. Из двух пометов таких хороших собак взял и так дешево, у меня на родине такие щенки по три талера пойдут, а Бель так за пять пошла бы одна. Думаю, что пока без псарни побудут, а потом мы им соорудим отличный домик, ведь они заслуживают хороший домик, да, мои милые? Заслуживаете.
Он стал их гладить и сюсюкаться с ними, собаки, кажется, тоже были ему рады.
А для Волкова все это было невыносимо, он встал и сделал вид, что уходит по делам, сам же шел прочь, лишь бы не видеть этого дурака с его чертовыми собаками.
Глава 16
Солнце начало садиться, он пошел на юг, пройтись, ноги размять, и увидал Егана, который ехал на лошади во главе нескольких крестьян, что вели в поводу двух лошадей с телегой.
Еган обрадовался, увидев Волкова, подъехал к нему, слез с лошади. Как и все вокруг был он доволен и первым делом сообщил господину радостно:
— А земля-то у вас и вправду дрянь, господин.
Бертье кавалер ударить не мог, а вот этому дурню, он очень даже мог дать оплеуху. Еле сдержался.
А тот и не видит беды, дальше говорит все так же радостно:
— Вся земля красная, суглинок, пшеницу тут сеять бестолку. Нипочем не взойдет, семена все равно, что выбросишь.
Волков стоял и ждал, что еще веселого скажет это недоумок деревенский. А того как разжигает:
— А вы поглядите, чем они пашу!
Он указал на телегу проезжавшую мимо, но кавалер даже не взглянул в ту строну:
— Сохой пашут! Без отвала, даже нож железом не оббит. Палка одна. Себя мучают и лошадей мордуют, — рассказывал слуга, весело возмущаясь дуростью местных мужиков. — Дурачье!
Волков продолжал молчать и смотреть на него. Тут Еган начал, кажется, что-то смекать. Он изменил тон. Заговорил серьезно:
— Плуг нужен, господин, хороший, с лемехом, с отвалом. И борона нужна, у них и бороны нет, и пара лошадей крепких, иначе хорошего урожая не будет. На такой-то земле постараться придется, чтобы хоть что-то из нее вышло.
Волков молча повернулся и пошел к деревне, а Еган пошл за ним все еще говоря ему:
— А земли много, они и четверть того поля не распахивают, спрашивают дураки, зачем им. А вот овес там взойдет, даже если сейчас сеять начнем, думаю и гороха бросить — посмотреть, что выйдет. Горох — он трава неприхотливая. Вдруг пойдет.
Волков почти не слышит, что он говорит. А слуга не унимается.
— Если плуг и семена купим, ничего, что поздно, земля мокрая еще, можно больше ржи распахать, а дальше овес и чутка, десятин пять, на горох пустить. На проверку. Можем даже и тысячу десятин засеять. Земля-то ваша, чего бояться. Никому за нее платить не надобно! Только на семена потратиться. Как вы считаете?
Кавалер остановился, посмотрел на него и сказал строго:
— Ничего не нужно, земля это бросовая, в оскорбление мне дана, в пренебрежение, мне такая не надобна. Завтра поедем отсюда!
— Господин, — Еган перепугался, аж в лице переменился, удивился сильно, — да вы что? Чего вы? Как так? Как бросовая, как поедем? Кто ж со своей земли уезжает? Какая-никакая, а своя, прокормимся с нее, да еще и как. И козы будут, и коровы, и сыр варить Брюнхвальд начнет. Все будет, тут нужно руки малость приложить и все будет.
Волков стоял-стоял, думал-думал и сказал ему:
— Руки, говоришь, приложить? Ну так приложи, будешь управляющим, раз так нравится тут тебе, и не дай тебе Бог, — он потряс пальцем пред носом слуги, — не добыть тут достатку.
— Господи! — глаза слуги округлились. Только что удивлялся, а тут перепугался. — Я управляющий?
— Ты. Раз так усердствуешь!
— Я? — не верил Еган.
— Да ты глухой, что ли, дурень. Кто ж еще, тут более нет никого, тебе говорю, — злился Волков.
— Так не грамотный я, — Еган схватился руками за голову от ужаса.
— К монаху ступай, он научит, он учитель хороший, — сказал Волков и снова пошел. — Всех учит и тебя выучит.
— Господи, Господи, что же мне теперь делать? Что делать?
— Первым делом найди мне человека проворного, вместо себя, а потом список составь, что тебе нужно будет. Семена эти твои, плуги, лошади, — стараясь сохранять спокойствие, говорил кавалер.
— Список? — Еган все еще сжимал голову руками и говорил сипло от волнения. — Это бумагу что ли написать? Так как же я ее напишу, если я писать не умею?
— К монаху иди, дурак, к монаху! — заорал Волков и быстро пошел от него, как только мог быстро, не хотел он больше никого ни видеть, ни слышать.
И так в этот вечер он был суров и мрачен, что больше никто с ним заговорить не решился. Сторонились его и слуги, и офицеры. Как стемнело, так он, отужинав, быстро ушел в сою платку и лег спать.
Зря он в город не пошел ночевать, там трактир бы нашел. Денег бы на хлеб и на палатки в людской с лакеями хватило бы. А тут вон как…
Ночь уже близится, солнце за холм садиться. Дороги скоро видно не будет. Ее и днем-то не очень разберешь. Травой зарастает местами. Никого кругом, смотри, не смотри — ни мужика, ни купчишки на этой дороге. Ни коров, ни домишек вокруг. Дичь да пустыня. И тишина, птицы уже умолкли. Только комары звенят.
Максимилиан ускорил шаг. Есть ему хотелось, ел он еще днем, как приехали в Эшбахт. Да и чего там он ел, кусок хлеба солдатского, да немного сыра. Но это ничего, пуще голода его жажда мучила. Он взглядом искал воды, очень пить хотелось. На ручей он и не рассчитывал, уже и луже был бы рад. Лужи в низинах на дороге были, в колеях вода стояла. Вернее, не вода — грязь, лужи почти высохли. Так что до темна, он очень хотел найти лужу с чистой водой. Торопился.
Уже света было мало, когда он нашел глубокую лужу у дороги. Кое-как напился, вода была мутноватой с заметным привкусом. Глина.
Он уже хотел встать от лужи, как услышал шелест. То шелестели кусты. Хоть и не рядом они были, но тишина вокруг стояла такая, что слышалось ему все отчетливо. Юноша встал, стал вглядываться в кустарник, на всякий случай руку на рукоять кинжала положил.
Но ничего не увидел и решил поторопиться. Идти ему нужно было полночи, не меньше, так что пошел он быстрым шагом. А солнце уже спряталось почти, но на краю неба, на востоке, засветилась луна.
Слава Богу, небо чистое, хоть что-то будет видно, иначе свалишься в чертополох в темноте-то. А еще и в овраг какой, их тут тьма тьмущая.
Максимилиан шел, думая, что придет в полночь в деревню и поест что-нибудь у солдат. Хорошо бы бобов с салом и чесноком.
Застрекотали сверчки. Ну, хоть какие-то звуки, а то только шаги его слышно было да комаров звон. И как сверчки застрекотали, так стало совсем по ночному темно. Лишь луна светила. Да толку от этого немного было, там, где свет ее падал на землю, еще что-то различить можно было, а где тень, да низины там темень, хоть глаз коли. Чернота.
И тут снова шелест. В тех кустах, что справа за спиной. Откуда? Ветра-то нет. Кусты неблизко те, но юношу страхом пронзило от пяток до макушки, как кипятком прошло, а на затылке волосы зашевелились, словно тронул кто. Словно ветер был. Он обернулся резко, руку снова на кинжал, рука вспотела сразу, но не дрожит. Сам он глядит в ту сторону, откуда звук был, а там ничего. Тишина и темнота. На всякий случай молодой человек стал читать «Патер ностер[1]». То, что на ум пришло, хотя знал он и другие молитвы. В том числе и солдатские, что просят дух укрепить. Прочитав ее быстро, сделал несколько шагов спиной назад, да разве так идти можно, повернулся и пошел быстро, благо луна разгорелась и кажется светлее стало.
Наверное, показалось ему, не было ничего, но рука вспотевшая рукоять кинжала сжимала крепко, так идти ему было спокойнее.
И он снова пошел, да так быстро, что только мог.
Но прошел юноша немного, сто шагов, не больше, и снова услыхал шелест и шум за спиной, снова прошиб его страх от пяток до макушки. Резко обернулся он и снова ничего. Только луна да сверчки заливаются. Снова он стоял, снова читал молитву, всю ту же «Патер ностер».
И на ветер бы ему подумать хотелось, да нет никакого ветра.
Стоял он в нерешительности, не знал, что ему и думать, понять не мог — играет ли кто с ним, крадется ли за ним или кажешься ему все это.
Максимилиан всю свою сознательную жизнь готовил себя к ратному ремеслу. А в нем не преуспеть труса празднуя. И собравшись с духом, он крикнул в темноту:
— Эй, не прячься, выходи, коли не трус!
А сам кинжал ухватил покрепче.
И еще страшнее ему стало, так одиноко и жалко звучал голос его в этой темной пустыне.
Никто не ответил ему. Ни звука в ответ не донеслось.
Сверчки замолкли на мгновенье, перепуганные его криком, и тут же опять зазвенели. И ничего больше.
Но теперь он не верил, что ему чудятся эти звуки. Он повернулся и пошел опять шагом быстрым. Шел считая шаги, не слыша ничего опасного, но кожей на спине чувствуя, что кто-то идет за ним. А перед ним низина, свет луны туда не достает, там темень непроглядная. Максимилиан стал быстрее идти, не разбирая дороги, лишь бы темноту скорее пройти. Побежал, даже не боясь споткнуться, и когда уже пробежал низину, как что-то будто подоткнуло его к тому, и он резко обернулся.
Тот страх, что он чувствовал до сих пор и не страхом был, а робость легкая. А теперь его страх принизил, как холод, что сковывает до полной недвижимости. Едва дышал, как будто камнем тяжким ему грудь придавило. И глаз оторвать не мог от того, что видел. А видел он, казалось-бы, немногое.
Из сумрака, куда луна не проникает, да нет, не из сумрака, из мглы черной, изливаясь желтым светом, смотрели на него два глаза нечеловеческих. Смотрители именно на него. Смотрели пристально, неотрывно, бесстрастно. Едва ли не в глаза ему. И ничего в этих бездонных глазах не было кроме холода.
И он не вынес взгляда этого страшного, словно с ума сошел, забыв разум человеческий, кинулся Максимилиан бежать. Спотыкаясь в темноте, с дороги сбежал, влетел в кусты и едва не упал, об корни ногой зацепившись. А за кустами овраг, а там земля с камнями, и он по этой земле вниз скатился и стал дальше бежать, вверх из оврага полез, кинжалом себе помогая. И только как вылез, решился назад обернуться.
И лучше ему не стало, ждал он, что глаза те исчезнут, как наваждение, а они вдруг рядом оказались. Десять шагов, на той стерне оврага они, опять за ним смотрят.
Тут он закричал:
— Что тебе, что? — и кинжал над головой поднял. — Не походи, коли жить хочешь!
И тут к нему стал разум возвращаться, подумал юноша: «Разве бы кавалер так бежал бы? Разве отец его так от зверя бежал бы?»
И вспомнил, как однажды сказал ему кавалер: «Бежать — не позор, позор — от страха голову терять».
И хоть колотилось его сердце, и хоть приближались к нему страшные глаза, стал он думать быстро, торопя себя:
«Что ж это за зверь, видно, что велик, видно, что страшен, но каков он?» — размышлял юноша. — «Бежать от него глупо, догонит, на спину прыгнет, и тогда смерть. Сражаться? Эх, была бы хоть кольчуга, тогда можно было бы, а так, с кинжалом одним! А вдруг он велик? Да велик он, велик! По глазам видать! Разорвет, кинжалом от такого не отмашешься. Эх! Не повезло. Может, укрытие искать? Да где тут?»
А тут он еще и дыхание зверя услыхал. Дышал он низко да с рыком. Большой это зверь. Как только юноша его сразу не расслышал.
Нет, не отмахаться от такого кинжалом. Максимилиан сжимал оружие крепко и, старясь не отрывать надолго взгляда от желтых, страшных пятен во тьме, стал поглядывать по сторонам. И тут удача его ждала. Луна так стала ярко светить, что на холме, в десяти шагах от себя, он увидел белое дерево. Дерево было старое, сухое, без коры уже, оттого и белело. И ветки на нем были низкие и удобные, чтобы схватится. Тут же и кинулся юноша к нему, и услышал за спиной рык глубокий и недовольный. И хруст по кустам за собой.
Да такой хруст был, так трещали ветки, как будто животное не меньше коровы по кустам бежало.
Не оглядываясь назад, молясь о том, лишь бы не споткнутся в темноте, добежал, и с разбегу прыгнул он на нижнюю ветку. Ветка без коры, сырая от вечерней росы, скользкая, едва не упал, едва из руки кинжала не уронил. Чудом схватился. Подтянулся. И тут же вверх, на другую, а с нее на следующую, выше. И выше. Одежда трещит на нем. И так лез он, скользя по древу башмаками, пока мог. Пока ветки его держали и не трещали под ним. И на высоте в четыре человеческих роста, уселся на ветку и обнял ствол дерева. Только теперь осмелился вниз взглянуть.
Там едва различимо двигалось что-то огромное. Может, и не с корову, но немногим меньше. Только глаза полыхали желтым в черноте. И смотрели глаза по-прежнему на Максимилиана. И приближались. И приближались, не торопясь. Он еще крепче прижался к стволу дерева. Еще крепче стиснул кинжал.
И тут это темное пятно, вдруг рвануло к древу и ударилось о него.
Крепко было дерево, толст его ствол, не сгнил еще. Но юноша почувствовал, как колыхнулось оно, вздрогнуло от тяжкого удара.
Подумал Максимилиан, что это страшное существо стрясти его с дерева желает, как яблоко спелое с яблони.
— Вон пошел, — заорал он как можно более громко.
Вдруг исчезло все, вернее, глаз в темноте перестало быть.
Но вот дыхание было слышно, не ушло оно никуда, хрипело рядом, под деревом.
И показалось ему, что хрип этот удаляется, но то всего секунду казалось. Тут же глаза засветились вновь, тут же хрип и рык, послышались. И кинулось животное к дереву. Нет! Не к дереву, а на дерево. Тяжкий удар вновь колыхнул стол, а за ним скрежет, и скрежет глухой. Растерялся юноша, не понимал, что происходит, только вниз пялился на то, как снизу, под скрежет этот, глаза желтые, адские, все ближе и ближе. Да так быстро все было, что и крикнуть он не успел. А они вот уже, рядом, присядь да руку протяни. И вдруг хруст, снова скрежет, глухой удар и рык раздраженный. А до юноши дошла волна смрада, что только от животного быть может. И понял он, как близко к нему зверь был.
Он полез выше, хотя уже и опасно было лезть, там все ветки тонкие. Но он ставил ноги на них у самого ствола, где не переломятся. И залез еще на один человечески рост выше. Дальше лезть было некуда.
И вовремя, снова тяжкая поступь, снова глаза желтые снизу на него глядят. И снова дерево содрогнулось, скрежет опять тоже. Понял юноша, что когти зверя так об дерево скребут, снова ближе и ближе глаза. Но теперь Максимилиан вдруг бояться перестал, он вспомнил, что рыцарь его, вообще, кажется, ничего не боялся. Неужто же ему, оруженосцу Инквизитора, трусом прослыть? Не будет он дрожать.
Нет! Присел он на ветке, держа ствол левой рукой, а правую, с кинжалом, над головой занес клинком вниз. И ждал, когда глаза приблизиться. Чтобы проткнуть один из них сильным ударом. А то и не одним, если успеет.
Но опять под скрежет когтей и звучный рык зверь, не добравшись до него, завис на мгновение на дереве, скобля когтями ствол, снова упал вниз и снова глухо ударился о земь. И снова только звериная вонь от него осталась.
— Жаль, что ты не долез, — крикнул Максимилиан, сам своей дерзости изумляясь. — Уж больно хотелось твою кровь на моем кинжале увидать, чертов демон!
Ни рыка, ни хрипа в ответ. И глаз больше в темноте было не видно.
Где-то шагах в двадцати в ночной тиши хрустнула ветка. И больше ничего, только луна, звезды, сверчки да комары.
Максимилиан, все еще боясь упасть, спрятал кинжал в ножны и не без труда снял с себя пояс. И поясом своим, благо пояс был нужной длинны, привязал себя к стволу дерева. И при этом не уронил ни кинжала, ни кошеля. Слезать с дерева он точно не собирался, пока солнце не взойдет. И только тут он заметил, что берета на голове его нет. И от этого он сильно расстроился. То был хороший берет, подарок кавалера.
Глава 17
Они встали до зари, еще до петухов. Землемер Куртц сказал кавалеру, что им, чтобы объехать его земли и вернуться до ночи, нужно выехать затемно. Так и сделали, по-солдатски быстро поели и поехали. Много народа брать не стали, кроме него и Куртца поехал Сыч и Еган. Егану, раз он теперь управляющий, надобно было знать, чем он управляет. Поехали просто, при оружии, но доспехов никто не надел, даже сам Волков. К чему? Авось, дома у себя.
Куртц предложил ехать на запад, посмотреть границы с соседями.
С теми соседями, что, как и Волков, являются вассалами герцога.
Пока выезжали, рассвело. А как рассвело, у кавалера опять настроение расстроилось. Ехали они все время в гору, вернее в холмы, и ничего кроме холмов и оврагов между холмами там не было. Все это густо поросло кустарником: шиповником, барбарисом да орешником, он был богат. Через час езды землемер остановился:
— Западная часть ваших земель, — Куртц указывал рукой, — она вся такая: предгорья.
— Вы говорили, что пахотной земли у меня десять тысяч, — мрачно напомнил ему кавалер.
— Больше, — уверено сказал землемер, — много больше. И сейчас я вам покажу большое поле на тринадцать тысячи десятин, вон за тем холмимо оно.
Они взобрались на холм, и с него кавалеру отрылось поле. Действительно большое. Чуть не до горизонта. Лежало оно меж холмов, как долина в горах. Ровное, удобное. Вот только брошенное, заросшее бурьяном. Унылое, без людей.
— Вот, — говорил Куртц, разворачивая карту, — наверное, лучшее ваше поле, так как к городу, к дороге близко.
— Отчего же мужики его не пашут? — спросил Сыч, внимательно слушавший их разговор.
— Так южное поле много к их дому ближе, — пояснил Куртц, — хотя тут урожай знатнее будет.
— И где же дорога, — вслух размышлял Еган, — как урожай отсюда вывозить?
— Дорога есть, — сказал землемер, указывая рукой на запад, — недалеко отсюда, правда, она уже во владениях барона фон Деница. Его земля начинается почти сразу за полем. Я его знаю, он добрый человек и не будет против, если вы будете возить урожай по его дороге.
— А добрый человек не даст своих мужиков, чтобы это поле вспахать? — едко поинтересовался Волков оглядывая поле.
Куртц заметил его едкость и вздохнул. А что он мог сказать? Что еще он мог сделать для этого кавалера? Он просто имперский чиновник, он просто показывает границы владений господам. И вынужден их терпеть.
— А это кто там? — вдруг произнес Сыч и указал на юг.
Все поглядели в сторону, в которую он указал.
Там спускался с холма человек, он тащил тачку на двух колесах, впрягшись в нее вместо лошади или мула.
Куртц пригляделся и сказал:
— А, так это брат Бенедикт. Он здесь вместо попа. И ваших людишек и людей барона фон Деница, что живут тут на хуторах, он словом Божьим окормляет. Святой человек, сколько лет уже один тут в пустыне проживает. К нему из Малена и даже из Вильбурга за благословениями приходят.
— Ах, вот как, — произнес кавалер и направил коня навстречу монаху. — Мне благословение не помешает.
Более бедного человека трудно было себе представить. Грубая, некогда монашеская одежда была ветха от старости. Сандалии из куска толстой кожи и веревки, на груди деревянный крест, висевший на веревке. Сам он был возраста неопределенного, худ, но как говорят, жилист, тащил телегу в гору не хуже мула. Увидав всадников, остановился и еще издали стал кланяться, не раз и не два.
— Добрый тебе день, брат Бенедикт, — еще издали крикнул Куртц.
— И вам хорошего дня, добрые господа.
Он пригляделся и спросил у Куртца:
— Я вас, кажется, помню. Мы встречались ведь?
— Да, святой отец, — Куртц спрыгнул с лошади и, подойдя к монаху, склонил одно колено, присел. — Я здешний землемер, вы благословляли меня три года назад, я говорил, что беременность у моей жены была тяжелая. Вы говорили, что помолитесь за жену.
— И как же разрешилась беременность та? — спросил монах.
— Слава Богу, разрешилась хорошо, спасибо вам, дозвольте руку целовать.
— Полноте, полноте, — монах, улыбался, но не подал руку, — не прелат я и не епископ, чтобы мне руки лобзать, и благодарить меня нет нужды, Бога благодарите, сын мой.
Волков заметил, что руки у монаха грязны очень. И заметил он кое-что еще.
Куртц встал и все-таки поймал монаха за руку, поцеловал ее и, повернувшись к кавалеру, представил его монаху:
— А это кавалер Фолькоф, рыцарь божий, милостью курфюрста новый хозяин Эшбахта.
Монах, видно было, сразу обрадовался, еще раз низко поклонился и произнес:
— Ах, как это хорошо. Услышала, значит, заступница наша, Матерь божья, молитвы мои. Сколько лет я просил, чтобы послал Господь сюда господина хорошего. Доброго и деятельного, а уж о том, что он будет рыцарь Божий я и желать не смел.
Волков ему тоже поклонился, но берета не снимал, с лошади не слезал:
— Спасибо, святой отец, что несете слово Божье людям моим.
— А как же иначе, — говорил монах, — то долг мой. А люди ваши жили в страшных лишениях, без слова Божьего и не выжить им было.
— В лишениях? — спросил кавалер.
— В лишения, добрый господин, в страшных лишениях. За десять лет две войны через их землю прошло, да чума не милосердствовала, два года неурожая, дождями вон сколько оврагов намыло, — он обвел рукой окрестной. — И после этого всего ничего у них не осталось, все у соседей просят, а соседи безжалостны. Лошадей для вспашки поля дадут, так втридорога просят. Семена дадут, так опять втридорога берут. Люди ваши живут в кабале. И вот же еще беда, — брат Бенедикт обернулся и указал на свою тележку, — волки округу одолевают, никакую скотину нельзя оставить без присмотра. И детей нельзя, да и за взрослых боязно.
Все заглянули в его тележку и увидали труп разодранного в клочья козла. То, что это козел, лишь по голове с рогами угадать можно было.
— Нашел поутру, видно, с хутора соседнего убежал на погибель свою, — продолжал монах, — теперь вот, похлебкой моей станет, бобы с луком у меня есть, не желаете ли господа ко мне в гости? Дом мой тут недалеко.
— Не досуг нам, — сказал землемер, — извините, святой отец, но нужно мне новому господину границы его земли показать.
— Про волков я наслышан от епископа вашего, — сказал кавалер. — Друг мой, что приехал со мной, уже купил собак, грозиться извести волков вскорости.
— Благослови его Бог и друга вашего и нашего епископа доброго, то радость большая всей округе будет, — обрадовался монах, — благослови их Бог.
— А кто ж из соседей моих мужиков в кабалу загоняет? — этот вопрос волновал Волкова почему-то больше, чем какие-то волки.
Монах ответил не сразу, помялся немного и только после сказал:
— Да он не плохой человек, но уж больно алчен, меры в сребролюбии не знает. Своих мужиков не милует, а чужих еще пуще обирает.
— Так кто же это?
— То барон фон Фезенклевер, — нехотя произнес монах. И тут же начал говорить с жаром. — Но как по душе его смотреть, то он человек незлобивый, жадность его самого ест, сам он от нее страдает.
— Это родственник канцлера, — шепнул землемер Волкову, — извел все графство своим стяжательством. Даже граф на него управу найти не может. Судится и рядиться со всеми соседями, знает, что канцлер его всегда выручит. Все судьи за него. И он кичится этим.
— Но главная беда ваших мест не барон — волки, вот беда так беда, — продолжал монах. — Истинная кара египетская, не меньше. И если соседи ваши на своих землях худо-бедно их бьют, то в вашей земле раздолье им. Ни страху у них нет, ни разума.
— Я ими займусь, — обещал Волков.
— Уж прошу вас о том, — произнес монах, крестя кавалера, — благослови вас на то Бог.
На том они и расстались.
Монах пошел на север, к жилищу своему, а всадники поехали вдоль западной границы на юг.
— А что у монаха с левой рукой? — спросил Сыч у Куртца, когда они отъехали подальше.
— Точно! — вспомнил Волков. — У него вся рука изрублена. И пальцы, и кисть. Кажется, пальцы у него не разгибаются.
— Говорят, что несколько лет назад напали на него волки, — сказал землемер, — и руку погрызли. Тут в пустынях ваших их и вправду много.
— Волки, волки, волки, — бубнил кавалер и тут же добавил насмешливо, — только и слышу, но не видел пока ни одного.
— Да как же! — воскликнул землемер удивленно. — Лошади храпят, чуют их дух, не слышите, что ли? Следы то и дело нашу дорогу пересекали. Не видели?
— Нет, я не охотник, следов не различаю, — отвечал Волков.
— То и не любит монах волков, что они ему руку погрызли, — произнес Еган.
— Здесь все не любят волков, — заметил ему Куртц.
Глава 18
Поехали дальше на юг, вдоль границы, и не весел для Волкова путь был, куда не глянь овраги да репей с чертополохом. Лошадям, и тем не весело, дорога тяжкая. А через час заехали на крутой холм и с него увидали хутор из пяти домишек. Огороды, пару коров. Мужички чего-то шевелятся внизу. Работают.
— То, конечно, не моя земля? — с какой-то грустной завистью спросил кавалер.
— Нет, — отвечал землемер, на всякий случай заглянув в карту, — этот хутор барона Фезенклевера.
Волков уже хотел коня поворотить на юг, чтобы ехать дальше, как Сыч и говорит, указывая рукой:
— А не вон он ли скачет сам барон?
И вправду, мужик, приказчик или еще кто так скакать не мог. Сказали по дороге три всадника, скакали резво, видно, что все на хороших конях. Ехали в их сторону.
И Волков поднял руку в знак приветствия. И первый из них тоже помахал им рукой.
— Едем навстречу, — произнес кавалер, — иначе невежливо будет.
Он стал спускаться с холма первый, все остальные за ним.
Сыч был прав, и как только приблизились всадники, Волков понял, что пред ним человек важный. Все трое были при железе, хотя и без доспеха. На первом из них, коему не было еще и сорока, была золотая цепь, и конь его стоил не меньше, чем конь у Волкова самого. А этого коня Волкову Брюнхвальд добыл, отняв его у форейтора Рябой Рут.
— Сам! — негромко сказал землемер.
— Здравствуйте, добрый господин, — сразу заговорил барон, обращаясь к Волкову, остальных он мимолетным взглядом отметил как недостойных.
Землемер был в одежде прост, а на Сыче и Егане была одежда в цветах герба кавалера. Да и по лошади с оружием всегда господина различишь.
— Рад видеть вас, господин барон, — отвечал Волков. — Зовут меня Иероним Фолькоф, я рыцарь божий, милостью герцога господин Эшбахта. Сосед ваш.
— Ах, ну наконец-то, — говорит важный господин важным тоном, — я, как вы уже знаете, барон Фезенклевер. И я рад приветствовать вас, сосед.
На том ласка барона и закончилась. Думал кавалер, что он ему руку протянет, а барон не протянул и заговорил тоном, из которого спесь лезла.
— Хорошо, что наконец Его Высочество нашел сей земле нового господина, прошлые-то сбегали, даром герцога пренебрегая.
Говорил он так, словно намекал, что и Волков сбежит.
— Надеюсь, что вы наведете порядок в земле своей и не будет она больше досадой для всех соседей.
Сказанного, да еще сказанного таким тоном, было достаточно, чтобы разозлить Волкова. И слова, и тон его, конечно, задели, но решил он быть вежливым, не зря так господин этот спесив, видно, силу в себе чувствует. Поэтому кавалер спросил вежливо:
— А какова же досада соседям от земли моей, позвольте узнать?
— А досада такова, что мы в своих землях волков извели, так с вашей земли они ходят и скот наш режут.
— И не только скот, — заговорил один из спутников барона, молодой и красивый человек на отличном коне.
— Верно, — вспомнил барон, — месяц как девчонку пастушку задрали до смерти. Не здесь правда, а севернее, но я уверен, что они от вас приходили, так как у себя мы с людьми моими своих волков извели.
— Я уже купил собак, — произнес кавалер, думая, что правильно дал денег на собак, — мне еще епископ о волках говорил.
— Вот и хорошо, — произнес барон, все тем же отвратительным тоном, — а как вы смотрите на то, что бы вернуть долги мужиков ваших? Или то вас не касается, и пусть они сами долг возвращают?
— Отчего же не касается, люди мои, и значит все меня касается. Сколько же они вам задолжали, и за что?
— Двадцать один талер и шестьдесят крейцеров, — сразу выпалил барон.
— Помилуй меня Господь, — воскликнул Волков удивленно, — да как же такое быть может? Это же почти что на золотой цехин тянет! Что ж эти подлецы у вас могли набрать на такие деньги? На такие деньги можно четырех меринов купить или сорок коров! А у них ни коров, ни меринов нету.
— Не помню, я, — пробурчал барон, — семена вроде брали, лошадей на посев брали.
— Семена? Семена ржи? — продолжал удивляться кавалер. — Так на цехин таких семян можно десять возов купить.
— Тринадцать, — заметил Еган.
Волков указал на слугу пальцем как на свидетеля и продолжил:
— Тринадцать! А вы точно, барон, им столько семян давали? Может у вас, барон, расписки имеются?
— Расписки? — барон скривился. В его голосе послышалось раздражение. — Вы что же, слову моему не верите?
— Да разве я посмею? — взмахнул руками Волков. — Конечно, я верю вам, но хочу дознаться, куда столько денег мои мужики дели. Узнаю, уж я с них спрошу.
— Узнайте, — кривясь, произнес барон.
— Узнаю, узнаю, — обещал Волков, — а вы, как готовы будете, так милости прошу ко мне, если расписок не будет у вас, так мне вашего слова достаточно будет, но хочу, чтобы вы его при моих мужиках сказали, чтобы не вздумали отпираться они, подлецы.
— Не привык я тянуть, когда дело касается слова моего. Завтра же буду в вас в Эшбахте, — обещал барон с гордостью неуместной. Так говорил, будто кто-то оскорбил его. — К обеду.
— Рад буду видеть вас, — улыбался ему кавалер.
Когда разъехались они, и барон был уже далеко, Куртц все еще тихо, словно боясь, что его могут услышать произнес:
— Видали каков? Говорят, он так со всеми соседями задирается. Сквалыга и скупердяй.
Волков счел недостойным говорить с ним о бароне, тем более возводить на того хулу. Пусть даже у него к барону фон Фезенклевер расположение сложилось худое, так как тон барона был неучтив и слова его походили на нравоучения, но говорить об этом с землемером кавалер не собирался. Он только поглядел на Куртца осуждающе и промолчал.
Видно, Куртц понял, что зря болтал такое, и тоже примолк. Он понял, что одно дело — рассказать местные сплетни, а другое дело — за глаза облаивать господ. Такое только холопам по чину, но уж никак не Божьим рыцарям.
Проехали они еще, Куртц опять взглянул в карту и, указав рукой на запад, сказал:
— А здесь земли господина Гренера будут.
— Чем знаменит? — спросил кавалер.
— Да ничем, — землемер пожал плечами. — Земелька его захудалая и много меньше вашей будет, — и тут он вспомнил. — А, знаменит он тем, что у него шесть сыновей. Говорят, нищие и злые, всем он им лошадей купил и доспех, отправлял герцогу служить. А когда у одного из них убили лошадь, так отец другую ему покупать отказался, он в ландскнехтах служил. В Маленской роте.
— Вот как, — произнес Волков, и поехали они дальше.
Ехали они недолго, когда землемер снова заглянул в карту и произнес:
— Ну вот, кажется, за теми пригорками и река будет.
Так и случилось, солнце было уже высоко, когда они выехали на холм. А оттуда им видно было, как на солнце блестела гладью еще неширокая, но уже быстрая река, что несет свои воды сначала на запад, а потом и на север до самого Холодного моря. То была река Марта, река, что делила земли короля и императора.
— А там, что, — спросил Еган, указывая на берег реки, — никак деревня какая? Домишки, вроде, на берегу?
— Там раньше людишки ваши жили, — сказал Куртц Волкову, — до первой войны, так их горцы к себе угнали. Теперь дома пустые, сгнили.
— Сгнили? — спросил кавалер, вглядываясь в поселение. Глаза гвардейца-арбалетчика были еще остры. — А откуда же дыму в сгнивших домах взяться?
— Дым? — удивленно спросил землемер.
— Дым, — потвердел Сыч, тоже приглядываясь, — точно дым.
— Откуда же ему там быть? — все удивлялся Куртц.
Не слушая их больше, Волков тронул коня и поехал к реке, к заброшенной деревне, где был виден дым. Сначала он был виден, а потом и стал чувствоваться:
— Никак коптят что-то, — принюхивался Сыч к дыму, что доносил до них ветерок с реки.
Да, там на берегу, были люди, и они коптили рыбу. Волков проехал мимо сгнивших, черных лачуг с проваленными крышами и почти упавшими заборами. Выехал на прекрасный, белый песок берега. И увидел там людей, крепких мужиков, не меньше, чем полдюжины. А еще увидал четыре большие лодки у берега.
Сети в кучу брошенные, бочки и коптильни из железа. Мужички вскакивали, смотри на кавалера удивленно и не дружелюбно.
И было их не полдюжины, как казалось сначала, бежали к ним новые отовсюду. Стало их тринадцать, и среди них заводилой был молодой и высокий человек с хорошим тесаком на поясе.
И видя, что идут они все к нему, кто с веслом, кто с вилами, а кто и острогой, Волков смотрел на этих людей и размышлял, на всякий случай, трогая эфес меча:
«Вот и думай после этого, что ты дома, что кираса и шлем тебе не понадобятся».
И понимая, что молчать больше нельзя громко, чтобы эти мужики его слышали все, спросил:
— Землемер Куртц, а это берег все еще земля Эшбахта?
— Да, кавалер! — так же громко отвечал землемер и в знак правоты своих слов, поднимая карту над головой. — Все, что по правую сторону реки Марты, кроме Линхаймского леса, то земля господ Маленов и их вассалов. И земля Эшбахт длится до реки Марты. И все это есть герцогство Ребенрее. И говорю это я, землемер Его Императорского Величества, Стефан Куртц.
Мужики молчали, косились на своего высокого вождя. Но при том ухмылялись вызывающе. Видно, плевать они хотели и на карты землемера и на герцога и даже на Его Императорское Величество.
— Кто вы такие и что вы тут делает? — спросил тогда Волков.
— А ты кто таков? — в свою очередь спросил высокий мужчина с тесаком на поясе.
Он отстранил одного из своих и приблизился к Волкову. В его движениях чувствовалась отвага, смотрел он исподлобья и с ухмылкой. А обращение на «ты» было явной грубостью, видно был он из задир. Стал он близко от коня кавалера. Так близко, что еще один шаг и мог схватить коня под уздцы. И, чтобы не было у него такой охоты, кавалер положил руку на эфес меча.
Заговорил без тени сомнений в голосе:
— Милостью Господней я рыцарь Божий, а милостью герцога я новый хозяин Эшбахта, зовут меня Иероним Фолькоф. А теперь назовитесь вы!
Тут молодой и высокий, окинул всех своих соратников взглядом и с дерзостью заговорил:
— А мы милостью Господней свободные люди свободных городов Рюмикона и Висликофена. Мы как раз те люди, что всяких папских кавалеров привыкли на пики насаживать!
Волков знал этих людей. Нет, не их лично, но таких, как они. Он видел их много раз, много лет подряд по ту сторону алебард и пик.
С ними он воевал долгие десять лет в южных войнах. Их нанимал король против императора. Их нанимали города друг против друга. Их нанимали все, у кого были деньги. И никогда они не воевали на стороне Волкова.
Да, судя по всему, это были те самые люди, его давние противники — горная сволочь, чертовы горцы, горные безбожники — люди, не знающие чести.
Волков покосился на Куртца, тот был из ландскнехтов, заклятых врагов горцев, кавалер немного волновался: лишь бы он не учудил тут чего. Конечно, Волков успел бы убить молодого и высокого одним ударом, уж больно вальяжно тот стоял, руки в боки и нагло таращился, смотрел так, словно ругань выкрикивал, кавалер убил бы его, прежде чем тот успел бы за тесак схватиться, а дальше что? Была бы кираса со шлемом — еще куда не шло, а так… Получить вилами, острогой в бок или веслом по голове никакой охоты у него не было. Четверо против тринадцати? Верная смерть. Да и герцогу он обещал, что будет хранить мир с соседями.
И поэтому он вздохнул и продолжил:
— И что же такие свободные жители Рюмикона и Висликофена делают на такой не свободной земле? На моей земле?
— А разве ты не видишь, кавалер, — продолжал дерзить высокий с той же своей ухмылочкой, — рыбу ловим, солим да коптим. Или ослепли твои благородные очи?
— Отчего вы ловите и коптите рыбу на моей земле? — хладнокровно спросил Волков.
— Оттого, что она тут есть, — ответил высокий едко. — И место тут удобное для сетей.
Тут все его соратники стали смеяться. Оборзели, бахвалились.
Волков поймал на себе испуганный взгляд Егана, во взгляде так и читалось: «Господи, хоть бы кавалер не начал свару». Нет, Еган волновался напрасно. Волков был холоден и спокоен, не собирался он тут погибать за пару бочек рыбы. Он сказал твердо и громко произнес:
— Свободные люди Рюмикона и Виселкофена, вы нарушили границы моих владений, прошу вас уйти отсюда.
— Немедля уйдем, — все еще ерничая, обещал высокий. — Вот только сети снимем и уйдем, кавалер.
— А не хотите ли рыбки у нас купить? — так же с вызовом вдруг крикнул один из мужиков.
— Благодарю вас, нет, — холодно отвечал Волков, — речную рыбу едят нищие и прочая сволочь. Тем более, я не буду покупать ее у воров.
Лица рыбаков сразу изменились, даже высокий перестал скалиться. Волков знал, что этим их заденет, но ничего поделать с собой не мог. Не сдержался. И добавил тут же:
— И все-таки, я прошу вас покинуть мои владения.
И не дожидаясь ответа, повернул коня и поехал прочь. Еган, Сыч и Куртц поехали за ним. Мужики что-то кричали ему в след, но он их не слушал, он был спокоен и холоден.
Чуть отъехав и заехав за очередной холм, Волков остановился и сказал Сычу:
— Сыч, останься тут, пригляди за ними, если уйдут, скачи в Эшбахт, а нет, так жди до ночи. И тогда тоже скачи в Эшбахт. Надобно знать мне, уедут они до утра или нет.
— Да, экселенц, — ответил Фриц Ламме понимающе. — Все выясню.
— Опять что-то затеваете? — забубнил Еган. — Вот нужно оно вам?
— Молчи, дурень, — беззлобно ответил ему Волков. — На моей земле грабит меня и мне дерзит мужичье поганое. Думаешь, нужно спустить им?
— Так злые они, вон какие, раз такие злые значит в силе, чего их еще злить?
— Да не буду я их злить, коли уйдут, — обещал кавалер.
— Ох, не можете вы без свар, — вздохнул слуга.
— Эта погань горская всех тут задевает, — вдруг сказал землемер со злобой, — и никого не боится. Это потому, что герцог боится мир с ними нарушить.
Но Волков не стал говорить с ним на эту тему. Мало ли, куда потом его слова дойдут. Он помнил, что обещал и герцогу, и канцлеру, и графу фон Мален. А обещал он им всем, что свар с соседями не допустит. И поэтому только и произнес:
— Сыч, ты смотри, не попадись им.
— Уж не волнуйтесь, экселенц, — обещал Сыч.
Глава 19
Вдоль реки они поехали на восток, оставив Сыча приглядывать за рыбаками, и уже через час Еган воскликнул, указывая рукой вперед:
— Там лес!
Кавалер поглядел и увидал темное пятно, что выделилось на всей остальной местности. Да, это был настоящий лес. И деревья в нем были не чета всем остальным заморышам, что ютились изредка на краях оврагов. То были крепкие и высокие ели. Отличный это был лес, хоть видно и небольшой.
— То не ваш лес, — сказал землемер кисло, чтобы не радовался Еган сильно. — То лес кантона Брегген, единственная земля кантона на этом берегу.
Он проткнул Волкову карту, и тот мимолетом взглянул на нее. Да, граница была проведена по реке и лесу.
— Жалко, сказал Еган, — хорошие елки.
— Раньше их много больше было, да видно прошлый хозяин продал все.
— А что это? — вдруг закричал Еган, указывая на реку. — Глядите, что это?
Куртц глянул на реку, а потом поглядел на Егана с ухмылкой, мол чего так орать-то, и произнес, поясняя:
— То плоты, так горцы лес сплавляют.
Сам Волков тоже видел такое впервые — на связанных меж собой бревнах сидели людишки, и шалаши были на тех бревнах, и даже рули из длинных досок. Таких плотов, в цепь связано было четыре, на каждом сидело по два человека. Река неспешно тащила бревна на запад. Людишки лениво шевелили рулями, выбирая середину реки. Другие варили что-то на кострах, прямо на бревнах, не хуже, если бы сидели они на твердой земле. Так и ехали себе вниз по течению.
— Ишь, ты, а мы всегда бревна волоком возили! — восхитился Еган.
— У этих горных сволочей лесом все горы поросли, вот на нем они все богатство свое и делают, — говорил Куртц завистливо. — Такие плоты чуть не каждый день на север плывут.
— А ну-ка, Куртц, дайте-ка мне на карту взглянуть, — сказал Волков, выслушав все это.
Он пару секунд разглядывал карту и потом спросил, указывая пальцем:
— А этот длинный остров мы, кажется, уже проехали?
— Да. Это тот остров, где рыбаки были, почти напротив заброшенной деревни, — пояснил землемер.
Кавалер вернул ему карту, и Еган, служивший господину уже немало месяцев, заметил, что в лице того появилось знакомое злорадное удовольствие от увиденного.
— Вы никак опять чего-то затеять собираетесь? — озабоченно спросил он у господина.
— Посмотрим, — многообещающе произнес кавалер.
Ох, не понравилось это «посмотрим» новоиспеченному управляющему, и не понравилось ему выражение лица господина, когда он это говорил. Но говорить ему Еган ничего не стал, ну его к шутам, опять наорет, последнее время у кавалера дурное расположение духа.
Так они и поехали молча по берегу реки к лесу. А как до леса доехали, как запахло елками, землемер вдруг говорит:
— А ну стойте-ка!
Он останавливает коня, слазит с него. И снова лезет к себе в карту и приговаривает:
— Постойте-постойте, так-так-так.
Наконец он отрывается от карты и радостно сообщает:
— Ну, кавалер, повезло, вам, что я сюда с вами приехал.
— Говорите вы уже! — изнывает нетерпеливый Еган. — Чего нам радоваться?
— А вот чего! — восклицает землемер, еще раз заглядывая в карту. — Лес кантона простирается только до острого камня, видите его, вон он? А все что севернее его — так то ваш лес.
— Ах, вот как, — приятно удивляется Еган.
— Не очень и много того леса, — кисло замечает Волков.
— Ну, много — немного, а пару сотен бревен будет, — замечает Куртц.
— Уж точно лишними не будут, — заявляет Еган. — Все порубим и свезем в Эшбахт, всяк не покупать.
— Путь-то неблизкий, — заметил кавалер.
— Ничего-ничего, из Малена не ближе будет везти, а это свое, срубил, привязал бревнышко да привез, срубил, привязал да привез. Так и перевозим за зиму по снежку, чего мужику зимой-то делать.
— Тут снег не всю зиму лежит, — напомнил Куртц.
— Ничего, и по земельке перетащим, — заверил его Еган.
Тут он был прав, и Волков с ним спорить не стал, сказал просто:
— Уже за полдень, давайте поедим, что ли?
— А я уже думаю, когда же вы проголодаетесь, — обрадовался Еган.
Не то, что бы он сильно проголодался. Он бы потерпел до вечера, ему как раз становилось интересно, что еще в его земле есть. Но опять все то же. Опять начинала ныть нога. Он уже доставал ее из стремени незаметно, и ехал вытянув ее, а потом ехал согнув ее в колене, и незаметно, чтобы никто не видел, старался размять больную, тугую область пальцами. Но это только отводило боль не намного, а потом она возвращалась. Ему нужно было сесть, вытянуть и расслабить ногу хоть на полчаса.
Они никуда дальше не поехали, остались на опушке леса. Еган достал снедь из седельных сумок. Сели есть сыр, вареные яйца, ветчину, хлеб и пиво из жбана. Пока ели, Еган взял кусок, но сидеть не стал, а кусая хлеб на ходу, как положено управляющему, пошел в лес, начал считать деревья, что росли севернее камня, но сосчитать не смог, сбился, когда больше ста насчитал, пришел и сказал довольно:
— За сто деревьев у нас будет. Очень будут они, кстати, для стройки. Низы на стропила и доски пойдут, верхи на тес, — разумно говорил он, упиваясь своей разумностью и тем, что кавалер его внимательно слушает. — На тес все бревна пускать не будем — жалко. На стропила, на доски. Да. Такие хорошие бревна… Да на что угодно они пойдут…
Волков промолчал, он видел неподдельный интерес Егана. И кажется, заражался этим интересом. Он уже не был так недоволен землей. Да, земелька, конечно, дрянь, но жить тут можно. Тем более что у него появились мыслишки кое-какие. В общем, еще больше захотелось ему узнать, что еще есть в его земле интересного.
Карл Брюнхвальд почти всю свою жизнь провел среди солдат. Начинал он в городском ополчении еще в двенадцать лет барабанщиком. Его туда пристроил отец. Человек в городе уважаемый. Отец был из старого городского рода, поэтому удалось пристроить сына столь удачно. Уже тогда юный Карл привык рано вставать, спать урывками и даже стоя, есть, что дадут и когда дадут, мерзнуть и изнывать от жары без особого ущерба для себя. И был настолько вынослив, что мог не снимать доспеха, находясь в страже даже целым суткам.
С младых ногтей, как говорится, Карл понял, что основанная институция в армии — это дисциплина. Ни деньги, ни преданность господину или корпорации, ни вера в Господа всемогущего так не цементировало роту, как ежедневная и не ослабляемая сила дисциплины. Дисциплина была его вторым богом, оттого и роты его всегда были самыми стойкими, сержанты самыми знающими и твердыми, а корпоралы и ротные старшины самыми честными и справедливыми.
Карл Брюнхвальд не терпел среди своих людей трусов, горлодеров и особенно лентяев. Жалобы подчиненных он никогда не слушал, к чему это? Для того чтобы высказывать ему свои пожелания солдаты и выбирали из старшин, из самых старых и уважаемых солдат представителей своей корпорации — корпоралов. Они и сержанты могли обращаться к нему и высказывать все, что считали нужным. Они же и делили добычу, коли та была. Тем не менее, среди солдат он пользовался большим уважением, так как берег своих людей и был храбр и хладнокровен. И еще, что немаловажно, он был безупречно честен в расчетах с подчиненными и нанимателями. В общем, к своим сорока трем годам Карл Брюнхвальд, один из славного рода Брюнхвальдов, был офицером и человеком практически безупречным.
И поэтому он был обескуражен и удивлен, когда увидел перед собой младшего своего сына. Брюнхвальд с ротмистром Рене объезжали окрестности, выбирая себе места для домов. Заодно Брюнхвальд присматривал место и под сыроварню. Он еще из Малена после разговора с кавалером отписал жене, что дело решено и что бы она продавала сыроварню, ехала с сыновьями в Эшбахт, где они теперь собирались жить.
И вот когда они с Арсибальдусом Рене в предвкушении радостных хлопот обсуждали важные вопросы и разные мелочи, он его и увидел.
Рене что-то говорил ему о колодцах, о том, что глубоко тут копать нет нужды, а Брюнхвальд уже смотрел на сына и мрачнел от увиденного.
Максимилиан поклонился господам офицерам. Рене тронул край шляпы в знак приветствия, а ротмистр Брюнхвальд только спросил сухо:
— Уж не та ли это одежда на вас, которую даровал вам кавалер, в которой вы должны носить знамя его?
Сине-белый колет с черным вороном на груди был грязен неимоверно.
— Я немедля постираю одежду, — робко произнес Максимилиан, неотрывно глядя на отца.
Он постирает! Да разве ж можно отстирать такую грязь, тут и опытная прачка спасовала бы. Да и это только полбеды! Четверть беды! Одежда вся была подрана, особенно шитье пострадало, черный ворон на груди был весь содран. Сплошные нитки висят. Да и широкие рукава тоже хоть оторви да выбрось.
— Постираете? — приходя в гнев, переспорил ротмистр.
Терпеть не мог Карл Брюнхвальд нерях. Неряха либо дурак, либо лентяй, а скорее всего и то и другое вместе. И вот вам его сын, за которого он поручался и просил уважаемого человека, приходит в таком виде. Да еще все это на виду у господина Рене.
— Ваши чулки разодраны, даже туфли ваши разодраны, — продолжал ротмистр. — Вы что, проиграли сражение?
— Отец, я просто шел ночью по дороге… — начал Максимилиан.
— Ночью? По дороге? — Брюнхвальд кривился. — Так что заставило вас разгуливать по дрогам ночью?
— Кавалер дал мне задание доставить госпожу Агнес в Мален. Вот я и…
— А лицо вам случайно не госпожа Агнес расцарапал? — едко поинтересовался отец.
Максимилиан вдруг подумал, что, скажи он правду, господа офицеры его на смех поднимут.
— Надо бы было в городе остаться, я не подумал там и пошел на ночь глядя домой. Я… На меня ночью напали волки и я…
— А где ваш берет? — прервал его отец.
Юноша только вздохнул в ответ.
— Ваш берет был из бархата и на подкладке из атласа, цена ему талер, не меньше, где же он?
Максимилиан молчал.
— Уж не волки ли его забрали? — продолжал ехидничать отец.
Самое смешное было бы, скажи он правду. Скажи он отцу, что когда спустился с древа, так берета он нигде не нашел, как ни искал. И в правду получалось, что берет его забрали волки. Вернее, волк. Или может демон.
Лицо ему исцарапала бесноватая и хохочущая госпожа Агнес, берет его забрал волк, с глазом желтым. Да все это, может, и звучит смешно, но на самом деле все это было страшно. Даже вспоминать было страшно.
— Завтра же отпрошу вас у кавалера, поедете со мной в город, — сухо сказал отец, — исправите одежду у портного и купите берет. А до того что бы не смели являться в таком виде к нему. Идите к солдатам и говорите, что больны. — И добавил с обидным презрением: — Знаменосец.
Карл Брюнхвальд повернул коня и поехал к лагерю. И Рене с ним. Но Рене не был строг и подмигнул юноше, мол ничего друг, бывает.
И Максимилиан пошел за ними следом. Только очень ему хотелось поговорить обо всем, что случилось вчера с тем, кто это будет слушать и не будет смеяться. А такой человек тут был только один.
И звали его брат Ипполит.
Глава 20
Брата Ипполита любили все, кто его знал. Человек он был неспесивый и благосклонный, мудрый не по годам. И эта его мудрость была не кичливым всезнайством или холодной бесстрастностью, а теплой мудростью внимания и понимания, без всякого налета поповского поучения. Он был старше Максимилиана на несколько лет, года на четыре, и не потешался над ним, слушая его рассказ и про ночные приключения и про госпожу Агнес, про погубленную одежду и неудовольствие отца.
И рассказ юноши не оставил молодого монаха равнодушным. Он сказал Максимилиану сразу:
— У меня есть два талера, коли нужно вам, один талер могу дать вам на поправку платья.
— Да нет же, я не о том вам говорил, — поморщился Максимилиан, — то мне отец купит. Я же про госпожу Агнес…
— О том молчите, — тихо, но твердо сказал монах, — все замечают, что госпожа Агнес стала сама не своя.
— Слава Богу, что хоть уехала, — произнес юноша, — проходу мне не давала еще в Хоккенхайме.
— Молчите, говорю вам, — настоял брат Ипполит. Он, как и все, замечал, как на глазах меняется тихая и богобоязненная девочка из Рютте.
И знал он о ней такое, о чем Максимилиан и не догадывался, так же знал, что господин на все изменения и странности Агнес, смотрит сквозь пальцы. Может потому, что Агнес могла боли в его ранах унять. Или может потому, что Агнес умела заглядывать в шар. Это было особенно богомерзко, но об этом брат Ипполит не писал даже своему духовнику аббату Деррингхофского монастыря. Молчал. Хотя и терзался, от того что приходилось это скрывать.
— О госпоже Агнес никому, ничего не говорите, может, к вам она льнет, от того, что сердцем она к вам благосклонна, — предположил брат Ипполит.
— Сердцем! — фыркнул Максимилиан, вспоминая, как хватала она его пальцами цепкими, как грызла его зубами. Сердцем это не про госпожу Агнес.
— А насчет волка у меня мысль есть, нужно книгу мою посмотреть. Сейчас меня мужик местный ждет, ребенок у него захворал, а вот после возьмем книгу и обязательно почитаем, про то, какие волки бывают. Может, вы простого волка видели.
Весь вид юноши выражал: «Ну да, как же, простого. Такого простого, что на дерево прыгал».
Но раз монах так считал, он произнес:
— А я пойду к солдатам, поем, — сказал и пожал плечами, мол я сказал вам, а вы уж сами думайте, — а то со вчерашнего обеда не ел ничего. Только воду из луж пил.
Нога не болела ровно до того момента, как снова нужно было садиться на коня. Волков вздохнул, сколько ни высиживай, не оттягивай неприятный момент, а на коня сесть придется.
Еган помог ему сесть, и они поехали дальше смотреть границы.
Ехали от леса на восток, вверх по реке. Места тут были все такие же дикие и пустынные. Только кострища да обрывки сетей на берегу говорили, что иногда тут бывают рыбаки. Так доехали они до места, где река резко заворачивала на север.
— Все, — сказал Куртц, — вот и вся ваша южная граница, граница с кантоном Брегген закончилась. Вся граница у вас с ним по реке. Кроме куска где лес растет.
— А там? — спросил кавалер, указывая на восток.
— Фринлнад. Фамильные вотчины курфюрстов Ланна.
Они повернули на север и поехали вдоль реки. Река стала заметно уже и заметно быстрее. И места по берегу ее были совсем иные, чем на западе его земель. Там холмы и овраги, а тут сплошные низины вдоль реки. По оврагам с запада сюда стекли десятки ручьев, и земля была от этого сыра. Так сыра, что следы от конских копыт начинали заполняться водой. И трава во многих местах росла не полевая, а болотная. Во многих других местах стояли большие и давние лужи, заросшие желтой, склизкой тиной. И в которых резвились разные гады. Унылы были места эти, никак не веселее, чем заросшие репейником и кустами овраги на западе. Хотя сама земля была не так красна как на западе.
Волков опять мрачен и от боли в ноге, и от земли такой бедной. Казалось бы, чему тут радоваться, а Еган вдруг говорит довольно:
— Вон сколько тут земли, глазом не обвести.
— Так разве то земля? — спросил у него кавалер.
— А что же? — удивляется новоиспеченные управляющий.
— Болото. Тут и не вырастит ничего.
— Так болото оно почему? — опять радостно спрашивает Еган.
— Почему?
— Из-за лени. Вот, помнится, барон Рютте, вы ж его помните, отобрал у нас выпас. Он однажды нам говорит, что выпаса больше нам не даст. Не он сам, конечно, говорил, а управляющий, тот, которого вы того… — Еган показал многозначительный жест. — Говорил, мол, самому барону нужно. Так вот, а мы и говорим: «То болото, что у реки, отдадите нам?». Он говорит: «Да берите хоть навек». Ну, мы с мужиками собрались и за неделю канав нарыли, через месяц вода и ушла, теперь там луга были лучше, чем у барона. Вот.
Волков и про ногу забыл, смотрит на Егана с интересом:
— И что, тут тоже можно из болот луга сделать?
— А как же, конечно можно.
— И что для этого нужно? — спрашивает кавалер.
— Хороший дрын, — заявляет управляющий.
— Какой еще дрын? — не понимает Волков и хмуриться, ему кажется, что Еган над ним смеется.
— Дрын, что хорошо от лени помогает, — заявляет управляющий. — Ничего, сейчас поле вспашем, у мужиков время появиться, и этими болотами я займусь.
Кавалер смотрел на него недоверчиво, и Еган, видя это продолжал:
— Земля, конечно, вам досталась небогатая, но и на ней жить можно, ежели руки-то приложить. А ежели лежать да ленится, то и на богатой земле в нищете прозябать будешь.
— Истинно, — заметил землемер, который прислушивался к их разговору, — тем более, что не так уж земля ваша и бедна, — он указал на зеленые поляны, что лежали западнее их пути. — Вон, Южные Поляны, двенадцать тысяч десятин хорошей, самой лучшей вашей пахоты.
— Так отчего же не ее пашут мужики? — спросил Волков.
— Так далеко до Эшбахта, — объяснил Куртц. — Два часа верхом, а для телеги и вовсе нет дороги. Даже если урожай и будет, как с ним быть? Куда деть?
— Эх, дураки, — сказал Еган, — дороги нет, а река-то течет прям тут. Чего урожай в Эшбахт тащить, когда купчишки по реке шныряют. Амбар какой-никакой на берегу поставь, мостушки, чтобы причалить можно было поставь, да кликни купчишек, так они сами приплывут. Еще и в драку будут брать. Паши земельку да продавай урожай, чего тут мудреного? Говорю же, здесь руки надо приложить малость.
И опять слова Егана Волкову казались дельными, он молчал, но думал обо всем сказанном все больше.
И тут он остановился и спросил у Куртца, указывая на берег реки:
— А это что? Это тропинка, что ли?
— Да, — сказал тот, приглядевшись, — тут река быстра, плыть против течения невозможно, тут баржи тянут по берегу наемные мужики с конями. В упряжь баржу берут и тянут вверх. Тот берег крут, и течение там быстрее, вот они по вашему берегу и ходят. Вниз-то баржи по течению плывут, а вот обратно их тягать приходиться. Вот мужичков с конями для того и нанимают.
— И кто же их нанимает?
— Так кто же, как не купчишки из Фринланда.
— Купчишки, значит из Фринланда? — переспросил Волков, хотя ответ ему был уже, кажется, и не нужен.
Да, он смотрел на быстрые воды реки, как у другого берега вода водовороты вертит, и опять думал, что наверное Еган-то прав. Нет нужды злиться да обиду лелеять, тут можно ужиться. Нужно только руки приложить. А кое-где и кулак не помешает. Главное — больших свар с соседями не учинять, чтобы герцога с канцлером не злить. И все. И тут Волкову даже лучше стало, веселее, словно вещь дорогую нашел, на которую думал, что потерялась она.
— Что ж, теперь мне понятно, какова земля моя, — он взглянул на Егана. — Значит, говоришь, нужно руки приложить?
— Да уже не без этого. Придется ручки приложить. Придется.
После этого они поехали в Эшбахт, уже не останавливаясь, чтобы быть там к ужину. И все были в добром расположении духа. И даже нога у кавалера не так болела. Временами, за мыслями о земле своей, он про нее и вовсе забывал.
Глава 21
Игнатий Вальковский и вправду знал толк в лошадях. Он выпряг их из кареты и, стреножив, пустил пастись. Не ясно, конечно, чья это была земля, так до утра хозяин всяк не объявится. Он развел костер и пригласил свою спасительницу и ее служанку к огню. Ночи Агнес давно уже не боялась, так как в темноте, как ей казалось, у нее у нее никогда не болят глаза, а вот на свету такое случалось, особенно на солнце.
И тут у костра ей было очень хорошо, они купили молоко и хлеб у мужика на окраине деревни, и голодна она не была. А вот уважение, что выказывали ей и Ута, и Игнатий было как раз тем, что она так искала. Ну, со служанкой было все уже ясно, а вот большой и крепкий мужчина, что склонял голову и беспрекословно шел к ней, как только она звала его — это особенно радовало девичье сердце. Повелевать, оказывается, было так сладко.
Служанка укрыла ее одеялом, что они украли в постоялом дворе еще в Малене, до присяги господина. И уже под ним Агнес опять раскрыла книгу, которую читала всю дорогу, несмотря на ухабы и кочки. Иоганус Тотенхоф, «Знание трав и растений. Создание зелий, настоев и микстур, что придают человеку сил или отнимают их». Ах, как это прекрасно звучит, по одному названию видно, что писал книгу мудрый человек. Казалась, книга огромна, но как быстро читаются это большие страницы. Она уже осилила треть. Порой Агнес откладывала книгу, чтобы остановиться и растянуть удовольствие. Но долго это продолжаться не могло. Книга словно манила ее, и сидеть просто так рядом с ней было для девушки невыносимо. Попробуй усидеть, если ты дошел до главы, в которой говорилось: «Как любого самого сильного мужа сделать бессильным временно, чтобы члены его были ему непокорны и лишь разум и зрение повиновались только». Она уже хотела это попробовать. Сотворить его и посмотреть, как люди бессильны пред ним. Но о многом она еще не знала. Казалось бы, все знают о болиголове, и вдруг их оказалось три вида. И каждый действует по-разному. Попробуй сотворить, если не знаешь, какой тебе нужен. Одним можно отравить, другим обездвижить, третьим продлить мужскую страсть. Просто нужно знать, как и с чем их смешивать.
А еще она прочитала, что никакой волчьей ягоды нет! Девушка удивилась, узнав, что так называют пять разных растений, что даже и не похожи друг на друга. Особенно ей интересна была та волчья ягода, что на самом деле звалась Вороний глаз. Три раза перечитала о нем и настойке из него, что вызывала у выпившего сначала радость, затем сонность, а потом, после сна, полное беспамятство. Такое, что человек три последних дня вспомнить никак не мог. И всего-то для человека нужно три капли той настойки. Три капли и памяти нет.
Она читала это и все запоминала сразу, память у нее была редкостная, перечитывала скорее для удовольствия и для размышления. И думала она о том, что ей нужна специальная посуда для изготовления микстур и зелий, о которой все время писал Иоганус Тотенхоф. Вот и думай, где ее взять. И был еще один вопрос, который она сама разрешить не могла. Она не так уж хорошо разбиралась в травах и местах, где их нужно искать. Да, в книжке были картинки, и увидев растение, она бы его сразу узнала, но растение-то нужно было еще увидеть. И это опять не все. На какой рецепт ни глянь, так в нем нужна мандрагора. Ну, конечно, не во всех рецептах она была надобна, но уж точно в половине. И все, что о ней было написано, так это что растет она под висельниками. Что редко она цветком выходит, почти весь ее рост уходит в корень.
Она остановиться в своих мыслях не могла. Столько всего было нового, интересного, столько всего, что открывало для нее огромные возможности. Только разобраться во всем нужно было. Все попробовать и все испытать. О, как эта книга была ей интересна, она даже не заметила, как заснула.
У Волкова было лицо человека, которого только что обманули и который от обманов уже устал. Максимилиан молчал, он все рассказал как было, только про госпожу Агнес не стал, монах его от этого предостерег, что ж тут было еще добавить. Брат Ипполит сидел рядом с кавалером, держа на коленях отрытую свою любимую книгу, которую он читал чаще Писания, наверное.
Он снова произнес, пытаясь обратить на себя внимание Волкова:
— Может, то и не ликантропус[2] был. Вот в «Молоте тварей» писано, что меняет он облик по истечению месяца, то есть в полнолуние. А до полнолуния еще четыре дня.
Волков поглядел на него и не ответил, а монах продолжил:
— Может, то и не ликантропус был. А простой волк. Просто большой и…
— И который просто по деревьям скачет? — договорил кавалер.
Теперь не ответил монах, а что тут скажешь?
— Значит, глаза у него были желтые? — задумчиво спросил кавалер у юноши.
— Именно так, кавалер. — ответил Максимилиан.
— А случилось это с тобой уже в моей земле, или то было еще в землях Малена?
— Города уже видно не было, — сказал Максимилиан, припоминая, — но я от него недалеко ушел. Не могу сказать точно, кавалер.
Волков задумчиво покачал головой и растер лицо ладонями, как ото сна. И вот как тут быть? Сначала казалось, что земелька дрянь, пустыня, потом, вроде, и ничего, если руки приложить. А теперь вот тебе еще досада, да какая. Вервольф! Оборотень! Словно Провидение над ним издевается. И тут, видя его уныние, монах повторил, в который раз:
— Так, может, то не ликантропус был. Может, и нет нужды беспокоиться.
— А кто же тот, у кого глаза желтые и кто по ночам за людьми рыщет, да еще на деревья лазит за ними? — спросил Волков.
— Ну, может, демон какой, — предложил брат Ипполит нерешительно.
— Демон? — Волков в изумлении уставился на него. — Вот так ты меня точно успокоил, брат-монах.
Он бы и еще что сказал бы монаху, да тут увидал, что к лагерю подъехал Сыч. Волков встал и сказал Максимилиану и монаху:
— Об этом никому ни слова.
— Да, кавалер, — сказал оруженосец.
— Да, господин, — добавил монах и продолжил: — Дозвольте мне идти, хочу ребенка местного посмотреть, хвор он.
— Чем хвор? — опять насторожился кавалер.
— Холера, господин, — отвечал монах. — Откуда взялась, понять не могу. Велел матери держать его отдельно от других детей.
— Выживет? — Волкову еще один нож в сердце. Холеры ему тут еще не хватало.
— Молю о том Бога, — отвечал брат Ипполит. — Дети от холеры часто выживают, но то дети, что не отощали. А здесь все дети тощие, и бабы тоже тощие, вчера одна беременная баба была в огороде, так раньше времени разрешилась чадом мертвым. Думаю, это от худобы. Люди — кожа да кости. В чем дух живет — не понятно. Как погляжу…
— Ступайте, — вдруг резко сказал Волков, не дав ему закончить.
Максимилиан и монах молча поклонились и тут же ушли. Кавалер не в духе, уж лучше удалиться.
И действительно, господин зол был неимоверно. Едва сдерживался. И опять чувствовал себя обманутым. А как таким себя не чувствовать если жалованная земля — дрянь. И мужиков мало, а те, что есть, дохнут от хвори и голода. Чуть не раздавил он свой серебряный кубок с вином, тот, что купчишки из Ланна ему дарили, хорошо, что опомнился.
В самый раз тут Сыч приехал.
— Верите, нет, экселенц, два раза чуть в овраг не упал. Считай, на ощупь ехал. Овраг на овраге, овраг на овраге, — бубнил Сыч о своем подвиге. — Чуть шею не свернул.
— Хватит, дурень, будешь причитать теперь, я и сам знаю, что у меня за земля, говори: «Ушли рыбаки?»
— Какой там, на вечерней зорьке сети проверили, рыбу взяли, какую в посолку, какую в коптильню, снова сети поставили. До утра не стронутся.
Действовать ему захотелось. За делом и злость можно утолить. Это было как раз то, что ему сейчас нужно. Сыч еще что-то говорил ему вслед, а Волков уже шел к большой палатке, туда, где у костра сидели офицеры.
— Карл, — произнес кавалер, подойдя, — мне потребуются двадцать людей, найдутся среди ваших охотники? Правда, денег много не дам, мне люди нужны будут на один день.
— И когда же они вам нужны будут? — спросил Брюнхвальд вставая.
— Немедля, — отвечал Волков. — Выходим сейчас.
— А что за дело? — поинтересовался Рене.
— Браконьеров прогнать надобно, что на моем берегу рыбачат.
— Так будут вам охотники, — сказал Карл. — Немедля будут.
— Если у господина Брюнхвальда охотников не сыщется, так у нас обязательно найдутся, — сообщил Бертье, который сидел на одеяле в окружении молодых собак и ласкал их одну за другой словно детей своих. — И если вам надобно, я могу пойти с вами офицером.
— И я могу, — сообщил Рене.
— Господа, да нет в том нужды, там тринадцать мужиков без брони и железа, просил их добром уйти — не ушли, хочу их палками выпроводить. Не баталию же мне собирать против них. Еще и вас таскать в безделицу.
— Так нам не трудно, — заверил Арсибальдус Рене.
— Господа, — Брюнхвальд встал. — Мои люди и я сегодня пойдут с кавалером, вам нет нужды беспокоиться.
На том и решили, но Волкову было очень приятно, что все эти офицеры сразу и сами предложили свои услуги. С ними он чувствовал себя заметно увереннее. Он даже подумал, вот окажись он сейчас один на своей этой новой земле с Сычем, Еганом, с монахом и Максимилианом, что бы он делал? И пришлось бы ему воевать с браконьерами. Пришлось бы вчетвером идти. А браконьеры, кажется, не пугливы, четверых бы не испугались. И воевать пришлось бы по-настоящему. С железом. А когда вход пошло железо, а не палки, то уж без крови и не обойтись. А кровь это как раз то, с чего начинаются свары. А свар с соседями ему велено было избегать.
— Карл, доспех взять полный, но оружие не применять, погоним их кулаками и палками, а еще возьмите две телеги, заберем у них все, и ламп возьмите, дороги туда хорошей нет, Сыч чуть не убился, а поедем мы в ночь.
— Сейчас выходим?
Как Волкову это нравилась, Брюнхвальд даже не спросил, сколько он заплатит его людям, не спросил, как поделят добычу, если она будет, он только спросил, когда они выходят. Определенно Карл Брюнхвальд ему очень нравился.
— Сейчас, — сказал Волков и крикнул: — Максимилиан, доспех мне и коня.
— А мне что делать? — спросил Фриц Ламме, очень надеясь, что его не потащат туда, откуда он только что приехал.
— Ты тоже с нами.
Фриц махнул рукой в сердцах. Ну что уж, с таким господином жить — спокойствия не видать.
Он уже надел доспех, как вспомнил о деле об одном. Он вспомнил, что землемер Куртц сказал, что на заре уедет, и надумал с ним проститься, так как до зари вернуться не смог бы.
Он нашел его в кругу солдат у костра. Солдаты будут очень приветливы к тебе, если ты тоже солдат. Так и бывает всегда, стоит подсесть к какому-нибудь костру, да сказать, где ты был и с кем служил, так обязательно найдутся такие, что служили там же или рядом. Или ходили под теми же знаменами. Или знали того, кто служил где-то рядом. А уж если узнают, что на одном поле в бою бывали, можно не сомневаться, что и ужин и ночлег, пусть и плохой, но у тебя будет. Куртц, как бывший ландскнехт, хотя они бывшими не бывают, в любой момент император может просить встать под знамя его, пользовался у солдат уважением, и ему быстро дали место у самого огня и оловянную, солдатскую миску с бобами. Он уже был сыт, когда Волков позвал его отойти в сторону.
— Ишь, ты! — Куртц удивленно глянул, на доспех, в который уже облачился кавалер. Тот надел все, кроме шлема. Ночь была теплой, в подшлемнике было бы жарко. — Видать, вы спать не собираетесь, или уж очень сильно боитесь тутошних комаров.
— Они тут сущие звери, — сказал Волков и протянул Куртцу деньги. — Держите.
От костра света долетало немного, но даже при том свете землемер рассмотрел, что денег-то в ладони у Волкова немало.
— Сколько тут? — спросил землемер, не трогая денег.
— Берите, корпорал, — говорит Волков. — Тут пять монет.
— Вообще-то вы не обязаны. Я рассчитывал на один талер в благодарность, — Куртц так и не решался протянуть руку за деньгами.
— Бери, брат-солдат, у меня они не последние, — настаивал Волков.
— Так вы из наших? — спросил землемер. — Из солдат?
— Тянул эту лямку пятнадцать лет без малого. Пока в гвардию не подался, так и там еще послужил. Не всегда я был рыцарем.
— А я и чувствую, что спеси в вас мало для благородного, не гнушаетесь, говорите со мной вежливо. Я все гадал — отчего так?
— Бери деньги, — произнес Волков.
— Спасибо вам, — сказал Куртц. — Семья у меня немаленькая, лишними не будут.
Уж чего-чего, а жадности Волкову было не занимать, но что он всегда знал, что он всегда тонко чувствовал, так это то, когда нужно сквалыжничать за каждый крейцер, а когда можно и щедрым быть.
И сейчас он не прогадал.
— Как начнутся осенние фестивали по поводу урожая, приезжайте в Мален, — заговорил Куртц, пряча деньги поглубже в одежду. — Там в «Ощипанном гусе» четвертого и пятого октября собираются старики из Южной роты Ребенрее пить пиво с острой колбасой и калачами, я там заместитель председателя. Я вас познакомлю со всеми ребятами. И с почтмейстером, и с Первым писарем штатгальтера Его Императорского Величества, и с другими нужными людьми.
— Обязательно приеду, — обещал Волков.
— Мы празднуем два дня, — продолжал землемер, — вы не пожалеете, что там ни говори, кавалер вы или нет, а старые солдаты должны держаться вместе.
— Истинно, — сказал Волков и протянул землемеру руку.
Тот пожал ее крепко, как и подобает ландскнехту императора.
Утро было тихое-тихое. Из оврагов вместе с ручьями вытекал туман, заливая все окрестности белым озером, из которого торчали лишь верхушки кустарника, да репейника. И те все мокры были от обильной росы.
Еще птицы петь не стали в небе, еще солнце едва-едва показалось на востоке, когда Волков, Брюнхвальд и их люди (двадцать два добрых человека), подошли к реке. Люди были в дурном расположении духа. Еще бы, почти всю ночь тащились там, где черт ногу сломит, да еще с телегами. Хорошо, что лампы взяли. Да к тому же под утро все промокли насквозь от росы, что лилась на них с кустов. Башмаки и чулки хоть выжимай. У стеганок рукава тяжелы, словно из железа они.
И вот дошли. Лошадей возницы держали под уздцы, чтобы не дай Бог не заржали. По ночи, по туману да рядом с рекой очень далеко лошадиное ржание слышно будет. Волков спешился и с Брюнхвальдом, с Сычем и с сержантом пошли на холм поглядеть, как там браконьеры.
А те почти все спали. Дым от прогоревшего костра полз к реке, мешаясь с туманом, только один из воров встал по нужде, да потягивался теперь, у реки стоял.
— Не все тут, — сказал Сыч. — К вечеру я их четырнадцать насчитывал. У костра только восемь дрыхнут. Всего получается девять.
— А лодки все? — спросил Волков.
— Да все четыре тут.
— Значит, никто не уплыл, значит, где-то в лачугах прячутся.
— А пахнет как вкусно, — сказал Брюнхвальд.
— Да не то слово, господин, — согласился Сыч. — Это от коптилен, вон, видите, дымятся. Я тут до вечера нюхал это все, а ведь с утра не жрамши, думал помру от пытки такой.
— Думаю, я с десятью людьми выйду и начну брать этих, — сказал Волков, разглядывая спящих, — а вы, Карл, с остальными обойдите лачуги с севера, вдруг они там, если выскочат, так тоже их берите.
— Как прикажите, кавалер.
— Сержант, продолжал Волков, — скажи людям, чтобы не усердствовали, ребра и кости не ломали, зубы и глаза не выбивали. Нам с тем берегом распря не нужна. Все заберем у них да выгоним на свой берег.
— Сделаем, господин, — обещал сержант.
Глава 22
Так почти и вышло все. Успел, правда тот, что был у реки, крикнуть, да толку от этого не было. Всех остальных, кто просыпался, малость били. Без злобы, для острастки больше. А те, что в лачуге спали и среди которых был долговязый грубиян, тем уже больше досталось. Вздумал долговязый предводитель лягаться, да за нож хвататься, так люди, что с Брюнхвальдом были, его угомонили, пару раз дав ему как следует древком алебарды, у того прыть и прошла. За одно и товарищам его, что спали в лачуге, тоже пару раз дали, чтобы предводителю не обидно было.
Приволокли долговязого, бросили у ног коня Волкова, а Сыч тут как тут:
— А неплоха у него шапка, — и шапку с головы высокого стащил, на себя напялил. — Как раз мне в пору.
— Не тронь, — начал было долговязый.
Но Сыч к его носу кулак поднес, а кулак у Сыча немаленький:
— Молчи, вор, а не то не отпустим с миром, а в Мален повезем на суд к графу.
И эта мысль Волкову показалась неплохой.
— Не посмеешь, — зло сказал долговязый.
И говорил он это уже не Сычу, говорил он это Волкову, да еще смотрел на него зло, с вызовом:
— Не посмеешь, у меня отец в городском совете Рюмикона и брат мой лейтенант ополчения коммуны Висликофена. Мы потом тебе кишки выпустим, — чуть не со смехом говорил он.
Волков вспомнил хороший кавалерийский прием, когда оружие занято, а пеший враг пытается коня под уздцы взять, то действовать надо ногой. Хороший удар сапогом с разгиба в лицо, любого здоровяка остановит. Пусть нога даже и не в доспехе будет. Все равно ему не устоять, будет на земле под конскими копытами лежать. Кавалер уже для того и правую ногу из стремени вытащил, и тронул коня, чтобы тот один шаг к долговязому сделал. И готов был уже, да тут крикнул ему Брюнхвальд:
— Нет в том нужды, кавалер.
Он подъехал и притянул плетью по шее долговязого. Говоря ему:
— Бахвалишься папашей своим?
— А-а, — заорал долговязый, хватаясь за шею.
— Зря бахвалишься, в следующий раз, поймаем тебя за воровство и в Мален отвезем к графу. И пусть папаша твой тебя от него забирает.
— Ах вы, сволочи благородные, — подвывал долговязый, растирая шею, — мало мы вам кишок выпускали…
— В лодки их, — скомандовал Брюнхвальд. — Ничего им не давать, то наше теперь все.
— И лодок им всего две дать, уместятся, и по одному веслу, — радостно орал Сыч. — Остальные наши будут. И пусть катятся к себе на свой берег.
Волков молчал, а что ему говорить, если и Брюнхвальд, и Сыч без него все правильно разрешили. Разве что…
— Спасибо, Карл, — сказал Волков негромко Брюнхвальду, — уберегли меня от лишней горячности.
— Рад вам услужить, — ответил тот и тут же добавил. — Эй, ребята, а ну-ка гляньте, что у них там в коптильнях.
Рыбаков кулаками и пинками загнали в две лодки, хотя все тринадцать могли и в одну уместится, так велики они были. И смотрели рыбаки зло, как солдаты, Сыч и Максимилиан рыскают по бочкам, что стоят на берегу рядами и радостно сообщают:
— Полная бочка соленой рыбы. Щука.
— Бочонок соли! Наполовину полный!
— Лини копченые, два ящика! Или это лещи.
— Эй, дураки, — орал Сыч уплывавшим браконьерам, размахивая копченым линем, — спасибо за рыбу.
— Чтоб ты подавился ею, — орали ему те.
— Да, и за лодки, и сети, и за бочки тоже спасибо!
— Чтоб ты сдох, — отвечали ему те, отплывая все дальше. — Мы еще вернемся.
— Ага, на суд к графу! Милости просим!
Сыч красовался на берегу в новой шапке, размахивая копченым линем, и свистел в след долговязому и его шайке.
— Любезный друг, — окликнул его Брюнхвальд, — а рыба-то вкусная?
— А то как же, — отвечал Сыч, облизывая жирные пальцы, говорил он это громко, так, чтобы на лодках слышно было, — дуракам этим спасибо скажем за такую приятную для чрева рыбу.
Все смеялись, даже Волков. И Брюнхвальд крикнул сержанту:
— А хлеб-то у нас есть?
— Как же иначе, господин ротмистр, — отвечал сержант.
— Что ж, кавалер, давайте завтракать, или зря мы, что ли, тащились полночи по оврагам.
Сети из воды достали, там еще немало рыбы было. Берег был местом рыбным. Думали лодки бросить, проломить днища да утопить, так как девать их было некуда, иначе браконьеры за ними вернулись бы, да больно хороши они были. Сержанту и десяти солдатам велели тащить их вверх по течению, по берегу. В лодки положили весла, сети, две больших коптильни и часть бочек с рыбой. Все остальное погрузили в телеги и поехали в Эшбахт. Браконьеров разогнали удачно. Шесть бочек соленой, шесть ящиков вяленой рыбы и пол бочонка соли. Одной соли взяли на три талера, да лодки, да сети, да коптильни. Все были довольны.
Приехали в Эшбахт еще до обеда. Нога почти и не болела. Оттого кавалер был рад. Рыба, хоть еще и не просолилась, сильно порадовала солдат, солонина да горох с бобами поднадоели. Волков позвал местных баб, разрешил брать из бочки рыбы столько, сколько унесут. Те от милости такой ошалели и старались изо всех сил. Бабенки оказались проворные и злые, пришли с детьми и почитай три четверти бочки забрали. Последних отгонять пришлось, уже руки все у них заняты, и подолах рыба, а все лезли в бочку за щукам и лещами и даже повалили ее — так они были жадны до дармовой рыбы.
Вяленую рыбу решено было оставить к офицерскому столу.
В общем, и в лагере, и в местных лачугах утро проходило радостно.
Волков пообедал вместе с господами офицерами и послал за Еганом и старостой, те были на пахоте. Он хотел знать, что им нужно: семена, плуги, бороны? Что там еще требуется для того чтобы засеять поле? Ему нужен был список, чтобы понимать, сколько денег от него потребуется. Дождаться он их не успел, как солдаты, что по привычке несли караул на окраине деревни, хотя он был и не нужен, закричали:
— Караульного офицера на караул! Офицера на караул!
Волков и Рене сразу встали, пошли к караульным — узнать, что приключилось.
Заметно хромая и придерживая меч, кавалер взошел на небольшой холмик, что был на краю деревни, и там караульные показали ему на людей, что ехали в Эшбахт с запада.
— Никак рыцари едут к вам в гости, — сразу определил Рене.
Да и не мудрено было узнать этих людей. Даже издали было видно, что кони у них высоки, в холке в рост человеческий.
Солдаты на таких конях не ездят. А еще одежды да знамя.
Да, это был нобиль с выездом. И тут Волков вспомнил, что к нему обещался барон быть. Слава Богу, что успел вернуться. Они ж уговаривались на обед встретиться.
— Да, это гости, — запоздало ответил кавалер. — Это барон Фезенклевер, едет ко мне о долгах моих мужиков говорить.
— Какие красавцы. Он весь свой выезд взял, думает вас удивить своими рыцарями, — продолжал Рене.
«Удивить» — сказал он, но старые вояки поняли друг друга, под словом «удивить» Рене подразумевал «напугать».
— Истинно, — согласился Волков, не отрывая глаз от кавалькады. — Думает, что, «удивив» меня, ему проще будет решать денежные тяжбы. Да и впечатление желает произвести, чтобы сразу было ясно, кто в этих местах главный.
— А может, и мы его удивим? — предложил Рене с загадочной улыбкой.
Волков поглядел на него непонимающе, вопросительно. И ротмистр объяснил:
— У нас с Брюнхвальдом без малого сто семьдесят человек, прикажем доспех одеть да с оружием построиться под знаменем вашим. Посмотрим, может этот барон удивиться побольше нашего.
Волков засмеялся:
— Делайте, ротмистр. Я этих господ тут подожду, а вы стройте людей.
Рене кивнул и поспешно пошел к лагерю.
Да, все было точно так, как они и предполагали, и чем ближе подъезжали всадники, тем больше в том убеждался Волков.
Два караульных солдата поглядывали то на него, то на всадников, пытаясь понять, что все это значит и зачем в лагере суматоха, почему их товарищи спешно вооружаются. Но видя благодушие Волкова, они особо не волновались. Раз кавалер спокоен, то и им волноваться не к чему.
А барон и его люди подъезжали все ближе. Хоть и хороши были их кони, они не торопились. Дороги тут почти не было, так что ехали они не спеша.
Да, это были настоящие рыцари. Бархат, шубы — как они не запарились в такой жаркий день — перстни на перчатках, отличные кони, отличное оружие. Почти у всех модные бородки «эспаньолки». Да, Волкову с его, хоть и дорогим, но древним мечом, они были не чета. Неизвестно, конечно, каковы эти господа были в бою, но вид у них был роскошный.
Знаменосец, идущий первым, въехал на холм, где стоял Волков, и крикнул громко и яростно:
— Барон Георг фон Фезенклевер!
Волков улыбнулся ему по-хозяйски радушно, он тоже, наверное, из рыцарей, сделал шаг навстречу барону, что поднимался на холм вслед за своим знаменосцем.
Волков улыбался и поклонился барону.
Тот ответил кивком головы и заговорил:
— Обещал я быть, чтобы решить наши вопросы, вот и приехал. Я слово свое держу неукоснительно.
Говорил он это высокомерно, с претензией, подчеркивая каждым словом, каков он молодец. При этом даже не смотрел на собеседника. А еще говорил он, не слезая с лошади, при том, что Волков стоял перед ним пеший. Во всем его поведении сквозил вызов. И два десятка рыцарей, что приехали с ним, это только подчеркивали. Они сидели с такими же спесивыми физиономиями на своих великих конях и чуть не с презрением поглядывали на Волкова. На его простую рубаху, не новые шоссы и потертые сапоги.
Но он улыбался им в ответ и говорил:
— Добро пожаловать, господа, обед уже у нас был, но быть может, вы захотите выпить вина с дороги, у меня есть немого.
И жестом он пригласил ехать к его дому.
Барон не то что бы хотел слезть с коня и пойти рядом с хозяином, он еще дал шпоры и поехал вперед со всеми своими людьми, оставив хромать хозяина в пыли от копыт коней.
Но и на это Волков только улыбнулся.
«Скачите, скачите. Поглядим, что вы скажете, когда вас встретит ротмистр Рене».
А ротмистр Рене встретил барона Фезенклевера и его выезд так, что Волков бы и сам лучше не придумал.
Знаменосец и сам барон, они были впереди, как выехали на дорогу, что вела вдоль хибар мужиков к дому Волкова, так и остановили коней. Справа от них во всей красе, сверкая доспехами и при оружии, ровными рядами стояли солдаты. Словно ждали их, а перед ними стоял ротмистр Рене, тоже в кирасе и шлеме.
Вся кавалькада барона остановилась в удивлении. Смотрели они на эти сверкающие ряды и молчали. И барон молчал, и даже знаменосец не орал, что мол едет сам барон Фезенклевер.
И тогда заговорил Рене. Сделав шаг вперед, он громко и строго спросил:
— Кто вы такие, господа и от чего вы ездите по земле кавалера Фолькофа?
И тон его был не менее грозен, чем те солдаты, что стояли с пиками и алебардами за его спиной. От такой строгости барон опешил и не знал что сказать? И в его выезде не оказалось никого, кто бы ответил.
— Так, значит, вы запираетесь и не желаете назвать своих имен? — кричал им Рене. — Арбалетчики! Арбалеты взвести! Болты на ложе класть! Аркебузиры! Аркебузы зарядить! Фитили запалить!
Вся свита барона и он сам в том числе застыли, как окаменели. Только кони их глупые перебирали ногами да трясли головами и хвостами от мух.
А тут еще и Брюнхвальд бегом прибежал, придерживая меч, и спросил удивленно у Рене:
— Ротмистр, а что тут у вас происходит?
А Рене и говорит:
— Да вот, господин Брюнхвальд, приехали эти господа, имен не называют, зачем приехали, не говорят, сдается мне, что они разбойники.
— Ах вот как, — говорит Брюнхвальд, сам он был не большой хитрец, но догадался, что это опять какая-то хитрость Волкова и продолжил, выходя вперед. — Господа, немедля назовитесь, или будем считать, что вы разбойники!
— Разбойники! — тут уже барон не выдержал. Да как тут выдержать, если арбалетчики взводят арбалеты и на тебя поглядывают недружелюбно. Он покраснел и выкрикнул обиженно. — Я барон Фезенклевер, а со мной рыцари мои, тут мы по приглашению… — он, конечно, не помнил имени Волкова. — По приглашению господина Эшбахта.
— Ах вот как, — опять сказал Брюнхвальд, — сейчас мы разыщем кавалера.
Но искать Волкова не пришлось, он как раз вышел, хромая из-за лачуг, и подходя ко всем, сказал непринужденно:
— Барон, так вы уже познакомились с моими друзьями и офицерами?
— Нет еще, — кисло отвечал барон. — Я лишь успел представиться, своих имен эти господа не назвали.
Волоков про себя откровенно радовался этой кислой его физиономии, хорошо, что сдержался и не засмеялся.
— Это ротмистр Рене, а это ротмистр Брюнхвальд. А где Бертье? — спросил он у офицеров.
— С утра поехал на охоту, волков бить, как вы его просили, — ответил ему Рене.
— А это, — кавалер показал на блестящие ряды солдат, — добрые люди, что покрывали себя славой в войне с еретиками. Ну, а меня вы знаете. Прошу вас, господа, спешивайтесь, — говорил он барону и его рыцарям, — у меня есть копченые лини и щуки, а еще пол бочонка неплохого вина.
Нехотя рыцари начали слезать с коней, за ними спустился с лошади и барон. Лицо его все еще было кислым, видно, не так он себе представлял эту встречу, совсем не так.
Глава 23
Господам рыцарям нашли лавки, они расселись позади барона. Пока им разливали вино в солдатские стаканы с отбитыми краями, они морщились, но от вина не отказывались, уж больно жарко им было в мехах. Людям Брюнхвальда, Рене и Бертье тоже было жарко в доспехах. Денек шел к полудню и солнце палило.
Кавалер уселся напротив барона и был радушным хозяином.
— Не хотите ли рыбы копченой, господа, свежая, очень вкусная, — он предлагал им рыбу, которую подносили господам повара.
Но большинство господ морщилось, глядя на щук и линей, что лежали порезанные на подносах. Не все взяли себе кусок попробовать. Вообще, кажется, они чувствовали себя не очень уютно в окружении стольких вооруженных солдат.
Уж точно не к такому раскладу они готовились.
— И что же, господин барон, — улыбался Волков, — привезли вы расписки моих мужиков?
— Нет, — бурчал тот, раздраженно болтая вином в серебряном кубке, — моего слова, что же, не достаточно вам будет?
— Я ж сказал, что достаточно, — говорил кавалер, — просто хочу знать, куда эти подлецы столько денег девали.
Барон не ответил, поджал губы. А Волков вздохнул, он не торопился. За старостой уже послали. Нужно было подождать.
Слава Богу, ждать пришлось недолго, не успел кавалер расспросить барона о том, хорошо ли они доехали и не видали ли в пути волков, как мокрый и запыхавшийся староста пришел в лагерь.
С ним бы и Еган. Он стал за спиной у кавалера, а староста поклонился и стал про меж господ, стоял мрачен, предчувствуя тяжкий разговор.
Всю свою нелегкую крепостную жизнь Михаэль Мюллер прожил здесь, в Эшбахте, и видел много господ. И знал наверняка, коли позвали тебя господа на разговор — жди беды. Либо отнимут что-то, что до того еще не отобрали, либо пороть будут. От господ другого не жди.
— Господин барон фон Фезенклевер, — сразу начал Волков, — говорит, что вы задолжали ему двадцать один талер.
— И шестьдесят крейцеров, — напомнил барон.
Он давно начинал уже раздражать Волкова, а тут раздражение стало еще и расти, кавалер покосился на барона, но говорить стал он со старостой:
— Так должны вы или нет?
— Ну, раз господин барон так говорит, значит должны, — отвечал тот с тяжким вздохом.
— Отчего же так много денег вы должны господину барону? — спрашивал кавалер.
— Да не помню я уже, — отвечал мужик, глядя в землю.
Корова глупая! Никак про себя по-другому и назвать-то его Волов не мог. Вот как тут можно правды доискаться, коли староста такой дурак? Придется на слово барону верить. Тем более что этот увалень на все соглашается сразу. А тут Еган, что стоял за Волковым, наклонился и в ухо ему сказал:
— Вспахано тут сто двадцать десятин, не больше. С нас управляющий в Рютте брал за сто десятин полтора талера, если давал на вспашку лошадей и плуг с лемехом, а за семена с бороной еще два талера. Так тут плуга нет, пашут сохой, бороны нет, думаю за все не больше дух талеров они ему задолжали. И то если считать с семенами.
Ну вот, Волков и сам думал, что барон его мужиков обдирал безжалостно. А тут уже и думать было нечего.
— Отчего же так много вы задолжали? — не унимался он. — Сколько же вы раз просили лошадей у барона?
— Два года подряд, — за старосту отвечал барон, — озимые и яровые на моих лошадях пахали.
— Неужели на двадцать талеров напахали? — притворно и едко удивлялся кавалер. — Уж не тех ли лошадей, господин барон, вы им в пахоту давали на которых вы и ваши рыцари приехали?
— Не тех, — сухо отвечал фон Фезенклевер. Он прекрасно чувствовал тон Волкова. — Те лошади рыцарские, мужичью таких доверять нельзя. Но давал я им тоже добрых коней. И еще семена давал. Говори мужик, давал я тебе семена?
— Давали, — сразу согласился староста.
— А горох, шесть мешков гороха давал зимой? Когда ты пришел и говорил, что зиму не переживете? — продолжал барон.
— Давали? — опять соглашался Михаэль Мюллер.
— А то, что лошадей вы мне осенью вернули с потертой шеей? Было?
— Там только одна такая была, да и то оттого, что хомут ваш плох был, — вяло отговаривался староста.
Волков глядел на все это с отвращением и понимал, что опротестовать эту большую сумму без ругани и обид у него точно не получиться. А ругаться с соседями вот так сразу он не хотел. Продолжать эти разборы стало делом бессмысленным и, как ни жалко ему было этих денег, он решил заплатить все барону, на том и закончить.
— Я выплачу вам все деньги, — сказал он барону, вставая, и тут же обратился к старосте, — а ты… — он потряс перед ним пальцем, — вы вернете мне все до пфеннига.
— Ну, что ж, — вздохнул тот, не глядя на Волкова и не очень-то в это веря, ответил, — вернем, господин.
Этот мужик мог быть сильным человеком, но был слишком худ и костляв для этого.
Волков отсчитал деньги и дал их Егану, сам отдавать их барону не захотел. Барон с видом победителя забрал у Егана деньги сам, не гнушался взять своей рукой и с радостью, видно и вправду было жаден. Тут же господа рыцари собрались. Кажется, не по душе было им в гостях с солдатами, сразу уехали.
А когда они уже отъехали, к Волкову подошел мудрый Рене и произнес, глядя им в след:
— Деньги вы, кавалер, потеряли, но друзей не приобрели.
Волков глянул на этого опытного и кажется умного офицера раздраженно и ничего не ответил. Но злился он не на него, даже не на спесивого фон Фезенклевера. Злился он на тех людей, что жаловали ему эту землю в прокорм, такую землю, где мужики едва живы от голода.
Волков позвал к себе старосту, хотел отчитать дурака за то, что не мог и слова попрек барону сказать, заодно поспрашивать хотел про жизнь, но как староста пришел, тут же к нему подошли Рене и Брюнхваль, последний сказал:
— Люди наши желают говорить с вами, кавалер. Говорят, пока они при броне и оружии хотят начать с вами разговор.
— Разговор? Что за разговор? — спросил Волков, понимая, что, если солдаты при оружии, значит разговор будет официальный.
— Хотят говорить о земле.
— О земле? — казалось, этот вопрос не должен был Волкову быть в новость. Знал он, что люди об этом спросят. Но не думал он, что так скоро. А почем нет? Люди пришли с ним в надежде на спокойное житье, спросили у местных насчет земли, местные сказали им, что земли тут пахать — не перепахать, хоть и плоха она. Вот они и интересуются. Да, вопрос видно, назрел. И он сказал офицерам: — Что ж, давайте поговорим, зовите людей.
Он уселся на то место, на котором сидел, когда говорил с бароном.
Ему поставили стол, за ним стали Брюнхвальд и Рене, а солдаты построились пред ними. Стали в четыре линии. Причем люди Рене и Бертье стали вместе с людьми Брюнхвальда. Кажется, были они заодно. Вперед к нему вышли сержанты, избранные корпоралы и старые уважаемы солдаты — старшины. Кланялись ему. Им он лавок не предложил, чтобы стояли и понимали, кто тут господин. Было их всех без малого двадцать. Самый старый из сержантов поклонился еще раз и заговорил нараспев и громко, чтобы всем было слышно:
— Звать меня сержант Руффельдорф. Уполномочили меня люди из рот господина Рене, господина Бертье и господина Брюнхвальда говорить за всех них.
— Меня вы знаете, — так же громко и коротко ответил Волков. — Говори.
— Пришли мы сюда с вами, чтобы найти себе здесь пристанище…
Волков поднял руку, прервал его и чтобы не было потом упреков каких, напомнил:
— Я вас сюда не завал, пришли вы сюда своею волей.
Руффельдорф обернулся к солдатам, словно искал там поддержку, солдаты напряженно молчали, стояли тихо, ни шороха, ни возгласа, а сержант снова повернулся к Волкову и офицерам и продолжил.
— Знаем мы, что земли у вас непаханой много.
— Много, — согласился Волков.
— Хотим мы знать, дадите ли вы нам пахать ту землю?
Вопрос был, кажется, простым, но это только на первый взгляд. Только на первый взгляд. Он сидел и молчал, понимая, что сотни глаз смотрят на него и сотни ушей ждут его слов. Но говорить им он не торопился. Он еще сам не знал, что делать. Он продолжал считать, что земля эта — насмешка над ним. Удел этот — наказание.
Не в кормление ему его дали, а в позор и разорение. И он еще ничего не решил, он вообще подумывал о том, чтобы отказаться от милости такой. А если сейчас согласиться и дать солдатам и офицерам землю, это все равно, что дать им обещание. Каков же он будет потом, когда надумает бросить эту землю и уехать отсюда в Ланн. Что тогда он скажет всем этим людям? Идите куда хотите, а я уезжаю. Потому он молчал, не давал своего согласия. А солдаты стояли в тягостном напряжении, ожидая слов его. Не знали они, почему молчит он, и просто ждали его решения.
Он не мог определиться сам, не задай солдаты ему этот вопрос, так еще неделю бы мучился. Но вопрос был задан. Почти две сотни людей стояли и ждали его решения. И для него это были не просто люди, сам он вышел из этих людей. И ближе у него не было никого многие годы. И теперь его желания больше роли не играли. Не мог Волков им отказать, он сказал:
— Земли много, хоть и не хороша она, но ежели без лени к ней относится, то прокормит она. Дам вам землю. Никто без земли не окажется.
По рядам солдат прокатилась волна радостного гомона. Один из сержантов крикнул:
— Здравия господину Эшбахта!
— Здравия, здравия, — понеслось над рядами.
Но от этого настроение у кавалера от этого ничуть не улучшилось, думалось ему, чувствовал он, что решение это ему еще отзовется. Ой, как отзовется. Не знал он, откуда взялось это чувство, знал, что верное оно, словно кто-то только что предупредил его. И он вздохнул, как вздыхают перед большим делом.
Глава 24
Как возгласы стихли, так сержант снова заговорил:
— Только, чтобы вы знали, кавалер, вы мы к вам не в холопы просимся. Только в арендаторы.
— Это понятно, — согласился Волков, — люди достоинства воинского холопами быть не могут.
— Тогда вопрос следующий: какую мзду просить будет от нас за землю вашу?
Волков знал, что обычно нежадный хозяин с крепостных берет две пятых со всего взятого от земли господина. То есть две пятых от всего, что прибудет крепостному мужику за год, он должен отдать. Конечно, на такое солдаты не согласятся, но начинать нужно было с еще большего, как и положено на торгах. И он предложил:
— Половина, того что с моей земли возьмете, пусть моя будет.
Реакцию солдат он предвидел, поэтому когда по рядам прошел неодобрительный и даже возмущенный гомон, он даже усмехнулся весело. Но тут же прогнал веселье и стал серьезен.
— Чрезмерно, чрезмерно, — доносились возгласы из строя.
И сержант Руффельдорф, сделав скорбную мину, заявил:
— Сие неприемлемо. Что же нам останется, а вдруг нам какой имперский налог платить придется, а вдруг герцогу?
— Нет, никаких других налог платить вам не придется, только подать на торговлю в городе, да и то если надумаете там торговать, а если приезжим купчишкам все продадите, так и не будете платить ничего. Только десятину попам.
Снова неодобрительное «о-о-о» прокатилось по рядам солдат.
— Вот, а про попов то мы и забыли, — вспомнил сержант. — Излишне много вы требуете, господин фон Эшбахт.
Да, Волков уже начинал привыкать к этому имени. А сержант продолжал:
— Вам половину, десятину попам, подать на торговлю в городе, а что же останется нам?
— Так сколько же вы хотите? — спросил кавалер громко.
— Четверть вам, — громко крикнул кто-то из строя.
Волков даже привстал, чтобы увидеть этого голосистого наглеца.
— Да, — поддержали крикуна другие солдаты, — четверть будет достойной платой. Да, достойной… Достойной…
Рыцарь Божий Иероним Фолькоф фон Эшбахт по прозвищу Инквизитор не присел и обведя людей воинских взглядом, сказал громко:
— Будь по-вашему, пусть будет четверть, только если я попрошу вас, так встанете вы под знамена мои и уклоняться не будете.
— Согласны, согласны, — орали те солдаты, что попроще, а те, что поумнее, сержанты да корпоралы, те говорили хитро: — Контракт напишем и в нем все оговорим.
Уж в этом Волков не сомневался, вроде, и простые люди, солдаты, а за годы беспрерывных войн старшины и корпоралы в договорах поднаторели. Солдаты говорили меж собой, кричали, ряды смешались, кажется настроение было у них хорошее. Шум стоял большой. Кто-то даже то ли от радости, то ли с дуру в барабан стал бить.
— Хорошо, но в контракте тогда запишите, какое поле себе берете, — произнес Волков солдатским представителям, так как других перекричать не мог.
— А вот та земля… Рядом с той, что ваши мужики пашут? — спросил один из старшин и все отсталые стали замолкать. Прислушиваться. — Не для нас она?
— Нет, ту землю я сам распашу, — отвечал Волков.
— А нам что? — спрашивал сержант.
— У меня два больших поля, берите на выбор. Одно в часе езды отсюда на северо-запад. До города Малена оттуда два часа езды верхом. И огромное поле в двух часах езды отсюда на юг. Рядом с рекой. Рядом с лугами. И земля там хороша, там лучшая моя земля.
Кавалер расхваливал южную свою землю, надеясь, что солдаты соблазняться на нее. Но те не были дураками и сразу спросили:
— А дорога туда хороша?
— Дороги туда нет, — ответил Волков, — да и чего вам печалиться, через месяц уже сами протопчите туда путь, а через пол года к осени, так и телегами все разъездите. Вот вам и дорога. Да и река там близко, купчишки по реке плавают, может к реке урожай возить будете.
Все может быть, но солдаты не дураки все-таки. Старшины, сержанты и корпоралы собрались в кружок посовещались, и сержант Руффельдорф закончил дело:
— Решились мы, кавалер, взять поле северное, то что ближе к городу. Сейчас сядем писать контракт.
— Как готов будет — приносите, — сказал Волков и, повернувшись к офицерам, сказал: — Могу вам, господа, выделить по тысяче десятин на таких же условиях. Северное поле немаленькое, там и вам места хватит.
— А мы уже думали вас о том просить, — сказал Рене.
— Если вы дадите мне эту землю не только для покосов, то я уж точно не откажусь, — сказал Брюнхвальд, — но покосы и пастбища мне нужнее, я коров держать собираюсь.
— Будут вам покосы, Карл, — обещал кавалер.
Он пошел к своему сырому дому, из которого через крышу (а не через трубу) валил дым. Пошел не потому что хотел посмотреть, что там делает Сыч, а чтобы побыть одному, чтобы подумать о том, на что он сейчас решился и отчего ему теперь не отступить. Он оглядывал свой сырой и полуразрушенный дом из черных бревен, ворота, что почти упали с петель. Оглядывал холмы за домом, что напрочь заросли репьем и чертополохом, красную, неплодородную землю, что видна в прогалинах. И понимал, что никуда теперь от этого всего ему не деться. И что жизнь его легче не станет от того, что теперь он барин и господин. Да и ладно, никогда она у него легка и не была. Все, что помнил он о себе, так только то, что с юных лет он был в солдатах. А теперь он стал офицером, и две сотни людей, солдаты и местные мужики, от него зависят. А больше ничего и не изменилось. Ну и ладно, взял эту землю, поглядел на нее и ума отказаться от такой земли не нашел, вот и тяни теперь эту лямку.
Как говорил Еган: «Руки к земле приложить нужно». Значит, придется приложить. Хорошо, кстати, что у него есть Еган. Эта мысль так его обрадовала, что повернулся от дома вонючего и сырого, не пошел к нему, а пошел искать своего Егана. Много у Волкова к нему было вопросов.
Деньги. Хорошо, когда они есть.
За наскоро сбитый стол, за которым сидел Волков, сели Еган и монах, а за ними староста. Боялся, что ли садиться, стеснялся в общем, не привык сидеть за одним столом с господином, крепостному холопу то не пристало, но Волков настоял. Он не хотел, что бы этот худой и долговязый мужик стоял над душой. Разговор предстоял долгий.
Монах взял перо и бумагу, под диктовку Егана стал записывать то, что нужно купить в городе. А Еган не стеснялся, мысли и у него были правильные, здравые. Да только Волков сидел от мыслей этих мрачный. Косился в бумагу монаха, особенно на цифры.
Сначала записали все, что нужно для ремонта дома: доски, брус, тес на крышу — вышло много всего, три больших воза. Да к этому мебель и посуду для стола, да для готовки что-то, да перины с одеялами. И это было только начало. Затем плуги, а их нужно было три — один мужикам, два солдатам. Еще бороны, семена, семена разные. Еган хотел попробовать помимо ржи тут и овес посеять, для хороших лошадей одного сена мало, господа для своих коней овес покупают. А еще черные бобы и горох, может даже и просо.
— Для всего потребуется нам три пары меринов, — говорил Еган, он был рад, что все его слушают беспрекословно, — сильные нам не нужны, для крестьянской работы нужны невысокие, но выносливые, чтобы от рассвета до заката плуг таскать могли.
— Нет, — вдруг сказал Волков, до сих пор он сидел молча, — меринов брать не будем, возьмем двух коней и две пары кобылок трехлеток.
Он давно мечтал заняться разведением лошадей, чего же не попробовать теперь, когда у него вон сколько земли. Все посмотрели на него и никто ему не возразил. Хотя мерины посильнее кобыл будут и поспокойнее коней.
Еган продолжил перечислять, что нужно еще купить, как Волков опять его перебил:
— А сколько корова дает молока в день?
— Хорошая — так ведро, — сказал управляющий.
— У нас тут мужиков — восемь дворов, купим им по корове, — произнес Волков, — дети тощие, смотреть на них невмоготу, как живы — не понятно.
— Вот это правильно, как сам не подумал, — одобрил Еган, — и чтобы каждый день нам два ведра были. Слышишь, староста?
Михаэль Мюллер смотрел то на управляющего, то на нового година удивленно, не мигая.
— Слышишь, говорю? — продолжал Еган. — По корове господин вам жалует для молочка, для детишек. А вы что бы два ведра в день ему приносили молока, понял?
— Да, господин, — наконец ответил староста.
— Пиши, монах, — повелевал управляющий, все больше вживаясь в роль, — восемь коров — четыре талера. И еще бык хороший нужен, еще четыре, то есть еще восемь монет.
— Еще и бык? — переспросил Волков.
— А как же? — Еган даже обрадовался, начал объяснять: — Это вы хорошо с коровами придумали — купим восемь коровок и доброго бычка, при хорошем раскладе уже к следующей весне у нас коров не восемь будет, а четырнадцать. Главное, что бы с быком не обмануться, с быком… Это дело тонкое. Будет бык хороший, так и приплод пойдет. — Он чуть подумал и добавил: — А еще куры нужны. Хотя бы сотня.
— Сотня? — на всякий случай Волков заглянул в список монаха и охнул. — Еще и кур купить хочешь, тут и так уже на двести талеров.
— А еще поросят думал, — радостно сообщил управляющий.
Он уже злил кавалера, и тот собрался сказать ему пару слов о том, что деньги ему нелегко даются, но тут по лагерю солдат шум пошел, и возгласы удивленные и радостные стали до них долетать.
— Чего это там? — повернулся к шуму Еган.
— Кажется, ротмистр Бертье с охоты приехал, — сказал монах.
Так и было, и это привело к оживлению в лагере, Бертье и еще пара людей сидели на конях с важным видом, а солдаты их окружали, о чем-то радостно переговаривались. Все, включая старосту, встали и пошли смотреть, что там происходит.
Глава 25
Кабан был огромен, так велик, что палку, к которой он был привязан, едва поднимали два крепких солдата. Да еще он был черен, как черт, и вонял дьявольски. Но солдата такая мелочь, как вонь, остановить не могла, тут же нашлись охотники, что начали его разделывать. А Бертье, гордый, слез с лошади и не без гордости говорил:
— Силен, силен был, неимоверно. Шесть или семь болтов ему досталось, а он все бегал по оврагам и кустам, и орал как сумасшедший. Кровью истекал, а мы ждали, близко не подходили, чтобы ни собак, ни коней не запорол. Так он сам на нас от злобы кинулся, как понял, что слабеет. Пришлось его копьем усмирять.
Бертье даже показал копье, каким убил эту зверюгу.
Волков, как и другие, слушал его рассказ, но без восхищения, счет, что они написали до этого, уж больно печалил его. Из головы не шли двести талеров с лишним. Двести талеров! Какое уж тут веселье. Да и с чего веселиться, от такого вонючего зверя, а когда Бертье повернулся к нему, так он его и спросил:
— А волков видали?
— Следы видал, — сразу стал серьезен Бертье, — и пару раз собачки наши, к коням жались, прямо под копыта лезли.
— Отчего же?
— Так значит, волки рядом были, — объяснил Бертье, — волчий запах был значит свеж.
— И что же это за собаки, если мы их купили волков искать, а они тех самых волков боятся? — невесело удивлялся кавалер.
— Так они же еще щенки, — с жаром стал объяснять ему ротмистр, — вот подрастут…
— Некогда ждать нам, — сказал Волков, — завтра еду в Мален, не хотите ли со мной поехать, взрослых собак посмотреть?
— Купить еще собак? — Бертье даже обрадовался.
— Да, — сказал кавалер, раздраженно, — купить собак, коров, быка, кровати и доски, и купить еще что ни будь, пока у меня еще есть деньги. Пока эта земля меня не разорила окончательно, нужно успеть купить и собак.
Бертье видя такое дурное расположение духа кавалера, радоваться перестал, и сказал, ну чтобы совсем ему не весело было:
— А еще мы мертвяка нашли. Погрызенного.
Волков только уставился на него устало и молчал.
— Час езды отсюда, на запад. Мертвяк еще не старый, хотя волки, или кабаны, его обглодали. Месяца три ему, не больше.
— Откуда же вы знаете, что три месяца ему? — невесело спросил Волков.
— Так я ж на войне десять лет, — отвечал ротмистр, — мертвяков повидал, что под стенами после штурмов лежат, уж знаю, что если кости не побелели, так значит недолго лежат. И волосы на голове не истлели еще.
Кавалер поворотился к старосте, что стоял за ним и спросил:
— Не пропадал ли кто за три месяца у тебя?
— Нет, пропадал давно, — отвечал староста, вспоминая, — по осени. Мальчонка десяти лет, Гансом звали, коз пас, так ни его, ни коз мы с тех пор не видали.
— Нет, то не мальчонка был, может и не крупный, но мужик. Точно не мальчонка десяти лет, — сказал один из солдат, что был с ротмистром.
— Вы его не похоронили, молитву не прочли? — влез в разговор брат Ипполит.
— Так некогда было, за кабаном ехали, — пояснил солдат.
— Вспомните то место? — не отставал монах.
— Вспомним, — отвечал ему Бертье, — только путь туда не близкий, до темноты туда доедем, а вот обратно придется по темну ехать. Завтра можно будет.
— Потом съездите, похороните, — сказал Волков монаху. — Завтра в Мален едем.
Он пошел к себе за стол, не пригласив ни Бертье, ни Рене, ни Брюнхвальда. Не то было у него настроение. Попросил ужин у Егана. А тот сказал, что ужин еще и не готовил, так как занят был весь день.
И ругать его было не за что, хоть и хотелось. Потому, что это была правда, и все, что мог сказать Волков Егану, так только то, что просит его уже не первый раз найти ему слугу, а тому все недосуг. И Еган опять ему обещал слугу найти. Завтра же.
Сначала Агнес даже нравилось, что люди побаиваются ее кучера.
Сторонятся его, и стараются даже не смотреть лишний раз. Уж больно зверообразен был лик, да и весь вид Игнатия Вальковского.
Его истлевшая рубаха, его драные, широкие панталоны, черные, сто лет не мытые ноги, пугали людей. Но особенно пугала людей разодранная щека, чуть поросшая жесткой щетиной.
Но когда ему перед ночью, даже не открыли ворота постоялого двора, оставив их опять ночевать на улице, Агнес решила, что надобно ему вид иметь приятный. Не разбойница она, чтобы люди ее чурались, а госпожа. Пусть боятся, да кланяются, а не боятся, да разбегаются.
Позвала она его к себе, поглядела на него сначала долго, и даже рукой своею по щеке его провела, а потом и говорит, брезгливо пальчики платком вытирая:
— Грязен ты, как нищий на паперти, и смердишь так же. Как в первый город приедем, так в купальню ступай.
— В купальню? — удивленно переспросил кучер.
— А потом к цирюльнику. — продолжала молодая госпожа, кидая платок служанке. — Только вели ему бороду тебе не брить, пусть щетина на щеке отрастет, уж больно ты страшен дырой своей. А потом одежду я тебе справлю такую, чтобы знали все, что ты не разбойник и не зверь дикий, а кучер и конюх доброй госпожи.
— Как пожелаете, — отвечал Игнатий.
Вот только в одном был вопрос. Все мелкие деньги, кроме монеты в десять крейцеров, что были у нее, она потратила до гроша медного, и оставался у нее всего один золотой, да эта мелкая монетка. А гульден, он был старый, потертый от времени, и уже потерявший часть своей стоимости, дал ей ее господин.
И больше денег у нее не было. Но это почему-то ее не волновало. Ей и в голову не приходило, что она будет испытывать нужду. Она была уверена, что найдет денег столько, сколько ей надобно будет. Как? Того она еще не ведала. Но знала, что придумает способ. Деньги… деньги они у людишек водятся, а людишки… а людишки ее боятся. А значит, не будет она без денег.
Карета остановилась на перекрестке дорог. Там, на перекрестке, сидел мужик, торговал корзинами и деревянными башмаками.
И пока Игнатий, спустившись с козел, ходил и смотрел сбрую на лошадях и поправлял ее, Агнес вышла из кареты размять ноги.
Вышла, потянулась, выгибая спину, а потом, поглядев на деревянные башмаки, спросила у мужика:
— Далеко ли до Хоккенхайма будет?
— Денек еще ехать вам, госпожа, — с поклоном отвечал тот. Он указал на запад. — Туда вам ехать.
— А там тоже город, кажется? — Агнес приглядывалась к дороге, что вела на север.
— Истинно, госпожа, — говорил мужик, — Клевен вот-вот будет, три версты и он, но городок-то не большой, а если вам большой нужен, так дальше, в двух днях пути, если по реке ехать, и Фернебург будет.
— А что это за Клевен? — спросила Агнес.
— Городишко мелкий, хоть и со стенами, но Хоккенхайму не чета.
— А купцы, портные там есть?
— Эх, молодая госпожа, да куда ж без них-то, — засмеялся мужик, — купчишки они как клопы, без них никуда. Они везде заводятся. И портные там тоже есть.
Агнес повернулась и пошла к карете, на ходу кинув кучеру:
— На север поедем, в Клевен. Мужик говорит, что тут не далеко.
— Да, госпожа, — ответил Игнатий и полез на козлы.
Городишко Клевен был и вправду Хоккенхайму не чета. Город был мал, стены старые, ров давно зарос и осыпался, ворота перекошены, да и стражники на въезде, кажется, пьяны были. Видно, что город был не богат. Церкви без блеска, на улицах в грязи свиньи спят. Иногда и карете не проехать. Нашли трактир, там и стали. Вонь, тараканы пешком по столам ходят, не боятся. Трактирщик дремал, сидел, на забулдыг покрикивал, когда просыпался, а как Агнес увидал так засуетился. Побежал к ней сам, улыбался и кланялся. А та носик морщит, на тараканов глядит и фыркает. Еле он ее уговорил за стол сесть, собственным фартуком его протерев. И лавку заодно.
Она села, просила окорок, и пиво. Да спросила, оглядываясь с презрением:
— А с гульдена у тебя сдача будет?
— Не извольте беспокоиться, — заверил трактирщик. — Найдется.
— Так неси, тогда, — велела Агнес, нерешительно присаживаясь на край лавки.
— Слышал, дурень, бегом беги, — сказал трактирщик мальчишке-разносчику и для острастки дав ему подзатыльник.
— Ночевать тут не будем, — говорила молодая госпожа служанке, — не хочу, чтобы по мне тараканы ползали ночью, или клопы мной обедали. Вещи не разгружай, скажи кучеру, пусть идет купальню сыщет и цирюльника, да быстро все делает. Передай ему. — Она сунула служанке последнюю мелкую монету в десять крейцеров.
Остался у нее только старый гульден.
Ута ушла, а к столу девушки прыщавый мальчишка подал окорок, нарезанный тонкими ломтями, и хлеб, и пиво. Она оглядела все это придирчиво, со всех сторон заглянула, прежде руками не трогая, и показалось ей, что есть это можно и окорок мухами не засижен и по краям не пожелтел, хлеб не стар, и огромная кружка с пивом не грязна. И уже после того, взяв кружку двумя руками, уж больно она тяжела была, Агнес с удовольствием отпила пива прохладного. Облизала губу от пены и принялась есть окорок, обязательно беря те куски, на которых было сальце. И очень ей было вкусно, и окорок и пиво были неплохи.
Тут она случайно подняла глаза и заметила, что трактирщик на нее смотрит и улыбается подобострастно. Улыбкой своей беззубой говоря, что готов любому ее желанию служить. Не любила девушка когда смотрят на нее во время еды. Тем более такие вот мужики. Хотела нахмуриться, чтобы мерзавец зенки свои отвел, не пялился, да вдруг не стала, мысль ей тут в голову пришла одна.
Снова берет она кружку большую, снова пьет пиво, а поверх кружки на трактирщика смотрит неотрывно. А тот и дела свои бросил, тряпкой руки вытирает, да улыбается ей и даже кланяется.
А Агнес не ставит кружку на стол, а пальчик указательный чуть отвела и стала трактирщика им к себе манить. Поди, мол, сюда, любезный, поди. И смотрит поверх кружки на него ласково. А тот и рад служить, пошел к ней, да быстро подошел, согнулся в поклоне и стоит молча повеления ждет. Девушка ставит кружку на стол, не торопится, смотрит на него, прямо в глаза ему и спрашивает:
— Не плох твой окорок, и пиво не плохое, сколько с меня возьмешь?
А трактирщик и рад, за услужливость и поклоны он с этой госпожи много больше, чем обычно взять хотел, а раз ей все понравилось, так и вдвое брать собрался, чего уж мелочиться. И говорит он девушке:
— Пяти крейцеров, госпожа, довольно будет.
— Пять крейцеров? — спрашивает Агнес, и сама прямо в глаза трактирщику заглядывает. — Так получи.
И протягивает ему руку как будто с деньгами.
А тот ладонь протягивает, и она пальчиками своими, собрав их в щепоть, ладонь его и тронула. Как будто положил что-то. И улыбается ему, и продолжает в глаза смотреть. А он, наконец, глаза отвел, на ладонь свою пустую, уставился и вроде как не понимает, что происходит. Кажется, госпожа ему денег дала, а кажется их и нет. А Агнес ему и говорит негромко, но твердо:
— Сдачу себе оставь, — и добавляет с улыбкой милой, — за расторопность.
Сначала он смотрел на нее и смотрел так, словно удивляйся чему-то. И когда она уже подумала, что сейчас он станет говорить, что ошибка вышла, что денег он не видит, трактирщик вдруг сказал:
— Премного обязан.
И кланяться стал. И задом, задом попятился. А сам на руку смотрит, и мало того, начал себе по ладони водить пальцем, и при том губами шевелить, словно монеты считая, которые в руке у него как будто лежали. А потом пустую ладонь в кошель себе сунул, будто ссыпал туда деньги. И пошел на место свое, все еще улыбаясь юной и щедрой госпоже.
Девушка, у которой на все это время сердце от волнения почти остановилось, теперь вздохнула свободно, и задышала всей грудью, и радостно стало ей, что хоть пой или танцуй. Получилось, получилось у нее! Все, как и задумывала она. Даже еще лучше. И пусть прибыль не велика, главное, получилось. Да еще и быстро, да еще и просто. Как таракана со стола смахнуть.
Она опять схватила большую кружку двумя руками и долго пила из нее вкусное пиво. Ушки и щеки ее были красны, а глаза светились, и в себе столько сил она почувствовала, что готова была еще попробовать этот свой фокус. Но помимо этой своей ловкости, она еще и умна была, и как не хотелось ей повторить этот трюк, девушка понимала, что это будет глупость. Опасная глупость.
И потому просто поставила на стол кружку и схватила кусок окорока, и стала обгрызать с него вкусный жирок, грызла она и урчала, как кошка довольная. Совсем не так госпоже подобает кушать, но она о приличиях не думала, она вспоминала и наслаждалась теми чувствами, которые только что пережила. И от этого приятно в животе ставилось. И хотелось… кажется, целоваться. Она перестала есть, огляделась вокруг и разочарованно хмыкнула. Пара забулдыг, пьянь, прыщавый и грязный мальчишка разносчик, да трактирщик сам мерзкий. Нет, красавчиков, подобных Максимилиану, тут не было, а уж про таких мужчин, как господин ее, так и подавно мечты напрасны были бы. Таких мужчин, от взгляда которых слабеешь ногами, да и всем телом, вообще мало. И она, вздохнув разочарованно, снова принялась за окорок.
Глава 26
Кучера все не было. Агнес наелась, напилась, отдала остатки окорока служанке, та с радостью доела его и хлеб, остатки пива допила. Трактир был мерзок, и на тараканов глядеть ей невмоготу стало. Да и прогорклым воняло тут.
— Пошли, лавки посмотрит здешние, — сказала она, вставая.
Последний кусок на бегу Ута засунула в рот и поспешила за госпожой.
А на улице город жизнью своей живет, на нее глазеют, видят, что не местная. Город-то махонький, все друг друга знают, все местные богатые девы на виду. Она на зевак не смотрит, идет гордо. Рынок на площади увидали. Пошли по рядам.
Ничего интересного, гниль да рвань, еда для бедняков. Так по всем прилавкам, кроме одного. Агнес остановилась у прилавка, из-за которого было чуть видно старуху. Старуха вся в черном была, скрючена спиной, скособочена. Лица ее и не видать. Агнес увидела то, что ее очень интересовало — над прилавком развешены были пучки трав сухих, корни замысловатые, ягоды сушеные. Агнес остановилась и стала разглядывать травы.
— Ищите что? — донеслось до нее из-за прилавка.
Девушка взглянула и увидела, что старуха скособоченная и не старуха вовсе, бабенка лет тридцати, и скособочена она не от старости, а от горба. И лицо у нее приятное, только вот белое, как полотно новое. И глаза умные, серые. Бабенке неприятно, кажется, было, что девушка ее так рассматривает. Но она стояла, терпела и ждала. И Агнес от нее взгляд наконец оторвала и ткнув пальцем в коричневую палочку, висящую на нитке, спросила:
— Сие что?
— То солодки корневище, от грудных хворей помощь, от кашлей с мокротами, от задыханий частых, — сразу ответила горбунья.
— А это? — девушка указала на пучок сухой травы.
— Это шалфей, он от язв на деснах и от слабости, тем кому нужно, бодрость дает, прыщи с лица девам убирает.
— Полезная трава, — сказал Агнес.
— Кому как. Кому в пользу, а кому так и во зло будет, — отвечала женщина. — Беременным да кормящим он ни к чему, и старикам, что головой маются, тоже.
— Вижу я, что в травах ты сведуща и в хворях, — задумчиво говорила девушка, рассматривая другие товары горбуньи.
— У аптекаря с девства работала кухаркой, вот и поднаторела.
— А отчего сейчас не работаешь? Погнал?
— Помер, а сын его жену привел, та бойкая, во мне нужды не имела.
Агнес замерла и теперь уже внимательно поглядела на женщину:
— А ели надобно будет, вороний глаз сыщешь?
— Сыщу, — отвечала ей горбунья.
— А корень ландыша?
— Его только весной ранней брать, иначе толку не будет.
Агнес смотрела на нее пристально, ловя каждое движение в бледном лице, словно разгадать пыталась, о чем баба думает, а сама вспомнила рецепт зелья интересного из своей книги и спросила:
— А тараканий ус сыщешь?
Кажется, горбуньи стала понимать, что пред ней не простая покупательница трав.
— Черный надобен? — чуть помедлив спросила она, глаз своих от девушки не пряча.
— Черный, — сказала ей та.
— Что ж, найду. Найду, коли цена достойная будет.
Молодая женщина и женщина взрослая смотрели друга на друга неотрывно, многое уже друг о друге понимая. И Агнес чуть склонилась над прилавком и спросила едва слышно:
— А мандрагору? Корень ее сыщешь?
Тут лицо горбуньи и дрогнуло. Покосилась она по сторонам и ответила также тихо:
— Это уж нет. Это уж вы сами.
— Скажи, как найти его.
— Под висельниками ищите, — кажется, торговка хотела закончить разговор. — Висельников много у дорог, да за стенами городов висит.
— Говорят, что трудно сыскать, — не собиралась его заканчивать Агнес. — Как найти его?
— Ищите висельника, что протек.
— Протек? — не поняла девушка.
— Да, как висельник разбухнет, как завоняет, как из мертвяка от гнили сок потечет, тогда и мандрагора вырасти может, а под свежим не ищите. И под высохшим не ищите, — быстро говорила горбунья, надеясь, что на этом все и закончится.
— Найдешь мне? — тихо спросила Агнес.
— Нет уж, это вы сами, — женщина замотала головой.
— А за талер?
— Нет, госпожа.
— А за два?
— Нет.
— А за три?
— Нет, госпожа, — упрямо твердила горбунья.
— Чего ж ты боишься, дура кособокая? — начинала злиться Агнес. — Кто ж тебе еще даст столько денег, да и за что?
— Даже и за три мне к попам в подвал нет охоты попадать. Если донесет кто, то уж точно в подвале мне быть.
— И кто же донести может? — шипела Агнес.
— Мало ли, меня и так ведьмой ругают.
Ведьма. Это слово начинало Агнес злить. Не понимала она, отчего все так бояться даже говорить его лишний раз. И сейчас девушка думала: «Чем же купить эту бабу, коли серебро ей не мило?» Она помолчала, не то со злостью, не то с презрением глядя на горбунью, и сказала:
— Дня через четыре снова тут буду, если найдешь то, что мне надобно, так пять талеров дам тебе.
Нет, не польстилась кособокая на ее предложение, стояла криво и молчала. И тогда Агнес и говорит:
— Или мужа тебе найду.
И тут же она поняла, что угадала. Да, точно угадала. Лицо горбуньи переменилось вдруг и сразу, странная улыбка по лицу прошла, как тень. Глаза бегали, словно свидетелей их разговора искали или даже от смущения она их прятала. И после говорит горбунья:
— Да кто ж на меня такую позариться?
Тут уже Агнес силу свою найдя, говорит ей уверенно:
— Будешь служить мне, так и муж тебе будет.
— Служить?
— Буду здесь, когда обратно поеду, может через три дня, а может через неделю, — теперь уже повелительно говорила Агнес, — коли хочешь мужа иметь, так найди мне мандрагору. Это тебе испытание будет.
Горбунья рот раскрыла, да девушка уже повернулась к ней спиной и пошла в трактир, нечего было ей тут смотреть, и Ута, служанка ее, шла за ней следом.
Что ж, Игнатий потратил честно все выданные ему деньги и после купальни и цирюльника стал выглядеть лучше. Хотя звериного в нем не много убавлюсь, просто чище стал, и волосы стали пригляднее.
— Ладно, — сказал Агнес, оглядев его, — теперь одежу надобно тебе справить, негоже кучеру моему как вору трактирному ходить. Видел ли ты лавки с одеждой тут?
— Тут прямо, недалеко, госпожа, — отвечал кучер.
— Так поехали.
Нечасто к купцу Ленгфельду заходили такие юные госпожи. В его городке таких немного было, а проезжих так и еще меньше. По карете, что перегородила улицу, видно было, что госпожа и богата и знатна. А уж как по ее лицу это было видно! Зашла, огляделась, носик наморщила от запаха плесени. Не привыкла, видать, к такому. Сразу видно, в золотой люльке лежала, с серебра ела и пила сызмальства. Не иначе, как в графской семье родилась.
Ленгфельд кланялся ей в пол, пытался угодить, как мог, хотя и понимал, глядя на ее платье, шарф и кружева, что угодить ей будет непросто.
Она только тронула ноготком лучшую его ткань, как он кинулся и, поднеся лампу, размотал рулон, чтобы госпожа как следует рассмотрела ее. Но она отвернулась без слов, пошла по лавке дальше. Служанка за ней. Он последовал за ними с лампой в руке, не зная, что бы еще ей предложить, и как он рад был, когда она, наконец, произнесла:
— Надобно мне кучера одеть, одежду он свою потерял, есть ли у тебя платье для мужей статных и крепких?
Конечно, у него оно было. Если такую изысканную деву ему и не чем было удивить, так для кучера у него всегда нашлось бы платье. Хоть и не новое, хоть и молью где-то битое, но нашлось бы.
— Да, госпожа, разумеется есть у меня платье. Не мужицкое, ландскнехтов достойное.
— И чулки нужны, и рубахи, и башмаки, — лениво говорила юная госпожа, — и шляпа.
— Все отыщу, — обещал купчина, кланяясь, прикидывая, что с этой девицы он-то уж денег возьмет.
— Зови Игнатия, — сказал Агнес служанке, и та мигом выполнила распоряжение.
Вид пришедшего возницы смутил купца, а кого бы не смутил? Но госпожа говорила с кучером так, что купец подумал сразу, что верен он ей, и побаиваться его перестал, а стал доставать и показывать товар. И показывал он не кучеру, а госпоже, и та только говорила, указывая перстом:
— Те чулки мне по нраву, в пору ли будут ему?
— В пору, госпожа, в пору, — убеждал ее купчишка, — то на великих людей шиты чулки. Коли желает примерить, так пусть берет.
— А колет этот в пору ему будет? — спрашивала она.
— Примерим немедля, — заверял купец, помогая кучеру одеться.
Все брала ему она одежду и брала: и панталоны огромные, все в разрезах, и рубахи с кружевными манжетами, и берет с пером, так как доброй шляпы по размеру сыскать не удалось, и пояс шелковый. А купец был рад, вещи-то все недешевые. И главное, что юная госпожа ни разу даже цену не спросила. У купца уже руки от предвкушения тряслись, кучер уже одет был с головы до ног и башмаки отличные примерял, купец боялся, что сейчас скажет ей цену, а она в крик удариться, он паузу сделал, прежде чем сказать:
— Четыре талера, шестьдесят шесть крейцеров, — он улыбался, склонился до роста ее, чтобы в глаза госпоже заглянуть.
Ждал ответа, торговаться был готов, готов был до трех талеров отступить, если торг пойдет, а то и до двух восьмидесяти, но торговаться не пришлось, юная госпожа сказала ему, беря шаль с лотка:
— Хорошо, только еще шаль эту возьму для дуры совей, — она небрежно кинула шаль своей служанке и достала из кошеля на поясе золотую монету. Показала ему. — Сдача у тебя будет?
Купчишка на монету глянул, опытный он был в торговых делах и в денежных тоже, сразу заметил, что монета стара, и решил еще и на этом заработать:
— Госпожа, гульден ваш не нов, весу много потерял за годы хождения, цена его едва ли больше пятнадцати талеров будет, — изображая большое сожаление на лице, врал Ленгфельд.
И тут девушка заглянула ему в глаза с прищуром, да так, словно до дна души заглянула, сурово спросила его:
— А не врешь ли ты мне, купец?
Будь у купчишки совесть, так он от нее бы покраснел, а так покраснел он от волнения, что вся его торговля может прахом пойти. И он, выдавив из себя улыбку кривую и жалкую, пролепетал:
— Да разве я бы осмелился?
Она смотрела на него подозрительно, ищя подвоха, и лишь подождав, сунула ему в руку потертый талер, на который он даже не взглянул от радости, и произнесла:
— Так сдачу считай.
— Немедля, — кланялся он, отчитывая серебро, — немедля госпожа отсчитаю.
Быстро, пока удача идет, посчитал все, предал серебро ей в ручку бережно и опять поклонился.
Юная госпожа деньги не пересчитала, ссыпала их себе в кошель и пошла к двери, конюх пошел впереди ее, а служанка в новой шали на плечах позади. А купец Ленгфельд шел за ними и говорил, что Бога благодарит, что такие покупатели его посетили, и кланялся, и кланялся. Так до самой кареты дошел, убедился, что госпожа в нее благополучного села, и еще и тогда кланялся и махал рукой вслед.
А Агнес крикнула кучеру сама, хоть обычно о том служанку просила:
— Гони, ночевать здесь не будем.
Карета тронулась и полетела по узким улочкам городка. А девушка упала на мягкий диван и стала смеяться, так ей весело стало, что башмачок она с ноги скинула и ногу служанке протянула, что сидела на диване напротив, ногу дала от веселья и в знак расположения. Та схватила ножку госпожи в красном чулке, чуть целовать ее от счастья не начала. Хоть и не понимала, отчего так рада госпожа.
А госпожа рада была оттого, что в кулаке у нее зажат был старый и потертый гульден, что дал ей господин. А в кошеле звенели талеры, что взяла она на сдачу, отчего же ей было не веселиться? Отчего не смеяться, когда она, девочка из глухомани, что мыла столы да полы в гадком трактире едет теперь в карете при четверке коней, при наряженном кучере и покорной служанке, а в кошеле у нее серебро и золото имеется. А помимо всего этого радовалась она оттого, что в ней сила есть такая, которая мало у кого есть. И осознание силы этой, обладание силой этой было для нее слаще золота и карет.
А служанка Ута, видя, как радуется госпожа, а еще оттого, что подарила она ей шаль, сама счастлива была настолько, что и вправду целовала ногу своей повелительницы. Не брезговала. А та и не отнимала, смотрела на служанку с улыбкой.
И от этого Ута едва ли не счастливее госпожи своей была. И правду становилась она ее собакой верной. И ничуть от того не печалилась.
Глава 27
Он знал, что потратит больше двух сотен талеров на покупки, но и думать не мог, что затраты перевалят за три. Как хорошо ему было, когда он покупал железо. Думал, что потратит меньше, чем запланировал. Плуги, бороны, гвозди — инструменты в Малене были очень дешевы, и не мудрено, когда тут были целые улиц кузниц и мастерских. Но как дело коснулось всего остального, так все переменилось. Цены на фураж и семена стали для них неприятным сюрпризом:
— Где же это видано, чтобы мешок гороха в три пуда стоил двадцать крейцеров! — возмущался Еган, поднимая брови от удивления.
— Так то не горох, — меланхолично отвечал ему мужик, — то семена. Отборные!
— Отборные, — передразнил его Еган, — красная цена гороха два крейцера пуд.
— Так и хорошо, добрый господин, давайте я у вас куплю по два крейцера, — говорил мужик невозмутимо, — где ваш горох семенной по два крейцера? Что ж, пудов пятьдесят возьму, не думая.
— Дурак, — злился Еган и говорил Волкову: — пойдемте, господин, другой горох найдем.
— Так доброго пути вам, — пожелал мужик им вслед, зная, что другого семенного гороха им на этом базаре не найти.
И так было со всем остальным. И если семян нужно было относительно немного, вернее, стоили они относительно немного, но со скотом все плохо было.
На рынке, что был за городской стеной, на котором торговали скотом, их ждали совсем плохие цены. За корову так просили семьдесят крейцеров, да и то не за лучшую. Что не бык, так пять талеров, хорошо, что он один нужен был.
А за коней так тридцать талеров, за кобыл совсем немногим меньше. А поверх того еще доски, тес, брус, с мебелью долго торговались, посуда и многое другое, что нужно человеку в хозяйстве. А еще собаки.
Ехал в город Волков невесел, а как подсчитал, сколько денег выложил, так и вовсе темен лицом стал. Пришлось поменять девять злотых монет, чтобы все расходы покрыть. Дважды к менялам ходил. Вот тебе, рыцарь, земля в кормление. Непонятно, кто кого кормит. Уже далеко за полдень выехали из города.
Кавалер глядел на караван из десятка возов, на коров и лошадей, на кровать и перины, что высились над телегами. Он глядел на своих тощих мужиков, что взволнованы были хозяйскими прихотями, на Егана, которому власть кружила голову, от чего он суеты и крика много разводил, кавалер опять думал о том, что лучше бы ему было в Ланн уехать, к Брунхильде, пока она там замуж не вышла еще. Там и жить, чтобы не видеть всего этого, забыть про все.
Но то были мысли глупые. Сожаление — чувство бабье, не пристало божьему рыцарю сожалеть. Грусть от себя он погнал.
Нет толку от грусти. Теперь разве повернешь время вспять. Все, деньги потрачены. И от мысли, что деньги потрачены и что кровать его большую с перинами теперь не вернуть, он вдруг злиться начал. Даже небо, кажется, посветлело. Так вдруг ему хорошо от злости стало, так уверено себя он почувствовал. Что попадись кто сейчас под руку, так живым бы не ушел. Решил он для себя, что вернет все деньги до последнего пфеннига. Выжмет до последней гнуто монеты из этих голодных мужиков, из дурака Егана, из солдат, что пришли к нему жить.
А тут как раз новая перина, что дурно привязана была к телеге, свалилась в пыль на ухабе. Так Волков аж обрадовался, догнал он мужичка, что телегой правил, и, чуть склонившись с коня, перетянул его плетью вдоль спины, спрашивая:
— Спишь, ленивый?
— Не заметил, господин, — почесывал спину мужик, тут же перину поднял, стал ее на место вязать, — простите, господин.
— Все слушайте, — заорал Волков так, что у проезжавшего рядом Бертье собаки перепугались и затявкали, — за добром следите, потратите — строго спрошу. Миловать не буду.
Еган даже незаметно перекрестился — господина, видно, опять бесы одолевают.
— Сейчас к нему под руку не суйся. — сказал он одному из мужиков.
— Да уж видно, — испугано согласился тот. — Лютый.
А кавалер, от приступа злости отойдя, почувствовал себя лучше и даже вспомнил, что завтракал только на заре. И поехал к первой из телег, посмотреть там съестное.
— Тут, — сказал Бертье, указывая на подножье большого холма.
Волков огляделся — жуть. Заросло все орешником и боярышником, лопухами и чертополохом, место дикое, безлюдное. Лошади, правда, ведут себя тихо, скорее всего, волков не чувствуют, да четыре собаки, что вчера купил Бертье недорого, тоже не взволнованы. Просто рыщут по кустам вокруг.
— Место здесь, кажется, безлюдное, заросшее, — продолжал Бертье, — как раз для кабанов.
Кавалер поехал, заехал на холм, на самую верхушку. Там остановился, стал оглядывать окрестности. Смотрел и не узнавал места. Кажется, не ездили они тут с землемером.
— Мертвяк тут, внизу, — кричал ему Бертье снизу холма.
— Это, кажется, уже не моя земля, — в ответ крикнул ему Волков.
— Не ваша? А чья?
Надо было, конечно, старосту взять с собой, но у него с Еганом и так дел было полно, они поехали пробовать новый плуг, потом собирались делить коров по дворам, в общем, заняты были.
— Да, кажется, это уже земля, — он вспоминал имя, — барона Деница… или как-то так.
Нужно было карту хотя бы взять. Но он ее позабыл.
Волков не спеша, чтобы не дай Бог не повредить ног коня, съехал с холма вниз, а там уже брат Ипполит и два солдата нашли останки человека. А Сыч уже начал высказывать свои мысли:
— Экселенц, не иначе, как волки его задрали, — говорил он, присев на корточки. — Ногу оторвали… О, и обе руки оторвали. Нету ни одной.
Кавалер не без труда слез с лошади, нога уже болела. Обычно ему Еган помогал, а без него чуть не упал, ухватился за куст колючий, руку разодрал.
Бертье тоже с лошади слез, он оглядел кости и сказал:
— Да, месяца три им, не больше.
— Интересно, кто этот несчастный, — произнес монах.
— У вас есть молитва, которую читают над неизвестным? — спросил его Бертье.
— Есть, есть, — кивал тот.
— Надобно знать, кто его убил? — произнес кавалер, вытирая каплю крови с ладони.
— Так волки, экселенц, вон, на черепушке следы. Видно, что грызли, — говорил Сыч. — Рук с ногами нет, растащили.
— Я как-то оленя ранил, — сказал тут Бертье, — он убежал, я за ним до вечера по следу шел, а пришел, так увидал, что ему весь бок обглодали. А кто, думаете? Волков и медведей у нас в поместье не было.
Все смотрели на него с интересом, ожидая продолжения.
— Так это свиньи его пожрали, — сообщил ротмистр, довольный тем, что его рассказ так всех заинтересовал.
Кавалер еще раз огляделся вокруг, и ему стало жаль этого беднягу — кто загнал его сюда в эту пустошь, как он здесь погибал? Видно, страшно ему тут было, на помощь он даже и надеяться не мог. Тут даже и кричи — никто не услышит, и не потому что нет никого, а потому что холм да кусты крику и улететь не дадут. Будешь гудеть как в бочке.
— Ладно, — сказал он двум солдатам, что были с ними, — закапывайте.
Те быстро и по-солдатски умело стали копать землю в двух шагах от останков. Брат Ипполит сложил руки и стал читать молитву. И тут один из солдат наклонился и поднял что-то с земли. Поглядел, что это, и передал вещь монаху. Вещица была мелкая. Тот перестал молиться и взял ее, сказал:
— Серебро.
И, подойдя, протянул вещь Волкову. Тот взял ее. Это был крестик, небольшой, но хорошей работы. Бертье с первого взгляда определил:
— То крест не мужицкий, двадцать крейцеров стоит, может купчишка какой был. Ехал куда-нибудь.
Волков покосился на него, он подумал:
«Какого дьявола купцу в такой глуши делать, здесь и дороги-то нет, откуда и куда он мог тут ехать?»
Но вслух ничего не сказал, вернул крестик монаху и махнул рукой солдатам — хороните.
Мертвяка похоронили. Сели на лошадей, поехали в Эшбахт. Бертье ехал рядом с кавалером и всю дорогу докучал ему своими рассказами про охоту. Рассказывать он был мастер. Если он и вправду такой охотник был, то местным волкам кавалер не позавидовал бы. А монах тем временем делал многозначительное лицо, всем видом показывал, что ему есть, что сказать, но при ротмистре ему это говорить неудобно.
Так доехали до дома. И уже там, когда Волков слез с лошади и уже сидел за столом, монах пришел и спросил, не занят ли он.
Волков был не занят, если не считать больной ноги, которую он пытался разминать. Он указал брату Ипполиту на лавку. Монах сел.
Кавалер думал, что монах будет говорить о покойнике, крестике и волках, но тот достал из-за пазухи хорошо исписанную бумагу.
— То от духовника моего, — сказал юный монах.
Кто его духовник, Волков помнил. Это был аббат Деррингхофского монастыря — отец Матвей. А брат Ипполит развернул письмо и сказал:
— Вчера, когда в городе были, я на почту успел сходить, вот и письмо получил. Аббат вас вспоминает в каждом письме, всегда про вас спрашивает, а тут так и вовсе вам написал, — он сразу начал читать. — «А господину коннетаблю передай, что госпожа Анна фон Деррингхоф, месяц как разрешилась от бремени удачно и принесла дочь. Девочка здорова и хороша. Крещена именем Ангелика. Госпожа Анна шлет коннетаблю свой поклон и говорит, что помнит про него и молиться за него».
Ничего он не понял, нахмурился и спросил с пренебрежением:
— Что? О чем это все?
Он, конечно, помнил аббата, помнил и госпожу Анна, но это были люди из прошлого, словно из другой, далекой его жизни, ему и не до них сейчас было, его волки интересовали, а тут девочка какая-то…
Монах растерялся, он потряс немного лисом бумаги и сказал:
— Аббат написал, что… госпожа Анна разрешилась…
Кавалер только рукой на него махнул, пустое:
— Ты лучше скажи, как ликантропуса найти. Как убить его? Если он не выдумка Максимилиана.
— Ликантропуса? — растеряно переспросил брат Ипполит. — Ну, как и всех остальных чудищ, серебром первородным. Осталась у вас хоть одна стрела с серебром?
— Это болт, а не стрела, балда, — сказал Волков, усмехаясь глупости монаха. — Надо будет у Егана спросить, по-моему, ни одного не осталось. Нужно будет сделать.
— А еще вы ж помните, в книге сказано, что его можно убить, когда он в облике человеческом. Тогда его просто убить, как человек. Простым железом.
— Да уж это я смогу, только надобно знать, кто он.
— Если тут такой есть, — сказал монах, чуть подумав, — то узнаем, найдем. Людей тут очень мало, ликантропусу тут и затеряться негде будет.
— Хотелось бы, чтобы не было тут никого, кроме обычных волков, их бы и Бертье перебил бы.
Юный монах помолчал, еще раз заглянул в бумагу и спросил:
— А что же, для вас привет от госпожи Анны и аббата не важен совсем?
— Важен, важен, — почти небрежно сказал кавалер, — напиши им, что и я за них молюсь. И рад, что госпожа Анна удачно разрешилась.
Монах странно посмотрел на него и думал еще что-то сказать, но пришел Еган и бесцеремонно перебил его:
— Господин, пойдемте, поглядите, как быка в хлеву поставить, чтобы ему там просторно было и чтобы место для коров осталось. Вот, думаю, завтра двух мужиков на покос оправить, бык-то здоров, ему много сена зимой потребно будет.
Волков, хоть и нехотя, но встал и пошел с ним смотреть, какой быку загон в хлеву выстроить.
А монах остался сидеть за столом все еще удивленный.
Засыпал он всегда быстро, до двадцати досчитать не смог бы, как сон овладевал им. А тут лег, вроде, и нога не болела, а мысли в голову все лезли и лезли. У палатки костер, там два солдата не спят. И он не спит. Ворочается с бока на бок. Нет, о потраченных деньгах он уже не думал, он знал, что выжмет из этой земли все, что потратил, а вот волки ему докучали, даже в мыслях покоя не давали. Если мальчишка Брюнхвальд ничего не путает и если здесь в и вправду бродит ликантропус, то людишки отсюда могут и разбежаться. Хотя нет, крепостным никуда не уйти, они считай на привязи. А солдаты… так они люди не робкого десятка, это еще неизвестно, кто кого напугает — волк их или они волка. Но все равно нужно будет заняться им. Нужно пару болтов из серебра заказать. Дьявол, он забыл у Егана спросить, может, в сундуках где или в мешках с доспехами и оружием валяется, еще тот болт из Рютте. Он как раз тут вспомнил про Рютте и зачем-то про письмо аббата. И тут же про госпожу Анну фон Деррингхоф подумал. Вспомнил, подумал, и тут сон, что подкрадывался к нему даже через тревожные мыли, сразу отлетел. И только одна мысль осталась в голове его. Зачем же госпожа Анна привет ему предавал? Зачем эта красивая и благородная женщина говорила, что молиться за него? Отчего не забыла его? И зачем написали ему, что дочь у нее родилась. Зачем? И тут мысль ему в голову пришла, как болт арбалетный прилетела, звонко щелкнув о шлем, и такая она была яркая, что, позабыв, что вставать ему нужно спокойно, чтобы ногу не бередить, вскочил он на солдатской кровати своей.
Сел, сначала посидел обалдело, а потом закричал:
— Еган!
Вскочил и вышел из палатки босиком и в исподнем.
— Ну, чего вам, чего не спится, болеете? — раздалось озабоченное бухтение в соседней палатке.
— Монах где? — Волков заглянул к Егану в палатку.
— Тут он, рядом, дальше в платке. Чего же вам не спиться-то, а? И еще меня будят, у меня дел столько было, что ноги отнимаются. А они опять будят посреди ночи.
— Молчи, нашел бы мне слугу, я тебя о том сколько дней уже прошу, я тебя и не будил, — сказал Волков и ушел.
Брат Ипполит тоже спал, но письмо Волкову он нашел сразу, как только зажег лампу. Сам встал рядом, моргая на свет. Кавалер схватил то письмо и стал искать место про себя. Про душу и спасение — не то, про службу и про паству — не то, про новые лекарства — не то… Вот:
А господину коннетаблю передай, что госпожа Анна фон Деррингхоф месяц как разрешилась от бремени удачно и принесла дочь. Девочка здорова и хороша. Крещена именем Ангелика. Госпожа Анна шлет коннетаблю свой поклон и говорит, что помнит про него и молиться за него.
Прочел это, а затем еще раз, замер. Монах стоял рядом, не говоря ничего и почти не шевелясь, а Волков стал считать в голове. «… месяц как разрешилась от бремени удачно…» То есть в апреле? Да, в апреле. Значит… Он стал перечислять месяцы назад и досчитал до августа. Или даже до июля?
Монах терпеливо молчал, не убирая лампы. Пока Волков не глянул на него и не спросил:
— А есть ли у тебя бумага и перо с чернилами?
Что за вопрос, как могло не быть бумаги и чернил у брата Ипполита?
Глава 28
С самого утра Еган отправился на поле поглядеть, как мужики пашут новым плугом да на хороших конях. Отдав распоряжение про то, как сеять овес и как боронить, он вернулся в Эшбахт. Ходил по дворам, орал на баб и детишек, потому что полдень уже, а они так и не решили, кто коров будет на выпас водить, коровы во дворах стоят вместо того, что бы траву есть. Хотя сам должен был пастуха выбрать. И в одном из домов увидал мальчишку лет четырнадцати-пятнадцати. Он возле коровы крутился, кормил пучками травы и притащил ей воды ведро. Он показался управляющему прилежным и тот поговорил с ним о том о сем, спрашивал, сможет ли он при коровах быть.
Хотел сначала его Еган в пастухи взять, мальчик, вроде был смышлен и резв, но тут он про кавалера вспомнил и спросил у мальчишки:
— Как жить желаешь, жизнью крестьянскою или в услужение к господину пойдешь?
— В услужение, — сразу сказал мальчишка.
Кто ж захочет жизни крестьянской?
— Ладно, а звать тебя как?
— Яков, господин, — сказал мальчик.
— У кавалера нрав не прост и рука тяжела, — говорил Еган.
— А чего мне? У батьки тоже рука нелегкая, да и мамка меня с девства хворостиной охаживала, ничего, выдюжу, — отвечал Яков, ничуть не волнуясь.
— Кавалер любит расторопность и чистоту, лени, глупости да безалаберности он не потерпит. Стирать, убирать, вещи собирать — все придется делать. Господин только важные дела делает, с другими господами говорит, книжки читает с монахом или убивает кого, а ты должен будешь и за столом прислуживать, и комнаты мести, и за рубашками следить, чтобы чисты были, и воду ему к мытью греть, еду носить.
— Так я расторопен, — заверял Егана мальчишка, видно хотелось ему на должность, — а уж чего не знаю, так научусь.
— Пошли, — сказал ему управляющий.
Волков еще с утра отправил монаха с письмом в город, сам же немного волновался и уже ждал ответа, хоть и понимал, что много дней пройдет, пока ответ пробует. Он сидел с Бертье, который собирался на охоту, и показал тому карту.
— Вот тут ваше солдатское поле, а тут уже граница, вы вдоль нее пройдитесь. И до вот этого места, там кажется, большой овраг.
— Пройдусь. Если следов будет много, так соберемся и организуем большой загон. А нет, так накопаем волчьих ям.
— Загон?
— Да, это когда вы и еще два десятка конных с собаками поднимете стаю и погоните ее, а я и еще два десятка людей будут ждать волков с арбалетами в узком месте.
— Лучше я буду с арбалетом ждать, — сказал Волков.
— Хорошо, — сразу согласился Гаэтан Бертье. — Ну, поеду, не хочу по темноте возвращаться.
Он и еще три солдата с ним сели на лошадей. Собаки стали тявкать, зная, что предстоит им дело. Не успели они отъехать, как появился Еган с мальчишкой.
— Вот, из всех местных самый разумный и резвый.
— Не молод ли? — с сомнением смотрел на мальчишку Волов.
— Остальные тут дураки, господин, — сказал Еган.
— Звать как? — спросил кавалер.
— Яков, — ответил мальчишка.
— Надо говорить «господин», — пихнул его в спину Еган.
— Господин, — повторил Яков.
— Ладно, — согласился Волков, — будешь проворен, так и жалование назначу. — И крикнул: — Максимилиан!
— Да, кавалер, — тут же пришел тот, он был в одной рубахе и бос. Как и положено оруженосцу, занимался конями.
— Еган теперь мне больше не слуга, сами знаете, он управляющий, — говорил кавалер, — вы все знаете, так объясните моему новому слуге его обязанности.
— Будет исполнено, — сказал Максимилиан и добавил, говоря Якову. — Со мной иди, покажу тебе сундуки господина твоего.
— Справиться, думаешь? — спросил Волков, глядя им в след.
— Не справится, так нового искать будем, — ответил Еган и предложил. — Пойдемте господин, поглядим, как эти безрукие тес на крышу кладут, — предложил он.
— Думаешь, плохо кладут? — вставал из-за стола кавалер.
— Плохие здесь мужики, ленивые, — говорил управляющий, — за каждым следить нужно, все делают через пень да колоду, рукава спустив. Коров им дали, паси да дои молоко, часть отдай, а остальное детей своих пои, так они рядиться вздумали, кому их пасти. Да как молоко собирать, да кто его носить вам будет.
— Плохие мужики, говоришь? — Волков поглядел на него с тревогой.
— Ленивые, делать ничего не хотят, я уж им сулю все, что можно, так нет, все одно — не хотят от лени лишний раз хребет согнуть.
— И что делать?
— Не волнуйтесь, господин, есть одно средство против лени да праздности. Дрын зовется. Уж у меня не заленятся. Я и из своего клочка земли в Рютте прибыток имел, а уж тут и подавно развернусь, этих лежебок растормошу, не отстану.
Они пришли на двор и, задрав головы, стали смотреть, что там два мужика на крыше наделали.
— Ты им за это денег обещал? — спросил Волков, не очень довольный увиденным.
— Денег? Еще чего! Я им два дня в неделю барщину назначил, то по-божески, — ответил Еган и заорал. — Эй, не видишь, что криво кладешь? Не приму такой работы, весь ряд этот криво лежит, отдирай — переделывай. И аккуратно отдирай, не поломай тесины.
Он еще собирался и дальше кричать, но замер, увидав за спиной кавалера что-то. И сказал:
— К вам, видать.
Волков повернулся и увидал трех верховых. Были они в платье хорошем, не грязном, но простом. И лошади были у них просты, а один и вовсе на мерине. Встретившись с Волковым глазами, видно, признав его, они стали слезать с лошадей, кланяться и улыбаться. Волков глянул на старшего из них, он улыбался, а верхняя губа слева рвана, под ней пары зубов нет. На правой руке сверху шрам белый. Сразу видно, из рыцарства или из добрых людей. И с ним двое, хоть и молоды, тоже с виду крепки духом и на вид бывалые.
Подошли, старший и сказал:
— Вы ли, добрый господин, хозяин Эшбахта новый?
— Я, — ответил Волков, — рыцарь божий, Фолькоф.
— А я, сосед ваш, Гренер Иоахим, а то сыновья мои старшие, Франк и Гюнтер.
Молодые люди поклонились, а старшему Волков протянул руку:
— Прошу вас, господа, принять по стакану вина с дороги, и прошу простить меня, что стол в лагере, дом, как видите, еще не готов.
— Ничего, мы к лагерям привыкшие, — сказал Иоахим, — вы, я вижу, добрых людей привели сюда во множестве. Кажется, они тут жить намереваются?
— Да, — отвечал кавалер, успокаивая гостей, — так в том никому притеснений не будет, они у меня землю просили, будут фермерствовать.
— Так то же прекрасно, — вдруг сказал Гренер, — то прекрасно, что люди ваши тут вами будут. Холопы мне сказал, что некий господин с добрыми людьми горную сволочь, воров рыбных, проводил с берега палками, так я тому рад несказанно. И холопы мои за вас молятся.
— Досаждают соседи? — спросил кавалер, усаживаясь за стол и предлагая господам садиться.
— Досаждают воры, — говорил Гренер, — изводят воровством. Рыбу так постоянно крадут с нашего берега. И отпору дать им не могу, из шести сыновей так только два у меня взрослых, а они, как приезжают, так лодок пять, и людей полторы дюжины. Попробуй прогнать.
— А графу говорили? — спросил Волков.
— Говорил. Так в том проку нет. Отвечает, что герцог велел с кантоном не ссориться. И все. Говорит воспрещать им, но без железа. А тут радость такая, я как услыхал про вас, так на заре к вам собрался.
— На заре? Так вы с утра в дороге? — спросил Волков, эти люди ему сразу понравились.
Это были простые люди, бедные воины, совсем не как барон фон Фезенклевер. Он повернулся к Егану и, кажется, впервые назвав его на «вы», сказал:
— Управляющий, распорядитесь, чтобы нам подали к вину что-нибудь. И готовили обед. Господа с дороги.
— Немедля распоряжусь, — от чести такой Еган не знал, как и поклониться, бегом кинулся исполнять поручение.
Глава 29
Управляющий гостинцы Вацлав ее признал сразу. Попробовал бы не признать. Он предложил ей хорошие покои из двух комнат, и она согласилась. Говорил, что даст ей хорошую скидку, и просил всего шестьдесят крейцеров за день. Это со столом, но без фуража для лошадей.
Девушка сразу согласилась, чего ей беречь деньги — теперь у нее их было много. И она была уверена, что будет еще больше, будет столько, сколько ей потребуется. И первым делом просила себе на обед бараньи котлеты и вино. Затем, как кучер освободился, отправила его искать купальни. Как пообедала, так Игнатий уже вернулся, рассказав, что купальни тут прямо рядом есть и что дороги они. Такие ей и были нужны. Она прошлась по лавкам, купив себе всякого, что девам нужно. Все, что приказчики в лавках просили за товары, платила сразу, не торгуясь. И без ловкости своей, разумно полагая, что по мелочи такой ловкость свою пользовать не нужно.
В купальнях мылась долго, там среди других дам и их служанок она чувствовала себя прекрасно. Так как была она не хуже их. Ута натирала ее мылом и маслами несколько раз, терла жесткой тряпкой, мыла ей волосы.
Лежала она на горячих плитах, плескалась в бассейне с теплой водой. И пила вино, что приносили разносчики, слушала музыку, что доносилась из-за ширмы, за которой сидели музыканты.
Вышла из купальни она к вечеру уже чистая, легкая, в новом нижнем белье. Шла довольная, чуть пьяная и уставшая. Пришла, велела себе пирог принести и, едва дождавшись его и съев кусочек еле-еле, пошла спать, а то глаза слипались.
Встала поздно, валялась в пастели, листала книгу. Ута принесла ей молоко с медом. И так хорошо ей было в богатых покоях гостиницы, что хоть не выходи. Но лежать она не могла, не то что бы не хотела еще валяться, просто не могла Агнес улежать, когда тут недалеко было то дело, за которым она приехала сюда. Ута ждала ее в другой комнате, она звала ее:
— Горшок ночной принеси, воду мыться, и одеваться подавай, платье из парчи, багровое, и шарф черный, и чулки черный, — повелел она. — И скажи, что бы завтрак с пирогом, какой вчера был, приготовили.
Улица Мыловаров была так узка, что по ней повозка в одну лошадь едва проходила, а уж карете с четверкой коней нипочем по улице той не протиснуться.
Узнав об этом, карету Агнес брать не стала, но кучеру велела с ней идти. Так ей спокойнее было. А улица чиста была, стены домов чисты, и мостовая метена. На улице вывески, вывески и вывески.
Мыло и масла, и тут же парфюмеры товары в лавках предлагают.
Булавки и заколки, гребни и диадемы, столько всего интересного, но Агнес шла мимо, даже не глядя на прекрасные и нужные вещи.
Шла и глазами искала вывеску, на которой книга есть. В гостинице ей сказали, что по вывеске она узнает, где лавка Стефана Роэма.
И она нашла вывеску в виде книги. У дверей в лавку, на пороге, замерла, знала, что сила ее тут ей потребна будет. И, стоя у двери, она как будто с силами собиралась. Игнатий тяжелую дверь ей отварил и она вошла.
Лавка эта была похожа на ту, что видела она в Малене. Те же столы, заваленные книгами, лампы по стенам. Только тут люди были. Двое мужей, что книги листали и голов к ней не поворотили, а один, что кутался в шубу, что был остроглаз и нос у которого был крючком, так сразу к ней пошел. Был он неулыбчив, строг и волосы имел седеющие до плеч. И Агнес отчего-то показалось, что с этим человеком ей нелегко будет.
— Доброго дня вам, юная госпожа, — сипло проговорил муж в шубе, подойдя к ней.
— И вам доброго дня, — отвечала Агнес.
— Что привело вас туда, куда дамы заходят не часто?
Агнес еще на пороге лавки решила, как говорить с ним будет, но не думала она, что тут другие люди будут, они планы ей путали. Да и глаза книготорговца были тверды. И теперь пришлось ей по-другому говорить. Пришлось все иначе делать:
— Ищу я то, что другие редко ищут. Ищу книги, что мудрость несут.
— Что ж, книги такие у меня есть, — спокойно говорил муж, пристально глядя на девушку. — Что интересует вас, юная госпожа? Может быть, алгебра или наука архитектура вас интересуют? Может, богословие? Если так, то подобных книг у меня достаточно. — Говорил он и в каждом слове его сиплого голоса слышалась едкая усмешка. И глаза его карие и острые были насмешливы, словно заранее знал он, что не эти знания ищет дева. И что такие знания ей будут не по плечу. Не по разуму.
Ах, как не нравился ей он, и это его высокомерие стало злить Агнес, но злость как раз то чувство и было, в котором она нуждалась сейчас. Девушка и говорит ему в лицо негромко:
— Не те мне книги надобны. А может, и не только книги мне нужны. Может, поговорить я с вами желаю.
— О чем же? — спросил книготорговец, улыбаясь высокомерно.
— О разном: о знакомствах ваших, о вещах редких, о редких книгах.
— О знакомствах моих? — тут Стефан Роэм и улыбаться престал. — О книгах редких?
— Да, — сказала девушка со всей невинностью, словно о пустяке просила. — О знакомствах и о книгах.
— И о каких же знакомствах моих вы знать желаете? — И глаза его стали недобрые, колючие стали. — Какими книгами интересуетесь?
— Знать хочу я об Удо Люббеле, — говорит ему Агнес, почти улыбаясь. — И книги мне интересны те, что у него бывают.
— С Удо Люббелем я не знаюсь, — вдруг резко сказал книготорговец. — И книг подобных тем, что вы ищите, у меня нет и быть не может. Коли ничего другого покупать не думаете, так ступайте.
— Поговорить мне надобно с вами, — твердо сказала девушка.
— Вам надобно поболтать, так ступайте на базар или в купальню, туда, где бабы разговаривают. Или товарку себе заведите, с ней и болтайте.
Агнес от дерзости такой пятнами пошла, кулачки сжали и цедит ему сквозь зубы:
— Вели людишкам, чтобы ушли, я тогда и скажу тебе, что мне от тебя нужно.
— Отчего же мне людей гнать, юная госпожа? — насмешливо спросил он, но видно покоробило его, что говорила она ему «ты». — Может, мне лучше вас попросить отсюда?
Это было оскорбительно, но она и это стерпела и сказала примирительно:
— Вели им уйти, и тогда разговор наш последним будет, не увидишь ты меня больше. Обещаю.
— Лучше уж вы уйдите, если ни чего покупать не думаете, — заносчиво отвечал книготорговец.
Ах, как хорошо ей вдруг стало, захлестнула ее злость, и ушки ее покраснели и щеки, и словно купалась она в злости своей, упиваясь ею, и тут же от это этого у нее разум чист стал, словно распогодилось в день непогожий, и сказала она спокойно, даже с ласково:
— Отчего же ты дерзок так, Стефан Роэм?
Она приблизилась к нему на шаг, заглянула в глаза и ручкой своею промеж его мехов как змеей, скользнула и к панталонам книготорговца пробралась. И сразу чресла его нашла, уже знала она, где у мужей место их заветное, ей и искать не пришлось, схватила она его чресла крепко, через ткань панталонов чувствуя их, и продолжила шипеть ему в лицо:
— От чего спесив так, когда не знаешь, с кем говоришь? Неразумно это.
И все поменялось сразу, сразу глаз у книготорговца другой стал, лицо изменилось, он на покупателей коситься, ища видно помощи. А сам руку ее грубо от себя отвел и отвечает:
— Вижу я, что приезжая вы, — говорит он громко, чтобы все другие в лавке слышали, а сам шаг от нее делает, — не знаете вы, что у нас в городе было недавно.
А она молчит, шаг к нему опять делает. Опять стала рядом и заглядывает в глаза. А она опять шагает от нее и говорит все так же громко:
— А не знаете вы, что недавно у нас ведьм жгли. И люди одни говорят, что поделом им, а многие говорят, что мало их пожгли.
И тут девушка засмеялась, повернулась и пошла к выходу, и служанка ее, что у двери стояла, дверь ей раскрыла. И она вышла, даже головы не повернув, даже не глянув больше на книготорговца.
А тот руку свою поднял, поглядел на нее и увидел, что тряслись пальцы его, и не по себе стало Стефану Роэму, когда вспомнил он, что девка эта страшная знала имя Удо Люббеля, и что еще хуже было, так она и его имя знала. Значит, не просто зашла она к нему, по улице гуляя.
Книготорговец подошел к своему постоянному покупателю, что книгу читал под лампой и спроси его:
— Вы видели, как она груба была?
— Кто? — удивленно спросил тот, отрываясь от книги.
— Ну вот, девка эта, со страшным голосом, что только что вышла отсюда.
— Какая девка? — продолжал удивляться покупатель, оглядываясь по сторонам.
Второй покупатель, молодой человек, стоявший с книгой, тоже стал их разговор слушать и тоже удивлялся, не понимая, о чем спрашивает книготорговец, а тот и к нему обратился:
— А вы? Вы ее видели?
— Нет, — молодой человек мотал головой.
Он тоже не знал, о каких девках говорит хозяин лавки.
И видя их недоумение, Стефан Роэм сказал, потирая себе виски:
— Господа, что-то неможется мне, думаю закрыть лавку на сегодня. Ступайте, господа, прошу вас, завтра приходите.
Агнес шла по улице и была зла и весела одновременно. Шла так быстро, что слуги едва поспевали за ней. Она вспоминала разговор с книготорговцем, от этого сжимала кулачки и скалила зубки не то в улыбке, не то в гримасе ненависти. Она очень надеялась пройтись по морде Стефана Роэма ногтями в самое ближайшее время. А может, и кинжалом. Ее будоражило предвкушение следующего разговора. Она уже придумывала, как и где он состоится.
Вдруг девушка остановилась, да так, что Ута, которая размашисто шагала за ней, чуть не налетела на нее. Агнес поглядела на нее и сказала:
— Ступай, найди лавку одежную, плащи купи, чтобы с капюшонами были, по размеру бери мне, себе и Игнатию, потом лампу купи потайную, — она помедлила и достала из кошеля два талера. — Да не плати сразу, торгуйся.
Служанка безмолвно взяла деньги и, поклонившись, пошла искать одежную лавку.
А Агнес, сделав знак кучеру, поманила его, тот сразу подошел, стал слушать ее.
— Запомни улицу эту и дом, в котором мы были.
— Так я помню, госпожа, — сказал кучер.
— Хорошо запомни, чтобы ночью найти мог.
— Найду, госпожа.
— А сейчас пошли оружейную лавку сыщем, хочу себе кинжал купить.
Долго искать и не пришлось — спросили у местного, он подсказал. Они чуть прошли, свернули на улицу Святого Избавления, и там прямо напротив церкви были лавки оружейные. Агнес остановилась у одной из них и подумал:
«Если получиться взять, что нужно, денег не отдав, значит, и ночью у меня все выйдет».
Подумала и вошла в лавку. Только вошла, только увидела молодого человека, что был в лавке приказчиком, лишь улыбнулась ему и уже знала, что возьмет самый лучший кинжал, денег не заплатив.
Долго в лавке она не была, молодой приказчик сразу выложил пред ней великолепный кинжал. Сам он был узок и остр, железо его блистало в свете лампы так, что будь он не узок, а широк, так в него как в зеркало можно было бы смотреться. Рукоять его была удобна и вся покрыта черненым серебром великолепной работы.
И ножны были под стать оружию. В общем, от кинжала глаз не отвести было.
Пока молодой человек раскладывал оружие пред ней. Она подняла на него глаза и сказала сладко, как только могла:
— Что же вы хотите от меня за кинжал этот?
И сама пальчиками своими водила по серебру рукояти и невзначай касалась ими руки торговца.
— Хозяин велит за него четырнадцать талеров просить, — отвечал приказчик так, словно оправдывался.
Агнес выгребла из кошеля все серебро и держала его на руке, словно показывая. И говорила при этом с сожалением:
— Хорош кинжал, но и цена велика, не знаю, сыщу ли столько денег.
— А вы не волнуйтесь, молодая госпожа, хозяина в лавке нет, я отпущу вам его за двенадцать, — говорил молодой человек.
— Ах, как вы добры, — сказала Агнес и начала на глазах его считать деньги, отсчитала двенадцать монет и вдруг спросила. — А женаты ли вы, господин?
Он, чуть обескураженный таким вопросом, замялся сначала в неловкости и ответил, чуть погодя:
— Два года как.
Она вдруг протянула к его лицу руку и погладила молодого человека по щеке, нежно, едва касаясь. И мурлыкала при этом:
— Счастливица, видно, жена ваша.
— Счастливица, — тут же и не без гордости согласился приказчик, заливаясь румянцем. Да, такой мол я.
— Что ж, раз так, то пойду я, — сказала Агнес. — Даст Бог, еще зайду, если дело будет.
— Премного рад тому буду, — отвечал ей приказчик, улыбаясь. И добавил многозначительно. — Заходите… даже и без дела.
Ах, какой милой эта девушка ему показалась. Какой ласковой.
Она у порога последний раз улыбнулась ему и ушла.
Игнатий шел следом за ней. Молчал — пораженный, удивлялся тому, что только что видел. Не мог он того понять, как ей удалось и кинжал взять и деньги не отдать. Что сотворила она с приказчиком такого, что словно спал он наяву. Опоить не могла, ничего не давала она ему пить, только говорила с ним и все.
Игнатий, про себя все больше восхищался этой маленькой, совсем молодой женщиной. Смотрел ей вслед, на ее хрупкую фигурку и начинал понимать, что сильна она очень. Вот только не понял он еще, на удачу или на беду остался он служить у нее.
Но эти мысли Игнатий гнал от себя. Пока что он ей восхищался.
Глава 30
Она волновалась, дожидаясь вечера. Даже аппетит потеряла. А ее слуги нет, спокойны были. Ута была, как всегда подобострастна и старательна. Купила плащи, хоть и плохие, зато не дорого, а вот лампу купила хорошую. И кучер ее тоже спокоен был, ушел в людскую и завалился спать. А что же еще делать, коли лошади не надобны будут до самой ночи.
Так и валялась она в постели до самого вечера с книгой. И есть не ела, и пить не пила. Пригубит вина каплю, отломит крошку от сыра и книгу листает рассеяно. Не читает, картинки смотри. А что ей ее читать, если всю ее уже прочла три раза, а некоторые места и по десять раз. Думала все о деле. И ничего не придумала, кроме того, что пойдет в ночь эту к книготорговцу и уже там решит, как дальше все будет.
К вечеру так измаялась, что заснула ненадолго. А уже в сумерках пришел Игнатий и сказал, что лошади запряжены. Встала, оправилась, в зеркало поглядев, кинжал к поясу привязала, подумав, что на будущее под такой кинжал ей и пояс другой нужен будет. Допила вино и позвала Уту:
— Плащ подай.
Надела его, накинула капюшон и опять перед зеркалом повертелась. Что ж, хороша, хоть и плащ ее был убог, но в ночи да темени разве кто разглядит, что он беден.
— Пошли, — кинула она служанке и потушила лампу в комнате.
Пока ехали, все думала: заезжать ли в улицу узкую на карете или нет, и надумала, хотя и без решительности, что не умно то будет. И сказала кучеру, перед тем как он повернул на улицу Мыловаров:
— Тут жди, дальше мы сами пойдем. Тихо себя веди.
— Не извольте волноваться, — заверил кучер.
И они с Утой пошли.
Как с площади, на которой кабаки шумели, и над которыми лампы горели, свернули, так в темноту попали кромешную.
И тут заволновалась Агнес уже не в шутку. Не то, что днем на кровати было. Куда она шла, кто вел ее, зачем, и что от книготорговца ей нужно? И другие вопросы так и закружились в ее голове. И она, вдруг встала в темноте. И Ута налетела на нее, чуть-чуть толкнув.
— Куда прешь, нелепая? — зло сказала Агнес.
— Простите, госпожа, — пролепетала служанка. — Псина я глупая, не углядела в темноте.
— Лампа тебе на что? Зачем ее под плащ прячешь, если взяла.
— Простите госпожа, глупа, — повторила Ута.
И достала лампу из-под плаща, над головой ее подняла. И тут поняла Агнес, что раз уж пришла сюда, так нечего стоять. Решила — так делай. И волнение в душе, что ее донимало, вдруг обратилось волною теплой. И пришло к ней тут что-то, что уже раз приходило к ней. Приходило здесь же, в этом же городе, так же, ночью. Когда господину ее помощь нужна была. И пришло к ней ощущение.
Вдруг стала она видеть все вокруг и без всякого фонаря. Только без цвета все было, серое. И лужи она видела, и крыс, что в помоях за корку соперничают, и стены обшарпанные.
Она потянула носиком в себя воздух, замечая все запахи, что были на улице. И бочку для помоев, что стояла дальше, и что нечистоты кто-то выплеснул из окна на мостовую час назад, и как кто-то рядом ест кислую капусту, пожарив ее с кровяной колбасой, и то, как пахнет страхом ее служанка. Все, все, все чувствовала она, и все, все, все видела она. Даже о том она уже знала, что за углом ближайшего проулка стоят два мужа. Молча стоят, притаились, и пахнут они отнюдь не страхом. Прячут под одеждой железо и ждут путника, что в час ночной отважится там пойти.
Агнес повернулась к служанке и рассмотрела ее. Ута стояла, приказа ожидая, и над ней словно воздух над огнем дрожал ее запах, исходил от большого тела ее волнами вверх.
Запах этот был запахом страха, и Агнес знала, что не темноты и не дела предстоящего боится служанка, а ее боится, Агнес. И это было правильно. Было хорошо.
— За мной иди, сказала ей Агнес, — да под ноги себе свети, мне свет не нужен.
И они пошли вперед. Агнес дошла до проулка, и остановившись, произнесла громко, чтобы слышали ее те двое, что прятались в темноте.
— Эй, вы, вижу вас, не прячетесь, прочь пошли, псы.
И два мужа, что ни темноты, ни крови не боялись, не палача не боялись, замерли прижавшись к стене. Один другого за руку схватил крепко.
— Не прячетесь, говорю, прокляну, так язвами изойдете. Убирайтесь, пока не разозлили меня, — продолжила девушка.
Мужи в этом городе долгие годы знали таких как она, и голос ее, и слова ее, не оставили у них сомнений в силе ее. Один повернулся и пошел прочь, и второй судьбу не стал пытать, побрел за товарищем.
Агнес выпустила рукоять кинжала, который так и не достала из ножен и пошла дальше, улыбаясь. А служанка с фонарем шла следом. Она даже и не видела, кому говорила в темноту ее госпожа. И не интересно ей было это.
Наконец Агнес остановилась у широкой двери, над которой висела жестяная развернутая «книга».
— К стене стань, и фонарь под плащ спрячь, — негромко сказала девушка.
Служанка тут же это исполнила. И Агнес, не замедлившись ни на миг, не вздохнув даже, постучала в дверь. Постучала кулачком, а не кольцом специальным, что на двери весело.
Никто не ответил ей, да она недолго и ждала, стала опять стучаться, и стучаться настойчиво.
Наконец за дверью послышались шаги, и из-за двери донесся, хоть и не мужской, но грубый голос:
— А ну, пошли отсюда, сейчас стражу кликну!
— Добрая госпожа, простите, что тревожу вас, работала и темноты не заметила, а теперь заблудилась я, не знаю, куда в темноте идти.
— А кто ты, девочка? — донеслось из-за двери, и голос этот уже не был суров. — Отчего ты так поздно идешь домой.
Ута, служанка госпожи Агнес, стояла от нее в двух шагах, пряча под плащ лампу. Она знала свою госпожу, она тут же слышала ее голос. Но если бы кто-то спросил Уту, кто это стоит у двери, кто это просит помощи, то сказала бы Ута, что это девочка десяти годов, никак не больше. И на том она могла бы не думая, на Писании поклясться. А как такое быть могло, она и не думала.
А Агнес говорила:
— Я Марта Функель, младшая дочь колбасника Петера Функеля, что живет напротив гостиницы «Георг IV». Настоятель мне велел воск с пола убрать, вот я в храме и задержалась, а как вышла, так уже темно стало. Пошла домой, да видно свернула не туда.
— Петера Функеля дочь? — донеслось из-за двери. — Ах, это ты, так тебе нужно идти отсюда, от двери налево. До площади, а там повернешь на Главную улицу к ратуше направо, так и дойдешь.
— Добрая госпожа, а не дадите вы мне самой маленькой свечи или лампы, — продолжала Агнес так жалобно, что Ута едва сдержалась, чтобы свою лампу ей не протянуть. — А то, кажется, крысы шуршат в темноте. Боюсь я их. Я лампу вам завтра обязательно верну.
— Эх ты, — ворчала женщина из-за двери, но ворчала она так, как ворчат люди, когда нехотя соглашаются, — что ж ты такая раззява, стой там, сейчас тебе свечу вынесу.
Агнес стала у самой двери, теперь нужно было просто дождаться, пока она откроется. Девушка была спокойна. Просто стояла опустив голову и ждала пока дверь откроется.
А за дверью шаркали ноги, из-под нее пробилась тонкая полоска света, стукнул засов. И без скрипа дверь отварилась, и свет от свечи осветил порог:
— Ну, где ты тут? — сказала крупная баба, пытаясь разглядеть девочку в темноте.
— Тут я, — сказала Агнес, крепко хватая левой свое рукой ее за руку, в которой та держала огарок свечи.
— Чего ты? — изумилась баба, но руку вырвать даже не пыталась, удивлялась. — Зачем?
А Агнес двумя перстами, сложив их, толкнула бабу в лоб, словно клюнула и резко при том сказала:
— Спи!
У бабы от того голова запрокинулась вверх. И она замерла, свечу выронив за порог дома.
Агнес прошла в дом и обернувшись, спросила у служанки:
— Ждешь кого, нелепая?
Та встрепенулась и тоже прошла в дом, закрыла за собой дверь, сама додумалась на засов ее запереть. А баба тем временем ногами ослабла, сначала села на пол, а потом и вовсе легла, разбросав руки и ноги, для удобства сложив одна на другую. И заснула.
Агнес огляделась — столы, книги. Увидала лестницу, пошла к ней, Ута пошла следом, поднялись наверх и там нашли того, кто нужен им был.
В небольшой комнате было две кровати, одна большая, в которой под периной спали четверо детей и другая маленькая, в которой ютился книготорговец Стефан Роэм со своей женой.
— Свети мне, — сказал Агнес, подходя к нему.
Ей самой свет был не нужен, но она хотела, чтобы он, когда откроет глаза, ее увидел.
Она приложила руку к его лицу, рот ему зажала, и сказала:
— Молчи.
И убрала руку от его лица.
Книготорговец глаза открыл, выкатил их от ужаса или от удивления, смотрел на девушку, а та даже капюшон скинула, наклонилась над ним, чтобы он лучше ее рассмотрел. Чтобы понял, кто к нему пришел. Стефан Роэм рот раскрыл, крикнуть хотел, жену позвать или служанку, да только просипел жалко. Так и остался с открытым ртом и вытаращенными глазами лежать. А Агнес ему и говорит:
— Кричать не вздумай, разбудишь ежели кого, так мне его угомонить придется, — и показала ему кинжал, прямо к глазам поднесла, — понял меня?
Книготорговец сделал над собой усилие — кивнул.
— Дозволяю тебе говорить, отвечай на мои вопросы, слышишь меня?
— Слышу, — сказал книготорговец сипло.
— Днем давился от спеси ты, глупый пес, не хотел говорить со мной, так поговорю я с тобой ночью, — неожиданно ласково говорила девушка. — А я к тебе издали ехала, думала, ты мне поможешь. А ты и через губу не переплевывал, словно с дурой говорил.
— То… Помутнение было со мной, — прошептал книготорговец.
— Помутнение? — Агнес оскалилась страшно. — Что ж, зато теперь у тебя разум чист видно. Говори, есть ли у тебя книги, про знания редкие?
— Нет, госпожа, нету, — сипел Стефан Роэм, косясь на кинжал, что был у глаза его. — Были до недавнего, а тут приехал один инквизитор, стал в городе розыски ведьм вести, да жечь их, так я все подобные книги отправил в другие города, от греха подальше.
— Куда отправил?
— В Мален и в Ференбург… — он замолчал. — Тамошним книготорговцам, с которыми состою в переписке.
— А в Ланн, Удо Люббелю отправлял?
— Отправлял.
— Говорят ты друг его.
— Нет, — сразу ответил Роэм, — не друг я ему. Я его не знаю даже.
И тут Агнес почувствовала, что врет он. Она кинжал к глазу приложила и говорит:
— Врать мне не думай. Вижу я, когда врут мне. Говори про него.
— Что же говорить мне? — вдруг замямлил книготорговец. — Что знать про него желаете?
— Говорят, что он любые книги и любые вещи может сыскать.
— Да-да, связи у него обширны. Что у него спросите, все найдет.
Нет, он точно что-то не договаривал, и девушка это видела, словно в книге читала.
— Не хочешь ты мне все говорить, что о нем знаешь, да? — спросила она, начиная на скуле его острым лезвием кожу разрезать медленно. — Может, хочешь, чтобы дети твои проснулись? Может, с ними ты быстрее вспоминать будешь?
— Нет, госпожа, нет, — заскулил книготорговец, когда по его небритой щеке покатилась капля гутой темной крови. — Я все про него знаю, скажу немедля.
— Ну? — Агнес остановилась, но кинжал от лица его не отвела.
— Никакой он не Удо Люббель, он Игнаас ван Боттерен. Из Бреды. Он еретик. Вот кто он.
Нет, это была не вся правда. Агнес это видела, она снова стала резать ему кожу.
Он схватил ее за руку, чтобы остановить, но девушка налегла на него, навалилась, кинжал не отвела от лица и зашипела как змея:
— А ну, руку не тронь, иначе глаз тебе вырежу, говори вошь, правду мне говори.
— Господи! Зачем вы меня мучите?
— Это все оттого, что не стал ты со мной говорить, когда по-хорошему я говорить с тобой хотела. Не хотел по-хорошему, будешь вот так говорить, с кинжалом у глаза.
— Я скажу, — выдохнул книготорговец, убирая свою руку от нее. — Он…
— Впредь прикоснешься ко мне, так жену твою проткну, а потом детей одного за другим, — не дала договорить ему девушка. — Ну, говори.
— Зовут его Игнаас ван Боттерен, он из Бреды. Но потом бежал из города.
— От чего же бежал он? Из-за тайных книг?
— Нет-нет, не из-за книг. Он детей брал.
— Что? Как это?
— Ну, брал, как женщин берут. Пользовал. Имел их. Заманивал их к себе, опаивал и брал. Но то все слухи были. Сами дети того не помнили. За этим его никто поймать и не мог. Хотя, все на него думали. А однажды родители одной девочки сказали, что видели, как он их дочь семилетнюю в дом свой ввел. Людей собрали, ломали ему двери, требовали дом показать. Он пустил, показал. И никого в его доме, поначалу не нашли. Люди разошлись, но родители не успокаивались. И он собрал вещи, книги и бежал из Бреды. А родители на следующий день нашли свою дочь в бочке голой. Он ее в бочке с водой во дворе своем утопил, и одежда ее там же была. Он сверху на девочку камень положил, чтобы не всплыла, вот поэтому ее сразу и не нашли. Он потом в Гюлинге жил, но и там не прижился. Мал городок, для него оказался. Он в Ланн и подался. Живет там, на улице Ткачей. Дом с иконой святого Марка.
Вот теперь он не врал. Агнес несколько мгновений обдумывала все, что сказал ей Роэм и потом спросила:
— А вправду у него книги тайные есть?
— Если и нет, то он найдет, он все о таких книгах знает, и многих тех он знал, что их писали, — говорил книготорговец. — Мне другой такой знаток тайных книг не ведом, он лучший.
Это было все, что она, кажется, хотела вызнать от него. Девушка задумалась и после произнесла:
— Если бы ты мне это сразу сказал, дурак, то и не пришла бы я к тебе, а раз ты заставил меня к тебе прийти второй раз, то уж оставлю я тебе след навсегда, чтобы помнил меня. А если хоть пискнешь при этом, то вовсе убью тебя.
Он косился на нее с ужасом, и молчал.
Взяла она кинжал крепко, и повела его по лбу от виска до виска разрезая ему кожу на лбу до самой кости, а книготорговец, замер, оскалился от боли, кряхтел, зубы стиснув, но другого звука не издал, хоть кровь заливала ему все лицо и стекала на подушку. Так он ее сейчас боялся, что даже пальцем не пошевелил, пока не закончила она.
— Молодец, стерпел, — сказала Агнес, смеясь. И после ткнула пальцами его в лоб, добавила. — А теперь спи.
Глаза книготорговца сразу закатились, а рот открылся. А девушка, вытирая пальцы о перину пошла к выходу.
Дело было сделано. Они со служанкой спустились вниз, и прежде чем уйти Агнес остановилась, и стала брать книги со столов. Смотрела на них и те, что ей нравились, предавала Уте. Та принимала книги и лампой освещала другие, которые Агнес еще не смотрела. Так они выбрали четыре больших и тяжелых книги. Нужных среди них не было, то были романы куртуазные, но от скуки и их почитать было можно.
А уж после этого они и вышли из лавки, переступив на пороге через спящую бабу. Прикрыли дверь, и ушли в ночь обе довольные. Одна от того, что много узнала нужного, а другая оттого, что первая довольна.
Агнес шла, глядела на суетящихся у помоек крыс и повторяла имя, которое только что узнала:
«Игнаас ван Боттерен из Брэды. Игнаас ван Боттерен».
Так и дошли они до кареты, Игнатий помог ей сесть в нее и поехали кое-как по темноте в гостиницу, спать.
Глава 31
Завтрак у Агнес был, когда у других обед бывает. А потом позвала она управляющего Вацлава считаться. Тот шельмец кланялся и лебезил, а насчитал два талера с лишним, вор. Это за две ночи-то! За дуру ее держал, не иначе. При этом и Ута была, и Игнатий были. Но девушка спорить с ним не стала, улыбалась только. Деньги достала, перед носом его повертела, по щеке бритой похлопала и заболтала его умеючи, денег ему так не отдав. А Вацлав кланялся, улыбался думая, что провел простушку и хорошую лишку взял с нее. Внизу, уже у кареты, Игнатий, когда нес ее вещи, сказал о ей восхищенно:
— Как с малыми детьми вы с дураками этими.
Польстило ей это. Вроде холоп ее похвалил, а все одно — польстило. Ута теперь и слова лишнего не говорила, пока не прикажут ей, поэтому слова Игнатия в сердце ей запали. Ехала она по городу и цвела. Даже книги не трогала, что рядом лежали, просто в окно кареты смотрела.
А на главной площади, у ратуши вроде, торговля тут воспрещена, но людно было. Да все люди богатые. Дела обсуждали прямо на улице. У стены ратуши, под навесами от солнца, полдюжины менял свои банки расставили. Деньги столбиками мелкие на банках стоят. Сидят менялы, клиентов ждут, от жары изнемогают, платками обмахиваются. Они все одеты богато, в шелках да мехах, хоть, день и теплый. Кое-кому из них лакеи обед прямо сюда принесли из трактиров, время-то обеденное. Агнес поглядела на них и крикнула кучеру.
— К менялам вези меня.
Надумала она перед отъездом из города взять денег у менялы какого-нибудь. Такую она в себе силу чувствовала после ночи прошедшей, что без лишних денег из этого богатого города ехать не хотела. Решила поживиться напоследок. Чего ж деньги упускать.
Игнатий карету остановил прямо в двадцати шагах от входа в ратушу. Ближе не подъехать. Все менялы, даже те, что обедали, повыскакивали, к карете подходили, наперебой услуги свои ей предлагали.
Но она поняла, что так ей неудобно дело будет делать и отогнав их от кареты, сама к ним вышла. Выбрала того, что шумел больше всех. Меняла был крупен, толст и голосист. В шубе новой и большом берете был. Остальные разочарованно возвращались к своим обедам и разговорам.
— Госпожа, дам вам цену лучшую, — обещал большой меняла, вытирая лицо платком и возвращаясь к своей банке, туда же ее жестом приглашая.
— И сколько дашь? — спросила она, говоря ему «ты» умышленно, чтобы знал, что не ровня он ей. И при этом достала из кошеля все тот же гульден и покрутила у него его перед носом.
А меняла свое дело знал, прищурился, глядя на золото, и сказал:
— Дозвольте в руку взять, вес понять, тогда скажу.
Нет, не так она все себе думала, но делать было нечего, дала ему монету в руку. А сама пальцами у него пред глазами провела, плавно с лева на право, словно муху отогнала.
Они шли к его банке, а меняла монету на ладони взвешивал на ходу и говорил:
— Шестнадцать талеров земли Ребнерее и еще двадцать крейцеров серебром дам за ваш гульден.
Она тут же гульден из руки у него выхватила проворно и обиженно сказала:
— Обмануть желаешь? Тридцать крейцеров давай.
И снова ручкой машет, словно муху отгоняет. Прямо перед носом у него.
— Будь, по-вашему, — сразу говорит меняла глазами моргая, и щурясь словно в глаза песок ему попал.
— Отсчитывай, — повелевает Агнес, а монету все перед ним вертит, чтобы он ее видел.
Меняла быстро деньги достал, в одно мгновение, даже не глядя на них, отсчитал столько сколько нужно, пальцами их зная, и протянул серебро Агнес. Дева деньги сгребла, не считая, бросила их в кошель, а гульден протянула к ладони менялы, который ждал его. Да только не положила она его в руку, а лишь коснулась золотом ладони и тут же отняла его.
И тут же выговаривает ему высокомерно:
— Думаю, обманул ты меня, но то пусть на совести твоей будет.
— Госпожа, — возмутился тот, — как же обманул, цену дал я вам отличную!
Она повернулась и пошла, его не слушая больше, а он следом пошел и все говорил и говорил:
— Отличную цену дал, никто другой вам такой цены не даст. Гульден ваш не нов, от прежнего веса не все осталось. А я не поскупился. Не считайте меня мошенником. Поглядите, золото ваше стерлось от старости…
И тут он ладонь свою поднял, чтобы убедиться в словах своих, чтобы еще раз посмотреть монету… А монеты в руке и нет! Глаза его непонимающие круглы стали от удивления. Ничего он не понимает. Идет, губами шевелит, словно считает он что-то. Шепчет о чем-то.
А Агнес идет к карете, его не слушает. Шаг ускорила.
А он следом удивленный спешит и говорит:
— Позвольте, молодая госпожа, а где же деньги ваши?
А она молчит, лица к нему не воротит, к карете спешит, до нее уже немного осталось. Игнатий уже с козел спрыгнул, дверь ей распахивает и ждет, а меняла тут и заорал, указывая на Агнес перстом:
— Так то наваждение! То обман! Ведьмин промысел! Так вы ведьма!
Уж в этом городе люди про ведьм наслышаны были, уж в Хоккенхайме про ведьм знали. И меняла тоже знал.
Поэтому орал он так, что все, кто на площади были, разговоры прекратили, к ним повернулись. И некоторые поближе подойти решились.
— Ведьма! — продолжал орать меняла, все еще тыча в ее сторону пальцем.
Агнес дышала тяжело, видела, как все смотрят на нее. По ногам девушки страх оковами пополз. Но она с духом собралась, лицо к нему повернула: а оно черно как туча, и глаза на нем горят алым. И зашипела ему по-кошачьи в его круглю морду:
— Пшел пес, не тронь меня. Прокляну, так язвами изойдешь.
И отшатнулся меняла огромный от девочки маленькой и хрупкой, отшатнулся, словно дьявола увидал. Но орать не перестал, еще громче заорал:
— Хватайте ее, ведьма это. Ведьма!
А до кареты ей пять шагов осталось. Уже видит она испуганные глаза служанки своей.
И тут один муж, что при оружии был, из-за кареты выходит, и Агнес под локоть берет:
— А ну-ка, постойте, госпожа.
И тут Агнес растерялась. Подняла глаза на этого человека и замерла. То, видно, стражник был, и не из простых, а из офицеров.
Голос у него строгий, глаз недобрый и страха в нем нет. Держит ее локоть крепко. Так крепко, что у девушки ноги ослабли, так крепко, что перепугалась она. И вся та сила ее, которой Агнес кичилась, в раз и пропала.
— Кто вы такая? — спрашивает строгий муж. — Отвечайте немедля.
А сам оглядывает ее с головы до ног, думает, откуда она такая взялась. Да еще на карете, которую в городе все знали.
Не успела Агнес ему ответить, не нашлась, что сказать, стояла перепуганная, так перепугана была, что и не поняла, что дальше произошло. Шло все странно, как будто медленный сон она смотрела.
Не видела Агнес, как тесак кучера ее, Игнатия, распорол руку того господина, что держал ее. Как заорал он, заливая кровью городскую мостовую и девушку выпуская. Не видела она, как Ута, служанка ее, схватила ее за руки и чуть не волоком втащила в карету, захлопнула за ней дверцу. Не слышал она, как хлопнул бич, как свистит Игнатий и как кричит он лошадям:
— А ну выручайте, квелые.
Как орут мужи важные на площади, требуют догнать карету, как бегут к ним люди злые, как летит карета по улицам, распугивая горожан, всего этого не видела она и не слышала. А слышала она только крик менялы страшный: «Хватайте ее, ведьма это. Ведьма!»
«Хватайте ее, ведьма это. Ведьма!»
«Хватайте ее, ведьма это. Ведьма!»
Сидела она на полу в карете у ног служанки своей почти в беспамятстве и леденела душой девочка от этих слов. И не чувствовала она, что ее юбки нижние мокры стали.
В перелеске, что был уже далеко от города Хоккенхайма, пришлось остановиться, хоть и хороши кони у нее были, но и им отдых желателен. Тихо было, с дороги их не видно, птицы пели. Агнес пришла в себя. Велела Уте одежду ей дать новую. Пока Игнатий лошадей ласкал да сбрую поправлял, так она переоделась и пришла в себя. Девушка изменилась, от заносчивости и следа не осталось. То, что испытала она в Хоккенхайме, вспоминала и говорила:
— Молодец ты, Игнатий, не зря я тебя из-под виселицы вывела, — и дала ему талер.
— Слуга я ваш, — ответил он и добавил, с поклоном беря деньги, — благодарствую, госпожа. Но не я вас вынес из города, лошади у вас хороши, они нас унесли. Но сидеть тут нельзя, не дай Бог погоню пустят, хоть и хороши кони у нас, но от верховых не уйти нам будет.
— Так поехали, — произнесла она взволновано.
От одной мысли, что за ними погоню пустить могут, опять страх проникал ей в душу.
— Куда едем, госпожа? — спросил кучер.
— В Клевен, в тот город, что мы на пути в Хоккенхайм посещали.
— Помню, госпожа, — сказал кучер и помог ей подняться в карету.
И карета покатилась на восток.
Все переменилось в ней за один только этот день. Теперь это была уже другая Агнес. От спеси и заносчивости, от высокомерия и надменности и следа в ней не осталось. Она с ужасом думала о том, чтобы с ней было бы, схвати ее стража. Чтобы спрашивали они, о чем с ней говорили? А если бы они ей подол задрали или обнажили да отсмотрели ее со всех сторон. Да увидели то, чего она стеснялась и то, что прятала. Тогда что? Тогда инквизиция и в лучшем случае монастырь строгий. А там стены толстые, кельи холодные, посты да молитвы до конца дней.
Нет, нет, нет. Так не годиться. Теперь она по-другому будет жить. Тихо и праведно. Уж научил ее случай сегодняшний. И теперь еще больше ей нужны были знания тайные и снадобья секретные. А для снадобий нужны были ей травы и горбунья. Потому и ехала она в Клевен за ней.
Доехали до Клевена лишь на следующий день.
Помнила Агнес, что в городе этом обманула она купца на большие деньги, когда костюм для кучера своего брала, и велела ему в плащ облачится, не дай Бог тот узнал бы вещи свои. И сама тоже плащ накинула, когда на базар пошла.
Там, на том же месте, встретила она горбунью. И та ее сразу признала, хоть Агнес теперь в другом платье и в плаще с капюшоном была:
— Не нашла я вам мандрагору, — сразу сказал горбунья, таясь. — Все виселицы в округе обошла, ни одного нужного висельника нет.
— И пусть, — ответила ей девушка. — Собирайся, найдем еще.
— Так вы обещали мне мужа найти, — напоминала ей торговка.
— Обещала — так поищу, — сказала Агнес. — Собирайся, едем сейчас же.
— Уж и не знаю, — сомневалась женщина.
— Ты же еще и кухарка? Хороша ли?
— Да, уж на мою стряпню, как и на мои зелья, никто не жаловался.
— Жалование тебе назначу, талер в месяц, и при полном содержании.
— У меня трав и кореньев много, мне быстро не собраться, — говорила горбунья с сомнением. — Бросить мне их?
— Нет, все заберем, все мне надобно будет. Сундуки купим, все сложим, все заберем.
— Ну, что ж, будь по-вашему, — согласилась горбунья. — Только помните, что вы мне мужа сыскать обещали.
— Сказала же, поищу, — произнесла Агнес.
Они пошли к сундучному мастеру и купили два больших сундука, и за все Агнес заплатила серебром. На этот раз без обмана.
Когда все травы и коренья горбуньи были сложены, а сундуки поставлены на карету, горбунья спросила новую свою госпожу:
— А куда же мы едем?
— В Ланн, — ответила Агнес. — А как звать тебя, женщина?
— Зовите меня Зельда, — отвечала горбунья. — Зельда, по батюшке Кухман.
— Что ж, поехали в дом мой, Зельда Кухман, — произнесла Агнес и велела кучеру ехать в Ланн.
Глава 32
Не сразу и не с радостью втягивался Волков в новую свою жизнь. Жизнь помещика и господина.
Может, где-то в другом месте, где поля и луга есть добрые, где дороги вместо оврагов, где леса есть вместо колючих кустов, он бы сразу себя нашел. А тут стала нравиться ему его новая жизнь не сразу. С руганью, с печалями, с хлопотами, но она начала затягивать его в себя, увлекая ежедневными делами и ежедневными новыми планами, конца которым не было. Но больше всего бодрости и радости ему приносили первые результаты его и Егана трудов.
И коровы, что он разудал своим мужикам, и большие поля, что они вспахали новыми плугами. Посеянный овес и горох тоже радовали.
А как порадовала его отремонтированная крыша! После ремонта крыши Сыч, без конца рубивший окрестные кусты, наконец протопил дом так, что он высох изнутри. В доме появился приятный запах дыма и тепла. Кавалер послал в город монаха, он поехал и привез стекольщика. Тот прорезал в доме новые окна и вставил большие стекла, за что взял пять талеров. Но дом от этого выиграл, светлый стал. Еган пригнал местных баб, и они полы помыли, паутину и копать убрали. Дом стал еще светлее — огромный, светлый, чистый. Под крышей, рядом с трубой камина, получился еще и второй этаж. Расставили мебель, развесили кастрюли и чаны, на крюках расставили посуду на полках и…
Дом Волкову понравился! Тут топали сапожищами его офицеры, сюда приходили мужики с просьбами, солдаты тоже. Всех можно было принять и со всеми говорить, и не стыдно уже было, если бы вдруг приехал кто из соседей. Это, конечно, был не дворец, но уже и не мужицкая хибара. Совсем не хибара. Новый слуга его, мальчишка Яков, был ни рыба ни мясо. Скажешь — все сделает, не скажешь, так будет сидеть за домом на завалинке. Сам работу себе не искал, коли бросить грязные сапоги, так он будет через них перешагивать, пока ему не скажешь. За то был смышлен, кавалер думал, что, повзрослев немного, он будет уже без напоминаний делать свою работу. А пока мирился и не бранил его строго.
Наконец, господа офицеры определились с местом, где поставят дома свои. Волков удивился, но селиться они решили не в Эшбахте, а чуть восточнее, поближе к реке на холмах. Там Брюнхвальд надумал ставить сыроварню, рядом с нешироким, но бойким ручьем. И Рене, и Бертье решили ставить дома там же. Ну, решили так решили, он их отговаривать не стал. Брюнхвальд ждал свою жену с сыновьями, Рене занимался солдатами и их делами, даже пытался руководить вспашкой Северного поля. А Бертье, собрав банду таких же, как и он любителей охоты, с утра до вечера катался по оврагам, и не безрезультатно. Сначала возил все кабанов, а как собачки заматерели да попривыкли кустам местным, стал привозить и волков. Волки были велики. Бертье растягивал шкуры на сушку, так в шкуру такую ребенка десяти лет завернуть можно было. А еще кавалеру пришло письмо, и было оно таким, что и не знал кавалер, радоваться ему или печалиться. Ждал он его с волнением и, дождавшись, стал волноваться еще больше. Было то письмо ответом на его, а писал он свое письмо благородной даме Анне фон Деррингхоф. Когда монах приехал из города, то привез почту и сказал Волкову, что ему пришло письмо. Так тот руку за ним протянуть стеснялся. Крепкая рука воина и рыцаря, что не дрожала ни при каких делах и ни в каких схватках, тут дрожала, словно у труса. Так то заметно было, что он сам письмо у монаха не взял, а велел его на стол положить. А монаха проводил. И уж после этого, когда один остался, только и осмелился взять письмо и открыть его.
Госпожа Анна писала ему, что вышла замуж за хорошего, но небогатого человека благородной крови, и что новорожденная дочь Ангелика ему люба, словно он ее отец.
«А кто ее настоящий отец, вы и сами знаете», — было написано в письме.
Волков сидел на стуле возле окна, ногу больную удобно вытянув, и перечитывал письмо раз за разом. Потом встал и заходил по дому, письмо из руки не выпуская. Вот так, значит. Сколько было у него в жизни женщин? Сотни. И разбитные маркитантки, что жили с ним, пока у него деньги не кончались. И девки блудные, и те бабенки, которых брал он по праву войны. Этих было особенно много. Он бы всех и припомнить не смог бы. А были такие, что сами искали его общества. Богатые горожанки и вдовые селянки не раз звали высокого и ловкого юношу в гости. Долгие, долгие годы его военной молодости не проходили без женщин, может, и дети от него рождались. Да, скорее всего так и было. Но вот не знал он о них ничего. А тут узнал, и аж руки затряслись. Конечно, дочь госпожи Деррингхоф — не чета дочери изнасилованной под телегой крестьянки. Да и не знал он о других. А об этом ребенке знал, вот и волновался.
— Яков, — заорал он, — Яков!
Орал долго, прежде чем слуга пришел.
— Рядом будь, — сказал ему кавалер, — чтобы я горло не драл, тебя разыскивая.
— Ага, — сказал мальчишка.
— «Ага», дурак, — передразнил его кавалер. — Говори: «Будет исполнено» или «Как пожелаете».
— Как пожелаете, — тут же повторил сообразительный слуга.
— Монаха мне найди, да быстро.
— Как пожелаете, — повторил Яков и ушел.
Когда монах был найден, Волков спросил у него:
— В Мален завтра поедешь?
— Так не к чему мне, господин, — отвечал брат Ипполит. — Письма я уже получил и отправил.
Кавалер молча выложил на стол десять золотых монет и сказал:
— Найдешь банк, поспрашивай у местных, может, в Малене он не один есть, так выберешь лучший и сделаешь перевод. Отправишь девице Ангелине фон Деррингхоф эти деньги от кавалера Фолькофа на приданное. От банка попроси уведомление.
— Большие деньги, — сказал брат Ипполит, не решаясь трогать золото.
— Большие, — Волков помолчал, но сейчас был как раз тот случай, когда даже такой замкнутый человек, как он, нуждался в разговоре. — Из писем следует, что госпожа Анна родила ребенка… И ее муж, кажется, не его отец.
Он заметно мучился, выбирая слова, но монах вдруг сказал ему просто:
— Мой духовник и наставник, настоятель Деррингховского монастыря, считает, что девочка эта чистоты ангельской, рождена не без вашего участия, господин. Он друг госпожи Анны. Уж он-то знает.
Волков помолчал, большего ему знать и не нужно было, и он произнес, облегченно вздохнув:
— Ну, так чего же ты стоишь, бери деньги, завтра же езжай в Мален.
— Хорошо, — монах сгреб золото со стола, поклонился и ушел.
Но Волков не удержался и написал еще и письмо госпоже Анне.
Писал он в волнении, и письмо вышло излишне вежливым и глупым.
А через три дня Карл Брюнхвальд уехал в город. А еще через два дня Волков, Еган и Максимилиан поехали на Северное поле, то что он дал в аренду солдатам, посмотреть, как у солдат дела. И был огорчен. Огорчил его Еган:
— Дураки, — говорил тот, — земля вспахана дурно, глубоко, зря лошадей мучили, так глубоко пахать не нужно. А еще борозды редки. Лучше бы наоборот было. И зерно брошено в сухую землю. Надо было им южное поле пахать, там до сих пор земля сырая.
— Что совсем все плохо? — спросил Волков.
Еган махнул рукой:
— Не будет им урожая. Готовьтесь им на зиму еду покупать. А то с голоду солдаты ваши передохнут.
— На кабанятине выживут, — сказал Максимилиан. — Бертье им через день по свинье бьет.
— Так вы им хоть бобов тогда прикупите.
«Прикупите!» Волков зло глянул на него. Он уже и так накупил всего больше, чем на триста талеров. «Прикупите!»
Да, все было не совсем так, как он думал раньше. Раньше он думал, что солдат, за что не возьмется, все у него получиться. А оказалось что это не так. Смотрел он на те домишки, что строили себе солдаты и морщился. Издали поглядишь — так ничего, вроде, и неплохи, беленькие да чистенькие, а как ближе подъедешь, так хоть плачь. Стены из орешника тонки, кулаком проломишь, обмазаны глиной неровно, бугристы, углы кривы, окошки малы. Крыши тяжелы для таких стен и стропил, похоже, их из фашин делали. Вот точно из фашин. Что умели солдаты всю свою жизнь делать, то и делали. В общем, у мужиков даже лачуги лучше.
И Еган, кажется, был прав, придется ему на зиму купить хотя бы пять возов бобов и гороха, а то и вправду голодать дураки будут.
Приехали в Эшбахт и увидели обоз, что идет в него с севера, из Малена. Десяток телег, не меньше — это Карл Брюнхвальд жену вез и сыновей ее. А еще вез все, что нужно для сырного дела. Одних котлов медных четыре штуки. Огромны так, что в любом из них купаться можно, да еще чаны деревянные и ушаты огромные, да трубы и ведра железные, много всего, много.
Жена Брюнхвальда, Гертруда, Волкова увидала, слезла с телеги и сыновей своих позвала. К Волкову подошла и приседала низко. Сыновья ее тоже ему кланялись. Волков, вспоминая их знакомство, чувствовал себя немного неловко, и она, кажется, тоже. А вот Карл Брюнхвальд ничего такого не чувствовал, он так просто цвел. Человек, суровый и поседевший в войнах, улыбался и радовался от счастья, то и дело обнимая жену. Поглядишь со стороны, дурак дураком. Но женщина Гертруда была приятная, и кавалер даже немного завидовал Карлу.
Как-то само собой то случилось, но однажды, встав на заре, он вышел на двор и понял, что эта жизнь простая ему по нарву. Куры на дворе, быка еще не выгнал Еган к пастуху в стадо, баба молоко ему в ведре несет. Кони ржут, ждут, когда их пастись отпустят. И все это ему нравилось. И ничего, что хлопот много, что не успевают они с Еганом за день всех дел передать. Все ничего, все ему по нраву. И уже и надел его не так уж плох. Хотя забот полно. Коней, лошадок и меринов у него двадцать три, быки, коровы у мужиков. За всем этим глаз нужен. Недели не проходило, что бы у раззявы пастуха корова или лошадь в какой-нибудь овраг не падала и сама вылезти из него не могла. А еще строились все, господа офицеры пришли к нему денег просить на стройку. Халупы, какие солдаты себе построили, господа офицеры такие не захотели лепить. Хотели дома хорошие. Просили денег на лес себе. Волкову давать деньги было жалко, хоть офицеры божились, что отдадут. И он предложил им срубить сто деревьев из того леса, что рос у него на юге.
— Только рубите сто штук, не более, — говорил он, показывая им карту, — вот здесь. Землемер Куртц сказывал, что сто деревьев на моей земле растут, а остальные на земле кантона.
Господа офицеры изучали карту, кивали головами.
— Себе возьмете, сколько вам потребно, остальное мне сюда доставите. А потом мы с вами посчитаемся.
И на это Брюнхвальд, Рене и Бертье были согласны.
Как-то вечером пришли мужики, четверо. Стали во дворе, просили через мальчишку Якова его выйти. Он не пошел к ним, велел им к нему в дом зайти, они заартачились и вновь просили его выйти поговорить. Не понимая этого мужицкого упрямства, он вышел во двор к ним. А один из них и говорит:
— Господин, дозволите ли вы вашему человеку ребра поломать малость?
— Дурак ты, что ли? — хмурится Волков. — Чего это вы надумали? Кому что ломать собираетесь?
— Человеку вашему, — продолжает мужик, — которого Фрицем кличут.
Ну конечно, этот и тут уже отметился, кажется, Волков даже знал, за что мужики его бить надумали. Но нужно было спросить:
— Что он натворил?
— Ходит, до баб наших домогается, — обиженно заговорил другой.
— Сначала к девкам незамужним лез, так они ему от ворот поворот дали. Он к замужним лезет, стервец. Нахальничает, как хорек в курятнике.
— Как какой мужик из дома, так он ходит вдоль заборов кочетом, заглядывает, с бабами разговоры затевает. — продолжал обиженный мужик. — Бабы в огороде работать не могут. Стесняются.
— А еще он гулять зовет, — вдруг грубо заговорил еще один, — подарки сулит. А наши бабы подарками не избалованы. Могут и не устоять.
— Мы ему говорили, чтобы не шастал, а он смеется только.
— Дозвольте мы ему ребра поломаем! — закончил тот мужик, что начинал разговор.
— Никому ничего не ломайте, мне скажите, я поговорю с ним, — сказал Волков. — Ступайте, если еще раз к вашим бабам придет, так опять приходите.
Мужики, кажется, ушли довольные, а Волков пошел искать Сыча.
Нашел и спросил у него:
— Опять до баб домогаешься?
— Чего? Кого? — начал отнекиваться Фриц Ламме.
— Чего? Кого? — передразнивал его Волков. — Доиграешься, проломают тебя мужики, уже приходили разрешения спрашивать тебя бить.
— Меня бить? — удивлялся Сыч и, кажется, искренне. — Так за что же? Пальцем никого еще не тронул.
— Не ходи к замужним бабам, — сказал кавалер, а потом и спросил с интересом. — А молодые девки есть тут красивые, я что-то не припомню?
— Да откуда, — махал рукой Сыч, — тощие, одни мослы торчат, без слез и не полезешь на такую.
— Что, совсем плохи?
— Экселенц, да я уже всех посмотрел, — говорил Фриц Ламме. — Из взрослых только две тут незамужних есть. И обе, как дохлые лошади в канаве, и та менее костлява. Ну… — он вспоминал.
— Что?
— Мария, дочь старосты, та хоть лицом мила, но тоже кожа да кости. Зада нет, как не было, сисек тоже. Ключицы только торчат и все. А больше в вашей земле и поглядеть не на кого.
— Ты, Сыч, не лезь больше к мужицким бабам, уж лучше возьми коня да в город езжай, к блудным, если невмоготу, а может, там себе жену найдешь.
— Жену? — скалится Сыч. Смеется. — Так я и не против, да куда мне ее привести, я ж гол как сокол, какая на меня позарится.
— Ладно, ступай, только помни, что тебе сказал, баб местных не трогай.
Сыч ушел, а Волков позвал Якова.
— Чего вам? — спросил тот меланхолично. Видно, Волков его от важных дел отнял. Видно, на завалинке опять себе дудку мастерил.
Очень захотелось дать ему оплеуху кавалеру, но не стал, сказал:
— Дочь старосты Марию приведи ко мне.
— А не пойдет если? — все так же сращивал Яков.
— Ты что, дурак, не слышал? — начинал свирепеть Волков. — Бегом беги, чтобы сейчас же была.
И таки дождался мальчишка оплеухи, а рука у кавалер тяжелая, дурень после этого перепугался и бегом побежал. И уже вскоре перепуганная девка стояла пред столом, за которым сидел Волков.
Эх, а Сыч-то был прав. Мелкая, худая, но глазастая. Глаза большие серые. Юбка застирана и коротка, нитки понизу мотаются, нижней юбки вовсе нет, рубаха тоже не новая, а ноги сбиты все, видно, давно обуви не видела.
Стоит, молчит, на кавалера глазищи свои огромные пялит. Да, прав был Сыч, интереса в ней нет. И ничего другого Волков сказать не нашелся:
— При дому будешь, дворовой.
Она всхлипнула вдруг. Заскулила.
— Чего еще? — спросил он. — Чего скулишь?
— Брать меня будете?
Он поморщился даже:
— Дура, на кой ты мне, костями твоими греметь? Иди, Егана найди, он знает, что я люблю, объяснит тебе. Но главное — запомни, я чистоту люблю. Поняла?
— Да, господин, — мямлила девка.
— Ступай.
На том все и закончилось. Он взял письмо, что прислал ему прекрасная госпожа Анна, и опять стал его читать. В двадцатый раз, наверное.
Глава 33
— Не пойму я, чего ему надо. Земля сыра была, когда сеяли, чего он не поднимается? — говорил Еган, сидя на корточках рядом с гороховым полем. — Рожь, вон, как дружно пошла, и овес хорош, и ячмень, а это, ты глянь, какая беда… Чахлое все.
Волков ездил с ним с утра по полям и был доволен тем, что увидел. Всем, кроме этого. Горох и вправду не дал ростков, хоть посеяли его две недели как.
Еган встал, отряхнул руки и пошел к коню:
— Надо было у стариков спросить про горох, не сеял я его никогда, бобы да фасоль сеял.
Они поехали домой. День был теплый, к обеду шел, на подъезде к Эшбахту местный мужик коров гнал на новый выпас. Бабы кусты режут на хворост, дети малые с ним. Два солдата понесли больше пучки длинного орешника, строятся. Все хорошо, спокойно, все при деле. Уже когда подъехали, Еган и сказал кавалеру, указывая рукой:
— А это кто там?
Волок поглядел и удивился. У ворот его дома, рядом с Арсибальдусом Рене, увидал он высокую женщину в темном строгом, платье. Женщина была явно из благородных. Воротник из кружев, на голове светлый шарф, но волосы роскошные видны, понятно, что не замужняя та женщина была. В руках она держала книгу. Видно, писание, прижимала его к груди, а еще четки были на ее руке. Они с Рене разговаривали, Волков подумал, что, может, она к нему приехала.
А тут ротмистр его увидал и об этом женщине сказал, та вернулась к нему, присев низко, голову склонила в поклоне, а Волков обомлел. Он никогда бы ее не узнал издали. И никогда бы не догадался бы, что это Брунхильда. Она так и ждала его, низко присев и склонив голову.
Он спрыгнул с лошади, подошел к ней, обнял, а она улыбаясь ему, взяла его руку и поцеловала ее, а он стал поцеловать ее в щеки.
Ах, как она пахла, этот женский дурман закружил ему голову. Не было на этой земле никого сейчас, кому бы он так радовался как этой прекрасной женщине. Обнял он ее так сильно, что всхлипнула она. А Рене и другие люди, что были тут, косились на них и усмехались стыдливо. А Волков учесывал ее грудь через одежды. Видел ее прекрасное лицо. Больше терпеть он не мог.
Он взял ее за руку и повел к себе в дом. Выгнал девку Марию, что мыла посуду у камина, подвел Брунхильду к кровати. Усадил.
Она не сопротивлялась, только покраснела. Когда это она краснеть научилась, до сих пор бесстыжей была. Он хотел ее повалить уже на кровать, а она уже чуть заупрямилась, сама юбки подобрала, открыв прекрасные ноги выше колен и сказала:
— Дозвольте, господин мой, хоть платье снять и башмачки.
— Сам, — ответил он, и сев перед ней на колено, стал разувать ее.
Встав с ложа, помывшись и одевшись, она села к столу. Волков звал Якова и Марию, чтобы несли все, что есть из еды. Кавалер сел рядом, налюбоваться ею не мог, брал ее за руку и говорил с ней.
И девушка вдруг совсем иной ему показалась. Спокойной и набожной:
— Спасибо брату Ипполиту, что читать меня научил, — говорила Брунхильда. — Теперь я Писание читаю, вижу, что дурной раньше была. Это все от желаний моих дерзких и глупых.
— А теперь как жить думаешь? — Волков не узнавал ее. Точно ли она это была, та взбалмошная и распутная девица, что с мужами любыми готова была идти за деньги небольшие? — Что теперь хочешь?
— Замуж хочу. Если вы, мой господин, замуж меня не возьмете, так найдите мне мужа честного. На кого укажите, за того я и пойду, — говорила девушка абсолютно серьезно.
Нет, нет, нет теперь уж точно он не собирался искать ей мужа, уж очень красива стала она, как такое сокровище отдавать кому-то.
Он погладил ее по щеке, а она мельком коснулась его ладони губами и продолжила:
— А пока не найдете, так я при вас буду. Раньше я к вам в жены набивалась, теперь просто жить при вас буду в смирении. Служить вам буду.
— Для этого приехала, значит? — спросил кавалер.
— Да, а еще оттого, что Агнес в Ланн вернулась.
— Вот как, и что она? — сразу стал серьезным Волков.
— Раньше зла была… — говорит ему Брунхильда. — Криклива.
— А сейчас?
— А сейчас… — девушка на мгновение задумалась. — Темна стала.
— Это как?
— Не знаю, как сказать. При деньгах живет, кухарку нашу погнала, свою горбатую привезла. Долги за дом выплатила, господина Роху от Дома отвадила, на порог его не пустила. Больше не ругается, а глядит так, что лучше бы облаяла. Жить с ней в доме одном сил не стало.
— Ну и хорошо, что так. Рад я тому, что она тебя выжила из дома. Рад я, что ты приехала.
— И я рада, нужно мне было с вами ехать, а не дома сидеть, так вы не велели.
Как она приехала, так все сразу переменилось. Сразу дом другим стал. Посуда не так мыта, и не та вообще. Стол не тут стоит, кресла далеки от каминов. Еду не так готовят. Дом нужно стенами разгородить. Кавалеру пришлось дать ей денег. Она взяла монаха, Сыча и Марию, поехала в город, привезла новую посуду. Купила гобелены, ковер, лампы, подсвечники, постельное белье «как у людей, а не „как у солдат в палатке“». И вино. На двадцать шесть талеров всего вышло. А еще одела служанку Марию, чтобы не выглядела как нищенка. Все-таки, при доме состоит. Та потом по деревне ходила в новом платье да к тому же и в обуви, нахвататься не могла.
В общем, приезд Брунхильды добавил Волкову, да и всем остальным, суеты и денежных трат. Ну и пусть, за то он теперь рад был от дел непрекращающихся домой возвращаться. Дом стал на дом походить, а не на берлогу.
Тут и гобелены на станах, и ковер. И лампы по вечерам горели, а господа офицеры Бертье и Рене ждали приглашения к столу его. Они оба очарованы ею были. Бертье даже пару шкур волчьих ей в подарок принес. Она их у кровати положила. Да и у жены Карла Брюнхвальда, Гертруды, завелась хоть какая-то подруга, отчего она веселой была и часто приходил в их дом даже без мужа. Поболтать. И Брунхильда тоже, кажется, счастливой стала. Хотя в улучшении дома угомониться не могла. Распоряжалась всем в доме и Волкова даже не спрашивала. Просила у Егана мужиков для работ, а у Волкова денег все время. То стену задумает поставить, то второй этаж решит улучшить. А чего его улучшать, там никто не живет, чего там жить, под крышей, когда дом и так велик. Но ни Еган, ни Волков ей не отказывали. Она и старалась. Утром, едва рассветало, выходила встречать баб, что несли им молоко, сама собирала яйца из-под кур, смотрела, как Мария хлеб замешивает, советовала ей, сама садилась масло бить. И при том читала Писание вслух.
Волков теперь рано не вставал. Ваялся в перинах и ждал, когда она придет звать его к столу. А Яков, слуга, уже к тому времени, воду приготовив и чистую одежду, тоже ждал. И жизнь такая стала нравиться Волкову все больше. А чего еще желать человеку? Земля у него есть, женщина красивая есть, крыша над головой имеется, мужички вокруг суется. Даже хлеб растет, какой-никакой, коровы доятся. Так и старость можно было встревать.
Наверное, уже месяц прошел, как Брунхильда приехала, и тут днем, чуть после обеда, пришел слуга Яков и сказал:
— Господин, там с юга какой-то господин, не наш, едет, и военный при нем.
Кто это мог быть? Волков вышел из-за стола и пошел на улицу смотреть, кто это там пожаловал. Жарко было, пошел он по-простому, в рубахе, и даже меча не взял.
Господин был так тучен, что на коня, наверное, влезть не мог, ехал он на несчастном осле. А за ним ехал солдат со знаменем, которого Волков не знал. На штандарте том на белом поле был красный муж с алебардой. Волков сложил руки на груди и ждал, пока эти люди подъедут к нему.
Толстяк подъехал, камзол его был заляпан, волосы жирны, а и берет его имел обглоданное кем-то перо. Был он неприятен, жирные щеки его зарастали клочковатой щетиной. И как только кавалер рассмотрел его, так сразу понял по спесивой нижней губе, что прибыл он не с добром.
Пока толстяк слезал с несчастного осла, знаменосец выехал вперед и громко сказал:
— Советник славного города Рюмикон, помощник судьи города Рюмикон и глава Линхаймской коммуны лесорубов и сплавщиков леса, секретарь купеческой гильдии леса и угля кантона Бреген, господин Вальдсдорф.
Господин Вальдсдорф слез наконец с осла, отдал повод своему спутнику, и вытирая потные руки об свой замызганы колет, пошел к Волкову.
Тот так и стоял со скрещенными на груди руками, гадая, зачем этот чиновник из кантона пожаловал к нему.
— Вы ли хозяин Эшбахта? — обратился толстяк, подойдя к нему без поклона. И даже берета не сняв.
— Да, — отвечал кавалер. — Что вам угодно?
— Мне и кантону Бреген, а так же Линхаймской коммуне лесорубов угодно, чтобы восстановилась справедливость.
— Что за справедливость, о чем вы? — сухо спросил Волков.
— Наши люди сообщили нам, что вы на той неделе начали рубить лес, что есть на вашем берегу, но который принадлежит Линнхамской коммуне лесорубов. И рубили вы этот лес почти две недели бесправно.
Да, Рене и Бертье со своими людьми рубили лес и волоком таскали бревна от самой южной части его земли сюда в Эшбахт, часть они забрали себе, часть отдали Брюнхвальду на дом и сыроварню, а двенадцать бревен завезли ему. Он настрого наказал офицерам рубить только сто самых северных деревьев. И был уверен, что они не ошиблись и не общипались, поэтому произнес:
— Имперский землемер Куртц сказал мне, что сто деревьев растут на моей земле. А остальные я велел не трогать.
— Мне не ведомо, что там вам говорил этот имперский землемер, — высокомерно начал Вильдсдорф, — только говорю я вам, что пятьдесят две сосны люди ваши срубили бесправно. То засвидетельствовал наш лесник Петерс. Коли вам будет угодно, можете проследовать к лесу и посчитать пни тех деревьев. Те, что помечены краской, те порублены бесправно.
Волков не знал, что и сказать, он только хмурился да злился. Хотя и злиться не знал на кого, то ли на землемера, то ли на офицеров, то ли на этих чинуш из кантона, то ли на себя, дурака. А чиновник продолжал:
— Пятьдесят два хлыста строевого леса будут стоить вам двадцать талеров девяносто шесть крейцеров.
— Уж не рехнулись ли вы? — только и смог выговорить Волков.
А чиновник даже и не заметил грубости такой, спокойно продолжал:
— А по закону кантона Бреген, так всякого, кто вздумает лес рубить беззаконно, штрафовать втрое от ущерба, что нанес он. И того с вас будет семьдесят четыре талера и восемьдесят восемь крейцеров.
— Семьдесят пять талеров? — переспросил кавалер и даже поморщился от несусветности такой.
— Именно, но без двенадцати крейцеров.
— Да ты пьян, видно? — сурово спросил Волков.
— Отчего же, — усмехался толстяк, — со вчерашнего, пива не пил.
— Ладно, дам вам пятнадцать талеров за ваш лес, да и то, нужно проверить еще, не врете ли вы, ваш ли я лес порубил или свой, — нехотя говорил кавалер.
— Так для этого вам следует лесника нашего позвать, он вам все покажет. Но пятнадцатью талерами вы не откупитесь, уж не и думайте даже, — с ухмылкой отвечал Вильдсдорф.
— Нет? — спросил у него кавалер.
— Нет, — ухмылялся толстяк.
И Волков понял по тону его, что артачится он неспроста.
— А отчего же так немилосердны вы? — спросил он толстяка.
— А от грубости вашей, — отвечал тот без тени улыбки и даже как бы с угрозой в голосе.
— Что? От какой еще грубости?
— А той грубости, с какой вы рыбаков наших гнали с земли вашей.
Вот теперь все становилось на свои места.
— Ах, вот вы о чем? — понял Волков. — Про воров своих вспомнили.
— Не про воров, а про грубость вашу, что к людям уважаемым была допущена, — теперь чиновник опять улыбался, улыбался высокомерно и торжествующе.
— Сначала я их миром просил уйти, так бахвалились, задирались и не пошли, и лишь потом я их проводил как гостей не прошеных.
— Ваше право, — улыбался толстяк, — ваше право, только вот теперь заплатите все сполна за грубость свою.
И улыбочка так кавалера разозлила, что сказал он ему:
— А может, врешь ты, и не рубил я твоих деревьев? Напридумывал все от мести за браконьеров своих.
— А вот и нет, — вдруг обрадовался Вильдсдорф, — все по честному было, я велел леснику все дважды проверить, не пошел бы я к вам не будь уверен в воровстве вашем. Хотите, так зовите землемера, пусть удостоверится, что порубили вы лес на нашей земле. А мы ему на встречу нашего лесника и нашего землемера пришлем.
— Вот и ладно, — зло сказал кавалер.
— Но не думайте, что дело вы затяните да спустите его не спеша, не думайте, что не заплатите, все до крейцера с вас возьмем.
— Убирайся с земли моей, — холодно сказал Волков.
— И за злобу вашу вам еще припомнится.
— Убирайся, говорю, не то палки прикажу людям моим взять да проводить тебя, как и браконьеров твоих.
— Господин, — вдруг подал голос спутник чиновника, — мы здесь под знаменем и по официальной причине, прошу вас не запугивать нас.
— Так забирайте этого толстяка и уезжайте с моей земли, — заорал в ответ ему Волков. — Говорить больше с вами не желаю!
Люди вокруг собрались, местные бабы и солдаты, и Брунхильда вышла из ворот посмотреть, как тяжко советник славного города Рюмикон, помощник судьи города Рюмикон и глава Линхаймской коммуны лесорубов и сплавщиков леса, секретарь купеческой гильдии леса и угля кантона Бреген, господин Вальдсдорф, лезет на своего осла. Смеялись все над ним, а он только улыбался в ответ улыбкой многозначительной. И многообещающей. И поехали эти двое с флагом своим, да только почему-то не на юг, откуда приехали, а на север. И сначала Волков этому значения и не придал.
Глава 34
Утром он валялся в постели, и Брунхильда его еще к завтраку не звала, когда пришел Яков и сказал, что к нему верховой приехал. Волков сразу встал и пошел на двор. Там был человек в одежде, которого кавалер сразу признал цвета графа фон Малена. Так оно и было, человек передал ему письмо от графа, и в письме было всего несколько слов:
Друг мой, господин фон Эшбахт, незамедлительно прошу быть вас у меня в моем поместье Белендорф. Дело безотлагательно.
Граф фон Мален
— Что передать моему господину? — спросил посыльный.
— Скажи, буду немедля, — обещал Волков.
Он расспросил посыльного, где находиться поместье графа и отпустил того. Приказал Максимилиану седлать коней, а Сычу собираться с ним. Сам стал мыться. Потом и завтрак поспел, он сел есть и все думал, отчего граф так поспешно зовет его. И ничего другого, как вчерашняя свара с жирным чиновником из кантона, на ум ему не приходило.
Позавтракав, они с Сычем и Максимилианом поехали в поместье графа. А поместье было поближе города, и было на удивление хорошо. Поля все вспаханы, всходы дружно пошли, дороги хороши, мельницы три штуки крыльями машут. И все ладненько и странненько, на каждом клочке травы то корова, то коза, мужики все при деле. Дома у них хорошие, а заборы и плетни… Ни один не покосился.
И замок графа был хорош — стоял на холме и велик был неимоверно, едва ли намного меньше, чем замок самого герцога.
Их сразу пустили во двор, и к нему немедля вышел мажордом и проводил его в покои.
И что же, конечно, был он прав, когда думал, что весь этот визит и вся эта поспешность — происки не иначе, как советника Вальдсдрфа.
Он был там, стоял у окна и торжествующе улыбался. Весь его вид так и говорил: «Что ж, и как вам это?»
Волков и так был не весел, а тут и совсем стал угрюм. Хоть сам граф, улыбаясь, обнимал его за плечи как старого друга и спрашивал:
— Сразу ли нашли мое поместье?
— Да, и сие нетрудно было, уж такой красоты больше по всей округе, кажется, нет.
Граф был почти на пол головы ниже кавалера и говорил с ним, закидывая голову:
— Ну, у вашего соседа, барона фон Фезенклевер, поместье не хуже, хотя и поменьше моего будет, но он рачительный хозяин, порядок у него во всем.
Волков молчал, он приехал сюда не про порядок в поместьях разговаривать. Не будь здесь этого мерзавца из кантона, он бы, может, и поговорил бы, но в присутствии этой наглой и ухмыляющейся морды, вести вежливые разговоры о красоте поместий кавалеру никак не хотелось.
Граф повертел своею седой головой, поглядывая то на кавалера, то на советника, и понял, что нужно перейти к делу.
— Впрочем, думаю, что вы понимаете, друг мой фон Эшбахт, к чему я просил вас быть.
— Да уж, понимаю, — мрачно произнес Волков и добавил с видимым презрением, — из-за кляуз вот этого господинчика.
— Не из-за кляуз, а из-за праведной претензии, — сказал граф, поднимая палец.
— Обещаю вам, господин граф, что разберусь с этим делом, сегодня же пошлю за землемером Куртцем и он уж скажет наверняка, правильно ли люди мои рубили лес или неправильно. И если в том будет моя вина, то обещаю заплатить за все бревна, что срублены неправомерно. Отдам по пятьдесят крейцеров за каждое бревно.
— Друг мой, — заговорил тихо граф, беря Волкова под руку и отводя его вглубь покоев, вдаль от советника, — неприятно мне это так же, как и вам, но мы с вами должны выполнять наказ Его Высочества неукоснительно. И не провоцировать распри с кантонами. Если вдруг случится война по нашей с вами причине, герцог уже не преминет найти виноватых. И ими будем я и вы. А герцог бывает крут, уверяю вас.
— Понимаете, — заговорил Волков также тихо, как и граф, — то месть, они мстят мне, за то, что я браконьеров с того берега кулаками прогнал, он мне так и сказал, этот… — он кивнул в сторону окна.
А граф ему и отвечает, словно не слыхал его даже:
— Герцог бывает крут, уж поверьте, вы-то птица легкая, подниметесь и в Ланн к себе подадитесь, а мне куда прикажете? В тюрьму? Нет, любезный мой фон Эшбахт, мы наказ герцога исполним и поступим мы так.
Он подошел к столу и взял с него кошелек, жестом позвал к себе толстяка советника:
— Советник, тут в кошельке семьдесят пять талеров земли Ребнерее, вот вам за порубленный лес и штраф вместе с тем. А ежели имперский землемер посчитает, что ваши претензии не правомерны, господин Эшбахт через суд, востребует деньги обратно.
— Сие мудро, это то решение, на которое я мог только уповать, — быстро подойдя к графу и забрав деньги, сказал советник. — А господин фон Эшбахт может его, конечно, опротестовать через суд города Рюмикон…
— Где ты, мерзавец, служишь помощником судьи, — прорычал Волков.
— Тише, тише, друг мой, — успокаивал его граф.
А советник продолжал, как ни в чем не бывало, видно, привычен он был к подобным оскорблениям:
— Так как случай этот будет как раз в юрисдикции суда этого славного города.
При том он улыбался кавалеру так высокомерно, что тот стал думать о величине свой руки, которая, хоть и была велика, но которой точно не хватило бы, чтобы охватить жирное горло Вальдсдорфа.
— Так и порешим, так и порешим, — примирительно говорил граф, заканчивая дело и выпроваживая советника из покоев, — ступайте, советник, ступайте. Главное, что мы решили все миром, что и впредь будем делать.
А тот улыбался и кивал графу. Прощался с ним, на Волкова даже не взглянул.
Закрыв за ним дверь граф, подошел к кавалеру и сказал:
— Видно, не знакомы вы подлостью горцев, раз так смеете говорить с ними. Они вам это припомнят.
— Как же не знаком? Знаком. И видел я их не раз сквозь пики.
— Ах, вот как, — произнес граф, — значит, повоевали вы с ними.
— В южных воинах они главные участники, подручные королей, вечные наши враги.
— Верно, верно, но то там, здесь нам с вами нужен мир.
— Это я понимаю, мне самому не хотелось бы воевать с соседями, — произнес кавалер, — но как же нам быть с деньгами, господин граф?
— Вернете мне семьдесят пять монет по мере возможности, — отвечал ему граф, — если у вас нет, то порекомендую вам банкира.
Волков уже понял, что этим все и закончится, что плакали его денежки. Ни через какой суд он их не вернет. И мелькнула у него здесь мысль одна. Вспомнил он, что из поместья графа выехать, дорога на юг пойдет через места глухие, места безлюдные. Там овраги начинаются да кусты. И вдруг понял он, что ничего ему не стоит догнать подлеца… И мысль ему эта понравилась, захотел он узнать, так ли будет толстяк ухмыляться, когда в месте тихом его увидит. Уже загорелся он этой мыслью, когда граф, словно прочитав на лице его недоброе, произнес:
— А вас, друг мой, я без обеда не отпущу.
— Без обеда? — рассеяно спросил кавалер.
Не до обеда ему сейчас было, другие желания в нем жили, но граф взял его под локоть крепко и сказал, потянув за собой:
— Ждут нас уже, заждались, пойдемте, пойдемте.
Вырываться и отказываться было совсем невежливо, нехотя кавалер согласился. Пошел с ним.
В другой раз кавалер и рад был бы, что его пригласил сам граф, но теперь он не мог ни о чем думать, кроме как о подлеце советнике и о семидесяти пяти талерах, что ему придется вернуть графу и которые он уже никогда не отсудит обратно.
Поэтому, когда граф его представлял тем дамам и господам, что уже сидели за столом, он имен их запомнить не мог, а мог только кивать и рассеяно да говорить всем: «Эшбахт, кавалер Фолькоф из Эшбахта».
Насколько он вспомнить потом мог, то все они были родственниками графа: дети его жены, мужья детей его и еще кто-то. Из всех единственной, кого он запомнил, была дочь графа, и лишь потому он запомнил ее имя, что посадили его рядом с ней. И звали ту девушку Элеонора Августа фон Мален.
Была она не юна отнюдь. Лет ей было двадцать шесть или двадцать семь, но голову она почти не покрывала, как незамужняя. И правильно, потому что волосы ее были чудесны. Густы, длинны и причудливо скручены под заколкой. Они были редкого цвета, цвета средины соломы золотой с жемчугом белым.
Больше в ней ничего не было привлекательного, и сначала говорила она с Волковым холодно, из вежливости только, и косилась на него и рассматривала исподтишка, а потом вдруг стала говорить ласково. Увидев, что он не взял себе одного блюда, что лакей разносил, она произнесла:
— Напрасно вы бараньими котлетами пренебрегаете, господин Эшбахт. То бараны наши, и у нас они хороши, папенька сам старых баранов не любит, оттого котлеты берут от самых молодых.
— Не премину попробовать в следующий раз, — заверил ее кавалер, хотя было ему совсем не до котлет сейчас. Он все еще не мог отойти от потери денег и того стыда, с какой он испытывал, когда с ними расставался. Память об унижении, что пережил он недавно, его особенно терзала, хоть два стакана вина ее чуть и притупили.
— Отчего же ждать до следующего раза, — громко сказала Элеонора Августа. — Лакей, подай котлеты господину Эшбахту.
Все посмотрели в их сторону, а граф спросила с улыбкой:
— Вам понравились котлеты, кавалер?
— Он забыл их взять, папенька, — объяснила Элеонора Августа.
— Так следите за гостем, Элеонора, — сказала граф. — Надо, что бы он все попробовал. Повара у нас лучшие в округе, только у Епископа Маленского не хуже, да и то вряд ли.
— Да, папенька.
— Да-да, дорогая моя, приглядывайте за ним, кавалер пережил тяжкий разговор, — сказал граф, посмеиваясь, — лицо его было таковым, что я боялся, что за железо он возьмется. Жирному бюргеру было бы несдобровать, не отведи я нашего гостя от него.
— Да, папенька, пригляжу, — обещала девушка.
— Неужто по моему лицу было видно, что желаю я разрубить голову этого мерзавца? — спросил Волков.
— Да от ваших глаз можно было свечи разжигать, — ответил граф и все за столом рассмеялись.
После, когда обед был законен, граф и его старший сын встали, Волкова проводить, и Элеонора Августа была при них. А у дверей уже граф, как радушный хозяин, спросил:
— Понравился ли вам обед, кавалер?
— То был лучший обед, что был у меня в этом году, — ответил Волков.
— Вот и прекрасно, — обрадовался младший граф фон Мален, Волков вспоминал, что, кажется, звали его Теодор Иоганн, — раз так, то приглашаем вас к нам в Мален на день святых Петра и Павла двадцать девятого числа. То дни, в которые наш епископ читает проповедь сам, а также в городе будут празднования. Коммуны и гильдии будут ходить по городу, а вечером буду плясать на Главной площади. Приезжайте к нам в Мален.
Хоть и было это приглашение крайне лестное, но Волкову было не до празднеств. Он все еще трясся от мысли, что какой-то подлец из кантона отобрал у него кучу денег, и было то не без участия старшего графа.
— Если изыщу возможность, то обязательно буду, — уклончиво ответил он.
— Нет-нет, так не пойдет, — сказал граф отец. — Вы уж обещайте, вот и Элеонора Августа вас о том просит.
— Обещайте, кавалер, — подтвердила его дочь.
— Обещаю быть в Малене к празднику святых Петра и Павла, — согласился Волков. Ну, а как он мог отказаться?
— Отлично, мы отведем вам хорошие покои, — сказал молодой граф.
На том они и распрощались.
Максимилиана и Сыча тоже отменно накормили и напоили. Они возвращались в Эшбахт немного навеселе, чем Волкова только раздражали.
Глава 35
Вернулись они ближе к вечеру. И все: и Брунхильда, и Бертье, и слуги сразу заметили, что кавалер в дурном расположении духа. Бертье пришел похвастаться волком, что он добыл, уж тот был велик. Но Волков только глянул на него самого хмуро, а зверя смотреть не пошел. Бертье ушел к себе, хотя думал поужинать у кавалера. А он, сидя за столом со стаканом вина в руке, думал только об одном, только о потере денег и унижении, что причинил ему советник Вальдсдорф. И вино ему не помогало, как подумает он о том, что деньги надо графу вернуть, как вспомнит, как улыбался победно советник, так захлестывала его злоба, волнами шла, голод и сон отгоняя.
Даже Брунхильда, и та его успокоить не могла. Так он и просидел чуть не до ночи, пока голова не начала болеть. Раньше, до стычки в Хоккенхайме, почти никогда не болела. А тут уже не в первый раз. То ли старость так приходила, то ли от ран все, то ли вино дурное.
В общем, встал он и пошел спать под теплый бок красавицы.
А утром встал, на дворе солнце, петухи орут, а он так же сумрачен, как и вчера. Брунхильда молчит, по дому суетится, к нему не лезет. Обняла один раз и все. Поумнела, кажется.
А он все про деньги думает. А что тут думать, делать нечего, нужно графу деньги отдавать, семьдесят пять монет. Глянул в кошель, а серебра и полстолька нет у него. Полез в сундук, стал золото считать.
Посчитал и охнул. Из Хоккенхайма выезжал после Инквизиции, так больше четырехсот золотых было у него. То не деньги, то деньжищи были, а сейчас пересчитал — так едва триста шестьдесят осталось. Таяли деньги на глазах. Графу семьдесят пять талеров вернуть — вот и еще четыре золотых. А для расходов еще хоть немного серебра и себе нужно. Так что четырьмя не обойтись.
Позвал монаха к себе. Положил пред ним на стол пять золотых, три гульдена, два флорина и сказал:
— Езжай в Мален, найди менял или банкиров, поменяй золото на серебро. Оттуда поедешь в усадьбу графа, отдашь ему семьдесят пять талеров. То долг мой. Остальное мне привезешь, кстати, ты походи по менялам, сразу не меняй, поищи лучшую цену.
— Да, господин. А как мне найти имение графа?
— Максимилиана с собой возьми. Он там был вчера, — отвечал Волков. — Да, и скажи ему, что бы при оружии был, деньги все-таки, будете возить.
— Так он всегда при оружии, — отвечал монах.
— Пусть доброе оружие берет.
— Хорошо, — сказал брат Ипполит и ушел.
Когда монах удалился, Волков позвал Сыча и сказал ему:
— Собирайся, дельце есть. Еды возьми, на день уедем.
— Дельце? — без азарта интересовался Сыч.
Не очень ему, конечно, хотелось куда-то ехать, хорошо ему лежалось, но дело есть дело. Пошел седлать коней да просить у Брунхильды еды.
Волков тоже собрался. Когда уже выезжали, приехал Брюнхвальд, пригласил смотреть его дом, который только что закончили строить, жена Брюнхвальда кланялась и звала их с Брунхильдой в гости на пирог, а заодно посмотреть, как поставили чаны в сыроварне. Но кавалер был вынужден отказаться. Сказал, что едет на юг поместья и будет к ночи. Ротмистр тогда спросил, не нужна ли его помощь, на что Волков ответил, что возможно понадобятся люди для прибыльного дельца, но попозже. На том и разъехались.
Да, поместье его было велико, к реке, к заброшенной деревне, приехали они уже за полдень. Причем всю дорогу он, усмехаясь, издевался над Сычем, не говоря ему, зачем они едут.
— Экселенц, все, приехали, говорите — зачем тащились в такую даль? — произнес Фриц Ламме, как только они добрались до лачуг.
— Посмотреть, только посмотреть, — отвечал кавалер, когда они выехали на берег.
Они спешились, Волков достал карту. Уселся на песок и стал рассматривать ее, время от времени поглядывая на реку.
— Ну, вы скажите, чего удумали? Или так и будите меня томить?
— Да… Хорошо. Это прекрасное место.
— Да чем же оно прекрасно? — не унимался Фриц Ламме.
— А ты знаешь, что эти мерзавцы тут сплавляют лес?
— Чего? — не понял Сыч.
— Горцы сплавляют тут лес, плоты гонят к Хоккенхайму и ниже на север. Знаешь о том?
— Ну, может, и так, а нам-то что с того?
— А то, что гонят они свои плоты по моей части реки. Вон остров, видишь? — Волков указал рукой на реку.
— Вижу.
— Так вот, остров, вернее, западная его часть — это уже моя земля. И река с этой стороны острова моя.
— Ну и что?
— Пойдешь на тот берег, — произнес кавалер, не глядя на Сыча, все еще разглядывая реку.
— Ну?
— Выяснишь, отчего они не плавают, по своей стороне реки.
Он полез в кошель и достал оттуда пару талеров:
— Разговоришь там кого-нибудь, сможешь?
— Это уж не беспокойтесь. А когда мне туда?
— Да вот поедим и давай… Плавать же ты умеешь?
Сычу, конечно, не нравилась вся эта затея, да делать нечего, он встал, подошел к воде, поглядел на нее, потрогал рукой и сказал:
— Не холодная… Течение быстрое, но одолею.
— Ты не только там про плоты узнавай, ты про все говори, все спрашивай. А лучше найди человека, что все там знает, денег ему посули.
— Уж о том не волнуйтесь, экселенц. Найду, поговорю, посулю.
— Да, думаю в этом ты, мошенник, больше моего смыслишь.
— Так что вы задумали, экселенц? — Сыч с опаской поглядел на него, усаживаясь рядом.
— Пока ничего, — ответил кавалер, он сам еще толком ничего не решил. Он просто думал, как ему вернуть свои деньги и искал способы. — Давай поедим, и плыви.
— Мне, может пару дней там пробыть придется, — сказал Фриц Ламме, встал и снял с лошади сумку с едой.
— Значит, пробудь там пару дней. Я ждать тебя тут не буду, сам вернешься.
— Сделаю экселенц, — заверил Сыч. — Все сделаю.
Ели неспеша, а Фриц всматривался в другой берег, но ничего там не видел. Кусты да камыш на берегу. Они, обговаривая мелочи этого дела, поели сыра с хлебом и жареной курицы, выпили флягу разбавленного вина. День уже к вечеру пошел, когда Фриц Ламме сказал:
— Ну, пойду, что ли.
Волков хлопнул его по плечу:
— Давай.
Он снял колет и башмаки, связал все это в узел, подошел к реке, и перекрестившись, полез в воду.
Волков не без волнения смотрел, как быстро течение сносит Сыча на запад. Тем не менее, Фриц уверенно переплывал реку.
Кавалер дождался, пока Сыч, цепляясь за речную траву, не вылез на другой берег, и не помахал ему рукой. Мол, все в порядке.
Волков забрал лошадей и поехал в Эшбахт.
Приехал уже в темноте, а там кутерьма. Брюнхвальд с парой солдат седлал лошадей и собирал людей, солдаты у амбара крутили факела. А Бертье выводил собак из псарни.
— Что тут у вас? — удивлялся кавалер этой суете.
Мальчишка Яков сообщил ему:
— Брат Ипполит вернулся один, ваш оруженосец отстал, на них волки напали.
— Где он? — спросил кавалер, слезая с коня.
— В доме, господин.
Волков пошел в дом. Там за столом сидел взволнованный молодой монах, его окружали Брунхильда, служанка Мария, Рене и пара солдат.
— Так где он остался? — спрашивал Рене у монаха. — Далеко?
— Да нет, нет. То недалеко было… — говорил монах, отпивая из кружки молоко от волнения. — Я недолго ехал и огни на усадьбе увидал.
— Что произошло?
— На него волки напали, — сообщила радостно служанка Мария.
Волков сурово глянул на нее, она сразу замолчала.
— Я все сделал, как вы сказали, — начал брат Ипполит, — деньги поменял, цену самую лучшую выбрал, там у одного менялы получилось…
— Ты про волков говори, — прервал его Волков.
— Ну вот, заехал я к графу, он долго меня не принимал, когда принял, я ему все отдал, он спросил, нужна ли мне расписка, я просил дать ее…
— Про волков! — рявкнул кавалер.
— Мы уже по темну ехали, когда я случайно обернулся и у видал глаза в темноте. Я сказал об этом Максимилиану, он тоже поглядел назад и сказал, что это его знакомец.
— Что? — не понял Рене.
— Так и сказал. Это, говорит, знакомец его старый. И говорит мне: «Скачи, брат монах, он не отстанет, а я с ним поговорю». Я хотел с ним остаться, так он на меня накричал, говорил скакать отсюда, что он в броне, а я нет. Дал мне кинжал, а сам снял арбалет и поворотил коня обратно.
Тут пришел Карл Брюнхвальд, он был строг, но спокоен, словно речь шла не о его сыне:
— Факела готовы? — спросил у него Волков.
— Факела готовы, кони оседланы, люди и собаки готовы.
— Монах, собирайся, поедем, покажешь, где все было, — сказал Волков и пошел к двери.
Все пошли за ним. На выходе его поймала за руку Брунхильда и вложила ему в руку тряпицу, в которой был хлеб с жареной свининой и луком. Очень это было кстати. И поцеловала его в щеку украдкой.
Крики, лай собак, лошади ржут, суета. Отряд в десять человек при оружии, арбалеты взяли с собой, хоть в темноте много не настреляешь, выехали на сервер. Мужики и бабы в деревне переполошилась, выходили к заборам смотреть, чего это в ночь господину и людям его не спится.
— Ну, где вы были? — спрашивал Волков у брата Ипполита, когда они выехали за околицу.
— Тут недалеко должно быть, я недолго ехал, прежде чем увидал огни в окнах вашего дома.
Они ехали по дороге, что вела к городу. Собаки заливались радостным лаем и кружились по кустам рядом с отрядом, словно охоту чуяли. На небе высыпали звезды, и сияла огромная луна, чуть не в полнеба.
Было свежо и хорошо, звуки разносились далеко. Они отъехали едва ли на пару-тройку миль, как монах и сказал, оглядываясь:
— Тут. Кажется, тут это случилось. Только стемнело, и мне шум за спиной показался, будто спешил за нами кто-то, не конный, пеший. Я обернулся и вот, кажется, там, — он указал на холмы, — увидал глаза желтые. В темноте под ними, кажется, кусты. Я Максимилиану и сказал: «Глаза такие же, как вы мне рассказывали, позади нас, на нас смотрят». Он обернулся и ответил сразу: «Они, точно они! То мой знакомец». И сам арбалет из-за спины достал. И говорит: «Езжай в деревню, скажи кавалеру».
Я ему говорю: «Нет, поехали со мной. Уедем». А он сказал: «Не даст он нам уйти, спеши к господину, а я спрошу у этого желтоглазого демона насчет своего берета». Так и сказал.
— Мальчишка! — не без гордости произнес Карл Брюнхвальд, рассказ монаха хоть и печалил его, но и радовал тоже, что сын бал так хладнокровен и смел. — Глупец!
Волков пока думал, как начинать поиски, и вдруг насторожился, спросил:
— Бертье, а отчего собаки примолкли?
— Сам не пойму, — удивлялся ротмистр. — Может, набегались да спать захотели.
Кавалер такой ответ совсем не устроил, он помолчал мгновение и сказал:
— Берите своих собак, Гаэтан, и пару людей, езжайте к тем холмам, может, собаки возьмут след зверя. Вы, Карл, с монахом поезжайте дальше по дороге, а вы, Рене, прошу вас спешиться с парой людей и поглядеть в кустах придорожных, тут же рядом. И покрикивайте. Может, он на крик отзовется.
Люди стали разъезжаться и, насколько это возможно, искать хоть что-нибудь в ночной темноте. От факелов в кустах проку немного, да и прогорали они слишком быстро. Кавалер был невесел. Он уже привязался к юноше. Он был именно такой, какой и нужен ему был. Всегда собран, тщателен, опрятен. За лошадьми и доспехом следил безукоризненно, хотя лошадей у Волкова было много. Конечно, не за всеми, он следил только за верховыми, обозные и остальные не его были делом. Но уж за своими он следил очень хорошо. А еще Максимилиан был единственным сыном Брюнхвальда, который его не предал и остался с отцом. Потеря такого человека была бы бедой большой. Конечно, ему нужно было прислушаться к рассказу Максимилиана о встрече с демоном. Может, даже и не посылать их в дорогу одних. Нужно самому было ехать. Но кто ж знал, что граф задержит их так долго и что не вернутся они с монахом засветло.
И тут крики раздались, кажется, радостны они были.
— Что там? — кричали солдаты из кустов.
— Нашли! — отвечали им люди с дороги.
— Живой?
— Передайте кавалеру, что нашелся его оруженосец, живой, — долетело до него из темноты.
И как-то сразу стало легче Волкову, отлегло от сердца, и за мальчишку он рад был, и за его отца.
Глава 36
У мальчишки был разбит затылок, все волосы в запекшейся крови.
Он был одет в отличную ламбрийскую кольчугу Волкова и великолепные ламбрийские наручи были на нем, в руке он держал грязный солдатский тесак. Кольчуга, да и наручи были ему великоваты. Они были на Волкова, но тем не менее, вид у юноши был боевой. Он был чумаз, бодр и, кажется, гордился своим приключением:
— Это меня конь подвел, — говорил он, трогая затылок, — испугался демона. Понес, а я уж слишком поводья тянул, так он и встал на дыбы. А я арбалет в одной руке держал, вот и не удержался. Хотя повода не выпустил.
— И что же? — спрашивал кто-то.
И Максимилиан с жаром рассказывал. Видно, и впрямь гордился, тем, что столько взрослых мужей, в том числе и кавалер, и отец, и другие офицеры его с интересом слушают.
— Луна как раз вышла, и светло стало, я его и увидал. Не только глаза его, а его всего.
— И кто то был? — спросил Рене.
— То волк, демон огромный. Бежал молча, следом… Ничего… Ни рычал, ни сопел, ни звука от него не было. Хорошо, что монах его увидал. Повезло… Он сначала на коня кинулся, да конь не дурак, на копыта задние его принял и дал деру через кусты. А демон так тоже в кусты отлетел. Видно, конь ему хорошо дал. Он встал не сразу. А как встал, так на меня пошел. А у меня уже арбалет взведен. Я ему болт прямо в грудь и уложил. А ему нипочем. Не заметил даже болта. Я едва встать успел да меч выхватить.
Он показал всем свой грязный тесак, а кавалер подумал: «Хорошо, что это не меч, а тесак, он вдове короче меча. Длинный меч он мог и не успеть вытащить, сидя на земле или вскакивая».
— Он одним прыжком как прыгнет ко мне, на меня кинется. А я как щитом закрылся рукой, вот, — он показал левую руку, — и еле устоял, чтобы не упасть. Хорошо, что поручи у кавалера очень крепки, не смог адский пес прокусить, стал грызть и мотать меня туда-сюда, сам грызет, а сам воняет. Я раз его по ребрам раз, чувствую, горячая кровь по руке течет, и течет много, как будто из ведра льют. А я ему еще раз и еще, уж даже не знаю, сколько раз попал, весь бок ему и шею изрубил, вон, — он опять поднял руку, чтобы видно было ее в свете факелов. Весь правый наруч и правый рукав у него и вправду были черны, он понюхал рукав и продолжил, — вон, до сих пор кровищей воняет.
— Бертье, собаки ваши возьмут след? — спросил кавалер.
— А вы что, решили его искать? — искреннее удивился Максимилиан.
— А как иначе, он разбойничает уже на моей земле, — ответил он юноше и повторил вопрос: — Бертье, так найдут его ваши собаки, пока он ранен?
— Нет, кавалер, — отвечал тот, — видите, они под копыта коней лезут, ни одна не тявкнет даже, это от страха, чувствуют кровь этого демона. Лучше сами, как рассветет, поищем.
Все ждали решения кавалера, а он, оглядев еще раз юношу, спросил:
— А арбалет мой где?
Максимилиан вздохнул, и обвел местность рукой:
— Где-то здесь, кавалер, в кустах, там, где я с ним дрался.
— Надеюсь, вы найдете это место?
Юноша промолчал, а за него сказал Рене:
— Думаю, лучше его при свете искать.
Конь отличный, арбалет восхитительный, взятый в бою у ламбрийцев в Рютте. Все это стоило денег немалых, пятьдесят талеров, не меньше. Но Рене тут был прав, искать в кустах и оврагах да по темноте — это занятие бессмысленное. И главное, некого в потерях винить. И тогда он сказал:
— Ладно, приедем сюда на рассвете.
И, кажется, за это были ему благодарны и люди, и собаки, и лошади.
Поехали домой, переночевали, поспали самую малость, чуть свет собрались и поехали обратно.
Коня искали совсем недолго, был он жив, хотя и изрядно поцарапался в кустах. Умное животное само стало ржать, услышав людей и собачий лай. Он намертво зацепился поводьями за корневище куста и был рад своему высвобождению. А вот с арбалетом пришлось повозиться. Только когда собаки попривыкли, а солнце тогда уже встало высоко, только тогда они взяли след зверя. Видно, запах выветрился, потерял от росы силу, и собаки перестали его бояться. Сначала затявкали слегка, а позже и с азартом. Стали брать след и нашли черные пятна крови на листьях боярышника, которые уже облюбовали мухи. Так по каплям собаки дошли до места, где и дрался с волками Максимилиан. Там был и арбалет, целехонек.
Все обрадовались, думали, что теперь и домой можно будет ехать, но кавалер сказал:
— Нет, нужно искать его, — он оглядел солдат и офицеров и продолжил, — то не шутки, господа, то уже около дома моего было. Что ж, теперь не проехать от города до моего дома? Так и будет он на дороге разбойничать.
— Думаю, что издох он, — сказал Рене. — Болт в груди да бок порубленный, никакой волк бы не выжил. Вон, крови сколько тут.
Да, крови было немало, все кусты черны от нее, но это Волкова не успокаивало, уже согласен он был с Максимилианом, что не простой это зверь:
— Хорошо бы, если так, но я хочу убедиться.
— Так давайте, — согласился Бертье, — собачки след, я думаю, возьмут, уже не боятся его.
И вправду, днем собаки уже не лезли от страха под копыта коней, не жались к людям, они уже весело лаяли и носились по кустам. Как им сказал Бертье, так они сразу азартно взяли след.
Все поехали за ними, хоть продираться меж кустов было и непросто — и кони страдали, и люди, и одежда. Они продолжали путь на запад, по следу зверя. И чем больше ехали, тем меньше находили пятен крови, а вскоре они и вовсе исчезли, только нюхом собаки определяли направление.
— Боюсь, что я был неправ, — говорил Рене, — видно, не подох он, силы в нем есть, гляньте, сколько с ранами пробежал.
И после этого они еще долго ехали на запад, и чем дальше ехали, тем труднее становилась дорога, так как оврагов было на пути все больше. И земля это была уже давно не его. Но Волков не хотел останавливаться, он думал, что собаки все-таки приведут его к зверю. Но ошибся. Вся свора, сбежав в один овраг, вдруг из него не вышла, собаки бегали внизу. Были растеряны.
— Потеряли след, — сказал Бертье, слезая с коня. — Ничего, сейчас подумаем, куда он деться мог.
Он и один солдат спустились к собакам в овраг, стали осматриваться. Все их ждали, и тут солдат наклонился и поднял над головой что-то, сказал:
— Ты глянь, он его вытащил!
— Кавалер не мог глазам своим поверить, но это был арбалетный болт.
— Да как же он сподобился? — вопрошал Брюнхвальд.
Бертье взял у солдата болт и осмотрел его:
— Странно, господа, вы не поверите, но зубов на нем нет. Кровь до середины болта, думаю, глубоко вошел, наконечник погнут, видно, через кости шел. Наконечник не закреплен, как он внутри не остался, когда он болт из себя вытаскивал? Не пойму.
— Неужто протолкнуть через себя додумался? — не поверил Рене.
— Рене, то ж волк, а не хирург, — усмехался Бертье. — Да и как бы он его из спины лапами доставал.
— Господа, — произнес Максимилиан с жаром, — то не простой волк.
Волков глянул на него хмуро, и юноша замолчал. Понял, что не нужно того, что бы среди солдат пошли разговоры. И кавалер тогда сказал:
— Хорошо, Бертье, вылезайте оттуда, нужно дальше ехать, нужно его отыскать.
Но отыскать его не получилось, как не пытались они, как не крутились в округе, собаки так след и не взяли больше.
— Как обрубило, — удивленно говорил Бертье с долей вины в голосе.
Как будто это он, а не собаки, не мог взять следа.
Как это ни злило кавалера, но к полудню пришлось к себе, в свою землю повернуть, так и не найдя зверя.
— Значит волк говоришь? — задумчиво спрашивал он у Максимилиана, когда они ехали домой.
— Пес огромный, я масть в темноте не разглядел, видел, что лапы у него огромны и грудь широка… И башка тоже велика. Зубы велики, на железе так звонко клацнули, думаю, не будь наруча, так и через кольчугу все кости перегрыз бы.
Волков неожиданно протянул руку и взворошил юноше волосы. И сказал:
— Вы молодец, Максимилиан.
Ласки такой юноша даже от отца не видал, и едва не прослезился он от ласки такой и гордости:
— Рад служить вам, кавалер, — срывающимся голосом сказал он. — Для меня то честь.
— Подберите себе доспех из того, что есть у меня, как поедем в город, найдете мастера, погоните все по себе, кольчуга, наручи и все остальное должны быть в размер, негоже моему знаменосцу не свое носить.
Максимилиан не смог ничего ответить из-за кома в горле, только кивал согласно.
Кавалер опять взъерошил ему волосы и тут же опять стал думать о том, что зверя придется ему изловить, иначе покоя в его пределах не будет. Только как это сделать, он не знал. А пока решил запретить всем ездить по дороге в Мален после захода солнца. И о том он тут же офицерам сказал, чтобы до людей своих довели.
Глава 37
Через два дня явился Сыч. Был он грязен и, кажется, доволен собой. Волков пригласил его за стол, несмотря на грязное платье — дело прежде всего. А Брунхильда на правах хозяйки дома выказала ему неудовольствие:
— Куда ты, чумазый?! Еще за стол в таком виде лезешь! Помылся бы хоть прежде… Одежу постирал бы, что ли.
— И помоюсь, и постираю, сначала о деле доложу и мыться пойду, — обещал ей Сыч.
Но говорил он с ней странно, не так как раньше. Не знал он точно, как с красавицей ему теперь говорить, как в былые времена, или как с госпожой, на «вы» и вежливо.
— Ну, говори, — сказал Волков.
— Сначала про плоты, — заговорил Фриц Ламме, — на том берегу озеро есть. В него они поначалу весь лес сплавляют, а уж там плоты вяжут. И из этого самого озера уже плоты по речонке выгоняют в большую реку. Вяжут по двадцать хлыстов в плот, и потом связывают по четыре таких плота.
Волков не перебивал, хоть и думал, что это все лишнее.
— Гоняют плоты два три в неделю, но когда купец есть, так и по плоту в день бывает, — продолжал Сыч. — Плавают они по вашей стороне реки оттого, что их сторона реки, между островом и берегом, узка, и течение там много сильнее. А еще там есть камень и отмель. И ежели зазеваться, то либо за камень зацепишься, либо за отмель. И тогда все! Конец! Течение быстрое, и плот сразу разорвет, бревна ералашем встанут и разлетятся по всей реке, ищи их потом. Вот поэтому, экселенц, они по вашей стороне плоты и гоняют.
Это было как раз то, что Волков и наделся услышать.
— Молодец, Сыч.
— Это не все еще, — продолжил Фриц Ламме, — еще познакомился я с пареньком одним, на той стороне живет. Помогать нам он согласился. Он хоть и молодой, да смышленый.
— Тоже плоты гоняет?
— Нет, свинопас он, сирота бездомная. Я ему талер дал, так он рад был радеханек. Говорит: «Скажите, что господин вам надобно, все вам расскажу». А он там по всему берегу свиней гоняет, он все видит.
— Да, — задумчиво произнес кавалер, — этот парень может нам пригодиться. Молодец Сыч, дважды молодец.
И Фриц Ламме продолжил, но интонация его поменялась:
— Экселенц, я там походил, да побродил… С людьми разными потолковал…
— Ну? — Волков покосился на него с подозрением.
— Потратился я, экселенц, — продолжил Сыч, делая жалостливое лицо. — Даже свои личные и то потратил, опять же свинопасу талер дал.
Волков уже не первый день знал его, и думал, что скорее всего Сыч врет:
— Врешь ведь, — сказал он, — по трактирам пару дней посидел, да мальчишке дал немного денег, а говоришь, что потратился.
— Экселенц! — возмутился Сыч.
Но кавалер уже доставал из кошеля деньги, кинул на стол три монеты. Сыч оскалился довольный, сгреб деньги и стал вылезать из-за стола:
— Спасибо, экселенц.
— Иди уже, помойся, — сказал Волков, — а то госпожа Брунхильда морщится от тебя.
— Обязательно, экселенц, лишь бы госпоже Брунхильде угодить.
Он, кажется, первый раз назвал ее «госпожой». И Брунхильда это отметила. Загордилась. Вот теперь и Сыч ее госпожой признавал, оставался еще Еган.
Она уже освоилась в доме, уже все слуги, и Яков и Мария слушали ее больше, чем самого Волкова. За мелкую монету стала она звать местных баб чистить дом, скоблить стены, потолок от сажи. Дом совсем уже не походил на тот огромный и крепкий сарай, которым он был по началу. Он стал теплым и пах хорошей едой. И все вокруг, даже господа офицеры, беспрекословно выполняли ее просьбы. Она во все лезла, что касалось хозяйства, и во всем разбиралась. Ежедневно принимала молоко от местных баб, собирала сама яйца, следила как Мария замешивает хлеб, и все, все прочее делала. А еще она стала читать, да не просто, а монах еще в Ланне выучил ее читать на языке пращуров, она и увлеклась, теперь могла и любую молитву из Писания прочесть и перевести, не дура авось. Баб местных собирала, читала им из книги, и детей местных привечала, то хлебом белым, то каплей меда. Они часто во дворе дома крутились. И звали ее не иначе как «милой госпожой». Быстро стали ее любить тут все.
И чем тогда она не госпожа? Госпожа. Кто же в том усомнится, когда помимо всего она еще каждый день ложилась с господином в кровать. Только вот пока не венчаная, а так настоящая госпожа.
И Волкова не удивило, когда как-то однажды пришли мужики, и не к нему пришли, а к ней. Как к заступнице, и стали говорить с Брунхильдой о делах, что ее не касались.
— Вы уж вступитесь за нас, госпожа, — невесело бубнил один из них. — Уж утихомирьте вашего управляющего.
А она не отправила их к господину, проявила участие:
— И что же он?
— Неволит, госпожа, поначалу как приехали, господин обещал, что барщина будет два раза в неделю, а управляющий свирепствует, почитай каждый день гоняет: то на сено, то канавы в болоте рыть гоняет.
— Каждый день гоняет? — интересовалась искренне девушка.
Волков прислушивался поначалу к этому разговору, а потом встал и подошел:
— Значит, гоняет вас на барщину?
— Гоняет, господин, нешто у нас своих дел нету?
— А какие же у вас дела, поля вспахали, засеяли, заборонили, что за дела у вас?
— Ну, в огороде так всякие дела… — начал было мужик.
— В каком еще огороде, никогда не видал вас в огородах, там и бабы ваши управляются.
— Ну, со скотиной дела разные… — говорил мужик.
— С какой еще скотиной дела? — не верил Волков. — Баба твоя с утра ее подоила, да к пастуху выгнала, и вечером подоила, у тебя какие дела со скотиной? Ты и не видишь ее. Только молоко от нее видишь. И косишь сено ты не для меня, ты для себя, скотине на зиму косишь…
— Как же для себя! Две трети сена управляющий вам возит.
— Так лошадям зимой есть нужно будет, а лошадьми ты пользовался, когда поле пахал.
— Так то не наши лошади! То ваши лошади, — загалдели мужики.
— Ах, вот как, а кто за вас долги выплатил барону соседскому.
Мужики не отвечали, стояли сопели.
— Что молчите? Забыли? Вот и косите сено мне, не то будете лошадей в долг у барона брать.
— А как же канавы? — вспомнил один из пришедших.
— Будете копать, — строго сказал Волков, — не для меня копаете, а для себя, там вам выпасы дам, коли из болота луга получатся.
— О! — мужики в такое не верили, стали махать руками. — Никогда там лугов не будет.
— Будете копать, — повторил Волков. — Если вас не заставлять, так вы с печи слезать не будете. Управляющий говорит, что вы лентяи все.
Мужики насупились еще больше.
— Господин мой, — вмешалась Брунхильда, — может, поговорить с управляющим, может людям дать передых, может у них и вправду по дому дела есть.
Лезла она не в свое дело, но так она была красива и мила, что не смог он ей ответить отказом, махнул рукой и сказал:
— Ну, скажи Егану, пусть даст послабление. Только зря это все, нет у них никаких дел.
— Я поговорю с управляющим, — улыбаясь говорила Брунхильда, — ступайте.
— Вот спасибо вам, милая госпожа, — кланялись ей мужики. — Отрада вы наша.
Дурь, конечно, это была бабья, нечего было этих мужичков жалеть. Прав был Еган, прохиндеи они и лентяи, но так рада была Брунхильда, так довольна собой, что Волков ничего не стал ей выговаривать. Она довольна, ну и он доволен. Пусть по ее будет.
Еще через день к нему пришли солдаты, те, что из людей Рене и Бертье, было их немало, человек двадцать, они вызвали его во двор, и сержант от лица всех начал:
— Господин, дело крестьянское скудное, вот мы походили по округам вашим, пригляделись и поняли, что можно тут безбедно жить коли руки иметь.
— Так, и что вы нашли? — Волков всерьез заинтересовался, чем это можно поживиться в его бедной земле.
— Походили мы, значит, по оврагам, и поняли, что глины тут видимо-невидимо, и глина та хороша.
У Волкова сразу интерес поубавился, и он спросил кисло:
— Вы никак горшки лепить собрались?
— Нет, горшки нам ни к чему, — отвечал сержант. — На горшки того спросу нет, что нам нужен. Надумали кирпич и черепицу жечь.
А вот это была не плохая идея. Любому городу кирпич нужен не в невероятных количествах. Только давай. Это было отличная идея.
— И вот мы подумали, что если вы дадите добро, так мы бы взялись, — продолжал сержант.
— Ну, что ж, дело хорошее, давайте. Думаю, что доля моя будет как и с земли — четверть.
— Вот о том мы и хотели поговорить, — мягко не согласился сержант. — Четверть это многовато.
— Многовато?
— Многовато, господин. Понимаете, посчитали мы все, и цену в Малене на кирпич узнали, и расценки на извоз, в общем, если вам еще отдать четверть, то нам совсем мало остается.
Волков молчал, а сержант, видя это, начал ему объяснять:
— Когда в землю зерно бросил, оно само растет, а тут не так будет, глина сама не вырастет, ее выкапывать надо, носить к печам, а то и возить придется. И печи сами гореть не будут, сначала куст нарубить надо, да сложить его, да высушить, с сырого куста жара не будет, а осенью под навесом его держать. И все ручками, ручками.
— Ну и сколько вы думает дать мне? — спросил кавалер.
— Думаем каждый десятый кирпич и черепица ваши будут.
Сержант замолчал, и солдаты ждали, в напряженном нетерпении, что он скажет, сколько выторговывать у них будет.
Десятина. Мало конечно, он бы хотел иметь больше, но с другой стороны Волков рад был, что люди сами себе ищут дело. И нашли. Так не будет же он душить его, пусть всего десятина ему идет. Дело-то не плохое, кажется. И он не стал торговаться:
— Будь по-вашему. Идите к монаху, пусть пишет договор.
Солдаты по военному обрадовались, трижды крикнули: «Виват кавалеру», и пошли со двора.
Да, Еган был прав, земля его была плоха, но и на ней жить можно, если руки приложить.
Как-то к обеду уже дело шло. Волков вернулся домой. Был с Еганом на солдатских полях, где смотрели рожь, которая плохо всходила.
Он уселся за стол и позвал монаха, поговорить о делах, как Брунхильда подошла и положила перед ним бумагу. То было письмо со сломанной печатью.
— Посыльный привез от графа, — сказал Брунхильда.
— Письмо, вроде, для меня написано, — недовольно начал Волков.
— Для вас, для кого же еще, — сразу согласилась она.
— Так от чего же оно раскрыто, кто сургуч сломал?
— Я, — ничуть не сомневаюсь, сказал Брунхильда.
— Кто ж тебе дозволил мои письма раскрывать?
— А чего в том дурного? — искренне удивлюсь девушка. — Я просто прочла.
— Запрещаю тебе впредь делать так, — сурово сказал он.
— Да, а чего? — не понимала она.
— А ничего, — продолжал он злиться. — Дозволять себе много стала, вот чего. Не смей впредь письма открывать.
— Как пожелаете, — сказала она чуть обижено, поклонилась и пошла на двор.
А письмо то было не от графа, как думал Волков поначалу, писала ему дочь графа Элеонора Августа и в письме была ласкова:
Друг наш любезный, кавалер Иероним Фолькоф фон Эшбахт, папенька просил напомнить вам, что я с радостью и делаю, что уже к следующей субботе, обещали вы быть в Малене, на празднестве, что будет в городе проходить в честь святых Петра и Павла. Сам епископ будет читать проповедь, а проповеди у него хороши так, что люди со всей округи на них едут. И еще просил папенька напомнить, что мы ждем вас у себя с нетерпением. Уповаем, что слова своего вы не отмените и будете у нас. Благослови вас Бог.
Девица Элеонора Августа, урожденная фон Мален
Он чуть обернулся, что-то показалось ему за спиной, и вздрогнул, за ним стояла Брунхильда, заглядывая ему через плечо. Читала письмо с ним снова. Вот и учи этих баб грамоте.
— Что за дурь! — рявкнул он. — Зачем подходишь так.
— Простите, что напугала вас, — она низко присела в извинениях, — просто хотела спросить.
— Ну, чего?
— Не возьмете ли меня тоже на праздник?
Волков задумался — к чему это, нет наверное, не нужно ее брать. Как он в дом графа ее поведет? Кем представит? Невестой? Женой? Девкой? Все что не придумай, все плохо. Нет, не нужно этого всего. Ничего путного из этого не выйдет. Да и груба она в речи, крестьянское детство не вытравить, и не знает, как за столом себя вести. Смиренна она стала, и вроде набожна, но разве этого достаточно? Нет, ничего из ее затеи путного не выйдет.
А Брунхильда словно по лицу его все мысли его, разгадав, заговорила:
— Я обузой не буду, хочу просто праздник увидать. Проповедь епископа услышать. После Ланна мне в Эшбахте не хватает этого.
И говорила она это с такой мольбой, что Волков морщился, мотал головой, но уже в душе готов был согласиться.
А Брунхильда, словно почуяв его слабость, упала на колени и взяв его руку в свои поцеловала ее и продолжила:
— Буду тиха я, так тиха, что вы про меня и не вспомните, только возьмите на праздник.
Как ей отказать? Да невозможно сие, нет такого сердца мужского, что смогло бы не дрогнуть от слов этой двадцатилетней красавицы.
Да еще когда она немного и так забавно шепелявит из-за потерянного в детстве еще зуба. Нет, отказать он не смог, погладил ее по щеке и сказал:
— Хорошо, поедешь со мной.
И тут же переменилась она, встала с колен, отряхнула юбку и деловито произнесла:
— Только вот платье мне нужно новое, мое на рукавах уже потерлось, его только дома носить. Да и кружева не свежи, потрепались уже. Нужно будет на день раньше поехать, чтобы я по лавкам пройтись успела. И шаль мне новая нужна.
Вот сейчас она сильно его раздражала, только палец ей дай… Но перечить он ей не стал. С ней невозможно спорить стало.
Глава 38
Мальчишка Яков пропал. Вечером был, а утром Брунхильда его дозваться не смогла. Искали, кричали, нет его. Уж и домой посылали, может, домой пошел. Нет, и дома не нашли. Куда мог деться? После завтрака Максимилиан пошел на конюшню, прибежал взволнованный и говорит:
— Кавалер, ваш лучший конь пропал.
Он вскочил, чуть ногу не подвернул, пошел с Максимилианом и Сычем на конюшню, и точно, нет ни коня его лучшего, ни седла самого дорогого. Конь один больше ста талеров стоил, Волков думал его на племя брать. И седло было непростым. И тут его словно обожгло. Побежал в дом, хромая, схватил кошель, а он легок. Пуст. Встряхнул, перевернул его, и ничего оттуда не выпало, кроме ключа от сундука. Ни единой монеты не было в нем, даже медной. А ведь были деньги, у него еще немного было, монах ему сдачу привез с пяти золотых. Слава Богу, хоть ключ остался. Волков кинулся к сундуку, открывал, так руки дрожали: нет, все на месте. И шар хрустальный, и золото в шелковом мешке, и бумаги на собственность, и в Ланне, и на Эшбахт тоже, и вексель имперский цел. Не было только тех денег, что в кошеле у него у кровати на комоде лежали. Сколько там было точно, он не знал, талеров двадцать, наверное, набралось бы.
Он запер сундук, поднялся с колена и был мрачен:
— Сыч, Бертье на охоте?
— Нет, экселенц, утром приходил кормить собак, ушел потом, сказал, что к вечерку поедет за солдатское поле, за кабаном, когда кабан нажрется и ляжет отдыхать.
— Максимилиан, седлайте коней, Сыч, найди Бертье.
— Ловить будем? — спросил Фриц Ламме.
— Нет! — заорал Волков. — На прогулку поедем!
— Я сейчас, экселенц, сейчас, — заверил Сыч и исчез.
Максимилиан тоже кинулся в конюшни. Повторять нужды не было.
Кажется, собаки взяли след. Да и мужик один сказал, что видал Якова верхом, ехал он на восток, к реке. Так и было, чуть проехав, нашли следы: подковы конские на глине. До самой реки следы довели, а там — все. В реку зашли и пропали. Пришлось через реку перебираться во Фринланд, благо, тут она была неширока. А на том берегу, ничего не нашли, как не искали. Рыскали по берегу, вниз и вверх по течению, все впустую. Словно в воду канул, утонул вместе с конем мошенник. Уже от голода во второй половине дня, хоть люди его о том и не просили, распорядился ехать домой.
Ехал домой чернее черного, на людей исподлобья смотрел. Ногу от целого дня в седле выкручивало, хоть зубы сжимай, может, оттого от него волнами злоба разлеталась такая, что с ним рядом ехать никто не хотел.
А он только о том и думал, что обманули его, что землю ему поганую в награду дали, на которой только подлый народ жить может. Ехал Волков, оглядывая унылые виды своего удела, и злился еще больше. Вот только что был он за рекой, во Фринладне, а там трава вокруг, вдоль берег шли луга да покосы, а тут что? Шиповник да репей с лопухами. И казалось ему, что ничего хорошего здесь ему не будет, что только убытку тут могут быть.
Конь племенной — сто талеров, а то и больше, седло рыцарское, деньги: всего на сто пятьдесят монет убытков. Не считая самого подлеца Якова. Ох, как дорого ему обходилась земелька эта. Трат на шесть сотен уже набралось. Вот так награду ему дали. Вот так прибыток.
Приехал домой, а все не мило ему там, только Брунхильда мила. Она вышла во двор, помогла ему с коня слезть, повела в дом, все молча, без причитаний. Уложила на постель, сапоги сняла, сама рядом села, ногу, как могла, мяла, но конечно не так, как Агнес, но старалась. Велела вина горячего с медом ему сделать, пока обед грелся.
Но было в нем то, чего у многих других нет. То, чем он еще в солдатах, в молодости выделялся. У некоторых от неудач руки опускаются, другие на неудачах учатся, а у него от неудач кулаки сжимались, он еще злее становился и еще неуступчивей.
Долго кавалер в постели не лежал, как только чуть нога отпустила, позвал он всех офицеров к себе на обед. И те пришли.
Говорил он с ними о том, что человек ему смышленый и честный нужен будет на дело одно, спрашивал, есть ли среди их людей такой. И все сказал, что есть. И у Брюнхвальда такой имелся, и Бертье с Рене подобного же предложили. Волков послушал офицеров, все, что сказали офицеры, обдумал и выбрал того, которого рекомендовали Рене и Бертье. То был сержант Жанзуан.
И он произнес:
— Пусть на рассвете сержант этот и десять охотников будут готовы с подводой и едой на три дня. Поеду с ним на юг, к острову, рыбу ловить. Сети надобно взять и одну лодку. Пара солдат на ней вниз по реке поедет, остальные со мной пойдут. Всем жалование будет небольшое.
— Хорошо, — сказал Рене.
Спрашивать Волкова дальше о рыбалке из господ офицеров никто не решился, уж больно мрачен он был. Господа доедали обед и говорили только промеж себя и с госпожой Брунхильдой, с Волковым не говорили.
На рассвете сержант Жанзуан пришел к нему и доложил, что все готово, что два человека уже пошли на восток к реке и оттуда на лодке повезут сети на юг. А остальные с ним пойдут. Все ждут его.
Волков позавтракал не спеша, велел Максимилиану сложить доспех и оружие в свою телегу, на всякий случай, и как позавтракал, поцеловал Брунхильду и сел на коня:
— Я уеду дня на три, — сказал он, — Еган тебе в помощь останется, Сыча заберу, если случиться что, так за господами офицерами посылай.
— Да, мой господин, — отвечала девушка, — не волнуйтесь, все будет у меня хорошо, езжайте.
И поцеловала ему руку.
Жанзуан был немолод, лет ему за сорок, слыл он строгим, въедливым и исполнительным, тем Волкову и понравился.
Носил дурацкие усы и дорогую сержантскую алебарду и вечно хмурился. Но вот сержантская лента на руке у него всегда была так чиста, как будто только что он ее стирал.
Еще до полудня приехали они к острову, те два солдата, что на лодке плыли, уже их ждали. Стали лагерем.
— Кавалер, прикажете расседлать коней? — спросил Максимилиан.
— Нет, — ответил Волков, направляясь к воде, — И держи арбалет наготове.
Максимилиан удивился, но спрашивать ничего не стал. Он знал, что кавалер частенько что-то задумывает, при этом ничего поначалу не говорит. Будет надобно — так скажет. А пока юноша надел тетиву на арбалета.
— Сержант, — говорил Волков, разглядывая карту своей земли. — Вели срубить пять, а лучше шесть кольев по три сажени и заострить их.
— Толстые колья понадобятся? — спросил сержант.
Он оглядывался вокруг, хороших деревьев вокруг было немного.
— Нет, нам сетями надобно перегородить реку до острова. Сильно толстые не нужны. — отвечал кавалер. — Будем рыбу ловить.
Один из солдат, что был тут же рядом, и сказал ему:
— Господин, ежели дозволите, то я скажу…
— Ну, говори.
— Рыбу так поймать будет непросто, сетями реку перегораживать не нужно, сети ставят к берегу наискосок, у берега рыбы больше, чем на середке.
— Это смотря какую рыбу ловить, — загадочно ответил ему Волков. — Рубите колья, перегораживаете реку, как я сказал.
Пара солдат стала собирать хворост и готовить еду, еще пара занялась платками, а остальные искали хоть какие-нибудь деревья, что пойдут на колья.
И вскоре уже забивали первый кол в мелководье в берег, вязли к нему сеть, а потом сели на лодку и вбивали следующий кол уже в воде, снова вязали к нему сеть. Так дальше, до самого берега острова. Двумя сетями перегородили реку.
— Вот то, что мне и нужно, — сказал Волков. — Осталось только рыбы дождаться.
И в это же день еще до вечера первая рыба и пришла.
Они уже пообедали бобами с салом, когда один солдат, что из лодки лишнюю воду вычерпывал, закричал:
— Плот, плот гонят!
Да, это было как раз то, чего Волков и дожидался. Он валялся на горячем песке со стаканом вина в руке и как услыхал крик солдата, так стакан вкопал в песок, а сам вскочил и пошел быстро к реке. И как увидела плот выше по течению, закричал, что было сил, размахивая рукой:
— Стой! Куда?! Поворачивай. Поворачивай, говорю!
Плот, связанный из четырех меньших плотов, не спеша плыл по реке, людей там было восемь, а на среднем плоту был шалаш и даже костерок с котелком над ним. Люди, крепкие мужики, смотрели на Волкова, кто недружелюбно, а кто и просто с удивлением, они переглядывались и не понимали, чего он от них хочет.
— А ну стой, не смей, — продолжал орать Волков и солдаты стали махать руками и тоже кричать людям на плоту, — стойте, дураки, у нас тут сети, стойте!
А плот уже подплыл к сетям и, зацепив одну из них, поволок и легко выдернул колья, также увлекая их за собой. А плот так и плыл себе дальше.
— Максимилиан, — заорал Волков, — коня! Сержант, в лодку!
Максимилиан как знал, что так будет, сам уже сидел на коне и вел Волову его коня в поводу.
Кавалер, забираясь в седло сказал только:
— Арбалет!
И поскакал вдоль реки за плотом. А Максимилиан поехал за ним, на ходу ключом натягивая тетиву и доставая болт.
А сержант и четверо солдат уже садись в лодку.
Он нагнал плот быстро, когда догнал, закричал:
— Остановитесь, к берегу станьте!
Но люди на плоту не торопились исполнять его требование.
— К берегу, говорю, делайте! — продолжал орать он, так и скача за ними.
Но опять люди только смотрели с плота и не собирались приставать к берегу.
Тогда он забрал у Максимилиана Арбалет, поднял его и почти не целясь, нажал на спуск.
Может, он и не был лучшим мечником при дворе герцога де Приньи, но уж стрелком он был одним из лучших.
Болт пробил у котелка, что висел на тлеющими углями, обе стенки и застрял в нем. Капли варева тут же потекли на угли через дыры и оттого пошел над плотом белый дым.
— Стойте, говорю, к берегу плывите, — орал Волков, передавая арбалет Максимилиану для перезарядки, — иначе следующий болт у вас у кого-нибудь в ляжке будет!
А тут и сержант на лодке догнал плот. Мужики нехотя взялись за огромные весла, что были на первом и на последнем плоту, аккуратно пристали к пологому берегу, к пляжу, что лежал уже у заброшенной деревни, где кавалер ловил браконьеров.
Глава 39
— Ну, и кто из вас старший? — сурово спросил он, не слезая с лошади.
Один, нестарый еще мужик, лапы у него как те весла, видно всю жизнь плоты гонял по реке, сказал недовольно:
— Ну, я.
— И что, ты не слышал, когда мы тебе кричали, что у нас там сети?
— Не слышал, — бурчит мужик.
— Врешь, — продолжает Волков.
— Не вру, — говорит мужик, — не слышал ничего я. Никогда там сетей никто не ставил. Я тут на реке сызмальства.
— Теперь будут там сети, — говорит Волков, — людям моим рыба нужна, а вы плавайте теперь по своей воде, с той стороны острова.
— Как с той? — удивлялись другие мужики с других плотов.
— А так, теперь мы тут рыбу ловить будем, и нам не нужно, что бы вы своими бревнами нам сети рвали.
Один из солдат снял обрывок сети с бревен и показал его мужикам, под нос совал им:
— Вот она, сеть наша.
Те косились на сеть хмуро, словно им дохлую крысы показывали. А Волков и произнес:
— На первый раз я вас прощаю, за порванную сеть брать денег не буду, чтобы жить с вами в мире. Вас отпускаю. Но одного из вас я на ваш берег отвезу, чтобы шел к своим и сказал, что теперь по нашему берегу, до самого острова мы сети ставить будем, чтобы плавали вы по своему берегу.
Мужики молчали.
— Ну, кого из своих дашь? — спросил Волков главного.
— Мне все для дела нужны, — бурчал тот.
— Тогда сам выберу, — настаивал кавалер.
— Ладно, — произнес старший, — Михель, ты поедешь.
Самый молодой из мужиков кивнул.
— Сержант, — произнес Волков, — отвези этого на их берег, а ты, Михель, скажи своим, что бы отныне плавали по своему берегу. Наш берег нам самим надобен.
Сержант посадил мужика в лодку и поплыл на противоположный берег, а плот тронулся вниз по реке, на самом последнем плоту стоял старший и смотрел на Волкова зло. И Волков на него смотрел, глаз не отводил, не тот он был человек, которого чей-то взгляд смутит. Он знал, что все только начинается. Хотя и не знал, чем все закончиться.
— Эй, — наконец крикнул он солдатам, когда плот отплыл уже далеко, — чего стали, ищите новые колья, ставить сеть будем, когда сержант приплывет.
— Так они нам сеть порвали, сеть дырява, — отвечал ему один из солдат.
— Для нашей рыбы подойдет, — отвечал он им. — Ищите колья.
Рыбы и вправду ловилось совсем немного, не то что у браконьеров, но вечером проверили оставшиеся сети и набрали щук и судаков на одну коптильню. Запалили ее, уже ближе к сумеркам по берегу пополз удивительный запах копченой рыбы, и все было хорошо.
Они уже все сети проверили, рыбу, что осталась, выпотрошили и посолили, поели. Солнце уже садиться начало. Волков уже в палатку к себе собирался, как вдруг солдат один закричал и стал указывать рукой вниз по течению. И кавалер увидал, как по берегу идет четверка лошадей, и ведет ее мужик-конюх. А за лошадями тянется толстая веревка, к которой привязана баржа. Конюх как солдат увидал, так стал останавливаться.
— Кто такие? — спросил у него кавалер.
А болван только головой мотал да на баржу оглядывался. И тогда с баржи закричали:
— Я Якоб Кронерхаузен, купец из славной земли Фринланд, иду к себе, а вы кто?
— Я господин Эшбахта, божий рыцарь Фолькоф. Не хочешь ли пристать к берегу, купец, у нас ужин поспел?
— Честь вам и уважение, господин Эшбахт. Но буду плыть, пока темнеть не начнет, хочу завтра дома быть до вечера.
— Хорошо, но постойте немного, у нас там сети, — кричал ему кавалер, — сержант, помогите купцу пройти через сети.
Вообще-то Волков собирался и с этими господами поближе пообщаться, купцы — дело доходное, но сначала нужно было решить вопрос с плотами. Нельзя все сразу делать, так и надорваться можно, поэтому он был милостив и вежлив.
Вскоре лошади прошли через их лагерь, и баржа проплыла вверх по реке. А тут и ночь пришла.
А утром, когда солдаты снова стали проверять сети, из-за острова показалась лодка с людьми, сначала солдаты браться за оружие стали, но как пригляделись, так успокоились, в лодке был всего один при железе, остальные мирные были. И было их трое.
И плыли они к ним.
— Ну, вот и настоящая рыба пошла, кажется, — сказал Волков, вглядываясь в приближающуюся лодку, и потребовал у Максимилиана одежду и оружие.
Толстяка Вальдсдорфа среди них не было, были другие. Один был уже стар, лицом спесив и богат, сам в мехах, все пальцы в перстнях, другие моложе, но тоже заносчивы. Волкову они имена свои говорили скороговоркой, словно одолжение делали. А он так учтив с ним был.
— Не желаете ли рыбы копченой? — спросил он прибывших господ.
— Не за тем мы здесь, — старик пождал серые губы свои. — Хотим мы занять, отчего вы вздумали нашим людям препятствия чинить?
— Так не чиню я им препятствий, коли они по своей стороне плоты свои гонять будут. А у себя я здесь рыбу ловлю для людишек своих. Какие же от меня препятствия, если я на своей реке, на своем берегу рыбу себе ловлю.
— Мы испокон веков тут плоты спускаем, — заговорил другой, тот, что с бородавкой на губе.
— Так что же, теперь по своему берегу сплавляйте, — невозмутимо сказал кавалер. — Я к вам не лезу, и вы сети мои не тревожьте. Так будет нам мир и любовь.
Говоря так, он уже знал, что теперь ему грозить будут. И оказался прав.
— Нет, никак мира не будет, если вы так бесчестно с нами поступаете, — заговорил третий с пафосом и угрозой в голосе.
— Помилуйте, в чем же бесчестье ваше, если я прошу на своей стороне реки, у своего берега сети мои не рушить? Неужто вы будете мне воспрещать рыбу ловить?
— Нет, не будем, но мы просим вас нам не досаждать, — сухо сказал старик, — и плотам нашим предпястий не чинить, быть соседом добрым, не то и до железа дойти может.
Тут Волков глаза на него поднял, и смотря на него хладно, сказал ему смиренно:
— Не я разговор про железо затеял, но раз уж вы начали, то скажу вам, я и людишки мои железа не боимся, всю жизнь при железе были. Коли угодно вам, так будем железом баловаться. Тогда буду я ваши плоты у реки ловить и себе брать, а ваших людей за выкуп отдавать. А если с войском придете, так поднимусь и уйду во Фридланд, к архиепископу. Он не выдаст. А когда ваше войско уйдет, так я опять к вам наведуюсь. И опять буду плоты ваши себе брать.
— Ах, так вы разбойник! — вскричал тот, что с бородавкой.
— Так кокой же я разбойник, это вы меня на моей земле железом увещевать стали. Вы сюда со склокой пришли, вместо соседской дружбы! Хотите людей моих последнего хлеба лишить. И чтобы склоку не длить, прошу вас полюбовно не рушить нашего соседства, дайте нам пропитание со скудной земли нашей, — четко выговаривал слова кавалер.
Он знал, что подходит решающая минута и сейчас заговорит старик.
— Что же вы хотите от нас? — спросил спесивый старик.
— Так, если любви между нами быть, то прошу я немногого, дайте людям моим пропитание, на хлеб и бобы только.
— Так говорите же, чего желаете?
— Лишнего не хочу от вас, — сказал Волков почти умоляюще, даже руки как при молитве сложил, — прошу только один талер с плота, что будет по моей воде проходить.
Говорил, а сам видел, как наливаются гневом праведным и такие недобрые лица приплывших людей.
— Что? — вскричал один из них.
— Да вы, господин Эшбахт, разбойник! — крикнул тот, что был с бородавкой.
— Не будет такого, — сказал старик, но без злобы, скорее задумчиво.
— Никогда мы за то не платили, и впредь платить не будем!
— Слыханное ли это дело!
— Мы уходим, — сказал старик и пошел к лодке.
Остальные пошли за ним.
— Прощайте, господа, буду ждать вестей от вас, — со всем радушием, на которое был способен, крикнул им Волков.
Никто из господ даже не обернулся, не ответил ему.
И сержант Жанзуан, и все солдаты, слышавшие разговор, стояли ошарашенные, а Максимилиан спросил чуть ошарашено:
— Кавалер, неужто воевать будем?
— Отчего же воевать? — спросил у него Волков.
— Так господа эти пугали войной, злы ушли!
Волков поморщился и сказал с презрением:
— Будь то люди благородные, так может и пошли бы на войну из чести, а это купчишки, сволочь. Побежали считаться. Сейчас сядут считать, что дороже: платить или драться. Драться для них дороже будет, я с них не многого прошу. Поэтому побегут жаловаться, а когда не поможет, будут торговаться, чтобы еще дешевле отделаться.
Говорил он это, усмехаясь, тем солдат и сержанта успокоил, а Максимилиана, кажется, огорчил, тому очень хоть какой-нибудь войны хотелось.
— Де не будет никакой войны, — уверенно сказал всем Сыч. — Поверьте мне, экселенц знает, что говорит, я его не первый год знаю.
— Что вы стали, — он оглядел солдат, что собрались вокруг него, — стройте лагерь, вы тут надолго.
И когда люди стали расходиться, кавалер тайно поманил Сыча пальцем, чтобы другие не видали. И когда они остались вдвоем, сказал ему тихо:
— Купчишки больно заносчивы, злы ушли, ты ночью плыви на тот берег, посмотри, послушай, что делать собираются. Может, и в правду думают добрых людей собирать, если так, то мне о том знать надобно. Я тут еще два дня пробуду, через день возвращайся.
— Сплаваю, — заверил Фриц Ламме, — посмотрю, послушаю, да дружка свинопаса проведаю.
Так и решили. Фриц опять тихонечко переплыл реку. Стало тихо на реке, больше плотов по его стороне реки за два дня не проплывало. И кавалер решил тут не сидеть.
Он оставил людей своих на берегу, а сам поехал в Эшбахт, наказав сержанту:
— Как плот поплывет, так ты кричи ему и ругай, требуй, чтобы пристал к берегу, но сам его не лови и не стреляй в людей, пусть уплывают. Шуми для вида. Как человек мой вернется, скажи, что бы ко мне в имение побыстрее скакал. Жду я его.
— Сделаю, как пожелаете, — отвечал сержант Жанзуан.
Глава 40
Как он и ждал, ему уже письмо привезли. От кого? Конечно же от графа. Говорил быть к нему по делу к четвергу, к обеду. Значит, купчишки уже до графа добрались — нажаловались.
— Собирайся, — сказал он Брунхильде, прочитав письмо, — едем в Мален.
— Епископа слушать? — обрадовалась та.
— И епископа тоже, — отвечал он, — завтра поутру выезжаем. А пока мне воды пусть нагреют, мыться буду.
— Велю чан нести и воду таскать, — обещала весело Брунхильда, — сама вас помою.
А девушка радовалась, позвала Марию смотреть, какое платье чистое, а какое стирать надобно, пока сама пела от радости.
В тот же день приехал Сыч, рассказывал долго о том, что творится на чужом брегу.
— Об этом только и говорят все в кабаках, мужики и купчишки вас ругают. По всему Рюмикону гул идет, так вас чихвостят. Купчишки кричат спьяну, что пора дескать, и поучить вас.
— И что за купцы? Большие?
— Де нет, мелочь, — презрительно морщился Сыч. — Всяки кабацкие, что от меди едва в серебро перешли, но пыжатся, негодуют. Кричат, что деньгу на людей добрых дадут. Говорят, проучат вас.
— Значит, проучить собираются? — мрачно ухмылялся Волков.
— Ага, — кивал Сыч, — говорят, пора мол, благородную кровь по реке пустить, чтобы плавалось по ней полегче. Но то все по пьяной лавочке шумят.
— А людей добрых собирают? — спросил кавалер, хотя знал, что это маловероятно, раз его на суд к графу зовут.
— Так некому там собираться. Король месяц как кликнул клич, так с кантона почти тысячу человек собралось да на юг подалось с нашим императором воевать, — рассказывал Фриц Ламме. — Все лишние добрые люди ушли. Один одноглазый говорил, что король в кантоне две тысячи людей собрал, да думаю — врет.
— А ополчение с городов? Может они собираются? Может гильдии кого нанимают?
— Нет, об том и речи не было, а коли будут людишки с железом на том берегу собираться, так свинопас нам сразу весточку привезет. Он мальчишка смышленый. Я ж ему еще денег дал.
— Ну, а в городах, друзей не заводишь?
— Сговорился, с парочкой, выпивал с ними, да людишки больно ненадежные, игроки кабацкие, жулики. Продадут за кружку пива.
— Хорошо, ты молодец, Фриц Ламме.
— Спасибо, экселенц, — улыбался Сыч. И тут же корчил жалостливое лицо, — экселенц…
— Знаю, — Волков достал три талера, дорого конечно, все это давалось ему, — на, держи.
— Всего три? — лицо Сыча не делалось счастливым.
— Ступай, и тому рад будь, у меня сейчас нет лишнего серебра.
Он еще домыться не успел. Сидел на лавке, Брунхильда ему голову полотенцем вытирала, когда пришел Рене и сказал:
— Вора вашего привели.
— Якова? — не поверил кавалер, освобождаясь от рук и полотенца Брунхильды и беря рубаху с лавки.
— Его, — говорит Рене.
— Кто же его поймал?
— Во Фринланде его поймали, сюда привели. Сержант его привел. На дворе стоит, ждет вашего дозволения войти.
— Зовите.
Сержант из Фринланда был высок и статен, как и положено быть настоящему сержанту. На цепи за собой он ввел в дом мальчишку Якова. Тот был руками и шеей заточен в колодки. Может, колодки были тяжелы, может, просто стыдно ему было, но головы вор не поднимал.
— Господин Эшбахт, — важно начал сержант, — согласно договору, что есть межу землей Ребенрее и Фринландом, о возврате беглых крепостных, и по решению судьи Кальнса, что судит милостью архиепископа Ланна и Фринланда, возвращаю вам вашего крепостного, что взят был у нас в городе Эвельратте без бумаг и имущества.
— Спасибо тебе, сержант, что поймали вора, — говорил кавалер, и в голосе его не было ничего хорошего для Якова. — А конь при нем был?
— Мне о том не ведомо, — отвечал сержант, — пьян он был, валялся в кабаке два дня, пока кабатчик стражу не позвал. Сказал, что деньги за пиво не платит. Стража учинила розыск, он и сознался, что беглый от вас. По суду велено вернуть вам его.
— Где мой конь? — спросил Волков без всяких эмоций.
Юноша буркнул что-то, не поднимая глаз от пола. Никто не понял, что он ответил.
Тогда Сыч подошел и дал ему в ребра:
— Говори, паскуда, громко, когда господин спрашивает.
— Украли, — срываясь на рыдания, уже громко отвечал Яков. — В постоялом дворе.
— А деньги мои где?
— Нету, — Яков стал рыдать, — все украли.
— Врет, — вдруг сказал сержант, — не крали у него деньги, проиграл он их. Трактирщик говорил, что он два дня в кости пьяный играл.
— Двадцать талеров тебе всего на два дня хватило? — возмутился Сыч. — Ах, ты, вошь поганая, мне за пять талеров приходится иной раз жизнью рисковать, а ты… Вошь поганая… — Он опять дал в ребра мальчишки кулаком.
Тот стал рыдать, а сержант стал снимать с него колодки и говорить:
— Я тогда пойду, надо до ночи хоть реку переплыть.
Волков встал, достал из кошеля ему серебра на пол талера, вложил в руку:
— Спасибо, сержант.
— Вам спасибо, господин, — отвечал тот кланяясь. И, кивая на юношу, спросил. — А с этим что сделаете?
— То, что положено делать с ворами. Он увел у меня племенного коня, в сто талеров стоимостью, — зло говорил кавалер. — Он вытащил серебра монет двадцать, и все это растратил. А мне такие деньги давались нелегко, почти всю жизнь меня за них резали, рубили и кололи. И мне скопить удалось сто монет… А он такие деньжищи… За четыре дня промотал все, вор. Как господин твой и судья, осуждаю тебя на смерть, так как вор ты. Ты будешь повешен.
Мальчишка по его голосу вдруг понял, что пощады ему не будет и завыл тоскливо.
— Справедливо, — сказал Рене.
— Правильно, экселенц, — сказал Сыч, хватая мальчишку за шиворот. — На заре его и повешу.
— Нет, — спокойно произнес кавалер. — Завтра утром мы уезжаем, ты со мной едешь, ты мне понадобишься, сейчас с делом покончи.
— Сейчас, так сейчас, — говорил Фриц Ламме, выволакивая Якова на улицу.
— Раз так, я и задержусь, сказал сержант, погляжу, как вора вешают.
— Максимилиан!
— Да, кавалер.
— Соберите народ, а Сычу скажите, чтобы вора сначала к попу отвел исповедоваться.
— Господин, — тут заговорила Брунхильда, беря его за руку.
— Ну, — Волков уже по глазам ее знал, о чем она сейчас говорить будет.
Глаза девушки были мокры от слез:
— Он совсем молод, не знал что творит, может…
— Простить его? — закончил Волков.
— Нет, не простить, а кару другую выбрать, такую, что жизнь не отнимает. Может его клеймить, или в работы тяжкие отдать?
И тут Рене, что еще не вышел на улицу и слышал их разговор, сказал:
— Прекраснейшая из добрейших, госпожа Брунхильда, дозвольте отвечу вам я, вместо господина кавалера: «Люди, что мужики, что солдаты, знать должны твердо, что за такой проступок как воровство, кара будет жестокой. Иначе, не быть дисциплине, не быть закону. И уж поверьте, в солдатском обществе, вор еще порадуется такой мягкой участи, как повешенье. И господин кавалер наш, не жестокосерден, я бы того вора, что нанес мне столь тяжкий ущерб не повесил, я бы его сжег».
Брунхильда смотрела на офицера удивленно, а потом повернулась к Волкову, молча вопрошая его.
— Нет, дорогая моя, — сказал тот как можно мягче. — Уж больно тяжек проступок. Иди, собирай платья свои.
Когда все разошлись, он вдруг увидал бабу. Простую. Может по дому приходила помогать Брунхильде. Обычная баба из местных крепостных. Худа, лицо костисто, глаза серы, блеклы. Платок, простой, юбка ветхая, ноги сбиты все, оттого что обуви давно не знали. Она просто стояла в углу незаметная. Ждала пока он освободится. Щеки впалые от слез мокры. Стояла и смотрела на него, руки свои от волнения на животе тискала.
— Чего? — зло спросил у нее Волков.
А она, дура, стояла и ничего не отвечала ему. Только губы поджала, чтобы не закричать, рыдала беззвучно.
Он подошел к ней и сказал все так же зло:
— Нельзя, не могу я, понимаешь, не могу!
Полез в кошель, достал целый талер, стал ей в заскорузлую от тяжкой работы руку его совать и повторял:
— Нельзя, не могу. Он вор. Нельзя прощать.
— Он не со зла, — вдруг заговорила баба, — всю жизнь в бедности жил, он добрый. Досыта не ел. А тут вы, тут деньги на виду, вот только руку протяни. Да еще конь какой, разве ж тут устоишь, не устоять ему было, молод он больно, молод, все оттого…
И от этих слов Волков еще больше злился, словно его она обвиняла.
Словно он виноват в том, что мальчишка покусился на его добро.
От этого он стал ее выталкивать в дверь:
— Ступай, говорю, серебро на похороны и на отпевание, иди.
Она ушла, а через час собрался народ, и Якова повесили. Вешал его Сыч и два солдата ему помогали. Волков на казнь идти не хотел, не хотел той бабы видеть больше, но не пойти не мог, раз уж осудил, так присутствуй. А еще пришлось Сычу и помощникам его два талера дать. Недешево ему обходилось жизнь в поместье. Ох, не дешево.
Выехали рано, еще не рассвело. К городу подъехали, а там телеги на всех дорогах, мужичье окрестное на праздник в город уже съезжается. В городе улицы тоже забиты, барабаны бьют, до празднований еще день, а люд нарядны и праздны. Пиво на улицах продают. Музыканты бродят с музыками. А как же иначе, завтра праздник, большой день, день Первоверховных Апостолов Петра и Павла. И конец длинного летнего поста. Тут уж даже женщины пьют. Так положено. Брунхильда едет в телеге, телега в подушках и перинах накрыта добрым сукном.
— Госпожа, госпожа, — бежит рядом с ней молодой торговец, несет полную кружку тягучего и темного напитка с пеной, — отведайте пива.
— А, ну пошел! — орет Максимилиан, он едет сразу за телегой госпожи, и замахивается на торговца плетью. — Пошел, говорю!
— Нет в том нужды, господин Максимилиан, — улыбается Брунхильда, — давай свое пиво, человек.
Она достает деньги, отдает торговцу, берет у него тяжелую кружку, а зеваки со всех сторон смотрят, как она отпивает глоток, и радостно кричат, когда она отрывается от кружки и вытерев коричневую пену с прекрасных губ, говорит:
— Ах, как крепко пиво, не для дев оно, а для мужей.
Все смеются, а она отдает кружку торговцу, тот едва успел взять ее, как из его рук ловко вырывает кружку Сыч:
— Чего уж, давай допью, раз уплочено.
Торговец глядит на него изумленно. А Сыч выпивает жадно, разом и до дна, с коня не слезая. Все опять смеются, от ловкости и жадности Сыча.
Волков коня остановил, смотрит, чуть улыбаясь. Не лезет.
А тут, один из богатых людей города, что стоял у дверей лавки, кажется, с женой под руку, и кричит Брунхильде:
— А кто же вы, прекрасная госпожа? Отчего мы не видали вас в нашем городе раньше?
А Брунхильда и смутилась от его вопроса. Смотрит на мужчину, ресницами хлопает, слова для ответа ищет. И Максимилиан молчит, и Сыч, и как назло на улице музыка смолкла. И вся, кажется, улица на нее смотрит и ее ответа как будто ждет. Да, всем интересно кто же эта красавица. И молодой торговец с кружкой стоит тут же рот раскрыл. И другие люди. И даже Бертье, что увязался за ними в город и тот, кажется, ждал, что она ответит. И видя, что все этого ждут, Волков и заговорил. Ему надо было сказать: «Поехали». На том бы все и закончилось, а он на всю улицу сказал:
— Это Брунхильда Фолькоф, сестра кавалера Фолькофа, господина Эшбахата.
Кто-то закричал: «Ах, что за красота, эта Брунхильда Фолькоф!»
И люди на улице загалдели, соглашаясь с этим. Снова забил где-то рядом барабан. Запиликала музыка. Сыч поехал вперед. Брат Ипполит потянул вожжи и телега Брунхильды двинулась за ним, а она повернулась и поглядела на Волкова. И во взгляде этом не было уж той Брунхильды, что видел он все последнее время, взгляд ее был холоден, что лед в декабре.
Волков понял, что зря он сестрой ее назвал. Думал, что ей это честь будет. Да видно ошибался он. Вообще зря он взял ее в город. Сидела бы в Эшбахте.
Глава 41
Они торопились, проезд по городу был непрост, люди гуляли, весь город на улице, но к дому графа приехали как раз к обеду. И на церкви, что рядом была, колокол пробил полдень. Волков Брунхильду во дворе в телеге хотел оставить, а потом ей найти гостиницу, но вышло все иначе. Во доре сам граф был, гостей каких-то провожал. Богатых купцов по виду. А как Волкова и его людей увидал, так со своим человеком к нему пошел. Мельком взглянул на телегу с красавицей, и взгляд свой на ней задержал. А уж когда разглядел Брунхильду, так и на Волкова смотреть перестал, глаз от девушки не отрывал:
— Ах, Бог ты мой. Что же за нимфа, что за наяда посетила дом мой? — говорил он, протягивая ей руки.
И был он так галантен, что Брунхильда растерялась, но обе руки ему протянула. И на одной ее руке болталось распятие на четках.
— Еще и набожны вы? — восхитился граф, беря ее руки со всей возможной куртуазностью. Сам же он повернулся к Волкову и спросил. — Кто же этот ангел?
Волков молчал, вот теперь он уже точно уже наверняка знал, что зря взял ее с собой в город. Так она сама теперь стала говорить, уже на него не оглядываясь:
— Имя мое Брунхильда Фолькоф. Я сестра господина Эшбахта.
— Сестра! — вскричал барон. Он отвел от нее глаза, посмотрел на Волкова, потом опять на девушку и снова на Волкова. — Ах, ну конечно же, тут и слепой родство увидит. Так отчего же вы, Эшбахт, не сказали, что у вас ангел в сестрах имеется? Отчего ангела такого в свет не выводили?
Где там граф между ним и Брунхильдой сходство увидел, Волков не знал, опять промолчал, а Брунхильда обнаглела, косилась на него и продолжала говорить за них двоих:
— Это все от нелюдимости его солдатской. Всю жизнь при солдатах, да при других грубых людях, при конях. Как с дамами себя вести не знает, учить его надобно, да некому. Папенька помер давно.
Говорила она с ехидством, не столько графу, сколько Волкову.
— А меня зовут Фердинанд фон Мален, — говорил граф, кланяясь и целуя ей руку, — я хозяин дома этого. Прошу вас, разрешите мне быть вашим слугой, дозвольте показать вам его.
Граф помог девушке выбраться из перин и вылезти из телеги:
— Отчего же, Эшбахт, вы не сказали, что приедете с сестрой, мы и не подумали приготовить еще одни покои.
— Ничего, — буркнул Волков, слезая с коня и морщась от боли в ноге. — Нам одних будет довольно.
— Мы издавна к одной постели привыкли, — невинно сказала Брунхильда. — Ничего, поспим опять вместе.
«Дура», — подумал Волков, разозлился на нее, но вида старался не показывать.
— Нет же, не быть такому, — сказал граф, — сейчас же распоряжусь приготовить покои, для молодой госпожи. К чему ютится? Лучшие будут вам покои, что в доме найдутся.
Он взял девушку за руку и повел в дом, что-то говоря ей. А она в другой руке несла Библию, слушала графа и улыбалась, но скромно, так что бы отсутствия зуба сразу графу не показать. А на гостя граф больше и не глянул даже. Волков и Бертье пошли следом. Максимилиан, брат Ипполит и Сыч остались во дворе разбираться с лошадями и сундуками.
— Ах, прекрасный ангел, — заговорил граф, когда они остановились в большой зале, — прошу прощения, забыл совсем, старый глупец, но вынужден покинуть вас, дела ждут меня и вашего брата, мой мажордом проводит вас в ваши покои. — Он не, отрывая глаз от Брунхильды, произнес: — Генрих, госпожа будет жить в правом крыле, в тех покоях, что с балконом. Пусть вещи ее туда несут.
Мажордом поклонился графу и рукой указал девушке куда идти.
Граф поманил Волкова за собой в ближайшую дверь, говоря при том:
— Думаю, догадываетесь, Эшбахт, зачем я звал вас?
И в тоне, и голосе его уже не было и сотой доли той любезности, с которой говорил он с Брунхильдой.
— Неужто опять жалобщики вам докучают? — не стал притворяться Волков.
— Третий день вижу их в доме своем, — чуть не сквозь зубы сказал граф. Он остановился и повторил многозначительно. — Третий день. В городе праздник, а я по вашей милости должен лицезреть эти постные физиономии и слушать причитания этих… господ.
Последнее слово он произнес именно с тем выражением лица, с каким чистокровный аристократ и должен говорить о наглой черни, что вдруг решила зваться «господами».
— Что там произошло у вас с ними? Отчего вы не пускаете плавать их по реке.
— Людишек со мной пришло не мало, люди ратные, проверенные, господину герцогу всегда пригодны будут. Так вот решили они рыбу ловить, ловят только на своей стороне реки, на чужую не лезут. Так эти сплавщики леса им по сетям раз за разом ездят. Сети рвут. Я просил соседей только об одном — плавать по своей стороне реки. И более ничего.
— А деньги? Деньги с них брать намеревались.
— Так предложил им, предложил брать по самой скромности. Не от корысти, а на пропитание людишкам своим. Талер с плота, раз хотят по моей стороне реки плавать.
— Я так и знал, — граф погрозил ему пальцем. — Я так и знал. Пойдемте, я как вас увидал, так сразу понял, что ждать мне хлопот от вас. Ждать хлопот. Не из тех вы, что смирно себя ведут, вы так и будете задирать соседей. На лице у вас то написано.
Волков молчал, а граф фон Мален продолжил:
— Помните, о чем вас канцлер просил?
— Помню. Блюсти мир.
— Я не напрасно вам про канцлера напомнил, скажу вам по секрету, что лучше разозлить самого нашего курфюрста, да продлит Господь его лета, чем его канцлера. Канцлер не спустит и не забудет, такой он человек. Еще раз спрашиваю вас, не устроите ли вы нам войну?
— Войны не будет, — заверил графа Волков. — Обещаю, коли яриться начнут, так я отступлю. Да и некому там сейчас воевать, тысяча человек из кантона на юг с королем уши, воюют с нашим императором.
— Ах, вот как? Откуда сие известно?
— Известно сие наверняка. Люди были на том берегу. Знают.
— Хорошо, но не доводите до войны, — сказал граф фон Мален и открыл дверь.
Они вошли в залу, в кабинет, а там уже было трое господ. Все люди достойные, одного из них Волков уже видел. Это был тот господин, на губе которого была бородавка. Теперь имя его Волков расслышал и запомнил. То был не кто иной, как выборный Глава Гильдии Торговцев лесом, древесным углем и дегтем города Рюмикона, так же был он еще и членом консулата кантона Брегген от того же города Рюмикона. Человек, видно, был не последний, имя его было Вехнер.
Господа были злы и, судя по их лицам, не собирались идти на уступки.
— Все, чего прошу я, так это не рвать мне сети. Даль людям моим пропитание, — примирительно говорил Волков.
— А кто просил талер за плот?! — воскликнул один из гостей.
— Так то, чтобы только примирение найти, — отвечал кавалер. — А нет, так плывите вокруг острова, по своей воде.
— То невозможно, там камни, там плоты рвутся, — говорил Вехнер, он, кажется, был самым умным из купцов.
Одни и те же речи звучали в зале несколько раз.
Волков говорил, что ему нужно рыбу ловить и просил купцов гонять плоты по своей стороне реки. Купцы ярились и ругались, грозились войной и говорили, что испокон веков гоняли плоты там, где им нужно, так и впредь такое будет.
Граф не встревал в разговор, видно ждал пока купчишку устанут. Только согласно кивал их праведному гневу.
Но Волков не уступал, был он вежлив и доброжелателен, как мог, но тверд, на крик и угрозы отвечал одно — что людишки его к войнам привычны, а коли их хлеба лишат, так и воевать готовы.
Хоть и казалось, что разговор выходит пустой, но так на самом деле не было. И Волков уже понял, что двое младших — это крикуны, горлодеры. Пугают они войной, говорят, что не потерпят, но если бы силы у них были на войну, то уже развернулись бы да пошли. А раз не уходят и кричат, значит, нет у них сил воевать или не дали им права начинать войну. А когда пришло время, приумолкнули эти двое, говорить начал Вехнер. Уж он точно был самым хладнокровным среди купцов, на крик не переходил, говорил мало, хоть и с жаром. Волков ждал этого и был рад, что граф все понимал, только ладонью крик понижал, мол, тише господа, но не встревал в разговор, разве что упрашивал господ купцов не распаляться, чтобы те к ругани не перешли.
Все шло как нужно, и когда уже мысли и желания всеми были высказаны трижды, когда доводы прозвучали четырежды, Волков и вымолвил:
— Так готов я уступить вам, из любви к миру и чтобы прослыть добрым соседом, прошу от вас людям своим на прокорм восемьдесят крейцеров с плота проходящего.
Он начал торговаться, это была его главная надежда. Для купчишки торговля за цену — главное ремесло, многие в нем преуспевают. И он очень надеялся, что они торговаться начнут, сдвинуться от неприступной своей позиции. Если стронуться хоть на самую малость, то он победит. И теперь он, кинув им слова свои, с замиранием сердца ждал, начнут они торг или так и будут твердить про то, что плавали они там испокон веков и плавать будут, а иначе война. Того же ждал и граф.
Но один из младших купцов продолжил, что лучше война, что им честь дороже, что не перед кем они не склонялись и уж тем более сейчас не склонятся. А Волков говорил новые слова:
— Так ради мира я готов и семьдесят крейцеров с плота брать. Лишь бы свару не длить. Лишь бы вы, господа, зла обо мне не думали. Лишь о хлебе прошу для людей своих несчастных. Не более.
А глава гильдии лесоторговцев господин Вехнер и говорит:
— Лишь из любви к миру, лишь для того чтобы не плодить раздоров меж соседями, дадим мы с плота оного двадцать крейцеров.
Вот началось то, чего ждал кавалер. И тут он начал делать то, что делать в таких встречах не принято, он встал, не говоря ни слова, а сам за лицами купцов наблюдал и видел в них обескураженность, удивление. То, что надо ему. А он стол обошел, подошел к господину Вехнеру и за руку его взял как друга:
— Так позвольте мне вас обнять.
Купец встал, и Волков его обнял, как бы от стола в сторону повел. Вехнер не понял, даже поначалу идти не хотел, кавалер его, все-таки, отвел к окну и там говорит так тихо, что другим в зале и не расслышать:
— Так прошу вас дать мне шестьдесят крейцеров с плота, а вам один плот и вовсе бесплатно проходить будет раз в месяц.
Купец смотрит на него, затем косится на своих товарищей и так же тихо говорит Волкову:
— Так в месяц я не меньше двух плотов отправляю.
— Хорошо, два ваших плота бесплатно, остальные по шестьдесят крейцеров.
— По пятьдесят, — шепчет Вехнер.
— Не жадничайте, — улыбается Волков.
— Иначе не могу, иначе думать на меня начнут, места выборного лишусь.
— Хорошо, — кавалер опять обнял его и добавил уже громко, — раз вы не можете уступить, то я приму вашу цену, пятьдесят так пятьдесят.
Товарищи Вехнера переглянулись, но ничего не сказали. Видно, и впрямь он был у них старшим. И старшинство его было беспрекословно.
— Господин граф, — произнес Волков, — со мной монах был ученый, велите его разыскать, пусть договор напишет, чтобы потом не было кривотолков и расхождений.
— Хорошо, — сказал граф довольный, что все разрешилось без войны, — и еще велю вина принести, а то жарко было мне от баталий ваших, господа.
Все уже не злились, все улыбались шутке графа. Так все и разрешилось. А когда бумага была подписана, вино выпито, а купцы ушли, граф вдруг стал строг и сказал:
— А вам говорили, кавалер, что вы ловкач?
— Нет, не каждый мне такое сказать осмелился бы, — отвечал Волков, хотя такое он о себе слыхал.
— Да, по краю ходили, в шаге от распри, но все полюбовно сгладили. Ах да, я и забыл, вы же рыцарь Божий. Молодец вы, хитростям у попов научились?
— Жизнь учила, — скромно отвечал кавалер.
— Но больше прошу вас не связываться с кантоном. От греха подальше, как говориться. На этот раз обошлось. И все пошло по-вашему, но имейте в виду, что на войну горцы очень скоры. И воюют со всей злобой, беспощадно.
— Об этом я знаю, не раз с ними встречался, — сказал Волков.
— Ну, пойдемте, — сказал граф фон Мален, беря его под руку. — Обед уже поспел.
Глава 42
Граф был радушным хозяином, за столом его сидело не менее двадцати господ, тут нашлось место и Бертье, посадили его в самом конце стола. Как-то так получилось, что опять Волков сидел рядом с Элеонорой Августой, дочерью графа. Она была по правую руку от него, а по левую сидел барон фон Эвальд, молодой господин лет девятнадцати. Видимо, небедный.
А вот Брунхильда, кавалер не поверил бы, если бы сам этого не видел, сидела по правую руку от графа, на месте жены или старшего сына. И та ничуть не смущалась. Граф говорил с ней, и она бойко ему отвечала, да так, что все остальные господа, в том числе и молодой граф, который сидела напротив нее, слева от отца, слушали девушку. У нее под рукой лежало Писание. Она то и дело, касалась его рукой. Но о чем они говорят, он почти не слышал, потому что Элеонора Августа, увидав его, обрадовалась и стала говорить с ним как со старым знакомцем, почти без умолку.
Он хотел послушать, что говорит Брунхильда графу, но слышал только свою соседку. И сделать ничего не мог.
— Господа, а вы будете на турнире? — спрашивала она.
— На турнире? — удивлялся Волков.
— Я буду, — говорил молодой барон фон Эвальд.
— Ну а как же без вас, — сказала Элеонора Августа, — а вы, Эшбахт, будете?
— Не знаю даже, — отвечал он, Волков не очень жаловал эти сборища знати. Еще по службе в гвардии он знал, что там, за пределами арены, молодые господа рыцари, распаленные играми, соперничеством и вином хватаются за железо, там, где в другом случае лишь усмехнулись бы. На турниры вечно собирались безземельные господа, чтобы показав себя на арене с копьем или мечом, найти себе жену с хорошим куском земли в приданом. Или сеньора хотя бы, что позовет ко двору. Кроме земельной аристократии там вечно бывали бретеры, чемпионы и дуэлянты, что ездят от турнира к турниру. В общем, люди опасные, от которых нужно бы держаться подальше.
— Конечно же, вам надо быть там, нельзя быть затворником, — говорила дочь графа, — и сестре вашей надобно бывать в свете. Такую красоту нельзя прятать от общества.
— Истинно! — поддержал степенный господин, что сидел напротив Волкова и имени которого он не запомнил.
Он поднял бокал в честь своих слов, и Волкову пришлось сделать тоже самое. Заодно с ними выпил и молодой барон, что сидел по левую от него руку, и Элеонора Августа. А там, во главе стола, во все своей красе царствовала Брунхильда. Граф, его сын и прочие первые нобили земли Мален говорили с ней, задавали вопросы, с интересом слушали, что она отвечала, и тут же восхищались ее ответами. Даже хлопали в ладоши, когда она что-то читала им из Писания и сразу же переводила.
Когда только научилась, мерзавка, языку пращуров, что так писание читать может! Волков очень хотел расслышать, что она там рассказывает, боялся, что наболтает лишнего чего, но слушать ему приходилось Элеонору Августу.
— Обязательно вам нужно быть на турнире, — говорила она, — этот турнир в честь именин жены герцога нашего, моего троюродного дяди. Он иногда приезжает на него, бывало, что и с герцогиней. Турнир как раз через две недели бывает после праздника святых Петра и Павла.
— Обязательно буду, — сказал он, но тут же добавлял, — если изыщется возможность.
Лакеи несли следующие смены блюд, подливали вино, а Волков согласно кивал головой дочери графа, все еще пытаясь услышать, о чем там с графом и другими нобилями говорит молодая красавица, которую он сюда привез. Но скорее слышал, о чем болтает Бертье в конце стола, который нашел себе товарищей из тех, что, как и он увлечены охотой, он говорил с ним об отличных собаках, что купил недавно задешево.
Этот бесконечный обед стал для него пыткой. Он видел, как от вина и граф, и его сын, и еще два достойных мужа, что сидели вокруг Брунхильды, стали свободнее, веселее. Да и сама она раскраснелась, была болтлива и смешлива.
«Господи, не допусти», — думал кавалер, надеясь, что она не наболтает ничего лишнего. А сам тут же и, возможно, невпопад, кивал Элеоноре Августе, пытаясь ответить на очередной ее вопрос.
Еле дождался он окончания этого обеда. Не в радость он ему был, если бы кто спросил, что за блюда он там ел, он бы и не вспомнил.
Наконец, все стали вставать из-за стола, в зале заиграла музыка.
А Волков стал раздражаться, к Брунхильде было не подступиться. Граф и другие господа не отходили от нее. Хоть за руку ее отводи от них. Да видно, ей пришлось отойти, лакей пришел и с поклоном повел ее показывать ей ее покои.
Тут уж Волков ее и догнал и начал раздраженно:
— Ты что там болтала весь обед?
— Ах, это вы? — отвечал она, глянув на него мимолетно. — Господа спрашивали, зачем я собой Писание ношу, так я отвечала.
— Бахвалилась!
— Нет, они спрашивали, неужто я читаю его, так я и говорила как есть, что читаю и понимаю многое в нем, хоть и не нашим языком писано. — Едва ли не заносчиво отвечала Брунхильда.
— А еще что спрашивали у тебя господа?
— Да многое что, да не волнуйтесь вы так, ничего лишнего я не сказала, сказал, что папеньку нашего не помню, что сгинул он, когда я мала была. И что вы с малолетства при попах да при солдатах были, оттого и грамотны, и в воинском деле преуспели, больше про вас ничего не сказала.
Тут лакей довел их до покоев красавицы, открыл ей дверь. Волков тоже захотел войти, да она вдруг стала в дверях и сказала:
— К чему вам за мной ходить? Вам свои покои выделил граф.
— Что? — растерялся кавалер.
— В свои покои ступайте, — нагло заявила она.
— Рехнулась, что ли? — возмутился Волков и вознамерился войти.
Да не тут-то было, Брунхильда стала на его пути, глаза злые, щеки алые, вином пахнет, отступать и не думает, цедит ему сквозь зубы:
— Нечего, братцам по покоям сестер ходить, а то есть такие братцы, что сестер своих в постель к себе просят да любят, чтобы сестры нагие к ним в постель шли. Не по мне такое, сатанинское это. Так что к себе ступайте, — и добавила так едко, как только могла, — братец.
И захлопнула перед ним дверь. Он уже хотел стучать, да в коридоре появились другие господа, пришлось уйти, хоть и корчило его от злости.
Шел к себе и говорил на нее: «Дура, холопка». Да другие злые слова, что в голову ему приходили, особенно вспоминал распутство ее.
В таком расположении духа сидеть в своих покоях у него желания не было, да и вниз, в общую залу, где были все гости, спускаться не хотелось. Пошел в людскую, там нашел Сыча, монаха и Максимилиана. Максимилиану велел коней оседлать. Решил, пока не стемнело, поехать город посмотреть, а может, и девок по кабакам поискать.
А на улицах города шум, конец поста. Пьяные кругом, веселые, месяц люди держались.
Волков и сам бы выпил, уже и место присматривал, но от толпы, что заполонила танцами и музыкой большую улицу, свернул влево, на улицу узкую. Улица была тиха и чиста, дома на ней все опрятные, двери крепкие, окна везде большие, со стеклами. Хорошая улица была, ни одного кабака на ней.
И на одном из домов он увидал знак, то был циркуль и угольник.
Что такое циркуль он знал не очень хорошо, знал о нем только то, что это инструмент строителей. На многих лучших крепостях в южных войнах он видал такой символ.
Он сразу понял, кто тут живет. Волков уже думал найти время и поискать в городе такого человека, а тут само провидение его привело сюда. Другое дело, что праздник вокруг, найдет ли мастер время для него сейчас? Подумав чуть, он, не слезая с коня, стал стучать в большие и крепкие двери рукоятью плети.
Скоро окошко в двери открылось, и из него, выглядывая и стараясь увидать, кто там стучит, баба спросила:
— Кто там, чего вам?
— Мастер дома ли? — громко произнес Волков. — Скажи, заказчик к нему. Примет или нет?
— А кто вы? — донеслось из окошка.
— Заказчик, говорю, — рявкнул Волков раздраженно.
— Сейчас узнаю, — пообещал баба.
Вскоре дверь растворилась, и они с Максимилианом въехали в большой и красивый двор. Точно, что мастер был человеком не бедным.
Максимилиан остался при конях, а баба провела кавалера в дом, где его ждал сам хозяин. Он был крепок, хоть и невысок, не стар еще, носил платье до пят, какие носят ученые мужи, а рубаха под ним была совершено чиста. Комната была немала, вся в шкафах, а в них все книги, книги. В углу был стол с тремя подсвечниками, огромный, и на нем опять книги да еще широкие листы бумаги. Да на всех рисунки домов и дворцов. Нарисованы на удивление хорошо.
— Кавалер Фолькоф, — представился Волков, оглядываясь.
— Магистр архитектуры, член гильдии вольных каменщиков земли Ребенрее архитектор Драбенфурс, — представился хозяин с поклоном.
— Извините, что отвлекаю вас в праздник, просто увидал знак на вашем доме… — начал Волков, с интересом глядя на рисунок красивого дворца.
— Ничего-ничего, гость в дом — Бог в дом. Велю вина подать, думаю, что вы не от праздности пришли, разговор будет не скор.
Пока служанка принесла вино и разливала его с серебряные стаканы, Волков объяснял архитектору, зачем пожаловал:
— Думаю замок себе поставить, вы ж замки строите?
— И замки, и дома, и дворцы, и церкви, и аббатства, — говорил Драбенфурс, предлагая Волкову вино.
— Сейчас покажу вам.
Он стащил с полки огромный рулон бумаг, кинул его на стол, развернул:
— Вот, этот замок будет недорог, но хорош. Просторный двор. Складов в достатке. На сколько людей и лошадей вы думаете строиться?
— Нет, — сразу отверг предложение Волков, едва взглянув на рисунок. — Стены тонки, башни только по углам, слаб замок.
— А этот как вам? — архитектор открыл новый рисунок.
— Слаб. Мне нужен на пятьдесят солдат и на тридцать лошадей конюшни. Хлев большой. Пакгаузы вместительные.
— Вот этот?
— Нет, все не то, на этом башни малы, где пушки ставить?
— Этот?
— Нет, опять не то, на юге так уже не строят.
— Вы, видно собираетесь воевать от души, — говорил Драбенфурс, показывая новый замок.
— Нет, не то. Я собираюсь спокойно жить, но чтобы жить спокойно, нужно иметь хороший замок.
Магистр перевернул лист и показал ему новый замок.
— Вот! — сказал Волков и ткнул пальцем. — Он! Только тут перед воротами нужен будет равелин[3]. И тогда это будет то, что ищу.
— Это замок на сто солдат, — отвечал ему архитектор.
— Пусть на сто, сколько это будет стоить?
— Ну, ежли вы пожелаете еще и равелин, так будет это…
Магистр Драбенфурс задумался. Сам водил пальцем по эскизу замка. Словно узоры рисовал. Волков его не подгонял, смотрел на него и ждал, пока тот все подсчитает. И тот, наконец, кивнул головой, словно соглашался с кем-то и, оторвавшись от рисунка, произнес медленно, отстраненно глядя в стену:
— Девятнадцать тысяч…
Девятнадцать тысяч? Кавалер все еще изучающе разглядывал загадочное выражение лица архитектора, он отчего-то не был уверен, что речь идет о серебряных талерах земли Ребенрее. И его сомнения оправдались.
— Флоринов, — закончил архитектор.
— Флоринов? — переспросил кавалер в надежде, что магистр говорит о небольших и легких монетах южного, славного города.
Он ошибся.
— Девятнадцать тысяч папских флоринов, — уточнил архитектор.
Здоровенные, тяжелые монеты из прекрасного золота, что чеканятся при дворе Его Святейшества.
— То есть, это… — Волков быстро вычислял в голове. — Это примерно двадцать шесть тысяч золотых гульденов еретиков.
— Да, где-то так. Или двадцать восемь тысяч эгемских крон, — кивал ему архитектор и тут же пояснял эту огромную цену. — Но вы же выбрали, хоть и небольшую, но мощную крепость, это же не простой замок на холме. Вы желаете угловыми бастионами. И башни с площадками для пушек. Да равелин еще. Да крепкие просторные приворотные башни с решеткой и коридором за воротами. Простой замок стоил бы всего шесть с половиной тысяч.
— Флоринов, конечно же? — язвительно интересовался кавалер.
— Флоринов, — опять кивал архитектор. — И то, нужно еще выехать к вам в землю и посмотреть на месте, где ему лучше встать и не нужно ли еще каких работ под него делать. Вы же из графства Мален? Тут собираетесь строить?
— Из графства Мален. Да, — задумчиво отвечал кавалер, понимая, что затея его невыполнима.
— А из какой же вы земли, кавалер? — интересовался архитектор.
— Я? Я из Эшбахта, — ответил Волков. — Я господин Эшбахта.
— Ах, вот как, — сказал архитектор, да не просто сказал, сказал он это разочарованно, не будь он вежлив, так еще бы и скривился, как от чего-то надоедливого или скучного.
Его разочарование было так очевидно, что задело Волкова. Он не мог понять, что это значит.
— Кажется, вам не мила та земля? — спросил он сухо, едва сдерживаясь, чтобы не начать грубить.
— Нет, не так бы я сказал, — тут же стал поправляться магистр Драбенфурс, — просто вы третий из господ Эшбахта, кто приезжает ко мне говорить про замок, первый приезжал лет эдак пятнадцать назад. Я же ездил туда многократно, и место отличное нашел, где можно сэкономить на фундаменте, но все было тщетно. Земля та скудна, господа те были плохи, не рачительны. Так что ничего с ними не выходило. Пусты были хлопоты мои.
Опять, опять архитектор невольно кольнул Волкова, сравнивая его с прежними господами, последний из которых, так просто сбежал из земли своей.
— А где же вы место приглядели под замок? — спросил Волков все также холодно.
— Там, где река поворачивает на запад.
Кавалер припоминал то место.
— Там прямой угол получатся. Замок с двух сторон будет защищен рекой. С третей стороны овраги идут до самого прибрежного песка, тоже место неудобное. Один путь к нему, только с севера будет. Там ворота сделать, равелин там же ставить. К тому же в том месте и фундамент не нужен будет сложный. Прямо на скалу и поставил бы. Встал бы на века.
— Раз фундамент не нужен будет, так и цена ниже должна быть, — сразу считал в уме Волков.
— Да. Две тысячи отнимайте, — говорил архитектор.
— Двадцать четыре тысячи гульденов? — уточнил кавалер.
— Да, еще в те же деньги я поставлю мебель, — обещал Драбенфурс.
Волков понимающе покивал, чуть постоял, поставил стакан с почти не тронутым вином и пошел к выходу, уже на пороге сказав:
— До свидания.
Больше ничего.
Они ехали по праздничному городу, уже стемнело. Кабаки и трактиры — двери настежь. Там свет, гул, музыка, танцы, бесстыдный смех разгоряченных вином женщин. Одна из бабенок, кажется, кричала ему что-то, но не поглядел на нее даже.
Отчего-то Ярослав Волков, сын пропавшего в море шкипера, был грустен. Задел, задел его этот архитектор своим пренебрежением.
Казалось ему совсем недавно, что он рыцарь, что он господин, что земля у него своя есть, людишки какие-никакие имеются, в свет он выезжает, при дворе графа его принимают ласково, а вот архитектор какой-то морду от него кривит. Отчего так? А оттого, что достоинство у него имеется, земля имеется, а вот третей части, что надобна, для того, чтобы зваться нобилем, у него нет. Нет замка? Так построй. Не на что строить? Так спесь свою прикуси да знай свое место. Да не злись, когда всякий архитектор при тебе губы кривит.
Потому как так и есть — нет у тебя замка, а значит и земли ты можешь в любой момент лишиться по прихоти чьей-то.
Всю дорогу молчал, Максимилиану слова не сказал. В таком расположении духа добрался до дворца графа, думал, что, может, Брунхильда в покоях его ждать будет, так не было бабы вредной. И он лег спать.
Глава 43
Волков любил такие дни, с самой зари по городу несся колокольный звон, от которого он проснулся. Открыл глаза, а тут и Брунхильда уже рядом.
— Отчего ж вы не встаете? — говорит она возмущенно. — не слышите, что ли, как звонари надрываются, все уже к столу идут, лакеи завтракать звали.
Он хватает ее за руку, пытается подтащить к себе, она упрямится:
— Отпустите, чего вы! Платье мне попортите, кружева порвете, — и тут же с укоризной продолжает, — служанки-то нет у меня, сама все делала. Еще солнце не встало, а я кружева пришивала. Да отпустите же.
Вырывается — не удержать. Такая сильная. Не может Волков ее в постель к себе затащить.
— Прям и не потискать тебя, — говорит он, — ишь, гордая.
Она, наконец, врывает руку из его пальцев, все-таки сильная девица, и говорит:
— Тискайтесь там, где были вчера вечером.
А сама от борьбы раскраснелась, грудь вздымается. Платье оправляет. Красивая.
Значит, заходила к нему, раз знает, что его вчера в покоях не было.
От этого ему становится чуть веселее на душе.
— Ну, вставайте, братец, скоро уж епископ проповедь праздничную начнет, а мы еще и завтракать не садились.
Он ее еще раз попытался поймать, да она увернулась, ушла, дверью хлопнув, пред тем крикнув:
— Вставайте, братец!
Он надел свою лучшую одежду. Егана, разумеется, ему очень не хватало. Поверх колета надел цепь серебряную, что подарил ему герцог. Шосы, панталоны, перчатки, берет, перстень, туфли — все самое лучшее, что у него было. Тем не менее, среди господ, что выходили из дома графа пешком, так как храм был неподалеку, он вид имел самый небогатый. Самый небогатый. И колет, некогда роскошный и шитый серебром, уже потерял свой блеск, потерся. И шосы выцвели и были не так ярки, как прежде, и бархат на берете, и перо уже не так хороши были. Да и цепь была бедна, большинство господ носили золото. Даже его драгоценный меч, и тот был уже нехорош на фоне иного, дорого и замысловатого оружия, что носили при себе господа. Единственная вещь, что была у него не хуже, чем у других, так был тот перстень, которым его пытались отправить на тот свет в Хоккенхайме.
А вот Брунхильда вовсе не выглядела небогатой. Она казалась, скорее, чопорной и набожной в своем темно-зеленом платье, недорогого, но крепкого сукна, украшенного самыми дорогими кружевами. На голове ее был замысловатый головной убор из дорогого шелкового шарфа. И был он так искусно и затейливо свернут, что люди и понять по нему не могли, девица она или замужняя госпожа. А в руках у нее опять было Писание и четки. И бедной она совсем не выглядела. Выглядела она набожной и прекрасной молодой женщиной, полной сил и свежести.
Ну, раз других сокровищ у него не было, он довольствовался тем сокровищем, что шло с ним под руку. Не хотел он в первые ряды садиться, их самые знатные люди занимали, хотел подальше сесть, но граф позвал их сесть рядом с ним в первый ряд. И Волков подумал, что это из-за Брунхилды, которую фон Мален усадил рядом с собой. А вот сам Волков сидел по левую руку от соседа своего, барона фон Фезенклевер, с которым он раскланялся по-соседски.
Тут и епископ появился, не пошел сразу к алтарю, хотя служки уже для того все подготовили, а пошел к пастве, к графу. Тот брал руку святого отца, становился на колено, целовал ее. И тут епископ увидал Брунхильду, спросил ее ласково, подавая руку для поцелуя и ей:
— А вас я не знаю, кто вы, чистое дитя?
Девушка сразу присела низко, рук пастырю целовала, говорила:
— Девица Фолькоф, сестра кавалера Фолькофа, господина Эшбахта.
Она указала епископу на Волкова.
— Ах, и вы тут, — обрадовался епископ, увидав его. — А вы мне нужны, обещали, что будете у меня, а сами не идете.
— Простите, святой отец, — Волков низко склонился, — дела не отпускают.
— Ну, ничего, — епископ положил руку ему на голову, что-то прошептал, — после проповеди не уходите, не поговорив со мной.
— Да, святой отец.
Больше епископ ни с кем не говорил, церковь была уже полна людьми, все было готово, и он приступил к делу.
Речь его и вправду была интересна и не слишком длинна, и многие, особенно женщины, плакали над несладкой участью Петра и Павла.
А когда все кончилось, хоры допели последнюю осанну и люди, утирая слезы, стали расходиться, к Волкову подошел служка и сказал, что епископ желает его видеть у себя за амвоном.
Никогда кавалер не заходил туда, куда простым смертным вход заказан. Там, в ризнице, епископа разоблачали от дорогих одежд служки, сам он сидела на лавочке и, увидав Волкова, показал на стол, там стоял красивый ларь и сказал:
— Тот ларец для вас.
— Для меня? — удивился кавалер.
— Нет, не для вас лично, но предназначается вам, — говорил епископ. — Берите его. Посмотрите, что там.
Кавалер открыл ларец. Тот доверху был заполнен серебром. Он непонимающе уставился на старого попа ища у того объяснений.
— Ступайте, все, — сказал епископ служкам, и те тут же покинули ризницу, сам он уже был в простой одежде. Встал с лавки и подошел к кавалеру. — То не вам, то на ваш храм. На деньги эти постройте у себя в Эшбахте храм.
Блеклые старческие глаза пристально смотрели на Волкова, епископ устал после службы, но старался быть бодрым. Он продолжал:
— Я кое-что узнал про вас.
Волков молчал, ему, конечно, было интересно, что скажет старик, но торопить его он не собирался.
— Вы простолюдин, — продолжал поп. Это звучало как укор, ну так Волкову показалось. И он продолжал молчать.
— Да, простолюдин, — продолжил епископ. И тут же добавил: — Так же, как и я. Я знаю, как мне было нелегко добиться моего сана, думаю, что и вам было также трудно достичь ваших высот. Я про ваши подвиги наслышан, поэтому мы, простолюдины, должны помогать друг другу, здесь, — он постучал по ларцу, — четыреста талеров, или чуть меньше, я не знаю, на небольшую церквушку хватит с лихвой.
— Спасибо, монсеньер, — Волков хотел взять его руку и поцеловать, но епископ не дал.
— Бросьте, это лишнее, то на людях надобно делать, а тут нет нужды.
— Еще раз спасибо.
— Не благодарите, пусть они пойдут на доброе дело, иначе папский легат отправит их к Святому Престолу или их украдут после моей смерти мои помощники.
— Раз так, то прошу вас тогда на приход в Эшбахт утвердить нужного мне священника, — сказал кавалер.
— Он праведен, честен?
— Он неправеден и нечестен, с прихода его изгнали.
— За какие проступки?
— Он любит вино и женщин. За женщин его и изгнали.
— Ну, не самый тяжкий грех, — сказал епископ, — хорошо, присылайте его, поговорю с ним. Но отчего же вы хотите такого себе? Чем он хорош?
— Он один был, кто духа не терял в Ференбурге, когда вокруг нас мертвецы ходили. Знал, что сказать людям, чтобы дух их угасший воскрес. Был опорой мне. А именно это мне сейчас и потребуется. В земле моей, кажется, оборотень лютует.
— Оборотень? Уверены? — насторожился старый поп.
— Уверен, мой человек с ним встретился.
— И живой ушел?
— Ушел.
— Крепкие у вас люди.
— Крепкие, — подтвердил кавалер.
— Значит, все-таки ликантропус, — задумчиво произнес святой отец.
— Вы знали об этом? — спросил его Волков. — Может, догадывались?
— Писал мне брат Бенедикт, но все вскользь, не точно, намеками. Да, кажется, два раза мне о том писал, писал, что волк не такой, как все есть в местах тех. Но понимаете, он же отшельник, такие близкие к Богу люди, они не всегда отличают, где мысли их, а где мирское естество. Вот я и не предавал значения письмам его.
— Значит, я пришлю своего священника?
— Хорошо, хорошо, присылайте его мне. Но раз уж я вам одолжение делаю, то и вы мне сделайте.
— Говорите, — сразу согласился Волков.
— Кажется, что среди людишек моих, не на кого мне понадеяться. Прискорбно, но не на кого. А уж на почту местную тем более надежды нету. А нужно мне письмо в Ланн, к архиепископу доставить. Вернее, канцлеру его. И ответа дождаться.
— Самому мне письмо отвезти или с верным человеком отправить? — спросил Волков.
— Письмишко важное. Сами за дело возьмитесь, никого другого послать не могу. Некого мне больше просить.
— Когда отправляться?
— Так хоть завтра и собирайтесь. — ответил епископ и достал из одежд своих письмо. — не допустите, чтобы герцог или даже граф о том письме прознали.
Он протянул конверт кавалеру. Тот по всем углам в сургуче, а в центре еще одна сургучная печать. Конверт толст. Пять печатей с символом Епископа Маленского. Волков спрятал письмо под колет. Не очень-то он желал лезть в это дело, но уж больно нужен был ему ларец с талерами. И расположение епископа ему было необходим, ведь никого он не хотел видеть на приходе в Эшбахта кроме отца Семиона. А тут без епископа — никуда. Но и это было еще не все, он знал, что если ты возишь секретные послания, значит тебе доверяют, значит ты сопричастен и очень близко стоишь у тронов великих нобилей. Стоять там опасно, но очень выгодно. Это письмо дорогого стоило.
— Тогда прямо сейчас и поеду, — сказал Волков, застегивая колет.
Не хотелось ему с подобным письмом прохлаждаться у графа в доме. Не дай Бог к тому в руки попадет. За такое письмо можно и свободой, а может, и головой поплатиться. Кто его знает, что там написал епископ.
— Что ж, это мудро. Езжайте сейчас, — епископ взял его за щеки наклонил к себе и поцеловал в лоб. — Спешите, сын мой. А как доедите, как в канцелярии будете, так скажите слово «» и скажите, что от меня. Запомните слово?
Волков прекрасно знал, что значит это слово. «Немедленно».
Да, значит, в письме было и впрямь что-то важное.
Глава 44
— Собирайся, — сказал он Брунхильде.
— Куда? — сразу огорчилась девушка.
Он пошел по дому в свои покои, а она подбирая юбки, устремилась за ним, готовая спорить.
— Ты едешь домой.
— А вы?
Губки поджала, глаза злые, брови хмурит. Давно он ее такой не видел, эта была та, прежняя Брунхильда, капризная и своенравная, та о которой он стал уже забывать.
— Я тоже уезжаю. Но не в Эшбахт, а по делам.
— Не могу я, — вдруг твердо заявила девица.
— Что? — он даже остановился от дерзости такой. — Что это значит?
— Граф просит нас остаться погостить на недельку, — говорит Брунхильда.
— Думать не смей, — обрезал разговор кавалер.
Он снова пошел к себе в покои, а она снова пошла за ним, шаг в шаг шла, готова была спорить дальше.
— Отчего же вы уезжать надумали?
— Дела, — он не собирался ей все объяснять, то не бабье дело.
— А вы знаете, что мы приглашены к графу в гости через две недели. У него в поместье будет турнир.
— Нет, не знаю.
— Так знайте. На три дня. Будет турнир днем, а вечером балы.
Они дошли до его покоев, зашли внутрь, он стал осматриваться, собирать вещи.
— И что? Мы поедем? — не отставала от него девушка.
— Посмотрим. Ступай, лучше Максимилиана найди, скажи, что бы коней седлал да телегу тебе собирал, и вещи пусть монах с Сычем носят.
Она пошла было к двери, да не ушла, а заперла ее на засов. Волков остановился, глядел на нее и ждал, что будет дальше. А девушка пошла, на ходу снимая шаль с головы, кинула ее на комод, распустила волосы. Затем прошла к кровати, села на нее задрала юбки и стала разуваться, выставляя ему на обозрение ноги выше колен. И говоря при этом:
— Граф говорит, после турниров будут обеды, а после и балы. Все знатные люди со всего графства будут и другие приедут. Много известных рыцарей со всех земель соседних приедет.
Ни рыцари с соседних земель, ни обеды, ни балы, кавалера не интересовали. Уж балы-то точно не интересовали, он еще тот был танцор со своей ногой. Но вот от того, как Брунхильда легла на кровать, так что видно все ноги, не прикрытые юбками, он взгляда оторвать не мог.
— Хотел просить вас, чтобы взяли меня на турнир, — говорила девушка. — Может, один только раз мне удастся на балу побывать.
— А чего это ты заголилась? — спросил он, подходя к кровати. — Вчера так шипела на меня как змея, братцем называла, а тут вон, всю красоту на свет выложила? Уже не стесняешься перед братцем?
— Так поедем мы к графу на турнир? — словно и не слышала она его вопроса.
— Ладно, поедем, — говорит он, влезая к ней на кровать. — Снимай платье.
— Подождите, — вдруг говорит Брунхильда, да еще и юбки одергивая, пряча ноги. — Подождите. Ежели мы на бал едем, то мне два платья нужно с собой. И платья хорошие.
— Два платья? — Волков поморщился.
— Балы будут два дня, — объясняет девица.
— А если балы три дня будут, так тебе три платья понадобятся?
— А как же, но граф сказал, что два балы будут идти. Мне на платья четыре талера надобно, а еще на шарфы и туфли четыре, на перчатки талер.
— На перчатки талер?
— Они шелковые!
— Ладно, дам, — сказал Волков и попытался задрать ей юбки.
Черт с ними с этими талерами, лишь бы она… Лишь бы обняла его крепко. И ногами своими крепкими и длинными обхватила.
— Стойте, стойте, — не дала она задрать себе юбку. — Подождите.
— Ну! — он уже начинал злиться.
— Танцев я не знаю, но в городе тут учитель есть, я уже узнала. За неделю выучусь у него.
— Одну тебя тут не оставлю, — обрезал Волков. — То не прилично, не должна девица из хорошей семьи одна жить. А ты вроде теперь из моей фамилии.
— Ну, монаха со мной оставьте, мне нужно, господин мой, — она стала гладить его по щеке и целовать в губы, едва-едва касаясь их. — Господин мой, как же мне на бал идти, если я танцев не знаю.
Нет, нужно было ее в Эшбахт отправить. И трат бы не было ему, и волнений. Но как? Как отказать ей? То невозможно было. Кто бы смог отказать такой женщине, из которой юность, любовь и нега фонтанами бьет, заливая все вокруг сладостью жизни? От запаха которой, если рядом сидит, голова кружиться.
— Ладно, — наконец сказал он.
И получил то, чего ждал. Девушка так обняла его крепко, так сладко поцеловала, что не жалел он уже о тех деньгах, что тратил на нее, и не думал о них даже.
— Снять платье? — спросила она, отрываясь от губ его.
— Все снимай, — ответил он, не отрывая глаз от ее прекрасного лица.
Не было никого на этом свете, кому он доверял бы больше, чем ему. Волков не знал другого человека, которого любили и уважали все остальные люди. К которому шли и за светом, и за утешением, и за лечением. Солдаты и местные бабы с орущими детьми с утра заходили к нему в пустующий овин, который он использовал и как спальню свою, и как келью для приема больных. И никому он никогда не отказывал. Казалось, что брат Ипполит вообще не умел этого делать. Простодушное лицо молодого человека никак не отражало больших знаний и пытливого ума. Зато говорило всем, что человек сей добр до святости и терпелив без меры.
— Не смей дразнить его, — говорил Волков со всей серьезностью в голосе.
— Да разве я дразнила когда? Никого не дразнила, — врала Брунхильда.
— Не ври мне, сам видел, как ты из озорства перед ним подол до колен задирала, чтобы его смущать.
— Так то когда было, — тут же выкрутилась девушка. — Уж я не такая больше.
Вилков погрозил ей пальцем, сказал:
— Монах.
— Да, господин, — брат Ипполит тут же подошел к нему.
— Деньги ей не давай, — он протянул монаху один золотой.
У Брунхильды от такой несправедливости округлились глаза. Но кавалер и не глянул на нее, продолжал говорить монаху:
— Купишь ей два платья, два шарфа и одни туфли, больше ничего.
Девушка молчал, но по виду ее уже было ясно, что из монаха она вытрясет столько денег, сколько ей потребуется. А вовсе не столько, сколько господин велит.
— Снимешь комнату на неделю, да не в трактире, сам при ней будь. Она к учителю танцев будет ходить, так ты с ней.
Монах понимающе кивал.
— Раньше я к ней не лез, сама была себе хозяйской, а здесь она под моей фамилией ходит. Смотри, чтобы не опозорила она меня.
Девица фыркнула и закатила глаза, так и говоря без слов: «Господи, да что он несет?»
— За мереном и телегой следи, смотри, что бы не украли. Через неделю отвези ее в Эшбахт, я может ко времени тому уже вернусь туда сам.
— Все исполню, господин, — говорил монах. — Да хранит вас Господь в пути.
— Дозвольте хоть поцеловать вас, братец, — сказал Брунхильда.
Они расцеловались чинно, совсем не так, как целовались недавно, скромно. И Максимилиан придержал ему стремя, помогая Волкову сесть на коня.
Глава 45
Уж чего не нужно было Агнес, так это вторых уроков. Она и с первого раза все усваивала и все запоминала. Хватило ей того случая в Хоккенхайме, когда она от страха быть схваченной едва жива была, когда ноги да и все тело одеревенели. Мыслей в голове не осталось, а жил в голове ужас, который по членам растекался параличом. То свое состояние она запомнила навсегда.
Поэтому, решила вести себя тихо, быть острожной, быть такой, как и другие. Ходить в церковь, завести духовника, жениха завести. А может, и мужа себе выбрать, тихого да покладистого. Чтобы рта не раскрывал и покорен ее воле был. И главное — здесь, в Ланне, своих сил не проявлять никогда. Никогда без необходимости.
Вот и теперь она сидела за столом и слушала приказчика, что пришел от банкира и говорил ей:
— Угодно ли будет госпоже дом освободить по истечению месяца, или будет госпоже угодно принять новую цену за аренду?
— Новую? — спросила Агнес. — Отчего же она новая, почему вдруг?
— Господа мои считают, что цена сегодняшняя излишне низка.
У них есть желающие за большую цену дом снимать, — с миной невыразимой скуки на лице вещал приказчик. — Ежели госпоже не по душе новая цена, так может она до конца месяца дом себе новый подыскать, господа мои говорят, что если до конца месяца она дом себе не найдет, то времени ей дадут еще месяц, чтобы пожить по той же цене. А потом надобно ей будет съехать.
Он и его манера говорить подчеркнуто скучно, безразлично, и его непочтение выводили ее из себя, в былое время она уже вскочила бы и пошла к нему, пылая злобой от одного его тона. Но теперь она сидела и слушала его, подавляя свои порывы.
— И какова же будет новая цена? — спокойно спросила Агнес, когда он закончил.
— Отныне, вам платить придется одиннадцать талеров, — холодно сообщил приказчик.
Тон его был безапелляционен. Агнес спорить не стала, хотя хотела уже выцарапать ему глаза. Нужно было терпеть.
— Одиннадцать так одиннадцать. Ута, — позвал она служанку, — возьми в кошеле одиннадцать талеров, передай их приказчику.
Служанка быстро выполнила приказ и высыпала деньги в руку приказчика. И тот взял их без поклона и благодарности, так как будто он одолжение ей делал.
Она бы могла ему не дать ни пфеннига, обмануть, задурить его за одну только постную его морду, за тон его высокомерный, но Агнес не стала этого делать. Расплатилась сполна. И казала:
— Следующий месяц оплачен, ступай.
Опять не поклонившись, приказчик попрощался и пошел из дома.
Как он вышел, Агнес произнесла:
— Ута, кошель подай.
Служанка быстро принесла ей кошель и положила его перед ней на стол. Да, он был почти пуст. Был в нем всего один талер да серебра мелкого на пол талера. Конечно, у нее был еще гульден, но его тратить нельзя было. Все. Можно, конечно, было послать Игнатия к господину в Эшбахт, просить денег, но она не хотела. Она уже решила, что и сама может себя обеспечить. Не зря же она с Зельдой-горбуньей зелья варила. Книгу изучала Агнес, а ингредиенты искала Зельда. Да, не все получалось поначалу, но потом все вышло. Варили они два зелья, одно из них было таково, что выпив всего пару капель человек лишался памяти. Нипочем не мог он вспомнить, что с ним было вчера. То она проверила дважды на служанке. Лишь выпивала воды стакан, в которой было всего четыре капли, Ута тут же засыпала непробудным сном. Таким, что не просыпалась, даже когда Агнес пальцы ей свечой жгла. Когда поутру вставала, больна была головою и ничего вспомнить не могла, хоть Агнес у нее выпытывала немилосердно. Даже не могла сказать, откуда у нее на пальцах ожоги. А вторе зелье было еще более хитрое, с ним ей долго пришлось повозиться. И обошлось он ей недешево. Оно было так ценно для нее, что она не поскупилась и купила под него два красивых флакончика из хрусталя с резными крышками. Она хранила их в шкатулке, и эта шкатулка стояла перед ней на столе. Девушка была очень довольна тем, что у нее получилось. А уж как горбунья была довольна, так и словами не передать. Зелье это из книги Агнес взяла. И звалось оно там: «Эликсир страсти».
Стоило женщине едва две капли себе на шею капнуть, как мужчины, что ее запах вдыхали, начинали ей интересоваться. А если три, то и вожделеть. Зелье сие рождало похоть в мужах. Как сварили они его с горбуньей, так стали нюхать, ничего в запахе том для себя не находя приятного. Толи кошкой, толи подмышками воняло. И сначала Агнес даже подумала, что это дурь, неправда в книге, но решила все-таки испытать. И брызнула несколько капель на горбунью. На шею, под платком, да на лицо ей.
Та не противилась, даже бледное лицо ее раскраснелось от всяких мыслей. И после этого велела ей перебирать фасоль, белую от красной отделить. А в помощь ей позвала не Уту, а Игнатия. Кучер подивился такому заданию, но спорить не стал, сел рядом с горбуньей фасоль перебирать.
Агнес же позвала Уту с собой наверх покои. Но сама туда не пошла, прислонилась к стене на лестнице, стала тенью невесомой, из-за угла стала смотрела на спины Зельды и Игнатия, которые фасолью занимались. И прекрасно видела, как могучей свое рукой кучер вдруг взял горбунью за руку, та руку не отняла. Только посмотрела на него. И тогда он схватил ее за платок, за волосы, запрокинул ей голову и стал лицо ей целовать, а та только пищала по-заячьи. А он ей уже подол задирал, ноги ее голые гладил, лоно ее лапал грубо, затем валил с лавки на пол, исцеловал ей лицо, царапая его своей бородой, и брал прямо на полу. Агнес стояла, смотрела на то, как берет конюх горбунью и как та рыдает от счастья, и думала, что хорошее зелье у нее вышло и что Зельда теперь при ней накрепко будет. И что без денег теперь с такими-то зельями она не останется.
Ларец с зельями похоти ей так дорог был, что ставила она его перед собой на стол по вечерам и за стаканом вина доставала флаконы и разглядывала, как переливаются лучами они в свете свечи. Это были первые трудные зелья. Зелья, которые варились без нужной посуды, без весов. Не в маленькой печи, какая изображена на картинке в книге, а в большом камине. Но, тем не менее, они получились. Вышли такими, какими и нужно.
В этот вечер она уже думала о том, куда поехать, где и как их лучше использовать, чтобы заработать денег. Тут девушка услышала, как кто-то ломится в ворота. И Зельда с Утой тоже были тут, они услыхали стук. Смотрели на нее, ожидая распоряжения.
— Ута, возьми лампу и позови Игнатия, идите, поглядите, что за наглец на ночь глядя ломает ворота.
А стук в ворота продолжался. Стучали борзо. Еще и ругались в темноте.
— Вот я стукну сейчас, я стукну, — гаркнул Игнатий, беря на всякий случай палку с собой.
— Открывай, говорю, — заорали за воротами.
И так заорали, что Игнатий малость и притих, уж больно голос был дерзок.
— А кто там? Вы кто? — спросил он.
— Господин кавалер Фолькоф, хозяин дома, вот кто! — донесся из-за ворот звонкий молодой голос. — Отворяй немедля.
— Ну, раз так, — Игнатий отодвинул засовы.
Сразу же въехали люди, въезжали так словно не первый раз тут они. Один тут же спрыгнул с коня, стал другому помогать слезть, а тот как слез сразу сказал Игнатию и Уте:
— А ну-ка, вы двое, ко мне подойдите.
Третий приехавший тоже с лошади спрыгнул, у Уты лампу забрал и стал ее к ней и к Игнатию, к лицам подносить, разглядывать, сказал:
— Ишь ты, вон они какие, а этот и вовсе зарос как зверь, а ну, говорите, кто вы такие?
— Я служанка госпожи Агнес, — отвечал Ута, приседая, видно, она признала Волкова.
— Конюх госпожи Агнес, кучер еще, — сказал Игнатий.
— Этого я знаю, — произнес Максимилиан, приглядевшись. — Кажется, его Агнес от виселицы забрала.
Волков пригляделся к конюху, тот стоял, не шевелясь, ждал, что дальше будет, но кавалер ничего не сказал, пошел в дом.
Там на хозяйском месте во главе стола сидела Агнес с вином, ларцом и книгой.
Как увидела Волкова, так сразу вскочила, пошла к нему, присела так низко, что почти села на пол перед ним:
— Рада видеть вас, господин.
— Здравствуй, Агнес, — отвечал кавалер и кивнул на Зельду, что стояла, в почтении склонив голову. — Это еще кто?
— То кухарка моя, Зельда.
— Прислуги у тебя больше, чем у меня, — сказал Волков и пошел к тому месту, где только что сидела Агнес.
Уселся на стул, заглянул в книгу, что была раскрыта, чуть почитал и вытянув ноги сказал:
— Агнес, слуги у меня нет сейчас, помоги ка сапоги снять.
Ута и Зельда видели, как без разговоров и вопросов высокомерная суровая их госпожа пошла к гостю и, став на колени перед ним, стала снимать с него сапоги. А он морщился от боли. Агнес как увидала, что он боль терпит, так отбросив сапоги, тут же стала ему по ноге руками водиться, гладить и мять место чуть выше левого колена.
И суровый муж на глаза тут же подобрел. Даже госпожу Агнес погладил по голове, словно дочь свою, и спросил:
— Ну, как ты тут без меня?
— Справляюсь, слава Богу. Все, слава Богу, хорошо у меня. Молюсь за вас. Поминаю вас ежечасно.
— Да? А денег хватает тебе? — сказал он и снова поглядел на книгу, что лежала на столе перед ним.
— Хватает, — отвечала Агнес. — Больше не трачу денег я понапрасну.
— Значит, хватает? — Перепросил кавалер, видимо, не веря девушке. — На слуг, на дом, на коней и на книги такие?
— Всего у меня в достатке, — отвечала та спокойно. — Нужды ни в чем нет.
Волков открыл ларец и взял один из флаконов, что лежал в ларце:
— А это что? — рассматривая флакон, спросил он.
— Духи, господин, — тут же отвечала Агнес. — Благовония. Сама варила.
Она уже ругала себя за то, что не спрятала их с глаз долой.
— Духи? А не из этой ли книги эти духи? — с интересом спрашивал он.
— Из этой, господин.
— Дороги ли такие духи, сколько стоят, талер?
— Тридцать, господин, — отвечала Агнес, говорила то с умыслом, чтобы господин больше не спрашивал, откуда у нее деньги на слуг и коней.
— Тридцать? — удивился Волков, еще внимательнее разглядывая флакон. — Что ж в них такого?
— То госпожи покупают, коли на себя ими брызнут, так у мужей любовный раж просыпается, какого прежде и не было, — врала девушка, ни одного флакона она не продала.
— А ты проверяла? — спросил Волков.
— Конечно, — Агнес кивнула. — На горбунью свою брызгала, так конюх мой ее тут же на пол повалил, скакал на ней не хуже, чем на лошади. Она три дня потом счастливая ходила. Теперь только о муже и мечтает.
Волков посмотрел на Зельду, та стояла вся красная, глаза потупила. Руками платок комкала. Видно, про кучера не врала Агнес.
— Заберу себе один, — сказал Волков. — И, притянув к себе Агнес, тихо добавил суровым голосом: — Не вздумай на мне сие пробовать.
— Я бы не посмела, — так же тихо ответила девушка.
— Ладно, вели своим людям воду мне греть и ужин давать, устал я с дороги.
Зельда оказалась хорошей кухаркой. Ужином он остался доволен, пирог с кроликом и мягким сыром был хорошо выпечен, жирен и прян, хлеб свеж, а вино Агнес покупала хорошее.
Пока он ел, ему согрели воду, Игнатий наносил из колодца большой чан, Агнес его мыла сама, а Ута и Зельда помогали ей. Любое его желание выполняюсь беспрекословно. А как иначе, хозяин приехал.
Пока мылся, он говорил с Агнес про дела, про цены, про коней и про то, что банкиры за аренду стали больше просить. И Агнес говорила с ним обо всем разумно. Скоро ей шестнадцать лет должно уже быть, не ребенок уже. И то, что она не ребенок, глазастая Зельда заметила, когда Агнес господина мыла. Видно Зельде было, что для Агнес кавалер не просто господин, уж очень ласково она ему помогала. Старалась не от услужливости. Что рада она оттого, что так близко к телу господина допущена.
Но на мытье все и закончилось. Спать кавалер ушел в свои покои один. А Агнес уже в своих покоях надавала пощечин Уте, видно, та опять была нерасторопна.
Глава 46
Канцлер его Высокопреосвященства, викарий брат Родерик, давно не получал писем от епископа Вильбургского. Тот, видно, все еще дулся на архиепископа, брата своего единоутробного за то, что архиепископ присвоил себе прекрасную раку из Ференбурна. Он давно перестал писать канцлеру, и тот имел мало сведений о том, что происходит в верхах земли Рбенерее, чем дышат нобили той земли.
Поэтому он был рад, что Иероним Фолькоф, рыцарь божий, хранитель веры, господин фон Эшбахт по прозвищу Инквизитор привез ему письмо от епископа Маленского. Письмо то было объемно и писалось в нем о многом и о многих. Но суть была тревожна. Вот что писал канцлеру старый епископ:
Купцы и гильдии мастеровые изнуряют курфюрста постоянными просьбами о разрешениях торговать с севером. С землями, в коих проживают еретики. И городские нобили, и банки их в таких просьбах поддерживают. А земельные нобили, опора трона, такому совсем не противятся, так как тоже ищут сбыта своих богатств в землях, что стоят по реке Марте севернее. В землях еретиков. Поддавшись просьбам, герцог фон Ребенрее уже дозволил вернуться еретикам в дома свои в городе Ференбурге.
А их там без малого четверть было. А значит, дозволил им свои святилища богомерзкие поставить в те места, что им раньше принадлежали. Как без этого?
А еще курфюрст Ребенрее всячески ищет сближения и с еретиками на юге. Считая те земли богатыми и не без основания. Хочет с кантонами мир заключить, себе в корысть и назло церкви и императору.
Святая Матерь Церковь на сие пренебрежение безмолвно глядеть не может. Думаю, что надобно противиться тому. И для этого употребить человека того, что письмо вам привезет, он верен Матери Церкви и ловок, и умен при том. Делами своими он и Ференбурге и в Хоккенхайме себя проявил. А еще курфюрст ему жаловал лен, как раз в самом юге земли своей, на границе с кантонами. И то Церкви на руку будет. Если просить человека этого, то он устроит так, что мир между кантонами и землей Ребенрее возможным быть престанет. И в том я вижу большую радость для Престола Господня.
И много другого было в письме удручающего. И было печально канцлеру от того, что самый старый из всех епископов был прав в каждом слове своем. Канцлер давно видел, что в Ребенрее все меньше праведного огня. И что герцог все чаще с благосклонностью глядит на еретиков, которые готовы пополнить его казну.
Письмо было столь важным, что брат Родерик застыл над ним, только потирая ладонями лицо. Секретари монахи не решались тревожить его и напоминать, что у него полная приемная важных людей.
Наконец он решил, что письмо епископа важно настолько, что надобно о нем знать самому архиепископу. И сказал секретарям:
— Сообщите посетителям, что сегодня приема более не будет. Надобно мне у архиепископа быть.
Монахи возражать не посмели, хотя и думали об этом неодобрительно.
Август Вильгельм герцог фон Руперталь граф фон Филенбруг курфюрст и архиепископ Ланна был человеком сильным. Настолько сильным, что дух архиепископа не могла сломить истязающая его многие годы болезнь. Приступ этой болезни снова отравлял ему жизнь, он не мог ходить без помощи двух монахов, и доктор, и старая монахиня были при нем, но как только викарий принес важное письмо, он тут же принял его. Болезнь и боль не повод отлынивать от дел.
Архиепископ вынужден был сидеть, так чтобы ноги измученные подагрой все время были в тазу с отваром лечебных трав.
— Читай, — сказал он своему канцлеру.
И брат Родерик стал читать письмо от епископа Маленского в четвертый раз к ряду.
— Кого он имеет в виду? — спросил архиепископ, когда викарий закончил чтение.
— Это тот головорез, что привез нам раку из Ференбурга, — ответил канцлер.
— А, кажется, его звали кавалер Фолькоф, — стал припоминать курфюрст.
Брат Родерик был немало удивлен тем, что курфюрст помнит имя этого человека. Он улыбнулся и сказал:
— Восхищаюсь вашей памятью.
Архиепископ не любил лесть, он подвигал ногами в тазу, не очень-то, видимо, довольный этим лечением, махнул на викария рукой, и, поморщившись от боли, сказал:
— А еще он устроил Инквизицию в Хоккенхайме, и наш казначей говорит, что сильно помог нам избавиться от надоедливого нунция Его Святейшества, да простит меня Господь.
— Именно так, монсеньор.
— И ты, с епископом из Малена готовите ему новое дело?
— То было бы разумно, нам нельзя допустить того, чтобы курфюрст Ребенрее сдружился с еретиками.
— А как ты собираешься заставить этого головореза устроить свару на границе? Это ведь дело опасное, либо еретики его убьют, либо сеньор его в тюрьму кинет. Зачем ему это? Или ты дашь ему денег?
— В казне нет денег, — отвечал викарий, — думал я, что вам надобно его просить, вам он отказать не посмеет. Тем более, что дела опасные ему привычны.
— То есть, тебе нечего ему предложить, но ты собираешься просить его за тебя повоевать и просишь его поссориться со своим сюзереном? — архиепископ смотрел на викария с усмешкой.
Викарий молчал, он не понимал, почему бы головорезу не повоевать за интересы Святой Матери Церкви.
— Кто наградил его за Инквизицию в Хоккенхайме? — продолжал архиепископ.
— Наш казначей, брат Илларион говорил, что ему досталась часть денег из тех, что у ведьм взяты были.
— То есть, мы дали ему немного денег из тех, что он нам добыл? — курфюрст понимающе кивал головой. — А почести? Ты поблагодарил его?
— Думаю, что его поблагодарил брат Илларион, — сказал викарий.
Архиепископ вяло и разочарованно махнул на него рукой:
— Нет, не был бы ты великим государем, даже родись ты в семье государей, никто из великих мужей не стоял бы у твоего трона.
Он повернулся к одному из монахов.
— Брат Александр, вели принести мне мои доспехи. Кажется этот головорез, этот Фолькоф, моего роста?
Он немного льстил себе. Архиепископ был высок, но кавалер был выше, но об этом викарий говорить монсеньору не стал. Он только заметил:
— Если Ваше Высокопреосвященство думает подарить их головорезу, то я напомню, что за этот доспех мы заплатили шесть сот золотых эгемских крон мастеру.
— Безумная расточительность, — вздохнул епископ, — шесть сот крон, а надевал я его всего один раз, шесть лет назад, когда еретики стояли под стенами Ланна. Теперь я в него не влезу даже.
— Может это исправить, нам нужно найти мастера и попросить расширить кирасу.
— Расширить придется все, — неожиданно зло сказал архиепископ. — А что ты прикажешь мне делать с моими ногами? Может, найдешь мастера, чтобы и их исправить?
Викарий благоразумно не стал развивать эту тему, только поклонился.
— И продать его не удастся за хорошую цену, — продолжал курфюрст. — Так что подарим доспех головорезу. Какие цвета его герба?
— Лазурь с серебром, и черный ворон с факелом в когтях, — сразу и без запинки вспомнил канцлер.
— Вели найти шелка в моих кладовых: лазурь и серебро. Когда он явится за ответом?
— Завтра, монсеньор.
— Пусть к его приходу будет готов фальтрок[4] в его цветах, который можно буде носить поверх доспеха. И новый штандарт с его гербом. А на штандарте пусть будет крест, он ведь у нас еще и хранитель веры, кажется.
— Именно так, я распоряжусь немедля, — викарий снова поклонился.
— Перстень присмотри какой-нибудь в кладовой, да не очень дешевый выбери. — продолжал архиепископ. — Попробую уговорить его завтра.
— Я все сделаю, монсеньор, — сказал канцлер брат Родерик и пошел выполнять распоряжения.
Аббата отца Иллариона в монастыре не было, наверное, был он по своим казначейским делам. А вот брата Семиона он там отыскал, и тот был рад кавалеру неимоверно. Полез обниматься. Хоть Волков и не так ему был рад, но отстраняться не стал. И сказал после того как монах уже успокоился от радости и готов был слушать:
— Засиделся ты тут, я смотрю, салом оброс на монашеских харчах.
— А что, дело есть для меня? — сразу догадался брат Семион.
— Есть, епископ Маленский хочет тебя возвести на приход.
— Где? — обрадовался монах.
— В Эшбахте. У меня в поместье.
— А велик ваш Эшбахт? — спросил брат Семион.
— Глазом не обвесть, — отвечал ему Волков усмехаясь.
— А где?
— В земле Ребенрее, в графстве Мален.
— И какова там церковь? Новая, старая? — очень все хотел знать монах.
— Церкви там нет, строить будешь.
— Строить? — глаза монаха загорелись. — Сам?
— Не сам, рабочих наймешь, — Волков уже едва сдерживался от смеха, видя, как от алчности вращаются глаза брата Семиона. Как в голове его рождаются планы.
— А деньги на это богоугодное дело есть? — спросил монах.
— Есть, четыреста монет, да только забудь про них, я сам буду платить за все, — и не дожидаясь разочарования у монаха, продолжил. — Ты лучше расскажи, как тут все без меня было. Как Роха?
— Ну, — начал брат Семион. — Роха с кузнецом сдружился, тот вам оружие делает, а Роха с ним пьет. Те деньги, что вы мне оставили, так почитай все ваш Роха и забрал, говорил, что на кузню. То железа купить, то угля, то еще чего. У меня все его расписки сохранились, вам покажу. А еще Брунхильда приходила, брала пару раз, но не мелочилась. Последний раз, так три талера взяла, говорила, что к вам поедет. Расписки от нее тоже имеются.
— А Агнес?
— Госпожу Агнес, как вы уехали, так я, кажется, и не видал. За деньгами она точно не приходила.
Волков, пока монах болтал обо всем другом, об этом стал думать, не мог он понять, откуда у девушки деньга заводилась.
Может и вправду она зельями да снадобьями стала торговать. А монах ему рассказывал всякие сплетни, что доходили до него от дворца архиепископа или из города. Но то все были пустые новости, неинтересные. А монах говорил, пока кавалер его не прервал:
— Ладно, с аббатом попрощайся, и ко мне в дом ступай. Как канцлер меня отпустит, так назад, в Эшбахт поедем.
— Не терпится уже, — отвечал брат Семион.
— А Роха, где обычно бывает?
— Либо у кузни вашей с кузнецом, либо дома, на кабаки у него денег давно уже нет.
Раньше коридор между заборов, что вел к его кузнеце, был завален всякой дрянью и гнилью, а теперь весь, до середины заборов был засыпан золой. Так, что ехали они по совсем узкой от золы тропинке. Кавалер думал, что услышит молотки кузнечные, а там тишина была. Приехали, и не встретил их за воротами никто.
— Никого, что ли? — оглядывался Максимилиан.
— Вон, бродит одна, — сказал Сыч, спрыгивая с лошади.
Волков увидал у стены молоденькую бабенку, она видно по нужде ходила и не ждала тут гостей, была в нижней рубахе, голова ее была не покрыта и руки ее были голы. Увидав их, она заголосила:
— Яков, Яков тут люди какие-то!
Кузнец Яков Рудермаер сам был высок, и раздет по пояс, тут же появился на пороге кузни с молотком на длинно рукояти. Но узнал Волков и стал кланяться. Баба это увидела, побежала в хибары одеваться.
— Здравы будьте, господин, — сказал кузнец, и тоже вынес рубаху из кузницы.
— Здравствуй, Яков. — отвечал кавалер. — Я смотрю золы вокруг много, вижу, что без дела ты не сидел.
— Уж не волнуйтесь, пока уголь был, не сидел, — заверил его кузнец. — А как деньги кончились, так уже две недели сижу, бездельничаю.
— Сделал мне мушкетов?
— Сделал, — сказал он с гордостью и даже с упреком, чего мол сомневаетесь?
— И сколько?
— Двадцать восемь! — и опять в голосе кузнеца гордость.
— Хороши?
— Роха все проверял, те что с изъянами были, так мне на перековку приносил обратно.
— И где они?
— Роха говорил, что вам в дом все носит. Там ищите. Или у него спросите.
— Спрошу, — сказал Волков.
— Господин, — произнес кузнец.
— Да.
— Думаю, что пришло время, расплатиться вам со мной. Жениться я надумал, деньга нужна мне.
— И чего ты просишь?
— Лишнего просить не буду, думаю три талера с мушкета, за работу будет довольно.
— Немало ты просишь, — отвечал Волков, прикидывал, что это будут большие деньги.
— Так немало и работал я, — сказал Яков Рудермаер, кузнец-оружейник.
— Найди Роху, приходи вечером ко мне, посчитаемся.
— Приду, господин, — сказал кузнец, и оглянулся на подошедшую к нему женщину.
— И женщину свою тоже приводи к ужину, — сказал Волков.
— Спасибо, господин, — поклонился кузнец.
— Спасибо, господин, — поклонилась его женщина.
Глава 47
— Хилли и Вилли просили у меня мушкет, когда с нашими ходили воевать. Ты же знаешь, что наших опять мужичье побило? — Радостно говорил Игнасио Роха, скалясь непонятно чему.
Он вонял перегаром и чесноком и был, кажется, в самом деле рад, что Волков приехал. Поначалу даже целоваться полез.
— Знаю, — отвечал тот. — И что?
— Я не дал им мушкет, — говорил Роха. — Я сказал им, что это твой мушкет.
Волков мог вспомнить только двух людей, что обращались к нему на «ты». Один из них был сам архиепископ, а второй — вот этот вот заросший черной щетиной, вонючий и одноногий тип по прозвищу Скарафаджо.
— Ты бы их видел, когда они вернулись, — смеялся Роха, — мужичье неплохо им там надавало. Мальчишки совсем другие пришли, уже не те, что уходили.
— А где все мушкеты? — спросил Волков.
— Так здесь, у тебя. В чулане, я туда их складывал.
Сыч, кучер Игнатий, Максимилиан и кузнец Рудермаер стали ходить в чулан, выносить оттуда мушкеты, класть их на стол. А так же тащили оттуда аркебузы и арбалеты, про которые Волков уже и позабыл.
— Вы что, сделали другой приклад? — заметил кавалер, беря один из мушкетов в руки.
— Да, Роха сказал, что так ему удобнее целиться, — отвечал кузнец. — Я делал, как он просил.
— Да, так и в правду легче целиться.
Волков смотрел новый мушкет. Сделан он был хорошо, был крепок, железо плотно прилегало к дереву. Само железо было хорошо ковано и ствол у него был ровно просветлен. А под запальным отверстием приделана была удобная полка под затравочный порох. К мушкету шел еще и крепкий шомпол.
— Ну? — не мог уже ждать похвалы Роха. — Как тебе?
Волков приставил приклад к плечу:
— Удобно, но надо бы проверить.
— Хилли и Вилли и их сброд, все до единого проверили, мы весь порох, что у тебя был в чулане, на проверки извели, — спешил сообщить Скарафаджо. — У мальчишек теперь своя банда, всем им нравятся наши мушкеты, иногда собиралось пострелять из них по двадцать человек.
— И что, хорошая у них банда? — интересовался Волков.
— Сопляки, бродяги — сброд, — отвечал Роха. — Хилли и Вилли среди них кажутся матерыми.
Он поглаживал один из мушкетов, кузнец Рудермаер и его женщина сидели молча.
Волков знал, чего они ждут:
— Что ж, кузнец, — начал он, — значит, ты хочешь за свою работу три талера с мушкета?
— Именно так, господин, я работал от рассвета и до заката, — господин Роха подтвердит.
Волков еще раз взял оружие в руки. Да, оно было сделано на совесть. Он согласно покачал головой, положил мушкет и выложил на стол рядом с кузнецом четыре золотых.
Это было меньше, чем просил Рудермаер на шесть талеров. Но золото произвело на кузнеца, на его женщину да и на Роху такое впечатление, что они все не смели даже пошевелиться поначалу. Только смотрели на желтые кружочки. И уже потом кузнец, осмелев, стал брать гульдены в руки, стал давать их подержать своей бабе. Та чуть не целовала монеты, так рада была.
Роха тут подвинулся к Волкову, навалился на стол и заговорил заискивающе, дыша чесноком:
— Слушай, Фолькоф. Я тоже вложил в дело немало денег.
— Немало денег? — удивился тот. — И сколько же?
— Да какая разница? — морщился Скарафаджо. — Это же наше дело, не забывай, это я тебе его предложил.
— Да, я это помню, но мы еще не продали мушкеты. Ни одного не продали. А с кузнецом я расплатился, потому что он свою работу выполнил. А ты будешь ждать, когда у нас будет с них прибыль. И тогда только мы посчитаемся и поделим деньги.
Роха тяжко вздохнул, тут ему сказать было нечего, но он не унывал:
— Послушай, Фолькоф, тут дело такое… Надобно мне немного денег, — он посмотрел, как кузнец и его женщина все играются золотыми монетами. Как детей их лелеют. И продолжил: — Понимаешь, опять долги, опять кредиторы…
— Ты что, пропил все деньги? У тебя же целая куча серебра была, когда мы из Ференбурга вернулись.
— Понимаешь, брат-солдат, то да се… Как вода сквозь пальцы.
— Ты пропил все деньги, — сурово повторил Волков.
— Тебе легко говорить, — стал объяснять Роха, — а у меня уже четверо спиногрызов и жена злобная. С ними разве посидишь дома?! С ними с ума можно сойти!
— Ты болван, даже шляпу новую купить не смог!
— Ты говоришь как моя жена, — кривился Роха.
— Ты потратил кучу денег!
— Да, и прошу у тебя хотя бы двадцать монет в долг. Иначе меня хозяин выгонит из дома, я уже три месяца за него не платил.
— Максимилиан, — не отрывая глаз от Рохи, произнес Волков.
— Да, кавалер, — отозвался оруженосец.
— Поедешь к госпоже Рохе, к жене вот этого вот господина, спросишь сколько она задолжала хозяину, сколько булочнику и мяснику. Столько ей денег и дашь.
— Да, кавалер.
Роха, слыша это, опять кривился:
— Ну а мне? Хоть пять монет?
— На выпивку? — спросил Волков.
Роха не ответил. Тогда кавалер вытащил один талер и кинул его товарищу. Тот поймал монету и повертел ее в пальцах. Вид его был не очень радостен.
— Завтра меня будет ждать канцлер с утра. А после, как освобожусь, хочу посмотреть, как стреляют новые мушкеты, — сказал Волков, не заботясь настроением Рохи.
— Ладно, — кисло сказал Скарафаджо, все еще вертя в пальцах одинокую монету, — найду Хилли и Вилли. Они всегда рады пострелять.
Тут пришла Агнес, села по правую руку от господина и была приветлива со всеми. Особенно улыбалась Максимилиану. Но тот ей не улыбался и взглядов девушки избегал. Зельда с Утой стали подавать на стол. И утку жареную с вином, и зайца печеного в горшке, и говяжью печень с горохом, и жирные пироги с капустой и свиным салом, и сыры, и вина, и пиво, и хлеба. И все вкус имело отменный. Горбунья, что не говори, готовила отлично. Так хорошо, что Волков, наевшись, позвал ее к себе и при всех хвалил ее. Зельда цвела от счастья, да и Агнес улыбалась.
А когда гости разошлись, Максимилиан, Сыч, Игнатий уши уже в людскую спать, а Зельда с Утой убирали со стола и мыли посуду, Волков спросил у Агнес, что скромно сидела рядом.
— Так значит, в деньгах ты теперь не нуждаешься?
— Нет, господин, уже не буду я денег просить. У меня теперь свое ремесло, — говорила девушка.
И смотрела на кавалера таким взором чистым, что и не подумал бы он о ней, что промышляет она чем-то недобрым.
— Варить зелья — ремесло дурное, — не очень-то уверенно говорил он.
— Не во зло его делаю, и не привораживает оно, только желание в мужьях пробуждает. Для жен, что мужей вниманием обделены, то в радость большую, — спокойно и убежденно говорила девушка.
Так убежденно, что Волков и сомневаться в ее словах не мог.
— Все одно, осторожна будь. Смотри, чтобы не донесли.
— О том не печальтесь, никто не донесет, — улыбалась Агнес и сама в том была уверена.
Она прекрасно знала, что никто на нее не донесет.
— И слава Богу, — сказал кавалер, успокоившись, и встал. — Спать пойду, завтра важный день.
Он поцеловал ее в лоб, она поцеловала ему руку. Он пошел к себе, а Агнес велела принести себе еще вина и свою любимую книгу.
Еще посидеть чуть-чуть хотела.
Он сразу узнал банкира Ренальди из дома Ренальди и Кальяри. И тот его тоже признал сразу. Банкир выходил из приемной канцлера, а Волков как раз стоял и ждал, когда его позовут. Банкир раскинул руки для объятий. Он улыбался и был заметно рад Волкову. Волков тоже был рад ему. Банкир не стал говорить о том, что совсем недавно он поднял аренду на дом, который кавалер у него арендовал. К чему обсуждать эти мелочи? Как и положено, Кальяри спросил про здоровье, про ногу Волкова. Покивал с сочувствием и вниманием, восхитился его подвигом в Хоккенхайме, о котором до сих пор еще в городе судачили, порадовался его статусу помещика, спросил, хорош ли лен, а потом как будто вспомнил и заговорил о другом:
— Друг мой, помните, вы просили меня разузнать, что сталось с вашими родственниками, с вашей матерью и сестрами?
— Помню, вы разузнали? — еще бы он не помнил, он даже денег на то банкиру давал, хоть и немного, но давал.
И банкир, начал говорить:
— Два дня назад получил корреспонденцию. Видимо, я огорчу вас и обрадую, друг мой. Наш представитель в Лютцофе нашел ваших родных, но матушки вашей, да примет ее душу Господь, среди живых уже нет. И одной сестры нет, старшей. Она с мужем и двумя дочерями померла от чумы. Но от нее остался сын двенадцати лет. Мальчик живет с теткой, она ваша младшая сестра, Тереза Видль, урожденная Фолькоф. У нее две дочери. А муж ее тоже помер, не от чумы, а от чахотки. Живут — бедствуют.
Держать все в уме, оперировать десятками страниц текста и цифр было для банкиров обычным делом. Имена, цифры, города — все это в голове. Только в голове, не все можно доверить бумагам. Ренальди, хоть был и не молод, не заглядывал в бумажку, когда рассказывал кавалеру о его семье, он словно выучил все это. И Волков удивился бы такой памяти, но ему сейчас было не до того. Он немного опешил от всего, что слышал.
Банкир говорил ему о каких-то людях, которых кавалер даже не помнил, по сути, и не знал, ну кроме матери. Разве можно немолодую женщину, которой уже тридцать лет, считать своей сестрой, если ты помнишь ее совсем маленькой девочкой и вспоминаешь с трудом? Можно ли считать родственниками каких-то детей, о существовании которых ты только что узнал? Близкими людьми? Оказывается можно. Хоть и чувствовал он себя сейчас странно. Оказывается, он очень хотел их всех увидеть. И единственную сестру и племянников. Тем более, если они бедствуют.
— Кавалер, вас ожидает Его Высокопреосвященство.
Волков обернулся — рядом с ним стоял немолодой монах.
Полная приемная людей, важные господа стоят, ждут, но монах приглашает именно его.
— Да-да, — говорит он монаху рассеяно и тут же говорит банкиру: — Друг мой, прошу вас немедля писать своему человеку, чтобы передал им денег и чтобы сестру мою и племянников отправил ко мне, в землю Ребенрее, графство Мален, в пределы мои, в поместье Эшбахт.
При этом он достал из кошеля пять талеров и протянул их банкиру.
Тот сразу взял деньги и ответил:
— Ни минуты не волнуйтесь, сегодня же письмо пойдет в Лютцоф с вечерней почтой. Через пять дней ваша сестра получит деньги и ваш наказ ехать в ваше поместье.
Волков пожал ему руку, поблагодарил его и пошел за монахом. Его зачем-то ждал сам архиепископ, но сейчас кавалера это заботило мало, сейчас он думал только о своей сестре и племянниках.
Глава 48
— Ну, подойди ко мне, — говорил курфюрст, с трудом поднимаясь из кресла. — Сюда, сюда, к свету иди.
Окна в его недавно построенном дворце были огромны, под самый потолок. Свету много без ламп и свечей. Он вылез из кресла, ждал, пока Волков приблизится. Один из монахов поддерживал его под локоть. Тут же был и викарий, брат Родерик, канцлер Его Высокопреосвященства. Он улыбался кавалеру пустой улыбкой каменной статуи. Волков подумал, что викарий по-другому, наверное, и не может улыбаться.
— Чертовы ноги, не будь они так слабы, сам бы пошел к тебе на встречу, — говорил архиепископ, распахивая Волкову объятья и обнимая его. — Ну, как ты себя чувствуешь, наш герой? Казначей говорит, что ты сначала был ранен в Хокеенхайме разбойниками, а потом ведьмы наслал на тебя тяжкую хворь. Ты едва выжил.
— Все позади, монсеньер, — отвечал Волков и понимал, что эти вопросы не просто вежливость. Из уст курфюрста они звучали как теплое, человеческое участие. И от этого он еще больше проникался приязнью к архиепископу. — Сейчас уже здоровье мое хорошо.
— Ну и славно, славно, — говорил курфюрст и при этом гладил его по щеке и по волосам, — вижу, ты все тот же молодец. Крепок, горд.
Так гладил бы, наверное, Волкова его отец, будь он жив.
— Но я не доволен тобой, да, не смотри на меня так, не доволен, — говорил архиепископ, возвращаясь в свое кресло. — Ревность и зависть меня гложат, словно жену брошенную.
Волков теперь не понимал его. Он ждал пояснений.
Курфюрст уселся, монахиня помогла поставить ему ноги так, что бы меньше болели, сняла с него туфли, и он продолжил:
— Отчего же ты не к нам поехал сразу, а к этому Ребенрее. Неужели оттого, что этот мошенник жаловал тебе удел?
Теперь кавалер понял, куда клонит курфюрст, но пока не находил, что ответить.
— Да, да, я все знаю, как и то, что удел он тебе дал пустяшный, жалкий. Я бы такой жаловать постеснялся бы.
И вот тут Волков подумал, что полностью согласен с архиепископом. Да, он тоже бы постеснялся бы дать человеку заслуженному такие пустоши.
— Ну да ладно, Бог ему судья, а тебе, дураку, наука будет, — усмехался курфюрст. — Я тебе пока… — он сделал паузу и повторил многозначительно. — Пока! Земли жаловать не буду. Раз уж ты присягал Ребенрее, — он повернулся к монаху и сделал знак рукой. — У меня для тебя другой подарок.
Два монаха не без труда внесли что-то под тряпкой, то что было роста человеческого. Поставили к окну, к свету. И брат Родерик тряпку сорвал.
— Это тебе, — сказал Архиепископ. — Думаю, в пору будет.
Волков поначалу подумал, что это ошибка. На шесте с «плечами» висел доспех. То был доспех лучший, из тех, что кавалер видел вблизи. Кираса, шлем, поножи, наголенники[5], все в нем было великолепно. А уж как хороши были перчатки, так и описать невозможно. Доспех был темного железа с золотым кантом и узором по всей поверхности. С золотым узором. А на груди два ангела держали круг, на котором была надпись на языке пращуров:
«Во славу Господа. Именем его».
Кавалер разглядывал доспех, глаз не мог оторвать. Но даже прикоснуться боялся, хоть и стоял рядом.
— Ну что ж ты молчишь? — наконец произнес архиепископ. — Нравится тебе мой подарок?
— Это мне? — только и смог спросить Волков.
— Да уже не викарию, — засмеялся курфюрст, кивая на своего канцлера. — Тебе, тебе конечно. Это мои латы, один раз надевал всего. Сколько мы за него заплатили, викарий?
— Шестьсот золотых крон.
— Вот, деньги немалые, этот доспех делал лучший мастер Эгемии. Не помню имени его, да и ладно. Я бы тебе денег дал, может, деньги тебе нужнее, но у меня нет. Ты сам знаешь, подлец нунций выпотрошил мою казну, осушил досуха. Ну, говори, нравиться?
— Лучше доспеха я не видел.
— И я не видел, даже у императора нет такого. Доспех тебе в пору будет?
— Кажется, будет как раз, — произнес Волков, все еще не очень веря тому, что это великолепие предназначается ему.
— Это еще не все, — архиепископ опять сделал знак рукой, и монахи принесли из конца залы вещь из великолепного шелка. — Это фальтрок тебе к доспеху или как там вы, люди воинского ремесла, его называете.
— Ваффенрок, — сказал Волков, не отрывая глаза от прекрасной одежды из безупречно белых и ярко синих квадратов.
— Да, да, ваффенрок, точно, — вспомнил архиепископ. — И еще знамя, — он повернулся к монахам, — братья, несите штандарт кавалера.
Монахи тут же принесли ему большой и красивый штандарт с его гербом. Он тоже был безупречен.
— Видишь, распятие там, не каждый государь имеет право носить распятие на гербе, а ты же рыцарь божий и хранитель веры, долг свой чтишь неотступно, а значит, благословляю тебя казнь божью носить на знамени твоем. В реестровую книгу рыцарей Ланна и Фринланда будет записано, что достоин ты носить на гербе своем распятие Господа нашего. Отныне носи.
Волков подошел к креслу, где сидел архиепископ, стал на колено и когда курфюрст осенил его крестным знамением, он поймал его руку и поцеловал.
— Жаль, жаль, что Господь не послал мне сына такого, — со слезой в голосе говорил архиепископ. — Мои-то сыновья беспечны да распутны. Турниры, балы да пиры, вот, пожалуй, и все, на что они способны. Да еще свары разводить из-за владений. Из-за любой мелочи, из-за любого пустяка склочничают и грызутся.
Он вдруг снял с пальца перстень, золотой.
— Держи, надевай. Мне он от деда достался. Нашей фамилии перстень. Денег у меня нет, так его забери. Носи. Вспоминай меня.
— Спасибо, монсеньор, — сказал Волков и опять поцеловал руку архиепископа.
Он едва сдерживал слезы. Никогда в жизни его так не осыпали подарками и так не хвалили. Жаль, что слишком мало было свидетелей этих похвал.
— Надевай при мне, — сказал курфюрст и тут же вырвал перстень из рук кавалера, — дай я тебе сам его надену. Носи сам и не вздумай его дарить бабам, как бы хороши не были эти плутовки, это рыцарский перстень моих предков.
Он надел перстень на палец Волкова.
— Отлично сел, как будто хозяина нашел.
Кавалер опять поцеловал его руку. А архиепископ поцеловал его в макушку, словно сына своего целовал, и проговорил:
— Все, уходи, не то я слез не утаю. Забирай подарки и ступай. И не забывай меня старика.
Волков поднялся с колен, монахи принесли ящик и быстро уложили туда доспех, штандарт и ваффенрок, они уже даже пошли к двери с ящиком, Волков тоже кланялся и хотел было уже уходить, но тут заговорил канцлер брат Родерик.
— Монсеньор, может, пока рыцарь тут, попросим его о нашем деле.
Волков остановился.
— О каком еще деле? — не мог припомнить архиепископ.
— О том, о котором я вам говорил. Про герцога Ребенрее и еретиков.
— Ах, вот ты о чем, — вспомнил курфюрст. — Да, да. Сын мой, — он заговорил с Волковым, — сеньор твой, герцог фон Ребенрее, стал сближаться с еретиками, на севере ведет переговоры с Левенбахами, дозволил еретикам вернуться в Ференбург, на юге думает мириться с кантонами, с проклятыми горцами… Мы видим в том угрозу нашей Матери Церкви. Примирения с теми, кто вешал монахов и святых отцов и грабил монастыри и храмы недопустимо. Ни Его Святейшеству папе, ни Его Величеству императору подобный мир неугоден.
Кавалер не понимал, к чему курфюрст ведет, а тот продолжал:
— Жалованный тебе удел как раз на границе земли Реберее и кантонов?
— Да, через реку.
— И как ты с горцами живешь?
— Дважды они уже жаловались графу на меня.
— Вот и прекрасно, — заулыбался курфюрст. — Пусть и дальше жалуются. Не давай подлому миру случиться. Бери у них все, грабь их людишек.
— Грабить? — удивился Волков.
— Да, грабь. Для благородного человека в грабеже укора нет, грабеж с открытым забралом это не воровство, так что грабь их, бери что нужно, купчишек под залог хватай, досаждай, как только можешь, пусть к графу ездят, жалуются.
— Но мой сюзерен настрого запретил мне досаждать соседям, — растерянно произнес Волков. — Герцог фон Ребенрее…
— Герцог фон Ребенрее! — курфюрст вскочил, забыв про больные ноги, подошел к кавалеру, и заглядывая ему в глаза, заговорил с жаром: — Герцоги фон Ребенрее еще сто пятьдесят лет назад были просто Маленами. Никакими не герцогами, просто фон Маленами. А триста лет назад эти Малены собственноручно землю пахали. Мои предки Руператли ходили в крестовые походы и строили бурги, а Малены ковырялись в земле и навозе. А теперь они будут решать, быть ли миру между империей и кантонами? — он помахал пальцем пред носом у Волкова. — Нет, не будут. И не дозволишь им сделать этого именно ты.
Курфюрст с трудом пошел к своему креслу, монах тут же стал помогать ему.
— Я знаю, герцог Ребенрее крут, — говорил архиепископ, усаживаясь в кресло и морщась при том от боли. — Вассалам своим рубит головы за все, что считает предательством. Но тебе нечего бояться, святая матерь церковь не даст тебя в обиду. Епископ города Малена будет твоей опорой, он сам вызвался. А если надо будет, так и императору напишем, уж ему мир с горцами точно не нужен. Так что не волнуйся, грабь.
То, что император и горцы друг друга ненавидели, Волков знал, во всех войнах горцы всегда вставали как раз против императора. Ненависть между домом императора и кантонами длилась уже лет этак двести. Но все равно кавалер еще сомневался.
— Не бойся, говорю тебе, — продолжал архиепископ. — Мы не дадим тебя в обиду.
— Напрасно вы думаете, что я боюсь, — не без высокомерия сказал Волков.
— Да, я неправильно выразился. Уж в чем, в чем, а в храбрости твоей никто не сомневается. Но вижу я сомнения в тебе.
— Конечно видите, я клялся пред рыцарями в верности сеньору. Говорил, что приму его суд и назову братом старшим.
— А вы и не предавайте, — вдруг сказал брат Родерик, до сих пор молчавший, — одно дело предательство, а совсем другое дело ослушание. Тем более что вы уже ослушались вашего сеньора, раз горцы уже дважды приходили на вас жаловаться графу.
— Вот тебе и ответ, — поддержал его архиепископ, — грабь их. Бери все себе или со всего бери мзду. А кто из купчишек противиться будет, так самого его бери по выкупу. А если герцог решит тебя судить, так мы выручим, — произнес курфюрст и добавил с пафосом. — От лица Святой Матери Церкви обещаю тебе спасение.
— Все, что по реке плывет, все мое? А купцов из Фридлянда тоже грабить? — все еще сомневался кавалер.
— Фринланд — вотчина Его Высокопреосвященства, — заговорил канцлер, — о том и речи быть не может.
Но архиепископ махнул на него рукой и сказал Волкову:
— Грабь. Грабь и их.
И канцлер, и Волков смотрели на него с удивлением. А он, улыбаясь, пояснял:
— Зажирели купчишки, золотишком обросли. Шесть лет как война их не трогает, так забогатели, спесью обзавелись. Лишний раз не поклоняться, пошлины платить не желают, все вокруг таможни проскочить норовят. Бери с них мзду за проход по реке, а заупрямятся, так грабь безжалостно, грабь их до тех пор, пока они к моему трону на карачках не приползут и слезно не попросят защитить от тебя.
Волков молчал удивленный.
— Нет у меня денег дать тебе в награду, — продолжал архиепископ, — так сам их на реке возьми. Слава Богу, рука у тебя крепка и людишки верные имеются. Иди и стань богатым. А если кантон или герцог на тебя разъярятся и войной на тебя кто пойдет, так уходи ко мне во Фринланд, я не выдам. Слово мое на то даю. Канцлер напишет письмо к капитану моему, зовут его фон Финк. Отвезешь ему письмо и познакомишься с ним. И ни о чем больше не волнуйся, Святая Матерь Церковь с тобой, а значит, и Господь с тобой.
Волков стоял во дворе дворца курфюрста и смотрел, как красивый ящик с доспехом слуги грузят в телегу. Максимилиан подвел ему коня. Он видел, что с ним что-то не так, и спросил:
— Кавалер, все ли в порядке с вами?
— А что такое?
— Вид у вас не такой, как обычно.
— Просто думаю, что мне замок будет нужен. И замок не маленький.
— Замок?! — обрадовался юноша. — Замок — это прекрасно.
— Да, прекрасно, — повторил Волков задумчиво. — И безопасно к тому же. Поехали, нужно пообедать и проверить, что за мушкеты сделали мне кузнец с Рохой. Кажется, эти мушкеты нам понадобятся.
Глава 49
Да кто бы смог удержаться, приехав домой, тут же не начать примерять на себя великолепный доспех? Как ящик открыли, как выложили части доспеха на стол, так Максимилиан, Сыч да и все, кто был в зале, даже Агнес, стали восхищаться этой роскошью.
Волков сел на лавку, и Максимилиан с Сычем стали надевать на него латы. Он не стал надевать ни кольчугу под доспех, ни стеганку.
Надевал его на одежду, но даже так ему ничто нигде не мешало, не терло, не вписалось в тело. Все было продумано и удобно, хоть спать в нем ложись. Когда все было уже на нем, кроме шлема, он сказал:
— Зеркало мне.
Ута и Игнатий принесли сверху, из покоев, зеркало, поставили его перед ним, а он стал смотреть на себя, поворачивался боками, приседал чуть-чуть, выставлял ноги, то одну, то другую. И не мог насмотреться, нарадоваться. Не было упрека этому доспеху ни в чем. Он тогда велел Максимилиану шлем надевать. И даже в глухом шлеме с закрытым забралом он не чувствовал он себя неудобно. Только звуки стали заметно глуше, и обзор заметно поубавился. Но случись надобность, он бы в этих латах долго бы смог простоять. Хотя заметил он, что этот доспех, доспех рыцарский, намного тяжелее его пехотного доспеха. Но и крепость его была с пехотным доспехом несравнима.
— Кавалер, о чем вы думаете? — спросил его Максимилиан, когда он минуту неотрывно смотрел на себя в зеркало, сняв только шлем.
— Думаю, выдержит ли эта кираса или шлем пули из аркебузы в упор. Болта из арбалета выдержит ли?
— И что надумали?
— Не удивлюсь, если выдержит. Уж больно хорошо железо и безупречна работа.
А тут и Роха пришел, увидал доспех, стал восхищаться и охать, спрашивать, где он взял такую красоту. Волков хвалился, что архиепископ ему это подарил. И так ему доспех нравился, что когда Зельда стала обед подавать, так он за стол сел, лат не снимая, кроме шлема. И ел в латах, словно обедал на поле боя.
А после обеда велел Игнатию запрягать телегу. В ту телегу сложил все мушкеты, аркебузы, арбалеты и остатки пороха с пулями. И поехали они к западным воротам, где их ждали Хилли, Вилли и те люди, которых они звали, чтобы мушкеты проверить.
Волков ехал по городу в доспехе, не стал его снимать, не смог, надев поверх него прекрасный ваффенрок в бело-голубых квадратах. И конь его был под стать седоку. Кавалер ловил восхищенные взгляды простонародья, радушно кланялся знакомым лицам уважаемых людей. За ним ехали Роха, Максимилиан и Сыч на телеге. Так выехали они за западные ворота, где и повстречали Хельмута и Вильгельма. И еще пять десятков людей, что они привели с собой.
Хельмут и Вильгельм выросли заметно, в прошлый раз, когда шли они с ним в Ференбург, так были они едва ему по плечо. А сейчас вытянулись на солдатских харчах, стали долговязы, уже пух на подбородках стал на щетину похож. Они радовались встрече и кланялись кавалеру, рассказывали наперебой, как неудачно с городским ополчением ходили на восток бить взбунтовавшихся мужиков и как не были довольны офицерами, как те офицеры плохи были по сравнению с ним. Они много ему наговорили приятного и сами заметили, как хорош его доспех.
Потом стали мишени ставить и стрелять из мушкетов. Волков сидел на пустом бочонке и смотрел. Людишки, что пришли с Хилли и Вилли, были так себе — бродяги да шваль. Суетились, толкались, собачились, мало попадали.
Роха уселся рядом с ним на траву, и посмотрев на его лицо, сказал понимающе:
— Да, людишки — дрянь, не солдаты. Ну, так весь сброд с города собрался.
— Если с такими мы ходим воевать, то и не мудрено, что мужичье нас бьет, — сказал Волков.
— Разогнать их, может? — спросил Роха. — Все одно — порох лишь понапрасну переводят.
Волов промолчал.
Тогда Роха заорал:
— Хилли, Вилли, идите сюда.
Молодые солдаты быстро пошли к нему. Стали рядом, готовые слушать приказы и выполнять их.
— Господину не нравиться этот сброд, — сказал Роха.
— Нам и самим не нравится, — отвечал Вильгельм, оглядываясь на городских бродяг.
— Что, разогнать их всех? — спросил Хельмут.
Волков помолчал немного и ответил:
— А сколько вам потребуется времени, чтобы сделать из них стрелков?
Казалось, вопрос прост. Но Хилли и Вилли удивленно уставились на Роху, мол ты старший, ты и говори. А Игнасио Роха по прозвищу Скарафаджо также удивленно смотрел на Волкова.
— Ну, — произнес тот, — чего замолчали? Что вам надо, чтобы из этих бродяг сделать хороших солдат?
— Кажется, ты опять что-то затеваешь? — сказал, наконец, Роха, почесывая бороду. — И сдается мне, что дельце будет опять опасное, но прибыльное.
Хилли и Вилли ждали ответа Волкова, взгляды их выражали и надежду, и испуг одновременно, и он, увидав выражения их молодых лиц, отчего-то засмеялся. Вильгельм и Хельмут тоже стали смеяться. Только немного неуверенно и нервно. И Роха тогда громко захохотал с ними, широко разевая рот.
А людишки города Ланна, что пришли с Хельмутом и Вильгельмом в надежде, что их возьмут в солдаты, смотрели, как их господин в драгоценных доспехах, какой-то чернобородый и одноногий его помощник и два молодых солдата отчего-то хохочут весело.
Они не понимали, отчего они смеются. И думали, что над ними, но не обижались. Пусть господа смеются, лишь бы взяли в солдаты. У солдат жизнь сытая и веселая. Хоть и недолгая.
Утром, едва светать начало, Агнес целовала руку господина, провожала его до ворот. Кавалер и люди его уезжали, забрав из дома все оружие, кроме пушек, что стояли на дворе. Девушка обещала в его отсутствие блюсти дом и пушки и не бедокурить. Она, вроде, и грустила, что господин уезжает, но тут же радовалась тому, что снова остается одна за хозяйку в большом и красивом доме.
Когда Игнатий запер ворота, она вернулась в дом, села у камина за стол, поставила перед собой шкатулку и открыла ее. Там лежали всего две вещи, два флакона. Один красивый: то было зелье возбуждения, то зелье, что у мужей порождает страсть. И второй флакон, флакон кривой, из плохого стекла. То было зелье затмения, то зелье, что у человека отбивает память. Так отбивает, что не может он вспомнить, что с ним было вчера вечером и днем. Совсем не может.
Агнес не могла решить, что ей делать дальше. Очень девушке хотелось нанести визит книготорговцу Удо Люббелю. Много, много было у нее к нему вопросов. Но вот денег у девушки осталось совсем мало. Только один золотой гульден и один талер, а остальное она потратила на еду и питье для господина и его людей.
Агнес посидела немного, подумала, как быть ей и, решив, крикнула:
— Собака, горбунья, рваная морда, все сюда идите.
Ута, Зельда и Игнатий тут же пришли, встали у стола и слушали ее.
— Завтра поутру выезжаем. Карета и лошади что бы готовы были к рассвету. Еду в дорогу надо взять. И одежду мне лучшую с чулками и рубахами. Собирайтесь, за деньгами едем, на заработки.