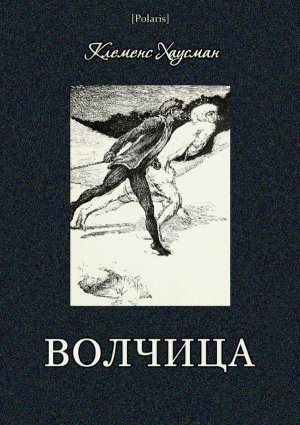
Незабвенной памяти
Э. В. П.
«Ты будешь иногда думать обо мне?»
Просторная горница усадьбы была озарена пылающим огнем очага и гудела от смеха, разговоров и шума работы. Никому не дозволялось бездельничать, кроме самого меньшего и самой старой — маленького Рола, обнимавшего сейчас щенка, и древней Треллы, чьи усыхающие руки возились с вязаньем. Наступил ранний вечер, и с десяток или больше батраков собрались в длинной комнате. Несколько человек занимались резьбой, и им были предоставлены лучшие и наиболее освещенные места; другие мастерили либо чинили рыболовные снасти и упряжь, а три пары рук плели большой невод. Почти все женщины разбирали и перемешивали гагачий пух или мелко рубили солому. Здесь же стояли недвижные ткацкие станки; но колеса трех прялок стрекотали наперебой, и самая тонкая и быстрая нить из трех бежала между пальцами хозяйки дома. Рядом несколько детей были поглощены плетением фитилей для свечей и ламп. В центре каждой кучки работавших горела лампа, а сидевшие поодаль от огня согревались живым теплом двух жаровен с тлеющими древесными угольями, запас которых время от времени пополнялся из щедрого очага. Отблески его пламени плясали в самых темных уголках, далеко за пределами бледных пятен света от ламп.
Соскучившись играть со щенком, маленький Рол тотчас выпустил его из рук и набросился на Тира, старого волкодава. Пес дремал, скуля и дергаясь в своих охотничьих снах. Рол растянулся ничком рядом с Тиром, его детские ручки обвили мохнатую шею, кудри касались черной морды. Тир небрежно лизнул мальчика в щеку и потянулся с сонным вздохом. Рол призывно рычал, перекатывался с боку на бок и толкался, но старый пес лишь спокойно терпел и рассеянно помаргивал.
— Так вот тебе! — воскликнул Рол, возмущенный таким пренебрежением к своей особе, и кинул щенка на спину этого воплощенного достоинства, презревшего в нем товарища по играм.
Пес не обратил на щенка никакого внимания, и мальчик побрел прочь, чтобы поискать развлечений где-нибудь еще.
В дальнем углу он заметил корзины с белым пухом. Он скользнул под стол и пополз на четвереньках — обычная манера ходить на двух ногах ему была не по душе. Оказавшись возле женщин, Рол некоторое время полежал неподвижно, упершись локтями в пол и подперев подбородок ладонями.
Одна из работниц, заметив его, кивнула и улыбнулась, и вскоре он выскользнул из-за ее юбок и стал тихонько перемещаться между женщинами, пока не нашел случая завладеть пригоршней пуха. Затем мальчик вновь пересек под столом горницу и вынырнул рядом с прядильщицами. Здесь он свернулся калачиком у ног самой молодой, укрывшись за ее коленями от посторонних взглядов, и предупредил ее вмешательство, тайком протянув с доверчивой улыбкой кулачок со своей драгоценностью.
Двусмысленный кивок девушки Рол воспринял как разрешение и тут же приступил к задуманной игре. Взяв клочок белого пуха, он осторожно выпустил его из пальцев рядом с вращающимся колесом. Ветер, поднятый стремительным движением, подхватил пух, закружил его все расширяющимися кругами, и наконец пушинка поплыла в воздухе, как неторопливая белая бабочка. Глазки Рола вспыхнули от восторга, зубки сверкнули в беззвучном смехе. Закружился еще один белый клочок, и еще один, как крылатый мотылек в паутине — и поплыли вслед за первым. Но вскоре горстка пуха иссякла.
Рол подался вперед, осматривая горницу и раздумывая о новом путешествии под столом. Плечом он на миг задел колесо прялки и поспешно отодвинулся. Колесо дернулось, возобновив вращение, и нить оборвалась.
— Непослушный Рол! — сказала девушка.
Самое быстрое колесо тоже остановилось. Хозяйка дома, тетка Рола, наклонилась и, увидев внизу кудрявую головку, велела мальчику не шалить и отослала его в угол, где сидела старуха Трелла.
Рол повиновался и через несколько минут благоразумной сдержанности снова начал бочком пробираться по комнате, стараясь не попадаться тетке на глаза. Когда он очутился среди мужчин, те подняли головы, проверяя, лежат ли их инструменты рядом, подальше от ручек Рола. Тем не менее, мальчик вскоре стащил отличное долото и опробовал его на ножке стола. Решительные возражения резчика на сей счет привели Рола в замешательство, и он на целых пять минут скрылся под столом.
Сидя там, как отшельник, он разглядывал множество ног — настоящий лес ног окружал его, почти заслоняя свет. И как же странно выглядели некоторые ноги: одни были искривлены в тех местах, где ногам полагалось быть прямыми, другие в положенных местах изгибов торчали прямо, будто палки, и все они, как сказал себе Рол, казались «приколоченными по-разному». Иные были скромно спрятаны под скамьи, другие протянуты далеко под стол, вторгаясь в личные владения Рола. Он вытянул свои короткие ножки и оглядел их поначалу критически, а после, сравнив с прочими — благосклонно. Почему не все ноги сделаны так, как у него, или так, как вот эти?
Ноги, заслужившие одобрение Рола, находились чуть в стороне от остальных. Он подобрался поближе и опять сравнил их со своими. Лицо мальчика помрачнело: сколько бесчисленных дней должно пройти, прежде чем его ноги тоже станут длинными и сильными! Рол надеялся, что они будут точно такими же, с ровными костями и крепкими мышцами.
Несколько мгновений спустя длинноногий Свен почувствовал, как маленькая ручка ласкает его ступню, и, посмотрев вниз, встретился взглядом с поднятыми вверх глазами своего маленького двоюродного братца Рола. Лежа на спине, Рол продолжал нежно поглаживать ногу молодого Свена и долго оставался спокоен и счастлив. Он следил за движениями сильных искусных рук, сжимавших блестящие инструменты. Порой Свен сдувал мелкие опилки, и они падали Ролу на лицо. Но вот мальчик осторожно приподнялся, боясь вызвать резким толчком недовольство мастера и, обхватив ногами и руками ногу Свена, положил голову ему на колено — жест чудесного детского преклонения перед героем.
Рол был более чем доволен, ибо Свен на миг прервал свою работу, шутливо обратился к нему, погладил его по голове и потрепал кудри. Рол сидел тихо, насколько позволяла это ребячья непоседливость, и Свен позабыл о нем. Резчик даже не почувствовал, как Рол бережно выпустил его ногу — и вовсе не заметил, как был ловко похищен один из его острых инструментов.
Не прошло и десяти минут, как снизу, с пола, донесся жалобный вопль, вскоре достигший всей мощи здоровеньких легких Рола: его рука была рассечена поперек, и обильное кровотечение ужаснуло мальчика. Последовала суета, утешения, рану промыли и перевязали, заплаканного и подавленного ребенка немного побранили и, когда его громкий крик перешел в редкие всхлипывания, отослали обратно к скамье у очага, на которой клевала носом старая Трелла.
После внезапной боли и испуга тихий уголок у огня даже понравился Ролу. Да и Тир больше не пренебрегал им: пробужденный рыданиями, он выказал всю собачью заботу и сочувствие, облизывая ребенка и сочувственно глядя на него. Кроме того, Рол ощущал легкий стыд. Зря он так плакал. Он вспомнил, как однажды Свен вернулся домой с убитым медведем; разодранная у плеча рука охотника бессильно свисала, губы его побелели от боли, однако он ни разу не поморщился и не издал ни звука. И бедный маленький Рол еще раз всхлипнул, подумав о своем малодушии.
Свет и тени языков пламени стали нашептывать мальчику причудливые истории, а ветер в трубе то и дело утвердительно подвывал. Огромное черное жерло дымохода, нависшее высоко над очагом, поглощало, как таинственный омут, сизые клубы дыма и сверкание возносящихся искр; а там, высоко во тьме, слышался ропот, раздавались стоны и загадочные шорохи, так что порой дым в страхе устремлялся назад и тучами поднимался к крыше, где незримо растворялся среди стропил. А потом ветер начинал отчаянно гоняться за своей потерянной добычей и носиться вокруг дома, стуча и визжа у двери и окон.
После одного особенно яростного порыва наступило затишье, и Рол удивленно поднял голову и прислушался. Гомон голосов также смолк, и за дверью со странной отчетливостью можно было различить какие-то звуки — детский голосок, стук детских рук. «Откройте, откройте, впустите меня!» — пропищал этот тоненький голосок где-то внизу, пониже дверной ручки, и засов задребезжал, как будто ребенок, встав на цыпочки, дергал дверь. Вновь раздался тихий, слабый стук.
Один из работников, сидевший у двери, вскочил и распахнул ее.
— Здесь никого нет, — сказал он.
Тир поднял голову и испустил громкий, протяжный, зловещий вой.
Свен, не в силах поверить, что слух обманул его, встал и направился к двери. Стояла темная ночь; облака набухали снегом, падавшим урывками, когда ветер утихал. Нетронутый снежный наст тянулся до самого крыльца; никого не было видно или слышно. Свен напряг глаза и огляделся, но увидел лишь темное небо, первозданно чистый снег и стену черных елей на вершине холма, клонящихся под ветром.
— Наверное, это был ветер, — сказал он и закрыл дверь.
Многие выглядели испуганными. Звук детского голоса был так отчетлив — и эти слова: «Откройте, откройте, впустите меня!» Ветер мог скрипеть деревом или дребезжать засовом, но не умел говорить детским голосом и стучаться мягко и тихо, точно пухлый детский кулачок. Вдобавок, этот странный, необычный вой волкодава — дурное предзнаменование, как ни крути. И люди говорили друг с другом о неизведанных и странных вещах, пока укоризненное замечание хозяйки не вынудило их перейти на еле слышный шепот. После и он растворился в молчании, и какое-то время в горнице царила неловкая скованность; затем холодный страх понемногу растаял, и снова поднялся гул разговоров.
Но спустя полчаса негромкая возня за дверью заставила все руки и языки замереть. Все подняли головы, все устремили взгляд на дверь.
— Это Христиан, он опаздывает, — сказал Свен.
Нет, нет, то было слабое шарканье, а не поступь молодого человека. Неуверенные шаги приблизились, послышалось тяжелое постукивание палкой по двери и пронзительный старческий голос завопил: «Откройте, откройте, впустите меня!» И снова Тир вскинул голову в долгом печальном вое.
Резкий голос и постукивание палки стали удаляться, но Свен уже бросился к двери и широко распахнул ее.
— Опять никого, — спокойно произнес он, хотя в глазах его стоял страх. Он видел пустынную снежную долину, низко плывущие облака, а между ними — стену темных елей, клонящихся на ветру. Свен закрыл дверь, не сказав больше ни слова, и вновь пересек комнату.
Побледневшие лица повернулись к нему, словно ожидая разгадки тайны. Под этими немыми вопрошающими взглядами впору было утратить всякую решительность и самообладание. Свен в замешательстве глянул на хозяйку дома, потом снова на перепуганных людей и торжественно, перед всеми, осенил себя крестным знамением. Руки затрепетали в воздухе, когда все перекрестились вслед за ним, и мертвая тишина всколыхнулась, как от громкого вздоха: люди задышали свободнее, словно знак креста принес им волшебное облегчение.
Даже хозяйка, мать Свена, была встревожена. Она оставила свою прялку, подошла к сыну и заговорила с ним так тихо, что никто не смог ничего разобрать. Но миг спустя ее голос снова стал резким и громким, ибо все обязаны были услышать упрек в «языческой болтовне», брошенный ею одной из девушек. Быть может, она пыталась заглушить этим укором собственные опасения и дурные предчувствия.
Все прочие невольно заговорили теперь вполголоса. Приглушенный рокот голосов порой прерывался, и горницу окутывала тишина. Инструменты двигались по возможности бесшумно и тотчас замирали, когда дверь начинала постукивать от порывов ветра. Через некоторое время Свен поднялся, направился к работникам, сидевшим ближе других к двери, и стал бродить вокруг них под предлогом советов и помощи неумелым людям.
Снаружи, на крыльце, послышались мужские шаги.
— Христиан! — разом произнесли Свен и его мать, он уверенно, она внушительно, дабы вновь запустить остановившиеся было колеса прялок. Однако Тир поднял голову и разразился ужасающим воем.
— Откройте, откройте, впустите меня!
Голос был мужским, и дверь тряслась на петлях и содрогалась от ударов мужской руки. Свен видел, как доски ходили ходуном, и быстро распахнул дверь, но перед ним оказалось лишь пустое крыльцо, а дальше — только снег, небо и еловые ветви, колышущиеся на ветру.
Он долго стоял, придерживая дверь. Буйный ветер врывался в горницу волнами ледяного холода, но холод страха опережал его и словно замораживал биение всех сердец. Свен отступил назад и поднял огромный плащ из медвежьей шкуры.
— Свен, куда ты собрался?
— Не дальше крыльца, мама, — и он вышел, закрыв за собой дверь.
Он завернулся в тяжелый мех и, прислонившись к самой защищенной от ветра стене крыльца, собрался с духом, чтобы встретиться лицом к лицу с дьяволом и всеми его присными. Изнутри не доносилось ни звука; слышался лишь треск и рев огня.
Было очень холодно. Ноги Свена онемели, но он не решился притоптывать ими, боясь испугать оставшихся в доме. Он не сдвинулся с крыльца и не оставил ни единого следа на нехоженой белизне. Снег лег на землю не менее двух часов тому, и значит, некому было бродить у дома, стенать и стучаться в дверь. «Когда ветер утихнет, снега выпадет еще больше», — подумал Свен.
Почти целый час он простоял на страже и не увидел ни одного живого существа, не услышал ничего необычного.
— Я больше не стану здесь мерзнуть, — пробормотал он и вернулся в дом.
Одна из женщин издала сдавленный крик, когда Свен приоткрыл дверь, а затем вздохнула с облегчением, когда он вошел. Никто его не расспрашивал, только мать спросила с напускным равнодушием: «Ты не видел Христиана?» — как будто ее беспокоило лишь отсутствие младшего сына. Едва Свен подошел поближе к огню, как в дверь отчетливо постучали. Тир вскочил со своего места у очага, его глаза были красными, как огонь, оскаленные клыки белели в черной пасти, шерсть на шее встала дыбом; перепрыгнув через Рола, пес бросился к двери, яростно лая.
За дверью раздался звонкий мелодичный голос. Лай Тира заглушил слова.
Никто не поспешил открыть. Все смотрели на Свена.
Он решительно подошел к двери, отодвинул засов и распахнул дверь.
В горницу скользнула женщина в белом.
Не призрак! Живая… красивая… молодая.
Тир прыгнул на нее.
Она ловко уклонилась от острых клыков, взметнув полы своего длинного мехового одеяния и, выхватив небольшой обоюдоострый топорик, взмахнула им, готовая отразить нападение.
Свен прикрикнул на пса, схватил Тира за ошейник и силком поволок его прочь.
Незнакомка неподвижно стояла в дверях, выставив ногу и вскинув руку с топориком, пока хозяйка дома не заторопилась к ней. Свен, поручив заботам других разъяренного Тира, вернулся, закрыл дверь и извинился за столь враждебное приветствие. Тогда незнакомка опустила руку, подвесила топор к поясу, распустила мех у лица и сбросила с плеч длинную белую мантию — проделав все это словно одним движением.
Это была девушка, высокая и белокурая. Наряд ее был странным, наполовину мужским, но не лишенным женского изящества. Тонкая меховая туника, спускавшаяся чуть ниже колен, служила ей единственной юбкой; под ней на девушке были башмаки на скрещенных кожаных завязках и облегающие штаны наподобие тех, какие носят охотники. Белый меховой капюшон низко спускался на лоб; полоски меха, как бахрома, свисали с его краев ей на плечи. Две из них при ее появлении были завязаны спереди у горла, но теперь откинутый назад капюшон позволял видеть длинные и очень светлые локоны на плечах и груди, ниспадавшие до самого пояса с костяными вставками, где поблескивал топор.
Свен и его мать усадили незнакомку у очага, не задавая вопросов и ничем не проявляя свое любопытство, пока она сама не поведала о долгом путешествии к жившей вдалеке родне, о том, как обещанный ей проводник куда-то подевался, а знаки и вехи оказались ошибочными.
— Одна! — в изумлении воскликнул Свен. — Неужто ты проделала такой долгий путь, всю сотню лиг, в одиночку?
— Да, — отвечала она с легкой улыбкой.
— Через холмы и пустоши! Да ведь люди там свирепые и дикие, как звери.
Девушка с немного презрительным смешком указала на свой топор.
— Я не боюсь ни человека, ни зверя, но некоторые боятся меня.
И она стала рассказывать захватывающие истории о жестоких схватках и смелой жизни вольной охотницы, которую вела.
Она говорила несколько медленно, подбирая слова, как будто изъяснялась на едва знакомом языке; по временам она останавливалась, не закончив фразу, точно не могла найти правильное слово.
Вокруг нее столпились слушатели. Интерес к гостье в какой-то мере рассеял ужас, навеянный таинственными голосами. В этой юной, яркой, прекрасной яви не было ничего зловещего, хотя выглядела девушка странно.
Маленький Рол подполз ближе, во все глаза уставившись на незнакомку. Никем не замеченный, он нежно погладил краешек ее мягкого белого одеяния, падавшего к полу широкими складками. Затем он ласково прижался к меху щекой и придвинулся ближе к коленям девушки.
— А как тебя зовут? — спросил он.
Незнакомка улыбнулась, глянув вниз, и ее быстрый ответ спас Рола от нареканий за неуместный вопрос.
— Мое настоящее имя, — сказала она, — было бы непривычным для ваших ушей и языка. Здешние жители дали мне другое имя, и в честь этого, — она притронулась рукой к меховой накидке, — называют меня Белой Шубкой.
«Белая Шубка, Белая Шубка», — повторил про себя маленький Рол, по-прежнему поглаживая мех.
Прекрасное лицо и мягкое, красивое одеяние нравились Ролу. Он привстал, заглядывая девушке в лицо с выражением неуверенной решимости, как птичка заглядывает через окно в дом, и положил руки ей на колени, задохнувшись от своей дерзости.
— Рол! — воскликнула тетушка.
— Ах, это ничего! — с улыбкой сказала Белая Шубка, гладя его по голове, и Рол остался на месте.
Он зашел и дальше и, пыхтя от собственной смелости пред лицом строгой тетки, вскарабкался к девушке на колени. Приветливо раскинутые руки гостьи не дали тетке запротестовать. Рол счастливо примостился на коленях девушки, ощупывая костяные вставки на ее поясе, костяную застежку на шее и светлые локоны; он терся головкой о мягкое, покрытое мехом плечо с детской уверенностью в доброте красоты.
Белая Шубка не обнажила полностью голову, а лишь небрежно откинула меховой капюшон и завязала его на шее. Рол протянул к нему руку, шепча про себя ее имя: «Белая Шубка, Белая Шубка», затем обнял девушку за шею и поцеловал — раз, другой. Она радостно рассмеялась и вернула ему поцелуй.
— Ребенок тебе не мешает? — спросил Свен.
— Нет, конечно, — ответила она с искренностью, казавшейся немного преувеличенной.
Рол снова устроился у нее на коленях и принялся разматывать повязку на руке. Он немного помедлил, увидев, что кровь просочилась насквозь. Наконец показался порез, зияющий и длинный, хотя только рассекший кожу. Тогда Рол показал свою ручку Белой Шубке, ожидая услышать от нее восклицания жалости и сочувствия.
Увидев рану и окровавленную ткань, она вдруг резко втянула воздух и прижала Рола к себе — крепко-крепко, пока он не начал вырываться. Ее лицо было скрыто за спиной мальчика, и никто не мог видеть его выражения. Лицо это загорелось жутким ликованием.
Тем временем Христиан, торопясь домой, приближался к невысокому холму и еловой роще. С самого утра он был на ногах, разнося известие о готовящейся охоте на медведя лучшим охотникам хуторов и деревень в радиусе двенадцати миль. И тем не менее, задержавшись допоздна, он перешел теперь почти на бег и длинными плавными шагами с видимой легкостью оставлял позади милю за милей.
Он нырнул в полуночную тьму елей, едва сбавив шаг, хотя тропинку было не разглядеть в темноте; и, снова выйдя на открытое место, увидел усадьбу, лежавшую ярдах в двухстах внизу. Он обрадованно бросился вперед, но тотчас же отскочил вбок и замер. На снегу виднелся след огромного волка.
Рука Христиана потянулась к ножу, его единственному оружию. Он наклонился, опустился на колени, чтобы оказаться вровень со зверем, и огляделся; зубы его были стиснуты, сердце билось, как бешеное. Бродячий волк, как правило, рослый и свирепый — зверь грозный и без колебаний нападет на одинокого путника. Христиан никогда еще не видел таких громадных отпечатков лап; насколько он мог судить, волк прошел здесь совсем недавно. След вел из-под елей вниз по склону. Не стоило так сетовать на задержку, подумал охотник; хорошо еще, что не пришлось оказаться в темной еловой роще, когда там прятался этот опасный зверь с огромными челюстями. Осторожно ступая, он двинулся по следу.
След спускался, пересекал широкий, скованный льдом ручей, и шел по долине, сворачивая к усадьбе. Человек менее опытный мог бы засомневаться и предположить, что здесь пробежал Тир или другой большой волкодав; но Христиан был уверен, что никак не спутал бы след собаки и волка.
Волчий след вел прямо… прямо к усадьбе.
Христиан удивился и встревожился: неужели бродячий волк осмелился подобраться так близко к дому? Он выхватил нож и поспешил дальше, зорко озираясь по сторонам. О, если бы Тир был с ним!
Прямо, прямо… к самой двери, где кончался снежный покров. Сердце Христиана словно подпрыгнуло и перестало биться. У двери след обрывался.
На крыльце было пусто, и обратного следа он не нашел. Ели ровно высились на фоне неба и низких облаков; ветер стих, и вниз лениво сыпались редкие снежинки. Оцепенев от неожиданности, Христиан на мгновение застыл, затем открыл дверь и вошел. Он обвел взглядом знакомую обстановку и лица, увидел и незнакомку, красивую и одетую в меха. Ужасная правда внезапно открылась Христиану: он понял, кто она такая.
Лишь несколько человек вздрогнули, услышав лязг засова. Горница была полна суеты и движения: наступил час ужина, когда все инструменты откладывались в сторону, а столы сдвигались. Христиан не отдавал себе отчета в том, что говорил и делал; он машинально куда-то шел, что-то произносил, втайне надеясь, что вот-вот пробудится от этого жуткого кошмара. Свен и мать решили, что он замерз и смертельно устал, и избавили его от ненужных вопросов. И он обнаружил, что сидит у очага, напротив чудовищного существа, похожего на красивую девушку, и внимательно следит за ней, весь сжимаясь от ужаса при виде того, как она ласкает маленького Рола.
Свен стоял рядом с ними, также устремив глаза на Белую Шубку, но насколько иным был его взгляд! Она, казалось, не замечала пристальных взоров обоих — ни холодного ужаса в глазах Христиана, ни пылкого восхищения Свена.
Эти два брата, близнецы, сильно отличались друг от друга, несмотря на поразительное сходство. Они походили один на другого правильным профилем, светлыми каштановыми волосами и темно-синими глазами; но черты лица Свена были совершенны, как у юного бога, в то время как у Христиана заметны были недостатки. Линия его рта была слишком прямой, глаза сидели чрезмерно глубоко, а контур лица не был вылеплен так безупречно, как у Свена.
Они были одного роста, но Христиан не мог похвалиться идеальными пропорциями, поскольку был для этого чересчур худ. Напротив, хорошо сложенная фигура, широкие плечи и мускулистые руки делали его брата Свена выдающимся примером мужской красоты и силы. Как охотник и рыбак, Свен не знал соперников. Весь край признавал его лучшим борцом, наездником, танцором, певцом. Его можно было превзойти только в быстроте, и сделать это мог лишь его младший брат. Всех остальных Свен оставлял позади, но Христиан легко обгонял его. Да что там, он спокойно держался рядом с задыхающимся Свеном и еще смеялся и болтал на бегу!
Однако Христиан не слишком гордился своей способностью быстро бегать, считая ноги наименее достойной частью мужского тела. Он не завидовал атлетическому превосходству брата, хотя в некоторых случаях лишь немногим уступал ему. Христиан любил его так, как может любить только близнец, — гордился всем, что делал Свен, был доволен всем, что представлял собой Свен. Он смиренно радовался и тому, что Свен не должен был в равной мере воздавать ему за эту великую любовь, ибо знал, что сам он гораздо менее достоин любви.
Христиан не осмеливался, находясь среди женщин и детей, облечь свой ужас в слова. Он ждал, чтобы посоветоваться с братом, но Свен не замечал или не хотел замечать его знаков и неотрывно смотрел на Белую Шубку. Христиан отодвинулся от очага, не в силах оставаться безучастным пред лицом ужаса.
— А где же Тир? — вдруг сказал он. Потом, заметив собаку в дальнем углу, спросил: — Почему он сидит там на цепи?
— Он бросился на гостью, — ответил кто-то.
Глаза Христиана загорелись.
— Ну и что? — спросил он, пожимая плечами.
— Она едва не вышибла ему мозги.
— Тиру?
— Да, она сразу выхватила этот маленький топорик, который висит у нее на поясе. Повезло старому Тиру, что хозяин вовремя его оттащил.
Христиан молча направился в угол, где был прикован Тир. Пес поднялся ему навстречу со всей обидой и негодованием, на какие только был способен бессловесный зверь. Христиан погладил его по черной голове.
— Добрый Тир! храбрый пес!
Они знали, только они; и человек и бессловесная собака утешали друг друга.
Глаза Христиана снова обратились к Белой Шубке, глаза Тира тоже, и пес напрягся, натягивая цепь. Рука Христиана легла на шею пса, и он почувствовал, как Тир задрожал и ощетинился от ярости. Затем и сам он точно так же задрожал, но ярость его была порождена разумом, а не инстинктом; он был так же бессилен душевно, как Тир физически. О! Эта женщина, которую он не смел обвинить! Все, что угодно, но не это! Только бы им с Тиром столкнуться с нею на свободе, чтобы убить или погибнуть!
Затем он вернулся к остальным и стал задавать новые вопросы.
— Давно эта незнакомка здесь?
— Она пришла примерно за полчаса до тебя.
— А кто впустил ее?
— Свен, больше никто не отважился.
Тон ответа был загадочным.
— Но почему? — спросил Христиан. — Произошло что-то странное? Рассказывайте.
В ответ ему вполголоса поведали о трижды повторенном зове у двери, с пустого крыльца, о зловещем вое Тира и бесплодной вахте Свена.
Христиан в мучительном нетерпении повернулся к брату, желая поговорить с ним наедине. Стол был уже накрыт, и Свен повел Белую Шубку к почетному месту для гостей. Это было еще хуже: она сядет со всеми за стол, преломит с ними хлеб под их крышей!
Христиан шагнул вперед и, коснувшись руки Свена, настойчиво зашептал. Свен уставился на него и раздраженно покачал головой.
После этого Христиан не проглотил ни кусочка.
Наконец возможность представилась. Белая Шубка стала расспрашивать о примечательных местах края и о некоем Могильном холме, где у нее была назначена встреча этой ночью. Хозяйка дома и Свен одновременно издали удивленное восклицание.
— Это в целых трех милях отсюда, — сказал Свен, — и укрыться там негде, кроме жалкой хижины. Останься с нами на ночь, а завтра я покажу тебе дорогу.
Белая Шубка, казалось, задумалась.
— В трех милях, — проговорила она, — я могу увидеть или услышать сигнал.
— Лучше я посмотрю, — сказал Свен. — Если не замечу никакого сигнала, тебе лучше будет остаться.
Он направился к двери. Христиан молча поднялся, последовал за ним и на крыльце схватил Свена за плечо.
— Свен, ты знаешь, кто она такая?
— Она? Кто — она? Белая Шубка? — переспросил Свен, удивленный яростной хваткой и низким хриплым голосом брата.
— Да.
— Она — самая красивая девушка, которую я видел в своей жизни.
— Она оборотень.
Свен расхохотался.
— Ты что, с ума сошел? — спросил он.
— Нет. Вот, посмотри сам.
Христиан стащил его с крыльца, указывая на снег и волчьи следы. Да, еще недавно они были видны, но теперь исчезли. Густо падавший снег скрыл все отметины.
— Ну? — спросил Свен.
— Если бы ты пошел за мной, когда я подал тебе знак, ты бы сам все увидел.
— Что увидел?
— Следы волка, ведущие к двери. А обратных следов не было.
Хотя голос Христиана звучал едва ли громче шепота, невозможно было не испугаться одного его тона. Свен с тревогой посмотрел на брата, но в темноте не смог разглядеть его лица. Он ласково и ободряюще положил руки на плечи Христиана и ощутил, как тот дрожит от волнения и ужаса.
— Люди видят странные вещи, — сказал он, — когда холод забирается им в голову и проникает в мозг; а ты вернулся замерзшим и измученным.
— Нет, — перебил его Христиан. — Сначала я увидел след на гребне холма, пошел по нему вниз и оказался прямо тут, у двери. Мне не почудилось.
В глубине души Свен был убежден, что волчий след брату не иначе как привиделся. Христиан был склонен к грезам наяву и странным фантазиям — и однако, никогда еще он не бывал одержим столь безумной идеей.
— Неужели ты мне не веришь? — в отчаянии воскликнул Христиан. — Ты должен поверить. Клянусь, это истинная правда. Ты что, слепой? Даже Тир понимает, кто она.
— Тебе нужно поспать. Завтра ты будешь чувствовать себя лучше. А если по-прежнему будешь сомневаться, можешь пойти со мной и Белой Шубкой к Могильному холму. Пойдешь сзади и посмотришь, какие следы она оставляет.
Раздраженный пренебрежительными замечаниями Свена, Христиан резко повернулся к двери. Свен поймал его за рукав.
— Что дальше, Христиан? Что ты собираешься делать?
— Ты мне не веришь, а мать поверит.
Рука Свена напряглась.
— Ты ей ничего не скажешь, — властно заявил он.
Обычно Христиан во всем слушался брата, но сейчас на удивление решительно вырвался и сказал так же твердо, как и Свен:
— Она узнает!
Свен заслонил телом дверь, не давая ему пройти.
— На эту ночь всем хватило страха. Если до утра не передумаешь, поговоришь с ней завтра.
Христиан не сдавался.
— Женщины легко пугаются, — продолжал Свен, — и готовы без малейших доказательств поверить в любую глупость. Будь мужчиной, Христиан, и оставь эту мысль о вервольфе при себе.
— Раз уж ты мне не веришь… — начал Христиан.
— Я верю, что ты глупец, — отрезал Свен, теряя терпение. — И не будь я твоим братом, я поверил бы, что ты лжец, и рассудил бы, что ты обозвал Белую Шубку оборотнем, потому что она улыбалась мне охотнее, чем тебе.
Эта язвительная шутка была не лишена оснований, ибо благодать выразительных взглядов Белой Шубки весь вечер изливалась на Свена, на Христиана же девушка даже не посмотрела. Хвастовство Свена всегда было откровенным, весьма простительным и в своем духе справедливым.
— Тебе нужен союзник? — продолжал Свен. — Что ж, доверься старой Трелле. И если память ее не подведет, она извлечет из сундуков своей мудрости стародавние наставления по борьбе с вервольфами. Ежели я правильно помню, нужно следить за подозреваемым в оборотничестве до полуночи, когда он принимает вид зверя; и он навсегда останется в зверином облике, стоит человеку увидеть превращение. Еще лучше — окропить руки и ноги оборотня святой водой, что означает для него верную смерть. Эх! не бойся, старуха Трелла с честью выйдет из положения.
Свен утратил прежнее добродушие; какая-то нотка раздражения или обиды звучала в его презрительном голосе. Еще бы: Белой Шубке было брошено такое чудовищное обвинение! Но Христиан был слишком глубоко огорчен, чтобы обидеться.
— Ты говоришь обо всем этом, как о бабушкиных сказках; но если бы ты видел доказательства, которые видел я, ты бы по крайней мере задумался, а может, согласился бы их проверить.
— Ну и хорошо, — сказал Свен со смешком, в котором слышалась легкая издевка, — проверь их! Я не стану возражать, если ты будешь держать свои подозрения при себе. А теперь, Христиан, дай мне слово молчать, и довольно нам здесь мерзнуть.
Христиан не произнес ни слова.
Свен снова положил руки на плечи брата, тщетно пытаясь разглядеть в темноте его лицо.
— Мы ведь еще ни разу не ссорились, Христиан?
— Я никогда и не думал ссориться, — ответил тот, впервые осознав, что его властный брат порой давал для этого повод.
— Так знай, — твердо произнес Свен, — если ты скажешь кому-нибудь другому о Белой Шубке то, что сказал мне сегодня вечером, мы уж точно поссоримся.
Он произнес эти слова как ультиматум, резко повернулся и снова вошел в дом. Христиан, еще более испуганный и несчастный, чем прежде, побрел за ним.
— Начался сильный снегопад. Ни единого огонька не видно.
Глаза Белой Шубки незаметно скользнули по Христиану и, ярко блеснув, остановились на Свене.
— И никакого сигнала? — спросила она. — Ты не слышал звука рожка?
— Я ничего не видел и не слышал. Но, как бы то ни было, этот снегопад волей-неволей задержит тебя здесь.
Она красиво улыбнулась в знак благодарности. И сердце Христиана сжалось в свинцовой смертельной тоске, когда он заметил, какой огонь зажгла ее улыбка в глазах Свена.
В ту ночь, пока остальные спали, Христиан, самый усталый из всех, до полуночи бодрствовал у дверей комнаты для гостей. Ни единого звука, пусть самого слабого, не доносилось изнутри. Может ли старое поверье о полуночном превращении быть правдой? Что там, по ту сторону двери — женщина или зверь? Христиан отдал бы свою правую руку, чтобы узнать. Он машинально сжал дверную ручку и тихонько потянул дверь на себя, хотя и полагал, что изнутри она заперта на засов. Дверь поддалась; он стоял на пороге; резкий порыв ветра обдал его холодом. Окно было открыто; комната была пуста.
На душе у Христиана стало легче. Он мог теперь позволить себе заснуть.
Утром, когда обнаружилось отсутствие Белой Шубки, все были удивлены и озадачены. Христиан хранил молчание. Он знал, что она сбежала до полуночи, но никому об этом не рассказал; а Свен, хотя и был сильно огорчен, едва ли желал слышать о страхах Христиана.
Старший брат один присоединился к медвежьей охоте; Христиан нашел предлог остаться. Свен, будучи не в духе, выказал свое презрение, даже не попытавшись его отговорить.
Весь тот день и еще много дней спустя Христиан ни на шаг не отходил от дома. Один только Свен замечал, как он ухитрялся это проделывать — и пребывал в явном раздражении. Между собой они не упоминали имя Белой Шубки, хотя оно не раз звучало в общих разговорах домашних. Маленький Рол почти каждый день спрашивал, когда же придет Белая Шубка, эта красивая Белая Шубка, чей поцелуй был как прикосновение снежинки. И если Свен отвечал, Христиан видел, что огонь в его глазах, зажженный улыбкой Белой Шубки, еще не угас.
Маленький Рол! Озорной, веселый, светловолосый маленький Рол! Настал день, когда его ножки перешагнули через порог, и он никогда больше не вернулся; когда навсегда смолкли его болтовня и смех; когда слезы горя были выплаканы глазами, которые никогда больше не увидят его кудрявую головку — ни живую, ни мертвую.
В последний раз его видели в сумерках: мальчик закапризничал, поспорил о чем-то со старой Треллой и убежал, прихватив своего щенка. Позже, когда отсутствие Рола начало вызывать тревогу, щенок приполз обратно в усадьбу — испуганный, скулящий и визжащий, жалкий и тупой комок ужаса, лишенный разума и мужества и неспособный помочь в отчаянных поисках.
Рола так и не нашли, и никаких следов от него не осталось. Никто не знал, где он погиб; как он погиб, знали только благодаря страшной догадке — его сожрал дикий зверь.
Христиан услышал высказанное вслух предположение о волке и понял все с внезапной и ужасающей ясностью. Он знал, что это был за волк. Он решился рассказать о том, что ему было известно. Но Свен увидел, как брат вздрогнул, силясь произнести роковые слова, побледнев и едва шевеля губами; догадавшись о его намерении, он оттащил Христиана в сторону и с трудом заставил замолчать — властной хваткой, гневным взглядом и кратким тихим шепотом.
Итак, Христиан по-прежнему питал неразумные подозрения в отношении Белой Шубки; по мнению Свена, это было свидетельством пагубного упорства ума, не желавшего внимать никаким доводам и увещеваниям. Очевидная попытка превратить чувства горя и тоски в ненависть и страх перед прекрасной незнакомкой была неприемлема, и Свен ей воспротивился. И снова Христиан уступил гневным речам и воле своего брата и, вопреки себе, согласился молчать.
Он раскаялся в этом еще до того, как новая луна, первая в этом году, пошла на ущерб. Белая Шубка вернулась и вошла с улыбкой, будто была уверена, что ей окажут самый радушный и добрый прием; и, по правде говоря, только один человек снова увидел ее прекрасное лицо и странное белое одеяние без малейшей радости. Свен сиял от восторга, а лицо Христиана стало недвижным и бледным, как смерть. Он дал брату слово хранить молчание, но не думал, что она осмелится прийти снова. Молчать лицом к лицу с этим существом было невозможно, немыслимо. И он, не помня себя, воскликнул:
— Где же Рол?
Ни единый мускул не дрогнул на лице Белой Шубки. Она все слышала, но оставалась спокойной и безмятежной. Свен угрожающе сверкнул глазами на брата. Некоторые женщины прослезились, услышав имя бедного ребенка, но никто не встревожился, когда оно было внезапно произнесено: мысль о Роле возникла сама собой. Где же он, маленький Рол, который прижимался к незнакомке, целовал ее и с тех пор так ждал ее, и каждый день спрашивал о ней?
Христиан молча вышел. Оставалось только одно, и медлить было нельзя. Ужас пересилил в нем всякое любопытство: ему не к чему было выслушивать гладкие объяснения Белой Шубки, улыбчивые извинения за странный и невежливый уход и непринужденный рассказ об обстоятельствах ее возвращения; незачем было наблюдать за красавицей, когда ей поведают печальную историю маленького Рола.
Самый быстрый бегун в округе начал свой самый трудный забег. Чуть меньше трех лиг и обратно: он рассчитывал покрыть это расстояние за два часа, хотя ночь была безлунной и дорога нелегкой. Он рванулся навстречу неподвижному холодному воздуху, и тот ринулся ему в лицо, как ветер. Тускло освещенный дом ушел за холмы позади, и новые заснеженные холмы стали подниматься перед ним над темным горизонтом, проносясь мимо вместе с застывшим воздухом и снова уходя в небытие. Он не обращал никакого внимания на ориентиры, даже когда последние признаки тропы исчезли под глубоким снегом. Вся его воля была направлена на то, чтобы достичь цели с неслыханной быстротой; к ней мчался он, не раздумывая, ведомый инстинктом и напряжением физических сил.
А праздный мозг пассивно, бездеятельно перебирал осколки видений и звуков прошлого: Рол, плачущий, смеющийся, играющий, свернувшийся в объятиях этого кошмарного существа; Тир — о, Тир! — белые клыки в черной пасти; женщины, плакавшие над глупым щенком, ставшим таким драгоценным от последнего прикосновения ребенка; следы, тянущиеся от соснового леса до двери; улыбающееся лицо, обрамленное мехами, красота столь женственная и улыбка — улыбка — и лицо Свена.
— Свен, Свен, о, Свен, брат мой!
Гневный смех Свена звучал в его ушах в ветре бега; презрение Свена пронзало его вернее и больнее, чем обжигающий холод у горла. Но даже мысль о том, как возросли бы гнев и презрение брата, узнай Свен о его замысле, не могла остановить Христиана.
Свен был скептиком. Его полное недоверие к рассказу Христиана о волчьих следах было основано на рациональном скептицизме. Его разум отказывался признать возможность материального воплощения сверхъестественного. Свену казалось невероятным, что живой зверь мог быть каким-либо иным, кроме как осязаемо звериным — с лапами, острыми зубами и мохнатой шкурой; и тем более нелепо было считать, что созданный по образу и подобию Божию человек — двуногий, свободно владеющий руками, наделенный разумными глазами, речью и смехом — может превратиться в зверя. Дикие и странные легенды, в которые Свен верил в детстве, он считал теперь построенными на искаженных фактах, приукрашенных воображением и приправленных суевериями. Он сумел логически объяснить даже загадочные зовы у двери, напрасно выманившие его из дома: то была злонамеренная шутка какого-нибудь ловкого пройдохи, утаившего ключ к разгадке.
Младшему брату жизнь представлялась духовной тайной, сокрытой от ясного понимания густотой плоти. Он знал, что его собственное тело связано со сложными и противоборствующими силами, составляющими единую душу, и ему не казалось невероятным, что многоразличные проявления одного духовного начала могут находить свое выражение в самых разнообразных формах. Ему также было нетрудно поверить, что — как чистая вода смывает всю природную нечистоту — вода освященная и ставшая святой способна очистить Божий мир от сверхъестественного зла. И потому он с невиданной быстротой мчался в темной неподвижной ночи через пустынные, заснеженные холмы — мчался к далекой церкви, где в чаше святой воды у дверей было спасение. Его вера была тверда, как вера святых, творивших чудеса в минувшие века, проста, как помысел ребенка, и сильна, как воля мужчины.
Его не хватились в эти часы, каждая секунда которых была до предела наполнена для него чрезвычайным напряжением мышц, сухожилий и нервов. Тем временем в усадьбе текли веселые минуты, озаренные непривычно оживленными разговорами и взглядами: изящество и красота вернувшейся незнакомки пробудили добрые и гостеприимные чувства обитателей, вылившиеся в самые сердечные приветствия.
Но Свен был нетерпелив и серьезен, и в его манере чувствовалось нечто большее, чем учтивая вежливость хозяина. Первое впечатление, очаровавшее его и жившее с тех пор в памяти, усилилось теперь в присутствии девушки. Свен, не знавший равных среди мужчин, видел в прекрасной Белой Шубке дух высокий и смелый, подобный его собственному, и тело крепкое и сильное, что могло бы сравняться с ним, обладай оно мужской мощью. И хорошо, что ее гладкая белая кожа не бугрилась мускулами, как могучее тело Свена! Любовь, на которую был способен этот откровенный себялюбец, была вызвана пылким восхищением несравненной незнакомкой. Да, в страсти его было больше восхищения, чем любви, и потому Свен не ведал нерешительности, деликатной осторожности и сомнений влюбленного. Он откровенно и смело добивался благосклонности Белой Шубки взглядами, интонациями и вольным обращением, исходившим из естественной непринужденности, а не из умения, приобретенного практикой.
За этой женщиной и нельзя было ухаживать иначе. Она осталась бы глуха к нежному шепоту и вздохам; но ее глаза вспыхивали, когда она слышала о каком-нибудь отважном подвиге; ее быстрая рука сочувственно опускалась тогда к топору и крепко сжимала рукоятку. Это движение снова и снова разжигало восхищение Свена; он ждал его, старался вызвать и весь сиял, когда у него получалось. Восхитительно прекрасным было ее запястье, тонкое и крепкое, как сталь, и вся ее гладкая стройная рука, такая стремительная и твердая, готовая причинить мгновенную смерть.
Желая ощутить прикосновение этих рук, смелый любовник действовал с неприкрытой прямотой. Он предложил ей послушать местные охотничьи песни; во время пения припева полагалось держаться за руки. И его великолепный голос начал выводить строфы, а когда люди подхватили припев, Свен завладел ее руками и даже в этом легком касании ощутил, как и мечтал, скрытую силу и энергию, истекавшую из кончиков пальцев, а после песня воспламенила ее, и голос вырвался из нее ритмичной волной и ясно зазвучал на вершине последних нот.
Потом она пела одна. Для контраста или из гордости за свой голос, способный передавать переливы настроений, она выбрала грустный напев, который плыл в минорном ключе, печальный, как погребальное завывание ветра:
Старая Трелла, пошатываясь, вышла из своего угла, дрожа больше обычного от пробудившихся воспоминаний. Она уставилась потускневшим взором на певицу, а затем склонила голову, ловя полуоглохшим ухом каждую ноту. Когда песня была допета, Трелла ощупью пробралась вперед и пробормотала резким и прерывистым старческим голосом:
— Так она пела, моя Тора, моя последняя и самая яркая звездочка. Какая она, та, чей голос похож на голос моей покойной Торы? У нее голубые глаза?
— Голубые, как небо.
— Как и у моей Торы! У нее светлые волосы, заплетенные в косы до пояса?
— О да, — ответила сама Белая Шубка и, сжимая протянутые руки старухи в своих, поднесла их к своим локонам, чтобы прикосновение подтвердило слова.
— Как у моей умершей Торы, — повторила старуха, и ее дрожащие руки легли на покрытые мехом плечи, и она наклонилась вперед и поцеловала гладкое и светлое, приподнятое вверх лицо, а Белая Шубка, ничуть не противясь, приняла ласку и ответила на нее.
Такими увидел их Христиан, когда вошел в дом.
На мгновение он замер. После беззвездной темноты, ледяного ночного воздуха и яростной и молчаливой двухчасовой гонки, он был потрясен, вдруг оказавшись в тепле, среди света и веселого гула голосов. Внезапная и нежданная тоска охватила его. Впервые Христиан допустил, что может быть побежден коварством и дерзостью Белой Шубки; а что если, почувствовав приближение неотвратимой смерти и очутившись в безвыходном положении, она тотчас превратится в кровожадного зверя и наконец утолит свой свирепый голод? Он с ужасом и жалостью смотрел на мирных, беспомощных людей, которые не ведали угрозы, нависшей над их покоем и безопасностью. Жуткое существо среди них, сокрытое под покровом женской красоты, пребывало в центре внимания. К нему, как зачарованная, нежно приникла старая Трелла, самая хилая и слабая из всех. В одно мгновение может явиться чудовищный ужас — страшная, смертельная опасность, выпущенная на свободу и загнанная в угол в окружении девушек, женщин и беспечных безоружных мужчин, существо столь отвратительное и чудовищное, что один взгляд на него способен расплавить мозг или обратить сердце в мертвый камень.
И он, единственный из всех, был к этому готов!
На миг, не больше, он застыл в нерешительности, терзаемый угрызениями совести — но ничто не могло заставить его отказаться от задуманного.
Один? Нет, Тир тоже знает. И он подошел к своему бессловесному союзнику и начал расстегивать ошейник пса.
Мысль столь вневременна, что с тех пор, как он вошел в дом, прошло всего несколько секунд; но в эти несколько секунд такими же молниеносными были импульсы других, такими же быстрыми и уверенными были их движения. Зоркий взгляд Свена метнулся к Христиану, и каждую клеточку его тела ожгло предчувствие опасности. Догадываясь, но еще не до конца веря, что Христиан собирается спустить Тира с цепи, он бросился к нему, настороженный, гневный и полный решимости пресечь злобные замыслы обезумевшего брата.
За спиной Свена вскочила Белая Шубка — с лицом белым, как ее меха, и глазами, ставшими свирепыми и дикими. Она кинулась через всю комнату к двери, запахивая свое длинное одеяние.
— Слушайте! — выдохнула она. — Сигнальный рожок! Слышите? Я должна уйти!
С этими словами она ухватилась за дверной засов. На одно драгоценное мгновение Христиан замешкался над наполовину расстегнутым ошейником — ведь, если женское тело не превратится в звериное, челюсти Тира вместе с Белой Шубкой разорвут в клочья и его мужскую честь. Потом он услышал ее голос и обернулся — слишком поздно.
Когда она потянула дверь, он прыгнул вперед, схватив свою флягу, но Свен бросился между ними и встал на пути, как стена. С невероятным усилием Христиану удалось высвободить руку, и в порыве чистейшего отчаяния он замахнулся, но дверь за ней уже захлопнулась и фляга от удара разлетелась на мелкие осколки. Свен ослабил хватку, и тогда Христиан обвел глазами изумленные и недоумевающие лица и издал хриплый нечленораздельный крик:
— Боже, помоги нам всем! Она — оборотень.
— Лжец, трус! — закричал Свен.
Его руки со смертоносной силой вцепились в горло брата, словно пытаясь затолкать обратно в глотку Христиана произнесенные слова. Тщетно Христиан отбивался — Свен приподнял его и отшвырнул прочь. Он был так взбешен, что подскочил к неподвижно лежащему брату и стал пинать его ногами, пока мать не встала между ними, стыдя обоих. Свен отошел, но остался неподалеку, стискивая зубы, хмуря брови и сжимая кулаки: он готов был вновь заставить брата замолчать, но ошеломленный Христиан лишь с трудом поднялся, пошатываясь. При виде молчания и покорности брата гнев Свена перешел в презрение к человеку, которого оказалось так легко запугать и подчинить голой силой.
— Он сошел с ума! — бросил Свен и отвернулся, не заметив болезненный упрек во взгляде матери, ибо слова его открыто выразили ее тайный страх.
Христиан был слишком измучен и даже не пытался возражать. Тяжелое дыхание с всхлипами вырывалось из его груди, руки и ноги словно обвисли в бессилии. Потерпев неудачу, он оцепенел от горя и отчаяния. К тому же, он испытывал страшное унижение после ссоры и схватки с братом на глазах у всех и глубоко страдал от его несправедливого и высказанного вслух обвинения. Он понимал, что Свен стремился успокоить испуганных и возбужденных домочадцев и потому положился частью на свою властность, частью же на ложное объяснение, отнюдь не думая о чувствах брата. Жестокость своего близнеца он всецело приписывал влиянию зловещего существа, которое вызвало их первую в жизни ссору. Но самым ужасным было другое: существо это так непоправимо разрушило их союз, что Свен сделался слеп и глух к любым доводам, отвергал любое вмешательство и позволял себе все, что угодно.
Страх и бесконечная растерянность омрачали душу Христиана. Бремя, которое не с кем было разделить, казалось непосильным; предчувствие неимоверного бедствия, вызванное его ужасным открытием, обрушилось на него, сокрушая всякую надежду противостоять надвигающейся судьбе.
Свен все это время тайком наблюдал за братом, и каждый раз, когда поворачивался к нему, видел глаза Христиана, глядевшие со странным выражением беспомощного отчаяния, в достаточной мере смущавшим разъяренного воина. «Он похож на побитую собаку!» — сказал себе Свен, собирая все свое презрение, чтобы заглушить угрызения совести. Невольно он задумался об истощенном состоянии Христиана. Тяжелое прерывистое дыхание и вялая неподвижность конечностей, без сомнения, свидетельствовали о необычном и длительном физическом напряжении. Христиан где-то бродил почти два часа; но почему, вернувшись, он открыто набросился на Белую Шубку?
Внезапно осколки фляги подсказали Свену ответ. Он догадался обо всем и удивленно уставился на брата. В эту минуту он позабыл, что Христиан строил козни против Белой Шубки и заслуживал насмешек и негодования; все это было вытеснено из памяти изумлением и восхищением перед подвигом быстроты и выносливости. Охваченный любопытством, он готов был проявить великодушие и открыто протянуть Христиану руку примирения; но подавленность и печальный пристальный взгляд брата заставили Свена искать оправданий и вспомнить о возмутительном оскорблении, нанесенном Белой Шубке.
Его порыв прошел, а после другие соображения побудили его промолчать. И наконец Свену пришла на ум забавная мысль: интересно, как умудрится Христиан рассказать о своем триумфе, не объясняя всю смехотворную глупость собственного замысла?
Но Свен ждал напрасно. Христиан так и не решился на горделивое признание, которое сделало бы его подвиг достоянием этого и будущих поколений.
В тот вечер Свен и его мать долго и допоздна беседовали, все больше убеждаясь в своих подозрениях. Да, Христиан утратил рассудок — и причина была очевидна. Свен объявил матери, что любит Белую Шубку; затем он предположил, что несчастный брат, близнец по рождению, и в страсти оказался близнецом; ревность и отчаяние превратили любовь Христиана в ненависть, разум не выдержал и развилось безумие, глубокое и опасное в своей злобе и вероломстве.
Так рассуждал Свен, убеждая самого себя уверенными словами. Так он впоследствии убеждал других, высказывавших сомнения относительно Белой Шубки. Он решительно вставал на ее защиту и оправдывал ее поспешное бегство, не признаваясь самому себе, что не может найти объяснения ее поступка.
Но прошло совсем немного времени, и Свен утратил покой, ибо обитатели усадьбы были потрясены новым ужасом. Трелла исчезла, и кончина ее была окружена тайной. Однажды, в ясный солнечный день, она выползла из дома, собираясь навестить прикованную к постели кумушку, жившую за еловой рощей. В последний раз Треллу видели под деревьями, где она ждала свою спутницу — та побежала назад за забытым подарком. Поднялась тревога, и все мужчины бросились на поиски. Клюку Треллы нашли в кустах всего в нескольких шагах от тропинки, но не обнаружили ни отпечатков ног, ни кровавых пятен; непонятно было, как встретила она смерть, поскольку сильный ветер, сдувавший с ветвей снег, скрыл все следы произошедшей трагедии.
Усадьбу охватила паника, и никто не осмелился продолжать поиски в одиночку. Явную опасность можно было предотвратить; но как бороться с этой коварной Смертью, что бродила невидимо средь бела дня и одинаково настигала и озорного ребенка, и престарелую женщину, которая вот-вот должна была лечь в тихую могилу?
— Она поцеловала Рола! Она поцеловала Треллу! — снова и снова раздавался бешеный крик Христиана.
Наконец Свен оттащил его от остальных, хотя Христиан, в агонии горя и отчаяния, и обвинял себя во всеуслышание в случившемся. Это ясно показывало, что Свен вполне обоснованно предполагал сумасшествие, если только странный вид Христиана и дикие, бессвязные слова могли служить достаточным свидетельством безумия.
Однако с тех пор Свену, несмотря на все его красноречие и положение в доме, никак не удавалось отвести подозрения от Белой Шубки. Он снова сумел заставить Христиана замолчать, и никто не требовал от него доказательств невиновности девушки. Но Свен хорошо понимал значение того, что больше не слышал ее имени, прежде звучавшего так часто — люди избегали произносить его вслух, позволяя себе разве что еле различимые шепоты.
Шли дни, но суеверные страхи, которые так презирал Свен, не рассеивались. Он был зол и встревожен; он страстно желал, чтобы Белая Шубка появилась вновь и одной своей яркой и благословенной красотой вернула себе расположение домочадцев. Правда, Свен сомневался, что неизбежный холодный прием ускользнет от ее внимания; он также ясно понимал, что Христиан может взбунтоваться, и страшился какой-нибудь неожиданной выходки брата.
Некоторое время разногласия близнецов выливались со стороны Свена в суровое безразличие, со стороны Христиана — в тяжелое подавленное молчание. Христиан не переставал с тревогой наблюдать за братом, испытывая укоры совести и дурные предчувствия. Вдобавок, отчужденность Свена невыносимо тяготила его, а мысли об их жестоком разрыве причиняли ему непрестанные мучения. Старший брат, самодостаточный и высокомерный, едва ли сознавал, как сильно терзала Христиана его враждебность. Подобная глубина и сила привязанности были ему неведомы. Преданное раболепие брата лишь укрепляло его власть, и нынешнее упорное сопротивление Христиана его разуму и воле Свен расценивал как злой умысел, если не откровенное безумие.
Его крайне раздражала постоянная слежка Христиана, чреватая досадными и опасными последствиями. Стремясь усыпить подозрения брата, Свен счел разумным заключить мир. Не было ничего легче: немного доброты, несколько мелких знаков внимания, капелька прежней братской властности — и Христиан откликнулся с благодарной радостью, которая могла бы тронуть Свена, если бы он ее правильно понял, но вместо этого лишь усилила его затаенное презрение к брату.
Уловка оказалась настолько удачной, что в один прекрасный день, ближе к вечеру, когда Свен передал Христиану просьбу срочно прибыть в отдаленную деревню, брат ничуть не заподозрил неладное. Когда же выяснилось, что никто Христиана не вызывал, он преспокойно отправился обратно, предполагая лишь ошибку или недопонимание. И только когда Христиан увидел долину, и усадьбу, и заснеженные холмы вокруг, казавшиеся в ночи серыми, живое воспоминание о том, как он прошел по следам ужаса до самой двери родного дома, пробудило в нем сильный страх, а с ним и смутные подозрения.
Он крепче сжал медвежье копье, служившее ему посохом. Все чувства были настороже, каждый мускул напряжен; возбуждение подстегивало его, осторожность сдерживала, и вместе они направляли его быстрые и бесшумные шаги Он сознавал, что развязка уже близка.
Когда он приблизился к внешним воротам, какая-то легкая тень зашевелилась и исчезла — словно серый снег взметнулся и пришел в движение. Тень потемнее осталась и повернулась лицом к Христиану, и кровь его заледенела в предельном отчаянии.
Перед ним стоял Свен, а исчезнувшая тень, конечно же, была Белой Шубкой.
Они были вместе — стояли совсем рядом. Быть может, Свен сжимал ее в тесных объятиях, и губы их встретились?
Ночь выдалась безлунная, но при свете звезд он разглядел раскрасневшееся и ликующее лицо Свена. Румянец еще не сошел, хотя выражение этого лица быстро изменилось, когда Свен встретился глазами с братом.
«Если Христиан все узнал, — думал Свен, — как справиться с одной из его безумных вспышек? Решительностью? Безразличием?» Не зная, что предпринять, он напустил на себя гордый вид.
— Белая Шубка? — хриплым и задыхающимся голосом спросил Христиан.
— Ну и что?
Интонация Свена подразумевала готовность к самым решительным действиям.
— Ты ее целовал?
Слова Христиана поразили Свена, как прямой удар молнии, ошеломили его своей чистейшей безрассудной смелостью.
Свен покраснел еще сильнее и все же слегка улыбнулся: успех был неоспорим. Если бы между ним и Христианом и в самом деле, как он воображал, существовало соперничество, торжествующая дерзость, написанная на его лице, неминуемо вызвала бы ревнивую ярость.
— Как ты смеешь спрашивать меня об этом?!
— Свен, о, Свен, я должен знать! Да, ты ее целовал!
Нотки отчаяния и муки в его голосе рассердили Свена, но он неверно истолковал их. Ревность, побуждающая к такой самонадеянности, была для него невыносима.
— Сумасшедший глупец! — сказал он, уже не сдерживаясь. — Найди себе женщину и целуй ее. Оставь мою в покое. Та, которую я хочу целовать, никогда не позволит тебе поцеловать себя.
Только теперь Христиан понял.
— Мне… мне! — воскликнул он. — Целовать Белую Шубку — эту смертоносную тварь! Свен, неужто ты ослеп, обезумел? Я спасу тебя от нее! Спасу от оборотня!
Это обвинение, этот подлый и жалкий способ мести, снова привело Свена в бешенство, и он без долгих колебаний, как давеча в горнице, с ожесточением ринулся на брата.
Смутная тень, скользнувшая вдалеке, подсказала Христиану выход, но он не мог последовать за ней, не одолев сперва брата. Пусть так. Христиан настолько отчаялся, что ему было сейчас не до щепетильности. Слава Богу, он был вооружен, а значит, не уступал Свену.
Держа медвежье копье наперевес, он внезапно поднял руки и сильно ударил своего противника древком, свалив Свена на снег. Несравненный бегун мгновенно отпрыгнул в сторону и помчался вслед за убегающей надеждой.
Свен, поднявшись на ноги, был одновременно поражен и разгневан этим необъяснимым бегством. В глубине души он знал, что его брат не был трусом; едва ли Христиан стал бы уклоняться от поединка только потому, что поражение представлялось неизбежным, а жестокое унижение со стороны мстительного победителя — вероятным. Свен прекрасно понимал бесполезность погони: оставалось проглотить обиду и ждать новой возможности поквитаться с Христианом. Поскольку Белая Шубка побежала вправо, а Христиан влево, он и не подумал, что они могут встретиться.
Христиан же преследовал смутную тень, что промелькнула на гребне холма за усадьбой в тот момент, когда Свен бросился на него. Все надежды он возлагал на случай и быстроту своего бега. Если это действительно была Белая Шубка, она направлялась, вероятно, к открытой равнине; возможно, удастся догнать или опередить ее, если рвануться наперерез и совершить опасный и отчаянный прыжок с отвесного утеса. А дальше… что дальше, Христиан не знал.
Все было уже позади — быстрый, яростный бег и грозивший смертью прыжок. Он остановился в лощине, чтобы перевести дух. Затем стал оглядываться по сторонам: появится ли она? не скрылась ли?
Она появилась.
Она двигалась с плавной, скользящей, бесшумной быстротой, и движения ее не походили ни на ходьбу, ни на бег; ее руки были закутаны в меха, и меха туго обтягивали все ее тело; белые полоски меха, падавшие с капюшона, были завязаны узлом под подбородком; глаза устремлены вдаль. Так приближалась она, пока Христиан не остановил ее ровный, размеренный шаг.
— Шубка!
Она быстро и резко втянула в себя воздух, услышав свое изуродованное имя, и повернулась лицом к брату Свена. Глаза ее сверкнули, верхняя губа приподнялась и обнажила зубы. Произнесенный Христианом обрывок имени, в который он вкладывал какой-то зловещий смысл, предупреждал ее, что перед ней смертельный враг. И все-таки она распустила свои одежды, позволив мехам повиснуть свободно, и кротко произнесла:
— Что нужно тебе от меня?
Тогда Христиан мрачно бросил ей в лицо свое ужасное обвинение:
— Ты поцеловала Рола — и Рол мертв! Ты поцеловала Треллу: она мертва! Ты поцеловала Свена, брата моего, но он не умрет!
И добавил:
— Ты проживешь до полуночи.
На миг ее зубы и глаза снова сверкнули, и правая рука скользнула вниз, к рукоятке топора. Затем, не говоря ни слова, она отпрянула, отскочила в сторону и быстро побежала прочь по снегу.
И Христиан развернулся в прыжке и быстро побежал за ней по снегу, держась позади, в полушаге от нее.
Так они молча бежали вдвоем по бескрайним снежным пустошам, и кругом, кроме них, под ночными звездами не было ни одного живого существа.
Никогда еще Христиан так не радовался своим силам. Дар быстроты, выносливость, умение правильно распределять усилия были сейчас для него бесценны. Хотя до полуночи оставалось еще несколько часов, он был уверен, что она не сможет ни оторваться от него, ни спастись, куда бы ни бежала и как бы ни спешила эта падшая тварь. Затем, когда придет время превращения, когда женское тело перестанет защищать ее от мужской руки, он убьет ее или сам погибнет в попытке спасти Свена. Он ударил своего дорогого брата по необходимости, но не мог заставить себя, хоть разум и настаивал на этом, сразить женщину.
Они пробежали милю, две мили. Белая Шубка постоянно оставалась впереди, Христиан все время на одинаковом расстоянии от нее, так близко, что порой его касались ее развевающиеся меха. Она не произносила ни слова, и он тоже. Она ни разу не повернула голову, чтобы посмотреть на него, и не пыталась свернуть, но с застывшим лицом и устремленным перед собой взглядом мчалась прямо вперед, по камню, по гладкому снегу, и слышала за спиной близкий ритмичный топот его ног и звук его дыхания.
Через некоторое время она ускорила бег. С самого начала Христиан оценил ее быстроту как достойную восхищения, но, несмотря на все ее старания, продолжал ощущать ликующую уверенность в своем превосходстве и стойкости.
Однако, когда она побежала быстрее, он обнаружил, что ни одна гонка еще не служила для него таким испытанием. Ее ноги и впрямь летели быстрее, и только благодаря своему размашистому бегу он мог держаться рядом. Но сердце его было преисполнено решимости, и он пока не страшился провала.
И отчаянная гонка продолжалась. Их ноги взметали рыхлый снег, дыхание дымилось паром в холодном чистом воздухе, и они исчезали прежде, чем оседал снег и развеивался пар. Иногда Христиан поднимал глаза, чтобы определить по звездам приближение полуночи. Еще так долго — так долго!
Белая Шубка не сдавалась. Она, очевидно, полагалась на непревзойденную быстроту своего бега и так же упорно стремилась вымотать преследователя, как он — продержаться до полуночи и исполнить свое предназначение. И Христиан держался. Он был по-прежнему уверен в себе. Он не мог потерпеть неудачу, не мог. Он поклялся себе сделать все, на что только способен человек, чтобы отомстить за Рола и Треллу, но ради Свена он был готов и на большее. Белая Шубка поцеловала и Свена, но он не должен был умереть, как они; Свена нужно было спасти во что бы то ни стало.
Свет не знал подобного состязания — даже во времена Древней Греции, когда мужчины и девушки соперничали в беге, поставив свои судьбы на карту. Белая Шубка и Христиан безостановочно мчались, час за часом, и звезда за звездой поднимались все выше, и близилась полночь.
Христиан вдруг увидел и услышал нечто, что заставило его содрогнуться от страха. На опушку лесистого склона выскочило что-то темное; раздался визг, затем ужасающий громкий вой, и на снегу задвигалось темное пятно — за ними по пятам неслась стая волков.
Этих зверей Христиан почти не боялся; при той скорости, которую он сохранял, он мог держать их на расстоянии, пусть они и были быстрыми и четвероногими. Но он бесконечно страшился хитростей Белой Шубки, ибо она вполне могла призвать на помощь свирепые челюсти волков, сродных звериной половине ее натуры. Она не удостоила их ни взглядом, ни жестом, но Христиан, опасаясь, что Белая Шубка ускользнет, на бегу поймал и удержал ее за меховую полу.
Она молниеносно обернулась со звериным рычанием, снова сверкнув зубами и глазами. Топор блеснул на восходящей и нисходящей дуге, рубя запястье. Христиан отбил удар медвежьим копьем, однако лезвие топора все же прошло сквозь древко и раздробило кости руки.
Христиан поневоле разжал хватку. Они помчались вперед, как и прежде. Христиан не сбавил скорость, хотя его левая рука теперь бесполезно болталась, кровоточащая и сломанная.
Рычание, бесспорное, пусть и видоизмененное женской гортанью, злобная ярость в блеске зубов и глаз, острая невыносимая боль от искалечившего его удара отвлекли внимание Христиана от волков; он со всей ясностью осознал, что бежавшее впереди смертоносное существо воплощало в себе несказанно большую опасность.
Когда же Христиан спохватился и оглянулся назад, он узрел чудо, ибо волчья стая, едва добравшись до их следов, тут же испуганно отпрянула в сторону; завывания погони сменились визгом и скулением. Это падшее существо было так же отвратительно для зверя, как и для человека.
Белая Шубка подобрала складки одеяния и плотнее запахнулась в свои меха, так что теперь они больше не развевались у пят и ни единый клочок меха не свисал ниже колен, и проделала все это легко, продолжая бежать с удивительной быстротой. Она все так же высоко держала голову и крепко сжимала губы, дыша через раздутые ноздри, и в ужасной скорости ее бега не чувствовалось ни малейшего признака усталости.
На Христиане уже ощутимо сказывалось напряжение. Голова его отяжелела, затрудненное дыхание с громким хрипом вырывалось из груди; медвежье копье было бы теперь для него тяжким бременем. Сердце его стучало, как молот, мозг был окутан свинцовым туманом, и лишь постепенно он начал понимать, в каком беспомощном состоянии оказался: раненый и безоружный, он преследовал жуткое существо, которое было сейчас свирепой, отчаянной, вооруженной топором женщиной и вскоре должно было обратиться в хищного и еще более грозного зверя.
Далекие звезды не торопились: до полуночи оставался еще почти час.
Помутившийся разум рисовал перед Христианом невиданные образы: ему чудилось, будто Белая Шубка спасается от полуночных звезд, столь медлительных, что в безумной гонке по полярному кругу мира прошли многие дни — и многие дни пройдут, прежде чем наступит конец, если только она не ослабеет или он не сдастся.
Но он еще не готов был сдаться.
Как долго он повторял это себе? В прежней самоуверенности он не нуждался в подобном подспорье; но сейчас это заклинание казалось единственным средством удержать раздувающееся сердце в груди и усыхающий мозг в голове. Какое-то животное рвало и дергало острыми зубами его искалеченную левую руку; он не видел его, не мог стряхнуть, но порой молился, чтобы оно исчезло.
Ясные звезды впереди задрожали, и он знал, почему: они страшились того, что гналось за ним. Раньше он и не догадывался, какие странные существа прячутся от людей под видом заснеженных холмов или раскачивающихся деревьев; и вот они скинули свои безобидные маски и помчались за ним, смеясь над его бессильными попытками заставить родственное им создание принять истинный облик. Он знал, что они кишели в воздухе за его спиной, слышал слитное бормотание их бесчисленных легионов; но их никак не удавалось увидеть, так как они были слишком быстры и проворны. Однако он твердо знал, что они были там: оглядываясь назад, он видел, как разбухали снежные холмы, когда существа эти уползали с глаз долой, прижимаясь к земле, как качались деревья, когда они недвижно замирали, скрываясь меж ветвей.
После звезды на некоторое время вновь обрели четкость, и хладный серый мир сковала бесконечная тишина, нарушаемая лишь быстрым ровным топотом ее летящих ступней и ударами его собственных ног, более медленными в размашистом беге, а еще звуком его дыхания. В редкие минуты просветления он говорил себе, что должен бежать все также быстро, невзирая на боль и страдания, должен напрячь все силы и до полуночи не позволить ей скрыться или увеличить расстояние между ними. Затем снова появлялась эта невидимая толпа, жужжащая и копошащаяся позади, достаточно плотная и темная, чтобы заслонить звезды у него за спиной, но постоянно и ловко избегающая его взгляда.
Гонка оборвалась внезапно и жутко. Белая Шубка развернулась и прыгнула вправо, а у ног застигнутого врасплох Христиана, не готового к столь быстрому рывку, разверзлась глубокая расщелина. Он не успел бы остановиться, однако, уже падая, вцепился в ее правую руку здоровой рукой, и они вместе закачались на краю пропасти.
Белая Шубка дернулась в сторону, пытаясь удержаться, и тем уравновесила его в падении; мгновение спустя оба оказались в безопасности.
И прежде, чем Христиан окончательно уверился, что они не погибнут, рухнув вниз, он услышал, как она в дикой ярости заскрежетала зубами, стараясь освободиться. Он по-прежнему удерживал ее правую руку, и она выхватила топор левой и нанесла удар.
Удар этот, тем не менее, был достаточно силен; правая рука Христиана бессильно упала, рассеченная, с переломанным предплечьем, и его пронзила ужасная боль, когда рука задергалась в разные стороны от прыжка вперед; он бросился следом за ней, спеша наверстать те несколько ярдов, которые она выиграла, пока он приходил в себя.
Спасение от гибели и эта новая острая боль снова оживили все фибры его души и тела. Он понимал, что преследует воплощенную Смерть: раненый и беспомощный, он был полностью в ее власти, и она могла осознать это и начать действовать. Он больше не надеялся отомстить, спасти, и лишь отчаяние при мысли о Свене заставляло его все бежать и бежать за ней, опережая брата, обреченного на смерть ее поцелуем. От его изначальной уверенности в себе остался лишь последний луч надежды; о, если он только сумеет гнать это существо до полуночи и увидеть, как оно преображается, переходя из соблазнительной и коварной женской формы в вечную тюрьму звериного облика!
— Свен, Свен, о, Свен!
Христиану казалось, но он молится, но сердце его твердило одно:
— Свен, Свен, о Свен!
Последний час, что оставался до полуночи, утратил половину, и звезды восходили, отсчитывая долгие минуты; и его раздувающееся сердце, и усыхающий мозг, и агония боли в болтающихся по обе стороны туловища руках, словно сговорившись, устрашали волю, что обладала лишь кажущейся властью над бегущими ногами.
Мех плотно прилегал теперь к телу Белой Шубки; не выбивался ни единый клочок, ни одна лента; бегунья, ранее державшаяся прямо, теперь странно наклонилась и вытянулась вперед. По временам она мчалась длинными прыжками, набирая скорость, и Христиан мучительно старался не отставать.
Звезды восходили, близился конец, и черный выводок снова появился сзади, следуя за ними по пятам. Ах! если бы только их можно было заставить замолчать, не шевелиться, не сбрасывать свои обычные безобидные маски, дабы эти лики не подгоняли несущуюся с последней быстротой и самую смертоносную их соплеменницу! На что они походили? Узнает ли он когда-либо? Не будь он вынужден бежать за падшей тварью, которой придется вскоре обрести истинное обличие, он мог бы повернуться и пойти за ними. Нет — нет — не так: будь он волен делать что-либо еще, кроме как мучительно гнаться, гнаться и гнаться за ней, он просто остановился бы, застыл в неподвижности и умер, избавясь наконец от боли, что причиняло дыхание.
Вконец растерявшись, он внезапно засомневался в собственной личности, в своей истинной форме. Он не мог быть настоящим мужчиной — точно так же, как это бегущее существо не могло быть настоящей женщиной; его истинный облик был лишь воплощен в форму мужчины, но каков он был, Христиан не знал. Не ведал он и истинного облика Свена. Свен упал к его ногам, когда он ударил его — он… родного брата… он споткнулся о распростертое тело, и был вынужден перескочить через брата и побежать еще быстрее, ибо поцеловавшая Свена неслась стрелой.
— Свен, Свен, о, Свен!
Почему звезды перестали трепетать? Не иначе, наступила полночь!
Вытянувшееся стремительное существо бросило на него свирепый, яростный взгляд и рассмеялось с диким презрением и торжеством. В мгновение ока он понял причину: еще немного, и она ускользнула бы от него. Почва здесь шла под уклон и была покрыта льдом, а с другой стороны поднималась под крутым углом; между двумя склонами оставалось достаточно места для стопы, но едва ли удалось бы устоять на ногах — однако росший там куст можжевельника мог послужить вполне надежной опорой для руки и позволить человеку с крепкой хваткой благополучно миновать опасный участок.
И вот, хотя первые секунды последнего мгновения уже истекли, тварь осмелилась оглянуться и злобно рассмеяться над преследователем, чьи руки были бессильны помочь.
Развязка вдохнула судорожную жизнь в его последнее великое усилие; его воля неукротимо восстала и быстрота его была несравненной. И не успел еще замереть ее смех, как он устремился вперед, опережая ее, и повернулся, преграждая ей путь, и приготовился к схватке.
Она в отчаянии кинулась на него, сделав обманное движение правой рукой, и вся развернулась в прыжке — так бросается дикий зверь, чтобы убить. Одна рука Христиана не в силах была сжаться в кулак, другая была не в силах направить пальцы, но он все же поймал и удержал ее. И они упали вместе. И он, чувствуя, как одна рука соскальзывает, а другая разжимается в ослепляющей боли переломанных костей, вцепился зубами в край ее одеяния у колена. Борьба была недолгой: она стряхнула его руки, поднялась и победоносно выпрямилась над ним.
Молнией блеснул ее топор, когда она ударила его по шее — раз, другой — и его жизнь, его кровь хлынула из глубоких ран, окрасив ее ноги.
Звезды взошли, и стала полночь.
Предсмертный вопль, который он услышал, был исторгнут не им, так как его стиснутые зубы еще не успели разжаться; и этот ужасный крик начался с женского визга, но сменился и завершился воем зверя. И прежде, чем последняя тьма заволокла его умирающие глаза, он увидел, что Она превратилась в Это; и более того, что Жизнь уступила место Смерти — беспричинно, непостижимо.
Ибо он не мог предполагать, что никакая святая вода не бывает столь свята и так властно не искореняет зло, как живая кровь чистого сердца, пролитая по доброй воле из преданности ближнему.
Его собственная истинная и сокрытая сущность, которую он так хотел познать, стала осязаемой, узнаваемой. Ему казалось, что великая и радостная безграничная надежда на спасение брата разрасталась до звездных пределов и, не вмещаясь в ограниченную форму человека, жаждала нового воплощения, бесконечного, как звезды.
И эта истинная сущность была равнодушна к тому, что мозг человека усыхал, сокращался, пока не превратился в ничто; что тело человека не могло удержать громадную боль его сердца и извергало ее через красный разрез, зиявший на шее; что черный шум снова нарастал позади, усиленный этой растворяющейся формой, и навсегда затмил зрение, слух, чувства человека.
В раннем сером свете дня Свен случайно наткнулся на человеческие следы — человек бежал, как он понял по отпечаткам в снегу; направление, в котором шли следы, возбудило его любопытство, поскольку чуть дальше их линию должен был пересечь край отвесной скалы. Он двинулся по следам, и тут его внимание привлекло расстояние между отпечатками — бегун мчался такими же длинными прыжками, как сам он во время бега. Свен понял, что идет по следам Христиана.
В гневе он с безразличием воспринял ночное отсутствие брата, но теперь, увидев, куда ведут следы, ощутил угрызения совести и страх. Он не подумал и не позаботился о своем бедном обезумевшем близнеце, который мог — возможно ли это? — в помрачении броситься в пропасть.
Его сердце замерло, когда он подошел к тому месту, где Христиан прыгнул вниз. Нависавший над обрывом снежный козырек обрушился, когда Христиан оттолкнулся — и, напрягая зрение, Свен не различил под скалой ничего, кроме снега. Он пробежал по верхнему краю несколько сотен ярдов, пока не добрался до провала. Здесь он, оскальзываясь, спустился вниз, а затем вернулся к сугробу у подножия склона. Отсюда вновь уходил вдаль след стремительного бега.
Свен стоял в раздумье, досадуя, что кто-то мог совершить прыжок, на который сам он не отважился; сердясь на себя за то, что поддался болезненным мыслям; тщетно гадая о цели безумной выходки Христиана. После он медленно побрел вперед, почти бессознательно идя по следу брата, и вскоре достиг места, где следы удваивались.
Второй след составляли отпечатки маленьких ног, маленьких, как у женщины, хотя шаг был шире, чем могли бы позволить женские юбки.
Такие следы могла оставить Белая Шубка.
Страшная догадка ужаснула его, настолько страшная, что он не желал в нее верить. Однако лицо Свена стало пепельно-белым, и он тяжело задышал, чувствуя, как сердце замирает в груди. Невероятно? Пристальнее рассматривая следы, он увидел, что чуть дальше женский след изменился, свидетельствуя о быстром беге; ноги бегущей теперь глубже погружались в снег и легче опирались на пятки. Невозможно? Но могла ли так бежать другая женщина, кроме Белой Шубки? Мог ли бежать так другой мужчина, кроме Христиана?
Догадка превратилась в уверенность.
Здесь Белая Шубка, одна, в темной ночи, спасалась от преследования Христиана.
Подобное злодейство разжигало в сердце и разуме Свена ярость и негодование. И это зло угнездилось в его родном брате, который еще недавно был достоин любви, достоин уважения, хотя и глуповат в своей кротости! Он убьет Христиана; будь у Христиана столько же жизней, сколько он оставил следов, месть потребовала бы отнять их все.
Охваченный смертельной ненавистью, Свен заторопился дальше. След шел достаточно ровно, но Свен не мог двигаться с быстротой брата и Белой Шубки и вскоре вынужден был остановиться, чтобы перевести изнуренное дыхание. Он громко проклинал Христиана и в бешеном порыве страсти выкрикивал имя Белой Шубки. Его горе изливалось яростью, невыносимой мукой жалости и стыда при мысли о том, что любимая, Белая Шубка, такая свободная и сияющая в минуту расставания после поцелуя, тотчас вынуждена была убегать, как затравленный зверь, отчаянно пытаясь спастись, и его обезумевший от ревности брат следовал за ней по пятам, в то время как сам он, ее возлюбленный, спокойно спал у огня. Если бы он знал, думал он в яростном и тщетном бунте против жестокости случившегося, если бы он только знал, он защитил бы ее всей силой любви; но теперь он мог оказать ей лишь одну услугу — убить Христиана.
Белая Шубка была несравненна в быстроте и ловкости; но она была женщиной, а Христиан превосходил быстротой бега всех мужчин и был крепче многих из них. Она была храброй, быстрой и сильной, но могла ли она противостоять обезумевшему человеку его силы и роста, мечтавшему отомстить брату, своему удачливому сопернику?
Миля за милей Свен с разрывающимся сердцем шел по следам, и с каждым шагом все более жалостным и трагическим казалось ему это свидетельство великолепной выносливости Белой Шубки, так долго продержавшейся в поединке со знаменитым бегуном Христианом. Так долго, так долго, что Свен испытывал безграничную любовь и восхищение, и бесконечны были его горе и гнев. Всякий раз, когда ее следы были видны ясно, Свен пускался бежать, безрассудно расточая силы. Израсходовав вскоре их все, он лишь тяжело тащился вперед, иногда теряя следы на голом льду или продуваемом ветром участке; но направление оставалось неизменным и, пройдя по прямой и затем чуть уклонившись вправо или влево, он снова выходил на след.
Так, час за часом, прошло больше половины этого зимнего дня, прежде чем он добрался до места, где утоптанный снег хранил множество отпечатков волчьих лап. Волки пришли — и самым поразительным образом скрылись! В нескольких шагах он нашел обрубленное острие медвежьего копья Христиана, а неподалеку и отброшенное бесполезное древко. Снег здесь был запятнан кровью, и следы накладывались друг на друга. Свен издал какой-то хриплый ликующий звук — на смех не хватило дыхания.
— О, Белая Шубка, моя бедная, храбрая любовь! Хороший удар! — простонал он, раздираемый жалостью и безмерным восхищением; следы подсказали ему, как она повернулась и взмахнула топором.
Вид крови воспламенил Свена, как раззадорил бы голодного зверя. Он сходил с ума от желания снова схватить Христиана за горло; теперь уж он его не выпустит, пока не раздавит его жизнь, или не выбьет из него жизнь, или не вырвет ее, или все это вместе, пока не разорвет его на части: и ах! только тогда, не раньше, его сердце зальется слезами, как дитя, как малая девочка, оплакивая жалостную судьбу его бедной потерянной любви.
Дальше… дальше… дальше… мучительные часы, невероятное напряжение сил, все дальше по следам этих двух великолепных бегунов, сознавая чудо их выносливости, но не сознавая чуда скорости — за три часа, остававшиеся до полуночи, они преодолели все то огромное расстояние, на которое ему понадобился весь день, от рассвета до сумерек. Ибо ясный день уже клонился к закату, когда он подошел к краю расщелины; следы поведали ему, как эти двое отчаянно цеплялись за жизнь, схватившись над пропастью, свежие пятна крови поодаль — о том, как Белая Шубка доблестно защищалась от его бесславного брата. Кровь лилась, пока холод не остановил ее ток, и Свен, идя по следам, испытывал дикую радость, понимая, что Христиан был серьезно ранен, и вновь сходил с ума от желая завершить начатое Белой Шубкой и тем утолить свою смертельную ненависть. Он начал чувствовать, что в бездне отчаяния еще сохранилось зерно надежды, и оно быстро прорастало в его душе при виде пятен крови брата.
Он изо всех сил рванулся вперед, то подгоняемый этой надеждой, то терзаемый отчаянием, мучительно стремясь добраться до конца, каким бы ужасным он ни был, кляня долгие мили, что еще оставалось в муках пройти.
И свет медленно уходил с неба, уступая место неясным пятнам звезд.
И он достиг конца своего пути.
На узком пятачке покоились два тела. Одно из них принадлежало Христиану, но другое — не Белой Шубке. Там, где кончались следы, лежала огромная белая волчица.
Увидев ее, Свен утратил последние силы; тело и душа его были повержены.
Звезды успели стать яркими и четкими, прежде чем он очнулся там, где упал ничком. Еле двигаясь, он подполз к мертвому брату, обнял его и застыл, боясь глянуть, боясь пошевелиться.
Холодный, окоченевший, мертвый уже несколько часов. И все же мертвое тело было для Свена единственным прибежищем и спасением в этот ужасный час. Его душа, не находя больше утешения в неверии, съежилась, дрожа, обнаженная и смиренная; и живой цеплялся за мертвого из жалкой потребности в благодати ушедшей души.
Он встал на колени и поднял тело. Христиан упал лицом вперед в снег, широко раскинув руки, и тело его закоченело на морозе; странный и страшный, он был слишком тяжел, и Свен снова положил его на землю и склонился над ним, обхватив брата руками и издав тихий душераздирающий стон.
Когда Свен наконец нашел в себе силы поднять тело брата и крепко прижать его руками в груди, он осмелился взглянуть на Существо, лежавшее поодаль. Руки и ноги Свена словно парализовало от ужаса и отвращения. Он лишился бы чувств, как последний трус, но мертвый Христиан в его объятиях придал ему мужества, и он заставил свои глаза вытерпеть это зрелище и мозг — впитать его до конца.
На теле Существа не было никаких ран, только пятна крови на лапах. Огромные беспощадные челюсти застыли в свирепом мертвом оскале. И его поцелуй: он не мог этого вынести, отвернулся и больше не смотрел.
И мертвый брат в его объятиях, зная все, последовал за этим ужасом и схватился с ним лицом к лицу ради него, Свена; ради него он пошел на страдания и смерть; глубокая смертельная рана на шее, одна рука и обе кисти потемнели от замерзшей крови — ради него! Он узнал брата в смерти, но не знал при жизни, не успел воздать ему должной мерой любви и преклонения. Тому внешнему человеку, которого он знал как Христиана, недоставало совершенства и силы, равной его собственной; и потому любовь и преклонение этого великого чистого сердца он принимал как должное; но во внутренней яви он был таким подлым, низким, черствым и презрительным по отношению к брату, отдавшему жизнь ради его спасения! Ледяное спокойствие смерти на лице Христиана ужасало Свена. Он не осмеливался прикоснуться к брату губами, что так недавно проклинали его, губами, оскверненными поцелуем ужаса, что был самой смертью.
Он с трудом поднялся на ноги, все еще обнимая Христиана. Мертвец высился в его руках, застыв неподвижно. Глаза были приоткрыты; голова замерла, слегка склонившись набок; руки оставались прямыми и раскинутыми. И весь он, вплоть до этих окровавленных рук, напоминал распятого.
Живой и мертвый двинулись назад по тому пути, что один прошел в глубочайшей страсти любви, а другой — в глубочайшей страсти ненависти. Всю ночь Свен пробирался по снегу, неся на себе тяжесть мертвого Христиана, ступая там, где прежде прошел, питая самые гнусные помыслы и проклиная со смертельной ненавистью брата, который лежал все это время мертвым и погиб ради него.
Холод, безмолвие, мрак окружали сильного человека, согбенного под скорбной ношей; и все же он твердо верил, что в эту ночь он спустился в ад, прошел адский огонь по дороге домой и пережил его только потому, что с ним был Христиан. Он твердо знал, что для него Христиан был как Христос, что Христиан страдал и умер, дабы спасти брата от грехов его.
Клеменс Хаусман (1861–1955) родилась в многодетной семье английского провинциального адвоката. Ее старший брат Альфред стал знаменитым поэтом и не менее знаменитым латинистом, младший, Лоуренс — известным драматургом, писателем и иллюстратором.
В 1883 г. Клеменс поступила в лондонскую школу искусств, позднее некоторое время работала как гравер для различных иллюстрированных изданий. С начала 1900-х годов была активисткой суфражистского движения: в 1908 г. вступила в Женский социально-политический союз, агрессивно боровшийся за избирательное право женщин, в 1909 г. стала одной из основательниц «Суфражистского ателье», затем вошла также в комитет Женской лиги по борьбе с налогами. В сентябре 1911 г. она была арестована за отказ платить налоги и отправлена в тюрьму, откуда была освобождена неделю спустя в результате протестов и демонстраций единомышленниц.
Большую часть жизни Клеменс Хаусман прожила со своим братом Лоуренсом, некоторые произведения которого также иллюстрировала. Ее собственные фантастические повести (Unknown Sea, 1898; The Life of Sir Aglovale de Galis, 1905) описываются как «христианские фантазии» на религиозные темы. Наиболее известна из них повесть «Волчица» (The Were-Wolf), впервые напечатанная в 1890 г. в журнале для молодых женщин Atalanta и породившая в последние десятилетия немало феминистических интерпретаций.
Перевод выполнен по первому отдельному изданию 1896 г.