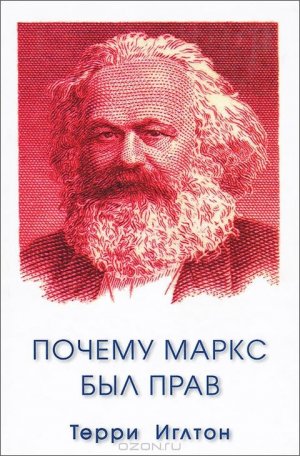
Посвящается Дому и Хади
Предисловие к изданию на русском языке М. Хазина
Маркса сегодня вновь привлекает колоссальный общественный интерес, тиражи его книг, в первую очередь «Капитала», бьют многолетние рекорды. Однако феномен Маркса на самом деле спрятан достаточно глубоко, и, не разобравшись в нем, читать Маркса не то чтобы бессмысленно, но крайне сложно. Ведь имя Маркса столько лет было на острие идеологической борьбы, что мифы и легенды неминуемо должны были замаскировать реальное содержание его жизни и деятельности, те проблемы, которые он поднимал. Как следствие, сегодняшние попытки использовать богатство идей, выдвинутых Марксом, могут оказаться малоэффективными, поскольку мифы и идеологемы, которыми за 130 лет, прошедших со дня смерти Маркса, обросло его имя, выскочат на поверхность раньше, чем глубокие и нетривиальные мысли Маркса об экономике.
Предлагаемая читателям книга Терри Иглтона «Почему Маркс был прав» крайне интересна тем, что она как раз пытается развеять многочисленные мифы, созданные за последние десятилетия. Уже только за это ее стоит прочитать. Вырываясь из плена явных или неявных аллюзий ко всему корпусу мифов о Марксе, Терри Иглтон, этот блестящий мыслитель, пытается понять, что значит Маркс для современного общества.
Да что далеко ходить — до сих пор «мейнстримовская» экономическая наука не может внятно объяснить причины настоящего кризиса, хотя его актуальность на первый взгляд много выше истории человека, жившего полтора века назад! Ровно из-за тех самых мифов и табу, которые связаны с историей развития экономической науки и именем Маркса в том числе! Поскольку первые соображения о реалиях, которые стали причиной нынешнего кризиса, были выдвинуты первым поколением последователей Маркса! Именно поэтому восстанавливать реальное значение этого человека не просто интересная, но и насущно важная задача. И именно этим занимается Терри Иглтон в книге «Почему Маркс был прав».
Так что свое предисловие к книге я посвящаю решению именно этой задачи: дать более или менее системное представление о том, какое место занимает Маркс в рамках идеологической картины мира. И настоятельно советую внимательно прочитать Терри Иглтона — поскольку понимание причин появления идеологических мифов не менее важно для понимания реальности, чем осознание реального состояния дел.
Для начала нужно отметить, что на сегодня в мире существует две экономические науки, условно говоря, политэкономия и экономике. И хотя та и другая ведут свое начало от Адама Смита, нужно все-таки помнить, что сам он назвал науку, которой занимался, именно «политэкономия», в первую очередь потому, что она носит не абсолютно объективный характер, а во многом определяется именно политической активностью людей. И это его мнение принципиально поддержал Маркс, главным результатом жизни которого, по мнению многих его современников, был именно вклад в политэкономическую науку. Отметим кстати, что понимание этой его роли, роли чистого ученого, уже сильно отличается от современного общественного мнения, которое считает Маркса в первую очередь философом и левым общественным деятелем.
Маркс не просто внес серьезный вклад в политэкономию, он принципиально изменил ее вид. Если до него политэкономия представляла собой набор отдельных теорий и концепций, принадлежащих разным людям, подходы которых довольно сильно различались, то Маркс превратил ее в целостную науку с единым системным подходом. И этим, на самом деле, подложил под нее колоссальную мину, которая рванула уже в XX веке.
Суть в том, что Маркс (и в этом общественное мнение право) был не только политэкономом, но и философом и по большому счету революционером, который создал современный «красный» глобальный проект, приведший к возникновению вначале Советского Союза, а затем и мировой системы социализма. И вклад его в разработку проектных принципов и идеологии «красного» проекта был настолько велик, что оторвать его от самого проекта стало совершенно невозможно. Но и политэкономию после Маркса тоже невозможно «очистить» от его влияния — поскольку, как уже говорилось, именно он превратил ее в системную дисциплину.
Благодаря такому совмещению уже после смерти Маркса случилось важнейшее для истории не только науки, но и всего общественного развития человечества событие — в результате уже конфликта «западного» и «красного» глобальных проектов Маркс стал знаменем и важнейшим идеологическим мифом последнего. А это значит, что проектная элита «западного» проекта была вынуждена кардинально изменить образ Маркса, дабы не давать идеологическую слабину. Кабинетные ученые, академические «ботаники», могли сколько угодно говорить о том, что работы Маркса по политэкономии не имеют никакого отношения к марксистской идеологии, — это было бессмысленно, их просто никто не слушал. Идеологическая машина колоссальной мощности начала свою работу, и помешать ей никто уже не мог.
Отметим, что тут работала даже не одна, а сразу две машины, потому что советская идеология тоже постоянно ссылалась на авторитет Маркса как источник своего превосходства, независимо от того, что он там говорил или тем более думал на самом деле. И те ученые, которые пытались остаться в парадигме академической чистоты науки, довольно быстро убеждались, что сопротивляться бесполезно: нужно или отказываться от более или менее приличных должностей, либо же встраиваться в одну из двух схем. При этом у идеологической машины «западного» проекта была одна серьезная проблема — экономическая наука-то, политэкономия, была все-таки построена именно Марксом, идеи которого, что называется, лезли из всех щелей! Ну что ж, значит нужно сочинять новую науку!
И она была сформирована под названием «экономике». Как и полагается, основана она была на авторитете классиков. Соответствующее течение придумало себе название «неоклассика», причем под классиками подразумевались А. Смит, Д. Рикардо и другие, но исключительно домарксовские экономисты. А вот политэкономии в статусе науки в рамках этой концепции было отказано — она стала считаться чисто идеологическим инструментом. Если бы в 1970-е годы в борьбе двух глобальных проектов, двух систем, победил бы СССР — над этим бы просто посмеялись. Но победил Запад — и политэкономию со всеми ее результатами попытались выкинуть на помойку.
Это оказалось не так-то просто, что говорит о том, что у политэкономии был серьезный научный базис, хотя и несколько подпорченный догматикой последних десятилетий СССР. Но тут как раз заработала политико-идеологическая машина. Если сегодня зайти в любой российский книжный магазин и посмотреть на полки, посвященные экономике, то можно увидеть несколько (а то и с десяток) учебников по экономике, изданных разными вузами России. Все они были написаны на западные гранты, практически одновременно, вместе с закрытием кафедр политэкономии. Надо думать, боялись политэкономию не зря, что хорошо понятно именно сегодня — ибо колоссально усилилось признание, что именно Маркс предсказал нынешний кризис и дал ему объяснение.
Но вернемся в начало XX века. Поскольку экономике создавалась как идеологический противовес политэкономии, она многие вопросы должна была трактовать альтернативным способом. Один из них — ключевой аспект идеологического противостояния двух систем — вопрос о неизбежности конца капитализма. Тот, кто еще помнит уроки в школе и институте, тут же вспоминает про исторический материализм, теорию смены формаций, в рамках которой социализм (в конце концов — коммунизм) закономерно приходит на смену капитализму.
Поскольку в «западной» модели никакой смены формаций нет и быть не может, то в рамках экономике «конца» капитализма не просто нет, эта тема намертво затабуирована. Но именно здесь-то зарыто самое страшное противоречие. Дело в том, что конец капитализма в политэкономии появился не в результате работ Маркса. Он следует из работ самого Адама Смита.
Мне даже в какой-то момент показалось, что саму теорию смены формаций Маркс, который, как известно, получил юридическое образование, а с политэкономией познакомился значительно позже, стал разрабатывать, так как понял, что политэкономия саму идею конца капитализма несет в качестве имманентной, неизвлекаемой части. И как следствие, он не мог не задуматься о тех формах, которые приобретет посткапиталистическое общество. В реальности развитие мысли Маркса, судя по всему, шло все-таки несколько по другому пути, но в нашем случае это совершенно не принципиально. Главное — отказ от политэкономии после распада мировой системы социализма и умаление роли Маркса как экономиста на самом деле не решили одной из главных проблем, ради которой создавалась экономике, — доказательства того, что капитализм вечен.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление в историю экономических учений, чтобы дальнейшие рассуждения были более понятными. Итак, уже в XVII веке, когда капиталистические отношения имели некоторую, пусть и не очень продолжительную историю, еще не экономисты, но, скорее, натурфилософы, ставили вопросы, которые мы сегодня должны бы отнести к предмету экономики. Например, как понять, какой из двух городов богаче.
Антонио Серра, живший в Италии на рубеже XVI–XVII веков, один из основателей теории меркантилизма, писал, что для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на количество профессий, которыми владеют жители этих городов. Чем больше профессий, тем богаче город. Я не буду здесь вдаваться в тонкости интерпретаций, но главное в том, что уже тогда, когда кардинал Ришелье был молодым, а Людовик XIII еще не женился на Анне Австрийской, думающие люди понимали суть только зарождающегося капитализма. Суть, которую мы бы сегодня описали так: чем выше уровень разделения труда в экономической системе, тем больше она создает прибавочного продукта. Собственно, весь современный капитализм — это углубление уровня разделения труда с использованием для этого капитала, сегодня это общее место всех экономических теорий, тут даже экономике с политэкономией не спорят.
Но вот дальше, спустя почти столетие, уже Адам Смит сделал блестящий и гениальный вывод. Он понял, что если есть замкнутая экономическая система (то есть не связанная с внешним миром), то уровень разделения труда будет углубляться только до некоторого предела, связанного с размерами этой системы. Или, другими словами, масштаб экономической системы определяет максимальный уровень разделения труда.
Важность этого вывода трудно переоценить! Из него, в частности, следует, что любая экономическая система, достигнув некоторого уровня разделения труда, просто вынуждена расширяться — в противном случае научно-технический прогресс в ней будет остановлен. Именно эта идея определила развитие мира, в том числе и на геополитическом уровне, в XX веке, именно она ответственна за Первую и Вторую мировые войны, именно она разрушила СССР и сегодня разрушает США… Впрочем, с практической точки зрения, и для Адама Смита, и для Маркса эти рассуждения были абстракцией…
Но с точки зрения философской эта идея заложила колоссальную мину под всю идеологию капитализма. Ведь если для развития капитализма нужно расширять рынки, то рано или поздно придется столкнуться с тем, что они станут размером со всю нашу планету. И что тогда? Тогда капитализм как система развития должен прекратить свое существование… Конечно же, в XVIII веке эта мысль была достаточно абстрактной (хотя опытный философ, такой как Маркс, изучая политэкономию Смита, вряд ли мог пройти мимо нее), но сегодня-то, в период глобальных рынков, ее актуальность стала весьма и весьма серьезной!
В истории политэкономической мысли соответствующий пласт идей развивался, и связано это было с работами Розы Люксембург конца XIX — начала XX века. Однако в силу острой политической борьбы одних течений марксистской мысли с другими у Розы Люксембург было много противников, в том числе и Ленин, который как-то поругался с ней именно по вопросу рынков. И как следствие, после создания СССР и смерти Ленина эти идеи развиваться перестали, поскольку из Ленина сделали икону. Так что, как это ни смешно, идеи А. Смита об объективности конца капитализма были затабуированы не только в рамках экономике, но и в рамках позднего развития политэкономии.
А что про эту идею Адама Смита говорит экономике? А вот выясняется, что ничего. Она просто выпала из всей неоклассической экономической мысли. Конец капитализма в экономике трактуется только в рамках философско-идеологических направлений учения Маркса и его последователей, причем именно как философский бред, а естественно-научная основа, рассмотренная А. Смитом, из поля зрения экономике выпала. И вот тут-то и возникает серьезнейшая коллизия.
Дело в том, что, как я уже говорил, современный экономический «мейнстрим», та самая неоклассика, создала в рамках противодействия социалистической политэкономии мощный идеологический пласт и тщательно затушевала многие спорные вопросы, в том числе те, которые лежат в ее основании. Пока дела шли хорошо, экономический рост продолжался, никто ни о чем не спрашивал, да и делать это было опасно, поскольку можно было получить ярлык идеологически неблагонадежного, что почти автоматически закрывало возможности и научной, и административной карьеры. Но сегодня ситуация принципиально изменилась.
Маятник, который после разрушения СССР сильно качнулся «вправо», теперь начал двигаться в противоположном направлении. И у всех идеологов «западного» глобального проекта появился серьезнейший вопрос: что делать дальше? Интерес к Марксу растет, и негоже оставлять его без внимания. Но вариантов тут несколько. Первый — сделать вид, что ничего и не изменилось и продолжать активное подавление любых не то что позитивных, но даже нейтральных упоминаний о Марксе. Но это опасный путь — поскольку на фоне постоянного падения уровня жизни населения он может спровоцировать резкий рост интереса ко всей теме некапиталистического развития, вернуть «красный» проект в жизнеспособное состояние.
Второй вариант — попытаться реанимировать Маркса как экономического мыслителя, лишив его «красной» ауры. Этот вариант, особенно в связи с исчезнувшей идеологической машиной «красного» проекта, вполне реализуемый. Есть только одна опасность — это потребует возвращения в оперативный оборот всей политэкономической проблематики, фактически реабилитацию этой науки. Против этого будут возражать (и активно возражают) лидеры экономике, тем сильнее, чем больше они имеют регалий и чем хуже состояние дел в мировой экономике.
Действительно, политэкономы смотрят на представителей экономике достаточно свободно, нобелевские премии им не указ. На фоне того, что экономике явно проспала нынешний кризис, это выглядит еще более опасно — можно и авторитет потерять. Я и мои коллеги с этим сталкивались неоднократно — разработанную нами теорию кризиса сторонники экономике отказываются признавать категорически, поскольку она основана на комплексе именно политэкономических идей. И по этой причине все представители экономике и контролируемые ими институты (включая МВФ, Всемирный банк, практически все центробанки и министерства финансов крупнейших стран и т. д.) активно выступают против этой идеи.
Есть и еще одна опасность — реабилитация политэкономии неминуемо поставит перед исследователями проблему роста рынков, поднятую А. Смитом. То есть фактически приведет к реинкарнации идей о неизбежности конца капитализма. И если личная судьба «экономиксистов» по большому счету элиту «западного» проекта не очень волнует, то вот этот последний довод ставит на таком варианте развития исторической судьбы Маркса большой крест. В рамках западного мира, разумеется.
И остается вариант третий — максимально разрекламировать Маркса как социального философа, актуального и глубокого, тщательно затушевав все политэкономические аспекты. При этом, конечно, придется признать, что его идеи использовались разными тоталитарными режимами, но в конце концов это все происходило после его смерти, так что он не очень-то и виноват. В результате можно будет создать безобидные «левые» движения псевдомарксистского толка (как в начале XX века создавалась социал-демократия, которая к нашему времени окончательно выродилась в чисто буржуазную систему), в рамках которых можно будет не только ослабить общий «левый» процесс, который усиливается по мере усиления экономического кризиса, но и «замылить» тот корпус политэкономической мысли, который представляет такую опасность для современного капиталистического общества.
И вот теперь мы вновь возвращаемся к книге Терри Иглтона «Почему Маркс был прав». Она посвящена разоблачению ряда мифов о Марксе, прежде всего мифов, связанных с Марксом — социальным философом. Делает это Терри Иглтон виртуозно, будучи одним из крупнейших и оригинальных мыслителей современности, он четко фиксирует то или иное широко распространенное утверждение о Марксе и проводит глубокий анализ, опираясь на точное цитирование Маркса и современную экономическую реальность.
Прочитать эту книгу полезно — и потому, что для российского человека, особенно получившего советское образование, крайне интересно узнать, как работала западная пропагандистская машина, какие она создавала мифы, и потому, что она показывает, как эта машина работает сегодня. И как создает о Марксе новые мифы.
Интересна эта книга и тем, кто интересуется экономикой или историей экономической мысли, поскольку она показывает, как возвращается в «легальный» оборот имя Маркса. Читатель с интеллектуальным любопытством будет наблюдать за выстраиванием и крушением мифов, сможет оценить, какая часть философского и политэкономического наследия «реабилитирована».
Наконец, эта книга демонстрирует общие проблемы современной западной мысли, которая не в состоянии описать и объяснить современный нам кризис ровно потому, что более 100 лет назад умышленно лишила себя возможности опираться на те идеи, которые в том числе разрабатывал один из самых выдающихся мыслителей — Карл Маркс.
В заключение я бы повторил, что реабилитация Маркса на Западе только началась, и книга Терри Иглтона, скорее всего, является только первой ласточкой. И любой человек, который размышляет о сути происходящих событий, в том числе экономических кризисов, должен понимать объяснительные модели, для чего крайне полезно настоящую книгу прочитать.
Хазин Михаил Леонидович,
президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН», действительный государственный советник в отставке.
Предисловие
Начало этой книге положила одна посетившая и поразившая меня мысль: что, если все наиболее известные возражения против работ Маркса являются необоснованными? А если и не полностью лишенными смысла, то все же в большинстве своем основанными на заблуждениях?
Сразу уточню, что я вовсе не собираюсь утверждать, будто сам Маркс никогда не допускал ошибок. Я не отношусь к тому типу левых радикалов, что громогласно провозглашают отсутствие закрытых для критики тем, но когда их просишь указать три главных недостатка идей Маркса, погружаются в мрачное молчание. То, что некоторые из этих идей лично у меня вызывают сомнения, наглядно продемонстрирует эта книга. Тем не менее Маркс был достаточно часто прав и по достаточно важным вопросам, чтобы применительно к своим взглядам я мог считать определение «марксист» в целом соответствующим действительности. Нет фрейдиста, воображающего, будто Фрейд никогда не попадал впросак, как нет и поклонника Хичкока, настаивающего на гениальности каждого его кадра и каждой сюжетной линии. Я рассматриваю идеи Маркса не как безупречные, но как заслуживающие внимания. Для иллюстрации такого подхода я собрал в этой книге десять наиболее типичных утверждений критиков Маркса и попытался по мере сил разобрать и опровергнуть каждое из этих утверждений просто в порядке поступления, даже если этот порядок не всегда отражал степень их важности. По ходу изложения я также намерен дать ясное и доступное изложение его идей для тех, кто не знаком с первоисточниками.
«Манифест коммунистической партии» характеризуется как «документ, оказавший, без сомнения, наибольшее влияние на ход событий из всего написанного в XIX веке». Очень малому числу мыслителей, в противовес политикам, исследователям, полководцам, религиозным лидерам и иным подобным деятелям, удавалось столь решительно изменить течение современной им истории, как автору «Манифеста». Ничего подобного не удалось ни картезианским правительствам, ни платонистским партизанским борцам[1], ни гегельянским профессиональным союзам. Самые непримиримые критики Маркса не берутся отрицать, что он преобразовал наше понимание человеческой истории. Антисоциалистический публицист Людвиг фон Мизес описывает социализм как «наиболее мощное модернизационное движение, которое когда-либо знала история, первое идеологическое течение, не ограничивающееся той или иной частью человечества, но поддерживаемое представителями всех рас, наций, религий и культур»[2]. Тем не менее по-прежнему широко бытует точка зрения, следуя которой в наше время Маркса и его идеи можно со спокойной душой похоронить — и это на фоне одного из наиболее разрушительных кризисов на всем капиталистическом этапе истории. Марксизм, долгое время являвшийся теоретически наиболее оснащенной и политически бескомпромиссной критикой этой системы, ныне благодушно препоручается патриархальному прошлому.
Данный кризис привел, помимо всего прочего, к тому, что слово «капитализм», обычно стыдливо скрывающееся под различными псевдонимами вроде «современная эпоха», «индустриальное общество» или «Запад», снова вошло в широкое употребление. Поистине раз люди начинают говорить о капитализме, значит эта система дала сбой. Само внимание к вопросу служит точным показателем того, что капитализм перестает восприниматься столь же неотъемлемой частью окружающего мира, как воздух, которым мы дышим, и может быть рассмотрен как историческое, причем сравнительно недавно возникшее, образование. Можно даже сказать, что именно потому, что все, некогда родившееся, подвержено смерти, социальные системы стремятся представить себя бессмертными. Как приступ тропической лихорадки заставляет вас по-новому почувствовать собственное тело, так и для определенной формы общественной жизни бывает легче понять, что она собой представляет, когда эта форма начинает разрушаться. Маркс был первым, кто четко определил исторический объект, известный как капитализм, показал, как он возник, по каким законам функционирует и как с ним можно покончить. Подобно тому как Ньютон открыл невидимые силы, известные теперь как законы гравитации, а Фрейд наглядно представил функционирование невидимого феномена, известного как бессознательное, так Маркс раскрыл и продемонстрировал в нашей повседневной жизни не воспринимаемую обычными органами чувств сущность, известную как капиталистический способ производства.
В этой книге я очень мало говорю о марксизме как о критике нравственных и культурологических аспектов общественной жизни. Это связано с тем, что возражения марксизму по данным вопросам не столь широко распространены, и потому их рассмотрение выходит за рамки избранного мною формата. Тем не менее, на мой взгляд, исключительная глубина и разнообразие трудов, написанных марксистами по этой тематике, являются достаточной причиной для пристального внимания к наследию Маркса. Отчуждение, тотальная коммерциализация отношений, культивирование алчности, бездумный гедонизм и растущий нигилизм, истощение смысла и ценности человеческого существования — трудно найти серьезные возражения по этим вопросам, в которых отсутствовал бы веский вклад марксистской традиции.
На заре феминизма некоторые неуклюжие, но исполненные лучших побуждений авторы-мужчины прибегали к такому обороту: «Говоря „человек“, я, конечно же, имею в виду и мужчин, и женщин». Подобным образом и я хочу сразу заметить, что, говоря «Маркс», я в большинстве случаев имею в виду Маркса и Энгельса. Хотя отношения этих двух соавторов — отдельная история.
Я выражаю признательность Алексу Каллиникосу, Филипу Карпентеру и Элен Мейксинс Вуд, которые прочитали рукопись этой книги и высказали ряд ценных замечаний и предложений.
Глава 1
Марксизм закончился. Он мог до некоторой степени отражать ситуацию в мире фабрик и голодных бунтов, угольных копей и трубочистов) повсеместной нищеты и многочисленных трудящихся классов. Но он, безусловно, не имеет отношения к социально мобильным и все более утрачивающим классовые различия современным обществам Запада. И сейчас марксизм остается просто символом веры для тех, кто слишком упрям, труслив или наивен, чтобы признать, что мир изменился и приблизился к добру в самом широком смысле этого слова.
Известие о том, что марксизм закончился, везде и всюду прозвучало бы как музыка для ушей марксистов. Ведь это означало бы, что они могут свернуть свои демонстрации и пикеты, вернуться в лоно своих исстрадавшихся семей и вечерами радоваться жизни вместе с домашними, а не вести утомительные дискуссии в партийных комитетах. Марксисты не желают ничего более, кроме как перестать быть марксистами. В этом отношении бытие в качестве марксиста не имеет ничего общего с бытием буддиста или миллионера. Оно гораздо больше похоже на жизнь врача, деятельность которого является достаточно своеобразной и, вообще говоря, самоотрицающей. Потому что, излечивая пациентов и надолго избавляя их от необходимости обращаться за лечением, врачи сами себя лишают работы. Подобно этому и задачей радикальных политических движений является достижение такой точки, где они перестали бы быть необходимыми по причине воплощения в жизнь всех своих планов. Тогда они могли бы откланяться, сжечь свои плакаты и листовки с Че Геварой, снова взять в руки давно откладывавшиеся скрипки и начать говорить о чем-нибудь более увлекательном, нежели азиатский способ производства. И если по завершении XX века еще остаются марксисты или феминисты, то это достойно сожаления. Марксизм есть сугубо временное занятие, и тот, кто посвящает ему всего себя, действует вразрез с главной его идеей. Потому что конечной целью и совершенным воплощением марксизма является жизнь после марксизма.
Есть только одна сложность с этим в других отношениях вполне привлекательным подходом. Марксизм является критикой капитализма — наиболее глубокой, строгой и всеобъемлющей критикой из всех когда-либо звучавших в его адрес с момента появления. Марксистская критика также является единственной, которая смогла повлиять на огромные части земного шара. Отсюда следует, что, до тех пор пока капитализм продолжает «делать деньги», марксизм также должен оставаться в строю, и только после отставки оппонента он может отправиться на заслуженный отдых. Капитализм же в последнее время выглядит как никогда склочным и раздражительным. Большинство же нынешних критиков марксизма не обсуждают его основы; их претензии сводятся скорее к тому, что со времен Маркса система изменилась почти до неузнаваемости, и по этой причине его идеи более не являются актуальными. Прежде чем переходить к более детальному рассмотрению этих претензий, стоит напомнить, что сам Маркс прекрасно понимал постоянно-изменчивый характер исследуемой им системы и что именно в марксизме мы имеем концепцию различных исторических форм капитала: торгового, аграрного, промышленного, монопольного, финансового, империалистического и так далее. Тогда почему же тот факт, что в последние десятилетия капитализм изменил свою форму, должен ниспровергать теорию, которая рассматривает изменчивость как одну из его существенных особенностей? Тем более что сам Маркс предсказывал, что по мере роста производительности труда будет снижаться удельная численность промышленных рабочих и резко возрастет число занятых в непроизводственных секторах; подробнее мы поговорим об этом чуть позже. Он также предвидел так называемую глобализацию — удивительно для человека, чьи мысли предлагается считать устаревшими. Хотя, может быть, «стародавнее» качество идей Маркса как раз и делает их вполне актуальными в наши дни и на обозримую перспективу. А в устаревании его обвиняют поборники капитализма, стремительно возвращающиеся к викторианским масштабам неравенства.
В 1976 году достаточно много людей на Западе признавали наличие у марксизма разумных доводов в свою пользу. К 1986 году многие из них уже не признавали, что таковые доводы имеются. Что же случилось за это время? Может, эти люди просто оказались погребенными под грудами детских пеленок? Или какое-то новое потрясшее мир исследование разоблачило теорию Маркса как подделку? Или мы наткнулись на некую долгое время остававшуюся неизвестной рукопись Маркса, в которой он признается, что все это было шуткой? Нам также не довелось к своему ужасу обнаружить, что Маркс находился на содержании у капитала. Потому что мы всегда это знали. Без текстильной фабрики Ermen & Engels в Салфорде, принадлежавшей отцу Фридриха Энгельса, постоянно нуждавшийся Маркс мог и не пережить газетной полемики с текстильными фабрикантами.
Но кое-что в интересующий нас период действительно произошло. Начиная с середины 1970-х годов западная система пережила ряд весьма существенных изменений[3]. На смену традиционному промышленному производству приходит «постиндустриальная» культура организации потребления, коммуникаций, информационных технологий и индустрии сервиса. На первый план выходят небольшие, децентрализованные, полифункциональные предприятия без жестких управляющих иерархий. Управление рынками упраздняется, а движение рабочего класса подвергается дикому политическому давлению и юридическим преследованиям. Традиционная классовая солидарность ослабевает, тогда как местнические, семейно-клановые и этнические связи укрепляются опережающими темпами. Политические деятели становятся все более контролируемыми и управляемыми.
Новые информационные технологии превратились в ключевой ресурс нарастающей глобализации системы, и одновременно горстка транснациональных корпораций в погоне за легкими прибылями распределяла по планете свое производство и инвестиции. В результате перевод значительной части производственных мощностей в «слаборазвитые» страны с дешевой рабочей силой привел некоторых не видящих дальше своего живота западных деятелей к выводу, что тяжелая промышленность вовсе должна исчезнуть с нашей планеты. Последовавшие за этими масштабными изменениями массовые международные перемещения рабочей силы, в свою очередь, по мере того как в наиболее развитые экономики вливались обездоленные мигранты, привели к возрождению расизма и фашизма. И пока «периферийные» страны привыкали к выпавшему на их долю потогонному труду, скупке за бесценок их национального достояния, усеченным заработкам и чудовищно несправедливым условиям торговли, гладковыбритые руководители компаний из стран-метрополий срывали свои галстуки, распускали воротнички стильных сорочек и томились мыслями о духовном благополучии своих работников.
Ничего этого не наблюдалось, когда капиталистическая система находилась в бодром и жизнерадостном состоянии. Напротив, вновь обнаружившийся воинственный настрой, как и большинство форм агрессии, вырастал из глубинной тревоги. Если система демонстрировала маниакальность, то причиной этого была ее скрытая депрессия. Среди факторов, приведших к такой трансформации, главным стал, пожалуй, внезапно угасший послевоенный бум. Обостряющаяся международная конкуренция заставляла снижать нормы прибыли, иссушала источники инвестиций и замедляла темпы роста. В таких условиях даже выбор социал-демократов становился слишком радикальным и дорогостоящим политическим шагом. Поэтому данный этап вывел на авансцену Рейгана и Тэтчер, которые старались содействовать демонтажу традиционной промышленности, обуздывать рабочее движение, давать рынку «полный вперед», укреплять репрессивные рычаги государства и продвигать новую социальную философию, известную как бесстыдное стяжательство. Однако перетекание инвестиций из производства в сервис, финансовую и коммуникационную индустрии, что было реакцией на затянувшийся экономический кризис, не стало скачком из плохого старого мира в некий новый и прекрасный.
Правда, даже с учетом всего вышесказанного представляется сомнительным, что большинство радикалов, изменивших свое мнение о системе в период между 1970-ми и 1980-ми годами, сделали это просто потому, что вокруг стало меньше хлопкопрядильных фабрик. Главной причиной, побудившей эту публику вместе со своими банданами и бакенбардами забросить подальше марксизм, стало не это, а растущее убеждение, что режим, против которого они выступали, слишком прочен, чтобы рухнуть. Это было не иллюзией относительно нового капитализма, но разочарованием в возможности его изменить, каковое и стало решающим. Безусловно, нашлось предостаточно социалистов, которые смогли оправдать собственную слабость и уныние с помощью утверждения, что если бы система не могла меняться, то ничто не смогло бы поддержать ее существование. Однако за этим стояло прежде всего отсутствие веры в иную возможность, и это предопределило итог. Движение рабочего класса было до такой степени подавлено и обескровлено, а политический левый фланг столь сильно откатился назад, что будущее казалось бесследно пропавшим. Распад в конце 1980-х годов советского блока также способствовал углублению общего разочарования у многих левых; не добавляло оптимизма и то, что наиболее успешное радикальное движение современности — революционный национализм — явно стало выдыхаться. То, что порождало культуру постмодернизма с ее отказом от так называемых больших форм и торжествующим объявлением конца Истории, было связано главным образом с убежденностью в том, что отныне будущее обречено стать просто повторением настоящего. Или как выразился один плодовитый постмодернист: «Настоящее плюс больше разнообразия».
Ну а больше всего дискредитации марксизма в то время служило расползающееся ощущение политической импотенции. Трудно поддерживать веру в перемены, когда перемены кажутся снятыми с повестки дня, даже если вам, как никогда, требуется такую веру сохранить. Но если вы не сможете устоять перед кажущейся неизбежностью, то вы никогда не узнаете, такой ли уж неизбежной была эта неизбежность. Если же малодушные находили способ удержаться на своей последней точке зрения в течение двух последующих десятилетий, то они получали возможность наблюдать капитализм столь монументальный и неприступный, что не далее как в 2008 году банкоматы начали устанавливать прямо на центральных улицах. Они также увидели бы, как целый континент к югу от Панамского канала решительно сдвинулся политически влево. На сегодня «конец Истории» закончился. И в любом случае марксисты должны быть хорошо закалены, чтобы не рассыпаться от неудач. Они знавали и более крупные катастрофы. Политические преимущества всегда будут на стороне системы, находящейся у власти, пусть даже только потому, что у нее больше танков, чем у вас. Однако опрометчивые воззрения и радужные надежды конца 1960-х сделали последующий провал особенно отрезвляющей пилюлей для тех, кто сумел пережить эту эпоху.
В те времена людей сбивало с толку и делало в их глазах марксизм не заслуживающим доверия не то, что капитализм смог перекраситься. Дело обстояло прямо противоположным образом. Было очевидно, что, пока система продолжает двигаться, она остается «бизнесом» как обычно и даже более того. Ирония жизни состояла в том, что то, что помогало отбиваться от марксизма, одновременно пробуждало определенное доверие к его утверждениям. Это становилось до предела наглядным, поскольку подновленный социальный строй сошелся с ним лицом к лицу, оставив попытки выглядеть более мягким и умеренным и сделавшись более суровым и безжалостным, чем он был раньше. И это сделало марксистскую критику всех его аспектов более адресной и узнаваемой. В глобальном масштабе капитализм стал более сконцентрированным и хищническим, чем когда-либо прежде, а рабочий класс действительно численно вырос. Поэтому стало возможным представить себе будущее, в котором сверхбогач скрывается в своих укрепленных и охраняемых городках, а миллиард или около того обитателей трущоб ютятся в вонючих хибарах, окруженных колючей проволокой и сторожевыми вышками. В таких обстоятельствах утверждать, будто марксизм закончился, равносильно заявлению, что профессия пожарного устарела, поскольку поджигатели сделались более изобретательными и оснащенными, чем когда-либо раньше.
В наше время, как и предсказывал Маркс, разрыв в обеспеченности вырос чрезвычайно. Сегодня доход одного мексиканского миллиардера равен заработкам семнадцати миллионов его беднейших соотечественников. Капитализм создал больше богатств, чем когда-либо видела история, но издержки — куда входит не только крайняя нищета миллиардов людей — были астрономическими. Согласно данным Всемирного банка, в 2001 году 2,74 миллиарда человек жили на сумму менее двух долларов в день. На этом фоне отнюдь не выглядит невероятным будущее, в котором ядерные державы ведут войну из-за оскудевших ресурсов, причем это оскудение в значительной мере является следствием как раз капиталистического хозяйствования. Впервые в истории наша господствующая форма жизни оказалась в состоянии не просто порождать расизм и распространять культурный кретинизм, ввергающие нас в войну или заставляющие трудиться по законам осажденного лагеря, но обрела силу вовсе стереть нас с лица земли. Капитал будет поступать антисоциально, если это будет прибыльным для него, и в настоящее время это может означать разорение человечества в невообразимых масштабах. То, что вчера было апокалиптическими фантазиями, сегодня оборачивается трезвой оценкой реальности. Никогда ранее традиционный лозунг левых «Социализм или варварство» не звучал столь устрашающе и не был менее всего похож на риторическую виньетку. В этих условиях, как пишет Фредрик Джеймсон, «марксизм с необходимостью должен еще раз показать свою правоту»[4].
Потрясающее неравенство в распределении власти и достатка, империалистические войны, усиливающаяся эксплуатация, растущий репрессивный аппарат — все это не только характерные черты сегодняшнего мира, но еще и вопросы, над которыми марксисты размышляют и работают почти два столетия. И хочется надеяться, что потребуется не очень много уроков, чтобы обучить этому ныне здравствующих. Сам Маркс поражался жестокости процесса, посредством которого согнанное с земли крестьянство переплавлялось в городской пролетариат, что он мог лично наблюдать в избранном им для проживания графстве Англии, — процесса, через который сегодня проходят Бразилия, Россия, Индия и Китай. Тристрам Хант подчеркивает, что книга Майка Девиса «Планета трущоб», которая документально описывает не заслуживающие иного названия «зловонные клоаки», встреченные автором в Лагосе или Дакке, может рассматриваться как обновленная версия книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в…». По поводу Китая, превратившегося в «мастерскую мира», Хант замечает: «Специальные экономические зоны в Гуанчжоу или Шанхае выглядят жуткими напоминаниями о Манчестере и Глазго 1840-х годов»[5].
Так что же это — обновленный марксизм или капитализм как таковой? В свое время в викторианской Англии Маркс рассматривал систему как уже утратившую былую энергию и доказывал, что капитал, в период своего подъема способствовавший социальному развитию, теперь превратился в тормоз для него. Он рассматривал капиталистическое общество как погрязшее в иллюзиях и фетишизме, мифах и идолопоклонстве, но при этом безмерно чванящееся своим современным обликом. Его большая просвещенность — она же самодовольная вера в свой непревзойденный рационализм — была лишь разновидностью суеверия. И если капитализму удавалось добиться внушительного прогресса в каких-то областях, то имелось немало других сфер, в которых он прилагал огромные усилия, чтобы только оставаться на месте. Решающим ограничителем для капитализма, как указывал Маркс, является сам капитал, постоянное воспроизводство которого есть та граница, за которую он не может выйти. Этим и определяется, на первый взгляд, удивительная статичность и повторяемость этой наиболее динамичной из всех исторических формаций. Соответственно тот факт, что основной принцип капитализма остается неизменным, является главной и единственной причиной, в силу которой его марксистская критика продолжает оставаться в целом адекватной. Только продемонстрировав способность вырваться за свои собственные границы и начать нечто совершенно новое, система могла бы покончить со своим нынешним состоянием. Однако капитализм не способен создать будущее, которое не являлось бы ритуальным воспроизведением настоящего. Хотя, надо признать, в нем в самом деле присутствует больше разнообразия.
Капитализм сформировал огромный материальный потенциал. Тем не менее, хотя данный способ организации нашей жизни уже долгое время пытается доказать, что он способен всесторонне удовлетворять человеческие потребности, похоже, что он нисколько не приблизился к этой цели. Как долго мы готовы ждать обеспечения всех хотя бы на минимально достойном уровне? Почему мы продолжаем благодушно внимать мифам, будто баснословные богатства, производимые под контролем капитала, со временем станут доступны каждому? Будет ли мир воспринимать подобные требования крайне левых с такой же снисходительно-выжидательно-созерцательной отстраненностью? Деятели правого толка, которые признают, что в системе всегда присутствовала колоссальная несправедливость, но это вполне терпимо, а альтернатива еще хуже, по крайней мере более честны в своем нескрываемом цинизме, чем те, кто пытается уверять, что в конце концов все будет хорошо. Например, на свете живут как богатые, так и бедные люди, подобно тому как мы можем встретить людей с белой или черной кожей, и в перспективе выгоды положения состоятельных вполне могут распространиться на неимущих. Однако с учетом того что некоторые люди являются обездоленными, тогда как другие преуспевающими, это оказывается больше похоже на утверждение, что мир включает в себя и сыщиков, и преступников. Это так, но подобная логика затемняет тот факт, что сыщики существуют по причине наличия преступников…
Глава 2
Марксизм, возможно, хорош в теории. Однако всякий раз, когда он внедрялся в практику, результатом этого становились террор, тирания и массовые убийства в невообразимых масштабах. Марксизм может казаться хорошей идеей благополучным западным академикам, способным искренне верить во всеобщую свободу и демократию. Для миллионов же обычных людей он означал голод, лишения, пытки, принудительный труд, разоренную экономику и чудовищно жестокое государство. Так что те, кто, несмотря на все вышесказанное, продолжает поддерживать эту теорию, являются либо обманывающими самих себя глупцами, либо моральными уродами. Социализм означает недостаток свободы; он также означает недостаток материальных средств, поскольку их выпуск ограничивается из-за упразднения рыночных механизмов и стимулов.
Очень многие люди на Западе являются горячими приверженцами структур, запятнанных кровью. Христиане, например. Но мягкие, сердобольные личности, поддерживающие целые цивилизации, пропитанные кровью, предпочитают делать вид, что не знают об этом. Либералы и консерваторы в том числе. Современные капиталистические нации возникли как продукт истории рабства, геноцида, насилия и угнетения, и каждый их элемент не менее отвратителен, чем история маоистского Китая или сталинистского Советского Союза. Капитализм также воздвигался на крови и слезах, но в отличие от сталинизма и маоизма успел просуществовать достаточно долго для того, чтобы многие из этих ужасов стали забываться. И если Маркс избежал подобной амнезии, то отчасти потому, что жил в эпоху, когда система еще только формировалась.
Майк Девис в книге «Последние викторианские холокосты» пишет о десятках миллионов человек в Индии, Африке, Китае, Бразилии, Корее и России, погибших в результате голода, засухи и эпидемий, которые разразились в конце XIX века, но вовсе не были неизбежными и могли быть предотвращены. Многие из этих катастроф, как, в частности, взлет цен на зерновые, сделавший недоступными продукты питания для простых людей, произошли из-за слепого следования догме свободного рынка. Не все эти дикости закончились вместе с викторианской эпохой. В последние два десятилетия XX века число людей, вынужденных жить менее чем на два доллара в день, выросло почти на 100 миллионов[6]. Сегодня в Британии каждый третий ребенок живет ниже черты бедности, в то время как банкиры возмущаются, если их годовые бонусы «падают» до какого-то жалкого миллиона фунтов.
Впрочем, конечно же, капитализм оставил нам не только все эти мерзости, но также ряд поистине бесценных вещей. Помимо представителей среднего класса, глубоко уважающих Маркса, нам сложно себя представить без завещанных им свободы, демократии, гражданских прав, феминизма, республиканизма, научного прогресса и много чего еще, включая историю кризисов, потогонных заводов, фашизма, империалистических войн и актера Мела Гибсона. Однако у так называемой социалистической системы тоже были свои достижения. Китай и Советский Союз вывели своих граждан из экономической отсталости в современный индустриальный мир, правда, добившись этого за счет ужасающих человеческих потерь; причем эти потери оказались столь велики отчасти из-за враждебности капиталистического Запада. Эта враждебность, кроме того, вовлекла Советский Союз в гонку вооружений, которая еще больше деформировала его и без того подагрическую экономику и в конце концов довела до полного краха.
Тем не менее до этого он со своими союзниками смог обеспечить дешевое жилье, топливо, транспорт и культуру, полную занятость и впечатляющее социальное обеспечение для половины жителей Европы, а также гораздо более высокий уровень социального равенства и материального благосостояния, чем эти народы имели в прошлом. Коммунистическая Восточная Германия могла бы похвастать одной из лучших в мире систем детского здравоохранения. Советский Союз сыграл героическую роль в борьбе с фашистской заразой, а также помог свержению колониальных режимов. Наконец, он поддерживал такую солидарность между своими гражданами, которую нации Запада, похоже, способны демонстрировать только тогда, когда их начинают убивать выходцы из других стран. Все это, безусловно, не является равноценной заменой свободе, демократии и свежим овощам в магазине, но также не должно игнорироваться. Когда свобода и демократия в конце концов отправились на помощь советскому блоку, они делали это посредством шоковой терапии экономики, разновидности грабежа среди бела дня, деликатно названной приватизацией, посредством безработицы для десятков миллионов, поразительного роста нищеты и неравенства, закрытия бесплатных детских садов, ликвидации прав женщин и разрушения систем социального обеспечения, столь успешно служивших этим странам.
И все же достижения коммунизма с трудом перевешивают его издержки. Возможно, что некая форма диктаторского правления была практически неизбежна в суровых условиях раннего Советского Союза, однако это не должно было непременно означать «сталинизм» или нечто подобное. Говоря в целом, маоизм и сталинизм были крайне топорными и, как следствие, столь же кровавыми экспериментами, сделавшими саму идею социализма страшнейшим жупелом для многих из тех, кто больше всех мог бы выиграть от ее реализации.
А что же капитализм? Как я уже писал, безработица на Западе исчисляется миллионами и продолжает расти, а капиталистические экономики спасаются от коллапса только за счет изымания триллионов долларов у своих и без того находящихся в трудном положении граждан. А банкиры и финансисты, приведшие мировую финансовую систему на край пропасти, выстраиваясь в очередь на пластические операции, не сомневаются, что в случае узнавания их разорвут на куски разъяренные сограждане.
Замечание, что капитализм функционирует не столь долгое время, верно в том смысле, что он принес несметные богатства в не столь уж многие части мира. Но делал он это так же, как Сталин и Мао, за счет ошеломляющих человеческих издержек. И это относится не только к геноциду, голоду, империализму и работорговле. Плюс к тому система оказалась неспособной производить изобилие без создания огромных зон упадка и лишений рядом с собой. Верно и то, что такая язва не может разрастаться сколько-нибудь долго, потому что в наше время капиталистический образ жизни угрожает разрушением всей планеты. Один крупный западный экономист оценил изменение климата как «величайшее рыночное банкротство в истории»[7].
Сам Маркс никогда не считал, будто социализм можно достичь в условиях бедности. Подобный проект потребовал бы этакой мертвой петли во времени, примерно столь же реалистичной, как изобретение Интернета в Средневековье. До Сталина ни один марксист, включая Ленина, Троцкого и других большевистских лидеров, не считал это возможным. Вам не удастся за счет перераспределения материальных благ обеспечить всех, если имеется очень мало благ для перераспределения. Вам не удастся упразднить социальные классы в условиях скудости, поскольку конфликты из-за материальных ресурсов, которые слишком малы, чтобы обеспечить всех, просто вернут ситуацию в прежнее состояние. Как замечает Маркс в «Немецкой идеологии», результат революции в таких условиях свелся бы к появлению вновь «старого отвратительного бизнеса» (или в менее изящном переводе «того же старого дерьма»). Все, чего вы в лучшем случае сможете добиться, — это социально упорядоченной нужды. Если вам требуется накопить капитал более или менее с нуля, то самый эффективный путь к этому лежит через мотивацию получения прибыли. Личная заинтересованность в обогащении с большой вероятностью приведет к быстрому повышению вашего достатка, но в то же время это скорее всего обернется полным обнищанием других людей.
Равным образом Маркс никогда не высказывал мысли о возможности достижения социализма в одной-единственной стране. Движение должно быть международным или оно будет ничем. Это была позиция трезвого материалиста, а не витающего в облаках идеалиста. Если в мире, где производство специализировано и распределено между разными странами, социалистическая нация не сможет заручиться международной поддержкой, то ей не удастся также получить доступ к глобальным ресурсам, необходимым для устранения бедности. Производительных сил одной страны для этого едва ли будет достаточно. Экзотическая идея о социализме в одной стране, высказанная в 1920-х годах Сталиным, отчасти являлась циничным обыгрыванием того факта, что другие народы оказались не в состоянии прийти на помощь Советскому Союзу. Но к собственно Марксу это не имеет никакого отношения. Социалистическая революция, безусловно, должна начаться в каком-то одном месте, но она не может быть завершена внутри национальных границ. Выносить приговор социализму за его результаты в одной практически полностью изолированной стране — это примерно то же самое, что судить обо всем человечестве по данным изучения психопатов в клинике Каламазу.
Строить экономику с очень низкого уровня — работа изнурительная и мало вдохновляющая. Поэтому маловероятно, что мужчины и женщины, все как один, по собственной инициативе включатся в нее и будут безропотно переносить последующие трудности и лишения. Так что если такой проект не реализуется постепенно, под демократическим контролем и в соответствии с социалистическими ценностями, то авторитарное государство может вмешиваться в процесс и заставлять своих граждан выполнять то, за что они не склонны браться добровольно. Милитаризация труда в большевистской России — яркий тому пример. В результате, по страшной иронии, оказались подорванными те самые политические надстройки социализма (народная демократия, подлинное самоуправление), под которые в столь отчаянных усилиях пытались подвести экономический базис. Это все равно что быть приглашенными в гости лишь для того, чтобы узнать, что от вас требуется не только печь кексы и варить пиво, но еще и закладывать фундамент и настилать полы. Так что у вас будет не очень много времени, чтобы повеселиться.
В идеале социализм требует умелого, образованного, политически грамотного населения, укоренившихся гражданских институтов, высокоразвитой технической базы, прочных традиций либерального просвещения и демократии. Вот только вряд ли что-либо из этого окажется под рукой, если даже то удручающе малое число дорог, которое у вас есть, вы не можете нормально отремонтировать, или у вас нет системы страхования на случай болезни, или уже слышны шаги подступающей голодной смерти. Для народов, переживших колониальное управление, особенно высока вероятность обнаружить отсутствие тех преимуществ, которые я только что перечислил, поскольку колониальные власти не отличаются особым рвением при насаждении гражданских свобод или демократических институтов среди своих подданных.
Как настаивал Маркс, социализм также требует сокращения рабочего дня для обеспечения мужчин и женщин, с одной стороны, досугом для личных дел, с другой — условиями для участия в политическом и экономическом самоуправлении. Однако вы не сможете обеспечить это, если людям не во что обуться, а чтобы распределить ограниченное количество обуви среди миллионов граждан, скорее всего потребуется централизованный бюрократический аппарат. А если ваша страна переживает вторжение войск враждебных капиталистических держав, как это происходило в России после большевистской революции, то автократическое государство будет выглядеть тем более неизбежным. Британия в ходе Второй мировой войны была далека от автократии, но она отнюдь не была вполне свободной страной, и никто не рассчитывал, что она будет таковой.
Чтобы продвигаться к социализму, необходимо быть достаточно состоятельными как в прямом, так и в переносном смысле слова. Никто из марксистов, от Маркса и Энгельса до Ленина и Троцкого, никогда не мечтал о чем-либо ином. Если же вы сами несостоятельны, то тогда добрый сосед, достаточно обеспеченный материальными ресурсами, должен поспешить вам на помощь. В случае с большевиками это должно было означать таких соседей (прежде всего Германию), у которых тоже произошли революции. Если бы рабочий класс в этих странах смог свергнуть собственные капиталистические власти и взять производительные силы в свои руки, то эти ресурсы могли бы быть использованы, чтобы спасти первое в истории государство рабочих от бесследного исчезновения. И это было вовсе не такое несбыточное предположение, как может показаться. Европа в это время была охвачена революционными надеждами, а комитеты рабочих и солдатских депутатов (или советы) возникали в таких городах, как Берлин, Варшава, Вена, Мюнхен и Рига. Только когда эти восстания были подавлены, Ленин и Троцкий в полной мере осознали, в какой страшной нужде находится их собственная революция.
Это не означает, что строительство социализма не может быть начато в условиях недостатка средств. Суть в том, что без материальных ресурсов такое строительство очень подвержено искажениям, деформациям и превращению в итоге в чудовищную карикатуру на социализм, известную как сталинизм. Большевистская революция очень скоро обнаружила, что она осаждена империалистическими армиями Запада, а кроме того, ей угрожают внутренняя контрреволюция, голод в городах и кровавая гражданская война. Она была как на острове среди океана весьма враждебно настроенных крестьян, не желавших даже под дулами винтовок просто так отдавать плоды своего труда голодающим горожанам. При узком капиталистическом базисе, катастрофически низком уровне материального производства, зачаточном состоянии гражданских институтов, понесшем тяжелые потери рабочем классе, крестьянских восстаниях и постоянно разбухающей, подобно царской, бюрократии революция практически с первых шагов оказалась в глубоком кризисе. И в конце концов большевики, продолжая курс на модернизацию, повели к ней свой голодающий, отчаявшийся и изнуренный войной народ под дулом пистолета. Многие наиболее грамотные и политически активные рабочие погибли на субсидируемой Западом гражданской войне, что сужало социальную базу партии большевиков. Так что по прошествии не столь уж большого времени партия узурпировала рабочие советы, запретила независимую прессу и упразднила систему правосудия. Наступила пора подавления политического инакомыслия и оппозиционных партий, манипулирования выборами и милитаризации труда. Эта безжалостная антисоциалистическая программа сформировалась на фоне гражданской войны, повсеместного голода и внешнего вторжения. Экономика России лежала в руинах, а ее общественные структуры распадались. По трагической иронии, ставшей характерной чертой всего XX столетия, возможности социализма в наименьшей степени реализовались там, где это было более всего необходимо.
Историк Исаак Дойчер, рисуя картину происходившего, со своим обычным неподражаемым красноречием писал, что ситуация в России в это время «означала, что первая и до сих пор единственная самостоятельная попытка построить социализм была предпринята в максимально неблагоприятных условиях, в отсутствие активного международного рабочего движения, без плодотворного влияния устоявшихся и разносторонних духовных традиций, в окружении такой культурной отсталости, а то и дикости, общей незрелости и шараханий из крайности в крайность, что это практически неизбежно должно было исказить или завести в тупик искреннее стремление к социализму»[8]. В ответ на это один нахальный критик марксизма заявил, что подобные рассуждения ничего не стоят, поскольку марксизм в любом случае является авторитарным учением. И если случится так, что завтра марксизм объявится в окрестностях Лондона, то еще до конца недели в Доркинге появятся трудовые лагеря.
Сам Маркс, как мы увидим ниже, выступал против догматизма, военного террора, политического подавления и произвола со стороны государственных структур. Он считал, что политические представители должны быть подотчетны своим избирателям и осуждал современных ему германских социал-демократов за пассивность их политики. Он отстаивал свободу слова и гражданские права, возмущался насильственным формированием городских пролетариев (в его случае скорее в Англии, нежели в России) и считал, что процесс ликвидации общинной собственности на селе должен быть добровольным, а не принудительным. Но даже просто как человек, признающий, что социализм не может процветать в условиях скудости, он без труда разобрался бы, как российская революция пришла к своему краху.
Как бы парадоксально это ни звучало, но в определенном смысле сталинизм не только не стал дискредитацией трудов Маркса, но и представил свидетельства их истинности. Если вы хотите убедительного анализа того, как возник сталинизм, то вы придете к марксизму. Сугубо морализаторские осуждения чудовища здесь явно недостаточны. Нам необходимо знать, в каких материальных условиях он сложился, как функционировал и как его можно было устранить, а эти вопросы лучше всего разработаны в ряде ведущих течений марксизма. Имеются в виду марксисты, многие из которых являлись последователями Льва Троцкого или той или иной формы «либертарианского» социализма (имеется ряд существенных отличий от западных либералов), которые в своей критике так называемых коммунистических обществ были гораздо более твердыми и последовательными. Они не ограничивались высказыванием пожеланий расширения демократии или гражданских прав, но призывали к ниспровержению всей репрессивной системы и призывали к этому именно как социалисты. Причем с подобными призывами они начали выступать буквально на следующий день после того, как Сталин взял власть. Вместе с тем они предостерегали, что если коммунистическая система не устоит, то она вполне может оказаться в лапах капиталистических хищников, жадно выжидающих, когда можно будет поживиться на руинах. Лев Троцкий предсказывал именно такой конец для Советского Союза, и около двадцати лет назад его правота стала очевидной.
Представьте себе экспедицию слегка помешанных капиталистических цивилизаторов, которые пытаются превратить первобытное племя в команду безгранично алчных, технически подкованных предпринимателей, общающихся на жаргоне пиара и теории свободного рынка, и все это за нереально короткое время. Ясно, что итог такого эксперимента почти наверняка не смог бы дотянуть до потрясающего успеха. Но разве позволил бы этот факт вынести объективный приговор капитализму как таковому? Разумеется, нет. Думать так было бы не менее абсурдно, чем утверждать, что герл-гайды (девочки-скауты) должны быть распущены, потому что они не могут решать некоторые мудреные задачи из квантовой физики. Марксисты не считают, что мощная либеральная традиция от Томаса Джефферсона до Джона Стюарта Милля аннулируется с появлением секретных тюрем ЦРУ для пыток мусульман, даже если эти тюрьмы стали частью политики нынешних либеральных обществ. А вот критики марксизма редко обнаруживают готовность согласиться с тем, что картины злоключений и массового террора не являются опровержением теории.
Вместе с тем есть еще один аспект, который пытаются использовать для обоснования неработоспособности социализма. Даже если вам удастся построить его в условиях всяческого изобилия, то как вы сможете управлять сложной современной экономикой без использования рынка? Ответ значительного числа марксистов сводится к тому, что такой задачи перед вами никогда и не возникнет. Рынки, согласно их взглядам, будут оставаться составной частью социалистической экономики. Так называемый рыночный социализм предполагает будущее, в котором средства производства обобществлены, но при этом самоуправляемые кооперативы конкурируют друг с другом в рыночном пространстве[9]. При таком подходе ряд достоинств рынка сохранялся бы, тогда как некоторые из его недостатков можно было бы нейтрализовать. На уровне отдельных предприятий совместное владение обеспечивало бы рост эффективности, поскольку опыт показывает, что подобные кооперативы почти всегда столь же эффективны, как и капиталистические предприятия, а зачастую превосходят их. А на уровне экономики в целом конкуренция исключала бы возникновение проблем с информированием, распределением, стимулированием и других ограничений, вытекающих из традиционной сталинистской модели централизованного планирования.
Некоторые марксисты утверждают, что сам Маркс был рыночным социалистом, как минимум в том смысле, что он полагал, что рынок будет сохраняться на протяжении переходного периода, следующего за социалистической революцией. Он также считал, что рынок есть явление как эксплуатирующее, так и освобождающее, помогающее избавлению людей от их прежней зависимости от лендлордов и цеховых старшин. Рынок срывает покров таинственности с общественных отношений, выставляя напоказ их суровую реальность. Наблюдения Маркса по этому вопросу были столь точными и проницательными, что философ Ханна Арендт отозвалась о первых страницах коммунистического манифеста как о «величайшей похвале капитализму, которую вы когда-либо видели»[10]. Рыночные социалисты также подчеркивают, что рынок никоим образом не является специфически капиталистическим образованием. Даже Троцкий (хотя некоторые из его последователей могут удивиться, услышав об этом) поддерживал рынок — пусть даже лишь на период перехода к социализму и в сочетании с планированием экономики. Согласно его взглядам, это потребовалось бы как средство контроля точности и обоснованности планирования, поскольку «экономический учет немыслим без рыночных отношений»[11]. Вместе с советской левой оппозицией он был жестким критиком так называемой командной экономики.
Рыночный социализм предполагает устранение частной собственности, социальных классов и эксплуатации, а также переход экономического управления в руки действительных производителей. Во всех этих мерах данный подход приветствует и старается перенять достижения капиталистической экономики. Тем не менее часть марксистов воздерживается от того, чтобы признавать полезными слишком многие особенности этой экономики. При рыночном социализме все еще сохранялись бы товарное производство, неравенство, безработица и властвование рыночных сил за пределами человеческого контроля. Как не допустить, чтобы рабочие превратились просто в коллективных капиталистов, максимизирующих свои прибыли, снижающих качество, игнорирующих общественные нужды и насаждающих потребительское отношение к жизни ради непрерывности собственного обогащения? Как смогут они избежать хронического рыночного цейтнота и вытекающей отсюда привычки игнорировать общую социальную картину и долгосрочные антисоциальные последствия собственных ограниченных решений? Просвещение и контроль государства могут уменьшить эти угрозы, однако некоторые марксисты пытаются вместо этого придумать экономику, которая не была бы ни централизованно планируемой, ни рыночно регулируемой[12]. В этой модели предполагается, что ресурсы с помощью переговоров распределяются между производителями, потребителями и другими причастными к процессу сторонами, используя сети профессиональных, территориальных и потребительских комитетов. А базовые параметры экономики, включая решения об общем распределении ресурсов, объемах прироста и инвестиций, энергетике, транспорте, экологической политике и тому подобных вопросах, будут приниматься представительными органами на местном, региональном и национальном уровнях. Эти стратегические решения по поводу, скажем, распределения будут затем передаваться вниз на региональный и местный уровень, где будут последовательно проходить все более детальную разработку и привязку к конкретным условиям. При этом на каждом этапе важнейшей составной частью процесса принятия решений являются публичные обсуждения всех имеющихся альтернативных предложений и планов. При таком подходе определение того, что и как мы будем производить, в большей степени зависело бы от общественных потребностей, нежели от частной прибыли. При капитализме мы лишены возможности решать, хотим ли мы, чтобы производилось больше лекарств или хрустящих хлебцев. При социализме такое право будет регулярно осуществляться.
Власть в таких сообществах будет передаваться посредством демократических выборов и в основном с низших ступеней на высшие, а не сверху вниз. Демократически избранные представители каждой отрасли торговли или производства будут вести переговоры с национальной экономической комиссией, с тем чтобы получить согласованный пакет инвестиционных решений. Цены будут определяться не централизованно, а производящими подразделениями на основе предложений потребителей, пользователей, заинтересованных групп и т. д. Некоторые приверженцы подобной, как ее иногда называют, «соучаствующей» схемы придают ей вид смешанной социалистической экономики: наиболее важные для общества товары и услуги (продукты и другие средства жизнеобеспечения, лекарства, здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, финансовые институты, средства массовой информации и т. д.) должны выпускаться под публичным демократическим контролем, потому что те, кто их производит, склонны к антисоциальному поведению, и если они почуют шанс увеличить прибыли, то они им воспользуются. Тогда как менее социально значимая продукция (прежде всего предметы роскоши, но также и часть товаров широкого потребления) полностью остается под действием рынка. Часть рыночных социалистов находит всю эту схему слишком сложной, чтобы претендовать на работоспособность. Как однажды заметил Оскар Уайльд, проблема социализма в том, что он съедает слишком много вечернего времени. В то же время следует по меньшей мере обращать внимание на возможный вклад современных информационных технологий в «смазывание» приводных колес такой системы. Даже бывший вице-президент компании Procter & Gamble Пет Девин признавал, что это делает рабочее самоуправление реальной возможностью[13]. Плюс к тому он напоминает нам, насколько много времени тратится в наши дни на капиталистическое администрирование и организацию[14]. И не видно никаких достойных внимания аргументов, объясняющих, почему социалистическая альтернатива в этом отношении должна быть более затратной.
Некоторые сторонники «соучаствующей» модели полагают, что все должны получать равное вознаграждение за одинаковое количество отработанного времени. Вот что думает по этому поводу Майкл Альберт: «Врач, работающий в удобном месте и комфортном кабинете, получает больше, чем рабочий на конвейере, работающий в ужасном шуме, рискующий здоровьем и самой жизнью, вынужденный терпеть скуку и поношения независимо от того, насколько длинна или трудна каждая смена»[15]. И это действительно веская причина платить тем, кто занят на тяжелой, монотонной, грязной или опасной работе, больше, нежели, скажем, врачам или ученым, чья деятельность пока оплачивается значительно более высоко. На многие из имеющихся грязных или опасных работ, возможно, следовало бы привлекать бывших членов королевских фамилий. Нам надо пересматривать свои приоритеты.
Так как чуть выше я уже говорил о СМИ как о продуктах деятельности, наиболее готовых к переходу в общественную собственность, то давайте их же и возьмем в качестве примера для иллюстрации. Более полувека назад в превосходной небольшой книжке «Коммуникации»[16] Раймонд Вильямс обрисовал социалистический план для деятелей искусства и СМИ, в котором исключается государственный контроль за их содержанием, с одной стороны, и доминирование мотивов прибыли — с другой. Вместо этого предполагается, что люди, занятые в этой сфере, будут сами осуществлять контроль за средствами собственного выражения и коммуникации. Для этого «предприятия», фактически выпускающие продукцию творческих деятелей и СМИ, — радиостанции, концертные залы, телевизионные сети, театры, издательские комплексы и т. д. — переходят в общественную собственность (возможны различные формы такого обобществления), а их руководители будут выдвигаться демократически избранными органами. Эти органы будут включать в себя представителей широкой общественности, а также медийных или артистических сообществ.
Такие комиссии должны создаваться без участия государства и быть полностью независимыми от него, а их главной задачей будет распределять или «сдавать в аренду» находящиеся в общественной собственности материальные средства, необходимые для производства художественных ценностей. Эти общественные ресурсы могут предоставляться как индивидуальным деятелям, так и демократически самоуправляемым коллективам актеров, журналистов, музыкантов и т. д. В таком случае в своей работе эти люди были бы свободны как от государственного регулирования, так и от уродующего давления рынка. Помимо этих моментов, они были бы также защищены от ситуаций, когда кучка буйнопомешанных магнатов через принадлежащие им органы печати, теле- и радиоканалы диктует всему обществу, во что оно должно верить, что означает прежде всего их личные своекорыстные взгляды и поддерживаемую ими систему. Мы будем знать, что создаст сам социализм, когда сможем оглянуться назад, полностью отрешившись от идеи, будто горстка преступных торгашей способна давать зеленый свет уродованию общественного сознания не только в угоду собственным банковским счетам, но и ради каких-то других целей.
При капитализме многие массмедиа избегают предлагать своей аудитории сложные, дискуссионные или новаторские творения, так как это плохо отражается на прибылях. Всему этому они предпочитают банальность, сенсационность и тиражирование предрассудков. В отличие от них социалистические СМИ не будут запрещать что бы то ни было, за исключением разве что Шёнберга, Расина и бесконечных театрализованных постановок «Капитала» Маркса. Здесь будет изобилие популярных театров, каналов ТВ и газет. Ведь «популярные» не обязательно означает «низкопробные». Нельсон Мандела популярен, но не низкопробен. Множество обычных людей читают узкоспециализированные журналы, переполненные профессиональными терминами и жаргонизмами, недоступными для посторонних. И происходит так именно потому, что эти журналы повествуют преимущественно о рыбалке, сельхозоборудовании или разведении собак, а не об эстетике или эндокринологии. Популярность превращается в убожество и кич, когда у СМИ возникает желание как можно быстрее и без особых усилий отхватить как можно большую долю рынка. А такое желание вызывается главным образом коммерческими стимулами.
Социалисты, безусловно, будут продолжать спорить о деталях устройства посткапиталистической экономики, так как на сегодняшний день никто не смог предложить безупречной модели. И такое несовершенство можно противопоставить капиталистической экономике, порядок работы которой признается непогрешимым и которая никогда не считалась ответственной за некоторые проявления бедности, пустую трату средств или кризисы. В некоторых случаях для нее могли предполагать ответственность за совсем уж экстраординарные уровни безработицы, но ведущие капиталистические державы нашли простое решение для этого изъяна. В Соединенных Штатах сегодня более миллиона человек искали бы работу, если бы не находились в тюрьмах.
Глава 3
Марксизм есть форма детерминизма. Он рассматривает людей просто как орудия истории и таким образом отказывает им в свободе и индивидуальности мыслей и поступков. Маркс верил в некие железные законы истории, которые действуют сами по себе с неодолимой силой и которые никакие действия людей не могут остановить. Феодализм был обречен дать зародиться капитализму, а капитализм неизбежно уступит дорогу социализму. Таким образом, теория истории Маркса представляет собой лишь секуляризованную версию провидения или судьбы. И это противно человеческой свободе и достоинству не меньше, чем марксистские государства.
Попытаемся выяснить, что является отличительной чертой марксизма. Что есть у марксизма такого, чего нет у других теорий?
Это, очевидно, не относится к идее революции, которая высказывалась задолго до появления работ Маркса. Не является таким отличием и понятие коммунизма, каковое ведет свое происхождение со времен античности. Маркс не придумал социализм и коммунизм; рабочее движение в Европе осваивало социалистические идеи уже тогда, когда сам Маркс еще оставался либералом. Не относится к марксистским новинкам и идея революционной партии, которая пришла к нам из Французской революции. На самом деле, крайне трудно указать хоть какой-нибудь политический аспект, который был бы уникальным для его взглядов. Во всяком случае, сам Маркс очень мало говорил об этом.
Тогда, может, это концепция социального класса? Тоже нет, поскольку сам Маркс четко указывал, что не является ее автором. Да, он серьезно пересмотрел эту концепцию, но приоритет в этом вопросе принадлежит не ему. Равным образом не он предложил идею пролетариата, такая идея до него была хорошо известна целому ряду мыслителей XIX столетия. Наконец, его идея отчуждения была унаследована в основном от Гегеля, а некоторые ее элементы можно найти у выдающегося ирландского социалиста и феминиста Уильяма Томпсона. Далее мы также увидим, что Маркс не был единственным, кто признавал исключительно важной роль экономики в общественной жизни. Он верил в общество, свободное от эксплуатации, в котором люди совместно трудятся и сами организуют свою жизнь, и считал, что достичь этого можно только революционными средствами. Но точно таких же взглядов придерживался крупный социалист XIX века Раймонд Уильямс, который не считал себя марксистом. Многие анархисты, свободные социалисты и представители других течений могли бы подписаться под такой развернутой картиной общественной жизни, при этом решительно отрицая марксизм.
В основе учения Маркса лежат два главных тезиса. Первый из них — главенствующая роль экономики в общественной жизни; второй — преемственность и последовательность смены способов производства в истории. Тем не менее ниже мы увидим, что ни одно из этих положений не было нововведением Маркса. В таком случае не является ли особенностью марксизма концепция пусть не классов, но классовой борьбы? Возьмем одно двустишие о богатом лендлорде из стихотворения Оливера Голдсмита «Брошенная деревня»:
Как видим, соразмерность и экономность самих строк с их четко сбалансированной антитезой резко контрастирует с расточительностью и дисбалансами экономики, которая в них описывается. В стихах явно идет речь о классовой борьбе. То, что носит лендлорд, отнято у его крестьян-арендаторов. Или возьмем такие строки из «Комуса» Джона Мильтона:
Очень сходные сентенции встречаются и у короля Лира. Фактически Мильтон без лишнего шума позаимствовал эти идеи у Шекспира. Вольтер считал, что богатство пышно разрастается на крови бедных и что собственность лежит в основе всех социальных конфликтов. Практически то же самое, как мы увидим, утверждал Жан-Жак Руссо. Идея классовой борьбы отнюдь не принадлежит Марксу, и прежде всего он сам это отлично понимал.
Тем не менее эта идея является крайне важной для него. Достаточно сказать, что классовую борьбу Маркс рассматривал не больше и не меньше, как ту силу, которая движет человеческую историю. Это есть истинный мотор или привод человеческого развития, и такая идея едва ли могла посетить Джона Мильтона. При том, что многие исследователи социальных проб-лем рассматривали человеческое общество как естественное органическое объединение, по мнению Маркса, в его основе лежит разделение. Общество складывается из диаметрально противоположных интересов его членов, а его логика является логикой скорее конфликта, нежели согласия. Например, интересам класса капиталистов отвечает сохранение оплаты труда на низком уровне, тогда как получатели заработной платы заинтересованы в ее повышении.
Маркс предельно четко заявил в коммунистическом манифесте, что «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». Хотя, конечно же, он не мог трактовать это буквально. Если чистку моих зубов в прошлую среду можно считать частью истории, то рассматривать это как момент классовой борьбы затруднительно. Подать лег-брейк в крикете или оказаться насмерть перепуганным пингвинами — это не сильно напоминает пребывание в гуще классовой борьбы. Возможно, под историей в данном случае следует понимать события именно общественной, а не частной жизни вроде чистки зубов. Однако вчерашняя ночная ссора в баре получила достаточно большой общественный резонанс. Так что история, по-видимому, ограничивается крупными общественными событиями. Но по чьему определению, Маркса или нашему? И в любом случае как увязать с классовой борьбой, скажем, Великий пожар в Лондоне? Можно было бы считать примером классовой борьбы, если бы Че Гевара был сбит машиной, но при этом за рулем сидел агент ЦРУ; иначе это был бы просто несчастный случай. Тянущееся через века притеснение женщин и их попытки покончить с этим связаны с историей классовой борьбы, но они не являются всего лишь одним из ее элементов. То же можно сказать и о поэзии Уордсворта или Шеймуса Хини. Классовая борьба не может включать в себя все и вся.
Впрочем, не исключено, что и Маркс не воспринимал свое утверждение дословно. В конце концов «Манифест коммунистической партии» задумывался как средство политической пропаганды, и как таковое он полон риторических украшений. Но даже если так, то тем более важным становится вопрос, что действительно включает в себя и чего не касается марксистское учение. Некоторые марксисты, похоже, воспринимают его как «теорию вообще всего», но это, конечно же, не так. То обстоятельство, что марксизм не сказал ничего особо интересного о сбраживании виски или природе бессознательного, чарующем аромате розы или о том, почему существует скорее нечто, чем ничто, ничуть не дискредитирует его, поскольку он вовсе не претендует на роль всеобщей философии. Марксизм не предлагает нам объяснений красоты, или эротичности, или того, каким образом поэт Йейтс добивается удивительной созвучности в своих стихах. Он в основном отмалчивается в вопросах любви, смерти или смысла жизни. Зато в высшей степени пространно разъясняет, что всеми средствами тормозит и оттягивает расцвет цивилизации в настоящем и будущем. Однако наряду с марксизмом есть и другие важные и объемные сюжеты, такие как история науки, религии или вопросы, связанные с полом, которые отчасти пересекаются с опытом классовой борьбы, но не могут быть полностью к ней сведены. (Постмодернисты склонны полагать, что существует либо один главный сюжет, либо масса мини-сюжетов, но речь сейчас не об этом.) Таким образом, тезис «вся история является историей классовой борьбы», что бы ни думал по этому поводу сам Маркс, не может трактоваться в том смысле, что все когда-либо происходившее есть проявление классовой борьбы. Скорее, его следует понимать так, что классовая борьба есть наиболее фундаментальная составляющая человеческой истории.
Но опять-таки фундаментальная в каком смысле? Чем она более фундаментальна по сравнению с историей той же религии, науки или полового угнетения? С точки зрения побудительной силы мотивов для политических действий классовая принадлежность далеко не всегда оказывается самым влиятельным фактором. Отметим в этом плане роль этнического самосознания, чему марксизм уделял очень мало внимания. Энтони Гидденс утверждает, что межгосударственные конфликты, наряду с расовым и половым неравенством, «столь же важны, как и классовая эксплуатация»[17]. Вот только для чего они столь же важны? Хочет ли автор указать на их моральную и политическую важность или говорит о важности для достижения социализма? Порой мы называем фундаментальным тот объект или явление, которые являются необходимой основой для какого-то другого объекта или явления. Однако трудно представить себе, будто классовая борьба является необходимой основой для религиозных верований, научных исследований или угнетения женщин, хотя эти явления во многом пересекаются с ней. Но и отбросить указанное определение фундаментальности едва ли было бы правильным. Так что в итоге получаем: буддизм, астрофизику и конкурс Мисс мира следует исключить из рассмотрения.
Так для чего же классовая борьба является фундаментальной? Ответ Маркса мог бы быть двояким: а) она определяет форму огромного множества событий, учреждений и интеллектуальных проявлений, на первый взгляд совершенно к ней непричастных; и б) она играет решающую роль в тех бурных событиях, что знаменуют переход от одной исторической эпохи к другой. При этом под историей Маркс понимает не «все, что когда-либо случилось», а определенный вектор, в который складываются различные внешне наблюдаемые проявления глубинных процессов. Иначе говоря, он использует термин «история» не как синоним всего происходившего с человечеством от его появления и до сегодняшнего дня, а для обозначения принципиального направления событий.
Так является ли идея классовой борьбы тем, что отличает учение Маркса от других социальных теорий? Не совсем. Как мы уже видели, эта категория является для него не более оригинальной, чем концепция способа производства. А вот что действительно составляет уникальную особенность марксизма, так это объединение этих двух идей — классовой борьбы и способа производства, — позволившее рассмотреть абсолютно новый и оригинальный исторический сценарий. Конкретный способ, каким две идеи были сведены воедино, послужил предметом дискуссий среди марксистов, но самому Марксу едва ли доводилось пространно высказываться по этому поводу. А если бы мы взялись разбираться, в чем специфика его подхода, то нам не оставалось бы ничего лучшего, кроме как нажать кнопку и попросить здесь остановиться. В сущности, марксизм — это теория и практика долгосрочных исторических изменений. И понимание его, как мы увидим, является трудным делом именно потому, что то, что наиболее характерно для марксизма, является также наиболее проблематичным.
Говоря в общем, по Марксу, способ производства представляет собой сочетание определенных производительных сил с определенными производственными отношениями. К средствам производства относятся все те орудия, устройства и приспособления, с помощью которых мы работаем в окружающем нас мире ради воспроизводства материальных условий нашей жизни. Данное понятие охватывает все, что повышает человеческие возможности или контроль над природой в производственных процессах. Компьютеры есть средство производства, если они включены в материальное производство, а не служат лишь для болтовни о серийных убийцах, выдающих себя за добрых людей. Ослы в Ирландии XIX века были производительной силой. Рабочая сила человека является производительной силой. Но такого рода силы никогда не существуют в виде природного «сырья». Производительные силы всегда ограничиваются определенными общественными отношениями, под которыми Маркс понимал отношения между социальными классами. Например, один класс владеет и распоряжается средствами производства, и тогда другой оказывается в положении эксплуатируемого первым.
Маркс считал, что производительные силы имеют тенденцию развиваться по мере развертывания исторического процесса. Это однако не равносильно утверждению, что такое развитие совершается постоянно, поскольку он также допускал возможность длительных периодов стагнации. Агентом развития может быть любой социальный класс, который занимает командные позиции в материальном производстве. Согласно пониманию истории по Марксу, это выглядит так, как будто производительные силы «выбирают» тот класс, который более других способен обеспечить их расширение. Тем не менее наступает момент, когда господствующие общественные отношения перестают поддерживать рост производительных сил и, более того, начинают действовать как препятствие для них. С этого момента две составляющие способа производства быстро продвигаются к открытому противоречию, и эта стадия создает условия для политической революции. Классовая борьба обостряется, а социальный класс, способный двигать производительные силы вперед, отбирает политическую власть у ее прежних хозяев. К примеру, капитализм — при всех либеральных добродетелях связанных с ним общественных отношений — ковыляет от спада к спаду и от кризиса к кризису, так что в какой-то из моментов его ослабления рабочий класс окажется в состоянии взять на себя владение и управление производством. В одной из своих работ Маркс даже утверждал, что ни один новый класс не может занять место прежнего, пока этот последний не развил производительные силы до максимально доступного ему предела.
Эта мысль наиболее сжато выражена в следующем хорошо известном фрагменте:
«На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или — что является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции»[18].
Правда, по поводу данной теории возникает немало вопросов, на что практически сразу же обратили внимание сами марксисты. Возьмем для начала такой: почему Маркс принимал, что производительные силы в общем и целом выдерживают линию на развитие? Действительно, техническое развитие происходит в основном последовательно и необратимо, поскольку люди стараются не выпускать из рук те свершения, которые уже доказали свою полезность для повышения эффективности и благосостояния. Это происходит, в частности, потому, что нам до некоторой степени все же свойственна рациональность, но также и известная доля лени, и такое сочетание порождает склонность к снижению трудозатрат. (Это те самые факторы, в силу которых очереди к кассам в супермаркетах всегда оказываются примерно равны по длине.) Имея уже изобретенный e-mail, мы вряд ли вернемся к записям на глиняных табличках. Мы также располагаем возможностями передавать подобные достижения последующим поколениям. Технические знания редко пропадают, даже если сама техника разрушается. Однако эта истина настолько широка и универсальна, что в конкретных вопросах она мало что проясняет. Например, остается непонятным, почему средства производства в определенные периоды времени прогрессируют очень быстро, но затем могут на века погружаться в застой. Действительно ли крупные технологические прорывы зависят главным образом от господствующей формы производственных отношений, а не от каких-то присущих им внутренних стимулов? Некоторые марксисты рассматривают побуждение к совершенствованию средств производства не как всеобщий закон истории, а как специфически капиталистическое правило. Они справляются с проблемой за счет допущения, что всякий способ производства должен быть заменен на другой, более производительный. Какая-то из точек зрения этих марксистов, включая самого Маркса, является спорной.
Другой не очевидный момент касается тех механизмов, посредством которых определенный социальный класс «выбирается» для решения задач развития производительных сил. Ведь эти силы не есть некий одушевленный персонаж, способный изучать происходящее в обществе и приглашать тех или иных кандидатов на место своего помощника. Правящие классы, разумеется, не стимулируют производительные силы из чистого альтруизма, и при захвате власти задача накормить голодных и одеть раздетых стоит у них отнюдь не на первом месте. Вместо этого они преследуют прежде всего свои личные интересы, присваивая плоды труда других. Но общий принцип в том и состоит, что, действуя таким образом, они невольно способствуют общему развитию производительных сил, а наряду с ними (по крайней мере в долгосрочной перспективе) — росту как материального, так и духовного благосостояния общества. Они создают ресурсы, которые в классовом обществе для большинства остаются недоступными, но такие действия все равно формируют то достояние, которое однажды перейдет в распоряжение всего будущего коммунистического общества.
Маркс определенно считал, что материальное богатство может вредить нашему моральному здоровью. Тем не менее он не считал, подобно некоторым идеалистическим мыслителям, будто между духовным и материальным лежит некая непреодолимая пропасть. По его мнению, развертывание производительных сил влечет за собой раскрытие творческих задатков и способностей человека. С одной стороны, история в целом вовсе не является летописью лучезарного прогресса. Вместо этого приходится наблюдать, как мы, словно в темноте, ощупью и спотыкаясь, из одной формы классового общества, от одного вида угнетения и эксплуатации перебираемся в другую. Однако, с другой стороны, эту суровую повесть можно рассматривать как движение вперед и вверх, поскольку люди приобретают более разносторонние потребности и стремления, вырабатывают более сложные и продуктивные способы взаимодействия, создают новые формы контактов и оригинальные способы действий.
Человечество в целом вступит в это наследство в коммунистическом будущем, но процесс его создания неотделим от насилия и эксплуатации. В конечном счете общественные отношения будут перестроены так, чтобы обратить все накопленные богатства к общей пользе. Но сам по себе процесс этого накопления строится на исключении огромного большинства людей из пользования его плодами. С учетом этого Маркс заметил, что история «идет к лучшему по своей худшей стороне». Хотя сейчас она выглядит несправедливой, в дальнейшем приход к справедливости неизбежен. Конечная цель находится в противоречии со средствами: если нет эксплуатации, то не будет и значительного прироста производительных сил, а если нет такого прироста, то не будет материального базиса для социализма.
Маркс, несомненно, прав, рассматривая материальное и духовное как явления, противостоящие друг другу и одновременно тесно связанные между собой. Он не просто обрушивался на классовое общество за жестокость и циничность его действительной морали (хотя этим он занимался очень много), но также признавал, что духовное совершенствование требует подобающей материальной основы. Вы не можете поддерживать чинные и благопристойные отношения, если умираете от голода. Всякое расширение человеческих контактов влечет за собой новые формы общественной жизни и новые способы разделения. Новые технические достижения могут разрушать человеческий потенциал, но также могут и повышать его. Модернизацию не следует слепо восхвалять, но равным образом не стоит и высокомерно осуждать. Ее позитивные и негативные качества являются по большей части элементами одного и того же процесса. Именно поэтому только диалектический подход, позволяющий понять, какое противоречие составляет сущность данного процесса, способен сделать его справедливым.
Тем не менее существуют реальные проблемы с марксовой теорией истории. Вот, скажем, как один и тот же механизм — конфликт средств и отношений в сфере производства — обеспечивает смену разных форм классового общества? Каковы причины той нередко странной последовательности, какую приходится наблюдать на всем огромном протяжении исторического времени? И неужели нет никакой возможности свергнуть правящий класс на том этапе, когда он находится на пике своей формы, хотя политическая оппозиция уже достаточно сильна? Или нам в самом деле надо ждать, пока производственные силы не начнут тормозиться? И не может ли на практике рост производительных сил — скажем, за счет разработки новых методов подавления — подрывать позиции класса, пытающегося склонить баланс сил в свою пользу и изменить общественный строй? Потому что при росте производительных сил работники действительно могут становиться более организованными, умелыми, образованными и (возможно) политически искушенными и уверенными в себе. Однако по этой же причине вокруг может появляться больше танков, камер слежения, праворадикальных газет и различных видов аутсорсинга. Новые технологии могут еще больше увеличивать число людей, становящихся безработными и в силу этого политически инертными. Во всяком случае, то, готов ли некоторый социальный класс совершить революцию, определяется не только тем, способен ли он развивать производительные силы. Исторический потенциал класса складывается из целого ряда факторов. И как мы можем узнать, что данное конкретное состояние общественных отношений будет пригодно для этих целей?
Изменение общественных отношений не может быть объяснено просто расширением производительных сил. Даже радикальная перестройка последних, как это можно видеть на опыте промышленной революции, необязательно приводит к изменению первых. Одинаковые производительные силы могут сосуществовать с различными типами общественных отношений. Сталинизм и индустриальный капитализм, например. А если обратиться к крестьянскому хозяйству от античности до наших дней, то можно видеть, что оно допускало существование широкого спектра общественных отношений и форм собственности. И наоборот, одинаковый тип общественных отношений может приводить к формированию различных видов производительных сил. Обратите внимание на капиталистическую промышленность и капиталистическое сельское хозяйство. Производительные силы и производственные отношения не шествуют по исторической сцене синхронно, нога в ногу. Истина такова, что каждый этап развития производительных сил открывает дорогу целому спектру возможных видов общественных отношений, и нет никакой гарантии, что в данный момент из них реализуется именно этот, а не какой-то другой. Тем более никто не может гарантировать, что в момент потенциального исторического перелома подходящий революционный агент окажется под рукой. Иногда просто в принципе отсутствует класс, который мог бы двинуть вперед развитие производительных сил, как это было, скажем, в классическом случае с Китаем.
Тем не менее сам факт связи между двумя составляющими способа производства можно считать выясненным. И это, помимо всего прочего, позволяет утверждать, что при определенном уровне развития производительных сил мы можем иметь только определенные формы общественных отношений. Если какие-то люди живут намного более комфортно, чем другие, то они должны иметь экономику, производящую соразмерный доход; а это возможно только на определенном этапе развития производства. Вы не можете содержать пышный королевский двор с менестрелями, пажами, шутами и камергерами, если все остальные не будут всю свою жизнь пасти овец или надрываться на заводах, чтобы только не умереть с голоду.
Классовая борьба — это, по сути своей, борьба за средства к существованию, и как таковая она, по-видимому, будет продолжаться до тех пор, пока этих средств не станет достаточно для всех. Во все времена класс, занимающийся материальным производством, организовывался так, чтобы принуждать ту или иную часть людей ради поддержания собственного существования передавать другим излишки производимого ими продукта. Когда такие излишки малы или отсутствуют, что можно наблюдать, в частности, при так называемом первобытном коммунизме, каждый должен трудиться и никто не может не участвовать в общей работе, и подобные условия исключают возможность возникновения классов. Со временем труд становится более продуктивным и начинает давать излишки, достаточные для появления классов, подобных феодальным лордам, живущим за счет труда подвластного им населения. Только при капитализме появляется возможность производить прибавочную продукцию в объемах, достаточных для повсеместного устранения нищеты, а тем самым и социальных классов. Но только при социализме это может быть реализовано.
Однако остается неясным, почему производственные силы всегда должны брать верх над общественными отношениями, и почему тогда ближайшее прошлое выглядит столь робким и почтительным по отношению к давно прошедшим временам. Кроме того, теория, похоже, не вполне согласуется с той картиной, которую фактически рисует Маркс, говоря о переходе от феодализма к капитализму, а в некоторых отношениях и от рабовладения к феодализму. Верно также и то, что классы нередко веками удерживаются у власти, несмотря на свою неспособность обеспечивать рост производства.
Одной из очевидных слабостей этой модели является детерминизм. Складывается впечатление, будто ничто не в силах противостоять прогрессирующему маршу производительных сил. История решает свои собственные задачи в рамках неотвратимой внутренней логики. Есть только один «субъект» истории (постоянно растущие производительные силы), который пронизывает ее из конца в конец, попутно рассеивая широкими жестами различные политические формации. Это метафизическое видение во всей красе. Но это не совсем уж бесхитростный сценарий прогресса. В конечном счете человеческие умения и способности, растущие вместе с производительными силами, обеспечат формирование по-настоящему человечного общества. Однако цена, которую мы за это платим, чудовищна. Каждое достижение производительных сил является победой как цивилизации, так и варварства; принося с собой новые возможности к освобождению, само оно появляется забрызганное кровью. Маркс не был простодушным лоточником от прогресса, он отлично знал страшную цену коммунизма.
Верно и то, что в этой схеме также присутствует классовая борьба, которая должна бы подразумевать, что люди являются свободными в своих поступках. Трудно представить себе, что профсоюзные акции, стачки и локауты диктуются какими-то высшими силами. Но что, если эта самая свобода была, так сказать, запрограммирована, уже встроена в неотразимый механизм истории? Здесь явно просматривается аналогия с христианскими попытками увязать божественную предопределенность с человеческой свободой воли. С точки зрения христианина, когда я душу начальника местной полиции, я действую свободно, но Бог предвидел этот шаг с самого начала вечности и заранее включил его в свой план для человечества. Он не побуждал меня в прошлую пятницу вырядиться как домработница и самому позвонить Милли, но был в курсе; он знал, чего мне хотелось, помнил о планах Милли и таким образом вполне мог подогнать под них свои вселенские графики. Когда я молился, чтобы мне подарили большого и веселого плюшевого мишку вместо того унылого недомерка, что спал на моей подушке, то это не значит, что Бог не имел ни малейшего намерения оказать мне такую милость, но затем, услышав мою молитву, изменил свое мнение. Бог не может менять свое мнение. Дело, скорее, в том, что он еще до начала всех времен решил даровать мне нового медведя в ответ на мою молитву, которую он тоже предвидел до начала всех времен. С одной стороны, приход будущего Царства Божия не предопределен: оно наступит, только если люди в настоящем будут трудиться для этого. Но то, что они, подчиняясь своей свободной воле, непременно будут отдавать этому все свои силы, само является неизбежным результатом Божественного милосердия.
Сходный способ сочетания свободы и неизбежности присутствует и у Маркса. Иногда складывается впечатление, что классовая борьба, с одной стороны, все-таки свободная, в определенных исторических условиях должна нарастать и что временами ее исход можно предсказать со всей определенностью. Возьмем, к примеру, вопрос о социализме. Маркс, судя по всему, рассматривал его наступление как неизбежное и не раз говорил об этом. В частности, в коммунистическом манифесте о крахе класса капиталистов и победе рабочего класса говорится как об «одинаково неизбежных». Но это не потому, что Маркс верил в некий начертанный на скрижалях истории потайной закон, который введет нас в храм социализма независимо от того, что мы будем или не будем делать. Если бы это было так, то зачем бы ему понадобилось убеждать в необходимости политической борьбы? Если социализм действительно неизбежен, то кто-то может подумать, что от нас и не требуется ничего иного, кроме как ожидать его наступления, по ходу дела, возможно, заказывая пиццу с грибами или коллекционируя татуировки. Исторический детерминизм есть оправдание для политического бездействия. В XX веке он сыграл ключевую роль в провале коммунистического движения в борьбе с фашизмом, поскольку на какое-то время многие поверили, будто фашизм является всего лишь последней судорогой капиталистической системы, уже находящейся на смертном ложе. Кто-то, возможно, заметит в этой связи, что для XIX века вообще было характерно страстно ожидать той или иной неизбежности, но для нас это не может служить аргументом. Если высказывания начинаются словами: «Сегодня следует признать неизбежным, что…» — то обычно это очень тревожный сигнал.
Для Маркса неизбежность социализма отнюдь не означала, что все мы можем отлеживать бока в кровати. Скорее, он считал, что раз капитализм в какой-то момент определенно провалится, то у трудящихся не будет никаких причин добивать его, но все основания найти ему замену. Они поймут, что их интересы требуют изменения общественного строя и что, будучи большинством, они в силах это сделать. Тогда они будут действовать как по-настоящему мыслящие существа, каковыми они и являются, и построят новое общество. Почему в этом мире вы должны влачить жалкое существование, подчиняясь режиму, который вы способны изменить? Разве вы будете мириться с тем, что у вас нестерпимо чешется нога, если вы в состоянии ее почесать? В точности как действия христианина являются свободными, будучи частью предопределенного плана, так для Маркса разрушение капитализма неизбежно побудит людей по своей личной и свободной воле вышвырнуть его вон.
Он говорил также о том, что свобода людей ограничивается конкретными условиями. Но это явное противоречие, поскольку свобода означает, что нет ничего, что ограничивало бы ваши действия. Если ваш желудок скручивается в спираль от отчаянных голодных спазмов, то для вас не будет ограничением перспектива съесть сочную свиную отбивную. Хотя, если вы правоверный мусульманин, то можете предпочесть умереть. Если есть только один вариант действий, я сохраняю возможность его не принять; но если у меня нет возможности его не принять, то в такой ситуации я не свободен. Капитализм может балансировать на грани разрушения, но на смену ему может прийти и не социализм. Это может быть фашизм или варварство. При развале системы рабочий класс может оказаться слишком ослаблен и деморализован, чтобы действовать конструктивно. В одном нехарактерном для себя фрагменте Маркс допускает, что классовая борьба может привести к «общей гибели» противостоящих классов.
Либо — вариант, который он вряд ли стал бы полностью исключать — система может парировать политическое восстание посредством реформ. Социал-демократия пытается стать тем бастионом, который разделит общество и катастрофу. Ее подход состоит в том, что за счет излишков продукции, предоставляемых развитием производительных сил, следует откупаться от революции, что вообще никак не вписывается в историческую схему Маркса. Он, похоже, считал, что капиталистическое процветание может быть только временным, что система в конечном счете пойдет ко дну и что в это время рабочий класс восстанет и возьмет власть. Однако при этом, во-первых, упускается из виду масса способов (в наши дни гораздо более изощренных, чем во времена Маркса), с помощью которых капитализм, даже находясь в кризисе, может продолжать обеспечивать подчинение своих граждан. Марксу не приходилось учитывать возможности информационного канала «Фокс Ньюс» и английской ежедневной газеты «Дейли Мейл».
Мы, безусловно, имеем дело с иным будущим, нежели можно было предполагать, то есть не с будущим вообще. Маркс не мог предвидеть возможности ядерного холокоста или экологической катастрофы. Или же варианта с падением правящего класса в результате удара астероида, смерть от которого некоторые из его представителей могут посчитать более привлекательной, чем социалистическая революция. Собственно говоря, такого рода непредвиденные события могут поставить крест на большинстве детерминистских теорий истории.
Тем не менее все еще остается открытым вопрос, в какой мере Маркс действительно является историческим детерминистом. Если, помимо идеи, что производительные силы порождают определенные общественные отношения, в его работах нет ничего иного, то ответ очевиден. Это означает махровый детерминизм, и в таком случае мало кто из сегодняшних марксистов был бы готов под этим подписаться[19]. При таком подходе не люди являются творцами своей истории, а производительные силы, которые живут исключительно собственной странной и загадочной жизнью.
Однако в трудах Маркса представлен и иной ход мысли, согласно которому как раз общественные производственные отношения имеют приоритет над производительными силами, а не наоборот. Если феодализм уступает дорогу капитализму, то это происходит не потому, что последний может развивать производительные силы более эффективно, а потому, что феодальные общественные отношения в деревне были постепенно вытеснены капиталистическими. Феодализм создал условия, в которых новый буржуазный класс смог набирать силу, но этот класс не возник как результат роста производительных сил. Кроме того, если при феодализме средства производства прирастали, то это происходило не из-за некоего заложенного в них стремления к развитию, а в силу соответствующих классовых интересов. Что же касается современного периода, то производительные силы растут столь стремительно даже по сравнению с последними веками по той причине, что капитализм не может выжить без постоянного расширения.
Согласно этой альтернативной теории, люди — через участие в общественных отношениях и классовой борьбе — являются действительными авторами своей истории. Маркс однажды заметил, что он и Энгельс еще в сороковых годах выделяли «классовую борьбу как действительную движущую силу истории»[20]. Суть классовой борьбы такова, что ее исход не может быть предсказан, а значит, здесь детерминизм не может найти опоры. Вы всегда можете утверждать, что классовый конфликт детерминирован, потому что в самой природе классов заложено стремление к взаимоисключающим интересам, что, в свою очередь, предопределяется способом производства. Но лишь время от времени этот «объективный» конфликт интересов принимает форму полномасштабного политического сражения; и трудно представить себе, что ход этого сражения может быть каким-либо образом расписан заранее. Маркс мог думать, что социализм неизбежен, но он, конечно же, не предполагал, что возникнет английское фабричное законодательство или Парижская коммуна. Если он действительно был последовательным детерминистом, он мог бы рассказать нам, как и когда наступит социализм. Однако он был пророком в смысле осуждения несправедливости, а не в смысле заглядывания в стеклянный шар.
«История, — писал Маркс, — не делает ничего, она не обладает никаким необъятным богатством, она не сражается ни в каких битвах! Не история, а именно человек, действительный, живой человек — вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История — не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека»[21]. Когда Маркс высказывался по поводу классовых отношений в античном, средневековом или современном мире, он часто писал о них так, как если бы они являлись первичными. Он также настаивал, что каждый способ производства — от рабовладения и феодализма до капитализма — имеет свои особые законы развития. Если это так, то ни от кого больше не требуется мыслить в понятиях строго «линейного» исторического процесса, в котором каждый способ производства следует по пятам за другим, подчиняясь некоей имманентной логике. У феодализма нет никаких особых свойств, которые неумолимо превращали бы его в капитализм. Нет более единой нити, пронизывающей все полотно истории, но, скорее, подборка особенностей и непоследовательностей. Не марксизм, а буржуазная политическая экономия отличалась тем, что мыслила в терминах универсальных эволюционных законов. Маркс же как раз выступал против обвинений, будто он пытается свести всю историю к одному-единственному закону. Как настоящий романтик, он испытывал глубокое отвращение к подобным безжизненным абстракциям и предупреждал, что его взгляд на возникновение капитализма не должен превращаться «в историко-философскую теорию о всеобщем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются»[22]. Если в ходе движения истории есть определенные тенденции, то имеются также и контртенденции, в силу которых конечный итог всегда остается неопределенным. А вот что писал в этой связи Энгельс: «Материалистический метод превращается в свою противоположность, когда им пользуются не как руководящей нитью при историческом исследовании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраивают исторические факты»[23].
Некоторые марксисты, отодвинув в сторону тезис о «примате производительных сил», пытаются поднимать на щит альтернативную теорию, которую мы только что разбирали. Но этот вариант, пожалуй, все-таки чересчур оборонительный. Первая модель, сложившаяся из достаточно важных мест в работах Маркса, приводит к мысли, что он воспринимал ее очень серьезно. Она не похожа на некое сиюминутное отклонение. И в целом именно таким образом, то есть абсолютно серьезно, интерпретировали ее марксисты уровня Ленина и Троцкого. Некоторые комментаторы заявляют, что в то время, когда Маркс приступил к написанию «Капитала», он уже более или менее отказался от своих прежних взглядов на производительные силы как главных героев истории. Другие в этом не убеждены. Но в любом случае изучающие Маркса вольны сами решать, какие из его идей — независимо от того, когда и по какому поводу они высказывались — представляются им наиболее убедительными. Только марксистские фундаменталисты относятся к этим работам как к священному писанию, но в наши дни таких гораздо меньше, чем христианских сектантов.
Нет явных свидетельств того, что Маркс придерживался детерминизма в смысле общего отрицания свободы действий человека. Напротив, он бесспорно разделял идею свободы и как ученый и в не меньшей степени как журналист, всегда говорил о том, что в любых ситуациях, когда исторические ограничения ставят людей перед необходимостью выбора, они могут (а порой должны) действовать различным образом. Энгельс, которого некоторые считают детерминистом «от и до», всю жизнь интересовался вопросами военной стратегии, а в этом предмете трудно найти место для фатализма[24]. Маркс признавал личную отвагу и стойкость исключительно важными для политической победы и, судя по всему, допускал, что воздействие на исторический процесс случайных событий может быть весьма значительным или даже решающим. Одним из таких примеров является эпидемия холеры 1849 года, которая, как специально отмечал Маркс, подорвала боеспособность рабочего класса во Франции.
Наконец, нельзя не учитывать и то, что существуют разные виды неизбежности. Вы можете понимать, что некоторые события являются неизбежными, при этом отнюдь не будучи детерминистом. Даже безграничные либертарианцы признают, что смерть неизбежна. Если достаточно много техасцев попытаются втиснуться в телефонную будку то в конце концов кто-то из них окажется серьезно помят. Но это вопрос скорее физики, нежели роковой судьбы. И он не отменяет тот факт, что они втискивались туда по своей собственной доброй воле. Действия, которые мы свободно совершаем, в итоге нередко предстают перед нами в виде неких внешних и чуждых нам сил. Именно на этой эмпирической истине строит Маркс свои концепции отчуждения и товарного фетишизма.
Есть у понятия «неизбежность» еще один аспект, в соответствии с которым, скажем, утверждение, что триумф справедливости в Зимбабве неизбежен, может и не означать, что данное событие готово произойти. Такая формулировка может в большей степени представлять собой моральный или политический императив, подразумевающий, что альтернатива слишком ужасна, чтобы ее рассматривать. Антитеза «социализм или варварство» отнюдь не равносильна утверждению, что в конце концов мы непременно будем жить при одном или другом. Прежде всего она призвана подчеркнуть невообразимые последствия не-достижения первого. В «Немецкой идеологии» Маркс указывал, что «в настоящее время индивиды должны уничтожить частную собственность», но это «должны» гораздо больше напоминает политический призыв, нежели утверждение, что у них нет иного выбора. Так что Маркс, возможно, не является универсальным детерминистом, однако в его работах встречается очень много формулировок, наполненных духом исторического детерминизма. В частности, он иногда уподобляет исторические законы естественным, написав в предисловии к «Капиталу» о «естественных законах капиталистического производства… действующих с железной необходимостью»[25]. Когда один из комментаторов заметил, что его работы трактуют эволюцию общества как процесс естественнонаучной истории, Маркс не стал возражать, а также с одобрением цитировал рецензента своих работ, написавшего, что он, «доказав необходимость современного порядка, доказал и необходимость другого порядка, к которому непременно должен быть сделан переход от первого»[26]. Остается неясным, как такой непреклонный детерминизм согласуется с центральной ролью классовой борьбы.
Были этапы, когда Энгельс строго различал и противопоставлял исторические законы естественным, но также были времена, когда он рассуждал о сходстве между ними. Маркс флиртовал с идеей поиска основ истории в природе, но в то же время подчеркивал, что мы вершим первую, а не вторую. Порой он критиковал попытки приложить биологию к человеческой истории и отвергал представления об универсальных исторических законах. Подобно многим мыслителям XIX века Маркс старался привлечь авторитет естественных наук (в то время высшей модели знания), чтобы добавить внушительности собственным работам. Но, вводя в них соответствующие ссылки, он мог рассчитывать в том числе на то, что так называемые исторические законы будут восприняты с той же несомненностью, как и их естественнонаучные «коллеги».
И все же трудно поверить, будто он рассматривал так называемую тенденцию нормы капиталистической прибыли к понижению как явление совершенно того же порядка, что и закон гравитации. Он не мог думать, что история развивается, как грозовой фронт. Маркс действительно рассматривал ход исторический событий как реализацию общезначимой модели, но он явно не единственный, кто придерживался такой позиции. Не много найдется людей, считающих историю человечества сцеплением совершеннейших случайностей. Если бы в общественной жизни не существовало никаких закономерностей или вполне предсказуемых тенденций, то мы были бы не способны к целенаправленным действиям. Речь не идет о выборе между железными законами, с одной стороны, и абсолютным хаосом — с другой. Всякое общество, подобно всякому человеческому действию, давая ход одному из возможных вариантов будущего, тем самым исключает все остальные. Но такое взаимодействие между свободой и ограничением имеет мало общего с железобетонной неотвратимостью. Если вы пробуете построить социализм в стесненных экономических условиях, то, как мы видели, в итоге вы, вероятнее всего, придете к той или иной разновидности сталинизма. Это хорошо проверенное историческое правило, подтверждающееся целым рядом неудачных социальных экспериментов. Так что даже либералы и консерваторы, обычно не одобряющие рассуждений об исторических закономерностях, когда заходит речь о данном конкретном их проявлении, могут изменять своим правилам. Однако утверждать, что вы обречены закончить сталинизмом, значило бы игнорировать потенциальную изменчивость истории, связанную с многообразием влияющих на нее факторов. Возможно, простые люди восстанут и возьмут власть в свои руки; может быть, коалиция богатых стран неожиданно придет им на помощь; наконец, они могут обнаружить, что под ними находится крупнейшее на планете месторождение нефти, и использовать это для перестройки своей экономики в демократическом ключе.
По сути, то же самое можно сказать и об общем ходе истории. Маркс не похож на человека, верившего, будто различные способы производства — от античного рабства до современного капитализма — следуют друг за другом согласно некоему неизменному образцу. Энгельс отмечал, что история «нередко движется скачками и зигзагами»[27]. Во-первых, различные способы производства не сменяют друг друга, как часовые на посту, они могут сосуществовать внутри одного общества. Во-вторых, Маркс утверждал, что его видение перехода от феодализма к социализму относится конкретно к западноевропейским странам и не может рассматриваться как универсальное. Сколько бы раз ни совершался переход от одного способа производства к другому, нет и не будет страны, которая смогла бы в точности повторить чей-то чужой путь. Большевики смогли совершить прыжок из частично феодальной России в социалистическое государство, минуя длительную фазу всестороннего развертывания капитализма.
Маркс поначалу считал, что его родная страна, Германия, должна пройти через этап буржуазного правления, прежде чем к власти сможет прийти рабочий класс. Однако позднее он, похоже, отказался от этой идеи, рекомендовав вместо нее «перманентную революцию», которая смогла бы совместить эти этапы. Для эпохи Просвещения было характерно рассматривать историю как органично эволюционирующий процесс, в котором каждая очередная стадия самопроизвольно вырастает из предшествующей, создавая этим ту целостность, которую мы именуем прогрессом. Марксистское повествование, напротив, отмечено насилием, конфликтами, сломами и разрывами. Это действительный прогресс; но, как заметил Маркс в своем описании Индии, он подобен страшному божеству, которое пьет нектар из черепов убитых.
То, в какой мере Маркс верил в историческую необходимость, — это вопрос, касающийся не только политики или экономии, но также и морали. Насколько можно судить, он не считал, что феодализм или капитализм непременно должны были возникнуть. Для некоторого данного способа производства всегда есть несколько возможных путей завершения существования. Хотя, разумеется, разброс вариантов здесь не безграничен. Вам не удастся от потребительского капитализма перейти к охоте и собирательству, если только в этот процесс не вмешается ядерная война. Вариант, при котором развивающиеся производительные силы сами по себе совершают такой пируэт, полностью лишен как объективной необходимости, так и субъективной желательности. Но все же есть один вектор, движение по которому Маркс, похоже, считал неизбежным. Чтобы стал возможным социализм, сначала потребуется капитализм. Только капитализм, движимый личной заинтересованностью, жестокой конкуренцией и необходимостью постоянно расширяться, способен к развитию производительных сил до того уровня, когда при любой форме политического регулирования производимый доход будет достаточен для удовлетворительного обеспечения всех. Чтобы получить социализм, вы должны сначала пережить капитализм. Или, точнее, вам, возможно, и не придется переживать капитализм, но кому-то — непременно. Маркс допускал, что Россия может суметь достичь формы социализма, основанной на сельской общине, а не на преимущественно капиталистической промышленности; однако он исключал, что это может совершиться без помощи капиталистических ресурсов откуда-либо извне. Отдельным странам может не потребоваться проходить через капитализм, но, чтобы они могли стать социалистическими, капитализм обязательно где-нибудь должен существовать.
В связи с чем возникает ряд непростых моральных проблем. Подобно тому, как часть христиан воспринимает различные бедствия как некую необходимую составляющую Божественного плана для человечества, так и вы можете усмотреть в написанном Марксом утверждение, что капитализм, при всей его алчности и несправедливости, надо терпеть ради социалистического будущего, которое неизбежно последует за ним. И не только терпеть, но, более того, активно поддерживать. В работах Маркса можно найти высказывания, фактически приветствующие рост капитализма, потому что только так будет быстрее открыт путь к социализму. В лекциях 1847 года он, к примеру, высказывался в защиту свободы торговли как ускоряющей наступление социализма. Кроме того, он хотел увидеть объединение Германии на таких принципах, которые способствовали бы развитию немецкого капитализма. Встречаются у этого революционного социалиста и такие фразы, в которых он изменяет себе, когда при изображении прогрессирующего класса капиталистов несколько чрезмерно восторгается тем, как он сводит счеты с «варварством».
Мораль таких выступлений явно сомнительна. Чем это отличается от кровавых погромов Сталина или Мао, совершавшихся именем социалистического будущего? Как далеко можно зайти, оправдывая средства этой целью? А если учесть, что сегодня мало кто верит в неизбежность социализма, то не является ли это даже более веской причиной для отказа от принесения в настоящем столь жестоких жертв на алтарь будущего? Если капитализм — необходимая предпосылка для социализма, то не означает ли это, что несправедливость является морально приемлемой? Если в будущем наступит справедливость, то следует ли из этого, что настоящее обречено на несправедливость? В «Теориях прибавочной стоимости» (т. 2) Маркс пишет: «Развитие способностей рода человек, хотя оно вначале совершается за счет большинства человеческих индивидов и даже целых человеческих классов, в конце концов разрушит этот антагонизм и совпадет с развитием каждого отдельного индивида»[28]. Он утверждает, таким образом, что интересы рода в конечном счете победят в форме коммунизма, но весь ход этого процесса необходимо предполагает массу страданий и несправедливости. Материальное процветание, которое в итоге обеспечит свободу, есть плод не-свободы.
Есть разница между тем, когда делают зло в надежде, что из этого может получиться добро, и попытками обернуть в пользу добра чье-то чужое зло. Социалисты не создавали капитализма и невиновны в его преступлениях; но раз уж он существует, то представляется разумным заниматься лучшим из имеющегося в нем. Это возможно, поскольку капитализм, безусловно, не есть одно сплошное зло. Думать так — это значит быть крайне односторонним, и ошибочность такого подхода порой отмечал сам Маркс. Как мы видели, система порождает свободу ничуть не меньше, чем варварство, а раскрепощение — только вместе с порабощением. Капиталистическое общество производит огромные богатства, но таким способом, который оставляет их за пределами досягаемости для большинства граждан. Вместе с тем это богатство всегда может быть сделано досягаемым. Оно может быть выведено из тех хищнических персонализированных форм, которые его создали, предоставлено обществу в целом и использовано для сведения к минимуму вредных и опасных работ. Это позволит освободить людей от оков экономической необходимости для жизни, в которой они получат возможность свободно реализовывать свой творческий потенциал. Так Маркс представлял коммунизм.
Из вышесказанного никоим образом не следует, что возникновение капитализма было абсолютным добром. Было бы лучше, если бы освобождение человечества могло быть достигнуто гораздо меньшей кровью, потом и слезами. В этом смысле теория истории Маркса не является «телеологической». Телеологическая теория исходит из того, что каждая стадия истории неотвратимо вырастает из той, что была до нее. Каждая фаза исторического процесса несет в себе свою собственную необходимость, а вместе с другими фазами является обязательной для достижения определенной цели. Эта цель по самой своей сути является неизбежной и фактически выступает как скрытый движитель всего процесса. Ничто из этой последовательности не может быть пропущено, но каждый элемент, сколь бы вредным или обременительным ни казался, складывается в конечное универсальное добро.
Это не то, чему учит Маркс. Признать, что капитализм может послужить приближению лучшего будущего, не значит утверждать, что он существует для этой цели. Тем более что смена его социализмом не является обязательной. Но и наступление социализма не станет оправданием для преступлений капитализма. Также это не означает неизбежности возникновения капитализма. Появление различных способов производства не является обязательным, как нет и никакой таинственной внутренней логики, якобы связывающей воедино все предшествующие стадии. В историческом процессе нет стадий, которые существовали бы ради других. При определенных обстоятельствах можно перескочить ту или иную стадию, как это было с большевиками, а конец никоим образом не гарантирован. Для Маркса история не является движением в каком-то заданном направлении. Капитализм может быть использован для построения социализма, но нет никакого высшего смысла, в силу которого весь исторический процесс потайным образом работал бы на достижение этой цели.
Следует также учитывать, что современное состояние капитализма дает ему ряд явных преимуществ. Он приобрел массу качеств — от реформ и смягчения системы уголовного права до эффективной медицины и свободы самовыражения, — которые ценны сами по себе, а не только потому, что социалистическое будущее сможет найти им какое-то применение. Однако это вовсе не означает итоговой реабилитации системы. Можно утверждать, что даже если функционирование классового общества в конце концов приведет к социализму, то человеческая цена, которую придется заплатить за такой счастливый исход, будет просто до крайности высока. Как долго должен будет просуществовать социалистический мир и насколько пышно ему потребуется расцвести, чтобы искупить былые страдания классового общества? Или сделать это когда бы то ни было не более реально, чем искупить совершавшееся в Освенциме? Марксистский философ Макс Хоркхаймер заметил: «Путь истории лежит через горе и нищету людей. Имеется ряд попыток объяснить связь между этими двумя фактами, но ни одной — оправдать»[29].
Впрочем, марксизм не следует воспринимать как преимущественно трагическое видение мира, настолько оптимистичным выглядит его заключительный акт — коммунизм. Однако вовсе не учитывать его трагический настрой — это значит упустить многое из его глубинных нюансов. Марксистская история не является трагической в смысле плохого конца. Но история, чтобы быть трагической, необязательно должна плохо заканчиваться. Даже если люди в конце пути ощущают известное удовлетворение от достижения цели, все равно является трагичным то, что их предшественники должны были продираться сквозь ад, чтобы дать им возможность сделать этот последний шаг. И будет очень много таких, кто, рухнув без сил на обочину, так и останутся там несчастными и забытыми. Не имея возможности тем или иным образом воскресить их, мы никогда не сможем достойно вознаградить эти уничтоженные миллионы. Марксова теория истории является трагичной именно в этом отношении.
Эту особенность хорошо подметил Аяз Ахмад, высказывавшийся о Марксе в связи с уничтожением крестьянства, но данное замечание вполне приложимо и к более широкому кругу вопросов. Он писал, что возникает «ощущение колоссальных разрушений и невосполнимых утрат; нравственная дилемма, в которой ни старое, ни новое не могут быть полностью поддержаны; понимание того, что все выстраданное было одновременно и достойным, и ущербным, а также того, что история побед и утрат есть на самом деле история материального производства; а в итоге — слабый проблеск надежды, что из этой истории все же может выйти нечто хорошее»[30]. Трагедия не всегда исключает надежду. И гораздо лучше все-таки сохранять ее, потому что когда трагедия действительно наступает, то надежда сопровождается смятением, трепетом и парализующим волю ужасом.
И в заключение следует отметить еще один момент. Мы видели, что сам Маркс полагал, что капитализм является необходимым для социализма. Но так ли это? Что, если кто-то попытается развивать производительные силы с очень низкого уровня, но методами, как можно более соответствующими демократическим социалистическим ценностям? Это будет невероятно трудная задача. Но по сути довольно близкими к этому были взгляды некоторых членов левой оппозиции в большевистской России; и хотя этот проект провалился, он остается веским доводом в пользу того, что это была правильная стратегия, достойная того, чтобы быть использованной в соответствующих обстоятельствах.
А как, кстати сказать, следовало бы действовать, если бы капитализм вообще никогда не появился? Неужели человечество не смогло бы найти какого-то менее жестокого способа сформировать то, что Маркс рассматривал как наиболее ценные плоды капиталистического развития — материальное благосостояние, разнообразные творческие способности человека, самоопределение, глобальные коммуникации, личная свобода, прекрасная культура и т. д. Возможна ли альтернативная история, в которой не появляются гении, подобные Рафаэлю и Шекспиру? Не будем забывать и о расцвете науки и искусств в античной Греции, Персии, Египте, Китае, Индии, Месопотамии и других местах. Была ли капиталистическая модернизация действительно необходимой? Как сравнивать ценность современной науки и человеческой свободы с духовным достоянием родоплеменных сообществ? Что будет, если мы поместим на разные чаши весов демократию и холокост?
Вопрос этот может оказаться не чисто академическим. Предположим, что после глобального ядерного или техногенного катаклизма горстке из нас довелось уцелеть, и теперь перед нами стоит титаническая задача повторного воссоздания цивилизации из руин. Если принять, что мы точно знаем причины катастрофы, то будем ли мы достаточно благоразумны для того, чтобы в таких условиях попробовать социалистический путь?
Глава 4
Марксизм — это мечта об утопии. Он верит в возможность идеального общества без нужды, страданий, насилия или конфликтов. При коммунизме не будет эгоизма, собственничества, конкуренции или неравенства. Никто не будет высшим или низшим по сравнению с кем бы то ни было. Никто не будет принуждать работать, люди будут жить в полной гармонии друг с другом, а поток материальных изделий будет неиссякаем. Этот изумительно наивный взгляд коренится в простодушной вере в человечность природы человека, а людская порочность просто выносится за скобки. Тот факт, что мы по природе своей эгоистичные, алчные, агрессивные и беспринципные создания и что никакая социальная организация не способна это изменить, просто игнорируется. Романтический взгляд Маркса на будущее отражает абсурдность всей его политической концепции.
«А в этой вашей марксистской утопии дорожные аварии еще будут случаться?» — вот типичный пример тех язвительных вопросов, через которые марксистам приходится пройти в качестве пролога к содержательному обсуждению. По сути, такие замечания гораздо больше говорят о невежестве спрашивающих, нежели об иллюзиях марксистов. Ведь если принять, что утопия означает «идеальное общество», то тогда «марксистский идеал» есть просто противоречие в определении.
К слову, в марксистской традиции имеются гораздо более интересные опыты использования понятия «утопия»[31]. Один из крупнейших английских революционных марксистов Уильям Моррис написал на тему утопий незабываемую книгу «Новости из ниоткуда», которая в отличие практически от всех других утопических работ в деталях показывает, как должен происходить процесс политических преобразований. Если же обратиться к повседневному использованию данного понятия, то следует признать, что Маркс не проявлял особого интереса к будущему, свободному от страданий, убийств, нужды, конфликтов, разрухи, трагедий и даже принудительного труда. Более того, он демонстрирует очень мало интереса к будущему вообще. Все, читавшие Маркса, знают, что в своих работах он говорит очень мало о том, как конкретно будет выглядеть социалистическое или коммунистическое общество. В связи с чем его критики получают возможность обвинять его в непростительной туманности воззрений, вот только для поступающих таким образом становится затруднительным обвинять его еще и в составлении утопических прожектов. Уж если кто-то и ведет торговлю будущим, то не марксизм, а капитализм. В «Немецкой идеологии» он отвергает коммунизм как «идеал, с которым должна сообразовываться действительность», взамен предлагая считать таковым «действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние»[32].
Подобно тому как иудеи-традиционалисты запрещают предсказывать будущее, Маркс, как светский иудей, в основном отмалчивался относительно того, что может ждать нас впереди. Мы видели, что он, судя по всему, считал социализм неизбежным, но поразительно мало высказывался о том, на что он будет похож. Для такой сдержанности есть несколько причин. Во-первых, поскольку будущее не существует, то фабриковать его портреты есть разновидность лжи. К тому же у менее подготовленных читателей это может создать впечатление, что будущее предопределено, хотя данный вопрос весьма далек от очевидности и подлежит дальнейшему изучению. Мы видели, что в определенном смысле Маркс признавал будущее неизбежным. Но неизбежность не всегда означает привлекательность. Смерть тоже неизбежна, но на взгляд большинства людей отнюдь не является желательной. Будущее, может быть, и предопределено, однако нет никаких причин для уверенности в том, что то, что произойдет, непременно будет улучшением того, что мы имеем сейчас. Неизбежность, как мы видели, зачастую достаточно неприятна. И сам Маркс явно знал об этом гораздо больше, чем говорил.
Помимо своей бессмысленности, предсказания будущего на деле могут быть прямо вредными. Поверить в свою власть даже над будущим — это прямой путь к убаюкиванию себя ложным чувством обеспеченности. По сути, это попытка спрятаться от той многоликости и неопределенности, что заложены в самой природе будущего. Есть в этом что-то и от стремления использовать будущее как род фетиша, этакого утешающего божка, за которого можно подержаться, как испугавшийся ребенок хватается за свое одеяло. Будущее есть абсолютная ценность, которая не позволяет нам окончательно пасть, ибо (до той поры, пока оно не наступило и пребывает в качестве манящего миража) оно неуязвимо для ветров истории. Вы можете также попытаться монополизировать будущее как средство подчинить себе настоящее. Подлинные прорицатели нашего времени — это не заросшие мрачные изгнанники, в сырых подземельях предрекающие смерть капитализма, а эксперты, нанятые транснациональными корпорациями, чтобы всматриваться во внутренности системы и уверять ее правителей, что на ближайшее десятилетие их прибылям ничего не угрожает. Пророк же, напротив, вообще не имеет отношения к ясновидению. Ошибочно думать, будто библейские пророки пытались предсказывать будущее. Роль пророка, скорее, в том, чтобы обличать алчность, разложение и продажность власти в настоящем и предупреждать нас, что если мы не изменим путь, по которому следуем, то можем оказаться вообще без будущего. Маркс был пророком, а не гадалкой.
Есть еще одна причина, по которой Маркс проявлял осторожность в отношении картин будущего. Дело в том, что в его время появлялось очень много подобных зарисовок, и почти все они создавались безнадежно идеалистичными радикалами. Идея, что история движется вперед и вверх, чтобы утвердить совершенный идеал, не принадлежит политическим левым. Для просветителей XVIII века она была самоочевидной банальностью, но осталась едва известной, будучи заслонена их революционным социализмом. На раннем и наиболее ярком этапе становления европейского среднего класса эта идея отражала его энергию и уверенность в своих силах, основывавшуюся на том, что набирал силу процесс ограничения деспотизма, наука подрывала позиции суеверия, а мир обращал в бегство войну. И в результате вся человеческая история (под которой большинство этих мыслителей фактически подразумевали Европу) должна была обрести свое высшее воплощение в государстве свободы, гармонии и коммерческого процветания. Маловероятно, что самый известный в истории бичеватель средних классов подписался бы под этой самодовольной иллюзией. Маркс, как мы видели, действительно верил в прогресс и цивилизацию, но при этом он понимал, что они как минимум проявляются неотделимо от дикости и невежества.
Это не означает, что Маркс ничего не усвоил из наследия таких утопических мыслителей, как Фурье, Сен-Симон и Роберт Оуэн. Наряду с достаточно резкими отзывами о них он мог одобрительно высказываться об их идеях, которые подчас оказывались удивительно передовыми для своего времени. (Правда, не все из них. Например, Фурье, первым применивший термин «феминизм» и считавший, что низовая ячейка идеального общества должна состоять ровно из 1620 человек, полагал, что в грядущем обществе морскую воду следовало бы превратить в лимонад. Тогда как сам Маркс, насколько можно судить, предпочел бы чистый рислинг.) Так, в частности, Маркс критиковал веру утопистов, будто они могут одержать победу над своими противниками исключительно силой аргументов. Общество для них было полем битвы идей, а не столкновения материальных интересов. Маркс же, напротив, весьма скептически высказывался по поводу их веры в интеллектуальные диалоги. Он считал, что по-настоящему увлечь людей могут только те идеи, которые приходят к ним через повседневную жизнь, а не через рассуждения философов или дискуссионные кружки. Если вы хотите узнать, что люди реально думают, следите за тем, что они делают, а не за тем, о чем они говорят.
Для Маркса утопические прожекты были лишь пустым отвлечением от насущных политических задач. Энергия, которая уходит из них, могла бы принести гораздо больше пользы, будучи посвящена политической борьбе. Как материалист, Маркс с осторожностью относился к идеям, которые уводят от исторической реальности, и считал, что обычно за таким отрывом теории от практики стоят вполне конкретные исторически обусловленные причины. Тот, у кого есть досуг, может набрасывать более или менее детализированные схемы устройства лучшего будущего, точно так же как все желающие могут составлять бесконечные планы величественного романа; вот только они так никогда и не приступят к его написанию, поскольку погрязнут в бесконечном составлении планов для него. Позиция Маркса состояла в том, чтобы не мечтать об идеальном будущем, а решать проблемы настоящего, которые мешают наступлению лучшего будущего. А когда это будет достигнуто, то исчезнет и необходимость в людях, подобных ему.
В «Гражданской войне во Франции» Маркс писал, что революционным рабочим «предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развились в недрах старого разрушающегося буржуазного общества»[33]. Надежда на лучшее будущее не может выражаться лишь в задумчивых сентенциях, мол, «было бы неплохо, если…». Если она будет чем-то большим, чем праздная фантазия, то принципиально иное будущее станет не только желательным, но и безусловно осуществимым; а чтобы стать осуществимым, оно должно укрепиться в реалиях настоящего. Оно не может быть одним махом заброшено в настоящее из некоего внешнего политического пространства. Необходимо найти такой ракурс для наблюдения за настоящим, такие Х-лучи для его просвечивания, которые позволили бы выявлять внутри его те фрагменты, которые потенциально способны составить определенную форму будущего. В ином случае вы преуспеете лишь в формировании у людей несбыточных желаний, а несбывающиеся желания, по Фрейду, ведут прямиком к невротическим заболеваниям.
В настоящем имеются силы, нацеленные на его изменение. В наше время этим занимается, в частности, такое политическое движение, как феминизм; правда, оно добивается такого будущего, в котором на долгое время сохраняется очень многое из настоящего. Для Маркса связующим звеном между настоящим и будущим является рабочий класс — уже имеющаяся реальность и одновременно сила, способная ее преобразовать. Эмансипационные меры вбивают клин будущего в самую сердцевину настоящего. Они представляют собой мост между настоящим и будущим, точку, где они пересекаются. При этом как настоящее, так и будущее обеспечиваются ресурсами прошлого, прежде всего в плане наиболее конструктивных политических традиций, за которые надо сражаться, чтобы выжить.
Некоторые консерваторы являются утопистами, только их утопия лежит не в будущем, а в прошлом. Согласно их взглядам, история представляет собой одно долгое и печальное нисхождение с вершин золотого века, воздвигнутых во времена Адама, Вергилия, Данте, Шекспира, Сэмюэля Джонсона, Джефферсона, Дизраэли, Маргарет Тэтчер или каких-то иных деятелей подобного рода, которых вы сочтете нужным упомянуть. Подобное отношение к прошлому как разновидности фетиша весьма напоминает то, как обращаются с будущим некоторые утопические мыслители. На самом деле, прошлое ничуть не более реально, чем будущее, даже если оно воспринимается так, как будто оно есть.
Впрочем, есть и такие консерваторы, которые отвергают миф о бесконечном падении на том основании, что всякий век является столь же мерзким, как и любой другой. Хорошей новостью для них является то, что дела не идут еще хуже; плохая же состоит в том, что это происходит лишь потому, что им просто некуда дальше ухудшаться. Потому что история управляется человеческой природой, а эта последняя: а) пребывает в ужасающе скверном состоянии и б) абсолютно неизменяема. Величайшая глупость — а точнее сказать, подлость — состоит в том, чтобы манить людей идеалами, которых они по самой своей сути не способны достичь. Радикалы поистине доводят людей до последней степени отвращения к самим себе; пытаясь подбодрить их рассказами о возвышенных вещах, они лишь погружают их в еще более глубокое чувство вины и отчаяния.
Начиная свой путь отсюда, мы вряд ли услышим приятный рецепт политических преобразований. Здесь настоящее выглядит скорее как препятствие, нежели удобная возможность для таких перемен. Так и тянет, подобно анекдотическому туповатому ирландцу, спрашивающему дорогу на железнодорожной станции, сказать: «Что-то мне не хочется отправляться отсюда». Замечание вовсе не такое нелогичное, как может показаться, что также справедливо для ирландцев. Оно означает: «Вы сможете попасть туда быстрее и более коротким путем, если не будете отправляться из этого неудобного и труднодоступного места». Сегодняшние социалисты могут с полным сочувствием отнестись к этому мнению. Совсем не трудно представить себе нашего сошедшего с карикатуры ирландца, который, осматривая Россию после большевистской революции с точки зрения задачи построения социализма в осажденной, изолированной от мира и голодающей стране, замечает: «Что-то мне не хочется отправляться отсюда».
Однако никаких иных отправных точек, разумеется, нет и не будет. При всей своей вариативности предстоящее нам будущее исходит из данного конкретного настоящего. А большая часть настоящего создана в прошлом. Чтобы кроить по своему вкусу будущее у нас нет ничего, кроме весьма скудного набора несовершенных орудий, дошедших до нас из прошлого. Да и эти орудия достались нам не с иголочки, а весьма и весьма потрепанными. В «Критике Готской программы» Маркс замечает, что новое общество с необходимостью будет сохранять родимые пятна старого порядка, из которого оно вышло. Поэтому не будет никакого «чистого листа», с которого можно было бы начать свою историю. Вера в нечто подобное — иллюзия, характерная для так называемых ультралевых («детская болезнь», как называл это Ленин), которые в своем революционном запале отвергают любые сделки с такими скомпрометировавшими себя орудиями настоящего, как социальные реформы, профсоюзы, политические партии, парламентская демократия и т. д. И в итоге остаются столь же незапятнанными, сколь и бессильными.
Добавим к этому, что будущее не просто начинается в настоящем, причем даже в большей степени, чем юность начинается в детстве. Должны существовать те или иные способы его выявления. Это не означает, что степень обязательности фактической реализации возможного будущего даже более высока, чем для ребенка достижение юности. Он, вообще говоря, может умереть до ее достижения, например от лейкемии или в аварии. Главным в высказанном тезисе является, пожалуй, признание того, что при некотором данном настоящем появление в будущем каких-либо старых форм является невозможным. Будущее открыто, но оно не является абсолютно открытым, и никакие уже отжившие явления не могут в нем в точности возродиться. То, где я могу оказаться через десять минут, зависит, помимо всего прочего, от того, где я нахожусь сейчас. Рассматривать будущее как потенциально скрытое в настоящем — это не значит смотреть на яйцо как на потенциальную курицу. Яйцо, если оно не разобьется или не будет сварено для пикника, превратится в курицу согласно законам природы; однако природа не гарантирует, что социализм придет вслед за капитализмом. В настоящем заключено много различных вариантов будущего, и какие-то из них гораздо менее привлекательны, чем другие.
Такое понимание будущего служит, помимо всего прочего, надежной защитой от бестолковых карикатур на него. В частности, оно напрочь исключает самовлюбленный «эволюционистский» взгляд на будущее, которое мыслится просто как расширение настоящего, этакая копия с увеличением. В общем, это способ подобно нашим правителям видеть в будущем нечто такое, что лучше настоящего, но в то же время тихо и спокойно его продолжает, а всякие неприятные сюрпризы в нем сведены к минимуму. Здесь нет места разрывам или потрясениям, одно лишь постепенное совершенствование того, что мы уже имеем. До недавнего времени этот взгляд был известен под названием «Конец истории», но с тех пор радикальные исламисты, бесцеремонно вломившись в историю, вновь сделали ее открытой. Вы также можете назвать это псевдоисторическое воззрение теорией золотой рыбки, поскольку, по сути, это мечта о существовании спокойном и безопасном, но однообразном, чем, по-видимому, и отличается жизнь золотой рыбки. За свободу от драматических встрясок она платит полнейшей скукой. Из-за чего ей и другим приверженцам подобных теорий не удается понять, что будущее может оказаться гораздо хуже настоящего; единственное, в чем можно быть уверенным относительно будущего, так это то, что оно будет совершенно иным. Одна из причин, по которой финансовые рынки несколько лет назад бодро росли, состояла в том, что они доверяли модели, предполагавшей, что будущее будет очень похоже на настоящее.
Социализм, напротив, представляет собой в определенных отношениях решительный разрыв с настоящим. История в ряде существенных аспектов рушится и переделывается заново, но не потому, что социалисты, будучи кровожадными чудовищами, людоедски предпочитают революцию реформам, а из-за глубины заболевания, которое необходимо излечить. Я говорю история, хотя Маркс фактически избегал обозначать этим словом все, что совершалось до сих пор. Для него, как мы знаем, до сих пор была лишь предыстория, в которой одна разновидность угнетения и эксплуатации человека человеком сменяла другую. Первым по-настоящему историческим актом призван стать прорыв из этой мрачной летописи в собственно человеческую историю. Как социалист, вы должны быть готовы четко и достаточно конкретно разъяснить, как это может быть достигнуто и какие общественные институты должны быть вовлечены в этот процесс. Но если новое социальное устройство по самой своей природе будет высокоподвижным и нацеленным на непрерывное совершенствование, то для нас это обернется существенными ограничениями относительно того, что можно сказать о нем прямо сейчас. Ведь мы можем описывать будущее только с помощью терминов, происходящих из прошлого или настоящего, тогда как будущему, радикально порывающему с настоящим, явно будет тесно в рамках нашего нынешнего языка. Сам Маркс в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» заметил в этой связи, что «здесь (в социалистическом будущем) содержание выше фразы». В сущности, к этой же мысли приходит Раймонд Уильямс в своей книге «Культура и общество 1780–1950», когда пишет: «Мы должны планировать то, что может быть спланировано, сообразуясь с нашим общим решением. Однако стержневая суть явления культуры будет совершенно права, если напомнит нам, что культура принципиально не поддается планированию. Мы должны обеспечить средства для поддержания физического существования и общественной жизни. Но что затем с помощью этих средств будет получено, мы не можем узнать или рассказать»[34].
Эту идею можно представить иначе: если все, что происходило до сих пор, — предыстория, то она должна быть хотя бы немного более предсказуемой, чем то, что Маркс рассматривал как истинную историю. Если мы возьмем срез любого произвольно выбранного момента истории, то сможем заранее предположить и даже предвидеть кое-что из того, что там случится. Мы увидим, например, что в этот период огромное большинство населения проводит свою жизнь в тяжелом и преимущественно малопродуктивном труде на благо правящей элиты. Мы увидим, что политический аппарат, какую бы форму он ни принимал, будет готов время от времени прибегать к насилию для поддержания такого порядка. Мы увидим, что огромное число мифов, культурных и интеллектуальных творений этого периода тем или иным образом служат объяснению и оправданию наблюдаемого мироустройства. А среди эксплуатируемых масс мы с большой вероятностью увидим разные формы протеста против несправедливости подавляющего их порядка.
А вот сказать, что произойдет, когда эти оковы человеческого развития будут, наконец, устранены, намного сложнее. Тогда люди получат гораздо больше возможностей вести себя так, как они хотят, но в рамках своей ответственности перед окружающими. Если они окажутся в состоянии посвящать большую часть своего времени не тяжелой работе, а тем видам деятельности, которые мы сейчас называем досугом, то их поведение будет еще сложнее предсказать. Я говорю «которые мы сейчас называем досугом» потому, что если мы действительно используем накопленные капитализмом ресурсы для того, чтобы освободить большое число людей от необходимости работать, то мы уже не сможем называть «досугом» то, чем они будут заниматься вместо этого. Дело в том, что само понятие досуга напрямую зависит от существования его противоположности (работы), подобно тому как мы не можем определить войну, не приняв ту или иную трактовку мира. Следует также помнить, что так называемые досуговые активности, с точки зрения предъявляемых ими требований, могут быть даже более сложными и тяжелыми, чем работа шахтера. Подобные предположения высказывал уже сам Маркс. Некоторые левые радикалы будут разочарованы, услышав, что отсутствие необходимости работать вовсе не обязательно означает сидеть целыми днями дома, развалясь в кресле и покуривая травку.
Возьмем в качестве аналогии поведение людей в тюрьме. Не составляет большого труда сказать, чем будут заниматься заключенные в течение дня, поскольку все их действия строго регламентируются. Охранники могут предсказать, где их подопечные будут находиться, скажем, вечером в среду, а если они вдруг не сумеют этого сделать, то вполне могут оказаться на ковре у начальства. Но после того как осужденные выходят из заключения и возвращаются в общество, становится намного труднее уследить за ними, если только на них не остается какая-нибудь электронная метка. Они, так сказать, переходят из предыстории своей не-свободы в истинную историю, означающую, что отныне их действия и вообще жизнь будут определяться прежде всего ими, а не внешними силами. Для Маркса социализм есть та точка, с которой мы начинаем коллективно определять свою судьбу. Это демократия, взятая со всей серьезностью, в противовес демократии, представляющей собой (по большей части) политический аттракцион. Практически то, что люди стали более свободными, означает, что стало сложнее сказать, чем они будут заниматься вечером в среду.
Подлинно иное будущее не может быть ни простым расширением настоящего, ни абсолютным разрывом с ним. Если это будет абсолютный разрыв, то как мы вообще сможем его опознать? А если мы сможем без всяких затруднений описать его языком настоящего, то на каком основании признавать его подлинно иным? Марксова идея освобождения отвергает как равномерную непрерывность, так и тотальные разломы. В этом смысле он является удивительнейшим человеком — мечтателем и вместе с тем строгим реалистом. Он обращается от фантазий о будущем к прозаической работе в настоящем, но это не мешает ему открыть значительно улучшенное будущее, которое ждет своего освобождения. По отношению к прошлому он настроен более сурово, чем многие мыслители, однако более оптимистичен, чем большинство из них, в отношении того, что ждет нас впереди.
Реализм и предвосхищение здесь идут рука об руку: видеть настоящее, как оно есть, это значит видеть его в свете возможных преобразований. В ином случае вы просто не видите истинного положения вещей; это все равно как если вы не видите в ребенке потенциального взрослого, откуда следует, что вы не вполне понимаете, что значит быть ребенком. Капитализм вызвал к жизни необыкновенные силы и возможности, которые вместе с тем заводят его в тупик; и именно поэтому Маркс мог быть оптимистом, не превращаясь в ярого прогрессиста, и сурово реалистичным, не впадая в цинизм или пораженчество.
Есть большая доля трагизма в том, чтобы мечтать, постоянно всматриваясь в худшее, и силой самой этой мечты возвышаться над сиюминутной действительностью. И как мы убедились, Маркс в ряде отношений действительно был трагическим мыслителем, но отнюдь не пессимистичным.
С одной стороны, марксисты — это трезво мыслящие люди, скептически относящиеся к прекраснодушному морализму и с осторожностью — к идеализму. За всякой пылкой политической риторикой они, в силу своей вошедшей в привычку недоверчивости, склонны искать материальный интерес. Их настораживает пережевывание банальностей, поскольку в основу благочестивых рассуждений и слащавых мечтаний слишком часто вплетаются исключительно низменные силы. Но происходит это именно потому, что марксисты хотят освободить людей от этих сил, поскольку верят, что они способны на лучшее. Таким образом, трезвость и критичность анализа объединяются с верой в человечество. Материализм слишком практичен, чтобы обманываться бьющей себя в грудь риторикой, и слишком надеется на то, что ситуацию можно улучшить, чтобы быть циничным. В истории человечества встречались сочетания и похуже.
Вспомним броский лозунг студентов, звучавший в Париже в 1968 году: «Будь реалистом, требуй невозможного!». При всей своей гиперболичности этот лозунг достаточно точен. То, что реально необходимо для исправления общества, не по силам господствующей системе и в этом смысле является невозможным. Тем не менее верить, что мир может быть значительно улучшен, — это и есть настоящий реализм. А махровые фантазеры — это как раз те, кто смеется над идеей о возможности масштабных изменений в обществе. К истинным мечтателям следует отнести также тех, кто отрицает, что в любое время может произойти нечто большее, чем постепенные изменения. Подобного рода трезвый прагматизм является не меньшей иллюзией, чем вера в то, что вы — Мария-Антуанетта. Такие люди всегда находятся под угрозой оказаться застигнутыми врасплох очередным скачком истории. К примеру, некоторые феодальные идеологи отрицали, будто «неестественная» экономическая система вроде капитализма может надолго закрепиться. Встречаются также персонажи, настолько убогие и подверженные самообману, что могут верить, будто капитализм, если постараться и дать ему больше времени, приведет мир к изобилию для всех. Для них является просто досадным недоразумением, что ничего подобного не сделано до сих пор. Они не видят, что неравенство является столь же естественной и неотъемлемой характеристикой капитализма, как нарциссизм и мания величия для Голливуда.
Главное, что обнаружил Маркс в настоящем, это смертельное столкновение интересов. Однако если утопические мыслители принимались увещевать нас именем любви и братства стать выше этих конфликтов, то Маркс избрал принципиально иную линию. Он действительно верил в любовь и братство, но при этом не считал, будто их можно достичь посредством некоей наигранной гармонии. Угнетаемые и обездоленные не откажутся от своих интересов (которые, вообще говоря, очень похожи на то, что намерены творить с ними их хозяева), но будут до конца бороться за них. Только тогда общество сможет окончательно подняться над личной заинтересованностью. В приверженности личным интересам нет совершенно ничего плохого, если альтернатива состоит в том, чтобы лелеять свои оковы из чувства некоего ложного самопожертвования.
Критики Маркса могут морщить носы от такого акцентирования им классовых интересов, но они не смогут в то же самое время утверждать, будто он смотрел на человеческую природу через невероятно розовые очки. Только взяв за отправную точку погрязшее в скверне настоящее, подчиняясь его уродливой логике, можно рассчитывать преодолеть его и выйти на новые рубежи. И это также соответствует духу традиционной трагедии. Только приняв, что конфликты заложены в самой природе классового общества, а не пытаясь отрицать их с высот невозмутимой беспристрастности, можно открыть в людях те глубины, которые они скрывают. Это тот самый вопрос, приближаясь к которому логика настоящего начинает хромать и спотыкаться, демонстрируя свою несостоятельность, и в котором Маркс — достаточно неожиданно — обнаружил черты преображенного будущего. В истинной картине будущего найдется мало места для настоящего.
Марксизм, как утверждают многие его критики, придерживается до невозможности идеализированных взглядов на человеческую природу. Он безрассудно мечтает о будущем, в котором все станут жить в дружбе и взаимопомощи, а соперничество, зависть, неравенство, насилие, агрессия и конкуренция будут изгнаны с лица земли. На самом деле, в трудах Маркса едва ли найдется хоть несколько слов, поддерживающих столь нелепое обвинение, но его критики в массе своей не спешат подрывать свои утверждения конкретными фактами. Они уверены, что Маркс прозревал царство человеческой добродетели, известное как коммунизм, требованиям которого даже архангелу Гавриилу было бы не так-то просто соответствовать. Поступая так, он сознательно или по недомыслию игнорировал то порочное, нечестивое, вечно недовольное царство страстей, известное как человеческая природа.
Некоторые марксисты в ответ на такого рода обвинения заявляют, что если Маркс и не уделял должного внимания человеческой природе, то потому, что он не рассматривал всерьез саму эту идею. Согласно этой точке зрения, концепция человеческой природы является просто изощренным способом для удержания нас на своих местах. Она внушает, что люди являются ничтожными, безнравственными и своекорыстными созданиями, что это остается неизменным на протяжении всей истории и что как раз по этой причине любые попытки радикальных перемен обречены на самые печальные последствия. Фраза «Вы не можете изменить человеческую природу» является одним из наиболее расхожих возражений революционным политикам. В качестве контраргумента некоторые марксисты утверждают, что у людей и их характеров нет никакого неизменяемого ядра. По их мнению, это наша история, а вовсе не наша природа делает нас такими, какие мы есть; так что когда история изменится в своей сути, то вслед за историческими условиями мы сможем также преобразовать и самих себя.
Маркс не в полной мере разделял этот «истористский» подход. Как доказывает в превосходной небольшой книге Норман Джерас[35], имеющиеся данные свидетельствуют о том, что основатель марксизма признавал человеческую природу и был в этом вопросе совершенно прав. При этом он не рассматривал ее как принижающую значение индивидуальности, а, напротив, считал парадоксальной особенностью нашей общей природы то, что мы все являемся неповторимо индивидуальными. В своих ранних трудах Маркс, говоря о человеке как о «родовом существе», развивал подлинно материалистическую трактовку человеческой природы. В силу особенностей строения нашего материального тела мы есть животные, которые обладают потребностями, половыми различиями, но также способностями к труду, общению, социальному взаимодействию, самовыражению, и потому мы нуждаемся друг в друге, чтобы выживать. Но мы приходим в сообщества себе подобных не только ради их практической пользы, а еще и для того, чтобы обрести в них собственную завершенность. Процитирую здесь один фрагмент из написанного мною ранее: «Если другое существо в принципе способно разговаривать с нами, заниматься вместе с нами физическим трудом, сексуально взаимодействовать с нами, производить нечто, хотя бы отдаленно напоминающее культуру, то есть выглядящее с практической точки зрения совершенно бесполезным, наконец, способно страдать, радоваться и умирать, то из этих биологических фактов мы можем вывести огромное число нравственных и даже политических следствий»[36]. Такой подход, обычно классифицируемый как философская антропология, в наши дни уже выходит из моды, но это именно та логика, которой придерживался Маркс в своих ранних работах, и нет веских причин думать, будто позднее он от нее отказался.
В силу того что мы являемся работающими, страждущими и владеющими языком созданиями, в ходе процесса, именуемого историей, мы демонстрируем способность преобразовывать условия своего существования; а занимаясь этим, мы в то же самое время производим изменения в самих себе. Иными словами, изменения вовсе не противоречат человеческой природе и они возможны до тех пор, пока мы остаемся созидательными, внутренне подвижными и не застывшими существами. А вот, скажем, для енотов это неверно. В силу особенностей строения своего материального тела они не могут иметь истории. Равным образом еноты не могут иметь политических учреждений, если только им не удается хитроумно их скрывать. Нет причин опасаться, что однажды они могут взять власть над нами, даже если бы они могли справляться с этой работой гораздо лучше наших нынешних руководителей. Насколько мы знаем, еноты не могут быть социал-демократами или ультранационалистами. Тогда как человеческие существа по самой своей сути являются политическими животными, и не только потому, что живут в обществе себе подобных, но прежде всего потому, что они нуждаются в определенной системе регулирования своей материальной жизни. Им также необходима та или иная система регулирования их половых отношений. Одна из причин этого состоит в том, что без такой регуляции сексуальные стремления также могут становиться социально разрушительными. Ведь страсть обращает мало внимания на социальные различия. И в том числе поэтому человеческие существа нуждаются во внешних регуляторах. Способ, которым они воспроизводят свое материальное бытие, настолько неотделим от эксплуатации и неравенства, что сдерживание вытекающих из этого конфликтов становится невозможным без системы политической власти. Следует также ожидать, что человеческие животные будут использовать те или иные способы символического представления самим себе всех этих явлений независимо от того, будем ли мы называть это искусством, мифами или идеологией.
Согласно Марксу, наша материальная природа обеспечивает нам определенный потенциал и способности. При этом мы полнее всего проявляем свою человеческую сущность именно тогда, когда можем свободно заниматься реализацией этих способностей в качестве самоцели, а не ради каких-либо чисто утилитарных задач. Проявления нашего потенциала и способностей всегда являются исторически конкретными, но их основой являются наши тела, и потому некоторые из этих способностей очень мало меняются от одной человеческой культуры к другой. Два представителя полностью различных культур, не говорящих на языке друг друга, тем не менее могут легко наладить взаимодействие в практических задачах. Это происходит потому, что присущие их физическим телам особые индивидуальные сочетания ожиданий, предположений и уровня понимания имеют общее происхождение[37]. Все человеческие культуры знают печаль и восторг, труд и сексуальность, дружбу и вражду, угнетение и несправедливость, болезни и смерть, подражание и искусство, хотя стили трактовки этих предметов подчас действительно оказываются весьма и весьма различными. Умирать в Мадрасе — это не то же самое, что прощаться с жизнью в Манчестере. Но в любом случае мы умираем. Сам Маркс писал в «Экономическо-философских рукописях», что «человек как предметное, чувственное существо есть страдающее существо; а так как это существо ощущает свое страдание, то оно есть существо, обладающее страстью». Смерть, на его взгляд, — это жестокая победа рода над определенным индивидом. В «Капитале» он пишет, что если для мужчин и женщин при «свободном найме» их смерти оказываются преждевременными, а жизни короче, чем они должны быть, то это происходит из-за уничтожающе чрезмерного труда и дополняющих его несчастных случаев, травм и болезней. Коммунизм можно рассматривать как конец чрезмерного труда, однако поверить, будто Маркс предполагал социальный строй без несчастных случаев, травм и болезней, столь же трудно, как и в то, что он мог допускать отсутствие в нем смерти.
Если вы не разделяете мнения о столь фундаментальной человеческой общности, то социалистическое видение глобальной кооперации может показаться бесперспективным. В первом томе «Капитала» Маркс говорит о необходимости знать, какова «человеческая природа вообще и как она модифицируется в каждую исторически данную эпоху». Есть масса свидетельств того, что люди мало меняются на протяжении истории, факт, который постмодернизм отрицает либо отбрасывает как заурядную мелочь. Делается это отчасти потому, что данному течению вообще свойственно суеверное предубеждение против природы и биологии; а отчасти потому, что оно склонно рассматривать любые изменения как позитивные, а всякое постоянство как негативное. Следуя этому последнему тезису, постмодернизм и приходит к поддержке капиталистической «модернизации» во всех ее проявлениях. Тогда как истина — тоже слишком банальная, чтобы заслужить признание интеллектуалов — состоит в том, что некоторые изменения являются катастрофическими, а некоторые виды постоянства — глубоко желательными. К примеру, было бы крайне досадным, если бы все французские виноградники оказались завтра сожжены, так же как было бы весьма прискорбным, если бы несексистское общество просуществовало лишь три недели.
Социалисты часто говорят об угнетении, несправедливости и эксплуатации. Однако поистине все человечество уже давно знает, что мы никогда не сможем строго и бесспорно определить, что же стоит за этими понятиями. Вместо этого они просто выступают перед нами как некие естественные и неотъемлемые условия жизни. Мы даже можем не вводить для них специальных наименований. Чтобы рассматривать некоторые отношения как эксплуататорские, вам необходимо иметь определенное представление о том, как должны выглядеть неэксплуататорские отношения. А чтобы получить его, вам не требуется апеллировать к идее человеческой природы, а достаточно обратиться к анализу исторических факторов. Вместе с тем представляется правомерным утверждение, что человеческая природа обладает рядом особенностей, которые в этом отношении оказывают определенное нормирующее и регулирующее воздействие. Например, все люди рождаются «слишком рано». Долгое время после рождения они не способны сами заботиться о себе и в силу этого нуждаются в продолжительном периоде ухода за собой. (По мнению некоторых психоаналитиков, такой необычайно продолжительный опыт заботы играет столь же опустошительную роль в последующем функционировании нашей психики. Если бы новорожденные дети могли сразу встать и уйти, то удалось бы избежать огромного числа детских несчастий, и не только в том смысле, что не было бы орущих недоразумений, мешающих нам спать.) И даже если получаемый ими уход ужасен, дети очень быстро усваивают определенные представления о том, что понимают под «заботой» другие люди. Это и есть один из механизмов, позволяющих им впоследствии определять, что некоторый жизненный строй в целом цинично равнодушен к нуждам людей. В этом смысле мы можем от состояния раннего рождения непосредственно переходить к политическим регуляторам.
Потребности, имеющие первоочередное значение для нашего выживания и благополучия, такие как стремление быть сытым, согретым, иметь крышу над головой, веселиться в компании друзей, не быть порабощенным или оскорбляемым и т. д., могут служить основой для политической критики в том плане, что любое общество, не обеспечивающее удовлетворения этих нужд, является безусловно неполноценным. Само собой разумеется, что в подобных обществах мы сможем найти и другие более частные или культурологические основания для претензий, но доказательство того, что в них попираются некоторые из наиболее фундаментальных требований нашей природы, будут иметь гораздо больше силы. Так что ошибаются те, кто думает, что идея человеческой природы годится лишь для оправдания статус-кво. Она вполне может действовать и как серьезный вызов существующему порядку.
В своих ранних работах, таких как «Экономикофилософские рукописи 1844 года», Маркс придерживался той в настоящее время малопопулярной точки зрения, что данные о строении и функционировании нас в качестве материальных организмов могут подсказать нам нечто важное относительно того, как мы должны жить. При такой постановке вопроса открывается возможность перейти от обсуждения человеческого тела к проблемам этики и политики. Если люди — суть самореализующиеся создания, то тогда им необходимо располагать свободой для воплощения своих стремлений и раскрытия своих возможностей. Но если они к тому же являются общественными животными, живущими среди других самореализующихся существ, то им надлежит заботиться о предотвращении бесчисленных и потенциально разрушительных конфликтов между подобными устремлениями.
Фактически это одна из наиболее трудноразрешимых проблем либерального общества, в котором предполагается, что его члены свободны, но свободны в том числе для того, чтобы постоянно торчать поперек горла друг у друга. Коммунизм, напротив, организует общественную жизнь так, чтобы отдельные личности могли реализовать себя в рамках и посредством самореализации других. Как сказано Марксом в коммунистическом манифесте, «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». В этом смысле позиция социализма не сводится к простому отрицанию либерального общества с его пылкой приверженностью индивидуализму; нет, он основывается на нем и завершает его. Поступая так, он показывает, как могут быть разрешены некоторые противоречия либерализма, при котором ваша свобода может расцветать только за счет меня. В конечном счете только благодаря другим людям вы можете прийти к самому себе. И это означает обогащение личной свободы, а вовсе не ее принижение. Это трудно представить в рамках рафинированной этики, а на личностном уровне это известно как любовь.
Стоит подчеркнуть заинтересованное отношение Маркса к вопросам человеческой индивидуальности, поскольку оно идет строго вразрез с типовыми карикатурами на его работы. Подобные интерпретации пытаются выставить марксизм как безликий коллективизм, помыкающий частной жизнью. На самом деле, не может быть ничего более далекого от идей Маркса. Не будет преувеличением сказать, что свободный расцвет человеческих личностей был главной целью его политических усилий, естественно, не забывая при этом, что тот или иной путь к процветанию эти личности могут найти только сообща. Утверждать свою индивидуальность, пишет он в «Святом семействе», это и есть «насущное жизненное проявление [человека]». Этот тезис можно считать выражением самой сути моральных идей Маркса от начала и до конца.
Это, в свою очередь, служит веским основанием подозревать, что полная гармония между обществом и всеми составляющими его индивидами едва ли когда-нибудь может быть достигнута. Помыслы о неразрывном и органичном их единении есть не что иное, как прекраснодушная фантазия. Всегда будут иметь место конфликты между моими мотивами и вашими или между требованиями ко мне, как гражданину, и тем, что мне самому очень хочется сделать. Такие открытые противоречия создают почву для реальных трагедий, и только могила, в противовес ожиданиям марксизма, может оградить нас от этого положения. Прозвучавшее в коммунистическом манифесте заявление Маркса о свободном саморазвитии всех никогда не может быть реализовано в полном объеме. Подобно всем высшим идеалам это скорее предел для стремлений, нежели план, требующий буквального воплощения. Идеалы — это ориентиры, с которыми мы сверяем путь, а не реальные объекты. Те, кто насмехается над социалистическими идеалами, должны помнить, что идея свободного рынка также никогда не может быть полностью реализована. Однако это не останавливает стараний ее поклонников. Тот факт, что нет безупречной демократии, отнюдь не побуждает большинство из нас согласиться на замену ее тиранией. Мы не оставляем усилий по доставке продуктов питания голодным по всему миру из-за того, что заранее понятно, что кто-то из них умрет раньше, чем мы сможем успеть к нему. Часть деятелей, утверждающих, что социализм неосуществим, искренне уверены, что они в состоянии ликвидировать нищету, справиться с глобальным потеплением, развернуть либеральную демократию в Афганистане и разрешать мировые конфликты с помощью резолюций ООН. Все эти впечатляющие задачи вполне укладываются в рамки возможного. И только социализм по каким-то таинственным причинам остается вне пределов досягаемости.
Но и при всем том выйти к намеченным Марксом рубежам будет легче, если вы будете меньше прислушиваться ко всякого рода величественным морализаторам. Социализм не относится к тем сообществам, что требуют от своих членов безупречной добродетели. Он отнюдь не предполагает, что мы должны постоянно находиться среди людей в неких массовых оргиях единения. Потому что механизмы, позволяющие приблизиться к целям Маркса, фактически будут встроены в общественные институты. Соответственно добрая воля отдельных граждан не будет служить первоочередным условием их эффективного функционирования. Возьмем, к примеру, идею самоуправляющихся кооперативов, в которых Маркс, судя по всему, видел ведущую производственную ячейку социалистического будущего. Вклад в работу такой ячейки может стать для отдельной личности формой ее самореализации, но в то же время это будет вклад в благополучие других; и таким образом, просто в ходе повседневной жизни человек обретает свое место в ней. От меня не требуется предаваться сентиментальным размышлениям о своих коллегах по работе или каждые два часа вводить себя в альтруистический транс. Моя личная самореализация помогает им развиваться уже в силу самого характера нашей ячейки, основанной на кооперации, разделе прибыли, равенстве и общем управлении. Это вопрос структурной организации, а вовсе не людской добродетели, и он не требует выведения расы Корделий[38].
Плюс к тому для части социалистических задач совершенно не важно, если я окажусь, скажем, презреннейшим из мерзавцев на Западе. Равным образом, не важно и то, если я своей работой в качестве биохимика в частной фармацевтической компании вношу выдающийся вклад в развитие науки и прогресс человечества. Решающим фактом остается то, что моя работа служит прежде всего созданию прибыли для кучки беспринципных вымогателей, которые, быть может, с собственных детей требуют по десять долларов за аспирин. Что я при этом чувствую, к делу никак не относится; значение моей работы исчерпывающе определяется учреждением, в котором она совершается.
Можно предположить, что в каждом социалистическом учреждении будут присутствовать несколько подхалимов, забияк, обманщиков, лодырей, хапуг, ловеласов, а иногда и психопатов. Во всяком случае, в трудах Маркса нет четких указаний на то, что такого не может быть. Кроме того, если коммунистическое общество практически для всех своих членов предполагает как можно более полное включение в общественную жизнь, то в таком случае следует ожидать, что в различных мероприятиях чем больше участвует людей, тем и конфликтов будет скорее больше, чем меньше. Коммунизм едва ли сможет положить конец человеческим спорам (разве что при этом случится буквальный конец истории). Зависть, агрессия, доминирование, собственничество и конкуренция все еще будут существовать; просто они более не смогут проявляться в таких формах, какие принимали при капитализме. Но не из-за некоей высшей человеческой добродетели, а в силу изменения институциональной структуры общества.
Вышеназванные пороки более не смогут выражаться в эксплуатации детского труда, колониальных погромах, чудовищных социальных контрастах и беспощадной экономической конкуренции. Вместо этого они найдут себе какие-то другие формы. В племенных сообществах тоже наличествует определенная доля насилия, соперничества и жажды власти, однако здесь они не могут обернуться мировой войной, свободно-рыночной конкуренцией или массовой безработицей, поскольку даже у таких достаточно многочисленных народов, как суданские Нуэр или Динка, соответствующие институции напрочь отсутствуют. Здесь, куда ни бросишь взгляд, вы можете встретить охотников за головами, но только некоторые из этих носителей разбойничьих нравов занимают места, позволяющие обкрадывать пенсионные фонды или накачивать массмедиа лживой политической пропагандой. (Большинство же местных бандитов не располагают техническими и организационными возможностями для такого рода действий и вместо них довольствуются тем, что подвешивают людей на крюки для туш.) В социалистическом обществе ни у кого не останется возможности так поступать. Но не потому, что все станут безмерно благочестивыми, а потому, что не останется частных пенсионных фондов или карманных СМИ. Шекспировские разбойники, чтобы дать волю своей злобе, должны были искать иные способы, нежели запуски ракет по палестинским лагерям беженцев. Вы не можете стать терроризирующим округу промышленным магнатом, если вокруг нет хоть какой-нибудь промышленности. Вместо этого вам придется ограничиться разве что терроризированием рабов, придворных или своих соседей по неолитической пещере.
А теперь рассмотрим практику демократии. Опыт показывает, что здесь всегда можно встретить чудовищных себялюбцев, пытающихся запугать и подавить окружающих, а также людей, которые норовят подкупом или сладкоречивыми обещаниями проложить себе путь к власти. Однако в самой системе демократии имеется ряд встроенных механизмов против подобных проявлений. Опираясь на такие средства, как один голос у одного человека, наблюдатели, корректировки законодательства, ответственность, адекватные процедуры, верховенство большинства и т. д., вы делаете все от вас зависящее, чтобы проходимцы никогда не могли победить. Но время от времени им это все-таки удается. Они даже могут принимать меры к фальсификации процесса в целом. Тем не менее наличие отлаженных процедур означает, что большую часть времени они будут вынуждены подчиняться демократическому консенсусу. Добродетель, так сказать, воспроизводится по ходу дела, не оставляя места причудам отдельных личностей. Чтобы положит конец войне, нет необходимости делать людей физически неспособными к насилию, а вполне достаточно будет переговоров, разоружения, мирных соглашений, полномочных наблюдателей и других проверенных опытом мер. Это может быть сложно, но все равно и вполовину не так сложно, как выведение расы людей, которых мутило и бросало бы в дрожь от малейших признаков агрессии.
Так что марксизм никому не обещает идеальных людей. Он даже не обещает устранить тяжелый труд. Маркс, похоже, считал, что некоторый объем обременительных работ будет оставаться необходимым и в условиях изобилия. Проклятие Адама сохранит свою силу даже в царстве всяческого достатка. Что марксизм действительно обещает, так это разрешение тех противоречий, которые в настоящее время поистине останавливают историю от дальнейших шагов вперед, во всей их непредсказуемости и разнообразии.
Впрочем, цели марксизма не ограничиваются только материальным. Для Маркса коммунизм означает конец необеспеченности наряду с освобождением человека от большей части тяжелых работ. Но свобода и досуг, которые создадут для людей предшествующие меры, затем станут условиями для их более полного духовного расцвета. В самом деле, как мы видели, духовное и материальное развитие не всегда шествуют рука об руку. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь взглянуть на Кита Ричардса, одного из основателей легендарной группы The Rolling Stones. Есть масса форм материального богатства, которые означают смерть духа. Как верно и то, что вы не свободны делать то, что вы хотите, если вы голодаете, вас жестоко угнетают или тормозят ваш нравственный рост, превращая жизнь в бесконечную борьбу за существование. Материалисты — это не те, кто отрицает духовное, но те, кто напоминает, что духовное совершенствование требует определенных материальных условий. Наличие соответствующих условий не гарантирует такого же совершенствования, но без них оно точно не может иметь место.
В условиях дефицита, естественного или искусственного, люди чувствуют себя не лучшим образом. Недостаток любых важных жизненных средств порождает всевозможные страхи, скупость, жестокость, стремление к подавлению других и смертельный антагонизм. Поэтому можно ожидать, что, когда люди обретут возможность жить в условиях материального достатка, освободившись от всех этих деформирующих воздействий, они будут проявлять себя как существа более нравственные по сравнению с тем, как они ведут себя сейчас. Правда, в этом нельзя быть до конца уверенными, поскольку до сих пор мы никогда не знали таких условий. Именно это имел в виду Маркс, утверждая в коммунистическом манифесте, что вся предшествующая история была историей классовой борьбы. И даже в условиях достатка у нас останется масса других поводов для переживания страха, агрессии и собственнических чувств. Мы не будем чудесным образом превращены в ангелов. Но часть причин, питающих наши нравственные пороки, будет устранена. И это действительно дает определенные основания утверждать, что коммунистический строй в общем и целом позволит воспитывать более положительных людей, нежели мы можем наблюдать сейчас. Однако они по-прежнему будут подвержены ошибкам и склонны к конфликтам, демонстрируя порой злобу и жестокость.
Циникам, выражающим сомнения в возможности такого нравственного прогресса, следует не забывать о разнице между сожжением ведьм и борьбой за равную оплату труда для женщин. Что вовсе не означает, будто все мы стали более деликатными, заботливыми и человечными, чем были в Средневековье. Если уж на то пошло, мы можем также напомнить и о различиях между луком и стрелами и крылатыми ракетами. Суть не в том, что история в целом демонстрирует улучшение нравственности, а просто-напросто в том, что мы добились ощутимого прогресса и в той, и в другой сфере. Но ровно в той же мере, в какой трезвый реализм требует признания данного факта, он не позволяет отрицать и то, что в ряде отношений мы со времен Робин Гуда стали хуже. Перед нами нет величественного повествования о прогрессе, поскольку есть всего лишь история, не рассказывающая об абсолютном упадке.
Тем, кому случалось видеть маленького ребенка, с душераздирающим криком «Моя!» вырывающего игрушку у своего брата или сестры, нет необходимости напоминать, как глубоко укоренились в нашем сознании соперничество и собственничество. Мы говорим о кристаллизовавшихся культурных, психологических и даже эволюционных особенностях, которые не меняются просто от изменения общественных институтов. Впрочем, и изменения в обществе не определяются тем, удалось ли всем нам со вчерашнего вечера устроить коренной переворот в своих отношениях.
Возьмем, к примеру, Северную Ирландию. Мир в этом беспокойном регионе наступил не потому, что католики и протестанты в конце концов отложили в сторону свой вековой антагонизм и упали в нежные объятия друг друга. Ничего подобного. Как легко убедиться, некоторые из них еще долго будут продолжать ненавидеть друг друга. Изменения в разделенных по общинам сознаниях будут, по всей вероятности, геологически неспешными. И все же, если рассматривать ситуацию в целом, то не это является главным. Что было по-настоящему важно, так это обеспечить политическое соглашение, которое могло бы четко соблюдаться и планомерно совершенствоваться в условиях усталости народа от тридцатилетнего непрерывного насилия.
Впрочем, это только одна сторона сюжета. Справедливости ради следует признать, что через длительные периоды времени изменения общественных институтов действительно обеспечивают глубокое воздействие на человеческие отношения. Опыт истории показывает, что практически все меры по гуманизации уголовного законодательства, которые удавалось реализовать, в свое время встречали ожесточенное сопротивление; но в наши дни мы до такой степени свыклись с этими изменениями, что считаем их само собой разумеющимися и с презрением отворачиваемся от идей рубить убийцам головы. Подобные реформы уже встроились в нашу психику. Никакие другие идеи не оказывают столь ощутимого воздействия на наши взгляды на мир, как те, что растворены в повседневной общественной практике. Если мы изменяем эту практику — что может оказаться страшно трудным, — то в конечном счете мы с большой вероятностью получим изменение нашего способа видения мира.
Большинству из нас не доводилось сталкиваться с насильственным удержанием от, скажем так, излишне раскованного поведения на переполненных улицах. Не действовать подобным образом стало нашей второй натурой потому, что есть закон против этого, но, пожалуй, в еще большей степени потому, что в социуме это не одобряется. Это не означает, что никто из нас никогда этого не делал, по крайней мере в центральных кварталах и когда пивные уже закрыты. Но именно из-за устоявшихся традиций поступать так является для нас гораздо менее вероятным, чем если бы подобные действия считались верхом приличия. Британское предписание о левостороннем движении ничуть не борется в душах британцев со страстным желанием ездить по правой стороне. Хотя для кого-то институциональные предписания или ограничения, отражающие наш внутренний опыт, могут выступать как средства перевоспитания. Мы пожимаем руки при первой встрече отчасти потому, что данное действие является общепринятым, но также потому, что в силу общепринятости данного действия мы чувствуем желание его совершить.
Изменения таких устоявшихся обычаев и привычек занимают много времени. Потребовалось несколько столетий жизни при капитализме, чтобы выкорчевать формы отношений и поведения, унаследованные от феодализма; зато сейчас туристы внутри Букингемского дворца наглядно доказывают, что на многие некогда принципиальнейшие вопросы ныне беззаботно не обращают внимания. Хочется также надеяться, что не потребуется столь долгий срок для создания общественного строя, при котором школьники, изучающие историю, будут с крайним недоверием относиться к известиям о том, что в былые времена миллионы умирали от голода, тогда как горстка других скармливала икру своим пуделям. Это будет выглядеть дли них столь же чуждым и отвратительным, какой нам сейчас кажется мысль о четвертовании людей за ересь.
Упоминание о школьниках подводит нас к важному вопросу. Сегодня очень многие дети являются горячими сторонниками защиты окружающей среды. Они со страхом и отвращением относятся к сборищам для убийства тюленей или загрязнению атмосферы, а некоторых из них шокирует даже простое разбрасывание мусора. И это во многом обусловлено образованием — не только официальным образованием, но и воздействием новых убеждений и форм мышления на поколение, в котором старые привычки и убеждения менее прочны. Разумеется, никто не возьмется утверждать, что это спасет планету. Верно и то, что встречаются дети, способные с удовольствием калечить и убивать собак и кошек. Но и при всем этом перед нами яркое свидетельство того, как образование может менять отношения и порождать новые формы поведения.
Также на всех этапах остается возможным политическое образование. На одной конференции, проходившей в Британии в начале 1970-х годов, развернулась дискуссия о том, имеются ли у людей какие-либо универсальные отличительные признаки. Один мужчина встал и заявил: «Ну, у нас у всех есть яйца». На что женщина из зала закричала: «Нет, у нас их нет!» Феминизм в Британии тогда делал лишь свои первые шаги, так что довольно многими присутствовавшими при этом мужчинами данная реплика была воспринята просто как несколько эксцентричная выходка. И даже некоторые женщины выглядели сконфуженными. Но уже через несколько лет мужчина, допустивший столь нелепое высказывание на публике, мог рассчитывать лишь на немедленное и строгое осуждение своих слов.
В Средние века и в начале Нового времени в Европе скупость считалась отвратительнейшим из пороков. С тех пор и до слогана Уолл-стрит «Жадность — это хорошо» совершался интенсивный процесс перевоспитания. Только в первых рядах такого перевоспитания шли не школьные учителя или пропагандисты, а изменения в материальных формах нашей жизни. Аристотель считал рабовладение свойственным человеческой природе, хотя ряд других античных мыслителей были с этим не согласны. Но плюс к тому он считал противоестественным для человека заниматься крупным производством ради получения прибыли, что не вполне согласуется с мнением Дональда Трампа. (Представляет интерес выдвигавшееся Аристотелем обоснование такого взгляда. Он полагал — то, что впоследствии Маркс называл «меновой стоимостью», то есть свойство, в силу которого один товар обменивается на определенное количество другого товара, а тот на еще один и так далее до бесконечности, — так вот, данная особенность, будучи проявлением некоей безграничности, является в силу этого чуждой ограниченной животной природе человека и не может от нее зависеть.) И среди средневековых мыслителей находились такие, кто рассматривал производство прибыли как неестественное и античеловечное, поскольку для этих мыслителей человеческая природа совпадала с природой феодализма. По всей видимости, люди, жившие охотой и собирательством, имели столь же туманное представление о возможности какого-либо иного общественного устройства, помимо их собственного. Алан Гринспен, бывший председатель Федеральной резервной системы США, в течение значительной части своей профессиональной деятельности считал, что стремление к так называемым свободным рынкам коренится в человеческой природе, хотя это столь же абсурдно, как и утверждение, будто в человеческой природе заложено восхищение Клиффом Ричардом, одним из первых исполнителей рок-н-ролла. В историческом масштабе свободные рынки — сравнительно новое явление, причем и после возникновения зона их действия долгое время ограничивалась малой частью мира.
Точно так же и те, кто говорит, что социализм противоречит человеческой природе, делают это потому, что в своем близоруком восприятии мира отождествляют эту природу с капитализмом. Племена туарегов, кочующие по Центральной Сахаре, в душе, несомненно, являются капиталистическими предпринимателями, а самой вожделенной, хотя и тщательно скрываемой их мечтой является учреждение инвестиционного банка. Остается только непонятным, как быть с тем, что у них нет даже самого приблизительного представления об инвестиционном банке. А ведь никто не может по-настоящему стремиться к тому, чего он не понимает. Я не могут мечтать о превращении в биржевого брокера, если являюсь афинским рабом. Я могу быть жадным, алчным и религиозно преданным своим шкурным интересам, но я не могу стать тайным капиталистом, точно так же как я не могу стремиться стать нейрохирургом, если живу в XI веке.
Ранее я отмечал, что Маркс, несколько даже неожиданно, был крайне пессимистично настроен относительно прошлого и крайне оптимистично — в отношении будущего. Для этого есть несколько причин, но одна из них особенно близка к обсуждаемому нами вопросу. Маркс не был в восторге от прошлого потому, что оно выглядит просто как смена одной формы подавления и эксплуатации на другую. Теодор Адорно как-то заметил, что пессимистические мыслители (имея при этом в виду скорее Фрейда, нежели Маркса) внесли больший вклад в дело человеческого освобождения, чем неискушенные оптимисты. Потому что именно первые преподносят нам доказательства несправедливости, которые вопиют о возмездии и о которых мы в ином случае могли бы забыть. Напоминая нам, как плохо обстоят дела, они побуждают нас к их исправлению. Они подстегивают нас без обезболивания.
К этому остается добавить, что если Маркс возлагал столь большие надежды на будущее, то прежде всего потому, что понимал, что дошедшая до нас печальная летопись по большей части отнюдь не является плодом наших ошибок. Главная причина, по которой история так пропитана кровью, состоит вовсе не в природной порочности большинства людей, а в том давлении материальных условий, которому они вынуждены подчиняться. Исходя из этой принципиальной позиции, Маркс смог дать реалистичную оценку прошлого, не поддаваясь влиянию мифа о черноте человеческих душ. Это и есть тот самый материализм, который питал его надежды, и та причина, по которой он сохранял веру в будущее. Если войны, голод и геноцид происходят просто из некоей неизменяемой человеческой извращенности, тогда нет ни малейшего основания полагать, что будущее будет хоть сколько-нибудь лучше. Если же, напротив, все эти беды хотя бы отчасти обуславливаются несправедливыми общественными системами, для которых отдельные личности порой мало чем отличаются от неодушевленных орудий, тогда правомерно ожидать, что изменение таких систем послужит общему улучшению мира. А жупел идеального можно оставить для запуганных придурков (им все равно уже ничем не помочь).
Сказанное не означает, что люди в классовом обществе могут быть освобождены от всякой ответственности за свои действия или что личная безнравственность не играет никакой роли в возникновении войн и геноцида. Компаниям, которые принудительно увольняют сотни или даже тысячи сотрудников, обрекая их на жизнь безработных, это, вне всякого сомнения, может быть поставлено в вину. Вот только за подобными мерами совершенно необязательно стоит преступный умысел, мстительность или агрессия. Хозяева компаний создают безработицу всего лишь потому, что хотят оградить свои прибыли, которые, как они опасаются, в ином случае в условиях конкуренции могут снизиться. Те, кто отправляет армии на войну, где они могут докатиться до сжигания детей, сами по себе могут быть нежнейшими из людей. Но в любом случае нацизм был не только пагубной политической системой; плюс к тому он поощрял садизм, паранойю и патологическую ненависть в личностях, которых действительно точнее всего можно охарактеризовать как порочных. Уж если Гитлер не был порочным, то этот термин вообще не имеет смысла. Но привести к таким ужасным результатам его личная порочность смогла лишь потому, что она была включена в работу политической системы. Это было все равно что назначить шекспировского Яго начальником лагеря для военных преступников.
Если действительно существует идея человеческой природы, то в некотором отношении это хорошая новость, что бы ни думали по этому поводу постмодернисты. Потому что одной весьма устойчивой составляющей этой природы определенно должно быть сопротивление несправедливости. Именно поэтому глубоко ошибочным является представление, будто идея человеческой природы всегда должна работать на консервативный подход. Знакомясь с историческими хрониками, нетрудно убедиться, что политическое угнетение почти всегда вызывало восстания, пусть даже затем они подавлялись или заканчивались лишь сменой одного деспота другим. Похоже, в самом человеческом роде есть нечто, не позволяющее ему безропотно склоняться перед оскорбляющей его властью. Верно и то, что реальная смена власти чаще всего происходит в результате успешных заговоров ее агентов. Вместе с тем данные свидетельствуют, что программы таких заговоров обычно оказываются весьма смутными, половинчатыми и непоследовательными. В отношении перемен правящие классы в целом являются более сдержанными, нежели страстными. Если наша природа обусловливается исключительно культурой, то тогда нет никаких причин, мешающих политическим режимам подгонять нас под любой формат власти по своему усмотрению и без всяких вопросов с нашей стороны. И зачастую оказывается крайне сложно указать какие-то более глубокие причины для сопротивления, нежели местные культурные особенности.
Так был ли Маркс утопическим мыслителем? Да, если понимать под этим, что он предполагал будущее, которое будет всесторонним усовершенствованием настоящего. Как мы знаем, он верил в конец материальной скудости, частной собственности, эксплуатации, социальных классов и государства. Правда, многие аналитики, обращая свой взгляд на то, в каких масштабах в сегодняшнем мире ведущие игроки аккумулируют у себя все виды ресурсов, приходят к выводу, что, конечно, в принципе ликвидация материальной скудости была бы делом в высшей степени разумным, но на практике это едва ли достижимо. Ибо здесь на нашем пути встает политика.
Как мы видели, Маркс также считал, что этот процесс предполагает освобождение человека, его духовное обогащение в самом широком смысле. Освободившись от внешних ограничений, люди смогут развиваться как личности в ранее недоступных им формах и масштабах. Однако в работах Маркса нет никаких указаний на то, что посредством этого мы достигнем какой-либо из разновидностей идеального. Для людей неотъемлемым условием подлинной свободы является потенциальная возможность злоупотребления ею. Можно даже сказать, что без тех или иных злоупотреблений вообще не может быть сколько-нибудь ощутимой свободы. И это дает веские основания полагать, что в коммунистическом обществе будет предостаточно проблем, масса конфликтов и немало непоправимых трагедий. Здесь можно будет столкнуться с убийствами детей, дорожными авариями, ужасно плохими новостями, смертельной ревностью, самонадеянными честолюбцами, безвкусными брюками и безутешными рыданиями.
Коммунизм стремится к удовлетворению потребностей каждого, но даже в обществе изобилия этот процесс должен иметь свои границы. Как замечает Норман Джерас: «Если в качестве средства саморазвития (при коммунизме) вам требуется скрипка, а мне — гоночный велосипед, то можно предположить, что все будет нормально. Но если мне захочется иметь запредельно огромную территорию, скажем, Австралию, чтобы странствовать по ней или вообще использовать ее так, как я считаю правильным, но чтобы в любом случае мой покой не нарушался присутствием других людей, то тогда это явно будет ненормально. Никакое мыслимое изобилие не может удовлетворять запросы на саморазвитие в таких масштабах… и совсем не трудно представить себе запросы гораздо менее претенциозные, но все же полностью подпадающие под указанное правило»[39].
Маркс, как мы видели, воспринимал будущее не как предмет для праздных спекуляций, но как осуществимую экстраполяцию настоящего. Его интересовали не поэтические мечты о мире и дружбе, но материальные условия, которые способны обеспечить появление подлинно человеческого будущего. Как материалист, он с осторожностью относился к сложному, строптивому и продолжающему меняться характеру реальности; а такой мир несовместим с мечтами об идеале. В идеальном мире должны быть устранены все случайности, все те досадные неожиданности, чрезвычайные происшествия и трагические непредвиденные последствия, которые пронизывают ткань нашей повседневной жизни. Это также должен быть мир, в котором мы смогли бы соблюдать справедливость по отношению к мертвым в той же мере, как и к живым, не совершать преступлений и исправлять ужасы прошлого. Но такое общество невозможно. Да и его желательность отнюдь не очевидна. В мире без крушений поездов может также не найтись возможностей для создания лекарства против рака.
Равным образом невозможно получить общественный строй, при котором все были бы равны. Утверждение, что «социализм сделает всех нас одинаковыми», не имеет обоснований. Маркс ничего подобного не предполагал. Более того, он был заклятым врагом тотального единообразия. На самом деле, Маркс считал равенство буржуазной ценностью, рассматривая его как отражение в политической сфере явления, называемого им меновой стоимостью, то есть того соотношения, в котором один товар обменивается на другой. Товар, как он однажды заметил, есть «воплощенное равенство». А в «Экономическо-философских рукописях», рассуждая об одной из разновидностей коммунизма, предполагающей всеобщее социальное уравнивание, он заклеймил его как «абстрактное отрицание всего мира культуры и цивилизации». Маркс также связывал идею равенства с тем, что он квалифицировал как абстрактное равенство демократии среднего класса, при которой наше формальное равенство как избирателей и граждан служит для отвлечения внимания от реального неравенства благосостояний и классовой принадлежности. В «Критике Готской программы» он также развенчивает идею равенства доходов, поскольку люди имеют совершенно различные потребности: кто-то выполняет более трудную или опасную работу, чем другие, у кого-то больше детей, которых надо содержать, и т. д.
Это не означает, что он совершенно отбрасывал идею равенства. Маркс не имел обыкновения исключать из рассмотрения какие-либо идеи только потому, что их источником был средний класс. Будучи далек от огульного охаивания общественных идеалов среднего класса, он последовательно отстаивал его великие революционные ценности — свободу, самоопределение и саморазвитие. Он подчеркивал, что в условиях феодальной иерархии даже провозглашение абстрактного равенства было важным шагом вперед. Говоря кратко, его позиция состояла в том, что у этих замечательных ценностей нет ни одного шанса стать достоянием каждого до тех пор, пока продолжает существовать капитализм. Но и при всем том он не скупился на похвалы среднему классу как самой революционной формации, которую история знала до сих пор, — факт, который его оппоненты из рядов среднего класса странным образом предпочитали не замечать. Возможно, из-за подозрения, что для них похвала со стороны Маркса означает лишь последний поцелуй смерти.
С точки зрения Маркса, главным недостатком расхожего понимания равенства была его чрезмерная абстрактность. Рассуждавшие о нем уделяли мало внимания неповторимым особенностям вещей и людей — тому что в экономическом контексте Маркс называл «потребительной стоимостью». Потому что как раз капитализм, а вовсе не социализм стремится стандартизовать людей. И в том числе поэтому Маркс довольно сдержанно относился к самой идее права. «По своей природе, — пишет он, — право может состоять лишь в применении равной меры; но неравные индивиды (а они не были бы различными индивидами, если бы не были неравными) могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной определенной стороны, как в данном, например, случае, где их рассматривают только как рабочих и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального»[40]. Вот так выглядели для Маркса те, кто намеревался свести всех нас к совершенно одинаковому уровню. Столь же глубокомысленными были для него те, кто там, где он видел людей, не могли усмотреть ничего, кроме рабочих. Равенство при социализме не означает, что все мы станем полностью одинаковыми; абсурдно предполагать, что такое вообще когда-либо было (это все равно как если бы Маркс взялся утверждать, что он получил лучшее воспитание, чем герцог Веллингтон). Не означает оно и того, что каждый будет получать в точности одинаковый объем богатства и ресурсов.
Подлинное равенство означает не равномерное обеспечение всех, но равную заботу об удовлетворении разных потребностей каждого. Именно такую форму общества предвидел Маркс.
Несмотря на общую основу человеческих потребностей, нужды одного конкретного человека не во всем совпадают с нуждами другого, так что у вас не получится мерить их всех одним аршином. Для Маркса каждый человек должен иметь равное право на самореализацию и на активное участие в формировании условий общественной жизни. Тем самым барьеры неравенства будут разрушены, но главным результатом этого станет обеспечение каждому человеку возможности максимально полно развернуть свой потенциал как уникальной личности, коими мы все и являемся. В конечном счете для Маркса равенство существует ради различий. Социализм не имеет ничего общего с желанием одеть всех в одинаковые комбинезоны, зато потребительский капитализм действительно не прочь нарядить своих граждан в униформу, известную как спортивный или тренировочный костюм.
По мнению Маркса, это позволит социализму создать общественную систему гораздо более плюралистичную, чем все известные нам до сих пор. В классовом обществе свободное развитие немногих достигается за счет блокирования возможностей большинства, жизнь которого тем самым обрекается на бесконечное воспроизведение крайне ограниченного набора сценариев. Коммунизм же именно за счет поощрения каждого к развитию его индивидуальных способностей и талантов будет несравненно более многослойным, разнообразным и непредсказуемым. Он будет гораздо больше похож на произведение модернизма, чем реализма. Критики Маркса могут третировать это как сказку. Но они не могут в то же самое время утверждать, будто Марксу больше нравился общественный строй, похожий на «1984» Джорджа Оруэлла.
Современная эпоха действительно заражена опасной формой утопизма, но имя ей не марксизм. В этом качестве выступает безумная идея, будто единая глобальная система, известная как свободный рынок, способна внедриться в самые различные культуры и экономики и исцелить все их болезни. Поставщики этой тоталитарной фантазии не скрываются в подземных бункерах, подобно покрытым шрамами и язвительно учтивым злодеям из фильмов о Джеймсе Бонде. Их можно увидеть обедающими в первоклассных ресторанах Вашингтона и прогуливающимися в поместьях Сассекса.
Ответ Теодора Адорно на вопрос о том, был ли Маркс утопическим мыслителем, звучит категорично: и да, и нет. Он был, пишет Адорно, противником утопии ради ее реализации.
Глава 5
Марксизм сводит все к экономическим процессам, он является формой экономического детерминизма. Искусство, религия, политика, право, война, мораль, исторические изменения — все это рассматривается в неадекватных терминах как всего лишь отражение экономики или классовой борьбы. Действительное многообразие человеческих проявлений игнорируется ради монохромного изображения истории. В своей одержимости экономикой Маркс превратился просто в опрокинутое отражение капиталистической системы, которой он противостоял. Его воззрения противоречат плюралистическим взглядам современных обществ, понимающих, что широчайшее разнообразие исторического опыта не может быть втиснуто в одну жесткую схему.
С одной стороны, утверждение, что все сводится к экономике, есть самоочевидный трюизм, и крайне трудно представить, на каком основании кто-то мог бы в этом усомниться. Прежде чем мы сможем заниматься чем-либо еще, нам необходимо есть и пить. Нам также требуется одежда и хоть какое-то укрытие, по крайней мере если мы живем ближе к Шеффилду, чем к Самоа. В «Немецкой идеологии» Маркс пишет, что первым историческим актом является производство средств для удовлетворения наших материальных потребностей. Только после этого мы можем начинать учиться играть на банджо, сочинять эротические стихи или рисовать парадный подъезд. Основа культуры есть труд, и не может быть цивилизации без материального производства.
Марксизм, однако, не ограничивается этим и настроен утверждать нечто большее. Он хочет доказать, что материальное производство является фундаментальным не только в том смысле, что без него не было бы цивилизации, но также то, что именно оно в конечном счете определяет характер этой цивилизации. Есть разница между констатацией, что ручка или компьютер необходимы для написания романа, и утверждением, что это каким-то образом определяет содержание романа. Последний тезис отнюдь не является очевидным, пусть бы даже его марксистский эквивалент находил поддержку в том числе у некоторых антимарксистов. Философ Джон Грей, которого трудно отнести к сторонникам марксизма, пишет, что: «в рыночных обществах экономическая деятельность не просто отличается от всех других проявлений общественной жизни, но, сверх того, обуславливает общество в целом, а порой и господствует над ним»[41]. Соответственно то, что Грей признает лишь для рыночных обществ, Маркс распространяет на человеческую историю как таковую.
Критики же Маркса расценивают это более радикальное из двух утверждений как форму редукционизма. Их души закипают от возмущения при виде картины, в которой все сводится к одному и тому же фактору. Это кажется совершеннейшим заблуждением. Каким таким манером поразительное многообразие человеческой истории может быть ушито по одной мерке? Разве можно сомневаться, что в истории действует множество сил, которые никогда не могут быть сведены к единственному неизменному принципу?
Однако хотелось бы уточнить, сколь далеко готов зайти данный вид плюрализма. Неужели в исторических событиях никогда не встречается какого-то одного фактора, играющего заметно более важную роль, чем другие? Поверить в такое даже при большом старании как-то не удается. Мы можем до второго пришествия спорить о причинах Французской революции, но никто не возьмется всерьез утверждать, что ее вызвали биохимические изменения в мозгах французов, вызванные чрезмерным потреблением сыра. Только непостижимо таинственное меньшинство стоит на том, что революция произошла из-за возобладавшего влияния созвездия Овна. Зато все согласятся с тем, что некоторые исторические факторы являются более весомыми, чем другие. И это никому из них не помешает оставаться плюралистом, по крайней мере в одном из значений этого слова. Скорее всего они также не будут спорить с тем, что всякое крупное историческое событие является результатом действия многих сил. Так вот такая позиция как раз и будет равносильна нежеланию признать все эти силы одинаково важными.
Фридрих Энгельс был плюралистом именно в этом смысле. Он решительно отрицал, что он и Маркс когда-либо вели речь о том, что экономические силы являются единственной детерминантой истории. Это, по его мнению, была бы «бессмысленная, абстрактная, ничего не значащая фраза»[42]. Истина же состоит в том, что никто не может быть плюралистом в смысле веры, будто в любой данной ситуации любой произвольно взятый фактор является столь же значимым, как и всякий другой. В этом отношении даже самые пылкие эгалитаристы признают наличие иерархий. На самом деле, наличие абсолютных и неизменных иерархий признают практически все. Трудно найти человека, который бы думал, что испытывать легкое чувство голода всегда предпочтительнее, чем сытость. Также вам не удастся встретить никого, кто бы настаивал, что в гражданской войне в Англии длина ногтей Чарльза I была более важным фактором, чем религия. Есть масса причин, по которым я мог бы задержать вашу голову под водой на двадцать минут (садизм, научный интерес, та ужасная цветастая рубашка, что вы надели, то, что на телевидении осталась только старая надоевшая документалистика), но перевешивающей все причиной, которая отведет мои руки от золотоносной курицы, станет то, что вы должны упомянуть меня в завещании. Так почему же общественные события не могут иметь таких перевешивающих все движителей?
Кое-кто из плюралистов, пожалуй, согласится с тем, что такого рода события могут совершаться под воздействием одной безраздельно доминирующей причины. И это будет означать ровно то, что они не видят, почему одна и та же причина должна оказываться действенной во всех случаях. Действительно, наименее очевидной и вызывающей больше всего сомнений в так называемой экономической теории истории является мысль о том, что все всегда формируется и развивается совершенно одинаковым образом. Надо ли понимать это так, что история представляет собой целостное явление, которое, как веретено в прялке, от начала и до конца пронизывает некое удивительное единообразие? Логично предположить, что причиной моей головной боли стал смешной, но тесный парик Мерилин Монро, который меня убедили надеть на вечеринку; но история не является столь же целостным феноменом, как головная боль (как жалуются некоторые, она являет нам лишь одну гадость за другой). Она не может похвастать предсказуемостью сказочной новеллы или связной и продуманной формой хорошего романа. В ней нет неразрывных смысловых нитей, пронизывающих ее от начала и до конца.
Мы уже убедились, что среди серьезных мыслителей едва ли найдутся сторонники идеи, будто в истории вообще нет никаких вразумительных схем или моделей. Люди, рассматривающие историю как всего лишь беспорядочное нагромождение из хаоса, случайностей, бестолковых сюрпризов и прочих непредсказуемостей, встречаются редко, хотя Фридрих Ницше и его ученик Мишель Фуко порой вплотную подходили к этой точке зрения. Большинство же людей согласны с тем, что причинно-следственные связи в истории есть, но весьма запутанные и трудные для выявления, и прежде всего поэтому исторический процесс кажется нам несколько неупорядоченным и излишне спонтанным. Так, например, трудно поверить, что на определенном историческом этапе различные страны начали обзаводиться колониями по причинам, не имеющим совершенно ничего общего. Африканских рабов не стали бы вывозить в Америку, если бы для этого не было вообще никаких причин. То, что на довольно коротком отрезке XX века фашизм сформировался в нескольких разных странах, не было связано только с эффектом подражания. Если люди и бросаются вдруг в огонь, то все же не просто так. Для мира людей имеется замечательно единообразная модель, определенно побуждающая не делать этого.
Вопрос, таким образом, состоит не в том, можно ли найти в истории общие модели, а в том, есть ли в ней одна господствующая модель. Вы можете допускать первое, не признавая второго. Почему не может быть именно набора частично перекрывающихся картин, которые никогда не сливаются в единое полотно? Как можно нечто столь же разнообразное, как человеческая история на нашей земле, превратить в стандартизованное летописание? Утверждение, что материальные интересы были главной движущей силой на всем пути от пещерного человека до капитализма, звучит гораздо более правдоподобно, нежели предположение, что эту роль играло питание, альтруизм, высшее существо, смена полюсов или парад планет. Но такой ответ выглядит слишком необычным, чтобы считаться удовлетворительным.
Если он был удовлетворительным для Маркса, то лишь потому, что тот считал, что история вовсе не является столь разнообразной и многокрасочной, как может показаться. В ней гораздо больше однообразия, чем видится нашим глазам. И действительно, во всем этом есть определенное единство, но не того рода, что должно доставлять удовольствие, как это может делать единство романа Ч. Диккенса «Холодный дом» или фильма Ф. Циннемана «Ровно в полдень». Нитями, стягивающими воедино ткань истории, оказываются прежде всего скудость, тяжкий труд, подавление и эксплуатация. И хотя эти явления принимают очень разные формы, они по-прежнему лежат в основе всех известных нам цивилизаций. И эта унылая, отупляющая повторяемость сообщала человеческой истории гораздо больше преемственности и последовательности, чем нам хотелось бы. Так что перед нами действительно одно грандиозное повествование, и это совсем не радует. Как отмечает Теодор Адорно: «Единица и масса — эта антитеза, продолжающая с редкими короткими передышками действовать и по сей день, с телеологической точки зрения воспринималась бы как эталон страданий». Темой грандиозного повествования истории является отнюдь не прогресс, разум или просвещение. Там мы найдем лишь грустный рассказ, ведущийся, по словам Адорно, «от пращи до ядерной бомбы[43]».
Можно согласиться, что в человеческой истории имелось предостаточно насилия, тяжкого труда и эксплуатации, не признавая, однако, что все это является ее основой. Для марксистов одна из причин, побуждающих считать эти явления столь фундаментальными, состоит в том, что они тесно связаны с нашим физическим выживанием. Они неотъемлемые элементы используемого нами способа поддержания своего материального существования, а вовсе не досадные случайности. Мы не говорим о разрозненных актах жестокости или агрессии. Но поскольку они встроены в механизмы, посредством которых мы производим и воспроизводим свою материальную жизнь, постольку подобные проявления становятся необходимой частью нашей жизни. Вместе с тем ни один марксист не считает, будто эти механизмы формируют абсолютно все. Будь это так, к отражениям экономических сил пришлось бы причислять очень много чего, включая тиф, прически «конский хвост», смех до упаду, суфизм, «Страсти по Матфею» и даже педикюр из экзотической лазури. А любое сражение, начавшееся без прямых экономических мотивов, или произведение искусства, умалчивающее о классовой борьбе, вызывали бы затруднения с их интерпретацией.
В работах самого Маркса политические события и процессы порой действительно выглядят как простые отражения экономики. Плюс к тому он, рассматривая социальные, политические или военные мотивы, стоящие за историческими событиями, зачастую не выказывает даже малейших сомнений в том, что все эти обоснования являются лишь внешними выражениями более глубоких экономических мотивов. Надо признать, что иногда материальные силы вполне открыто и прямолинейно накладывают свой отпечаток на политику, искусство и общественную жизнь. Но все-таки в большинстве случаев их влияние дает о себе знать не столь явно и не сразу, а в более или менее долгосрочной перспективе. В какие-то моменты их влияние оказывается лишь весьма ограниченным, а бывает и так, что рассуждать о ситуации в подобных терминах вообще едва ли имеет смысл. Как может капиталистический способ производства обуславливать мои пристрастия при выборе цвета галстука? В каком смысле он определяет развитие дельтапланеризма или нетрадиционного блюза из 12 баре?
Так что не все сводится к труду и производству. Политика, культура, наука, обыденное сознание и общественное бытие не являются прямыми производными от экономики наподобие того, как некоторые нейрофизиологи считают мышление просто продуктом функционирования мозга. Нет, все эти явления существуют как самостоятельная реальность, имеющая собственную историю и развивающаяся по своей внутренней логике, а вовсе не как лишь бледная тень чего-то другого. Более того, они ощутимо видоизменяют самый способ производства. Сообщение между экономическим «базисом» и общественной «надстройкой», как мы увидим далее, вовсе не является односторонним. Но если мы не говорим здесь о механистическом детерминизме любого рода, то тогда какой вывод из вышесказанного должен быть сделан? Будет ли он настолько универсальным и расплывчатым, чтобы выглядеть политически беззубым?
В первую очередь вывод будет негативным. Он состоит в том, что способ, которым люди производят свою материальную жизнь, задает ограничения для создаваемых ими культурных, правовых, политических и социальных институтов. Само слово «определяет» буквально означает «задает ограничения для»; и определить понятие «яблоко» — это значит указать критерии, на основании которых мы будем проводить разграничение между объектами, которые суть яблоки, и всеми остальными. Способы производства не предписывают конкретных форм для политики, культуры или состава идей. Капитализм не был причиной философии Джона Локка или романов Джейн Остин. Он был скорее фоном, на котором высветились эти авторы. С другой стороны, способы производства не обеспечивают формирование только таких идей, которые служат их интересам. Будь это так, марксизм как таковой оказался бы невозможен. Это выглядело разве что как представления, даваемые анархистским уличным театром, или как Томас Пейн, начавший писать один из главных бестселлеров всех времен — революционные «Права человека» — в самом сердце репрессивного полицейского государства, каким была в то время Англия. Но и при таких условиях мы были бы бесконечно изумлены, узнав, что английская культура не содержит ничего, кроме Томаса Пейна и анархистских театральных трупп. Большинство литераторов, ученых, преподавателей, газет, рекламных агентств и телевизионных каналов отнюдь не занимаются тем, что могло бы стать резко разрушительным для существующего порядка. Это настолько очевидно, что в большинстве случаев вовсе не воспринимается нами как нечто существенное. Позиция Маркса в этом вопросе состоит в том, что здесь нет никакой случайности. А это, в свою очередь, позволяет нам сформулировать более позитивный аспект вышеупомянутого вывода. В самом общем виде он звучит так: в классовом обществе культура, право и политика напрямую связаны с интересами господствующего класса. Как констатирует сам Маркс в «Немецкой идеологии»: «Класс, имеющий в своем распоряжении средства материального производства, располагает вместе с тем средствами духовного производства».
Большинство людей, если задержатся, чтобы подумать на эту тему, скорее всего согласятся с тем, что сфера материального производства занимает такое место в человеческой истории, вбирает в себя столь обширные временные и энергетические ресурсы, вызывает столько разрушительных конфликтов, привязывает к себе от колыбели и до могилы такие массы людей и столь многих из них ставит перед вопросом жизни и смерти, что было бы странно, если бы это не накладывало свой отпечаток на огромное множество других сторон нашего бытия. Все прочие общественные институты неумолимо втягиваются в орбиту его влияния. Требуя условий, обеспечивающих прежде всего его собственное процветание, материальное производство зачастую направляет политику, законодательство, культуру и вообще мысль в сторону от истинно конструктивных решений, побуждая их большую часть своего времени тратить просто на оправдание господствующего общественного порядка. Вот на какие размышления наводит современный капитализм, в котором товарно-продажная форма отношений оставляет отпечатки своих грязных лап на всем — от спорта до интима, от того, как лучше раскачиваться в кресле первого ряда на небесах, до истошных воплей американских тележурналистов, которыми они надеются привлечь внимание зрителя к вящему удовольствию рекламодателей. Позднекапиталистическое общество представляет собой наиболее полное и неопровержимое доказательство марксовой теории истории. В ряде отношений его идеи с течением времени обретают все большую убедительность. Уж если кому и присущ экономический редукционизм, то не марксизму, а капитализму; и это как раз капитализм признает производство ради производства, причем в крайне ограниченном значении слова «производство».
Тогда как Маркс, говоря о производстве в его собственных интересах, исходил из гораздо более общей трактовки этого понятия. Он утверждал, что самореализация человека должна рассматриваться как главная ценность и конечная цель, а не как средство для достижения каких-то других целей. Это, как он считал, сделает невозможным преобладающий пока более узкий смысл производства для решения производственных задач; а до тех пор основная часть нашей творческой энергии будет направляться на производство средств к существованию, а не для наслаждения жизнью самой по себе. В этом противопоставлении двух трактовок фразы «производство в интересах производства», одна из которых является экономической, а другая — более творческой или художественной, можно найти многое из того, что составляет суть марксизма. Будучи далек от экономического редукционизма, Маркс сурово критиковал попытки свести человеческое производство к тракторам или турбинам. Для него производством являлось то, что приближается к творчеству и даже к искусству, а не к сборке транзисторных приемников или забою скота. Вскоре мы вернемся к этой теме.
Маркс, при всех оговорках, действительно настаивал на том, что экономика (в узком смысле слова) по сей день играет в истории центральную роль. Но круг приверженцев такого подхода далеко не ограничивается одними марксистами. Цицерон считал, что целью создания государства была защита частной собственности. Для Просвещения XVIII века «экономическая» теория истории была общим местом, а некоторые мыслители этой эпохи смотрели на историю как на последовательный ряд из различных способов производства. Они также полагали, что этим можно объяснить статус людей, их образ жизни, социальное неравенство и взаимоотношения как в семье, так и в правительстве. Адам Смит рассматривал каждую стадию материального развития в истории как вырабатывающую свои особые формы права, собственности и управления. Жан-Жак Руссо в своем «Рассуждении о начале и основании неравенства между людьми» доказывал, что собственность влечет за собой войны, эксплуатацию и классовые конфликты. Он также утверждал, что так называемый общественный договор является для богатых средством обмана бедных ради сохранения своих привилегий. Руссо говорил о человеческом обществе как об изначально рассчитанном на то, чтобы сковывать слабых и отдавать власть богатым, ту самую власть, которая «непоправимо разрушает естественную свободу, навечно закрепляет законы собственности и неравенства… и обрекает ради выгоды горстки честолюбцев весь остальной человеческий род на нескончаемый тяжкий труд, рабство и нищету»[44]. Законы, считал Руссо, поддерживают строгость в основном по отношению к слабым, правосудие по большей части оказывается лишь средством подавления и господства, а культура, наука, искусство и религия впрягаются в работу по защите статус-кво, укрывая «гирляндами из цветов» те цепи, что сковывают человечество. Именно собственность, по утверждению Руссо, лежит у истоков людских несчастий.
Крупный ирландский экономист XIX столетия Джон Эллиот Кэрнес, о котором отзывались как о наиболее ортодоксальном из всех классических экономистов и который считал социализм плодом «буйно разросшейся экономической безграмотности», признавал то «преобладающее влияние, которое оказывают материальные интересы людей на определение их политических взглядов и поведения»[45]. А в предисловии к своей книге «Рабская власть» он отмечал, что «ход истории в значительной степени определяется действием экономических причин». Его соотечественник У Э. X. Леки, крупнейший ирландский историк своего времени и яростный противник социализма, писал, что «по значительности вклада, вносимого в формирование типа общества, мало что может сравниться с законами, регулирующими наследование собственности»[46]. Даже Зигмунд Фрейд придерживался своего рода экономического детерминизма. Он полагал, что при отсутствии необходимости работать мы бы просто целыми днями откровенно бездельничали, бесстыдно ублажая свое либидо. И только экономическая необходимость заставляет нас стряхнуть природную лень и включиться в общественную деятельность.
Или возьмем такой малоизвестный фрагмент рассуждений исторического материалиста:
«Житель [человеческого общества] должен пройти через разные стадии охоты, пастушества и земледелия, прежде чем собственность станет достаточно ценной и, как следствие, начнет побуждать к ее незаконному присвоению; тогда, когда право начинает служить защите имущества и наказанию за ущерб, когда люди, опираясь на такие законы, становятся владельцами излишков, когда в результате этого появляется роскошь и устойчивый спрос на нее, только тогда науки становятся необходимыми и приносящими пользу; без всего этого государство не может существовать…»[47].
Это не сочинение марксиста, кокетничающего со старомодным стилем изложения, а размышления ирландского писателя XVIII века Оливера Голдсмита, твердого сторонника консерваторов. Если у кого-то возникает впечатление, что ирландцы испытывали особую склонность к так называемой экономической теории истории, то объясняется это тем, что было очень трудно жить в заштатной колонии, управляемой как придется классом англо-ирландских землевладельцев, и совершенно не обращать внимания на такого рода вопросы. В Англии с ее многоуровневой культурной надстройкой экономические проблемы не были столь болезненно очевидными для поэтов и историков. Сегодня многие из тех, кто должен был бы презрительно отвергать историю по Марксу, ведут себя перед всем миром так, как будто она верна. В число таких людей входят банкиры, финансовые консультанты, служащие министерства финансов, руководители корпораций и тому подобные персонажи. Каждый из них проверяется на приоритетность экономики, и все до одного эти деятели показывают себя стихийными марксистами.
К сказанному остается добавить, что экономическая теория истории появилась на свет — с изящной симметричностью — в округе Манчестера именно тогда, когда там сформировался индустриальный капитализм. Как отмечал Энгельс, это было время полного господства капитала в городе, впервые наглядно продемонстрировавшее ему концентрацию и централизацию экономики. С этого времени его отец, о чем мы уже упоминали, имел здесь фабрику, которая обеспечивала как Энгельса, так и (большой период времени) самого Маркса. Так что в известном смысле можно сказать, что понимание общества начиналось с домашнего хозяйства — прочно стоявший на ногах Энгельс действовал как экономический базис для интеллектуальной надстройки — Маркса.
Утверждение, что для Маркса все определяется экономикой, есть не более чем смехотворное упрощение. По его мнению, фактором, задающим ход истории, является классовая борьба; а классы не могут быть сведены к экономическим факторам. То, что Маркс рассматривал классы преимущественно как группы людей, которые занимают одинаковое место в рамках данного способа производства, верно. Но еще важнее то, что при этом он говорил об общественных классах, а не только экономических. Маркс писал об «общественных» отношениях на производстве, равно как и об «общественной» революции. Если в связке «общественные производственные отношения — производительные силы» приоритет принадлежит первым, то тогда трудно представить себе, как носитель скромной таблички «экономика» может быть главным движителем истории.
Классы существуют не только в угольных шахтах и страховых офисах. Они являются общественными образованиями, сообществами в той же мере, что и экономическими сущностями. Они имеют свои обычаи, традиции, общественные институты, системы ценностей и особенности мышления. Они являются также политическими феноменами. В работах Маркса встречаются вполне отчетливые указания на то, что класс, не имеющий политического представительства, вообще не может считаться полноценным классом и ему еще только предстоит стать таковым. Насколько можно судить, этот момент осознания себя именно как класса Маркс считал абсолютно необходимым условием превращения группы людей в настоящий класс. Таким образом, бытие класса включает в себя правовые, социальные, культурные, политические и идеологические процессы. В докапиталистических обществах, как указывал Маркс, такие не экономические факторы играют особенно важную роль. Классы не являются едиными и даже при поверхностном рассмотрении обнаруживают массу внутренних разделений и различий.
Плюс к тому, как мы вскоре увидим, труд понимается Марксом гораздо шире, чем просто экономика. Он включает в себя целую антропологию — теорию природы и человеческого фактора, организма и его потребности, природу чувств, представления об общественном взаимодействии и индивидуальном саморазвитии. Это не является экономикой в понимании «Уолл-стрит Джорнел», и в «Файненшл Таймс» вам не удастся почерпнуть много полезных сведений об индивидуальных особенностях людей. Труд также связан с полом, родством и сексуальностью. Вопрос, как трудящиеся производят, действительно стоит на первом месте, но вслед за ним идут вопросы, как поддерживаются их материальное существование и духовный уровень. Производство совершается в рамках определенных форм организации жизни и в силу этого наполняется общественным смыслом. Поскольку труд всегда имеет значение, выходящее за рамки непосредственно наблюдаемого процесса, люди становятся многозначительными (в смысле создающими много знаков) животными, и это никогда не могло быть просто техническим или вещественным действием. Вы можете понимать это как средство восхваления Бога, прославления Отечества или получения своих карманных денег. Коротко говоря, существование экономики всегда предполагает гораздо больше, чем она представляет сама по себе. И дело здесь не только в том, как ведут себя рынки. Это касается самого способа, посредством которого мы становимся людьми, а не только способа превращения нас в биржевых брокеров[48].
Так что классы не есть чисто экономическое явление, подобно тому как сексуальность не есть только личностное свойство. На самом деле, в принципе трудно представить себе такое нечто, которое было бы чисто экономическим. Даже монеты можно собирать и выставлять как экспонаты в витринах, восхищаясь их эстетическими качествами, либо переплавлять ради содержащегося в них металла. И раз уж зашла речь о деньгах, задержимся немного на них, чтобы понять, почему все человеческое бытие так легко свести к экономике, ибо здесь есть один аспект, в котором очень четко проявляется выполняемая деньгами функция. Ведь наиболее чудесным и загадочным в деньгах кажется то, что они, как мощнейший аккумулятор, сосредотачивают в своих субтильных формах почти безграничное богатство человеческих возможностей. Безусловно, в жизни есть очень много вещей более ценных, чем деньги, но деньги есть то, что обеспечивает нам доступ к большинству из них. Деньги позволяют нам налаживать полноценные отношения с другими людьми без опасения оконфузить окружающих, в самый неподходящий момент упав и скончавшись от голода у них на глазах.
Деньги могут купить вам уединение, здоровье, образование, красоту, социальный статус, мобильность, комфорт, свободу, почтение и чувственное наслаждение вместе с замком Тюдоров в Уоркшире. В «Экономико-философских рукописях» Маркс превосходно разбирает многогранную, видоизменяемую, алхимическую природу денег как средства, с помощью которого вы можете вызывать такие поразительные перевоплощения товаров из их исходной, ничем не примечательной формы. Деньги сами по себе есть форма редукционизма. В пригоршне медяков заключены целые вселенные.
Но даже монеты, как мы видели, не являются натуральным проявлением экономики. Фактически «экономика» никогда не предстает в чистом виде. То, что финансовая пресса называет «экономикой», есть род фантома. Определенно можно сказать, что в глаза ее никто и никогда не видел. Это есть абстракция сложного общественного процесса. И как раз ортодоксальная экономическая мысль склонна сужать понятие экономики. Напротив, марксизм исходит из более развернутой и содержательной трактовки производства. Одной из причин, почему Марксова теория истории уделяет такое внимание товарам, является тот факт, что материальные товары никогда не были только материальными товарами. Для людей они несут перспективу благоденствия. Они открывают путь к тому, что представляет большую ценность в человеческой жизни. Именно поэтому люди бывают готовы насмерть сражаться за землю, собственность, деньги и капитал. Никто не ценит экономику просто как экономику, за исключением разве что тех, кто делает ее своей профессиональной карьерой. Именно потому, что данная область человеческого бытия включает в себя такое большое число других сторон и измерений, она играет столь важную роль в человеческой истории.
Марксизм часто упрекают в том, что он превращается в зеркальное отражение своих политических оппонентов. Подобно капитализму, сводящему человечество к службе экономике, точно так же поступает и его главный антагонист. Капитализм обожествляет материальное производство и ровно то же самое делает Маркс. Однако за этими упреками стоит всего лишь ошибочная трактовка взглядов Маркса на производство. Он утверждал, что большинство совершающихся производств вообще не является подлинным производством. По его мнению, люди только тогда по-настоящему производят, когда они делают это свободно и ради самих себя. В полной мере это станет возможным только при коммунизме; но и в наше время мы можем найти предвестников такого творчества в особой сфере производства, известной как искусство. Маркс пишет, что «Потерянный рай» Джон Мильтон «создавал с той же необходимостью, с какой шелковичный червь производит шелк. Это было действенное проявление его натуры»[49]. Искусство — это пример неотчужденного труда. По сути, это совпадает с тем, как Маркс предпочитал думать о своих собственных сочинениях, которые он однажды охарактеризовал как создание «художественной целостности» и которые (в отличие от большинства своих учеников) излагал с величайшим вниманием к стилю. Причем его интерес к искусству не был чисто теоретическим. Его перу принадлежат лирические стихи, незаконченная комедия, фрагмент пьесы в стихах и большое число неопубликованных рукописей по вопросам искусства и религии. Он также планировал издавать журнал театральной критики и эстетики. Его познания в мире литературы потрясают своим размахом.
Человеческий труд редко бывает радостным. Во-первых, за ним всегда стоит та или иная форма принуждения, пусть бы даже это принуждение состояло просто в нежелании голодать. Во-вторых, он выполняется в классовом обществе, а значит, не ради его непосредственного результата, но как средство повышения чужой прибыли и могущества. Для Маркса, как и для его учителя Аристотеля, хорошей жизнью является та, которая состоит из деятельностей, совершаемых ради них самих. Лучшие дела — это именно те, которые выполняются без внешнего побуждения, не в силу долга, обычая, принуждения, материальной необходимости, общественной пользы или страха перед Всевышним, а просто потому, что они лежат строго в русле наших устремлений как представителей вида животных, к коему мы все принадлежим.
К примеру, нет никаких причин для того, чтобы мы непременно получили удовольствие от пребывания в компании других людей. Однако если это происходит, то тем самым мы реализуем жизненно важную способность нашего «родового существа». А это, по мнению Маркса, является формой производства в той же мере, как и посадка картофеля. Человеческое единство является важнейшей предпосылкой политических перемен, но в конечном счете оно служит исчерпывающим обоснованием самого себя, как это хорошо видно из следующего фрагмента «Экономико-философских рукописей»:
«Когда между собой объединяются коммунистические ремесленники, то целью для них является прежде всего учение, пропаганда и т. д. Но в то же время у них возникает благодаря этому новая потребность, потребность в общении, и то, что выступает как средство, становится целью. К каким блестящим результатам приводит это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания французских социалистических рабочих. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже там средствами объединения людей, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющей своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и на их загрубелых от труда лицах сияет человеческое благородство»[50].
Итак, для Маркса производство означает реализацию некоторых существенных способностей в акте преобразования окружающей реальности. Истинное богатство, утверждает он в Grundrisse[51], есть «полная разработка потенциальных возможностей человека… то есть развитие всех человеческих способностей как самоцель, а не по некоей установленной заранее мерке»[52]. По завершении классовой истории, пишет он в «Капитале», сможет начаться «развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы»[53]. В работах Маркса к понятию «производство» относится любая обеспечивающая самореализацию деятельность, будь то игра на флейте, угощение персиками, спор о Платоне, быстрый танец, произнесение речи или организация празднования дня рождения детей. Оно вовсе не предполагает непременного наличия грубой силы. Когда Маркс говорит о производстве как сущности человечества, он не имеет в виду, что сущность человечества состоит в набивании колбасы. Труд, как мы знаем, есть отчужденная форма того, что он называл praxis — слово, означавшее у античных греков вид свободной, самоорганизуемой деятельности, посредством которой мы преобразуем мир. В античной Греции это слово обозначало любую деятельность свободных людей, в отличие от труда рабов.
Тем не менее только экономика в узком смысле позволит нам выйти за рамки экономики. За счет перераспределения всех ресурсов капитализм демонстрирует такую предупредительность в накоплении предметов потребления, что социализм сможет позволить себе экономику, требующую более расслабленного подхода. Она не будет исчезать, но будет становиться не столь всепоглощающей. По-настоящему радоваться достатку разнообразных продуктов можно только при отсутствии необходимости постоянно думать о деньгах. Это освободит нас для менее унылых занятий. Будучи далек от одержимости экономикой, Маркс рассматривал ее как карикатуру на истинный человеческий потенциал. Его целью было общество, в котором экономика не монополизирует так много времени и сил.
То, что наши предки были вынуждены почти полностью посвящать себя экономике, вполне понятно. Если вы способны производить лишь незначительный экономический излишек или вообще едва даете хоть какой-то излишек, то без непрестанного тяжелого труда вы просто погибнете. Капитализм же вырабатывает такие излишки, которые создают реальную возможность для увеличения досуга в значительных масштабах. Беда однако в том, что он создает эти богатства таким способом, который требует постоянной концентрации и расширения, а значит постоянного труда. Он также создает это способом, который обуславливает лишения и нужду. Это внутренне противоречивая система. Так что современные люди, окруженные изобилием, которого первобытные охотники-собиратели, античные рабы или феодальные крепостные и представить себе не могли, в конечном итоге работают столь же много и тяжело, как все эти их предшественники.
Главной сутью работы Маркса является человеческое удовольствие. Хорошая жизнь для него — это та, которая состоит не из труда, а прежде всего из отдыха. Свободная самореализация, вне всякого сомнения, есть форма «производства», но не того, которое является принудительным. А отдых необходим, поскольку люди уделяют время организации своих общих дел. Поэтому на первый взгляд может показаться удивительным, что массы штатных лодырей и профессиональных бездельников не спешат влиться в ряды марксистов. Но все встает на свои места, если вспомнить, какие огромные усилия должны быть затрачены для достижения этой цели. Отдых есть то, что вы должны заработать.
Глава 6
Маркс был материалистом. Он считал, что не существует ничего, кроме материи. Он не интересовался духовными аспектами нашего бытия и видел в человеческом сознании лишь отражение материального мира. Он категорически не признавал религию и рассматривал мораль просто как вопрос оправдания средств целью. Марксизм исключает из самого понятия человечности все, что является наиболее ценным в нем, превращая нас в инертные сгустки вещества, полностью предопределяемые окружающей нас средой. А от такого мрачного и бездушного взгляда на человечество лежит прямой путь к злодеяниям Сталина и других учеников Маркса.
Вопрос, сделан ли мир из материи, духа или зеленого сыра, не относится к числу тех, над которыми Маркс долго ломал голову. Он с презрением относился к столь глобальным метафизическим абстракциям и имел привычку энергично расправляться с ними как с праздными спекуляциями. Как один из крупнейших мыслителей Нового времени Маркс испытывал особое отвращение к псевдоученому графоманству. Те, кто считает его сухим и пресным теоретиком, забывают, что он, помимо всего прочего, был романтическим мыслителем, сторонившимся абстракций и живо интересовавшимся конкретным и особенным. Абстрактное, на его взгляд, было слишком простым, плоским и бесцветным, и только конкретное может быть сложным, ярким и объемным. Но как бы ни трактовал Маркс материализм, определенно можно сказать, что последний никоим образом не сводился для него к вопросу, из чего сделан мир.
Хотя, по сути, именно вокруг этого вопроса вращалась вся материалистическая философия Просвещения XVIII века, вплоть до того, что некоторые из ее последователей рассматривали человеческие существа как механизмы, реализующие определенные функции материального мира. Однако сам Маркс считал такой подход насквозь идеологизированным. Во-первых, он низводит людей до уровня пассивного субстрата. Их сознания рассматриваются как чистый лист, на котором запечатлеваются поступающие через органы чувств различные сигналы из внешнего материального мира. А уже из этих впечатлений они формируют свои идеи. Так что если бы оказалось возможным так или иначе управлять этими впечатлениями, чтобы производить «правильные» идеи, то человеческие существа смогли бы устойчиво и неотвратимо тяготеть к государству, воплощающему общественный идеал. И это не было бы проявлением политической наивности. Подобных воззрений на проблему придерживались ведущие мыслители среднего класса, являвшиеся поборниками индивидуализма, частной собственности и свободного рынка в той же мере, как и справедливости, свободы и прав человека. Соответственно с помощью таких меняющих сознание процессов они надеялись в истинно отеческой, то есть заботливой, но твердой манере влиять на поведение простых людей. Трудно поверить, что Маркс мог согласиться с такой разновидностью материализма.
Справедливости ради надо сказать, что при всей важности вышеуказанных вопросов материалистическая философия, когда за нее взялся Маркс, не ограничивалась только ими. Но в любом случае те или иные нюансы уже не могли повлиять на его общую оценку данной философии как формы идеологии, тесно связанной с успехами и ожиданиями средних классов. Его собственное понимание материализма, развиваемое в «Тезисах о Фейербахе» и других работах, было принципиально иным, и Маркс в полной мере осознавал этот факт. Он понимал, что своей позицией порывает со старой школой материализма и дает начало чему-то совершенно новому. Материализм для Маркса означает принятие в качестве исходного пункта того, что люди на самом деле собой представляют, а не некоего туманного идеала, к которому мы могли бы стремиться. В свою очередь, то, чем мы являемся, определялось прежде всего свойствами практических, материальных, телесных существ. Все, чем бы мы ни были или могли бы быть, проистекает из этого фундаментального факта.
Этим смелым новаторским шагом Маркс отвергает пассивное человеческое существо из материализма среднего класса и выдвигает на его место активного субъекта. Вся философия должна начинаться с предпосылки, что люди, что бы они собой ни представляли, являются прежде всего деятелями, которые в акте преобразования своего материального окружения преобразуют и самих себя. Они не статисты в истории материи или духа, но активные самоорганизующиеся существа, способные вершить свою собственную историю. И это означает, что марксистская трактовка материализма является подлинно демократической в противовес интеллектуальной элитарности Просвещения. Идеи, которые управляют нашей жизнью, могут быть изменены, но совершиться такое изменение может только через совместную практическую деятельность большинства людей. Потому что эти идеи глубоко внедрены в наше текущее поведение.
В этом смысле Маркс был скорее антифилософом, чем философом. И действительно, Этьен Балибар назвал его «возможно… величайшим антифилософом современности»[54]. Антифилософы — это те, кто настороженно относится к философии, но не в том незатейливом смысле, как это мог бы делать Бред Питт, а из-за обеспокоенности ее состоянием именно с философской точки зрения. Они склонны выступать с идеями, выглядящими подозрительно на фоне других идей, и не склонны — даже будучи в большинстве своем сугубыми рационалистами — полагать, будто причина коренится во всеобщем упадке. Фейербах, от которого Маркс усвоил ряд его материалистических посылок, писал, что всякая подлинная философия начинается со своей противоположности — не-философии. Философ, утверждал он, должен понимать, «что в человеке не относится к философии, а скорее противостоит философии и абстрактным идеям»[55]. Он также заметил, что «если кто и мыслит, то человек, а не Я или Разум»[56]. Как указывает Альфред Шмидт: «Понимание человека как обладающего потребностями, чувствующего, физиологического существа есть, следовательно, исходное условие всякой теории субъективности»[57]. Иными словами, человеческое сознание суть телесно, что, впрочем, ничуть не равносильно утверждению, будто не существует ничего, кроме тела. Данный тезис указывает скорее на такой способ бытия, при котором тело всегда испытывает ощущение незавершенности, открытости, всегда способно на деятельность более творческую, созидательную, нежели оно может продемонстрировать прямо сейчас.
Таким образом, поскольку мы представляем собой вид животных, мы думаем так, как мы действуем. Если наше мышление растянуто во времени, то потому, что так устроены наши тела вообще и механизмы ощущения-восприятия в частности. Философы подчас задаются вопросом, может ли машина мыслить. Если когда-нибудь и сможет, то будет делать это кардинально отличающимся от нас способом. Потому что материал, из которого изготавливают машины, весьма отличается от нашего. У него, к примеру, нет телесных потребностей и никаких эмоциональных реакций, которые у людей вызываются соответствующими потребностями. Наша форма мышления неотделима от предшествующих ему и сопровождающих его сенсорных, моторных и эмоциональных проявлений. И именно поэтому если бы машина могла думать, мы вряд ли смогли бы понять, что она надумала.
Философия, с которой порвал Маркс, занималась по большей части созерцанием, а типовым сюжетом для нее был пассивный, изолированный и, по сути, бестелесный человеческий субъект, безучастно наблюдающий за изолированным объектом.
Маркс, как мы видели, отвергает такого рода субъекта, а плюс к тому утверждает, что объект нашего познания не нечто навсегда данное и неизменное. С большой вероятностью он может оказаться продуктом нашей собственной исторической деятельности. А как только мы начинаем заново осмысливать субъекта как воплощение практики, то мы тут же будем должны переосмыслить окружающую нас реальность как результат той самой свободной и преобразующей мир деятельности, о которой мы говорили в предыдущей главе. И это, помимо всего прочего, означает, что в принципе человек, как и мир, может быть изменен.
Принятие за исходный пункт человека как активного и практического существа и увязывание его мышления с таким контекстом помогают нам пролить новый свет на некоторые из проблем, что занимают философов. По сравнению с теми, кто созерцает жизнь из отстраненного уединения, человек, который работает в гуще этого мира, гораздо меньше подвержен сомнениям на тему, а нет ли, помимо окружающей, еще какой-то реальности. Фактически последователи скептицизма могут существовать только и прежде всего потому, что где-то есть что-то помимо них. Если бы не было материального мира, обеспечивающего их, они бы просто вымерли, а вместе с ними сгинули бы и их сомнения. Если вы верите в пассивность людей перед лицом реальности, то это вполне может убедить вас усомниться в существовании такого мира. Потому что в существовании вещей мы убеждаемся ровно тогда, когда сталкиваемся с их сопротивлением нашим притязаниям. А это происходит прежде всего в нашей практической деятельности.
Философы иногда поднимают вопрос об «иных разумах». Как мы узнаем, что человекообразные тела, с которыми мы сталкиваемся, имеют разум, подобный нашему? В ответ на это материалист заметил бы, что, будь это не так, подобный вопрос скорее всего вообще не пришел бы нам в голову. То материальное производство, которое поддерживает нашу жизнь, без социального взаимодействия просто не могло бы совершаться; а способность общаться с другими есть один из важнейших элементов того, что мы понимаем под обладанием разумом. К этому можно добавить, что само понятие «разум» служит для обозначения особого вида поведения живых существ, и именно поведения творческого, содержательного, налаживающего общение. Чтобы понять, обладают ли люди этой таинственной сущностью, нам не требуется заглядывать в их головы или подключать их к сложным приборам. Мы просто смотрим, что они делают. Сознание не есть некий призрачный феномен, но представляет собой явление, которое можно видеть, слышать и осязать. Люди есть сгустки вещества, но необычайно творческие и экспрессивные, и это как раз то творчество, которое мы называем «разум». Назвать людей разумными — значит сказать, что в их поведении проявляются логичные или осмысленные модели. Материалистов Просвещения порой справедливо упрекали в попытках свести мир к абсолютно мертвой, бессодержательной материи. И как раз обратное отличает материализм Маркса.
Правда, для последовательных скептиков материалистический ответ не является сокрушительным аргументом. Вы всегда можете заявить, что наш опыт социального взаимодействия или сопротивления мира нашим планам сам по себе не внушает доверия. Возможно, мы всего лишь ощущаем эти предметы, а не сталкиваемся с ними в реальности. Но рассмотрение такого рода проблем в материалистическом духе позволяет увидеть их в новом свете. Совсем не трудно представить себе, например, высоких интеллектуалов, которые исходят из бестелесного разума (и довольно часто тут же и останавливаются), а затем скорее всего оказываются серьезно озадаченными при попытке изобразить, как данный разум связывается с подведомственным ему телом, а равно и с телами других людей. Возможно, в итоге они усмотрят целую пропасть между разумом и миром. Ирония в том, что довольно часто именно таким образом мир формирует их собственный разум, который затем порождает подобные идеи. Интеллектуалы сами по себе — это каста людей, в известной мере отделенных от материального мира. Только в обществе, где появляются ощутимые материальные излишки, может создаваться профессиональная элита из жрецов, ораторов, артистов, адвокатов, оксфордских преподавателей и т. п.
Платон считал, что философия необходима располагающей досугом аристократической элите. Вы не можете содержать литературные салоны и образовательные кружки, если каждый должен работать, чтобы просто поддерживать минимальный тонус общественной жизни. В первобытных культурах башни из слоновой кости встречаются столь же редко, как и боулинги. (Остаются редкостью они и в более развитых обществах, где университеты становятся придатком капиталистических корпораций.) Соответственно, поскольку интеллектуалам не требуется трудиться в том смысле, как это делают каменщики, они могут начать воспринимать себя и свои идеи как нечто независимое от остального общественного бытия. Это и есть одно из множества явлений, которые марксисты относят к сфере идеологии. Такие люди обычно не видят и не понимают, что их большая удаленность от общества сама по себе является общественно обусловленной. Иллюзия, будто мышление не зависит от реальности, сама формируется общественной реальностью.
Для Маркса наши мысли обретают свою форму в процессе труда в окружающем нас мире, и это материальная необходимость, задаваемая нашими телесными потребностями. Исходя из этого, можно сказать, что само мышление является материальной необходимостью. Мышление и наши телесные устремления тесно связаны, и такими их представляли Ницше и Фрейд. Сознание является результатом взаимодействия нас с нашим материальным окружением. Оно само есть исторический продукт. Человечество, писал Маркс, «устраивается» материальным миром, ибо только действуя в нем, мы можем проявлять свои способности и должны подтверждать их реальность. Так что «инакость» окружающей реальности, ее сопротивление нашим намерениям относительно нее как раз и являются тем, что впервые подводит нас к самоосознанию. И это означает прежде всего осознание существования других людей. Через их посредство мы становимся теми, кто мы есть. Личная идентичность есть общественный продукт. Как не может быть только одного числа (число становится таковым только в рамках числового ряда, пусть бы даже он состоял всего из двух элементов), точно так же не может быть одной-единственной личности.
Вместе с тем в наблюдаемой реальности следует видеть и произведение наших рук. Не рассматривать ее как таковую, воспринимать ее как нечто чисто природное или необъяснимое, не зависящее от нашей деятельности — именно такое состояние Маркс и называл отчуждением, понимая под этим условия, в которых мы забываем, что история есть наш собственный продукт, и начинаем управляться ею как чуждой силой. Как писал в этой связи немецкий философ Юрген Хабермас, для Маркса объективность мира «основывается… на телесной организации людей, которые нацелены на активные действия»[58].
Отметим также, что по сравнению с ощущениями сознание всегда в некотором смысле запаздывает, как запаздывает проявление разума у ребенка. Прежде чем мы успеваем хотя бы начать что-то воспринимать и осмысливать, мы всегда уже находимся в материальной среде; а наше мышление, до каких бы высот абстракции и теоретизирования оно ни восходило, в своих важнейших чертах определяется этим фактом. А вот философский идеализм забывает, что все наши идеи берут свое начало в практике. Вырывая же их из этого контекста, легко пасть жертвой иллюзии, будто как раз мышление является тем, что создает реальность.
Итак, для Маркса тесная связь между нашими мыслями и телесной жизнью была несомненной. А человеческие ощущения играют роль своего рода пограничного рубежа между двумя этими сферами. Напротив, для некоторых идеалистических философов «материя» — явление одного рода, а идеи или «дух» — совершенно другого. Для Маркса человеческое тело само по себе есть отрицание этого разделения.
Точнее говоря, его отрицает человеческое тело в активном, деятельном состоянии. При таком подходе практика является безусловно материальным явлением, но она также есть предмет, неотделимый от замыслов, ценностей, намерений и устремлений. Если все это субъективно, то оно вместе с тем и объективно. Хотя, возможно, сама постановка вопроса внутренне противоречива. Некоторые более ранние мыслители рассматривали разум как активное начало, а чувства — как пассивное. Маркс, однако, смотрел на человеческие чувства как на самостоятельную форму активного взаимодействия с реальностью. «Образование пяти внешних чувств, — пишет он в „Экономико-философских рукописях“, — это работа всей предшествующей истории».
Такие мыслители, как, скажем, Локк или Юм, начинали свой анализ с чувств, тогда как Маркс ставит вопрос, откуда возникли сами эти чувства. И ответ получается примерно следующий: наши биологические потребности являются основой истории; мы обладаем историей именно потому, что являемся нуждающимися созданиями, и в этом смысле история для нас является природной. Природа и история, с точки зрения Маркса, — суть стороны одной монеты. Поскольку наши потребности возникают в ходе истории, то уже из одного этого обстоятельства с необходимостью следует, что они подвержены изменениям. В частности, удовлетворяя некоторые конкретные потребности, мы тут же обнаруживаем, что тем самым создаем для себя новые. И в этом целостном процессе формируется и совершенствуется бытие наших чувств, поскольку все это может совершаться лишь потому, что удовлетворение наших потребностей предполагает также желания и даже страсть (хотя у Фрейда эта часть картины так и осталась недорисованной).
Вот так мы начинаем рассказывать свою историю. На самом же деле мы начинаем быть историей. Животные, которые не способны к проявлению страсти, сложной работе и организованным формам общения, склонны повторять самих себя. Их жизни полностью определяются природными циклами, так что они не складывают истории для самих себя, что как раз и представляет собой свободу в понимании Маркса. Грустная ирония его взгляда в том, что, хотя такое самоопределение составляет сущность человеческого рода, огромное большинство людей на протяжении всей истории не имели возможности его проявлять. Им не дозволялось быть полноценными людьми, вместо этого их жизнь по большей части определялась мрачными циклами классового общества. Рассмотрению вопросов, почему так происходило и как это можно исправить, посвящены, по сути, все труды Маркса. Их самая общая идея состоит в том, как нам добиться перехода из царства необходимости в царство свободы. Что означает стать несколько менее похожими на овец и несколько более — на самих себя. Подведя нас к порогу такой свободы, Маркс оставляет нас, чтобы дальше мы могли сами позаботиться о себе. А иначе какая это была бы свобода?
Так что если вы хотите избежать дуализма философов, то просто посмотрите, как ведут себя настоящие живые люди. Человеческое тело есть вполне материальный объект, отчасти природный, но не в меньшей степени также и исторический. А еще он представляет собой особый род объекта, совершенно не похожий на кабачки или заварочные чайники. Во-первых, он обладает способностью изменять свое состояние. Он также может превращать природу в форму продолжения самого себя, что не под силу заварочным чайникам. Человеческий труд переделывает природу в продолжение наших тел, которое мы знаем как цивилизацию. Все человеческие учреждения, от галерей искусств и опиумных притонов до казино и Всемирной организации здравоохранения, суть продолжения коллективного производительного тела.
Все это также является воплощением человеческого сознания. «Мы видим, что история промышленности и сложившееся предметное бытие промышленности, — пишет Маркс, используя слово „промышленность“ в максимально широком смысле, — являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил, чувственно представшей перед нами человеческой психологией»[59]. Тело может совершать все это, поскольку оно обладает способностью преодолевать собственную ограниченность, с тем чтобы преобразовывать себя и свое состояние, а также вступать в сложные взаимоотношения с другими телами своего вида в ходе бесконечного процесса, известного нам под именем истории. Человеческие тела, которые не способны делать это, обычно называют трупами.
Кабачки тоже не могут делать этого, как не могут они, будучи сугубо природными образованиями, и испытывать такого рода потребности, какие мы находим у людей. Люди могут творить историю, поскольку они представляют собой производящий вид существ; но они к тому же еще вынуждены делать это, поскольку в условиях скудости должны поддерживать производство и воспроизводство своей материальной жизни. Именно это подталкивает их к постоянной активности. Они обладают историей по необходимости. В условиях материального изобилия мы по-прежнему будем иметь историю, но в ином смысле по сравнению с тем, что мы знали до сих пор. Мы можем удовлетворять свои природные потребности только социальными средствами — коллективно производя наши средства производства. Что, в свою очередь, дает начало новым потребностям, а те — следующим и т. д. Но в основе всего того, что мы называем культурой, историей или цивилизацией, лежат потребности человеческого тела и его материальные условия. И это есть просто иной способ сказать, что экономика является постоянным фундаментом нашей жизни, важнейшим связующим звеном между биологическим и социальным.
Вот путь, которым мы приходим к созданию истории; но сказанное в полной мере относится и к тому, что мы понимаем под духом. Духовные проявления не есть нечто телесное и потустороннее. Рассматривать сферу духовного как бесконечно удаленную от повседневной жизни характерно как раз для преуспевающих буржуа, поскольку они нуждаются хоть в каком-то укрытии от собственного грубого материализма. И нет ничего удивительного в том, что такие сугубо материалистические дамы, как, скажем, Мадонна, столь пленяются Каббалой. Напротив, для Маркса «дух» есть вопрос искусства, дружбы, веселья, сострадания, смеха, чувственной любви, протеста, творчества, наслаждения, справедливого гнева и наполненной жизни. (Порой, правда, с весельем ему случалось несколько перебирать: однажды он и группа друзей неспешно продвигались с Оксфорд-стрит на Хемпстед-роуд, не пропуская ни одного встречавшегося по пути паба, и были задержаны полицией за метанием камней из мостовой по уличным фонарям[60]. Так что его теория о репрессивном характере государства, как можно убедиться, не была простой абстракцией.) В «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» он, как и следовало ожидать, обсуждает конкретную политическую ситуацию с точки зрения интересов общественных классов, но при этом также красочно описывает политику как то, в чем выражаются «старые воспоминания, личная вражда, опасения и надежды, предрассудки и иллюзии, симпатии и антипатии, убеждения, символы веры и принципы». И все это предлагает нам сухой и бесстрастный отшельник из антимарксистских фантазий.
Все духовные проявления, которые я только что перечислил, тесно связаны с телом, поскольку оно представляет тот вид животных, к коему мы принадлежим. То, что не затрагивает мое тело, не затрагивает и меня. Когда я говорю с вами по телефону, я представляюсь вам телесно, хотя и не физически. Если вы хотите составить представление о душе, вглядитесь в человеческое тело, вспомнив философа Людвига Витгенштейна. Счастьем для Маркса, как и для Аристотеля, была практическая деятельность, а не состояние разума. Для иудаистской традиции, неверующим отпрыском которой он был, «духовное» относится к помощи голодающим, поддержке переселенцев и защите бедных от притеснений богатых. Это не есть противоположность светскому повседневному бытию, это такой особый образ жизни.
Есть одна телесная деятельность, в которой «дух» особенно явно дает о себе знать, — это язык. Подобно телу, рассматриваемому в целом, язык есть материальное воплощение духа или человеческого сознания. «Язык, — пишет Маркс в „Немецкой идеологии“, — так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого действительное сознание, и подобно сознанию язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми»[61]. Сознание является общественным и практическим от начала и до конца, почему, собственно, язык и является высшим его выражением. Я могу сказать, что имею разум, только если я родился в среде уже разделившихся и устоявшихся значений. Маркс также говорил о языке как об «объединенном бытии, говорящем само за себя», а язык философии признавал искаженной разновидностью языка реального мира. Бытие мышления и языка совершается отнюдь не в какой-то особой сфере, подчиненной своим собственным законам, но является выражением реальной жизни. Даже для самых вычурных концептуальных изысков в конечном счете не так уж и трудно проследить их связь с нашим обычным существованием.
Вдобавок человеческому сознанию требуется обширное материальное сопровождение. Однако при принятии за исходный пункт человеческого сознания, как это делают многие философы, данный факт обычно игнорируется. Что сразу выносит за скобки очень много вопросов[62]. Не слишком далеко ушла от этого и конвенциональная философия. Она не замечает общественных условий, которые приводят идеи в действие; стремлений, с которыми они связаны; столкновений различных сил, с которыми они переплетаются; материальных интересов, которым они служат. Вопросы «Откуда возник такой человеческий субъект?» или «Как был произведен объект?» для нее совершенно не характерны. Прежде чем мы сможем мыслить, мы должны есть; и это слово «есть» ставит вопрос о способе общественного производства в целом. Мы также должны родиться; и это слово «родиться» выводит нас в обширную область родственных отношений, сексуальности, семейного уклада, половой репродукции и т. д. Прежде чем мы приступаем к осмыслению реальности, мы уже тесно связаны с ней практически и эмоционально, и наше мышление всегда движется внутри этих рамок. Как заметил философ Джон Макмеррей: «Наши знания о мире изначально являются производными от наших действий в мире»[63]. «Люди, — пишет Маркс в своих „Замечаниях на книгу А. Вагнера“, — никоим образом не начинают с того, что стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира»[64]. Очень много всего должно иметься в наличии, прежде чем мы сможем начать хоть что-то соображать.
Наше мышление связано с миром еще в одном смысле. Оно является не только отражением реальности, но и материальной силой, действующей от собственного имени. Сама марксистская теория является не только разъяснением мира, но и средством его изменения. Маркс, правда, порой высказывался о мышлении так, как будто оно является простым отражением материальных обстоятельств, однако это не согласуется с его же собственными более тонкими наблюдениями. Определенные виды теорий — освободительные теории, как их обычно называют — могут функционировать в нашем мире как политические силы, а не только как способы его объяснения. И это придает им особый род свойств, состоящий в том, что они создают связь между происходящим сейчас и тем, как это может происходить. Такие теории предлагают характеристику текущего состояния мира, но, делая это, они могут помочь людям изменить свое понимание окружающей действительности, что, в свою очередь, может внести определенный вклад в изменение этой действительности. Раб знает, что он раб, но понимание того, почему он является рабом, есть первый шаг к тому, чтобы перестать им быть. Самим изображением вещей такими, каковы они есть, эти теории предлагают также способ, как уйти от имеющегося положения к более приемлемому состоянию дел. И люди вместе с ним делают шаг от того, что есть, к тому, как должно быть. Теории такого рода позволяют людям увидеть самих себя и свое положение таким образом, что это вызывает у них вопросы и тем самым в конечном итоге позволяет им «перерисовать» себя в картине этого мира. В этом смысле налицо тесная связь между рассудком, знанием и свободой. Наличие определенных знаний жизненно необходимо для человеческой свободы и счастья. А поскольку люди действуют с учетом этих знаний, они приходят к их более глубокому пониманию, что затем позволяет им более эффективно их использовать. Сумев больше понять, мы сможем больше сделать; правда, по мнению Маркса, те виды понимания, те идеи, которые действительно становятся материальной силой, способны сформироваться только в практической борьбе. Подобно тому как игра на трубе являет собой чувственное, материальное воплощение предшествующего обучения, точно так же и политическое освобождение есть форма практического знания.
Это и есть та причина, которая требует восприятия знаменитого одиннадцатого тезиса Маркса о Фейербахе, как говорили древние, cum grano salis (с долей иронии), и с определенной поправкой. В нем, напомню, Маркс пишет о философах, которые лишь объясняли мир; суть же дела в том, чтобы изменить его. Однако как вы можете изменить мир, не объясняя и не понимая его? И не является ли способность объяснить его в определенном смысле началом политических изменений?
В «Немецкой идеологии» Маркс пишет: «Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание». Или, как резюмирует в своей работе «О достоверности» Людвиг Витгенштейн: «Наша деятельность и есть то, что лежит в основе наших языковых игр»[65]. Отсюда вытекают важные политические следствия. Например, это означает, что если мы хотим достаточно радикально изменить наш образ мышления и восприятия мира, то мы должны изменить свою деятельность. Образования или изменений в глубине души здесь недостаточно. Наше общественное бытие ставит пределы нашему мышлению. И вырваться за эти пределы мы можем, только изменив данное общественное бытие или, что то же самое, нашу материальную форму жизни. Мы не можем выйти за пределы нашего мышления, просто подумав об этом.
Однако не впадаем ли мы здесь в ложную дихотомию? Если под «общественным бытием» мы понимаем тот порядок вещей, который мы реализуем, то тогда оно уже должно подразумевать сознание, ибо нет такого мира, в котором сознание находилось бы по одну сторону пропасти, а наши общественные деятельности — по другую. Вы не можете голосовать, целоваться, пожимать руки или эксплуатировать труд мигрантов без соответствующих мыслей и намерений. А если в каких-то фрагментах поведения эти составляющие отсутствуют, то мы вряд ли будем называть такие фрагменты человеческими действиями, как мы едва ли признаем продуманным планом выскочивший прыщ или бурчание в животе. Маркс, я думаю, не стал бы отрицать этот факт. Как мы видели, он рассматривал человеческое сознание как воплощение, как олицетворение нашего практического поведения. Но в любом случае он определенно придерживался той точки зрения, что материальное существование в некотором смысле более фундаментально, чем мнения и идеи, и что последние могут быть объяснены в терминах первого. Как нам следует понимать такую позицию?
Один из ответов, как мы уже видели, состоит в том, что для людей мышление является материальной необходимостью, как в более примитивной форме это требуется для строящих свои убежища бобров или лис. Нам нужно мыслить, поскольку мы принадлежим к виду вполне материальных животных. Сознающими и познающими существами мы являемся именно потому, что мы телесны. Для Маркса собственно познавательные действия развиваются рука об руку с трудом, промышленностью и экспериментом. «Производство идей, представлений, сознания, — пишет он в „Немецкой идеологии“, — первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни»[66]. Если природа просто роняет свои ароматные сокровища в наши благодарно раскрытые рты или если (о, ужас!) нам требуется поесть всего однажды на протяжении всей жизни, то нам вообще может не понадобиться особо много размышлять. Вместо этого мы могли бы просто отлеживать бока и наслаждаться моментом. Однако реальная природа, увы, гораздо более скупа, чем вышеупомянутая, а человеческое тело обременено потребностями, удовлетворять которые надо намного чаще.
Здесь прежде всего стоит еще раз отметить, что именно телесные потребности играют определяющую роль в формировании нашего образа мышления. Так что уже по одной этой причине мышление не может считаться первичным, даже если очень многим умам нравится думать, что это так. На более поздних этапах человеческого развития, утверждал Маркс, идеи становятся гораздо более независимыми от первичных потребностей, и тогда появляется то, что мы называем культурой. Мы можем начать восхищаться идеями как таковыми, а не ради их прикладной ценности. Мысль, как заметил однажды Бертольт Брехт, может доставлять настоящее чувственное наслаждение. Но и при всем том остается бесспорным, что разум, сколь угодно возвышенный, ведет свое скромное происхождение от биологических потребностей. Как указывал Фридрих Ницше, это связано с осуществлением нашей власти над природой[67]. Стремление к действенному контролю над окружающим миром, будучи вопросом жизни или смерти, лежит в основе всей нашей более абстрактной интеллектуальной деятельности.
В этом плане в размышлениях Маркса есть нечто парадоксальное, как есть это и в идеях Ницше и Фрейда. Низшее — в виде следов, рудиментов, остаточных явлений и т. д. — всегда скрыто присутствует в высшем. А как заметил критик Уильям Эмпсон: «Наиболее утонченные стремления уже присутствуют в простейших, и было бы противоестественно, если бы их там не было»[68]. У истоков большинства наших возвышенных концепций лежат насилие, нужда, вожделение, неумеренные аппетиты, чувство обделенности и агрессия. Это есть потаенная изнанка того, что мы называем цивилизацией. Теодор Адорно очень наглядно высказался об «ужасах, кишащих под изразцами культуры»[69]. «Классовая борьба, — пишет Вальтер Беньямин, — …есть сражение за грубые и материальные вещи, без которых, однако, никакие утонченные и духовные изыски не могли бы существовать»[70]. К сказанному остается добавить, что Беньямин не входит в число тех, кто отрицает ценность «утонченных и духовных изысков», и в этом смысле он мало чем отличается от Маркса. Он просто старается поместить их в исторический контекст. Подобно многим парадоксальным философам, Маркс остается исполином среди мыслителей, откровенно не доверяющим возвышенно-экзальтированным идеям. Традиционные же политики, напротив, на публике бывают склонны обращаться к лексике ревностных идеалистов, а в личных беседах изъясняются как циничные материалисты.
Мы уже касались второй причины, заставляющей говорить о преобладании общественного бытия над сознанием. Опыт показывает, что те формы понимания, которые по-настоящему прочно фиксируются, как правило, возникают тогда, когда мы что-то реально делаем. В связи с чем представители социальных наук в своих рассуждениях нередко выделяют в особый вид знаний — как они их называют, молчаливые знания — те из них, которые могут быть приобретены только в процессе делания чего-либо и соответственно не могут быть переданы кому бы то ни было в теоретической форме. Попробуйте объяснить кому-нибудь, как надо насвистывать «Дэнни Бой». Но даже если наши знания не относятся к этому виду, суть остается верной. Даже вызубрив наизусть самоучитель игры на скрипке, вы не сможете затем взять инструмент и тут же выдать блестящую интерпретацию концерта Мендельсона ми-минор для скрипки. Именно в этом смысле ваши знания о концерте неотделимы от способности его исполнить.
Есть еще один аспект, в котором материальная реальность преобладает над идеями. Когда Маркс говорит о сознании, он не всегда имеет в виду те идеи и ценности, что присущи нашей повседневной жизни. Порой он подразумевает под этим термином более формализованные системы понятий, такие как право, наука, политика и т. д. И применительно к таким формам мышления его позиция состоит в том, что они в конечном счете определяются общественной реальностью. Фактически в этом и состоит знаменитая, многократно обруганная марксистская теория базиса и надстройки, которую Маркс обрисовал следующим образом:
«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания»[71].
Под «экономической структурой» или «базисом» Маркс понимает производительные силы и связанные с ними отношения; под надстройкой — такие институты, как государство, законодательство, политика, религия и культура. По его мнению, функция этих институтов состоит в поддержке базиса, выражающего господствующую классовую систему. Некоторые из них, в частности культура и религия, решают эту задачу главным образом за счет выработки идей, призванных оправдать и узаконить систему. Это и есть идеология. «Мысли господствующего класса, — пишет Маркс в „Немецкой идеологии“, — являются в каждую эпоху господствующими мыслями». Было бы странно видеть преуспевающее феодальное общество, в котором большинство расхожих идей являются откровенно антифеодальными. Как мы видели, Маркс считал, что те, кто контролирует материальное производство, стремятся также к контролю над умственным производством. В эпоху газетных магнатов и медийных баронов данный вывод обретает даже большую силу, чем в XIX веке.
Поскольку концепция базиса-надстройки многократно перевиралась рядом критиков Маркса и даже некоторыми его адептами, здесь я постараюсь излагать ее как можно ближе к оригинальным формулировкам. Порой можно слышать претензии, что данная модель слишком статична; но все модели по самой своей сути статичны и плюс к тому не могут обойтись без упрощений. Маркс отнюдь не считал, будто в жизни общества имеется два совершенно отдельных слоя. Напротив, между ними происходит постоянное и разнообразное взаимодействие. Базис может порождать соответствующую себе надстройку, но надстройка, в свою очередь, существенно влияет на состояние базиса и даже на само продолжение его существования. Без поддержки государства, системы законодательства, политических партий и муссирования прокапиталистических идей в СМИ и вообще везде, где только можно, нынешняя система собственности могла бы оказаться несколько более шаткой, чем она есть. По мнению Маркса, такое двухстороннее движение было даже более очевидным в докапиталистических обществах, где законы, религия, политика, родственные отношения и государство глубоко внедрялись в дело материального производства.
При этом надстройка хотя и вторична по отношению к базису, но отнюдь не в том смысле, что она хоть в чем-то менее влиятельна. Тюрьмы, церкви, школы и телевизионные станции абсолютно столь же действенны, как банки и угольные шахты. Возможно, базис более важен, чем надстройка, но более важен с какой точки зрения? Искусство более важно для духовного благополучия человечества, чем изобретение новых шоколадных конфет, однако последнее обычно рассматривается как элемент базиса, тогда как первое — нет. Марксистам стоит доказывать, что базис более важен в том смысле, что подлинно эпохальными являются результаты действия прежде всего материальных сил, а не идей или верований.
Идеи и верования могут быть весьма влиятельными, но материалистическая позиция состоит в том, что они обретают способность ощутимо воздействовать на историю только тогда, когда оказываются созвучными мощным материальным интересам. Гомер мог рассматривать Троянскую войну с точки зрения чести, мужества, божественных пророчеств и т. п., но античный греческий историк Фукидид, чистокровный и самобытный материалист, трезво указывал, что был недостаток ресурсов и связанная с этим готовность греков прекратить внутренние войны ради того, чтобы отправиться в плавание в богатые страны и грабительские экспедиции, поэтому конфликт и затянулся столь надолго. Фукидид также рассматривал всю систему эллинистического влияния как основанную на развитии мореплавания, а также на торговле и тех накоплениях, которые она позволяла производить. Материалистические теории истории берут свое начало задолго до Маркса.
Есть также немало институций, которые могут быть причислены одновременно и к базису, и к надстройке. Баптистские церкви в США являются генераторами идеологии, но вместе с тем и чрезвычайно доходным бизнесом. То же самое можно сказать и об издательской, медийной и киноиндустрии. Некоторые американские университеты представляют собой мощные бизнес-единицы в той же мере, что и фабрики знаний. Или возьмем принца Чарльза, который существует в основном для того, чтобы пробуждать в британском обществе чувства почтительности и уважения, но заодно извлекает из такого своего занятия солидную прибыль.
Но неужели все человеческое бытие может быть, пусть даже с некоторыми оговорками, поделено между базисом и надстройкой? Разумеется, нет. Есть бессчетное множество вещей, которые не принадлежат ни к материальному производству, ни к так называемой надстройке. Язык, чувственная любовь, большая берцовая кость, планета Венера, угрызения совести, фокстрот и пустоши Северного Йоркшира — вот лишь малая часть из них. Марксизм, как мы видели, не есть теория вообще всего. Однако верно и то, что порой можно наткнуться на самые невероятные связи между классовой борьбой и культурой. Половая любовь определенно имеет отношение к материальному базису, поскольку она достаточно часто ведет к появлению таких потенциальных источников новой рабочей силы, как дети. По ходу экономической рецессии 2008 года дантисты сообщали о значительном росте числа челюстных заболеваний, вызванных буквально зубовным скрежетом от стресса. Так что зубы, стиснутые перед лицом катастрофы, очевидно, более не являются метафорой. Когда романист Марсель Пруст еще пребывал в утробе, его аристократическая мать была крайне напугана восстанием социалистической Парижской коммуны; в связи с чем высказывались предположения, что как раз этот стресс стал причиной неизлечимой астмы Пруста. Существует также теория, согласно которой чрезвычайно длинные, витиеватые предложения Пруста были формой психологической компенсации его проблем с дыханием. И если это действительно так, то перед нами связь между синтаксисом Пруста и Парижской коммуной.
Если модель предполагает, что надстройка действительно возникает для обслуживания тех задач, которые она фактически выполняет, то тогда она явно ошибочна. Это может быть верно для государства, но вряд ли для искусства. Равным образом не соответствует истине утверждение, что все усилия школ, газет, церквей и государства поддерживают существующую общественную систему. Когда в школе учат детей, как завязывать шнурки ботинок, или телевизионные студии передают прогноз погоды, то в этом едва ли можно усмотреть какой-то специально «надстроечный» смысл. Такие действия не укрепляют производственные отношения. Государство может направлять свои специальные силы избивать мирных демонстрантов, но полиция также разыскивает пропавших детей. Когда желтые таблоиды поносят иммигрантов, они действуют «надстроечно»; когда же они рассказывают о дорожных происшествиях, то скорее всего нет. (Тем не менее сообщения о дорожных происшествиях всегда могут быть использованы против системы. Поговаривают, что в отделе новостей «Дейли уоркер», бывшей газете британской коммунистической партии, помощники редактора передавали сообщения о дорожных происшествиях с указанием: «Товарищи, это под классовым углом зрения».) Так что однозначно утверждать, что школы, церкви или ТВ-студии есть часть надстройки, было бы неправомерно. Мы можем трактовать надстройку скорее как комплекс мер, нежели как статусную позицию. Сам Маркс, судя по всему, не рассматривал надстройку подобным образом, но это может стать полезным уточнением его аргументации.
Пожалуй, можно согласиться с тем, что в принципе для поддержания нынешней системы может быть использовано буквально все. Если телеведущий, дабы не огорчать зрителей плохой новостью и исключить возможность того, что подавленные люди станут работать менее продуктивно, нежели веселые и жизнерадостные, не акцентирует внимание на приближающемся торнадо, то он действует как агент правящих сил. (Порой приходится сталкиваться с любопытным убеждением, что уныние является политически разрушительным; далеко не в последнюю очередь это присутствует в патологически оптимистичных Соединенных Штатах.) Тем не менее в целом мы можем сказать, что некоторые составляющие этих общественных институтов действуют в указанном ключе, а некоторые — нет. Или они могут в одно время действовать так, а в другое — иначе. Таким образом, учреждение может проявлять себя как «надстроечное» в среду, но не в пятницу. Термин «надстройка» требует рассмотрения происходящего с учетом всех аспектов конкретной ситуации. Это относительное понятие, применение которого всякий раз подразумевает ответ на вопрос о том, какую функцию данный вид деятельности выполняет по отношению к другому. Как указывал Дж. А. Коэн, оно объясняет определенные неэкономические институты в терминах экономики[72]. Но оно не объясняет всех этих институтов — либо всего того, чем они занимаются, либо почему они возникают в первую очередь.
Но и при всем том мысль Маркса глубже, чем это обычно предполагается. Она не сводится просто к заявлению, что одни образования являются надстроечными, а другие — нет, подобно тому как некоторые яблоки являются одноцветными, а все остальные — пятнистыми. Ее смысл, скорее, в том, что если мы исследуем законодательство, политику, религию, образование и культуру классовых обществ, то мы обнаружим, что большая часть оказываемых ими воздействий поддерживает господствующий общественный порядок. Собственно говоря, чего-то другого нам и не следовало ожидать. Нет такой капиталистической страны, в которой законы запрещали бы частную собственность или детям регулярно рассказывали бы о пагубности экономической конкуренции. Вполне очевидно, что большая часть деятелей искусства и литературы настроена глубоко критически по отношению к существующему порядку. В сочинениях Шелли, Блейка, Мэри Уолстонкрафт, Эмилии Бронте, Диккенса, Джорджа Оруэлла и Д. Г. Лоуренса мы не найдем ни одного места с бесстыдной агитацией в пользу правящего класса. Но, даже взяв английскую литературу в целом, мы убедимся, что ее критика общественного порядка редко доходит до того, чтобы ставить под вопрос саму систему собственности. В «Теориях прибавочной стоимости» Маркс, рассуждая о том, что он называет «свободным духовным производством», относит к этой сфере искусство в противовес производству идеологии. Возможно, было бы точнее сказать, что искусство заключает в себе оба направления.
В романе Томаса Гарди «Джуд Незаметный» Джуд Фоли, нищий кустарь, живущий в рабочем районе Оксфорда, называемом Иерихон, размышляет над тем, что его судьба лежит не в башнях и дворах университета, но «среди тех, кто зарабатывает на жизнь руками и ютится, как и он, на убогой окраине, которую расхваливающие ее инспектора вообще не признают за часть города, хотя без ее обитателей усердные преподаватели не могли бы читать свои лекции, а высокие мыслители — жить» (ч. 2, гл. 6). Можно ли считать эти горькие слова изложением концепции Маркса базиса-надстройки? Не совсем. С материалистической точки зрения центральным в них действительно является тот факт, что без ручного труда не может быть труда умственного. Оксфордский университет выступает как надстройка по отношению к иерихонскому базису. Если бы академики были вынуждены сами готовить себе еду, налаживать водопровод, класть камни, печатать книги и т. д., то у них не осталось бы времени на обучение. Всякий философский труд предполагает невидимую армию работающих руками, равно как и всякая симфония или церковная служба. Но идея Маркса, как мы уже видели, шире такой констатации. Смысл ее не просто в том, что для того, чтобы изучать Платона, вы должны есть; из нее также следует, что то, каким образом организовано материальное производство, будет более или менее непосредственно влиять на то, как вы будете о нем думать.
Речь здесь о самой природе складывающегося в Оксфорде мышления, а не просто о том факте, что в нем в принципе протекает мыслительный процесс. Подобно всем остальным людям, оксфордские академики обретают свое мышление сформированным под воздействием современных им материальных реалий. Так что большинство из них вряд ли будут интерпретировать Платона, как, впрочем, и любого другого автора в таком ключе, который мог бы оказаться разрушительным для прав частной собственности, потребностей общественного устройства и т. д. Когда Джуд пишет руководителю одного из колледжей отчаянное письмо, в котором спрашивает, как можно стать его студентом, то в полученном ответе он находит лишь более чем прозрачный намек, что рабочим вроде него лучше и вовсе не пытаться. (Ирония в том, что сам Гарди скорее всего согласился бы с таким советом, хотя и не по тем соображениям, исходя из которых он был дан.)
Чем в первую очередь вызывается необходимость в надстройках? Такая постановка, сразу уточню, отличается от вопроса о том, почему у нас есть искусство, законы или религия. По этому поводу есть много ответов. Здесь же спрашивается, скорее: «Почему искусство, законы и религия должны так заботиться о подтверждении правомерности существующей системы?» Если коротко, то потому, что базис разделен внутри себя. Поскольку в нем присутствует эксплуатация, то это порождает большое число конфликтов. И задача надстройки в том, чтобы контролировать ход и завершение таких конфликтов. Надстройки являются необходимыми, поскольку существует эксплуатация. Если бы ее не было, мы по-прежнему имели бы искусство, законы и, возможно, даже религию, но они более не решали бы таких позорных задач. Вместо этого они смогли бы отбросить подобные ограничения и стать гораздо свободнее.
Модель базиса-надстройки является вертикальной. Тем не менее ее можно представить и горизонтально. В этом случае базис может представляться как внешний ограничитель для политических планов. В конечном счете именно он, «отказываясь» производить больше, ставит предел для наших запросов, даже если все другие условия для преобразований налицо. Модель, таким образом, имеет политическое значение. И тем, кто полагает, что им по силам изменить основы общества, просто изменив представления людей или создав новую политическую партию, не помешало бы прежде уяснить себе, что эти меры — при всей своей нередко исключительной значимости — не являются тем, чем в конечном счете живут люди. Соответственно тогда они смогли бы переориентировать свои усилия на более продуктивные цели. Базис является тем заключительным препятствием, о который постоянно разбиваются социалистические политики. Это, как говорят американцы, последняя черта. А поскольку под последней чертой американцы нередко понимают деньги, то это как раз и показывает, сколь много граждан страны свободы являются невольными марксистами. Это стало для меня окончательно очевидным несколько лет назад, когда я, путешествуя вместе с деканом факультета искусств государственного университета по американскому Среднему Западу, проезжал мимо обильно наливающихся кукурузных полей. Бросив взгляд на множество початков, он произнес: «Урожай в этом году должен быть хорошим. Может, из него выйдет пара ассистентов преподавателей».
Возвращаясь к материалистам, отметим, что они не являются бездуховными созданиями. А если и являются, то необязательно потому, что они — материалисты. Сам Маркс был человеком, сложившимся в значительной степени под влиянием совокупной центральноевропейской традиции, и он очень хотел закончить с тем, что он едко называл «экономической чушью» «Капитала», чтобы написать большую книгу о Бальзаке. К его огорчению, но, возможно, к счастью для нас, этого не случилось. Он как-то проговорился, что пожертвовал здоровьем, счастьем и семьей ради написания «Капитала», но что он стал бы «мерином», если бы отвернулся от страданий человеческого рода[73]. Он также заметил, что никто не писал так много о деньгах и не имел так мало. Как мужчина, он был страстным, остроумным, а нередко и язвительным, с неукротимой душой, полной любви и радушия, и одновременно суровым полемистом, стойко боровшимся с постоянной нуждой и хроническим нездоровьем[74]. Он был, конечно же, атеистом; однако для того, чтобы быть духовным, вовсе не обязательно быть религиозным, и ряд ведущих идей иудаизма — справедливость, раскрепощение, главенство мира и достатка, день окончательного расчета, история как повествование об освобождении, спасение не только отдельной личности, но всего обездоленного народа — наполняют его труды, естественно в подобающим образом секуляризованной форме. Он также унаследовал враждебность иудаизма к идолам, фетишам и рабским иллюзиям.
Пока продолжает существовать религия, следует напоминать, что встречаются иудаистские марксисты, исламские марксисты и христианские марксисты, являющиеся приверженцами так называемой освободительной теологии. Все они суть материалисты в понимании Маркса. Дочь Маркса Элеонора рассказывала, что однажды он сказал ее матери, что если она ищет способы «удовлетворять свои метафизические нужды», то она скорее найдет их у иудейских пророков, нежели в светском обществе[75]. Материализм по Марксу — это не набор суждений о вселенной, вроде «все состоит из атомов» или «бога нет». Это теория принципов функционирования исторических животных.
Следуя своим иудейским корням, Маркс уделял большое внимание вопросам морали. Наряду с планами после завершения «Капитала» взяться за книгу о Бальзаке, он также предполагал написать труд по этике. Это все к вопросу об источниках мифа, согласно которому он был бесстрастным ниспровергателем морали, видевшим в обществе лишь объект для научных исследований и не более того. Трудно представить такое применительно к человеку, который пишет, что капиталистическое общество «разрывает все истинные узы между людьми и заменяет их эгоизмом, эгоистическими потребностями, растворяет мир людей в мире атомизированных индивидов, враждебных друг другу»[76]. Маркс считал, что этика, правящая капиталистическим обществом и сводящаяся к идее, что я должен идти навстречу вашим пожеланиям только в том случае, если это будет прибыльным для меня, порождает отвратительный образ жизни. Если мы не стали бы обходиться подобным образом с нашими друзьями или детьми, то почему мы принимаем его как вполне естественный способ обращения со всеми остальными людьми?
Маркс и в самом деле довольно часто осуждал мораль. Под таковой, однако, он понимал исторически обусловленный подход, который выдвигает на первый план моральные факторы при игнорировании материальных. Так что правильнее будет называть его не моралью, а морализаторством. Морализация абстрагируется под именем «моральных ценностей» от тех или иных составляющих целостной исторической ситуации, в рамках которой они сложились, а затем, как правило, начинает выносить безапелляционные моральные приговоры. Тогда как подлинная мораль изучает и учитывает именно все аспекты конкретной человеческой ситуации. Она не признает отрыва человеческих ценностей, поведения, отношений и черт характера от тех общественных и исторических сил, которые их сформировали. Тем самым она избегает ложного противопоставления между страстным моральным осуждением, с одной стороны, и холодным научным анализом — с другой. Подлинно моральное суждение требует возможно более тщательного исследования всех относящихся к делу фактов. И в этом смысле Маркс был истинным моралистом в традициях Аристотеля, даже если сам он не всегда догадывался об этом.
Кроме того, он был продолжателем великой аристотелевской традиции, для которой мораль изначально не была сводом законов, обязательств, кодексов и запретов, но вопросом о том, как жить свободной, полной и максимально реализующей себя жизнью. Для Маркса суть морали в конечном счете сводится к тому, как радовать себя. Но поскольку никто не может проводить свою жизнь в одиночестве, то этика должна подразумевать также и общественное регулирование. Что в точности согласуется с мыслями Аристотеля.
Духовное действительно относится к потустороннему. Но оно не является потусторонним в том смысле, как это понимают священники. Находящийся по ту сторону мир — это тот, который социалисты надеются построить в будущем на месте того, чей срок годности явно истек. Всякому, кто не является потусторонним в этом смысле, очевидно, не доводилось серьезно задумываться о происходящем вокруг.
Глава 7
Нет в марксизме ничего более устаревшего, чем его навязчивая одержимость идеей классов. Марксисты, похоже, не замечают, что с тех пор, когда писал Маркс, образ общественных классов изменился почти до неузнаваемости. В особенности рабочий класс, который, как они наивно воображали, будет открывать дверь в социализм, исчез почти бесследно. Мы живем в обществе, где значение классов становится все меньше и меньше, где все более и более возрастает социальная мобильность, а разговоры о классовой борьбе стали столь же архаичными, как и сожжение на костре еретиков. Революционный рабочий, подобно злобному капиталисту в шляпе-цилиндре, уже давно существует только в воображении марксистов.
Мы уже видели, что у марксистов есть определенные проблемы с концепцией идеального общества (утопией). Это первая причина, почему они отвергают иллюзию, будто только из-за того, что нынешние главы корпораций могут носить кроссовки, слушать тяжелый рок и просят своих сотрудников называть их братишками, общественные классы оказались одним махом сметены с лица земли. Марксизм не определяет класс в понятиях стиля, статуса, дохода, акцента, специальности или того, висят ли у вас на стенах вырезки из комиксов или картины Дега. Приверженцы социализма не вступали в битву и не вымерли в одночасье через столетие всего лишь для того, чтобы покончить с зажравшимся снобизмом.
Забавная американская концепция классовости хотела бы представить дело так, что класс по большей части личностное позиционирование. Мол, средний класс должен расстаться с чувством презрения к рабочему классу примерно так же, как белые должны прекратить чувствовать превосходство над афроамериканцами. Но для марксизма вопрос лежит отнюдь не в плоскости личных отношений. Класс в марксизме, подобно добродетели у Аристотеля, определяется не тем, как вы чувствуете, а тем, что вы делаете. Это прежде всего вопрос о месте, которое вы занимаете в рамках определенного способа производства, — являетесь ли вы рабом, свободным крестьянином, землевладельцем, собственником капитала, финансистом, продавцом своей рабочей силы, мелким собственником и т. д. Марксизм не опровергается тем, что в Итонском колледже начали пропускать звук h в начале слов, принцы королевского дома валяются на помойках возле ночных баров или некоторые более древние формы классовых различий теряют свою четкость под напором такого универсального растворителя, как деньги. Тот факт, что европейская аристократия считает за честь быть на короткой ноге с одним из основателей Rolling Stone Миком Джаггером, явно не свидетельствует о начале перехода к бесклассовому обществу.
Мы много слышали о предполагаемом исчезновении рабочего класса. Однако прежде чем вплотную заняться этой темой, посмотрим, что говорят о менее разрекламированном уходе со сцены традиционной высокопробной буржуазии. Как считает Перри Андерсон, своеобразный тип людей, незабываемые изображения представителей которого мы находим в романах таких авторов, как Марсель Пруст или Томас Манн, в настоящее время практически исчез. «В общем и целом, — пишет Андерсон — та буржуазия, которую знали Бодлер или Маркс, Ибсен или Рембо, Гроц или Брехт, Сартр или О’Хара, отошла в прошлое». Тем не менее социалистам не следует чрезмерно ликовать в связи с этой поминальной заметкой, ибо, продолжает Андерсон, «место компактного однородного амфитеатра занял аквариум текучих, изменчивых форм — прогнозисты и менеджеры, аудиторы и налоговые оптимизаторы, администраторы и управляющие фондов: функции монетарного универсума, которые не знают социальной устойчивости или стабильных отличительных черт»[77]. Классы постоянно меняют свою структуру, но это не означает, что они бесследно пропадают.
Стирать отличия, рушить иерархии и смешивать воедино множество отдельных форм жизни заложено в самой природе капитализма. Нет другой столь же скомбинированной и плюралистичной формы жизни. Когда дело доходит до тех, кто точно подлежит эксплуатации, система оказывается замечательно уравнительной. Она выступает столь же антииерархичной, как самый благочестивый постмодернист, и столь же щедро общедоступной, как самый ревностный англиканский викарий. Она беспокоится о том, чтобы не упустить абсолютно никого. Там, где создается прибыль, черные и белые, женщины и мужчины, дети и пожилые люди, соседи по Уэйкфилду и крестьяне на Суматре — все они становятся зернами для ее мельницы и будут размолоты с полнейшей беспристрастностью. Именно товарная форма производства, а вовсе не социализм является величайшим уравнителем. Товар не проверяет, где его потенциальный потребитель заканчивал школу и не произносит ли он «безен» вместо «бизон». Он внедряет тот самый вид удручающего единообразия, который, как мы видели, Маркс не принимал категорически.
Нас не должно удивлять то, что высокоразвитый капитализм порождает иллюзию бесклассовое™. Это не просто фасад, за которым система скрывает свою подлинную несправедливость; это заложено в самой природе зверя. Тем не менее действительно налицо разительный контраст между раскованной и демократичной атмосферой современного офиса и глобальной системой, в которой различия в богатстве и власти достигли невиданных размеров. При былых иерархиях в некоторых секторах экономики могли складываться децентрализованные, основанные на сотрудничестве, командно-ориентированные, широко информированные, доверительные и неформальные типы организаций. Однако капитал продолжает концентрироваться в меньшем числе рук, чем когда-либо раньше, а уровень нужды и обездоленности все более и более растет. В то время как главы корпораций надевают джинсы и кроссовки, демонстрируя демократичность, более одного миллиарда человек ежедневно ложатся спать голодными. Большинство крупных городов в Южном полушарии представляют собой зловонные трущобы, где царят скученность и болезни, а обитатели трущоб составляют одну треть всего городского населения. Городские же бедняки в целом составляют не менее половины населения планеты[78]. А тем временем кое-кто на Западе, преисполненный евангелического рвения, пытается распространить либеральную демократию на весь остальной мир, и это происходит как раз тогда, когда судьбы мира определяются кучкой западных корпораций, не отчитывающихся ни перед кем, кроме своих акционеров.
Но и при всем том марксисты не выступают просто против класса капиталистов, как кто-то может выступать против охоты или курения. Мы уже видели, что никто так не восхищался его величественными достижениями, как это делал сам Маркс. В числе этих достижений решительное противодействие политической тирании, мощная концентрация богатства, несущая в себе перспективу всеобщего процветания, уважение к личности, гражданские свободы, демократические права, подлинно интернациональное сообщество и т. д., то есть многое из того, что и социализму потребуется создать и поддерживать. Плоды классового этапа истории должны обращаться на пользу, а не бездумно отбрасываться. Капитализм, как мы отмечали ранее, несет в себе и освободительные, и катастрофические силы; и именно марксизм, больше чем какая-либо другая политическая теория, пытается определить разумный баланс между ними, чтобы избежать некритичного прославления, с одной стороны, и огульного осуждения — с другой. Среди прочих щедрых подношений, которыми капитал (пусть даже не всегда преднамеренно) одарил мир, был рабочий класс — общественная сила, которую он исключительно ради своих собственных интересов вырастил до состояния, когда та обрела потенциальную способность занять его место. Во многом по этой причине видение истории Марксом оказывается глубоко пропитано иронией. Свой мрачный юмор присутствует и во взгляде на капиталистический порядок, порождающий собственного могильщика.
Марксизм сосредотачивается на рабочем классе не из-за того, что усматривает в труде некую лучезарную добродетель. Грабители и банкиры тоже тратят немалые усилия в своих занятиях, однако Маркс не был замечен в особом преклонении перед ними. (Правда, в прекрасной пародии на собственную экономическую теорию он упомянул в том числе и о грабителях.) Марксизм, как мы видели, настроен ограничить труд, насколько это вообще возможно. Равным образом признаваемое за рабочим классом политическое значение не связано с предположением, будто он является самой угнетаемой общественной группой. Есть много других групп — бродяги, студенты, беженцы, старики, безработные и хронически нетрудоспособные, — чье положение зачастую оказывается более тяжелым, чем у среднестатистического рабочего. Рабочий класс не перестает интересовать марксистов с того момента, когда его представители приобретают душевые кабины или цветные телевизоры. Определяющим в этом интересе всегда было и остается место, занимаемое пролетариями внутри капиталистического способа производства. Только те, кто находится внутри этой системы, знают, как она работает, организуются ею в опытную, политически сознательную коллективную силу, наконец, те, кто необходим для ее успешного функционирования, но в то же время материально заинтересован в ее низвержении, обладают реальными возможностями взять ее в свои руки и развернуть для общего блага. Никакие благонамеренные покровители или кучка внешних агитаторов не смогут сделать это для них — и это, кстати, лишний раз подтверждает, что внимание Маркса к рабочему классу (составлявшему в его время огромное большинство населения) неотделимо от его глубокого уважения к демократии.
Если Маркс придавал рабочему классу столь большое значение, то это, помимо всего прочего, объясняется тем, что он рассматривал его как носителя всеобщего освобождения. Так, говоря о предпосылках немецкого освобождения, важнейшую из них он усматривал:
«…в образовании класса, скованного радикальными цепями, такого класса гражданского общества, который не является классом гражданского общества; такого сословия, которое представляет собой разложение всех сословий; такой сферы, которая имеет универсальный характер вследствие ее универсальных страданий и не притязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготеет не особое бесправие, а бесправие вообще, которая уже не может ссылаться на историческое право, а только лишь на человеческое право… которая представляет собой полную утрату человека и, следовательно, может возродить себя лишь путем полного возрождения человека. Этот результат разложения общества, его особое сословие, и есть пролетариат»[79].
Иными словами, рабочий класс для Маркса является в некотором смысле особой общественной группой. Именно потому, что этот класс означает для него бесправие, которое содержит в себе, помимо собственно работы, массу других бесправий во всех сферах жизни (империалистические войны, колониальная экспансия, голод, геноцид, разрушение природы, отчасти также расизм и патриархат), его значение далеко выходит за пределы собственной сферы. В этом смысле он напоминает козла отпущения в античных обществах, который изгоняется из города как символический носитель всеобщего греха, но который по этой же причине способен стать краеугольным камнем нового общественного порядка. Поскольку он в одно и то же время является необходимым для капиталистической системы и отвергаемым ею, данный «класс, который не есть класс», представляет собой род шарады или головоломки. Он в самом что ни на есть буквальном смысле создает общественный порядок поскольку последний держится на его молчаливом упорном труде, возводящем все это величественное здание — и тем не менее не может обрести ни достойного места внутри этого порядка, ни полноценного признания своего человеческого статуса. Он является одновременно нужным и обездоленным, особым и всеобщим, составной частью гражданского общества, но, несмотря на это, формой небытия.
Поскольку в этом отношении подлинные основы общества являются внутренне противоречивыми, рабочий класс олицетворяет собой тот пункт, в котором вся логика данного порядка начинает давать сбои и разрушаться. Он становится для цивилизации этаким котом в мешке, фактором, который не имеет прочного места ни внутри, ни вне ее, полем, на котором данная форма жизни волей-неволей сталкивается с теми глубинными противоречиями, из которых она состоит. Поскольку рабочий класс не имеет реальной доли в существующем порядке, он оказывается во многом незаметным внутри его; но как раз поэтому он может служить прообразом альтернативного будущего. Он представляется «отторжением» общества в смысле своего отрицания — мусором или отходами, для которых общественный порядок не может найти достойного места. И в этом качестве он выступает как знак того, что для включения его в общество не обойтись без радикального слома и перестройки последнего. Впрочем, он отторгается существующим обществом и в более позитивном смысле, как класс, который, придя к власти, в конце концов упразднит классовое общество в целом. И тогда люди окончательно освободятся от тесной робы общественного класса и смогут развиваться просто как личности. В этом смысле рабочий класс является также «всеобщим», поскольку, пытаясь преобразовать условия собственного существования, он может опустить занавес за всем тягостным повествованием о классовом обществе.
Еще один иронический аспект или противоречие нашей ситуации состоит в том, что классы могут быть устранены только благодаря какому-то классу. Если марксизм столь увлечен концепцией классов, то исключительно потому, что он хочет отделаться от нее. Сам Маркс, насколько можно судить, рассматривал общественные классы как форму отчуждения. Называть людей просто рабочими или капиталистами — это значит хоронить их неповторимую индивидуальность под плитами безличных категорий. Вместе с тем важно понимать, что данное отчуждение может быть устранено только изнутри. Только пройдя с помощью класса весь путь от начала и до конца, принимая это как неизбежную социальную действительность, а не пытаясь в праведном возмущении отстраниться от нее, можно демонтировать то, что мы имеем. Это как с расой или полом; недостаточно провозгласить всех нас уникальными личностями, как это делают американские либералы, для которых каждый является особенным, включая, по-видимому, Дональда Трампа[80] и «Бостонского душителя»[81].
Тот факт, что люди собираются в обезличенные массы, с одной стороны, может рассматриваться как отчуждение, но, с другой стороны, это есть условие их освобождения. История, напомню, движется по своей «худшей» стороне. Благонамеренные либералы, рассматривающие любого участника Возвышенного либерального движения как уникальную личность, лишают себя средств для достижения цели Возвышенного либерального движения.
Говоря о рабочем классе, можно указать еще один аспект, при рассмотрении которого марксизм обращается к более широким сферам. Ни один уважающий себя социалист не считал и не считает, будто рабочий класс способен покончить с капитализмом за счет лишь собственных сил. Только при наличии надежных политических союзников столь грандиозная цель может стать реальной. Сам Маркс считал, что для достижения успеха рабочему классу необходимо заручиться поддержкой мелкобуржуазного крестьянства, по крайней мере в таких странах, как Франция, Россия и Германия, где промышленные рабочие в то время еще оставались в меньшинстве. Большевики старались создать единый фронт из рабочих, беднейшего крестьянства, солдат, матросов, городской интеллигенции и т. д.
С этой точки зрения следует отметить, что изначально пролетариат вовсе не был сине-воротничковым мужским рабочим классом. В античном обществе это была женщина низшего класса. Само слово «пролетариат» происходит от латинского proles, что означает «потомство»; соответственно, им называли тех, кто был настолько беден, что не мог служить государству ничем, кроме своего чрева. Слишком обездоленные, чтобы участвовать в экономической жизни каким-либо иным способом, женщины-пролетарии производили рабочую силу в виде сыновей, служить государству было делом мужчин. Они не могли пожертвовать ничем, кроме плодов своего тела. То, что требовалось от них обществу, было не производством, но воспроизводством. Так что пролетариат шагнул в жизнь из среды тех, кто находился за пределами трудового процесса, а не внутри его. Однако труд, который они должны были выносить, был гораздо более тягостным, чем работа в каменоломнях.
Сегодня, в эпоху доминирования потогонных мастерских и сельскохозяйственного труда третьего мира, типичным пролетарием все еще остается женщина. Бело-воротничковая работа, которая в викторианские времена выполнялась в основном мужчинами из низшего и среднего класса, в наше время является уделом прежде всего рабочих-женщин, которым, как правило, платят меньше, чем мужчинам, занятым неквалифицированным ручным трудом. Также преимущественно за счет женщин совершалось то гигантское расширение числа занятых в магазинах и на канцелярской работе, которое последовало за спадом в тяжелой индустрии после Первой мировой войны. Во времена Маркса самой многочисленной группой среди работающих по найму был не промышленный рабочий класс, а домашняя прислуга, большинство которой составляли женщины.
Так что рабочий класс — это не всегда мужчина, могучий и искусный молотобоец. Если вы представляете его себе таким, то вы будете разочарованы утверждением географа Дэвида Харви, что сейчас «всемирный пролетариат гораздо многочисленнее, чем когда-либо раньше»[82]. Если понимать под рабочим классом сине-воротничковых фабричных рабочих, то тогда в высокоразвитых капиталистических странах он действительно резко сократился, хотя отчасти это объясняется переводом значительной части таких производств в более бедные регионы планеты. Тем не менее остается бесспорным, что во всемирном масштабе численность занятых в промышленности действительно снижается. Ведь даже когда Британия была мастерской мира, производственные рабочие уступали в численности домашней прислуге и занятым в сельском хозяйстве[83]. А тенденция к сокращению объемов ручного труда и расширению бело-воротничковой работы вовсе не является «постмодернистским» феноменом. Напротив, ее четкое проявление можно отнести к началу XX столетия.
Сам Маркс не считал, что нужно непременно заниматься физическим трудом, чтобы быть причисленным к рабочему классу. В частности, в «Капитале» он рассматривает торговых рабочих наравне с промышленными и отказывается отождествлять пролетариат только лишь с так называемыми производственными рабочими, кто непосредственно участвует в выпуске той или иной продукции. Скорее, рабочий класс включает в себя всех тех, кто вынужден продавать свою рабочую силу капиталу, кто из-за этого находится под его жестким контролем и кто не может или лишь в малой степени способен регулировать условия своего труда. В отрицательном смысле мы можем определить эту категорию как тех, кто больше всего выиграет от падения капитализма. В этом смысле низшие слои бело-воротничковых работников, которые зачастую имеют невысокую квалификацию, низкую зарплату, негарантированную занятость и мало высказываются по ходу трудового процесса, также следует отнести к их числу.
Бело-воротничковый рабочий класс, точно так же как и промышленный, включает в себя очень много технических, канцелярских и административных работников, лишенных какой бы то ни было самостоятельности или власти. Класс, следует еще раз подчеркнуть, определяется не просто абстрактным правом собственности, но реальной возможностью извлекать личную выгоду из своей власти над другими.
Среди тех, кто рвется встать во главе похоронной процессии по рабочему классу, многие исходят из громадного роста в сфере услуг, информационном и коммуникационном секторах. Переход от промышленного к «позднему», «потребительскому», «постиндустриальному» или «постмодернистскому» капитализму, как мы уже видели ранее, действительно сопровождался рядом значительных изменений. Но мы также убедились, что ни одно из них не изменило фундаментальной природы капиталистических отношений собственности. Напротив, эти изменения происходили главным образом в интересах ее концентрации и консолидации. Стоит также напомнить, что работа в сфере услуг может быть ничуть не менее тяжелой, чем традиционный промышленный труд. Мы должны учитывать не только директоров бутиков и секретарей с Харли-стрит, но и докеров, транспортников, мусорщиков, почтовиков, рядовой медперсонал, мойщиков и работников предприятий питания. Действительно, различия между производящими и обслуживающими рабочими с точки зрения оплаты, организации и условий труда зачастую оказываются почти незаметными. Работающие в колл-центрах, используемых для получения и передачи больших объемов информации, эксплуатируются ничуть не меньше, чем добывающие уголь в шахтах. Такие ярлыки, как «услуги» или «белый воротничок» служат для маскировки внушительных отличий между, скажем, авиапилотами и привратниками больниц или высокопоставленными госслужащими и горничными отелей. Как признает Жюль Тауншенд: «Классификация нижнего слоя бело-воротничковых работников, не управляющих своей деятельностью, чья занятость не гарантирована, а заработки низки, как не относящихся к рабочему классу интуитивно вызывает сомнения»[84].
В любом случае индустрия услуг сама по себе предполагает значительные объемы производства. Если производственные рабочие уступают дорогу банковским клеркам и буфетчицам, то откуда берутся все эти стойки, столы, бары, компьютеры и банкоматы? Официантка, водитель, помощник преподавателя или компьютерный оператор не могут быть причислены к среднему классу просто на том основании, что она или он не выдает никакого осязаемого продукта. Поскольку они следуют своим материальным интересам, создание более справедливого общественного порядка должно привлекать их в той же мере, как и наиболее тяжко эксплуатируемых наемных рабочих. Мы должны также помнить и об огромной армии уволенных, безработных и хронически нетрудоспособных, которые со своими случайными заработками не являются постоянной частью «официального» рабочего процесса, но которых определенно следует учитывать как рабочий класс.
При этом действительно имеет место огромный прирост технических, административных и менеджерских позиций, поскольку капитализм разворачивает свою техническую базу таким образом, чтобы выжимать как можно большие объемы товаров из как можно меньшего числа работников. И если это не становится опровержением марксизма, то отчасти потому, что сам Маркс обстоятельно исследовал данное явление. Еще в середине XIX века он обращал внимание на «постоянное увеличение средних классов», упрекая ортодоксальную политическую экономию (прежде всего в лице Рикардо) в игнорировании данного обстоятельства.
Это люди, «стоящие посередине между рабочими, с одной стороны, капиталистами и земельными собственниками, с другой»[85], - одной этой фразы более чем достаточно для разрушения мифа о том, будто Маркс сводил все многообразие современного общества к двум резко противоположным классам. На самом деле, один из комментаторов даже доказывал, что Маркс предвидел возможность исчезновения того пролетариата, который был известен в его время. Капитализм, будучи далек от свержения голодными и обездоленными, может столкнуться с гораздо большей угрозой в случае внедрения в производственный процесс последних научных достижений, поскольку такая ситуация подрывала бы его позиции и служила формированию общества свободных и равных людей. Но как бы ни относились мы к такому толкованию Маркса, остается бесспорным, что он был прекрасно осведомлен об уже тогда наметившемся стремлении процесса капиталистического производства все больше и больше включать в свою орбиту технический и научный труд. В Grundrisse он говорит о «всеобщем общественном знании, [становящемся] прямой производительной силой»; фраза, которая предвосхищает то, что сегодня становится принято называть информационным обществом.
Вместе с тем расширение технического и административного секторов сопровождается прогрессирующим размыванием граней между рабочим классом и средним классом. Новые информационные технологии ведут к исчезновению многих традиционных профессий, а также к резкому снижению экономической стабильности, проседанию карьерных структур и самой идеи профессионального призвания. Одним из последствий этого становится возрастающая пролетаризация дипломированных специалистов при одновременной репролетаризации некоторых групп промышленного рабочего класса. Как указывает Джон Грей: «Средние классы заново открыли для себя ситуацию бесполезности и экономической необеспеченности, от которой страдал пролетариат XIX века»[86]. Многие из тех, кого традиционно относили к нижнему слою среднего класса — преподаватели, муниципальные работники, механики, журналисты, администраторы среднего звена и офисный персонал, — поскольку они подпадают под пресс строгого руководящего контроля, становятся предметом неумолимого процесса пролетаризации. Потому что в случае политических кризисов для них гораздо более вероятным становится сползание к показателям, характерным для рабочего класса.
Для социалистов, разумеется, было бы просто замечательно, если бы топ-менеджеры, администраторы и организаторы бизнеса с их показателями также оказались на их стороне. Марксисты ничего не имеют против судей, рок-звезд, медиамагнатов и высшего генералитета, с энтузиазмом заполняющих свои социальные ниши. Не будет никаких ограничений для самого влиятельного медиамагната, председателя совета правления CNN Руперта Мердока или скандально известной и успешной телеведущей Перис Хилтон, после того как они докажут свое искреннее раскаяние и пройдут длительный период исправления. Даже известному английскому писателю Мартину Эмису и популярнейшему американскому актеру Тому Крузу может быть предоставлен какой-то младший и строго временный формат членства. Просто потому, что для таких людей, в силу их социального статуса и материального положения, более вероятно солидаризоваться со сложившейся системой. Тем не менее, если по какой-то загадочной причине в том, чтобы увидеть конец этой системы, окажутся заинтересованными модные дизайнеры, а не почтовые работники, то тогда марксисты переместят фокус своего политического внимания на модных дизайнеров и будут решительно противодействовать апологетическим движениям почтовых работников.
Отметим также, что ситуация вовсе не является столь ясной и однозначной, как это может показаться из увещеваний идеологов исчезновения рабочего. Б высших эшелонах общества мы находим тех, кто с полным основанием может быть назван правящим классом, что, впрочем, никоим образом не означает заговора злобных капиталистов. Эта категория включает в себя аристократов, судей, высокопоставленных законоведов и церковников, медийных баронов, военную верхушку и медиакомментаторов, высокопоставленных политиков, полицейских руководителей и госслужащих, профессоров (некоторые из них политические перебежчики), крупных лендлордов, банкиров, биржевых брокеров, промышленников, глав корпораций, директоров привилегированных школ и т. д. Большинство из них сами не являются капиталистами, но действуют, пусть и не напрямую, как агенты капитала. Живут ли они при этом на доходы от капитала, ренту или жалованье, в данном случае не имеет значения. Не все, кто получает зарплату или жалованье, являются рабочим классом. Вспомним Бритни Спирс. Под этим высшим социальным пластом простирается слой относящихся к среднему классу менеджеров, ученых, администраторов, бюрократов среднего звена и т. п.; а под ними, в свою очередь, лежит круг нижне-среднеклассовых специальностей, таких как преподаватели, муниципальные служащие и младшие менеджеры. Рабочий же класс соответственно можно признать объединяющим как занятых физическим трудом, так и нижние слои бело-воротничковых работников: канцелярских, технических, административных, обслуживающий персонал и т. д. И он составляет значительную долю населения мира. Крис Харман оценивает численность мирового рабочего класса примерно в два миллиарда, близкие цифры можно найти еще у ряда авторов, придерживающихся сходной экономической логики[87]. По другим оценкам, эта численность приближается к трем миллиардам[88]. Похоже, что рабочий класс исчезает несколько менее заметно, чем английский аристократ лорд Лукан, который был заподозрен в убийстве своей домработницы и бесследно исчез несколько десятилетий назад[89].
Не следует также забывать и об огромном населении трущоб, которое во всем мире растет чрезвычайно быстрыми темпами. Если обитатели трущоб уже не составляют большинство всего городского населения, то скоро будут. Эти люди не являются частью рабочего класса в классическом смысле слова, но они и не находятся полностью за пределами производственного процесса. Они скорее склонны мигрировать, то заходя внутрь, то покидая эти пределы, поскольку выполняют обычно низкооплачиваемую, неквалифицированную, сезонную или просто случайную работу в сфере услуг, без контрактов, какого-либо правового регулирования или возможности ставить условия. В их число входят разъездные торговцы, мошенники, чистильщики обуви, продавцы еды и напитков, проститутки, работающие дети, рикши, домашняя прислуга и действующие лишь краткое время самозанятые предприниматели. Маркс в свое время указывал на наличие разных слоев среди безработных, и то, что он говорил о «текучей» безработице или нерегулярно занятых, рассматривавшихся им как часть рабочего класса, звучит очень похоже на условия существования многих сегодняшних обитателей трущоб. Если они и не подвергаются обычной эксплуатации, то, несомненно, экономически угнетены; а взятые вместе, они составляют наиболее быстро растущую общественную группу на планете. Если эти люди могут становиться легкой добычей религиозных движений правого толка, то они также могут собираться на впечатляющие акции политического протеста. В Латинской Америке в такой неофициальной экономике в настоящее время занято более половины рабочей силы. Она формирует неофициальный пролетариат, который показывает себя вполне способным к политической организации; и если он восстанет против страшных условий своей жизни, то мировая капиталистическая система, несомненно, будет потрясена до самого основания.
Маркс придерживался мнения, что концентрация рабочих на крупных предприятиях была предпосылкой их политического освобождения. Капитализм, ради достижения собственных интересов физически сводящий вместе массы рабочих, тем самым создает условия, в которых они могут организовываться политически; а это уже не совсем то, что управляющие системой имели в виду. Капитализм не может выжить без рабочего класса, тогда как рабочий класс без капитализма мог бы развиваться гораздо более свободно и успешно. Те, кто ютится в трущобах мировых мегаполисов, не организуются на компактных производствах, что, впрочем, не дает оснований полагать, будто это и есть единственное место, где бедняки планеты могут конспирировать ради изменения своего положения. Подобно классическому пролетариату, они существуют как коллективы, самым непосредственным образом заинтересованы в преодолении теперешнего мирового порядка, и им нечего терять, кроме своих цепей[90].
Итак, известия о кончине рабочего класса оказались сильно преувеличенными. Кое-кто, правда, говорит о происшедшем в радикальных кругах сдвиге от классов к проблемам расы, пола и постколониализма. Подробнее эту точку зрения мы рассмотрим чуть позже, а пока необходимо заметить, что только те, для кого понятие класса ограничивается разряженными во фраки владельцами заводов и одетыми в комбинезоны рабочими, могут воспринимать всерьез столь недалекие заявления. Убежденные, что классы скончались вместе с «холодной войной», они вместо этого обращаются к культуре, личности, этнической и половой принадлежности. Однако в современном мире эти явления переплетаются с общественными классами столь же тесно, как и во все предшествующие времена.
Глава 8
Марксисты выступают адвокатами насильственных политических действий. Они не приемлют разумный курс умеренных, постепенных реформ, предпочитая ему кровавый хаос революции. Небольшие отряды повстанцев должны разрастись, свергнуть государство и подчинить своей воле большинство. Это один из пунктов, в котором марксизм и демократия расходятся категорически. Поскольку марксисты третируют мораль как разновидность идеологии, то они особо не задумываются о том, чем обернется для населения их дикая политика. Цель оправдывает средства, даже если на этом пути будут потеряны многие жизни.
Сама мысль о революции обычно вызывает образы хаоса и насилия. В этом плане ее можно рассматривать как антипод социальных реформ, которые мы склонны представлять как мирные, размеренные и постепенные. Но это ложное противопоставление. Многие реформы оказывались какими угодно, но только не мирными. Вспомним движение за гражданские права в США, которое было далеко от революционного, но тем не менее сопровождалось смертями, избиениями, линчеваниями и жестокими репрессиями. В XVIII и XIX веках в Латинской Америке, управляемой колониальными властями, любая попытка либеральных реформ вызывала насильственные социальные конфликты.
Напротив, некоторые революции проходили относительно мирно. Наряду с насильственными встречаются и «бархатные» революции. В частности, совсем не много людей погибло в Дублинском восстании 1916 года, в результате которого Ирландия стала частично независимой. Поразительно мало крови было пролито в большевистской революции 1917 года. Переход всех ключевых пунктов в Петрограде под контроль новой власти совершился практически без сопротивления и открытия огня. Правительство, по словам Исаака Дойчера: «пало в небытие от легкого толчка»[91], столь всеобъемлющей была поддержка восставших со стороны простых людей. А когда спустя семьдесят с лишним лет советская система тоже пала, то крушение этого собрания земель с богатым опытом жестоких конфликтов сопровождалось ненамного большим кровопролитием, чем в дни его основания.
Бесспорно и то, что сразу по пятам за большевистской революцией последовала кровавая гражданская война. Но это произошло из-за того, что новый общественный порядок подвергся свирепым атакам со стороны правоконсервативных сил, а также внешних захватчиков. Британские и французские войска всемерно поддерживали белые армии.
Для марксизма революция не определяется тем, сколько насилия она за собой повлекла, равным образом не является ее непременным признаком тотальный переворот. Россия, проснувшись наутро после большевистской революции, отнюдь не обнаружила все рыночные отношения упраздненными, а промышленность национализированной. Совсем наоборот, рынки и частная собственность сохранялись значительное время после прихода большевиков к власти, и сами большевики в основной своей массе подходили к вопросу об их демонтаже в духе постепенности. Левое крыло партии придерживалось сходной линии и в отношении крестьянства. Первоначально задача насильно загонять его в коллективные хозяйства не ставилась, так что до конца 1920-х годов процесс шел постепенно и на добровольной основе.
Революции обычно долгое время вызревают, а затем могут потребоваться столетия для реализации их целей. Средние классы Европы не устранили феодализм за один день. Захват политической власти действительно является быстротечным актом, а вот преобразование обычаев, институтов и образа мыслей общества занимает гораздо больше времени. Вы можете национализировать промышленность указом правительства, но изменения в законодательстве сами по себе не могут произвести на свет людей, которые чувствовали бы и действовали совершенно иначе, чем их бабушки и дедушки. Это подразумевает длительный процесс воспитания и перестройки культуры.
Тем, кто сомневается в возможности таких изменений, следует обратить долгий и пристальный взгляд на самих себя. Потому что в современной Британии мы сами есть продукт долгой революции, достигшей своего пика в середине XVII века; и главным признаком ее успеха является то, что большинство из нас совершенно не осознают этого факта. Успешные революции — это те, которые завершаются стиранием после себя всех следов. Делая это, они стараются привести ситуацию в состояние, которое выглядело бы совершенно естественным. В этом они немного похожи на роды. Чтобы действовать как «нормальные» люди, мы должны забыть боль и ужасы нашего рождения. Появление на свет обычно оказывается травмирующим, будь то отдельные люди или политические образования. Маркс напоминает нам в «Капитале», что современное британское государство, построенное на интенсивной эксплуатации пролетариев, перелицованных из крестьян, вступало в жизнь, источая кровь и грязь из всех своих пор. Так что, случись автору «Капитала» дожить до этого времени, он несомненно ужаснулся бы, наблюдая за форсированной сталинской урбанизацией российского крестьянства. Многие государства возникли в результате революций, нашествий, оккупаций, захватов или (в случае обществ, подобных Соединенным Штатам) истребления. Успешные государства — это те, что смогли стереть такие кровавые истории из памяти своих граждан. Те же государства, чье несправедливое возникновение состоялось слишком недавно, чтобы такое забвение стало возможным, — например, Израиль или Северная Ирландия, — вероятнее всего, будут подвержены политическим конфликтам.
Если мы сами являемся продуктами исключительно успешной революции, то это само по себе есть ответ на консервативные нападки, будто все революции заканчиваются крахом, или возвращаются к положению, с которого все начиналось, или делают ситуацию в тысячу раз хуже, или пожирают своих детей. Возможно, я пропустил соответствующие сообщения в газетах, но все равно не похоже, чтобы во Франции собирались восстанавливать позиции феодальной аристократии в правительстве или в Германии — юнкерские землевладения. Британия действительно сохраняет больше элементов феодализма, чем большинство современных стран, от палаты лордов до «Черного жезла» (герольдмейстер палаты лордов), но это в основном потому, что они оказались полезными для управления средними классами. Подобно институту монархии, все эти напоминания о былых временах формируют своеобразную атмосферу сакрального таинства, которая, как принято считать, поддерживает в массах людей подобающую степень почтения и покорности. Правда, то, что большинство британцев не воспринимают принца Эндрю как излучающего притягательный ореол таинственности и загадочности, наводит на мысль, что могут существовать и более надежные способы укрепления высшей власти.
В настоящее время большинство людей на Западе, несомненно, объявили бы себя противниками революции. Что, вероятно, означало бы, что они выступают против некоторых революций в пользу других. Революции других народов, подобно предлагаемой в ресторанах кухне других народов, обычно оказываются более приятными, чем свои собственные. Большинство этих людей, без сомнения, одобрило бы революцию, которая сбросила британское владычество в Америке в конце XVIII века, или тот факт, что колонизированные народы от Ирландии и Индии до Кении и Малайзии в конце концов добились независимости. Маловероятно также, что многие из них проливали горькие слезы по поводу падения советского блока. Скорее всего, встретят их одобрение и восстания рабов от Спартака в Древнем Риме до южных штатов Америки. Хотя все эти восстания сопровождались насилием, причем в некоторых случаях его было даже больше, чем в большевистской революции. Так не будет ли честнее прямо и открыто признать, что возражения вызывает не революция вообще, а именно социалистическая революция?
Конечно, существует незначительное число людей, обычно называемых пацифистами, которые не приемлют насилие ни в каких видах. Их мужество и твердость в отстаивании принципов, зачастую наперекор общественному мнению, вызывают огромное восхищение. Но пацифисты — это не просто люди, которые презирают насилие. Сходным образом думают почти все, за исключением разве что ничтожных вкраплений садистов и психопатов. Для пацифизма — и это стоит подчеркнуть — требуется нечто большее, нежели абстрактно-патетическая декларация, что война отвратительна. Доводы, с которыми согласны практически все, тривиальны и скучны, сколь бы разумными они ни были. Но только пацифист, что принципиально, входит в число тех, кто отвергает насилие абсолютно. И это означает не только отрицание войн или революций, но и отказ треснуть по башке — исключительно чтобы оглушить, а вовсе не убить — беглого бандита, который направляет свой автомат на группу детского сада. Любого, кто оказался бы в ситуации, позволявшей так поступить, и не сделал этого, ждали бы крупные объяснения на ближайшем родительско-педагогическом совете по поводу своих действий. Так что при сколько-нибудь строгом следовании смыслу слова «пацифизм» остается признать его сугубо аморальным. Практически каждый согласится с необходимостью применения насилия в крайних и исключительных обстоятельствах. Устав ООН разрешает вооруженное сопротивление оккупационным войскам. При этом само собой разумеется, что всякая агрессия такого рода должна быть ограничена рядом строгих условий. Она должна быть изначально оборонительной; к ней должны прибегать только после того, как были испробованы и потерпели неудачу все другие средства; она должна использоваться только для устранения некоторой главной угрозы; она должна быть пропорциональной и иметь реальные шансы на успех; она не должна сопровождаться уничтожением невинного гражданского населения и т. д.
В своей недолгой, но кровавой карьере марксизм оказался связанным с насилиями ужасающего размаха. Как Сталин, так и Мао Цзедун были убийцами в трудно вообразимых масштабах. Однако сегодня, как мы уже видели, мало кто из марксистов пытается оправдывать эти чудовищные преступления, тогда как многие немарксисты хотели бы оправдать, скажем, разрушение Дрездена или Хиросимы. Я уже показал, что марксисты предлагают гораздо более убедительные объяснения условий и причин появления злодеев вроде Сталина, чем любая другая научная школа, и тем самым дают рекомендации, как предотвратить проявление чего-либо подобного в будущем. Но как быть с преступлениями капитализма? Что можно сказать по поводу кошмарной кровавой бойни, называемой Первой мировой войной, в которой столкновение жадных до территорий империалистических стран обрекло на бессмысленную смерть миллионы одетых в солдатские шинели выходцев из рабочего класса? История капитализма представляет собой, помимо всего прочего, летопись всеобщих войн, колониальной эксплуатации, геноцида и эпидемий голода, неотвратимо поражавших целые народы. Извращенная версия марксизма породила сталинистское государство, а экстремистская мутация капитализма произвела на свет фашизм. Если миллионы человек умерли во время Большого ирландского голода в конце 1840-х годов, то это стало возможным в огромной мере из-за того, что тогдашнее британское правительство в своей циничной социальной политике настаивало на соблюдении законов свободного рынка. Мы видели, что в «Капитале» Маркс с едва сдерживаемой яростью писал о затяжном кровавом процессе, посредством которого английское крестьянство сгонялось с земли. Именно эта история насильственной экспроприации скрывается за безмятежным английским сельским пейзажем. По сравнению с этим чудовищным эпизодом, растянувшимся на многие десятилетия, события, подобные кубинской революции, выглядят как чайная церемония.
Для марксистов антагонизм коренится в самой природе капитализма. И это касается не только сопровождающих его классовых конфликтов, но и войн, которые он вызывает, поскольку стремление капиталистических стран расширить свой контроль над мировыми ресурсами или сферу империалистического влияния приводит к столкновениям между ними. Напротив, одной из наиболее неотложных задач международного социалистического движения был и остается мир. Когда большевики пришли к власти, они вырвали Россию из мясорубки Первой мировой войны. Социалисты с их ненавистью к милитаризму и шовинизму играют важную роль во многих мирных движениях на протяжении всей современной истории. Целью рабочего движения является не насилие, а его устранение.
Марксисты также традиционно являются противниками того, что они называют «авантюризм», понимая под этим, в частности, безрассудные атаки небольших отрядов революционеров на громадные вооруженные силы государства. Большевистская революция была совершена не тайными кружками заговорщиков, а людьми, открыто избранными в народные представительные органы, известные как Советы. Маркс был решительным противником восстаний псевдогероических вояк, с грозным видом размахивающих вилами перед жерлами пушек. По его мнению, успешная революция требует определенных материальных предпосылок и не может быть обеспечена одной лишь стальной волей и доброй порцией мужества. Вы почти наверняка сможете достичь гораздо большего в разгар серьезного кризиса, когда правящий класс будет слаб и расколот, а социалистические силы покажут себя сплоченными и хорошо организованными, нежели когда правительство действует целеустремленно и энергично, а оппозиция разрозненна и нерешительна. В этом смысле налицо прямая связь между материализмом Маркса — прежде всего его указаниями на необходимость анализа материальных сил, действующих в истории — и вопросом о революционном насилии.
Большинство выступлений рабочего класса в Британии — от чартистов до голодных маршей 1930-х годов — были мирными. В целом можно сказать, что рабочие движения обращались к насилию, только будучи спровоцированными, или иногда в силу крайней нужды, или когда мирная тактика явно проваливалась. Практически то же самое относится и к движениям за права женщин. Нежелание рабочих людей проливать кровь резко контрастирует с готовностью их хозяев иметь под рукой и сразу пускать в ход кнут и пистолет. Нет в распоряжении людей труда и того, что хотя бы отдаленно напоминало громадные военные ресурсы капиталистического государства. Сегодня репрессивное государство, готовое применить свое оружие против мирных забастовщиков и демонстрантов, становится обычным явлением во многих частях мира. Как писал немецкий философ Вальтер Беньямин, революция — это не ушедший поезд, но применение экстренного торможения. Потому что именно капитализм уже давно вышел из-под контроля и движется, увлекаемый анархией рыночных сил, тогда как социализм пытается восстановить хоть какое-то коллективное управление над этим разбушевавшимся зверем.
Если социалистическая революция, как правило, сопровождается насилием, то главным образом потому, что классы собственников редко бывают готовы без борьбы отказаться от своих привилегий. И все же есть серьезные основания надеяться, что такое применение силы может быть сведено к минимуму. Потому что для марксизма революция отнюдь не является синонимом государственного переворота или внезапной вспышки недовольства. Революция — это не попытка разрушить государство. Скажем, перевороты, совершаемые правой военщиной, могут радикально менять государственный строй, но от этого они не становятся революциями в марксистской трактовке данного понятия. Строго говоря, революция происходит только тогда, когда один общественный класс свергает правление другого и заменяет его собственной властью.
В случае социалистической революции это означает, что организованный рабочий класс вместе со всем спектром своих союзников отбирает власть у буржуазии или капиталистического среднего класса. Правда, Маркс рассматривал рабочий класс как самый многочисленный класс капиталистического общества. Мы также говорим здесь о действиях большинства, а не малочисленной кучки восставших. Поскольку социализм представляет собой народное самоуправление, то никто не может совершить социалистическую революцию от вашего имени, подобно тому как никто не может от вашего имени превратить вас в знатока покера. Как писал Г. К. Честертон, такое народное самоопределение есть «вещь, аналогичная написанию личных любовных писем или прочистке собственного носа. Есть вещи, которые мы хотим, чтобы человек делал сам, даже если он делает их плохо»[92]. Мой лакей может быть гораздо более искусным в деле прочистки моего носа, чем я сам, но то, что я всегда (или, если меня зовут принц Чарльз, хотя бы время от времени) делаю это сам, подобает моему человеческому достоинству. Революция не может быть сдана вам на хранение тесно спаянным авангардом подпольщиков. Равным образом, как настаивал Ленин, она не может, совершившись в какой-то другой стране, быть привнесена в вашу на остриях штыков, что попытался сделать Сталин в Восточной Европе. Вы должны сами активно участвовать в ее осуществлении, а не уподобляться тем артистам, которые рассылают своих дублеров собирать деньги под их именем. (Судя по всему, это же скоро будет происходить и с писателями.) Только в этом случае те, кто пока остается относительно беспомощным, смогут приобрести опыт, знания и уверенность в собственных силах, необходимые для переделки всего общества. Социалистические революции могут быть только демократическими. Тогда как нынешний правящий класс представляет собой недемократическое меньшинство. А огромные массы людей, которых в силу своего характера должны увлечь за собой такого рода восстания, будут надежнейшей гарантией от необходимости излишне жестких мер для подавления их противников. С этой точки зрения революции, которые скорее всего будут успешными, также, вероятно, обойдутся минимальным насилием.
Вместе с тем из сказанного, конечно же, не следует, будто в условиях революции охваченные паникой правительства, а тем более в принципе склонные к террору против своего народа, не могут попытаться покончить с протестами за счет кровавых репрессий. Однако даже автократические режимы должны опираться на определенную долю пассивного признания среди тех, кем они управляют, сколь бы скупой и колеблющейся ни была такая поддержка. Вы не можете нормально управлять страной, которая не только постоянно пребывает в состоянии недовольства, но и отказывает хоть в каких-нибудь крохах доверия вашему правлению. Вы можете держать в тюрьме некоторых людей некоторое время, но вы не можете посадить туда всех и навсегда. Упорствовать в этом в течение долгого времени могут разве что окончательно дискредитировавшие себя государства. Возьмем, к примеру, нынешние режимы в Бирме или Зимбабве. Как бы ни шли их дела, в конце концов то, что пишут на стенах, может стать ясным даже для тиранов. Какой бы жестокой и кровавой ни была система апартеида в ЮАР, в конечном итоге она пришла к пониманию, что дальше так продолжаться не может. То же самое можно сказать и о диктатурах в Польше, Восточной Германии, Румынии и других странах советского блока в конце 1980-х. Это также верно и для многих сегодняшних ольстерских юнионистов, которые после многих лет кровопролития были вынуждены признать, что их отвержение католиков в дальнейшем становится просто нежизнеспособным.
Но почему все-таки марксисты больше настроены на революцию, чем на парламентарную демократию и социальные реформы? Ответ — не настроены или по меньшей мере не всецело. Подобная зашоренность присуща только так называемым ультралевым. Одним из первых декретов большевиков, когда они пришли к власти в России, была отмена смертной казни. Приверженность реформистским или революционным подходам имеет мало общего с «болением» строго за «Эвертон» либо за «Арсенал». Большинство революционеров были также сторонниками реформ. Не всякое наследие прошлого подлежит реформированию, а сам по себе реформизм не является политической панацеей; но в любом случае революционеры ожидают, что социалистические трансформации наломают дров не больше, чем в свое время выдали феодальные или капиталистические. Подлинное различие между революционерами и реформаторами состоит не в том, что первые могут, скажем, отказаться от борьбы против закрытия больниц, поскольку это отвлекает внимание от первостепенных задач революции. Оно, скорее, в том, что революционеры рассматривают такие реформы в более протяженной и масштабной перспективе. Реформы важны, но раньше или позже вы достигнете предела, дальше которого система не даст вам двинуться, и который марксизм определяет как общественные производственные отношения. Или, выражаясь менее изящным техническим языком, господствующий класс, который контролирует материальные ресурсы, явно не настроен передавать их кому бы то ни было. Вот тогда перед вами действительно обозначится необходимость решительного выбора между реформами и революцией. В конце концов, как заметил социалистический историк Р. Г. Тоуни, вы можете слой за слоем снимать шелуху с луковицы, но вы не можете выдирать коготь за когтем у тигра, предварительно не убив его. Хотя сравнение с очисткой луковицы, скажем прямо, изображает реформы уж слишком легкими. Большинство реформ, которые мы сегодня воспринимаем неотъемлемыми составляющими либерального общества, — всеобщее избирательное право, бесплатное общее образование, свобода прессы, профсоюзы и т. д. — было завоевано во всенародной борьбе, сломившей ожесточенное сопротивление правящего класса.
С другой стороны, революционеры никоим образом не отрицают парламентарную демократию. Если она может послужить достижению их целей, тем лучше. Однако в целом марксисты относятся к парламентарной демократии весьма сдержанно, но не потому, что она демократия, а потому, что она недостаточно демократична. Для простых людей парламенты представляют собой учреждения, которым их раз за разом убеждают передавать свою власть, но для контроля за которыми у них остается очень мало средств. Революцию обычно представляют как противоположность демократии, поскольку деятельность зловещего нелегального меньшинства разрушает волю большинства. На самом деле, как процесс, в котором люди через народные собрания и советы берут на себя управление своей жизнью, революция является гораздо более демократичной, чем все известные доныне формы организации. Большевики имели яркий опыт открытых дискуссий внутри своих рядов, а в их первоначальной программе не высказывалась идея, будто они должны управлять страной как единственная политическая партия. Кроме того, как мы увидим далее, парламенты являются частью государственной машины, главное назначение которой состоит в обеспечении господства капитала над трудом. И это мнение не только марксистов. Как написал один из авторов XVII века, английский парламент есть «оплот собственности»[93]. В конечном счете, как утверждал Маркс, парламент или государство представляют не столько простых людей, сколько интересы частной собственности[94]. Цицерон, как мы видели, полностью с этим согласен. Ни один парламент в рамках капиталистического порядка не осмелился бы выступить против всепобеждающей мощи столь почтенных интересов. А если бы он вдруг и в самом деле взялся слишком радикально мешать этим интересам, то ему быстро указали бы на дверь. Так что для социалистов было бы странным рассматривать такие площадки для дебатов как важнейшие средства для продвижения своих целей, а не как лишь один из инструментов наряду со многими другими.
Сам Маркс, насколько можно судить, допускал, что в странах, подобных Англии, Голландии и Соединенным Штатам, социалисты могут достичь своих целей мирными средствами и не отвергал парламентов или социальных реформ. Он также считал, что социалистическая партия способна по-настоящему прочно взять власть только при поддержке большинства рабочего класса. Он активно поддерживал такие реформаторские органы, как политические партии рабочих, профсоюзы, культурные объединения и политические газеты. Наконец, он выступал за вполне конкретные реформаторские шаги, в частности, расширение избирательных прав и сокращение рабочего дня. Надо сказать, что на первый пункт он смотрел весьма оптимистично и считал, что всеобщее избирательное право само по себе способно подорвать капиталистический порядок. Его соавтор, Фридрих Энгельс, также придавал большое значение мирным социальным преобразованиям и предполагал возможность ненасильственной революции.
Одна из проблем, связанных с социалистическими революциями, состоит в том, что они с наибольшей вероятностью разворачиваются там, где их сложнее всего поддерживать. Ленин особо отмечал такую иронию применительно к большевистскому восстанию. Для людей, жестоко угнетаемых и полуголодных, сравнительно проще прийти к выводу, что, решившись на революцию, они ничего не потеряют. С другой стороны, как мы видели, отсталые общественные условия, которые толкают их к восстанию, одновременно делают их страну худшим из возможных мест для начала строительства социализма. В таких условиях может оказаться проще свергнуть государство, но тогда не будет под рукой ресурсов, которые позволили бы создать жизнеспособную альтернативу. Люди, которые удовлетворены условиями своей жизни, вряд ли будут активно участвовать в революции. Как, впрочем, не вдохновятся революцией и люди, потерявшие надежду. Плохая новость для социалистов состоит в том, что люди крайне неохотно идут на преобразование своего текущего положения до тех пор, пока это положение остается для них хоть сколько-нибудь терпимым.
Марксисты порой позволяют себе насмешки над кажущейся политической апатией рабочего класса. Обычные люди вполне могут не проявлять интереса к повседневным действиям государства, которое, каким кажется, не проявляет интереса к ним. Тем не менее когда оно однажды попытается закрыть их больницу, переместить их фабрику на запад Ирландии или построить аэропорт вплотную к их садам, они скорее всего встрепенутся и начнут действовать. Следует также подчеркнуть, что определенного рода апатия может быть вполне оправданной. До тех пор пока общественная система может обеспечивать своим гражданам пусть скудные, но все же средства к существованию, для них отнюдь не будет неразумным продолжать держаться того, что у них есть, вместо попыток совершить рискованный прыжок в неизвестное будущее. Консерватизм такого рода не дает поводов для насмешек.
Безусловно, большинство людей слишком поглощены мыслями о том, как удержаться на плаву сегодня, чтобы всерьез озаботиться тем, как будет выглядеть отдаленное будущее. Но очевидно и то, что колоссальный разрыв между социальными полюсами вовсе не относится к числу вещей, которые большинство людей готовы с радостью принимать. И они определенно не будут принимать его и не только потому, что социализм представляется вполне здоровой идеей. Когда лишения, связанные с существующим порядком вещей, начинают перевешивать неудобства от решительных перемен, тогда прыжок в будущее начинает выглядеть разумным предложением. Собственно говоря, революции обычно и совершаются тогда, когда почти любая альтернатива выглядит предпочтительнее настоящего. В такой ситуации восстание перестает быть неоправданным. Капитализм, веками настаивавший на верховенстве личного интереса, не сможет жаловаться, когда его наемный персонал решит, что его коллективный личный интерес состоит в том, чтобы для разнообразия попробовать что-то иное.
Реформы и социальная демократия, несомненно, позволяют откупиться от революции. Сам Маркс прожил достаточно долго, чтобы стать свидетелем начала этого процесса в викторианской Британии, но недостаточно долго, чтобы в полной мере оценить все его последствия. Если классовое общество сможет подбрасывать своей обслуге достаточно объедков и обносков, оно, вероятно, сохранится на какое-то время. Если же оно не будет этим заниматься, то весьма вероятно (хотя отнюдь не неизбежно), что те, кто остался не у дел, будут пытаться его свергнуть. И почему они не должны этого делать? Разве может быть что-либо хуже, когда вообще нет объедков и обносков? В такой момент делать ставки на будущее становится для вас в высшей степени разумным решением. И хотя в действиях людей разуму не всегда удается удержать свои позиции от начала и до конца, он является достаточно здравым, чтобы понять, когда отказ от настоящего в пользу будущего почти наверняка обернется выигрышем.
Те, кто вопрошает, а кто же займется погребением капитализма, склонны забывать, что в определенном смысле это не так уж и обязательно. Капитализм вполне может оказаться раздавленным под тяжестью собственных противоречий и без каких-либо даже легчайших пинков со стороны своих противников. Фактически несколько лет назад он вплотную подошел к этому. Однако в отсутствие под рукой организованной политической силы, способной предложить эффективную альтернативу, гораздо более вероятным результатом глобального краха системы будет варварство, а не социализм. Так что, говоря о причинах, почему нам нужна такая организация, в качестве первой и наиболее настоятельной следует назвать то, что в случае катастрофического кризиса капитализма, но при наличии дееспособной социалистической организации, пострадает меньше людей, а из образовавшихся руин можно будет собрать новую систему, благоприятствующую всем.
Глава 9
Марксизм верит во всемогущее государство. Ликвидировав частную собственность, социалистические революционеры будут править с помощью деспотической силы, и эта сила сведет к нулю личную свободу. Так происходило везде, где марксизм внедрялся в практику; и нет причин считать, что в будущем что-то может измениться. Ведь в самой логике марксизма заложено, что люди уступают инициативу партии, партия уступает государству, а государство — чудовищному диктатору. Либеральная демократия, возможно, не идеальна, но она бесконечно предпочтительнее для людей, оказавшихся упрятанными в психические больницы всего лишь за то, что осмелились критиковать жестокое авторитарное правительство.
Маркс был непримиримым противником государства и с явным удовольствием говорил о времени, когда оно исчезнет. Его критики могут считать это абсурдной утопией, но они не могут в то же самое время осуждать его за поддержку деспотического правления.
Он не был, как это случается, приверженцем абсурдной утопии. То, что, как надеялся Маркс, должно исчезнуть в коммунистическом обществе, не является государством в смысле централизованной администрации. Нечто подобное будет необходимо в любом сложном современном хозяйстве. По сути, именно это имел в виду Маркс, когда в третьем томе «Капитала» писал об «общих делах, вытекающих из природы всякого общества». Государство как административное образование будет продолжать существовать. А вот с чем Маркс надеялся попрощаться, так это с государством как инструментом подавления. Как он утверждал в коммунистическом манифесте, при коммунизме публичная власть потеряет свой политический характер. В противовес современным ему анархистам, Маркс настаивал, что только в этом смысле государство исчезнет из виду. То, что должно исчезнуть, представляет собой тот особый аспект власти, который поддерживает верховенство доминирующего общественного класса над остальным обществом. А национальные парки и тест-драйв-центры останутся.
Маркс рассматривал государство с холодным реализмом. Вполне очевидно, что оно никогда не было политически нейтральным органом, добросовестным и беспристрастным в своем подходе к сталкивающимся общественным интересам. Оно не проявляло никакой объективности в конфликтах между трудом и капиталом. Государства не занимаются подготовкой революций против собственности. Они функционируют, помимо всего прочего, для защиты существующего общественного порядка от тех, кто пытается его изменить. Если данный порядок в основе своей несправедлив, то в этом отношении государство также будет несправедливым. Вот что хотел видеть Маркс в конечном итоге, а не государственные театры или полицейские лаборатории.
Конечно, при желании можно усмотреть нечто покрытое мраком в том числе в идее, что государство является партийным, но на самом деле это лишь дань реальности. Тот, кто думает иначе, просто уже давно не принимал участия в политических демонстрациях. Либеральное государство сохраняет нейтралитет между капитализмом и его критиками ровно до тех пор, пока эти критики не начинают выглядеть побеждающей стороной. Тогда оно выезжает из тени со своими водометами и полувоенными отрядами, а если это не приносит успеха, то и с танками. Никто не сомневается, что государство может быть жестоким. Маркс просто по-новому ответил на вопрос, кому в конечном счете служит эта жестокость. Наивной является как раз вера в государственную объективность, а вовсе не предположение, что когда-нибудь мы сможем обойтись без его рефлекторной агрессии. Фактически даже само государство в некотором смысле перестает верить в собственную объективность. Полиция, избивающая бастующих рабочих или мирных демонстрантов, уже даже не пытается выглядеть нейтральной. Правительства, и в том числе лейбористские, нимало не заботятся о том, чтобы скрывать свою враждебность по отношению к рабочему движению. Как заметил Жак Рансьер: «В свое время вызывавший возмущение тезис Маркса, что правительства являются просто деловыми агентами международного капитала, сегодня стал очевидным фактом, с которым согласны и либералы, и социалисты. Полное отождествление политиков с менеджментом капитала более не является постыдным секретом, скрываемым за „разновидностями“ демократии; это открыто провозглашаемая практика, посредством которой наши правительства обретают легитимность»[95].
Это не означает, что можно обойтись без полиции, судов, тюрем или даже полувоенных отрядов. Последние могут оказаться необходимыми, например если в руки банды террористов попали химические или ядерные боеприпасы, а более мягкосердечные представители левого политического крыла получили достоверные подтверждения данного факта. Не все насильственные действия государства совершаются во имя защиты статус-кво. Сам Маркс в третьем томе «Капитала» проводит различие между специфически классовыми и классово-нейтральными функциями государства. Полицейские, силой останавливающие расистских выродков, которые иначе забили бы до смерти ребенка-азиата, действуют не как агенты капитализма. Специализированные общежития для женщин, подвергшихся насилию, не являются зловещими примерами государственных репрессий. Изъятие следователями компьютеров с детской порнографией не является грубым попранием прав человека. Пока существует человеческая свобода, будут также встречаться и злоупотребления ею; и некоторые из этих злоупотреблений будут достаточно опасными для того, чтобы стало необходимым изолировать злоумышленников ради безопасности окружающих. Тюрьмы — это не только места для наказания лишением свободы, хотя такая функция у них, несомненно, имеется.
В работах Маркса нет никаких указаний на то, что он стал бы возражать против какого-либо из вышеприведенных соображений. Потому что он действительно считал, что государство способно быть мощной силой, нацеленной на благо. По этой причине он энергично поддерживал законы, улучшавшие социальные условия в викторианской Англии. Нет ничего репрессивного в организации приютов для брошенных детей или в контроле за тем, чтобы все ездили по одной стороне улицы. А вот что Маркс и в самом деле категорически отвергал, так это миф о государстве как источнике гармонии и мирного единения различных групп и классов. По его мнению, оно в гораздо большей степени служит источником разделения, нежели согласия. Оно действительно пытается объединить общество, но делает это в конечном счете в интересах правящего класса. За его кажущейся беспристрастностью скрывается непреклонная односторонность. Государственные учреждения «накладывают новые путы на бедных и создают новые возможности для богатых… навечно закрепляют законы собственности и неравенства, ловко преобразуя узурпацию в неотъемлемое право, и обрекают ради выгоды горстки честолюбцев весь остальной человеческий род на нескончаемый тяжкий труд, рабство и нищету». Это слова не Маркса, а Жан-Жака Руссо из его «Рассуждений о начале и основании неравенства между людьми». Так что в своей трактовке взаимосвязи между властными полномочиями государства и классовыми привилегиями Маркс не был одиноким чудаком. Верно и то, что он не всегда придерживался таких взглядов. Будучи в молодости приверженцем Гегеля, он рассуждал о государстве в несравненно более позитивном ключе. Правда, это было до того, как он стал марксистом. Впрочем, даже став марксистом, он настаивал, что не является таковым.
Те, кто говорит о гармонии и согласии, должны остерегаться того, что можно назвать взглядом на жизнь промышленного капеллана. Общий смысл этой идей в том, что есть алчные хозяева, с одной стороны, и враждебные им рабочие — с другой, а посередине как совершенное воплощение разума, беспристрастности и умеренности располагается безупречно порядочный, обходительный, либерально мыслящий капеллан, который самоотверженно пытается свести две враждующие партии воедино. Но почему позиция находящегося посередине всегда должна быть наиболее разумной? Почему мы склонны считать себя находящимися посередине, а других людей — впадающими в крайности? Не говоря уже о том, что обычное и умеренное для одного человека может оказаться экстремальным для другого. Люди редко доходят до того, чтобы называть себя фанатиками (разве что «фанами»), равно как мало кто бывает готов сказать сам о себе «прыщ на ровном месте». Так возьмется ли кто-нибудь примирять рабов с рабовладельцами или убеждать туземные народы исключительно сдержанно жаловаться на тех, кто задумал их истребить? Где находится промежуточная позиция между расизмом и антирасизмом?
Если Маркс не уделял особого внимания государству и считал его исторически обреченным, то отчасти потому, что рассматривал его как форму отчужденной власти. Это выглядит так, будто некое высшее существо отбирает у людей их способность самостоятельно распоряжаться своей жизнью и начинает делать это от их имени. Да еще к тому же имеет наглость называть этот процесс демократией. Сам Маркс начинал свой жизненный путь как радикальный демократ, а закончил его как демократ революционный, ибо понял, насколько значительные изменения могло бы повлечь за собой осуществление подлинной демократии; и именно в качестве демократа он выступал против чрезмерных полномочий государства. Он был также искренним сторонником народного суверенитета, пусть бы даже пока приходилось довольствоваться лишь его бледной тенью, называемой парламентарной демократией. Он, как и впоследствии Ленин, не был принципиальным противником парламентов. Но при этом он рассматривал демократию как слишком большую ценность, чтобы доверять ее одним парламентам. Она должна быть повсеместной, народной и распространяющейся на все институты гражданского общества. Она должна охватывать экономическую жизнь наравне с политической. Она должна означать действительное самоуправление, а не власть уполномоченной политической верхушки. Маркс признавал государство, которое было бы средством управления граждан самими собой, а не меньшинства — большинством.
Государство, по мнению Маркса, возникает из гражданского общества. Тем не менее между этими двумя образованиями существует очевидное противоречие. Например, мы можем быть абстрактно равными как граждане одного государства, но категорически неравными в своих повседневных общественных взаимодействиях. Тогда общественное бытие будет регулярно взрываться конфликтами, но государство все равно может, по крайней мере внешне, выглядеть как нерушимое целое. Государство воспринимает себя как силу, формирующую общество сверху, хотя на самом деле оно является продуктом последнего. Не общество возникает из государства, а наоборот, государство существует за счет общества, а нередко и откровенно паразитирует на нем. Вся исходная целостность пошла кувырком. Как отмечает один автор: «Демократия и капитализм были перевернуты вверх дном», имея в виду, что вместо регулирования капитализма политическими институтами капитализм регулирует их. Этим автором является Роберт Райх, бывший министр труда США, которого никто никогда не подозревал в сочувствии марксизму. Целью Маркса было устранить этот разрыв между государством и обществом, политикой и повседневной жизнью, за счет растворения первого во втором. Это и было то, что он называл демократией. Люди должны вернуть себе и использовать в своих ежедневных делах полномочия, отобранные у них государством. Социализм — это воплощение демократии, а не ее отрицание. Остается только удивляться тому, что столь многие защитники демократии умудряются находить в этой точке зрения поводы для возражений.
Для марксистов общим местом является то, что реальная власть сегодня принадлежит банкам, корпорациям и финансовым учреждениям, чьи директора никогда никем не избирались, но чьи решения могут влиять на судьбы миллионов. В общем, политическая власть являет собой послушную служанку господ мира. Время от времени правительства могут им выговаривать или даже слегка отшлепать за их антиобщественный образ действий, но если бы они попытались выставить своих истинных хозяев из их бизнеса, то столкнулись бы с более чем реальной угрозой быть упрятанными в тюрьму своими собственными охранными силами. Самое большее, на что может надеяться государство, это минимизация некоторых видов ущерба, причиняемого людям существующей системой. Оно занимается этим отчасти из гуманистических соображений, а отчасти для поддержания угасающего доверия к системе. За таким порядком закрепилось название социальной демократии. К сказанному остается добавить, что тот факт, что политика — в общем виде — определяется экономикой, в свою очередь, обуславливает то, что известная нам форма государства не может быть напрямую использована для социалистических целей. В работе «Гражданская война во Франции» Маркс писал, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить ее в ход для своих собственных целей. Потому что эта машина насквозь пронизана существующим порядком. Такая худосочная и удручающе бессильная форма демократии подходит лишь антидемократическим интересам, которые нынче правят бал.
Для Маркса базовой моделью народного самоуправления была Парижская коммуна 1871 года, когда на несколько бурных месяцев наемные рабочие французского капитала взяли на себя распоряжение собственной судьбой. Коммуна, как описывает Маркс в «Гражданской войне во Франции», была сформирована из городских гласных, в основном рабочих, которые были выбраны по округам Парижа всеобщим голосованием и могли быть отозваны своими избирателями в любое время.
Общественные должности исполнялись за зарплату рабочего, постоянная армия была упразднена, а полиция превращена в ответственный орган Коммуны. Функции, ранее выполнявшиеся французским государством, вместо него взяли на себя коммунары. Священники были устранены из общественной жизни, а учебные заведения стали бесплатными для народа и свободными от влияния как церкви, так и государства. Судьи, магистраты и другие должностные лица общества должны были стать избираемыми, ответственными и сменяемыми по требованию своих избирателей. Коммуна также предполагала устранить частную собственность, передав производственные предприятия (в первую очередь оставленные их бежавшими владельцами) в руки кооперативных товариществ.
«Вместо того чтобы один раз в три или шесть лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять народ в парламенте, — писал Маркс, — всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны». Коммуна, продолжает он «была, по сути дела, правительством рабочего класса… она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда»[96]. Хотя в анализе этой трагически завершившейся попытки он, безусловно, сохранял свой обычный критический подход (в частности, он подчеркивал, что большинство коммунаров не были социалистами), в опыте Коммуны Маркс нашел многие из элементов социалистической политики. И этот сценарий дал свои плоды именно в практической деятельности рабочего класса, а не в набросках некоей группы плановиков-теоретиков. В общем, центральный момент состоит в том, что государство должно перестать быть отчужденной властью и вместо этого обрести форму народного самоуправления.
То, что совершалось в эти несколько месяцев в Париже, Маркс определил как «диктатура пролетариата». Мало какие из его хорошо известных изречений в большей степени леденили кровь у его критиков. Тем не менее то, что подразумевается под этим зловещим термином, было не чем иным, как народной демократией. Диктатура пролетариата означает просто правление большинства. Во всяком случае, во времена Маркса слово «диктатура» совершенно необязательно подразумевало все те проявления, которые связываются с ним сегодня. Оно означает непредусмотренное законом отступление от конституционного порядка государства. Постоянный политический оппонент Маркса Огюст Бланки, человек, отличавшийся тем, что оказывался в тюрьме при каждом очередном французском правительстве с 1815 по 1880 год, ввел словосочетание «диктатура пролетариата» для обозначения правления в интересах простых людей; у Маркса же оно используется для обозначения власти самих этих людей. Бланки был избран членом Парижской коммуны, но это выдвижение так и осталось чисто номинальным. Как обычно, он в это время находился в тюрьме.
Порой Маркс писал о государстве так, будто оно является просто инструментом, прямо служащим правящему классу. Однако, касаясь этого предмета по ходу своих исторических экскурсов, он обычно находит в нем гораздо больше нюансов.
Задача политических государственных структур не сводится лишь к обслуживанию ближайших интересов господствующего класса. Оно должно также принимать меры к сохранению единства общества. И хотя в конечном счете эти две цели полностью согласуются между собой, в ближайшей или среднесрочной перспективе они могут резко противоречить друг другу. Кроме того, при капитализме государство может быть более независимо от классовых отношений, нежели, скажем, при феодализме. Феодальный лорд является как политической, так и экономической фигурой, тогда как в капиталистической реальности эти функции обычно разделены. Ваши представители в парламенте, как правило, не являются вашими работодателями. И это означает, что впечатление, будто капиталистическое государство возвышается над классовыми отношениями, это не только впечатление. То, насколько высока будет независимость государства от материальных интересов, зависит от изменения исторических условий. Маркс, в частности, указывал, что в так называемом азиатском способе производства, связанном с проведением огромных объемов ирригационных работ, обеспечивать которые может только государство, последнее действительно становится ведущей общественной силой. Так называемые вульгарные марксисты склонны смотреть на взаимодействие государства и экономически господствующего класса как на отношения в формате «один на один», и в ряде случаев это действительно так и бывает. Порой класс собственников напрямую распоряжается государством. В частности, такой была ситуация при Джордже Буше и его собратьях по нефти. Иначе говоря, одним из наиболее примечательных достижений Буша стало то, что вульгарные марксисты оказались правы. Вообще складывается впечатление, что он упорно стремился к тому, чтобы выставить капиталистическую систему в возможно более худшем свете; другой вызывающий изумление факт касается так и оставшегося без четкого ответа вопроса о наличии либо отсутствии секретных разработок для Северной Кореи.
Тем не менее обсуждаемые отношения обычно выглядят гораздо сложнее, чем это могла представить себе администрация Буша. (Собственно говоря, почти все в человеческом бытии является более сложным, чем это обычно предполагают.) Например, бывают периоды, когда один класс правит от имени другого. В Англии XIX века, как подчеркивал сам Маркс, аристократия из партии вигов еще оставалась правящим политически классом, в то время как в экономике все более доминирующими становились позиции промышленного среднего класса; и в итоге первый в общем и целом представлял интересы последнего. Маркс также показал, что Луи Бонапарт правил Францией в интересах финансового капитала, при этом подавая себя как представителя мелкого крестьянства. Сходным образом и нацисты фактически управляли в интересах крупного капитала, но делали это с помощью идеологии, ориентированной прежде всего на низшие слои среднего класса. Тем самым они получали возможность метать против паразитов из аристократической знати и праздных богачей громы и молнии такого вида, что политически неискушенная аудитория вполне могла принять за подлинно радикальную силу. Впрочем, в данном случае заблуждение политической наивности не было абсолютным. Фашизм действительно есть форма радикализма. В нем нет места либеральной цивилизации среднего класса. Просто он является радикализмом скорее правого толка, нежели левого.
В отличие от огромного большинства либералов власть как таковая не вызывала у Маркса раздражения. Интересам не обладающих властью вряд ли помогут рассуждения о том, что всякая власть есть зло, и менее всего в исполнении тех, кто уже прибрал к рукам немало этого «хлама». Те, для кого слово «власть» всегда звучит с уничижительным оттенком, поистине счастливые люди. Власть, служащую человеческому освобождению, нельзя путать с тиранией. Лозунг «Власть черным!» является гораздо менее жалким, нежели причитание «Долой власть!». Вместе с тем мы должны понимать, что подлинно освободительной может стать лишь та власть, которая направлена на преобразование не только существующего политического устройства, но и самого смысла власти. Социализм отнюдь не сводится к замене одного состава правителей на другой. Говоря о Парижской коммуне, Маркс отмечал, что «она не была революцией, чтобы передать государственную власть от одной фракции правящего класса другой, но революцией, чтобы разбить саму эту уродливую машину классового господства (sic)»[97].
Социализм предполагает изменение самого принципа организации центральной власти. То, что означает слово «власть» в Лондоне в наши дни, имеет мало сходства с тем, что значило оно в Париже в 1871 году. Наиболее плодотворной формой власти является власть над самим собой, а демократия означает коллективное проявление данной способности. Именно Просвещение со всей определенностью заявило о том, что подчинения заслуживает лишь та форма власти, которую вы создали сами. Такое самоопределение как раз и составляет наиболее драгоценное содержание свободы. И хотя человеческие существа могут злоупотреблять своей свободой, без нее они не будут полноценными людьми. Время от времени им приходится что-то решать в спешке или без должного обдумывания, и такие решения опытный автократ вполне мог бы отклонить или пересмотреть. Однако если итоговые решения не будут (хотя бы отчасти) их решениями, то, сколь бы прозорливыми они ни были, люди скорее всего будут воспринимать такие указания как нечто выхолощенное и чуждое по отношению к самим себе.
Итак, при переходе из капиталистического настоящего в социалистическое будущее власть продолжит существовать, но не в той же самой форме. Революционному преобразованию подвергается сама идея власти. Это же можно сказать и о государстве. В определенном смысле понятие «государство» и словосочетание «государственный социализм» есть такое же противоречие в определении, как «эпистемологическая теория Тайгера Вудса». Тем не менее в другом смысле термин сохраняет определенную силу. Для Маркса при социализме государство еще продолжает существовать; только по завершении социалистического этапа, при коммунизме принуждающее государство уступает место координирующему органу. Но это будет не то государство, которое мы сами смогли бы легко признать за таковое. Это как если бы кто-то из нас, ожидающих увидеть нечто гораздо более грандиозное и монументальное — к примеру, нечто вроде Вестминстера, Уайтхолла и таинственно-загадочного принца Эндрю, — вдруг оказался бы внутри децентрализованной сети самоуправляемых сообществ, гибко регулируемых демократически избранной центральной администрацией, и заявил: «И это государство!»
Часть споров Маркса с анархистами разворачивалась вокруг вопроса о том, насколько велико воздействие на ту или иную конкретную ситуацию и жизнь общества в целом. Не является ли она конечной причиной происходящего? Уж точно не с точки зрения Маркса. Для него политическую власть следует рассматривать в более широком историческом контексте. Надо постараться понять, каким материальным интересам она служит, и именно в этом, по его мнению, будут лежать корни ее устройства, состава и практических шагов. Если он критически относился к консерваторам, идеализировавшим государство, то точно также для него была неприемлемой позиция анархистов, переоценивавших его значение. Маркс всегда выступал против «овеществления» власти, ее отделения от социальной среды и рассмотрения как вещи в себе. И это, несомненно, одна из сильных сторон его наследия. Тем не менее, даже будучи зачастую сильнейшей, она сопровождается определенным «слепым пятном». Впрочем, те аспекты власти, которые оставил без внимания Маркс, поразительно отличающимися способами исследовали его соотечественники Ницше и Фрейд. Власть не может быть вещью в себе, однако внутри ее есть те, кому возможность распоряжаться другими сама по себе доставляет удовольствие. Соответственно такие персонажи могут поигрывать властными мускулами, не имея в виду какой-то конкретной цели, а просто ради демонстрации собственного превосходства, и потому всегда выходят за рамки тех практических задач, для решения которых изначально формируется система власти. Достаточно четко представлял себе это и Шекспир, описывая в пьесе «Буря» взаимоотношения между Просперо и Ариэлем. Ариэль является послушным проводником власти Просперо, но при этом постоянно стремится вырваться из-под ее верховенства и просто заниматься своими делами. Следуя духу озорства и противоречия, он хочет просто наслаждаться своей чудесной силой как целью для самой себя, никак не связывая ее со стратегическими планами своего господина. Так что, рассматривая власть просто как средство, очень легко упустить из виду эту ее губительную особенность; а поступая так, можно прийти к ошибочной трактовке вопроса, почему власть до такой степени нацелена на принуждение и подавление.
Глава 10
Все заслуживающие внимания радикальные движения последних четырех десятилетий возникали за пределами марксизма. Феминистки, защитники окружающей среды, борцы за равноправие сексуальных и этнических меньшинств, за права животных, антиглобалисты, активисты движения за мир — вот кто приходит на смену старомодному увлечению классовой борьбой и в настоящее время представляет новые формы общественно-политической деятельности, участники которых уже основательно подзабыли марксизм. Его вклад в их становление был незначительным и мало вдохновляющим. Правда, пока еще остаются политические левые, но это можно считать естественной инерцией постклассового, постиндустриального мира.
Одно из наиболее активно развивающихся новых политических течений известно под именем антикапиталистического движения, так что здесь трудно усмотреть хоть сколько-нибудь решительный разрыв с марксизмом. И при всей критичности, демонстрируемой подчас данным движением в отношении идей марксистов, сдвиг от марксизма к антикапитализму едва ли можно признать громадным. На самом деле, контакты марксизма с другими радикальными направлениями служили преимущественно укреплению его репутации. Возьмем, к примеру, его отношения с женским движением, которые, бесспорно, подчас оказывались весьма непростыми. Некоторые марксисты-мужчины с пренебрежением отметали вообще всю связанную с полами проблематику либо пытались использовать феминистскую деятельность в собственных целях. Это вполне укладывалось в марксистскую традицию, которая в лучшем случае характеризуется снисходительной гендерной слепотой, а в худшем — обнаруживает отвратительные пережитки патриархата. Тем не менее, несмотря на своекорыстные предвкушения некоторых феминистских сепаратистов в 1970-1980-х годах, история на этом далеко не закончилась. Многие марксисты-мужчины терпеливо учились у феминизма как в личном, так и политическом плане. А марксизм, в свою очередь, внес большой вклад в феминистскую идеологию и практику.
Несколько десятилетий назад, когда марксистско-феминистский диалог развивался наиболее активно, был разобран весь круг наиболее существенных вопросов[98]. Какова была позиция марксистов по поводу домашнего труда, на который сам Маркс практически не обращал внимания? Являются ли женщины одной из форм общественного класса в марксистском смысле? Что может теория, занимающаяся главным образом промышленным производством, сказать об охране детства, потреблении, половых вопросах, семье? Сохранит ли семья свое центральное положение в капиталистическом обществе или капитал может начать сгонять людей в общие казармы, если, посчитав это более прибыльным, озаботится такой целью? (В коммунистическом манифесте буржуазной семье дается поистине уничтожающая характеристика; ситуация, которую любвеобильный Фридрих Энгельс, всегда стремившийся к диалектическому соединению теории и практики, усердно исследовал в своей частной жизни.) Возможно ли освобождение женщин без низвержения классового общества? Как соотносятся капитализм и патриархат, принимая во внимание, что последний гораздо древнее первого? Некоторые марксисты-феминисты придерживаются мнения, что с угнетением женщин можно покончить только вместе с падением капитализма. Другие, что, возможно, более правдоподобно, утверждают, что капитализм может освободиться от данного вида угнетения, в остальном пока еще продолжая существовать. С этой точки зрения, в природе капитализма нет ничего, что требовало бы непременного порабощения женщин. Однако на практике две истории, соответственно патриархата и классового общества, столь тесно переплелись между собой, что становится весьма трудно представить себе падение одного без грандиозной ударной волны, прокатывающейся через другое.
Многие из работ Маркса являются гендерно-слепыми, хотя это, по крайней мере в некоторых аспектах, может быть объяснено тем, что сам капитализм является слишком громадным предметом. Выше мы уже отмечали, что, когда дело доходит до вопроса, кого капиталистическая система может эксплуатировать или кому можно сбыть произведенные ею товары, она оказывается относительно безразличной к полу, национальности, социальному происхождению и т. д. И все же если у Маркса рабочие преимущественно мужчины, то это связано с тем, что сам он был приверженцем патриархата в традиционном викторианском духе, а не с природой капитализма. Но при всем при том он рассматривал половые репродуктивные отношения как первостепенные по своей важности, а в «Немецкой идеологии» даже утверждал, что семья вначале была единственным общественным отношением. Когда это касается производства жизни — «как собственной, посредством труда, так и чужой, посредством деторождения», — два глобальных исторических процесса сексуального и материального производства, без любого из которых человеческая история очень скоро сошла бы на нет, у Маркса тесно переплетаются. Из всего, что создают мужчины и женщины, самым выдающимся творением являются другие мужчины и женщины. Создавая их, они производят рабочую силу, которая необходима любой общественной системе для поддержания своего существования. Как сексуальное, так и материальное воспроизводство имеют каждое свою особую историю, их невозможно соединить в одно; однако оба они являются полем для застарелой борьбы и несправедливости, так что в деле политического освобождения интересы их жертв также сходятся.
Энгельс, проявлявший солидарность с пролетариатом не только в политической, но и в сексуальной сфере, и выбравший свою возлюбленную из рабочего класса, считал освобождение женщин неотделимым от ликвидации классового общества. (А поскольку его возлюбленная была к тому же ирландкой, то он деликатно добавлял в их отношения антиколониальное измерение.) Его работа «Происхождение семьи, частной собственности и государства» представляет собой яркий пример социальной антропологии, со множеством изъянов, но исполненный добрых стремлений, в котором угнетение женщин рассматривается как «первое классовое угнетение», хотя вместе с тем никоим образом не подвергается сомнению общепринятое разделение труда между полами. В свою очередь, большевики воспринимали так называемый женский вопрос весьма серьезно: начало восстанию, сбросившему царя в 1917 году, положили массовые демонстрации, посвященные международному женскому дню. Первыми же своими шагами во власти партия показала, сколь важным является для нее равенство женщин, в частности учредив Международный женский секретариат. Был также созван Первый Международный конгресс женщин-работниц, на который прибыли делегаты из двадцати стран, выступившие с обращением «К женщинам — работницам мира», в котором задачи коммунизма и освобождения женщин рассматривались как тесно связанные между собой.
«Вплоть до возрождения женского движения в 1960-х, — пишет Роберт Дж. К. Янг, — довольно странно было видеть, что теми, кто рассматривал проблемы женского равенства как важные составные элементы других форм политического освобождения, оказывались исключительно мужчины из социалистического или коммунистического лагерей»[99]. В начале XX столетия коммунистическое движение было единственным, в рамках которого, наряду с вопросами национализма и колониализма, систематически поднимались и обсуждались также гендерные проблемы. «Коммунизм, — продолжает Янг, — был первой и единственной политической программой, признавшей наличие взаимосвязи между всеми этими формами подавления и эксплуатации (классовой, гендерной и колониальной) и необходимость устранения их всех как фундаментальной основы для успешного выполнения задачи освобождения каждого»[100]. Большинство так называемых социалистических стран смогли добиться существенного прогресса в области прав женщин, поскольку многие из них воспринимали «женский вопрос» со всей серьезностью задолго до того, как на Западе начали уделять данной проблематике хоть какое-то внимание. Когда дело доходит до вопросов пола или сексуальности, реальная история коммунизма обнаруживает серьезные ошибки и упущения; но тем не менее остается в силе, что, как указывает Мишель Баррет, «помимо феминистской теории, нет никакой другой традиции критического анализа угнетения женщин, которую можно было бы сравнить с тем пристальным вниманием, которое уделял этому вопросу тот или иной марксистский мыслитель[101]».
Если марксизм всегда твердо выступал за права женщин, то не менее активной была его защита мировых антиколониальных движений. Фактически на протяжении первой половины XX столетия он был их главным идейным вдохновителем. Таким образом, марксисты находятся в авангарде трех основных политических противостояний нашего времени — сопротивления колониализму, освобождения женщин и борьбы против фашизма. Для большинства великих теоретиков первой волны антиколониальных войн марксизм стал незаменимой стартовой площадкой. В 1920-х и 1930-х годах те, кто закладывал основы пропаганды расового равенства, практически все были коммунистами. После Второй мировой войны большинство африканских националистических лидеров, начиная с Нкрумы и Фанона, придерживались той или иной разновидности марксизма или социализма. Большинство коммунистических партий в Азии включают национализм в свои программы. Как пишет Жюль Тауншен до ситуации 1960-х годов:
«В то время как в развитых капиталистических странах, за исключением, безусловно, Франции и Италии, рабочий класс выглядел относительно бездеятельным, в Азии Африке и Латинской Америке крестьянство совместно с интеллигенцией совершало революции или создавало страны, называвшие себя социалистическими. Из Азии доносились веяния маоистской культурной революции 1966 года в Китае и отпора хошиминовского Вьетконга американцам во Вьетнаме; из Африки — социалистические и освободительные идеи Ньерере из Танзании, Нкрумы из Ганы, Кабрала из Гвинеи-Бисау и Франца Фанона из Алжира; из Латинской Америки — прорыв Кубинской революции Фиделя Кастро и Че Гевары»[102].
От Малайзии до Карибского бассейна и от Ирландии до Алжира революционный национализм опирался на марксизм, чтобы осмыслить самого себя. В то же время марксизм старается предложить освободительным движениям третьего мира нечто гораздо более конструктивное, нежели замена власти класса чужестранных капиталистов на правление доморощенных. В своем видении ситуации он также выходит за рамки фетиша нации и обращается к более широким интернационалистским горизонтам. Если марксисты поддерживают национально-освободительные движения в так называемом третьем мире, то именно в силу своей убежденности в том, что в перспективе такие движения должны стать интернационально-социалистическими, а не оставаться буржуазно-националистическими. По большей части эти призывы пропускаются мимо ушей.
Придя к власти, большевики провозгласили право на самоопределение для колониальных народов. Мировое коммунистическое движение прилагало огромные усилия, чтобы перевести это пожелание в практическую плоскость. Ленин, несмотря на его критическое отношение к национализму, был первым крупным политическим теоретиком, по достоинству оценившим значение национальных освободительных движений. Он также настаивал — в противовес романтическому национализму, — что подлинное национальное освобождение может быть связано только с радикальной демократией, но не шовинистическими настроениями. Таким образом, в необычайно острой и наполненной столкновениями самых разных сил ситуации марксизм выступал одновременно как сторонник антиколониализма и критик националистической идеологии. Как отмечает Кевин Андерсон, «за три десятилетия до завоевания Индией своей независимости и более чем за четыре десятилетия до того, как в начале 1960-х годов выходят на первый план африканские освободительные движения, [Ленин] уже теоретически предсказал превращение антиимпериалистичеких национальных движений в ведущий фактор глобальной политики[103]». В решениях Второго конгресса Коммунистического Интернационала (1920), принимавшихся при непосредственном участии Ленина, в частности, говорится: «Необходима прямая помощь всех коммунистических партий революционным движениям в зависимых или неравноправных нациях (например, в Ирландии, среди негров Америки и т. п.) и в колониях[104]». Он выступал резко против того, что он называл «великорусским шовинизмом» внутри советской коммунистической партии; впрочем, такая позиция не удержала его от одобрения фактической аннексии Украины, а позднее от силового поглощения Грузии. Некоторые другие большевики, включая Троцкого и Розу Люксембург, демонстрировали жесткую враждебность по отношению к национализму.
Позиция самого Маркса по поводу антиколониальной политики была несколько менее цельной. На начальных этапах своей деятельности он был склонен поддерживать борьбу против колониальных властей лишь в тех случаях, когда она выглядела способной приблизить к главной цели — социалистической революции. Определенные национальности, как он оскорбительно утверждал, являются «не-историческими» и обречены на исчезновение. Одним широким евроцентристским жестом чехи, словенцы, далматинцы, румыны, хорваты, сербы, моравцы, украинцы и другие были бесцеремонно сметены в урну с прахом истории. В определенный момент Энгельс пылко высказывался в поддержку колонизации Алжира и североамериканского завоевания Мексики, а сам Маркс в своих рассуждениях о Симоне Боливаре демонстрировал едва ли не пренебрежение к этому великому освободителю Латинской Америки. Индия, по его мнению, не могла бы иметь заслуживающей внимания собственной истории, а ее покорение британцами, независимо от их намерений, заложило основы для социалистической революции на этом субконтиненте. Но это не тот формат ответа, который позволит получить высший балл за курс постколониализма на пространстве от Кентербери до Калифорнии.
Если Маркс мог высказываться о колониализме в позитивном ключе, то не потому, что он одобрял намерения одной нации подмять под себя другую. Это объяснялось тем, что он рассматривал такое угнетение — подлое и унизительное, по его собственной оценке, — тесно связанным с ускоренным переводом «неразвитого» мира в современное капиталистическое состояние. А это, в свою очередь, расценивалось им не только как привнесение в этот мир определенных преимуществ, но прежде всего как подготовка путей перехода к социализму. Выше мы уже обсуждали за и против такой «телеологической» позиции.
Идея, что в колониализме могли присутствовать и свои прогрессивные аспекты, скорее всего была костью в горле для большинства постколониальных авторов Запада, ужасающихся самой мысли о том, будто они, признав этакую неполиткорректность, могут открыть лазейку для расизма и этноцентризма. Несмотря на это, скажем, индийскими и ирландскими историками подобного рода идеи воспринимаются как нечто само собой разумеющееся[105]. Да и как могло столь масштабное и сложное явление, как колониализм, охватившее многие регионы и не одно столетие, не произвести хоть какого-нибудь позитивного эффекта? В XIX веке британское правление принесло Ирландии голод, насилие, нищету, национальное унижение и религиозное подавление. Но оно также принесло с собой многое в области грамотности, языка, образования, ограниченной демократии, технологии, средств сообщения и гражданских институтов, что позволило национальному движению организоваться и в конце концов захватить власть. Так что все это были вещи, представлявшие ценность как сами по себе, так и с точки зрения продвижения важного политического процесса.
В то время как значительное число ирландцев стремилось интегрироваться в более развитую реальность посредством изучения английского языка, некоторые идеалистически настроенные представители высшего класса Ирландии высокомерно пытались добиться, чтобы их соотечественники разговаривали только на родном наречии. А сегодня мы обнаруживаем сходное предубеждение у некоторых постколониальных авторов, на которых капиталистическая современность должна производить впечатление совершеннейшей катастрофы. Хотя это мнение не разделяют многие жители постколониальных стран, за чьи интересы вроде бы борются упомянутые авторы. Разумеется, для Ирландии было бы предпочтительнее прийти к демократии (и в конечном счете к процветанию) каким-нибудь менее травматичным путем. Ирландия никогда не должна быть низведенной до положения, когда в ней видели прежде всего объект колонизации. Но раз уж это случилось, то оказывается возможным извлечь из таковых печальных обстоятельств и нечто полезное.
Итак, Маркс мог усматривать в колониализме некоторые прогрессивные тенденции. Но это не мешало ему осуждать «варварство» колониальных властей в Индии или где бы то ни было или приветствовать мощное индийское восстание 1857 года. Он особо отмечал, что упоминавшиеся жестокости повстанцев были лишь ответной реакцией на собственное хищническое поведение британцев в стране. Британский империализм в Индии, бесконечно далекий от налаживания мягких цивилизационных процессов, был «безудержно кровавым процессом»[106]. Индия вскрыла «абсолютное лицемерие и неизбывное варварство буржуазной цивилизации», которая «напускает на себя респектабельный вид дома, но сразу же обнаруживает свою неприглядность, как только оказывается за его пределами»[107]. Как утверждает Аяз Ахмад, в вопросе о независимости Индии ни один из влиятельных индийских реформаторов XIX века не занимал столь же четкой позиции, как Маркс[108].
Со временем Маркс отказался от своей более ранней оценки завоевания Мексики, точно так же как сделал это Энгельс в отношении захвата Францией Алжира. Последнее, что вскоре обнаружилось со всей страшной очевидностью, не привело ни к чему, кроме кровопролития, грабежей, насилия и «бесстыдного притеснения» поселенцами «худородных» местных жителей. И это убедило Энгельса, что только революционное движение могло бы исправить положение. Маркс поддерживал современное ему национальное освободительное движение в Китае против тех, кого он презрительно называл колониальными «разносчиками цивилизации». Иначе говоря, он внес серьезные исправления в свой первоначальный шовинизм, выступая в поддержку освободительной борьбы колонизированных народов независимо от того, относятся они к «не-историческим» или нет. Будучи уверен в том, что любая нация, которая угнетает другую, кует цепи самой себе, он рассматривал обретение Ирландией независимости как предпосылку для социалистической революции в Англии. Конфликт рабочего класса с его хозяевами, пишет он в коммунистическом манифесте, сначала принимает форму национальной борьбы.
Принцип неотделимости проблем культуры, пола, языка, чужеродности, несходства, личной идентификации и этнической принадлежности от вопросов государственной власти, материального неравенства, эксплуатации труда, империалистического грабежа, массового политического противостояния и революционных преобразований находит полное соответствие реалиям настоящего времени. Так что если все же попытаться для чистоты анализа вычесть из первых вторые, то в итоге получится нечто весьма похожее на сегодняшнюю постколониальную теорию. Весьма распространено не самое глубокомысленное представление, что где-то в конце 1970-х годов окончательно дискредитированный марксизм сдал свои позиции перед лицом политически более убедительного постколониализма. По сути, это заставляет вспомнить о том, что философы называют ошибкой категории, поскольку больше напоминает попытку сравнить соню орешниковую с идеей супружества. Марксизм — это массовое политическое движение, охватывающее континенты и века, мировоззрение, за которое очень многие люди борются и порой умирают. Постколониализм же — скорее определенный и именно абстрактно-академический стиль изложения, который почти не звучит за пределами пяти сотен университетов и порой оказывается для среднего западного человека столь же невразумительным, как и один из наиболее значительных языков Африканского континента — суахили.
Как теория, постколониализм стал реакцией на обстановку, сложившуюся в конце XX века, в период, когда сражения за национальное освобождение более-менее достигли своей цели. Признанная для него основополагающей книга Эдварда Саида «Ориентализм» увидела свет в середине 1970-х, как раз в то время, когда очередной серьезный кризис капитализма возродил на Западе революционный дух. В этом контексте тот факт, что работа Саида была откровенно антимарксистской, видимо, сыграл свою роль. Постколониализм, хотя и сохраняет известную связь с революционным наследием, по сути, представляет собой замену его на нечто совсем иное. Это и есть рассуждения, пригодные для постреволюционного мира. На своих вершинах постколониализм предлагает читателю труды замечательной прозорливости и оригинальности, а вот в своих наименее достойных внимания образцах он выступает как международный департамент постмодернизма, но не более того.
Так что ситуация отнюдь не выглядит так, будто для класса пришло время уступить место половой, этнической или личностной идентификации. Конфликт между транснациональными корпорациями и рабочими — низкооплачиваемыми, «туземными» и зачастую женщинами — из южных регионов мира есть классовый вопрос в строгом марксистском смысле данного термина. И это не означает, что фокус внимания теряет свою былую «евроцентрическую» привязку к, скажем, шахтерам или текстильщикам Запада и смещается на периферийные области. Класс всегда был интернациональным явлением. Маркс склонен был считать, что рабочий класс — это те, кто не имеет отечества, ибо их действительной родиной является капитализм. В определенном смысле глобализация — это устаревшая новость, в чем убеждаешься сразу же, как открываешь «Коммунистический манифест». Женщины всегда составляли значительную часть рабочей силы, а расовое угнетение всегда было трудно отделить от экономической эксплуатации. Так называемые новые социальные движения по большей части вообще не являются новыми. А мнение, будто они «приходят на смену» классово одержимому, антиплюралистическому марксизму, упускает из виду тот факт, что в течение значительного времени все эти движения и марксизм работали в плодотворном контакте.
Постмодернисты порой обвиняют марксизм в евроцентризме и попытках внедрить свои белые, рационалистические западные ценности в существенно отличающихся друг от друга регионах планеты. Маркс, судя по его горячей заинтересованности в политическом освобождении, несомненно был евроцентристом. Освободительные традиции в области мысли отличают историю Европы в той же мере, как и порабощающая практика. Европа стала родиной как демократии, так и лагерей смерти. Если в ее прошлое входит геноцид в Конго, то точно так же в нем действовали парижские коммунары и борцы за всеобщее избирательное право. За ней стоят социализм и фашизм, Софокл и Арнольд Шварценеггер, гражданские права и межконтинентальные ракеты, наследие феминизма и воспоминания о голоде. Равным образом и другие части света отмечены смешением опытов просвещения и угнетения. Только те, кто в своем неизбывном простодушии рассматривают Европу как абсолютный негатив, а постколониальные «берега» — как нечто исключительно позитивное, могут не замечать данного факта. Некоторые из них даже называют себя плюралистами. Причем большинство из этих людей составляют пораженные комплексом вины европейцы, а вовсе не озлобленные против всего европейского жители постколониальных стран. Тем не менее их чувство вины редко охватывает собою расизм, неявно проступающий в их презрении к Европе как таковой.
Не подлежит сомнению, что социальные условия, в которых находился Маркс, накладывали свои ограничения на его работу. И действительно, если его собственное учение верно, то иначе и быть не могло. Он был европейским интеллектуалом из среднего класса. Вот только отнюдь не многие европейские интеллектуалы из среднего класса призывали с свержению империй и освобождению фабричных рабочих. Правду сказать, не делали этого и многие колониальные интеллектуалы. Плюс к тому, знакомясь со взглядами славной когорты антиколониальных лидеров — от Джеймса Конноли до С. Л. Р. Джеймса, перенимавших идеи Маркса, очень трудно отделаться от ощущения, что все они оказались введенными в заблуждение жертвами западного просвещения. Та мощная кампания за свободу, разум и прогресс, что пробивалась из самого сердца европейского среднего класса XVIII века, представляла собой не только притягательное освобождение от тирании, но и утонченную форму деспотизма; и именно Маркс больше, чем кто-либо другой, постарался для раскрытия перед нами этого противоречия.
Он поддерживал великие буржуазные идеалы свободы, разума и прогресса, но вместе с тем хотел понять, почему при всякой попытке внедрения в практику они обнаруживают свойство изменять самим себе. Таким образом, он стал критиком просвещения, но, как и все наиболее эффективные формы критики, его критика шла изнутри. Он был одновременно его твердым сторонником и безжалостным противником.
Те, кто добивается политического освобождения, не могут позволить себе быть слишком разборчивыми в отношении тех, кто протягивает им руку. Фидель Кастро не стал отворачиваться от социалистической революции из-за того, что Маркс был немецким буржуа. Азиатских и африканских радикалов ничуть не беспокоил тот факт, что Троцкий был русским евреем. Обычно как раз либералов из среднего класса преследуют переживания по поводу их «снисхождения» к рабочим людям, скажем, при чтении последним лекции о мультикультурализме или Уильяме Моррисе. Тогда как сами рабочие люди, как правило, совершенно не подвержены подобным привилегированным неврозам и бывают рады получить любую политическую поддержку, лишь бы она могла оказаться полезной. Подобным образом происходило это и с теми жителями колониального мира, кто впервые узнавал о политической свободе от Маркса. Маркс действительно был европейцем, но именно Азия стала тем регионом, где его идеи впервые прочно укоренились, а в так называемом третьем мире они демонстрируют наиболее энергичный рост. Большинство так называемых марксистских обществ не были европейскими. И с социальными теориями никогда не бывает, чтобы большие массы людей их просто усваивали, а затем воспроизводили; в реальном процессе они всегда активно видоизменяются и переделываются. По большей части такой была и история марксистского антиколониализма.
Критики Маркса подчас обращают внимание на так называемые прометеевские интонации в его трудах, подразумевая под этим его веру в верховенство человека над природой, а также в безграничный человеческий прогресс. И такие мотивы действительно отчетливо звучат во многих его сочинениях, как этого и следовало ожидать от европейского интеллектуала XIX века. В 1860-х годах не ощущалось острых проблем с полиэтиленовыми пакетами или с парниковыми газами. Кроме того, природу подчас действительно требуется покорять. Если мы не построим достаточно быстро целую систему морских дамб, то мы рискуем потерять Бангладеш. Примером реализации власти человека над природой могут служить оспенные прививки. Сюда же можно отнести мосты и операции на мозге. Молочные породы коров и построенные города означают постановку природы на службу намеченным нами целям. На всяком сентиментальном вздоре, будто мы не должны пытаться получить нечто лучшее из имеющегося в природе, здесь нет смысла останавливаться. Однако даже если мы время от времени ставим себе задачу получить от нее нечто лучшее, сделать это мы можем только с помощью такого инструмента тонкой подстройки под внутренние механизмы ее функционирования, который мы знаем под именем науки.
Сам Маркс интерпретировал такую сентиментальность («детское отношение к природе», как он ее называл) как отражение суеверной боязни природных явлений, когда мы склоняемся перед ними, словно перед некоей высшей силой; и такое мистифицированное отношение к тому, что нас окружает, в современных условиях принимает форму того, что он называл товарным фетишизмом. Еще раз подчеркну, что наши жизни управляются внешними и чуждыми нам силами — бездушными удилами материи и дополняющими их тираническими формами организации общественного бытия. Только сейчас такие естественные силы уже не кажутся лесными духами и речными нимфами, но понимаются как движения товарных потоков на рынке, управлять которыми мы можем не в большей мере, чем Одиссей — богом океана. В этом смысле, как и в других, критика Марксом капиталистической экономики тесно связана с его заботой о природе.
Уже в такой ранней работе, как «Немецкая идеология», Маркс указывал на необходимость включать в социальный анализ географические и климатические факторы. По его мнению «всякая историография должна исходить из этих природных основ и тех их видоизменений, которым они благодаря деятельности людей подвергаются в ходе истории[109]». А в «Капитале» он говорит о ситуации, в которой «коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот обмен веществ с природой, ставят его под общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила»[110]. «Обмен» в противовес господству, рациональный контроль в противовес бесцеремонному помыканию — вот о чем идет речь. В любом случае Прометей Маркса (он был его любимым классическим героем) в гораздо большей степени является политическим бунтарем, нежели твердолобым поклонником техники. Для Маркса, как и для Данте, Мильтона, Гете, Блейка, Бетховена и Байрона, Прометей олицетворяет революционную, творческую энергию и восстание против богов[111].
Утверждение, будто Маркс есть всего лишь очередной рационалист от Просвещения, призывающий к разграблению природы во имя человека, насквозь фальшиво. Мало кто из мыслителей викторианской эпохи сумел столь точно предвосхитить набравшее на наших глазах силу движение в защиту окружающей среды. Один наш современник утверждает, что в работах Маркса представлено «наиболее глубокое понимание сложных проблем, связанных с управлением природой, среди всего наследия общественной мысли XIX века, а тем более вклада предшествующих периодов»[112]. Даже самые преданные поклонники Маркса могут посчитать такое заявление несколько преувеличенным, хотя в нем есть внушительное рациональное зерно. Молодой Энгельс был весьма близок к собственным экологическим взглядам Маркса, когда писал, что «сделать предметом торгашества землю, которая составляет для нас все, которая является первым условием нашего существования, было последним шагом к торгашеству собой»[113].
Тезис, что земля есть первое условие нашего существования, — и если вам требуется основа для человеческой деятельности, то вернее всего вы сможете найти ее именно здесь, — практически дословно повторен Марксом, в частности в его «Критике Готской программы», что природа, земля, являются для человека источником жизни, что труд сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой рабочей силы, и что обособленный труд или производство не может создать ни богатства, ни культуры. Уже в зрелые годы Энгельс писал в «Диалектике природы», что «мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы, что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять»[114]. Правда, в «Развитии социализма от утопии к науке» Энгельс также говорит о людях как «действительных и сознательных повелителях природы». Верно и то, что в качестве активного члена Чеширского охотничьего клуба он несколько запятнал свой послужной список поборника окружающей среды, но ведь один из принципов марксовского материализма в том и состоит, что нет ничего и никого совершенного.
«Даже целое общество — отмечает Маркс, — нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не есть собственники земли. Они лишь ее владельцы, пользующиеся ею, и, как добрые отцы семейств, они должны оставить ее улучшенной последующим поколениям»[115]. Он был отлично осведомлен о конфликте между краткосрочной капиталистической эксплуатацией природных ресурсов и долгосрочной устойчивостью производства. Экономический рост, подчеркивал он снова и снова, должен совершаться без того, чтобы ставить под угрозу естественные природные условия всего мира, от которых зависит благополучие будущих поколений. Нет ни малейшего сомнения в том, что, живи Маркс в наши дни, он действовал бы в первых рядах защитников окружающей среды. Как предвестник экологического движения, он говорил о капиталистическом хозяйствовании как о «расточении сил земли» и подрыве «рациональной» агрокультуры.
Так, в «Капитале» он пишет о «сознательном, рациональном возделывании земли как общей вечной собственности, неотчуждаемого условия существования и воспроизводства постоянно сменяющих друг друга человеческих поколений»[116]. Капиталистическая агрокультура, по его мнению, может процветать только за счет истощения «подлинных источников всякого богатства… земли и тех, кто ее обрабатывает». В рамках своей критики промышленного капитализма Маркс обсуждал вопросы использования отходов, уничтожения лесов, загрязнения рек, отравления среды обитания и качества воздуха. Он считал, что в социалистическом земледелии экологическая устойчивость будет играть основополагающую роль[117].
За его обеспокоенностью состоянием природы стояло общефилософское видение мира. Маркс — это исследователь и материалист, для которого люди есть часть природы, и потому, забывая о собственном происхождении, они ставят под угрозу прежде всего самих себя. В «Капитале» он даже пишет о природе как «теле» человечества, «с которым [оно] должно оставаться в постоянном обмене». Рабочие инструменты, на его взгляд, представляют собой «продолжение телесных органов». Вся цивилизация — от сенатов до подводных лодок — есть просто расширение наших телесных возможностей. Человек и мир, субъект и объект должны сосуществовать в тонком балансе, так как непосредственно окружающая нас среда является выражением человеческого сознания (или бессознательности) в той же мере, как и язык. Противоположное этому состояние, при котором мы не можем найти в неодушевленном вещном мире отражение самих себя и соответственно теряем связь с наиболее важными аспектами собственного бытия, Маркс называл отчуждением.
Когда такой взаимообмен между личностью и природой нарушается, мы остаемся один на один с бессмысленной сущностью капиталистического мира, для которого природа представляет собой лишь пластичную заготовку, пригодную для вбивания в любую форму по прихоти клиента. Цивилизация превращается в одну бесконечную пластическую операцию. В то же время личность представляет собой отделение от природы ее собственного тела и тел других. Маркс считал, что при капитализме даже наши физические чувства подвергаются «отовариванию», поскольку тело, превращенное в обезличенный инструмент производства, становится не способно полноценно воспринимать свое собственное чувственное бытие. Только через коммунизм мы можем вернуться к подлинным ощущениям своих тел. Только тогда, по его убеждению, мы сможем выйти за пределы грубо утилитарных соображений и начать наслаждаться духовными и эстетическими сторонами мира. И его собственные работы действительно являются эстетическими в полной мере. В Grundrisse он утверждает, что при капитализме природа превращается в объект исключительно прикладного использования и перестает рассматриваться как «сила в себе».
Посредством материального производства человечество, по мнению Маркса, регулирует и контролирует «метаболизм» между собой и природой в двустороннем движении, не имеющем ничего общего с позицией надменного владычества. И все это — природа, труд, страдания, производящий организм и его потребности — составляет, по Марксу, постоянную инфраструктуру человеческой истории. Этот сюжет пронизывает человеческую культуру поистине вдоль и поперек, никого из нас не оставляя без своего воздействия. Как «метаболический» процесс между человечеством и природой, труд, по мнению Маркса, является «непреложным» условием, которое не может быть отменено или изменено. А вот что подлежит изменениям — и что делает природные существа историческими, — так это те различные пути, которыми мы, люди, подходим к работе с природой. Человечество производит свои средства к существованию различными способами. Это и есть природное явление в том смысле, что оно необходимо для воспроизводства вида. Но это также есть явление культурное или историческое, поскольку, совершаясь, оно вызывает к жизни те или иные формы организации власти, конфликтов и эксплуатации. При этом нет никаких причин опасаться, будто принятие «непреложного» характера труда способно ввести нас в заблуждение относительно степени непреложности тех конкретных общественных форм, что его сопровождают. Последние могут задерживаться на века, но в общеисторическом плане все равно являются временными и преходящими.
Такое, по определению Маркса, «постоянное наложенное на природу условие человеческого существования» стоит сравнить с нападками постмодернизма на природное, материальное тело, которое он пытается растворить в культуре. Само слово «природный» вызывает здесь приступы политкорректных судорог. Всякое внимание к нашей общей биологии превращается в интеллектуальное преступление «биологизма». Столь нервное отношение постмодернизма к неизменяемому объясняется его ложной посылкой, будто стабильность повсеместно действует на стороне политической реакции. А так как человеческое тело в ходе своей эволюции мало изменилось, то постмодернистская мысль может справляться с ним только как с «культурным конструктом». Ни один другой мыслитель, как показывает опыт, не чувствовал лучше, чем Маркс, до какой степени природа и человек являются общественно опосредствованными. И такое опосредование выступает прежде всего в виде труда, который доносит природу до человеческого понимания. Труд есть осмысленная деятельность. Мы никогда не сталкиваемся непосредственно с вещными элементами материи. Скорее, это картина материального мира всегда вырисовывается перед нами с помощью человеческих знаков и символов, и даже пустота в ней имеет свое обозначение. Романы Томаса Харди иллюстрируют это состояние с замечательной силой.
Маркс считал историю человеческого общества частью естественной истории. И это, помимо всего прочего, означает, что общественный инстинкт органически присущ тому виду животных, представителями которого мы являемся. Общественная кооперация необходима для нашего физического выживания, но в то же время она является частью нашей самореализации как вида. Так что если природа в некотором смысле представляет собой общественную категорию, то общество, со своей стороны, есть в чем-то природное образование.
Постмодернисты находят возможным настаивать на первом, но замалчивают второе. Для Маркса отношения между природой и человечеством не являются симметричными. В конечном счете, как указывает он в «Немецкой идеологии», природа берет верх. Для индивида это выглядит как смерть. Фаустовская мечта о прогрессе без границ в материальном мире удивительно созвучна с нашей ощутимой недооценкой «приоритетности внешней природы». В наши дни это становится характерной особенностью не только фаустовской, но и американской мечты. Этому воззрению присуща тайная ненависть к материальному, поскольку последнее преграждает ему путь в безграничную бесконечность. Именно поэтому материальный мир либо покоряется силой, либо растворяется в культуре. Постмодернизм и дух первопроходцев суть разные стороны одной медали. Ни один из них не может согласиться с тем, что как раз наши ограничения делают нас тем, кто мы есть, и точно так же их постоянное преодоление в масштабах вида создает то, что мы знаем как человеческую историю.
Для Маркса человеческие существа есть часть природы, способная вместе с тем выступать против нее; и такое частичное обособление от природы само по себе есть часть их природы[118]. Сами орудия — от каменного топора до сложных технических устройств, — с которыми люди берутся преобразовывать природу, изготовлены из нее. Но хотя Маркс и рассматривал природу и культуру как образующие сложное единство, он отвергал идею о растворении одной в другой. В его откровенно незрелых ранних работах он мечтал о конечном единстве природы и человечества; в более же зрелые годы он признавал, что между ними всегда будет иметь место напряжение или нетождественность и что для этого противостояния есть одно имя — труд. Скорее всего, с определенным сожалением, но тем не менее он отвергал красивую фантазию, почти столь же старую, как и само человечество, в которой изобильная донельзя природа с учтивостью и предупредительностью встречает любые наши пожелания:
Маркс верил в то, что он называл «гуманизацией природы»; но природа, по его мнению, для человечества всегда будет оставаться не совсем покорной, даже если ее противодействие нашим потребностям может быть уменьшено. И в этом есть свой позитивный аспект, поскольку препятствия и необходимость их преодолевать — это неотъемлемые части нашего творчества. Волшебный мир может оказаться еще и весьма скучным. Э. Марвеллу одного дня в волшебном саду скорее всего хватило бы, чтобы захотеть назад в Лондон.
Верил ли Маркс в безграничный рост человеческого могущества, в той или иной мере противоречащий нашим современным экологическим принципам? Дело в том, что он порой преуменьшал значение естественных природных ограничителей человеческого развития, отчасти потому, что его оппоненты, в частности Томас Мальтус, их преувеличивали. Он признавал наличие рамок, которые природа ставит истории, но считал, что мы тем не менее способны намного раздвинуть их. Здесь отчетливо проявляется мотив, который можно назвать технологическим оптимизмом — подчас даже переходящим в самонадеянность — в его работах: ожидание того, что уже в обозримом будущем человеческий род на плечах освобожденных от оков производительных сил перенесется в прекрасный новый мир. Некоторые позднейшие марксисты (Троцкий был одним из них) относили это к утопическим крайностям, предсказывая вместо этого, как они обеспечат будущее героями и гениями[119]. Но, как мы уже видели, есть и другой Маркс, который настаивает, что такое развитие не должно ставить под угрозу человеческое достоинство и благополучие. Это капитализм рассматривает производство как потенциально безграничное, тогда как социализм обуславливает его моральными и эстетическими ценностями. Или, как определяет сам Маркс в первом томе «Капитала», придает ему форму, «соответствующую полному развитию человека».
Признание природных ограничений, как отмечает Тед Бентон, несовместимо не с политическим освобождением, а всего лишь с его утопической версией[120]. Мир не располагает ресурсами, позволяющими всем нам жить все лучше и лучше, но достаточными для того, чтобы все мы жили хорошо. «Обещание достатка, — пишет Дж. А. Коэн, — означает не нескончаемый поток продукции, но ее достаточный объем, производимый с минимумом неблагоприятных последствий»[121]. И вовсе не природа, а политика препятствует реализации такого подхода. Для Маркса, как мы видели, социализм требует роста производительных сил; но задача их необходимого приращения выпадает на долю не собственно социализма, а капитализма. Социализм не столько создает соответствующие материальные средства, сколько просто вступает в распоряжение ими. Это Сталин, а не Маркс, рассматривал социализм как основу для развития производительных сил. Капитализм выступает в роли ученика чародея: он вызвал к жизни силы, которые бесцеремонно вырвались из-под контроля и теперь грозят уничтожить нас. Задача социализма состоит не в том, чтобы пришпоривать эти силы, а в том, чтобы вернуть их под разумный человеческий контроль.
В настоящее время из тех проблем, с которыми сталкивается человечество, главную угрозу для его выживания представляют две — военная и состояние окружающей среды. И в будущем они, скорее всего, будут становиться все более и более критическими, поскольку, как показывает опыт, борьба за истощающиеся ресурсы склонна перерастать в вооруженные конфликты. В течение многих лет коммунисты находились в рядах наиболее ревностных защитников мира, а причина этого исчерпывающе резюмирована Эллен Меиксинс Вуд. «На мой взгляд, является аксиомой, — пишет она, — что экспансионистская, жестко конкурентная и эксплуататорская логика капиталистического накопления в рамках национально-государственной системы должна в более или менее долгосрочной перспективе стать дестабилизирующим фактором и что капитализм… есть и на обозримую перспективу будет оставаться наиболее значительной угрозой всеобщему миру»[122]. Если движение за мир действительно разбирается в коренных причинах глобальной агрессии, то оно не может позволить себе игнорировать природу зверя, порождающего ее. И это означает, что оно не может позволить себе игнорировать выводы марксизма.
Это же относится и к сохранению окружающей среды. Вуд разъясняет, что сам по себе антисоциальный характер стремления капитализма присваивать и накапливать делает его неспособным избежать разрушения экологии. Система может воспитать в себе терпимость к расовому и половому равенству, но она не может в силу своего характера достичь всеобщего мира или уважительного обращения с материальным миром. Капитализм, отмечает Вуд, «может найти в себе силы, чтобы до некоторой степени позаботиться об экологии, особенно когда технологии, защищающие окружающую среду, сами по себе оказываются прибыльными и способствующими расширению сбыта. Однако исходная иррациональность стремления к накоплению капитала, которая подчиняет все и вся требованиям самовозрастания капитала и так называемой маржинальности, неизбежно становится врагом экологического баланса»[123]. В старом коммунистическом лозунге «Социализм или варварство» всегда усматривали некий налет чрезмерной апокалиптичности. Однако когда история определенно дает крен в сторону ядерной войны и тотальной экологической катастрофы, этот лозунг становится трудно воспринимать иначе, как суровую, но неопровержимую истину. Если мы не будем действовать сейчас, то, похоже, капитализм станет смертью для нас гораздо раньше, чем кто-то надеется.
Заключение
Итак, вот к чему мы пришли: Маркс горячо верил в личность и с глубоким презрением относился к абстрактным догмам. Он не тратил время на составление планов идеального общества, с осторожностью подходил к идее равенства и не мечтал о будущем, в котором мы все были бы одеты в комбинезоны с проштампованными на спинах нашими государственными страховыми номерами. Не единообразный ранжир, а именно разнообразие было тем, что он надеялся видеть в будущем. И он никогда не учил, будто люди являются беспомощными игрушками истории. Для государства он был даже большим врагом, чем правые консерваторы, и видел в социализме как раз углубление демократии, а вовсе не ее отрицание. Его модель хорошей жизни основывалась на идее творческого самовыражения. Он считал, что некоторые революции могут быть совершены мирно и никоим образом не выступал против социальных реформ. Он не зацикливался лишь на занятом физическим трудом рабочем классе и не смотрел на общество, как состоящее лишь из двух абсолютно противоположных классов.
Он не делал из материального производства фетиш. Напротив, он считал, что занятие им должно быть сокращено, насколько это вообще возможно. Его идеалом был досуг, а вовсе не труд. Если он уделял столь пристальное внимание экономике, то только ради того, чтобы уменьшить ее власть над человечеством. Его материализм был вполне совместим с глубокой приверженностью морали и духовным ценностям. Он расточал похвалы среднему классу и рассматривал социализм как наследника его великих ценностей — свободы, гражданских прав и материального процветания. Его взгляды на природу в целом и на среду нашего непосредственного обитания по большей части поразительно опережали его время. Нет более стойких защитников женского освобождения, мира во всем мире, борцов против фашизма или за свободу для колоний, чем политические движения, начало которым положили работы Маркса.
Существовал ли когда-либо мыслитель, сумевший вызвать на себя такой огонь нападок и карикатур?