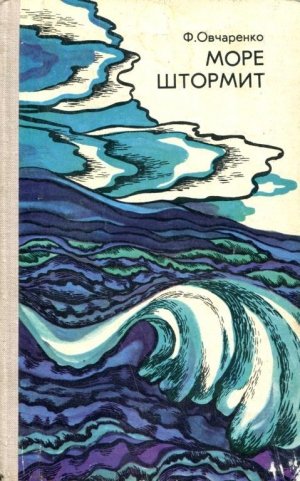
Молодежь — самая энергичная и самая динамическая часть общества.
От правильного применения ее сил, знания, энтузиазма во многом зависит судьба планеты.
Заметки «Мы не должны льстить молодежи».
ОБ АВТОРЕ
В 39 лет, в самом расцвете творческих сил, оборвалась жизнь Феликса Овчаренко. Но он успел многое. В его жизни было все — и творческий целеустремленный поиск, и большая любовь, и испытанная верная дружба.
Послужной список Овчаренко говорит о полной его самоотдаче. Вскоре после окончания Уральского университета он уже редактор свердловской молодежной газеты «На смену!», затем работает в секторе печати ЦК ВЛКСМ, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, заместителем главного редактора «Комсомольской правды», позднее он — инструктор ЦК КПСС и, наконец, главный редактор журнала «Молодая гвардия».
Организаторская работа не оставляла времени для работы журналистской, но он — увлеченный журналист, и свердловский читатель знает его как автора более пятидесяти очерков, фельетонов и рассказов. Это только в свердловской областной печати, Читатель знаком с яркими выступлениями Овчаренко и в центральной прессе.
Высокая требовательность к людям, принципиальность, искренняя заинтересованность в их судьбах, умение радоваться их успехам — все эти драгоценные качества Феликса Овчаренко присущи и многим героям его очерков, зарисовок, повестей. Документальная повесть «Меридиан романтики» вобрала в себя все то лучшее, что характерно для Овчаренко — комсомольского публициста. В ней выразилось отношение автора к советской молодежи, и в частности рабочей молодежи.
Как повесть, так и вошедшие в книгу рассказы — о духовной преемственности различных поколений нашего общества, поколений бойцов.
Высокая гражданственность — первооснова характера советского человека. Таков лейтмотив всей книги. Такова суть характера и самого Феликса Овчаренко. «От самого человека в первую очередь, а не от условий зависит, что у него в конце концов получится — биография или жизнь и деятельность», — сказал как-то Феликс одному из своих друзей. Об авторе этой книги можно в полной мере сказать, что его жизнь была предельно насыщена деятельностью — деятельностью бойца, партийного журналиста, публициста, литератора, человека.
Книга адресуется старшим школьникам.
МЕРИДИАН РОМАНТИКИ
Повесть
ОТ АВТОРА
Эту историю мне рассказали мои друзья, монтажники-верхолазы, удивительно симпатичные парни, сдружившиеся еще во время службы на флоте.
Уверен, до сих пор путешествует с ними по стране видавшая виды географическая карта. Вся она испещрена разноцветными стрелами, крутыми бумерангами дуг, какими-то замысловатыми и непонятными значками. Ярко отмечены на ней Манила и Тикси, Сингапур и Дакар, остров Тюлений и озеро Чад. Но лишь три точки соединены напрямую стремительными четкими линиями. Похоже на проложенный штурманом маршрут. Только слишком уж необычен выбор координат: Мадрид — Петровск-на-Буге — Карганач, Испания — Украина — Урал…
Это действительно маршрут. Его проложила сама жизнь. Сквозь годы. Через сотни, а может быть, и тысячи сердец.
Об этом-то необычном маршруте и рассказали мне в одну из бессонных ночей ребята-монтажники, строившие тогда у подножия Карганач-горы новый уральский город. О нем, собственно, и написана эта повесть.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЭШЕЛОНЫ УХОДЯТ В НОЧЬ
Ранним утром на окраине Петровска загромыхали танки. Тяжело сотрясая землю, они двинулись к центру города. Гул перегретых моторов, лязг гусениц, синеватый дымок заполнили улицы. Поспешно свернули к обочине встречные повозки беженцев. Захлопали калитки. Взгромоздились на заборы мальчишки. С восторгом они провожали взглядом каждый проносившийся мимо танк.
Петровские ребята давно уже недоумевали, почему через их город с тех пор, как началась война, тянутся лишь скрипучие подводы с собранным наспех скарбом да надрывно плачущими детьми. А где же закованные в непробиваемый панцирь броневики, сверкающие холодным блеском гаубицы, где, наконец, буденновская кавалерия?
Похоже было, что Петровск оказался в стороне от главных магистралей, по которым спешили к фронту войска. Вот почему появление танков сразу же взбудоражило весь город.
Красные звезды на башнях, чуть вздрагивающие стволы орудий, поднятый бронированными машинами теплый ветер — как все это напоминало еще недавние первомайские торжества…
Точно так же, подумалось Анне Георгиевне, грохотали тогда на улице танки. Точно так же стояла она у распахнутого окна и нетерпеливо ждала, когда из-за поворота Канатной улицы появятся строем курсанты мореходного училища, любимцы и гордость Петровска.
Ей, директору картинной галереи, человеку, влюбленному в искусство, всегда нравилось смотреть парад из стрельчатых окон музея. В такие минуты казалось: оживают солдаты на строгих полотнах Верещагина, а в тихих залах и длинных коридорах слышится шелест боевых знамен. Все вокруг приобретало совершенно неповторимую торжественность. Так было и в последний предвоенный праздник. В то майское солнечное утро 1941 года впервые на правом фланге курсантской колонны в белой форменке шел ее сын Алешка. Высокий, чернобровый, лицом, выправкой, выражением глаз, каждым движением похожий на своего отца. Отец, правда, у него был летчиком и единственной достойной внимания мужчины стихией считал небо.
Анна Георгиевна когда-то мечтала стать художником. Маститые искусствоведы наперебой хвалили ее пейзажи, восхищались отточенной техникой, врожденным чувством цвета, завидным разнообразием оттенков и полутонов. Ей прочили большое будущее, советовали взяться за серьезную тему. Но она почему-то не могла, как другие, мчаться сломя голову на Турксиб, писать на рассвете плечистые домны Магнитки или палатки геологов в Хибинских горах. С детства она была влюблена в безмолвную, тихо дремлющую природу, в задумчивые, подернутые сумеречной дымкой дали, в оловянный блеск ночных волн, в которых, дробясь, расплываются голубоватые огоньки звезд. Может быть, поэтому она так долго и плутала в пути, не сумев отыскать своей дороги в большую живопись. А может быть, прав был Владимир. Вскоре после женитьбы он как-то сказал ей:
— По-моему, что в искусстве, что у нас, в авиации, перво-наперво нужно уяснить, зачем тебе мастерство. Для чего ты штурмуешь пределы скорости? На кой леший преодолеваешь потолок высоты? Когда твердо знаешь зачем, тогда и с маршрутом полная ясность, и скорость такая, что никакой уздой не удержать.
— Ты должен, ты обязан быть мастером, — возразила она. — Иначе случится беда.
— Иначе нельзя победить, — уточнил Владимир и смущенно улыбнулся. Он не любил громких слов.
И хмуриться он тоже не любил. В особенности если знал, что это может кого-то огорчить.
— Во имя чего — это, видимо, главное, — так сказал он ей и в тот далекий августовский день, когда они прощались на маленьком аэродроме близ безымянного военного городка. Предстояла долгая разлука. А он, как всегда, шутил, собирал у самой взлетной полосы цветы, беспечно насвистывал пиратскую песню, услышанную накануне в кино. Только в последнюю минуту, отстав от товарищей, тихо и уже без улыбки сказал:
— Писем пока не жди. Будь молодчиной… Нажимай, главное, на Алешку. Скажи: как только вернусь, сразу же возьму его с собой в небо. Это ничего, что он мечтает о море…
— …и о картинах, — напомнила она. И, уловив в его взгляде что-то недосказанное, обеспокоенно спросила: — А это не опасно? Военные летчики, и вдруг — в научную экспедицию, куда-то на край земли…
— Абсолютно спокойное дело, — рассмеялся Владимир. — Риску не больше, чем на рыбалке. Если, конечно, киты не клюют.
А через полгода она стала вдовой. Сообщение было сухим и кратким: «Майор Владимир Иванович Горский погиб при выполнении ответственного задания». О том, что это случилось в Испании, она узнала лишь перед самым началом войны.
И вот сейчас, глядя из окна на громыхающую колонну танков, Анна Георгиевна ясно вдруг поняла, что события четырехлетней давности припомнились ей неспроста. Тогда она проводила мужа. А нынче вечером ей провожать сына. И снова — в бой. И снова — навстречу неизвестности.
…Широкогрудые Т-34 один за другим стремительно проплывали через площадь. В конце ее они слегка снижали скорость, делали крутой разворот и, нырнув под Якорную арку, где-то уже за зданием железнодорожного вокзала с ревом вырывались на Одесское шоссе.
Неожиданно одна из машин свернула с дороги и остановилась под окнами музея. Хлопнула крышка люка. На землю спрыгнул танкист в замасленном комбинезоне и бросился к крыльцу. Анна Георгиевна поспешила навстречу.
Из-под шлема у танкиста выбилась прядь седых волос. Его лицо показалось Анне Георгиевне знакомым. Где-то она уже видела эти сросшиеся на переносице брови, эти монгольские, словно в вечном прищуре, глаза. Но расспрашивать было некогда. Гудел у ограды пышущий жаром танк. Весь вид человека, взбежавшего по ступенькам, говорил о том, как ему дорога каждая секунда, как его торопит в путь громыхающая по брусчатке колонна.
— Вот когда довелось… — танкист рванул с руки перчатку. — Мы ведь с вашим Володей вместе…
— …в Испании?!
— Да.
— Так почему же вы только сейчас?..
— Придержали во Франции. Добирался в Россию через Новую Каледонию… А то бы давно уже был у вас.
— Скажите, как же… как все это произошло?
Танкист ответил не сразу. Он мог бы рассказать о каждом из советских добровольцев, кого вместе с ним послала Родина за далекие Пиренеи. Он помнил все… Небольшую южную гавань. Выматывающее нервы ожидание грузового шведского судна. Залитый солнцем, беззаботно веселый Марсель. И ледяной ветер, мглистый туман на первом же пограничном перевале… Все это было будто вчера. Бурная встреча на Северном вокзале Мадрида. Митинг на Пуэрта дель Соль. Восторженные крики «Вива Русиа!». А потом внезапный налет «юнкерсов». Разрывы бомб. Маленькая девочка убита у самого входа в метро. Смуглолицый плачущий парнишка в форме солдата республиканской армии стреляет из пистолета по фашистским самолетам… На следующий же день Володя Горский поднялся на курносом «чако» в раскаленное от зноя голубое мадридское небо. От первого и до последнего вылета это был боец редкой отваги…
— В Испании его звали Орландо, — наконец проговорил танкист. — В тот день… В автобусах вывозили детей, чтобы отправить через Барселону в Советский Союз. А тут нагрянули «фиаты». Владимир — один против четырех… Двух срезал с первого же захода. Когда задымился третий, его истребитель тоже завалился на крыло. Володя вывел машину из штопора, приземлился на вспаханном поле. Мы подоспели, вынесли его из кабины. Но спасти уже не удалось… Не представляю даже, как он вообще вел самолет… Столько у него было ран.
Вокруг по-прежнему стоял неумолчный грохот, но Анна Георгиевна ничего не слышала, кроме этих отрывистых фраз.
— Об этом подвиге один интербригадовец написал стихи. Он был другом Орландо, готовил к вылетам его «чако»… Парень просил меня передать вам… — Танкист расстегнул комбинезон, достал из кармана и протянул Анне Георгиевне плоскую металлическую коробочку.
— Хотел подарить Володе, но не успел…
Анна Георгиевна опустила голову, прижала ладонь к глазам.
— Крепитесь, — танкист порывисто пожал ей руку. — И обязательно расскажите об этом сыну. Все расскажите. Прощайте…
Только когда уже грохот мотора заглох вдали, Анна Георгиевна вспомнила, что видела этого человека четыре года назад в день прощания с мужем на маленьком тихом аэродроме, где у самой взлетной полосы покачивались на ветру неяркие полевые цветы.
Вечером Петровск провожал курсантов. Хрипло свистнул маневровый паровоз. Медленно причалили к затемненному вокзалу приземистые теплушки.
Алексей в коротковатой флотской шинели с винтовкой, закинутой за плечо, казался еще тоньше и выше. Он вертел в руках бескозырку и, заглядывая матери в глаза, повторял:
— Все будет как надо. Это я тебе точно говорю. — И при этом так же, как у отца, у него приподнималась левая бровь. — Погоди, мы еще с тобой пойдем на этюды. К старому лиману, за дюны. А потом я непременно напишу «Ночь в Петровском порту». Все будет как надо…
Вот-вот уже врежется в настороженную вокзальную тьму протяжный паровозный гудок. Анна Георгиевна торопливо достала из сумки металлическую коробочку, протянула ее сыну.
— Пусть это будет с тобой… Память об отце…
— Отчаливаем, ребята! Пора… — раздалось совсем рядом, и сразу же суматошно зашуршал, загремел, зашумел на разные голоса перрон.
Алексей раскрыл коробочку, поднес ее к вокзальному окну, в котором мутно отражался лунный свет. Удивленно прошептал:
— Часы…
— Там, внутри, какая-то надпись, — сквозь слезы откликнулась Анна Георгиевна, — по-моему, по-испански.
Алексей рассеянно кивнул. Нахлобучив бескозырку, неуклюже обнял мать, хотел ей что-то ответить, но первое же слово заглушил сиплый гудок. Металлический лязг прокатился по составу.
— Береги же себя, сынок…
— Все будет как надо, мама!
ВОЮЮТ НЕ ТОЛЬКО СНАРЯДАМИ
Молоденький лейтенант с перебинтованной до локтя рукой взбежал на крыльцо музея и громко крикнул в приоткрытую дверь:
— Товарищ Горская! Уходит последний эшелон!
— Я не могу… — тихо отозвалась Анна Георгиевна. — Здесь же картины.
— Немцы в тридцати километрах!
— Помогите мне вывезти картины. Я вас очень прошу…
— Да вы что? Раненых некуда девать, а вы…
— Это Верещагин, у окна Пимоненко, а вон там Айвазовский. Пушкина на берегу моря написал Репин…
Лейтенант, забывшись, взмахнул перебинтованной рукой, чертыхнулся и сердито пробасил уже на ходу:
— Соображайте, где можно спрятать. Попытаюсь подбросить людей.
Самое надежное место — хутор Михайловка. Всего несколько домов. Мало кто в городе знает, что там, среди развалин старинной церкви, сохранился потайной ход в заброшенный пристрой. Крыша у него завалилась, у стен, которые уже вросли в землю, густо поднялся бурьян. Зато внутри просторно и сухо. Лучшего тайника не придумать…
Вначале Анне Георгиевне помогали присланные лейтенантом саперы. А потом, когда уже наши войска оставили город, она одна на тачке всю ночь перевозила музейные полотна на глухой, всеми покинутый хутор.
Картины были для нее больше чем произведения искусства. Живительной силой, колдовским сиянием красок они не раз ободряли ее даже в самые горестные минуты. Известие о гибели мужа заставило надолго забросить палитру и кисть. Но прошло время, и вновь потянуло к мольберту. Анна Георгиевна попыталась представить далекий Пиренейский полуостров, написать выжженную солнцем равнину в долине Харама, тревожное небо Мадрида, изрубленные осколками оливы в Каса дель Кампо. Только краски почему-то не слушались ее. Зато все больше радовал Алешка. По натуре упрямый и ершистый, в своих работах он поражал необыкновенным лиризмом. У него была редкая способность чутко примечать в природе те почти неуловимые сочетания света и красок, которые обычно создают настроение всему пейзажу, согревают его изнутри невидимым, но ощутимым теплом…
Вскоре после вступления в город немецких войск Анну Георгиевну вызвали в комендатуру.
— Мы решили побеспокоить вас, — учтиво сказал офицер в чине обер-лейтенанта, почти не коверкая русских слов. — Вы должен нам помогать.
— Что вам угодно?
— Один маленький пустяк, — усмехнулся обер-лейтенант и тщательно пригладил ладонями словно приклеенные к черепу редкие рыжеватые волосы. — Мы будем разговаривать о здешней музей.
Анна Георгиевна промолчала.
— Не смотрите на меня с таким злость. Сегодня наступил война. Да! Но я есть художник. Хельмут Грубер всегда есть живописец! Мы не дикари. Репин — это тоже зеер гут. — Немец приподнялся в кресле и обеими руками, широко растопырив пальцы, оперся о стол. — Ваш музей, здешний картины — большой сокровищ. Они должен висеть на место. Да.
— Я ничем не могу вам помочь, — холодно сказала Анна Георгиевна.
— Ничем?
— Ничем.
— Но вы есть директор музей!
— Музея без картин.
— Мы точно выяснял: они имеется здесь. В городе. Да!
— Картин в Петровске нет.
— Есть!
— Нет.
— Глупый упрямство! — вскипел офицер. — Я не спрашивал, где партизаны. Я не спрашивал, что делает ваш сын. Меня интересовал только картины. Вы должен понимать! — Немец ударил кулаком по столу. — Воюют бомбы и снаряды. Краски не стреляют. Да!
Анна Георгиевна никогда не изображала на холстах палатки разведчиков Заполярья и жаркие домны Урала. Ей так и не удалось воспеть в красках героическую трагедию испанской земли. Выходили из-под ее кисти большей частью грустные пейзажи да сочные декоративные натюрморты. Но в эту минуту она поняла всей душой: воюют не только снарядами. Офицер вскочил из-за стола.
— Красная дрянь! Завтра я без тебя получу известность, где спрятан картинен. И тогда с тобой будет говорить не художник, а солдат фюрера!
На другой день с утра по всему городу было расклеено обращение немецкого коменданта к населению. Обер-лейтенант Хельмут Грубер обещал крупное вознаграждение каждому, кто сообщит что-либо о местонахождении картин Петровского художественного музея.
А через два дня Анну Георгиевну снова привели на допрос. Грубер насмешливо процедил:
— Ну вот, теперь, когда ваш тайна раскрыт, вы, надеюсь, начинаете говорить как благоразумный человек. Раскаянье мы учтем.
Анна Георгиевна выдержала испытующий взгляд обер-лейтенанта. Но лицо ее вспыхнуло. Неужели нашли? Кто же польстился на немецкую подачку?
— Вы что, и сейчас решили молчать? — Грубер вытащил из кобуры парабеллум. — Кто помогал прятать? Говори!
— Картин в городе нет.
Удар в живот свалил ее с ног. «Ничего они не знают!» — успела подумать она, и тут же все заволокла плотная, вязкая чернота.
Очнувшись, Анна Георгиевна медленно обвела взглядом сырые бетонные стены. Стучало в висках. Перед глазами клубился серый туман. И все же на стене, чуть пониже зарешеченного окна, она приметила полустертый неумелый рисунок: серп и молот. И короткую надпись: «Отомстите за нас!».
В тюремной камере на Накатной улице, в лагерном блоке у Черной балки не раз потом повторяла она эти слова, кусочками угля и мела, осколками кирпича и обгорелыми гвоздями рисуя на стенах силуэт воина-моряка с поднятой в антифашистском приветствии рукой.
Соседки по нарам долго потом вглядывались в расстилавшуюся за Бугом степь. Каждой из них виделось, словно в мареве, будто именно ее батько, нареченный, муж или брат, держа автомат над головой, бредет синим широким лиманом, пробирается плавнями к притихшему берегу реки. Анне Георгиевне тоже казалось, что в первой же атакующей цепи будет и ее Алеша. Оттого с еще большим упорством она наносила на стены все новые рисунки. И под каждым теперь появлялись подсказанные надеждой слова: «Наши близко!», «За нас отомстят!»…
Однажды ночью ее разбудила соседка. Прошептала, прижавшись к уху:
— Охранники под окном о чем-то лопочут. Понять — не пойму, но вроде про нас. Тебе бы послушать. Ты же по-ихнему понимаешь.
Анна Георгиевна бесшумно скользнула к стене. Осторожно подтянулась к решетке, прислушалась. Ветер доносил обрывки фраз.
Когда она вернулась на свое место, женщина спросила:
— Ну что?
— Сокрушаются, что наши уже под Феодосией. Боятся, скоро будут здесь.
— Ну, слава богу! — легко вздохнула соседка.
Анна Георгиевна долго лежала потом с открытыми глазами. Из разговора немцев она поняла, что отдан приказ заминировать город и приступить к ликвидации концлагеря в Черной балке.
Сон пришел лишь перед самым рассветом, но был он тревожным и недолгим. Она проснулась будто от внезапного толчка. Издалека доносился слабый гул. Похоже было, что где-то в степи, за Бугом, рассыпаются над землей глухие раскаты весеннего грома.
— Девчата, — радостно вдруг прозвенел чей-то голос. — Да то ж не гроза. То фронт до нас наближается!
И тут уж все зашумели разом, повскакивали со скрипучих нар, застучали по дощатым переборкам.
Анна Георгиевна достала из тайника припрятанный с вечера кусочек угля и несколькими взмахами нарисовала на стене стремительную фигуру идущего в атаку моряка. Задумалась на миг и решительно вывела наискосок крупными жирными буквами: «Ура! Наши здесь!»
И тогда только почувствовала что-то неладное за своей спиной. Резко обернулась. На пороге с автоматом на изготовку стоял охранник.
— Шнель! — Он указал ей на выход.
Анна Георгиевна не шелохнулась. Немец, выругавшись, широко шагнул с порога. Но тотчас проход между двумя рядами нар заполнили узницы. Не сговариваясь, они молча стали плечом к плечу и преградили дорогу солдату. В блоке нависла напряженная тишина. И вдруг снова возник далекий нарастающий гул. Солдат попятился к двери. Уже с порога крикнул:
— Готовьтесь к большой дорога!
Загремел засов. Женщины обступили Анну Георгиевну. На нее смотрело столько настороженных, ждущих ответа глаз. И она неожиданно для себя сказала твердым, решительным голосом:
— Никуда не поедем! Нас хотят уничтожить… Об этом надо срочно сообщить во все блоки.
Снаружи послышался топот сапог. На сторожевых башнях пронзительно взвыли сирены.
ПЕТРОВСКИЙ ДЕСАНТ
Порывистый встречный ветер гонит по Бугу крутую волну. В ночном небе низко нависли черные косматые облака. Одна за другой семь рыбачьих лодок, держась середины реки, медленно поднимаются против течения. Тихо поскрипывают уключины. Почти не слышны удары весел. В ушах лишь завывание ветра да шум весеннего ливня.
В передовой лодке вместе с командиром отряда, старшим лейтенантом Дорониным, — шесть бойцов отдельного батальона морской пехоты и трое саперов. Алексей Горский и Александр Самоцветов, как и положено друзьям, рядом, на одной банке. Только что сменили на веслах уставших товарищей, и оба теперь стараются до хруста в плечах. Боцман Кривцов уже дважды делал им предостерегающий знак: «А ну, сбавь, кому говорю!»
Второй час лодки скользят по Бугу, упрямо врезаясь в ночную темь, раздвигая бортами пенистую волну. Молча выгребают против ветра матросы. Молча вычерпывают жестянками воду. Да и что говорить. Приказ ясен. Курс — на лиман. Туда, где широкий разлив, метнувшись в сторону от главного русла реки, с разбегу упирается в отполированные прибоем причалы.
Петровский залив… У Алексея он навсегда останется в памяти. Здесь прошло его детство. Здесь родилась его любовь к морю. Гигантские каркасы строящихся кораблей, наполненные ветром полотнища парусов, покачивающиеся у пирса верхушки мачт, издали похожие на копья столпившихся ратников, — все это раз и навсегда вошло в его жизнь, в мир его мечтаний о дальних странствиях и невиданных приключениях.
Чтобы преодолеть волнение, Алексей заставляет себя думать о предстоящей высадке в тылу врага. В который раз он мысленно возвращается к тому моменту, когда перед строем морских пехотинцев седой майор в длинной намокшей шинели простуженным басом сказал:
— При отступлении фашисты хотят разрушить город. Готовят расправу над мирными жителями. Мы должны этому помешать.
Накануне майор был ранен. И теперь он не снимал шинели, чтобы никто не видел, сколько бинтов намотано у него под гимнастеркой. Хитрость эта, в общем-то, была ни к чему. Все знали, отчего морщится майор, почему, обращаясь к ним, он будто невзначай оперся о прислоненное к дереву весло. Знали моряки и о том, что им, вырвавшимся далеко вперед, по крайней мере в течение суток нечего ждать подмоги.
— Выход один, — продолжал майор, — десант в тыл врага. Оба берега в руках гитлеровцев, но пробиться можно. Важно захватить порт. Если удастся — держаться до прихода подкрепления. В случае чего из дальнобойных подбросим огня. — И, тяжело вздохнув, добавил: — В десант — только добровольцев…
Раньше, чем прозвучало «…шаг вперед!», весь батальон шагнул навстречу майору. Доронин отобрал лишь шестьдесят семь бойцов: не было больше лодок, да и боеприпасы вконец издержали в двухдневной схватке за выход к Бугу.
Оставшиеся на берегу отдавали десантникам свои автоматные диски, гранаты, вытряхивали последние НЗ. Молча обменивались бескозырками. Крепко, по-флотски, обнимались на прощание.
— А на тебя, Горский, — к нему подошел Доронин, — особый расчет. В головную группу. Понятно?
Как было не понять. Рядом, всего в пятнадцати километрах, его родной город. Так кому же, как не ему, парню с Третьей Морской, которому здесь знаком каждый камень, каждый закоулок, вести за собой остальных, прокладывать путь к причалам?
К исходу третьего часа лодки достигли лимана. Тем временем дождь прекратился. На востоке, у самой кромки горизонта, робко порозовело еще минуту назад сплошь затянутое облаками небо. Почуяв приближение рассвета, стих ветер. Мельче стала волна.
С каждым взмахом весла все ближе берег. Постепенно начинают проступать пока еще размытые контуры строений. Изломанной черной полосой кажутся протянувшиеся на несколько километров причалы. Древней крепостной стеной возвышается темная громада элеватора. Ни звука, ни искорки.
— Табань! Убрать весла.
Прижавшись к борту, чувствуя щекой шершавую поверхность брезента, которым укрыто оружие, Алексей опускает руку в ледяную воду и короткими сильными гребками направляет лодку к старому, полуразрушенному дебаркадеру. Насквозь промокший, задубевший бушлат сковывает движения. Знобит. Сводит от холода пальцы. Кажется, что лодка застыла на месте. Наконец по днищу начинают царапать прибрежные водоросли. Пора! Алексей кивает Доронину и ловко, без всплеска, соскальзывает за борт. По пояс в воде, зажав в руке, трос, другой конец которого закреплен в лодке, медленно пробирается к зарослям камыша.
На берегу все так же безмолвно. Оглядевшись, Алексей тянет к себе трос. Нос лодки зарывается в камыши. Причаливают остальные. Быстро переносят пулеметы, ящики с патронами и гранатами, с особой осторожностью — укутанную рацию.
Тремя группами десантники устремляются к развалинам судостроительного завода. Вначале — короткими перебежками, затем, стараясь слиться с землей, — по-пластунски, хоронясь за малейшим бугорком, радуясь каждому кустику, каждому чахлому деревцу. Алексей, как было условлено, впереди. С закрытыми глазами он мог бы перечислить на пути все, даже самые мельчайшие приметы. Прямо перед ними — полоса песчаных дюн. Немного подальше — башенка старинной генуэзской часовни. В давние времена через Понт Эвксинский сюда добирались предприимчивые итальянские купцы. Чуть левее, ближе к железнодорожной насыпи, должен быть небольшой ручей. Летом он пересыхает, а сейчас наверняка похож на маленькую горную реку. Алеша прислушался. Среди шорохов ночи явственно слышались всплески потока.
Все решительнее надвигается с востока рассвет. Блеклая закраина неба потихоньку начинает наливаться сочной голубизной. Бойцы вслед за Алексеем ползут вдоль извилистого ручья. Шум талых вод способен заглушить даже грохот танка, и все же каждый действует еще осмотрительнее, чем вначале. Любая оплошность может обернуться бедой. Первый же выстрел поднимет на ноги весь гарнизон.
Тишина становится уже подозрительной. Доронин то и дело прижимает к земле отряд. Моряки ползком взбираются на насыпь, преодолевают полотно дороги, по одному спускаются в болотистый овраг. А вокруг по-прежнему стынет безбрежная предрассветная тишь.
Не замеченные никем, десантники бесшумно пересекают большой пустырь, превращенный в свалку. Задерживаются у обгорелого здания механических мастерских, чтобы перевести дыхание после затяжного броска. Они уже готовы двинуться дальше, как вдруг из темноты раздается хлесткое:
— Хальт!
Десантники замерли. Алексей оглянулся на командира. Доронин приложил палец к губам. Окрик не повторился. Выждали еще несколько минут. Тихо:
— Разрешите, — прошептал Алексей.
— И мне… — Сашко Самоцветов бесшумно вынул из ножен трофейный кинжал с черной костяной рукояткой.
Доронин кивнул:
— Давайте.
Двое отделились от группы. Неслышно поползли в обход часового, добрались до невысокой, сложенной из ракушечника стены. Дальше тянулись корпуса завода. Отыскали в стене пролом и притаились. Вскоре послышались шаги часового. Немец шел медленно, видимо озираясь, внимательно вглядываясь в рассеивающийся туман. Не дойдя метров десяти до пролома, он повернул назад. Шуршание гравия под сапогами замерло за углом заводского корпуса. И тотчас оттуда послышалась немецкая речь. Говорили двое. Затем голоса стали удаляться. И наконец совсем стихли.
Друзья глянули друг другу в глаза. Сашко поднял к плечу стиснутый, кулак, решительно тряхнул головой. Давно уже у них выработался свой особый язык. Алексей ответил тем же. И крадучись поползли в разные стороны от пролома.
Уже через несколько метров Алексей обнаружил в стене еще одну брешь. И сразу же за ней увидел неглубокую траншею, на дне которой застоялась дождевая вода. Он сполз в нее и, пригнувшись, осторожно стал подбираться поближе к корпусам. Но снова пришлось затаиться. Совсем рядом послышалось хлюпанье грязи под сапогами. Выглянув из-за куста, Алексей замер: прямо на него с винтовкой за спиной, в низко надвинутой на лоб каске вразвалку шел кряжистый, коротконогий солдат. У траншеи он остановился. Прислушался. Забрызганные грязью сапоги оказались на уровне глаз десантника.
Пока Алексей раздумывал, как поступить, у противоположного угла раздался глухой звук, будто бросили на землю мешок с зерном. Немец вздрогнул и обернулся. И в тот же миг Алексей рванул его за ноги вниз. Часовой хлюпнулся в ржавую воду…
К траншее подполз Сашко.
— Здорово ты его! В нем же пудов пять, не меньше.
Алексей не ответил. Только сейчас он разглядел: поодаль, в стороне от других деревьев, словно расщепленная молнией, стоит черная, обугленная ольха. Та самая ольха, которую, в серебристой листве, густокронную, он написал маслом в самый канун войны…
В 3.45 в штаб отправили первую радиограмму:«Закрепились в порту, на территории судостроительного завода. Заняли элеватор. Пока не обнаружены. Готовимся к бою».
В 5.22. «Немцы хватились часовых. В перестрелке с дозором противника уничтожили трех гитлеровцев. Остальные отступили. Потерь нет».
В 6.01 «Атаковали одновременно с двух сторон. Численность противника до батальона. Принимаем бой».
ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!
С чердака трехэтажного здания конторы порта, где заняли оборону основные силы десантников, хорошо видны все подступы к причалам, к развалинам судостроительного завода. Хитрое переплетение кривых, петляющих улочек. Словно вцепившиеся друг в друга сложенные из желтого камня домишки. Густые заросли тамариска, акаций. У поворота изрытой воронками дороги сиротливо высится закопченная башня мечети. Алексею хорошо знакома эта окраинная часть Петровска, так называемый Старый город. Но теперь его не узнать. Покинутые жителями кварталы, обугленные телеграфные столбы, груды битого кирпича, словно потухшие свечи, черные остовы печных труб… Некогда шумный портовый район походит сейчас на раскопанный археологами мертвый город, от которого веет вечной тишиной.
Только трупы фашистов на пустыре перед элеватором да все еще стелющийся дым напоминают о том, что безмолвие пустынных улиц обманчиво, что вслед за первыми двумя атаками нужно ждать нового, еще более отчаянного натиска врага.
Из полуподвала, где разместился штаб десантного отряда, на чердак поднялся Доронин. Он без фуражки. У него перебинтована голова. В лицо въелась копоть.
— Внимательно наблюдайте за шоссе. Похоже, готовят гостинец. — Он поморщился от боли, но, перехватив встревоженный взгляд моряков, попытался улыбнуться: — Выше голову, гвардия!
— Есть наблюдать за дорогой? — откликнулся Алексей и расположился с биноклем у чердачного окна.
Сашко склонился над пулеметом. Достал новую ленту. У него все еще блестят на лбу мелкие бисеринки пота. У амбразуры в стене расположился Дмитрий Колесников, русоволосый молчаливый уралец.
Слева от элеватора в бинокль видна решетчатая, железная ограда. Почти вплотную к ней подходит кирпичное здание электростанции. Оттуда ведут огонь матросы и саперы из группы старшины Андрея Хворостова. Они первыми сегодня приняли на себя удар. Двое убиты, несколько человек ранены. Оттого-то к ним и поспешил Доронин. Алексею видно, как он поит из фляги перевязанного бинтами матроса.
А шоссе по-прежнему пустынно. Лишь откуда-то из-за железнодорожной насыпи доносится прерывистый рокот. На правом фланге, метрах в пятидесяти от них, — приземистая, с узкими, как бойницы, окнами, бетонированная коробка портового склада. Сейчас склад превращен в один из опорных рубежей обороны. Двенадцать десантников во главе с «батей» Кривцовым залегли у окон. За обитой железом дверью установили пулемет. У небольшого пролома в стене притаился лучший гранатометчик отряда Мухтар Алиев. В студенческие годы у себя в Фергане он был чемпионом по метанию копья. Порывистый, темноглазый, в бою он стремителен, неудержим. Посланная его рукой граната нередко взрывается за семидесятиметровой чертой.
Подле другого склада выросла внушительная баррикада. За ней окопалась небольшая группа моряков, среди которых выделяется плечистая фигура старшины второй статьи Кирилла Бочко. Рассудительный, неторопливый в движениях, он стал любимцем батальона еще с обороны Одессы. О нем рассказывали истории, похожие на легенды. Однажды, оказавшись без единого патрона в осажденном доме, он в течение часа отбивался от наседавших фашистов камнями и обломками кирпичей. Он мог отступить, выйти к своим. Но рядом были два обессилевших от ран солдата, и Бочко, как когда-то запорожцы с крепостного вала, обрушивал на головы врагов тяжелые каменные глыбы. И сумел-таки продержаться, пока не подоспела помощь. Четырежды врачи отправляли его в госпиталь, не надеясь на новую встречу. Но каждый раз где-нибудь на марше Кирилл догонял свой батальон, и скупая на шумные восторги морская пехота троекратным «ура!» встречала этого добродушного гиганта.
Алексей вдруг ощутил, что незаметно, вроде само собой, улеглось волнение, и столь необходимые в бою собранность и твердость руки снова вернулись к нему, как только он почувствовал близость друзей.
Над дорогой сгустилось сизое облачко пыли, затарахтели моторы. В развалинах и между уцелевшими домами вновь замелькали серо-зеленые шинели. Алексей подал условный сигнал: «Внимание!» Десантники приготовились к бою.
Пять моряков незаметно выдвинулись вперед и цепочкой залегли в окопе, откуда во время первых двух атак не раздалось ни единого выстрела. От группы Андрея Хворостова тоже отделилось четверо. Маскируясь, они поползли в сторону холма за заводской оградой. Среди них Алексей узнал юркого, похожего на цыгана сапера, с которым вместе плыл в лодке.
Неожиданно раздался густой протяжный свист, и рядом с элеватором взметнулся столб дыма и пыли. За ним — другой, третий. С визгом брызнули во все стороны осколки. Свист перешел в тягучий надсадный вой. Один за другим, содрогая землю, загрохотали разрывы мин.
— Из шестиствольных жарят! — прокричал Сашко и приник к пулемету. Колесников вскинул к плечу карабин.
Видно было, как из Петровска подтягиваются все новые группы солдат. Усилился и минометный обстрел. И все же фашисты медлили. Внимательно вглядываясь в развалины Старого города, Алексей наконец догадался, в чем дело. В разных местах, примерно с интервалом в двести метров, тщательно маскируясь, гитлеровцы выкатили четыре орудия. Едва успел он сообщить об этом связному Доронина, как из жерл одновременно вырвалось пламя. Страшной силы взрыв сотряс здание. Один из снарядов угодил в элеватор. Рухнули перекрытия третьего этажа, из окон потянуло гарью и дымом. И тотчас первая цепь атакующих пошла на приступ.
Все ближе серо-зеленые шинели. Все ожесточеннее орудийный огонь. Снаряды и мины кромсают, крошат, вбивают в землю остатки разрушенных строений. С перекошенными от крика ртами немецкие автоматчики, стреляя на бегу, наплывают лавиной на занятый десантниками плацдарм. За ними — вторая цепь, третья. Взахлеб стучат крупнокалиберные немецкие пулеметы.
— Подпустить ближе! — сквозь вой и грохот доносится снизу голос Доронина.
Старший лейтенант с пистолетом в руке пересекает двор и плашмя падает у баррикады, закрывающей пролом в бетонированной стене. В следующий миг он уже занимает место у небольшой амбразуры. У него сползла пропитанная кровью повязка. Рядом с ним, раскинув руки, уткнулся в землю плечистый сапер. На телогрейке у него расплылось темное пятно. Доронин поднял автомат убитого и громко скомандовал:
— Огонь!
Длинной очередью встретил фашистов пулемет Самоцветова. Поднявшись во весь рост, далеко и метко бросил гранату Мухтар Алиев. Прямо с гребня стены в упор по серо-зеленым ударил из ручного пулемета Кирилл Бочко. Алексей, сжав зубы, взял на прицел спешивших укрыться в воронке гитлеровцев; короткая очередь — и четверо повалились один за другим. Перебежал к другому окну — и снова заработал его автомат. На железной ограде повис тучный немец, Двое карабкавшихся вместе с ним рухнули навзничь на землю. Поредевшие ряды фашистов смешались.
Вторая же цепь, опьяненная азартом атаки, по инерции продолжала наступать. Слышно было, как немцы кричат:
— Рус, сдавайся!
И тогда подали голос пять моряков из окопа. Их поддержали залпом десантники из засады на холме. Удар был настолько внезапен и меток, что вмиг сломались ряды и во второй вражеской цепи. Немцы поспешно откатились и залегли. И тотчас над головами десантников вновь завыли снаряды. Орудия били прямой наводкой. После каждого взрыва вскипали облака дыма, копоти, едкой пыли.
На чердаке стало нечем дышать. Алексей подполз к окну, выходящему во внутреннюю часть двора. Распахнул створки — и окаменел от неожиданности. Сквозь свежий пролом в стене во двор ворвались фашисты. Впереди группы солдат бежал офицер. Они одновременно заметили друг друга. Немец вскинул пистолет. Алексей не целясь нажал на спусковой крючок. Обожгло плечо. Но, забыв обо всем, он кинулся по лестнице вниз. Вместе с ним навстречу фашистам бросились подоспевшие Колесников и Кирилл Бочко. Яростно сошлись в рукопашной. Перепрыгнув через труп офицера, Алексей прикладом сбил с ног фашиста, успел заметить, как уложил долговязого фельдфебеля Кирилл Бочко. Но тут что-то тупое ударило в грудь, и Алексею показалось, будто он падает в темную бездонную штольню. Падает и никак не может ухватиться за гладкие, ускользающие стены…
Придя в себя, он не сразу сообразил, где находится и что с ним. Раскалывалась голова. Бинты, туго стянувшие грудь, затрудняли дыхание. Было тихо. Сквозь разбитые стекла расположенных под самым потолком окон слабо пробивались мутные лучи солнца. Алексей приподнялся на локте. У противоположной стены стриженый парнишка-связист, обхватив голову руками, сидел у разбитой вдребезги рации. Значит, перенесли в полуподвал, в штаб отряда. А где же Сашко?
У двери группа десантников обступила Доронина. Примостившись на ящике из-под патронов, командир что-то быстро писал. Закончив, он громко прочитал:
— Мы, моряки и саперы особого десантного отряда, выполняя боевую задачу, отбили уже девять атак врага. Положение тяжелое. Нас окружили. Клянемся Отчизне, что здесь, на берегу Буга, будем драться с фашистами до последнего патрона, до последней капли крови.
— …до последней капли крови, — повторили за командиром десантники.
И здесь Алексей увидел стоявшего до этого в тени Самоцветова. Сашко подошел к Доронину и принял из его рук пакет.
— Надо доставить комбату. Вначале старайся плавнями, затем лесом. Особая опасность — минные поля. Гляди не сбейся с пути…
Снаружи снова загремели выстрелы. Где-то рядом тяжело громыхнул взрыв. Посыпалась штукатурка. Над Алексеем склонился Сашко. В синих глазах — тревога.
— Ну как, братишка?
— Уже поправляюсь, — невесело пошутил Алексей. Взял друга за руку: — Сашок… Ты слышь, возьми мои часы. Они с компасом. Чтобы не сбиться…
— Да что ты, Алешка! Не собьюсь…
— Бери, говорю. Все будет как надо…
Вскоре подвал опустел. Алексей долго лежал один. Он не знал, сколько прошло времени — час, два, а может быть, три… Попробовал встать. Ухватился одной рукой за выступ в стене, другой оперся о пол, затем о край ящика из-под патронов. Придавленная пустым автоматным диском, на ящике лежала карта-трехверстка. В глаза бросился обведенный красным квадрат 21-46. Порт, элеватор, пакгаузы — координаты десантного отряда…
Сверху доносилась частая пальба. Вокруг гремело, щелкало, ухало. Вытянув вперед руки, Алексей медленно направился к лестнице. Споткнулся, но удержался на ногах. Передохнув на перилах, снова двинулся вперед.
С трудом протиснулся в люк, затем ползком добрался до баррикады у ворот элеватора. Здесь теперь хозяйничали с «максимом» Колесников и взявшийся помогать ему связист. Они удивленно глянули на Алексея, но промолчали. Стриженый парень протянул ему свой автомат и кивком указал на ящик с гранатами.
Алексей сделал лишь несколько одиночных выстрелов, как вдруг снова все стихло. Немцы отошли назад и залегли за шоссе, метрах в двухстах от позиций десантников.
— Сейчас опять двинут со всех сторон, — устало сказал связист и покосился на Алексея. — С лимана фриц теперь тоже жмет. Катера подтянули…
Из-за поворота дороги показались два «тигра». Бронированные машины с лязгом и скрежетом двинулись через пустырь к элеватору. Моряки приготовили гранаты. Когда до укрытия десантников оставалось метров пятьдесят, машины остановились. Из орудийного ствола одного танка ударила маслянистая жидкость, из другого — струя огня. Пламя охватило стены элеватора, административный корпус, склады. В порту начался пожар.
Поливая баррикады и здания огнем, танки двинулись вдоль укреплений. С гранатами в руках Алексей бросился наперерез «тиграм». Передний танк грузно перевалился через стену из ракушечника и тараном пошел на баррикаду Андрея Хворостова. Гранатой и бутылкой с горючей жидкостью его остановил Кирилл Бочко. Но все так же лез напролом второй «тигр». Навстречу ему рванулся Колесников. Он метнул гранату и упал на груду дымящихся камней. Танк продолжал надвигаться, прижав десантников к земле пулеметной очередью. Алексей замер у края ограды. Вот уже «тигр» совсем рядом. Обдало горячей волной.
— Получай же за все! За Испанию! За батю! За Петровск!
Пошатнувшись, Алексей шагнул из укрытия и что есть силы бросил в пятнистый танк связку гранат…
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
— Капитан Рогов, — козырнув, представился Анне Георгиевне худощавый темноволосый человек в форме военврача. Под мышкой он держал большой пакет, завернутый в плотную бумагу и тщательно перевязанный шпагатом. — Мы покидаем ваш город. А у меня к вам важный разговор.
— Входите.
Они прошли через несколько темных залов. Под ногами хрустела штукатурка. В маленькой комнатушке, где теперь поселилась Анна Георгиевна, было так же сонно и тихо, как и во всем большом и угрюмом здании музея.
— Потревожил я вас, собственно, вот по какому случаю…
Все началось с той минуты, когда в санбат, разместившийся в старинном особняке с колоннами, двое санитаров осторожно внесли тяжело раненного лейтенанта-моряка. Накрытый черным флотским бушлатом, он глухо стонал. Голова и грудь моряка были забинтованы, и от этого еще темнее казалось его смуглое, покрытое крупными каплями пота лицо. Прощупывая пульс, Рогов подивился богатырскому сложению лейтенанта и тут же подумал, что возьмется его оперировать, каким бы ни был результат осмотра. Но уже через несколько минут понял, что спасти этого человека может только чудо. Две пули почти у самого сердца, осколочное ранение в голову, раздроблено колено, большая потеря крови. И все-таки Рогов решился:
— В операционную. Срочно!
С тонким сухим шуршанием ланцет рассекал сплетения мышц. Медленно вздымались и сразу же опадали легкие. А рядом, едва не касаясь руки хирурга, устало пульсировало сердце. Натуживаясь из последних сил, оно упрямо продолжало выстукивать свою угасающую «морзянку».
Только через полтора часа, передав инструмент ассистенту, Рогов вышел в коридор. Кое-как добрел до окна. Подставил голову теплому ветру. В лицо плеснулся каравайный запах распаренной, слегка дымящейся земли.
— Товарищ капитан… — Неслышно к нему подошла Зина Осадчая, молоденькая кареглазая медсестра, прозванная в санбате Светлячком. — Что с моряком?
— Накладывают швы.
— Выживет?
— Пока жив.
Что он мог еще сказать? Одной операцией тут не обойдешься.
Зина спустилась по лестнице в сад. Рогов не видел ее лица, но знал, что по щекам у Светлячка сейчас катятся слезы.
Полтора года назад эта тоненькая городская девушка, мечтавшая стать артисткой, пошла на курсы медсестер. На фронте, таясь от товарищей, в часы ночных дежурств она читала книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве» и, закрыв глаза, шепотом произносила на память длинные монологи из Шиллера и Шекспира. Она и не подозревала, что о ее увлечении знает весь санбат. Выглядела Зина чересчур уж хрупкой, насквозь гражданской. Даже пилотку носила как шляпку. И вначале Рогов не без раздражения удивлялся, как это ей, такому Светлячку, удалось попасть на фронт. Но однажды, увидев, как она тащила на себе из-под обстрела раненого бронебойщика, он стал по-другому воспринимать и ее мечтательность, и само ее присутствие в санбате. И думал теперь о ней неизменно с нежностью. Оттого и не смог отказать, когда Зина снова подошла к окну и попросила:
— Товарищ капитан, разрешите сопровождать раненых. Все-таки будет тяжелый…
— Только возвращайтесь скорее. И будьте осторожны, — не удержался Рогов, хотя уже тысячу раз давал зарок никого не напутствовать этими нелепыми словами.
Примерно через час в санбат прибыл на мотоцикле связной из штаба.
— Специальная передача для гвардии лейтенанта Нарожного. — Связной протянул Рогову большой запыленный пакет.
— Что это?
— Сказано, картина. Для моряка. В штабе так полагают: будет при нем — скорее вернется в строй.
— Плохо с моряком, — вздохнул Рогов. Он сразу догадался, о ком идет речь. — Отправили в тыл. Надежды почти никакой.
— Жаль… Парень-то вроде Поддубного. — Мотоциклист сокрушенно развел руками. — И с картиной теперь…
— Погоди, — остановил его Рогов. — Давайте-ка ее сюда. Будет жив твой лейтенант, приедет после войны в Петровск и найдет свою картину в здешнем музее. Так в штабе и доложи. — И поинтересовался: — А что за картина такая? Художник он, что ли?
— Понятия не имею, — пожал плечами связной. — Может, кто подарил. А могло статься, сам нарисовал. Нынче все в форме. Поди разберись, кто из них, кабы не война, был бы сейчас инженером, а кому в художниках ходить. Третьего дня вон зенитчики одного своего схоронили. Смирный такой, неприметный был. Спирта в рот не брал. А оказалось — знаменитый человек. В самый раз перед войной новую звезду на небе открыл. Вот ведь бывает.
Распаковав пакет, Рогов прислонил картину к колонне. Отступив на несколько шагов, сощурил глаза.
Но тут же встрепенулся, вытер рукавом повлажневший лоб.
— Ух ты, черт!..
С туго натянутого холста живыми, раскаленными болью и гневом глазами в упор на него смотрел смертельно раненный моряк. В какой-то дерзко самобытной манере художнику удалось запечатлеть неповторимый миг наивысшего напряжения человеческой воли. Солдат морской пехоты был изображен по грудь. Но угадывались по всему и ураганный разворот могучего торса, и намертво сжатая в правой руке тяжелая связка гранат. Виделось уже за краем холста: мгновение — и пружинистым рывком моряк бросается вперед, навстречу надвигающемуся танку. Ни в ту минуту, ни после Рогов так и не мог объяснить, почему, глядя на этого человека в выгоревшей бескозырке, он сразу же подумал о подвиге. Одно он мог сказать наверняка: ощущение героического момента, неистребимой жажды боя нарастало по мере того, как взгляд все глубже проникал в суровую синь бушующих глаз матроса.
Художнику не удалось закончить портрет. Были проработаны только основные линии лица. Кисть металась по холсту очень нервно. Отдельные детали были лишь намечены коротким мазком. Художник торопился, быть может, накануне боя, в минуты недолгого затишья, уловить и перенести на холст самое главное, без чего немыслимо было бы представить образ воина, стоявшего у него перед глазами.
Рогову вспомнился далекий довоенный вечер в Андреевске, когда в актовом зале мединститута он доказывал пришедшим на диспут горнякам, что Врубель никакой не декадент, а лучше Васильева никто еще не мог проникнуть в душу русской природы. «Ничего! — захотелось ему вдруг крикнуть во весь голос. — Все еще будет! И картины, и музыка, и чтение книг до утра! И снова будут мечтать ребята о вьюжных зимовках и дальних перелетах, об операциях на сердце и бог знает о каких фантастических подвигах и делах!.. И тогда, подумалось ему, глядя на картину, рожденную в окопах, быть может, яснее представит себе какой-нибудь безусый парнишка, что такое настоящая мечта и что ему самому нужно совершить, чтобы шагнуть от нее еще хотя бы на шаг вперед».
Взяв портрет, Рогов вышел на крыльцо и здесь столкнулся с Зиной Осадчей. Она только что возвратилась из рейса.
— Ну как, довезли?
— Жив, — прошептала Зина и, увидев портрет, удивленно отстранилась. — Откуда это у вас?
— Для моряка передали. Для Нарожного. Больше пока ничего не знаю, к сожалению…
Зина вдруг заговорила горячо, быстро.
— Моряк-то всю дорогу метался. Бредил, клятву какую-то вспоминал. И ласково так звал кого-то: «Браток… Браток…» И про портрет говорил…
— Что говорил?
— Не помню, товарищ капитан. — Зина виновато потупила взгляд. — Где уж там было слушать. Боялась, бинты сорвет.
Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать…
Рогов внимательно посмотрел на Анну Георгиевну.
Она продолжала молчать. Лицо ее было неподвижно.
— Я думал, вас заинтересует эта история. Пытался даже выяснить некоторые подробности. — Женщина отвернулась к окну. Рогов окончательно смутился. — Перед войной Нарожный учился в кораблестроительном. Похоже, что неплохо рисовал. У него даже прозвище было Художник. А вот о портрете толком не знает никто. Могли бы что-то подсказать его друзья. Только все они погибли во время десанта. Я, собственно…
— Среди десантников был мой сын, — не оборачиваясь, прервала его Анна Георгиевна. — Был… — голос ее осекся. — Понимаете?..
Рогову показалось, что в комнате качнулись стены. Он медленно поднялся, не глядя нащупал фуражку.
— Понимаю.
И торопливо стал заворачивать портрет, который уже совсем было распаковал. Бумага зашелестела на всю комнату.
Анна Георгиевна обернулась. Солнечный свет из окна позолотил ее седые волосы.
— Не нужно. Пусть останется здесь. — И неуверенно добавила: — Здесь ведь все-таки музей….
СЕРЕЖКА
В тот день Анна Георгиевна впервые после освобождения города ощутила желание что-нибудь сделать, приложить к чему-то истосковавшиеся по доброй работе руки. Она разыскала лопату и попыталась вскопать палисадник. Но земля была твердой, спекшейся, как шлак. То и дело лопата со скрежетом натыкалась на обломки камней, на еще не успевшие заржаветь осколки, куски металла с рваными краями. А ведь до войны под окнами музея цвели георгины, ярко пылали маки, до поздней осени тянулись к солнцу ослепительно белые астры…
А сейчас… К чему это все? Для кого? Чего еще ждать от жизни? Ни близких, ни друзей. Ни надежд, ни сил… Вот мимо идет босоногий сероглазый мальчишка. Старенькая, рваная куртка с чужого плеча, противогазная сумка за спиной. Есть ли у него дом, есть ли у него на обед хотя бы черствая корка хлеба? А сколько сейчас таких обездоленных, исхлестанных горем людей. Какие уж тут цветы и пейзажи…
Мальчик засмотрелся на рельефные изображения бронзовых львов, которыми была украшена дверь музея.
С деловым видом он подошел ближе, окинул взглядом все здание и удовлетворенно кивнул головой:
— Я враз узнал — картины тут!
Анне Георгиевне понравился его выговор, мягкий и в то же время чуть-чуть гортанный. Так говорят на Херсонщине, на приморском юге Украины. Она подозвала мальчишку. Тот, не дожидаясь приглашения, присел на ступеньку.
— Почему ты решил, что здесь картины?
— Тю! Да у нас такая карточка була.
— А где же твой дом?
— Спалили нашу хату. — Мальчик по-взрослому развел руками. — Нема зараз ничо́го.
— Ты что же — один?
— Звичайно, один. А то с кем же?.. — В неторопливой речи мальчишки причудливо смешались русские и украинские слова. Чувствовалось, что он уже давно бродит по пыльным дорогам и жизнь научила его не сразу выкладывать людям нелегкие раздумья о своей неладной сиротской судьбе. — Сестра була. В Неметчину угнали. Где там дождаться…
— Плохо одному…
— Погано, — со вздохом согласился мальчишка и снова не по-детски строго посмотрел на Анну Георгиевну. Да так, что ей даже сделалось не по себе. Захотелось обнять этого доверчивого мальчугана, прижать к груди его русую голову, сказать ему ласковое слово, чтобы он тут же повеселел, разом позабыв свои горести и тревоги.
— Зовут-то тебя хоть как?
— Сережка… Бойко…
У него едва приметно дрогнули губы. Наморщив лоб, он энергично шмыгнул носом.
— Я человека насквозь бачу. — Он хитровато прищурился. — Вот вы добрая. Потому и я к вам чин чинарем.
Тут он ловко снял свой «противогаз» и вытряхнул прямо на крыльцо целый склад провианта: две банки тушенки, большой кусок пшеничного хлеба и синенькую пачку рафинада. Торопясь, пояснил:
— Иду по улице, писни спиваю, а назустрич — командир якийсь. Поманил до сэбэ и банки дае. Беги, каже, до музея скорийш, щоб аж штаны в шагу трещали. Весь груз передай гражданке, которая там живет… А сам, каже, держи шматок сала с горбушкой. Я то сало з одного разу ковтнул. Ох и вкусное. Чистый сахар! — Сережка кашлянул и подвел итог: — На месяц добра.
— Послушай. — Анна Георгиевна не знала, что и подумать. — Кто же все это прислал?
— Да я вже ж казав. — Сережка снова надел сумку через плечо. — Командир якийсь. Я спочатку думав, родич ваш. А вин просто хитрый. Станет тебя, каже, спрашивать, хто передал, отвечай: старичок усатый. От ведь придумал! А еще капитан, и в фуражке…
Анна Георгиевна вспомнила недавнего гостя, его рассказ о неизвестном художнике и остро ощутила вдруг, как в сердце, наперекор нестихающей боли и горьким думам последних дней, оттаивает, оживает то самое, извечно живущее в человеке тепло, без которого нельзя идти к людям, смотреть им в глаза.
— Сережка, — она обняла его за плечи, — а хочешь… — И увидев, что мальчик растерянно улыбнулся, отчего-то вдруг неестественно звонко сказала: — Хочешь, я угощу тебя печеной картошкой?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
— Понимаете ли, собственно, в чем здесь загвоздка, — расстроенно объяснил Зине Рогов. — Не найти сейчас людей, которые близко знали Нарожного. А сам лейтенант, вчера сообщили, в безнадежном состоянии. Даже не, приходил в сознание. Вот и докопайся теперь, кто автор портрета. А ведь такой талантище!
Они начали грузить санбатовские машины.
— Что уж вы так убиваетесь, товарищ капитан? — Зина укоризненно покачала головой. — Похудели совсем. Будто вините себя за что. Да если бы не война…
— Знаю, что война. А только подвиг не должен затеряться во времени. Поймите, Зина, тот, кто написал этот портрет, что там ни говори, — самый настоящий герой. Мне даже кажется, что между десантом и неизвестным художником определенно есть какая-то связь.
— Вы говорили, у Нарожного среди десантников были друзья, — напомнила Зина.
— Беда в том, что никто не назвал их по имени. Да и кого, собственно, искать? Почти все десантники погибли. — Рогов вздохнул. — Не за что даже зацепиться, чтобы построить хоть какое-то предположение.
— Вы, товарищ капитан, — улыбнулась Зина, — прямо как Шерлок Холмс. Неизвестно ведь ничегошеньки. А вы по каким-то крохам, намекам…
— Верно, знаем мы пока что весьма немного. Да только Конан Дойл тут ни при чем. Проницательный джентльмен с Беккер-стрит искал, насколько помнится, преступников. Похитителей там разных, шантажистов, охотников до чужого наследства. А мы с вами ищем героя.
Рогов задумался, барабаня пальцами по дверце фургона. Потом вдруг хватил по ней кулаком:
— Вот увидите, Зина, настанут еще такие времена, когда по всему земному шару будут разыскивать героев: затерявшихся в дебрях путешественников, приземлившихся в пустыне авиаторов, пропавших без вести первопроходцев. Вот, это скажу я вам, будет время!..
— Товарищ капитан! — К ним подбежал шофер головной машины. В руке он держал газету. — Наша, армейская. Только что получили. Вы, говорят, Петровским десантом интересовались…
Рогов торопливо развернул еще пачкающий краской влажный номер. Зина тоже склонилась над газетой. Через весь разворот чернел крупно набранный заголовок:
ПОДВИГ, О КОТОРОМ НЕ ЗАБУДУТ ПОТОМКИ
Рогов уже знал в подробностях все, что было связано с десантом. У братской могилы на берегу Буга ему рассказал о двухдневном сражении в порту бородатый осанистый старик, которому довелось беседовать с солдатами, пришедшими вслед за десантниками. И все-таки очерк военного корреспондента заново заставил пережить и осмыслить подвиг героев черноморцев. Отдельные строки удивительно соответствовали душевному настрою и мыслям Рогова и, казалось, были адресованы непосредственно ему. Он жадно вчитывался в них, втайне надеясь найти хоть маленькую детальку, которая бы дала верное направление начатому им поиску.
«…Фашисты окружили десантников тройным кольцом. Против них было брошено четыре батальона пехоты…
К исходу первого дня из 67 человек в живых осталось лишь 38…
Не хватало бинтов для перевязки ран…
После гибели Доронина командование отрядом взял на себя старшина Андрей Хворостов. Во время огнеметного залпа он получил сильные ожоги, но не покинул своего поста…
Гвардейцы отбили 18 атак. Они уничтожили более 700 гитлеровцев, подорвали четыре танка…
Когда в город вступили наши войска, навстречу им из обгорелых развалин с автоматами в руках вышли восемь десантников…»
— Постойте, постойте… — Рогов сложил газету. — Ведь если этот журналист виделся с теми, кто остался в живых, он может нам кое-чем помочь.
— Здесь ничего об этом не сказано, — возразила Зина.
— Но ведь в конце стоит: «Продолжение следует». Значит, у него в блокноте остались еще какие-то записи. Вполне возможно, что это именно то, что нам нужно.
Рогов взглянул на часы. До отправки оставалось всего несколько минут.
— Скажите, что я к связистам, звонить в редакцию, — предупредил он Зину и, размахивая газетой, бегом бросился через дорогу.
Вернулся Рогов расстроенный. Скручивая цигарку, досадливо поморщился:
— Не повезло. Журналист, который про десантников написал, срочно выехал на передовую. И, как назло, уже два дня о нем ни слуху ни духу. Вот, собственно, и все. Ничего больше в редакции добавить не могут. Какой-то замкнутый круг.
В ГОСТЯХ У ЛЕВИТАНА
Анна Георгиевна называла полуразрушенные залы и комнаты их старыми, довоенными именами. Сережка быстро привык к этому. Уже через неделю он твердо знал, где зал Верещагина, где начинаются владения Айвазовского и куда нужно свернуть, если идешь по темному коридору первого этажа, чтобы попасть в гости к художникам XVIII столетия.
Но он невольно поежился, когда Анна Георгиевна однажды сказала:
— А вот здесь у нас был Левитан.
— Кто, кто? — недоверчиво переспросил Сережка.
— Левитан, — Анна Георгиевна не могла понять, что так смутило мальчишку. — Ты когда-нибудь раньше слыхал о нем?
— А як же… У него дочка була и хлопчик курчавый…
— Ты что-то путаешь, Сережа.
— Чого мени путать, колы той Левитан нашим сусидом був. В аптеке робыв, завжды у билом халати. Немцы його из винтовок… — Сережка перешел на шепот. — Я сам бачив. За школой, в яру. И жинку його, и диток…
Анна Георгиевна зябко повела плечами.
— Вы, мабуть, знали другого Левитана? — предположил Сережка, все еще не решаясь переступить порог полутемной комнаты.
— Да, сынок, другого, — согласилась Анна Георгиевна и толкнула висевший на одной петле ставень. В комнату хлынул яркий дневной свет.
Сережа зажмурил глаза, а когда открыл их — увидел перед собой широкоплечего матроса, который исподлобья смотрел прямо на него. Постепенно выступили высветленные солнцем очертания мольберта и закрепленного на нем портрета. Но все-таки осталось такое ощущение, будто в комнату вошел еще один человек.
— Анна Георгиевна… — от волнения у Сережки перехватило голос. — Так я ж цього матроса бачив недавно. Не на картине, а живого. Як вас. Колы десантников ховалы, его под руки пидвелы. Бо раненый вин був.
— А ты не ошибся, Сережа?
— Що ж я, по-вашему, слепой, да? — Он замолчал, заметив, что Анна Георгиевна уже не слышит его.
Она подошла к портрету, взялась за подрамник и долго так простояла, не шевелясь, не говоря ни слова. Потом отступила на шаг и прошептала странные слова:
— Нет, не его рука…
Какая еще там рука? Сережка недоуменно уставился на портрет. Моряка видно только по грудь. И вообще руки тут ни при чем. Человека надо примечать и узнавать по глазам. По взгляду Сережка этого моряка запомнил. Ни за что не спутает его ни с кем другим. Даже если у того брат родной отыщется и станет рядом, и то отличит.
Анна Георгиевна тем временем принялась рассматривать портрет с обратной стороны. Она ближе поднесла его к свету, потерла тряпочкой подрамник и снова покачала головой:
— И почерк, конечно, не его…
Скрипнула дверь. Сережка и Анна Георгиевна обернулись. На пороге стоял бородатый сухощавый старик с потухшей трубкой в зубах.
— Доброго здоровья, Анна Георгиевна. Не признали?
— Афанасий Ильич!..
Как она могла его не узнать, бессменного и верного стража музея, который с такой гордостью любил повторять, что к картинам он приставлен еще с того самого времени, когда в Петровск впервые, проездом из Феодосии, заглянул сам Иван Константинович Айвазовский. Впрочем, эту живописную подробность Афанасий Ильич мог и присочинить. На весь город славился он своими бесконечными рассказами о громких морских баталиях, в которых даже свидетелям тех событий нелегко было отличить правду от вдохновенного домысла.
В начале войны Афанасий Ильич, путаясь в туманных рассуждениях о чувстве долга и нелегкой стариковской доле, сердечно распрощался с Анной Георгиевной и поспешно куда-то уехал. Каково же было ее изумление, когда однажды знакомая рассказала, что видела Афанасия Ильича в плавнях, у партизан.
— Дай, думаю, загляну, — нерешительно промолвил теперь Афанасий Ильич. — Може, музей вже открываете…
— Не до музеев сейчас.
— Хотите сказать, не время? А вот в девятнадцатом году…
— К чему воспоминания, Афанасий Ильич? У людей столько горя…
— Знаю. Слыхал… — Старик насупил кудлатые брови. — А только девятнадцатый зараз згадать не грех. В разруху, под махновскими пулями, а все ж таки открыли тогда музей. Такой приказ нам в ту пору вышел.
— А чей же то був приказ? — спросил Сережка.
— Ленина, сынок. Владимира Ильича. — Афанасий Ильич взъерошил ему волосы и добавил, обращаясь уже к Анне Георгиевне: — Потому и прийшов я до вас. Вы уж извиняйте, раньше не смог. Школу треба было ладнать.
Только сейчас Анна Георгиевна заметила, что в руке старик крепко сжимает рубанок, а за поясом у него заткнут отточенный до блеска топор. Она кивнула ему в ответ.
— Ну, готовь, помощник, инструмент. — Афанасий Ильич подмигнул Сережке, — Глядишь, Анна Георгиевна тем часом картину закончит. — Он сощурил глаза, чтобы лучше разглядеть портрет моряка.
— Не мой это холст, Афанасий Ильич. Неизвестного художника.
— Все одно — знаменито. Морская глубина, да и только! Как говаривал покойный Иван Константинович.
Когда Анна Георгиевна вышла проводить гостя, Сережка бросился к портрету. На обратной стороне картины, на подрамнике, он увидел полустертую непонятную надпись: «Пам. сат. О. и А. Р.». Сделана она была чем-то острым, скорее всего, гвоздем. Что бы что могло означать? Поди догадайся.
Сережка пожал плечами и аккуратно поставил портрет на место.
КОНВЕРТ ИЗ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ
Зина, спотыкаясь в темноте о крючковатые корневища, опрометью бежала через лес. Вот наконец и опушка. Здесь, в небольшой мазанке, крытой жухлой соломой, разместили раненых. Сами санбатовцы устроились на ночлег в палатках и прямо в фургонах.
Тяжело дыша, Зина поднялась на крыльцо. Бесшумно отворила дверь, на цыпочках прошла через сени в крохотную комнатушку, служившую когда-то кухней. За столом, на котором дымила сделанная из гильзы коптилка, уронив голову на руки, дремала дежурная сестра. Она тотчас вскочила и растерянно заморгала глазами.
— Ты что? Смена?
— Да нет же, — отозвалась Зина. — Вернулась я.
— Вот еще новость. С чего это вдруг?
— Да все из-за того сапера. Осколок у которого в руке. У окна мы его уложили.
— Забудешь такого! Ругался-то как — помереть ведь можно! В редакцию, мол, ему надо, а не к хирургу. А сам потом как стоял, так без сознания и повалился.
Зина покосилась на дверь, приоткрытую в другую комнату, и понизила голос:
— Я гимнастерку его брала починить. Рукав-то мы ему до самого плеча распороли.
— Так ты еще в дежурство его зашила.
— Зашить-то зашила, а вот это… — Зина показала сестре самодельный конверт из газетной бумаги. — Вынула из кармана, когда пуговицу пришивала, а потом закрутилась и с собой унесла. Спохватилась — бегом назад. Человек, может, тревожится. Вдруг у него здесь письмо из дому.
— Ненормальная, — всплеснула руками дежурная. — Спит твой сапер без задних ног. Отдыхала бы лучше. — Ворча, она взяла со стола коптилку и, прикрыв пламя ладонью, кивнула Зине: — Ладно уж. Коли принесла — положим на место. Тоже мне, не могла подождать до утра…
Тусклый дрожащий огонек слабо осветил квадратную комнату с глиняным полом и низко нависшим потолком. На раскладных кроватях, тесно составленных одна к другой, а то и просто на сдвинутых лавках лежали раненые — все больше молодые ребята, каждый в замысловатых переплетениях бинтов. Койка у окна была пуста, одеяло валялось рядом на полу.
— Вот это номер… — упавшим голосом протянула дежурная и, задув огонь, приподняла край маскхалата, которым наглухо было завешено окно. На подоконнике лежала подушка. Одна из створок была распахнута. Ее слегка покачивал ветер. — Проглядели… Сбежал…
Зина молча вышла из комнаты. Устало опустилась на табурет, меж бровей залегли две хмурые короткие морщинки.
Исчезновение сапера выглядело более чем странным. Раненые, случалось, сбегали из медсанбата и раньше: Особенно часто в пору летних наступлений. Но делалось это всегда с единственной целью: оказаться в своей родной части. И, право, порою трудно было осуждать этих отчаянных людей. А вот шумливый сапер за все время ни разу не помянул передовую. Люто кляня врачей, он с первой же минуты рвался лишь в редакцию, и только туда…
Поколебавшись с минуту, Зина решительно вскрыла конверт. На стол посыпались мятые, обгорелые клочки бумаги. Это были обрывки листков из блокнота. Тут же оказался лоскут полосатой матросской тельняшки. На нем темное, запекшееся пятно.
Она взяла наугад несколько клочков, поднесла их к свету. Написанные карандашом полустертые буквы. Но вот они слились в первое, мало-мальски понятное слово, еще в одно…
Зина бросилась будить Рогова.
— Товарищ капитан! Товарищ капитан! Проснитесь наконец!
И вот уже лежат на планшете тщательно подобранные один к другому желтоватые обрывки бумаги, густо исписанные ровным упрямым почерком. С волнением следит Зина за движением рук капитана. Они — как во время операции. Неторопливые, спокойные и вместе с тем энергичные, чуткие, удивительно осторожные. Ей всегда казалось, что капитан должен хорошо играть на рояле — такие у него тонкие, музыкальные пальцы. Как ловко и быстро составляет он из разрозненных обгоревших клочков все новые и новые варианты и комбинации слов. Постепенно, одна за другой, пусть пока еще смутно, но все-таки вырисовываются первые фразы… Нет, наверное, Рогов в душе все-таки не музыкант, а самый настоящий исследователь, кропотливый, настойчивый, мудрый…
— А теперь, Зина, — сказал наконец капитан, — попрошу вас это записать. В точности. Вся штука, собственно, в порядке слов. Где пропуск — ставьте многоточие…
Мимо молодых дубков и ветвистых грабов, пустынными полянами и глухими балками, на дне которых журчат запоздалые ручьи, плывет над землею, прислушиваясь к далеким орудийным раскатам, влажная апрельская ночь. Положив на колени толстую тетрадку в клеенчатом переплете, Зина Осадчая аккуратно выводит карандашом букву за буквой, слово за словом:
«…рмовали Петровск… кое теперь не забыть. Они спешили, но подоспели слиш… …вном бою. И се… …ди смотрели на… …ез рамы и да… …лаза моряка прожи… …жать волнения… …сжатые кула… …ли. Все подходили по очереди и… …ло было сказа… …рдце. Молодой лейтенант но… …чты. И подвиг мор… …ерез всю жизнь! Это… …рская клятва. …икто не знал, откуда он по… …шли в засыпанном блиндаже, ког… …рнут в плащпалатку пол… …к будто хотел прикрыть своим те… …ерное, будет трудно… …ник был в… …шенно необходимо на… …ликвия, символ! Я ду… …лант и еще ка… …др… цветов…»
— Это про портрет, точно! — не выдержала Зина, — Ведь все же сходится. Прямо до точечки!
— Ну-ну… — подбодрил ее Рогов. Сам он с выводами не спешил.
— Без рамы… Художник… И глаза у моряка на картине такие, что век не забудешь…
— Десант. Находка в блиндаже. Клятва перед реликвией, которая священна для каждого моряка… Это мы, пожалуй, расшифровали точно. А вот художник, портрет… — Это пока лишь догадка. Весьма вероятная, но догадка.
— Да что вы! — удивилась Зина. — Тут же ясно сказано о лейтенанте…
Договорить она не успела. Снаружи послышались шум, приглушенные голоса. Рогов распахнул полог, закрывавший вход в палатку. Из темноты шагнули двое.
В одном Зина сразу же узнала ефрейтора из сопровождения.
Второй, что был пониже, тоже показался ей знакомым.
— Разрешите доложить… — начал было автоматчик, но Зина и Рогов поняли уже все без слов.
— Беглец? — сердито бросил Рогов. — Недалеко ушел.
— Сам я, товарищ капитан, воротился.
— Верно, сам, — подтвердил автоматчик.
— Совесть заговорила?
— Промашку я дал, — сокрушенно вздохнул сапер. — Бесценный документ при себе имел. Не уберег. Теперь, стало быть, в газете мне и показываться нельзя.
— Что еще за документ?
— Человек тут один важную запись вел. Для истории, говорил, истинный клад. — Сапер провел здоровой рукой по лицу. — Недолго он с нами пробыл. Два дня, ну, малость поболе… А память теперь, считай, на всю биографию. Потому как искорка в нем особенная была. Не вдруг такого отыщешь. Даже среди нашего брата, сапера, — и то… Только получилось оно у нас неладно. На минном поле немец с воздуха накрыл. Так он — верите, нет — товарища нашего… Ранили того… Метров шестьдесят на себе тащил. Вместе они на мине и подорвались…
— Он был из флотских? — тихо спросила Зина. — Тут вот тельняшка…
— Маленько не так. Моряцкий это подарок. Он завсегда ее под гимнастеркой носил. Даром что корреспондент.
— Корреспондент? — переспросил Рогов. — Блокнот, выходит, его?
— А то чей же.
— Постойте, а о какой-нибудь картине он говорил?
— Нет, товарищ капитан, такого ровно не припомню. Наказывал только, ежели что случится, блокнот в редакцию передать. Оттого я давеча перед операцией и пошумел. Все одно в газету мне надо.
— А как хоть звали того журналиста?
Сапер вытащил из кармана целую пачку перегнутых вчетверо газет. Выбрал одну из них и отчеркнул ногтем обведенную карандашом статью.
Зина и Рогов переглянулись. Это был очерк о героях Петровского десанта.
НАХОДКА В ПОДВАЛЕ
Сережка разбежался, оттолкнулся босыми ногами от нагретой солнцем земли и очутился на зубце разрушенной стены. Держась за карниз, добрался до небольшой площадки, посередине которой чернело круглое отверстие. Он уже не раз бывал в порту, облазил сверху донизу все развалины, но всегда с опаской проходил мимо этого люка. Ему казалось: там, в глубине, — бездонный и гулкий колодец. Только шагни — и поминай как звали.
Кинув в люк камень, Сережка прислушался. Чернота сразу же отозвалась шумом. Камень зацокал вроде бы по ступенькам. Сережка почесал затылок, поразмыслил и решился. Была не была! Достал из кармана огарок свечки. Зажег его и поднес к отверстию. Тронул ногой первую ступеньку, поежился, но все ж таки медленно начал спускаться вниз.
Подвал оказался совсем неглубоким. Если бы не засыпало под потолком окна, сюда бы даже проникал дневной свет. И тогда было бы не так жутко. Свеча, она тебе не лампочка электрическая. Осветит кусочек под ногами, а по стенам такое раскидает, такие тени развесит, что хоть назад беги.
Сережка споткнулся о поломанный ящик. Еле удержался на ногах. Посветил в углу. Меж обломков кирпичей и обвалившимися кусками штукатурки торчали оборванные провода, расколотые радиолампы, валялись расплющенные и погнутые рычажки, колесики, спрессованные серебристые пластинки. Осторожно двинулся вдоль стены. Сделал шаг, другой — и нога увязла в чем-то сыром и мягком. Сережка поставил свечку на каменный выступ. Пригляделся. Придавленный кирпичами, припорошенный известкой, на полу истлевал изодранный матросский бушлат с потускневшими медными пуговицами. Потянул его к себе, отряхнул от пыли. И тут же услышал, как что-то звякнуло у самых ног. Пошарил рукой. Ничего. Поразбросал кирпичи. Поставил свечку на пол. Снова принялся искать. И у самой стены увидел небольшую металлическую коробочку. Она оказалась пустой. Через всю крышку, надвое разрезав плохо различимую надпись, тянулась глубокая бороздка-вмятина. С боков коробочка сохранилась лучше, но была в темных подпалинах.
Неожиданно за спиной у Сережки что-то щелкнуло. Он вздрогнул, не сразу догадавшись, что это отвалился от стены кусок штукатурки. Добре хоть от стены. А когда б с потолка. Да не штукатурка, а, к примеру, кирпич… Сережка схватил свечку и, боязливо озираясь, заторопился назад, к лестнице.
За спиной снова грохнуло. Теперь уже сыпалось сверху. В подвале всклубилась пыль. Запершило в горле, защекотало в носу.
Сережка, едва коснувшись перил, прытко застучал босыми подошвами по ступенькам. Попав наконец в полосу света, зажмурил глаза и ощупью стал искать край люка. И здесь он почувствовал, как кто-то схватил его за руку и рывком вытащил наверх. Сережка даже не успел закричать.
Перед ним стоял Афанасий Ильич.
— Хиба ж так можно? — сердито шевельнулись у старика мохнатые брови. — Я ж тоби наказав кирпич та плитку собирать, а ты по пещерам лазишь.
Сережка кивнул в сторону собранных кучкой плиток и обиженно засопел носом.
— Ладно, — смягчился Афанасий Ильич. — Пишлы. Работы у нас богато.
Он подобрал плитки, кинул в мешок несколько целых кирпичин. Оставшимися плитками Сережка набил противогазную сумку.
Поплутав немного в руинах, вышли на тропинку, уже хорошо протоптанную до самого города. Молча миновали элеватор, разбитую в крошку ракушечную стену, покореженную пожаром ограду. Дальше стежка свернула к причалам.
Афанасий Ильич вдруг остановился, придержал Сережку за плечо.
На поросшем молодой травой склоне, что полого спускался к реке, у братской могилы десантников неподвижно стояла Анна Георгиевна. Ветер развевал ее седые волосы, рвал с плеч черный платок. Сцепив на груди руки, она глядела в даль пустыря, на котором одиноко чернела обугленная ольха.
Они дождались, когда Анна Георгиевна тронулась с места. Проводили ее взглядом и только тогда снова вышли на тропинку.
Афанасий Ильич вышагивал не спеша, попыхивал трубкой. Сережка семенил следом. Ремень противогазной сумки резал плечо. Немного ныла спина. Все-таки в который уже раз вот так, и все с грузом, и в гору. Но отчего-то сама собой выпячивалась колесом грудь и хотелось, чтобы пот еще обильнее стекал по лицу. И совсем уж было бы здорово, если б увидели его сейчас хлопцы-дружки, с которыми вместе когда-то ходил в ночное, гонял по Ингулу плоты.
У могилы они остановились. Разложили на земле все, что принесли с развалин. Афанасий Ильич скинул пиджак, поплевал на ладони и достал из-под камня припрятанные с вечера саперную лопату и мастерок. Споро взялись за дело. Первым долгом выложили весь холм по основанию кирпичом, будто заключили в красную рамку. Затем принялись одевать плиткой осыпающиеся скосы. За рядом ряд. Сережка очищал и подавал разноцветные плитки. Афанасий Ильич сноровисто и аккуратно подгонял их одну к другой.
Солнце уже начало сползать к горизонту, когда они наконец добрались до самого верха могильного холма. Утрамбовав землю вокруг столбика, на котором была прикреплена жестяная пятиконечная звезда, Афанасий Ильич задумчиво сказал:
— Тут бы памятник на века поставить. Щоб хто ни прошел, поклонился героям, згадал про их подвиг. — Он зачерпнул у края могилы пригоршню земли, высыпал в платок и туго завязал его узлом.
— Навишо це вы? — удивился Сережка.
— Внукам своим передам, щоб такими ж выросли, як герои-десантники. — Он расстегнул ворот вышитой холщовой рубахи. — Мени мой батько колысь из Севастополя, с Крымской войны, землю в кисете привез. По сей день, сынок, храню, як святыню…
С лимана, подвывая, дул ветер-свежак. Запах водорослей смешивался с тминным ароматом молодой листвы. А от руин по-прежнему тянуло порохом.
Сережка наклонился, взял горсть сероватой от пепла земли и насыпал до краев найденную в подвале коробочку. Загляделся на исцарапанную поверхность крышки. И снова подивился: до чего ж одолели его в последнее время загадки. Опять ничего не поймешь. Выщерблены, стерты всего-то, может, две или три буквы, а получается какая-то тарабарщина. Попробуй смекни, что за слово было выдавлено на крышке, когда осталось на ней лишь «На… па».
Показал Афанасию Ильичу. Тот выдохнул облако дыма и замысловато изрек:
— Разные бувают фамилии, и названия городов тэж бувают разные. А ще бувае код. Хитрость военная. Так слова перекрутят — свой разберет, а врагу туман.
До самой ночи Сережка беззвучно шевелил губами, страдальчески морщил лоб. Перебрал все, какие знал, города, подставил поочередно все буквы алфавита, но надпись на крышке так и не поддалась. Обидно было, хоть плачь.
Все-таки мало радости сознавать, что ты, совсем как тот враг, самым натуральным образом ни бум-бум ни в одной надписи, ни в другой.
А ночью ему приснился моряк с портрета. В наглухо застегнутом бушлате, в выгоревшей бескозырке, он подошел к нему и, как давнему другу, доверительно сказал:
— Я тебе, Серега, открою код. Все разберешь. И что на крышке написано, и что на подрамнике. Только гляди. Подведешь моряков — не будет тебе в жизни дороги.
— Не подведу! — как в трубу крикнул Сережка.
Моряк улыбнулся, махнул ему на прощание бескозыркой и пошел прямо через зеркалистый разлив лимана навстречу встающему над водою солнцу.
А волны вдруг подступили к крыльцу музея, начали переплескивать через подоконник. Сережка вскочил с кровати. Прислушался в темноте. Нет, не волны шумят под окном. Это опять, прижавшись лицом к подушке, тихо плачет Анна Георгиевна.
ПИСЬМО С ДОРОГИ
«Дорогая Анна Георгиевна! Не удивляйтесь, когда получите это письмо. И не сердитесь, если что-то скажу не так. Я знаю, у Вас большое горе. И лучше бы мне не тревожить Вас своим письмом. Я и так уже не раз откладывала его. Но больше не могу. Я должна рассказать Вам все. Об этом просил меня Рогов.
Вы, конечно, помните нашего капитана. Таких не забывают. Он часто вспоминал Петровск, каштаны на старой набережной, голубой, как небо, лиман. Но больше всего он беспокоился о портрете, который остался у Вас в музее. Во что бы то ни стало хотел разыскать след неизвестного художника, установить его имя.
Андрей сразу сказал, что этот художник — герой. Так оно и есть! Совершенно случайно мы узнали о клятве моряков перед какой-то священной для них реликвией. Спрашивали потом об этом всех встречных. Написали около двадцати запросов. И вот на днях пришло письмо от одного сапера, которого когда-то оперировал Андрей. Сапер подтвердил нашу догадку. На передовой он дважды слыхал, как солдаты рассказывали о картине, перед которой, прежде чем идти в атаку, морская пехота дает свою боевую клятву. Он уверял, будто ту картину моряки передают из одного отряда в другой, и потому ее невозможно отыскать.
Анна Георгиевна, нет сомнений — это тот самый портрет. Раненый лейтенант, с которого началась вся эта история, говорил в бреду не только о картине. Он вспоминал и клятву. Водитель санитарной машины слышал, как лейтенант в горячке прошептал: «Сохраните. Это у меня самое дорогое…» Не берусь утверждать, но вполне может статься, что лейтенант и есть разыскиваемый нами автор портрета. Зовут его Григорий Нарожный.
После операции мы отправили его в тыловой госпиталь. Правда, без всяких надежд. Недавно я поинтересовалась его судьбой. Ответы даже страшно вспоминать. Эшелон, в котором находился лейтенант, изрешетили вражеские штурмовики. Почти никто не уцелел. Теперь о Нарожном говорят: «Пропал без вести». Хотя каждый понимает, что давно уже можно сказать иначе.
Вы уж не браните меня за такое мрачное письмо. Не могу я сегодня писать по-другому.
Анна Георгиевна! Нашего капитана, нашего Андрюши Рогова, вот уже девять дней как нет в живых. Он погиб, защищая раненых. На нас напали скрывавшиеся в лесу эсэсовцы. Они стреляли по машинам с красными крестами. Андрей поднял автоматчиков в атаку. Он был впереди. До сих пор все это перед глазами. И взрывы, и пламя, и кровь на гимнастерке у левого кармана.
Рана оказалась смертельной. С трудом Андрею удалось произнести всего несколько слов. Если бы Вы видели, как он смотрел мне в глаза. Никогда теперь не забыть этого взгляда. И, знаете, он говорил о портрете. Просил написать Вам письмо. Вспоминал еще какого-то мальчишку, который остался без родных.
Лучше бы уж все это случилось со мной. Ведь Андрей так мечтал о будущем! После войны он решил посвятить себя науке… Собирался проникнуть в глубинные тайны мозга. Он называл его загадкой загадок. И почему-то еще обязательно хотел побывать на глухой дальневосточной станции, где похоронен путешественник Арсеньев.
Только сейчас я поняла, как много может отнять у человека война. У меня она отняла все. Не знаю, как жить теперь дальше. Я любила его. Он был для меня…»
Это недописанное письмо нашли меж страниц книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве», когда перебирали личные вещи медсестры Осадчей. Накануне с тяжелым ранением ее отправили самолетом в Москву.
СОЛДАТЫ СНИМАЮТ ПИЛОТКИ
День и ночь мимо запыленных каштанов, мимо развороченных, черных от копоти зданий медленно оживающего Петровска тянутся колонны густо рокочущих тягачей. Не снижая скорости, проносятся грузовики с покореженными дверцами и исцарапанными бортами. Снова и снова видавшую виды дорогу метят глубоким следом тяжелые колеса военных машин. Ступая по ней, отмеривая походные километры, солдаты видят уже незнакомую даль. Где-то там, за зеленым раздольем полей и буйным белоцветьем садов, почти зримые встают грохочущие отроги Карпат. Дорога кличет вперед. Некогда оглядываться по сторонам.
Так думал и седоусый, рябоватый старшина, размашисто шагавший во главе отделения автоматчиков. Сердито вздергивая голову, он торопил солдат, хотя и видел и знал, что люди от усталости валятся с ног и от бессонницы у каждого темно под глазами. Но у хутора Михайловка их ждал бронетранспортер. Нельзя было терять ни минуты. Поэтому старшина нахмурился, когда его хлопцы внезапно замедлили шаг и остановились.
— В чем дело?
— Товарищ старшина… — начал было кто-то, но он уже и сам заметил, что привлекло внимание автоматчиков.
На массивной двери полуразрушенного, исклеванного осколками дома, над гривастой головой льва, сжавшего зубами толстое медное кольцо, был прикреплен квадратный кусок фанеры, издали бросались в глаза непривычно звучащие слова: «Музей открыт круглосуточно».
— Так… — неопределенно протянул старшина. Положил руку на цевье автомата, глянул из-под бровей на приумолкших солдат и неожиданно зычно скомандовал: — По одному в музей — шагом марш!
Пустые, с притаившимся эхом комнаты большого и тихого дома наполнились топотом тяжелых сапог, раскатистым гулом голосов:
— Тут, хлопцы, мабуть, темноту за гроши показують…
— А ты думал, здесь тебе театр!..
— Братцы, да нас надули, чтоб я так жил! — шумели солдаты, почти ощупью пробираясь к видневшейся в конце длинного коридора узкой полоске дневного света.
Щуря глаза, они наконец вошли в последнюю комнату, щедро залитую солнцем. Вмиг стихли голоса. Исчезли улыбки. Будто раздвинулись перед солдатами свежевыбеленные, пахнущие известкой стены. Все взоры устремились к единственной картине — небольшому портрету в узкой серебристо-матовой раме.
Чего вы только не повидали, глаза солдата?.. Саднящая боль и крутая ненависть, горькие думы и неизбывная жажда расплаты запеклись в вашей родниковой глубине. Вы видели огонь и пепел пожарищ. Развалины любимых с детства городов. Лесные рвы, забитые детскими телами. Вы ничего не забыли, вы все помните, ожесточившиеся от горя, утомленные войною глаза солдата…
Как же смогла эта картина всколыхнуть ледяную угрюмость, давно сковавшую ваш взгляд?
Молча стояли автоматчики. Не было слов. А воин в бескозырке, изображенный на портрете, казалось, подался навстречу, душой потянулся к каждому из них. Вот-вот дрогнут его плотно сжатые губы и доброе флотское слово «братишки» тепло прозвучит в напряженной тишине.
Старшина окинул взором солдат, и высеченными из вечного камня показались ему их опаленные зноем неподвижно-суровые лица. Смятенно и пристально он снова вгляделся в глаза моряка и медленно снял с головы пилотку. Зашуршали за его спиной гимнастерки. Так же медленно, враз, опустились несколько рук с порыжевшими пилотками.
— Пора… — хрипло выдохнул старшина.
Молча по одному автоматчики вышли на крыльцо. Анна Георгиевна и Сережка тихо поздоровались с ними. Они видели солдат из сада. Но решились подойти только сейчас.
Анна Георгиевна теребила конец переброшенного через плечо платка. У глаз мелко вздрагивали глубоко врезавшиеся морщинки. Сережка, жмурясь от солнца, искоса поглядывал на солдат и боялся только одного: как бы Анна Георгиевна в торжественную минуту встречи с первыми посетителями музея не расплакалась у всех на виду. Хотя, сказать по совести, у него самого терпко отчего-то сделалось во рту. Уж так они ждали этой минуты, так мечтали о ней. Даже цветы посадили. У самого крыльца. «Так не молчите ж, товарищи солдаты. Хоть слово скажите, чуете?! — готов был крикнуть Сережка. — Я не в счет. Вы ж на Анну Георгиевну гляньте. Лица на ней нэма!..»
И, будто угадав его мысли, седой старшина с подпаленными усами, комкая в руке пилотку, глухо спросил за всех:
— Это вы… Это ваша картина?
Анна Георгиевна подняла на него глаза, покачала головой:
— Неизвестный художник… В окопе, должно быть, писал… Мы только раму подыскали…
— Доброе дело — такая картина… — раздумчиво промолвил старшина. — В самую душу… — Горячими шершавыми ладонями он сжал Анне Георгиевне руку.
А широкоскулый, коричневый от загара автоматчик потрепал Сережку по голове и тихо обронил, неловко улыбнувшись товарищам:
— Ежели не воротимся, тогда уж ты, малец, как подрастешь, нарисуй и про нас картину.
— Разговоры! — старшина поправил ремень автомата, надвинул на лоб пилотку. — Дорога у нас. Прощайте…
Когда солдаты скрылись из виду, Анна Георгиевна порывисто обняла Сережку и, совсем как при первой встрече, поцеловала его соломенные волосы. Не отпуская от груди, непослушным голосом прошептала:
— Завтра с утра… На хутор… За картинами…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛО
Слушали. Персональное дело комсомольца Сергея Бойко, допустившего хулиганский поступок по отношению к члену бригады Ю. Полуэктову.
Б. Ш е с т а к о в. Заявляет, что, несмотря на дружбу с Сергеем, будет говорить со всей суровостью. Считает, что Бойко совершил недопустимый проступок. Ударить товарища — это позор, пятно на весь коллектив! И обиднее всего, что это сделал бригадир. Я, говорит Борис, не понимаю, как такое могло произойти. Мы вместе служили с Сергеем на флоте, были в одном экипаже. С нашего корабля в этой комнате сегодня шесть человек. А почему мы здесь, в Железногорске? Ведь это Сергей придумал, когда еще несли службу на Курилах, поехать после демобилизации на Урал. Он так и сказал: на самую трудную стройку. И мы его поддержали, потому что всегда верили ему. Такой уж он человек. Я никогда не забуду, как вывел он нас на пустынном острове к пограничному посту. В жуткую метель, в страшный мороз. Закоченели, выбились из сил, не могли уже идти. А он не сдавался, упрямо вел нас вперед. Жизнь, можно сказать, нам спас. Ребята подтвердят.
Ребята подтверждают слова Бориса, но намекают ему, чтобы он говорил ближе к делу, по существу.
Б. Ш е с т а к о в (продолжает). Вот мне и непонятно, как так вышло, что Сережка Бойко, лоцман наш, впередсмотрящий бригады, поэт, и вдруг такую штуку отмочил. В голове не укладывается. Тут что-то не так. Я уже его расспрашивал, так он, видите ли, распространяться не желает. Трудно, мол, это объяснить. По физиономии, понятно, двинуть легче. Настаиваю, чтобы первым долгом, без всяких там вступительных речей, высказался сам Бойко. Пусть говорит обо всем прямо. Сам же в стихах писал: «Мы теперь одна семья». А какие могут быть в семье секреты? Если она, конечно, нормальная семья, а не накануне развода.
П р е д с е д а т е л ь с о б р а н и я. Правильно! Пусть Бойко расскажет, с какой это стати он так подкузьмил всю нашу бригаду?
Все шумят, кричат: «Поддерживаем!!» Правильно кричат.
С. Б о й к о. Слово товарищей — закон. Предупреждает, что будет говорить долго.
Юрий Полуэктов давно уже возмущает его своим поведением. Не человек, а какой-то всадник без головы. Скачет во весь опор, а куда, зачем — сам не знает. Хлопцы договорились работать на совесть, по-флотски. Как в трудное плавание вышли. А он? Только пропесочили за пьянку — устроил дебош на танцах. Назначили воскресник — уехал в Туринку. Зачем? Ковбойку редкой расцветки решил купить. Впрочем, не в этом даже дело. Хотелось бы знать, какое у таких ковбоев нутро. Тут ведь кое-кто считает Полуэктова всего лишь бесшабашным парнем, отчаянным малым. А дело гораздо хуже. Потому и случилась вся эта история.
Когда в Железногорск приехала в командировку журналистка из областной газеты, выяснилось, что она знает многих людей, которые близки, дороги Сергею с самого детства. Целую ночь они просидели в редакции. Вспоминали знакомые еще с войны места, памятные обоим события. Когда утром Полуэктов спросил Сергея, о чем у него был разговор с журналисткой, бригадир ответил: «О настоящих людях, о силе искусства, а больше всего — о смысле жизни». — «Знаю я этот смысл», — сказал Полуэктов и отпустил грязный намек по адресу журналистки. Бойко назвал его подлецом и ударил в подбородок, отчего Полуэктов не мог потом три дня ничего жевать и подал заявление в партком.
Отвечая на вопрос, Бойко рассказывает о себе. Во время войны он остался без родителей. В Петровске его приютила хорошая женщина. Потом его разыскала сестра, возвратившаяся из фашистской неволи. В Петровском музее Сергей увидел портрет моряка. Его написал неизвестный художник, который, очевидно, погиб в боях за Украину. Перед портретом еще мальчишкой Бойко поклялся так прожить жизнь, чтобы она была достойна светлой памяти тех, кто не вернулся с войны.
И еще Сергей говорит, что после ночного разговора с журналисткой он на работу на крыльях летел. Хотелось сделать что-нибудь необыкновенное, песню сложить. А тут Полуэктов сунулся со своей мерзостью. Потому и не удержался. Ударил, а потом только опомнился.
Сергей дает слово больше не отклоняться от взятого курса. Просит убрать его из бригадиров и решить вопрос: или он, или Полуэктов. Рядом с ним работать не желает.
Все шумят. Записывать нечего. Слова просит Полуэктов. Никак не пойму, кто тут все-таки пострадавший.
Ю. П о л у э к т о в. Говорит, что явно ошибся в некоторых моряках. Считал раньше, что они умеют понимать шутки. Преступником просил бы его не считать, так как госбанков он пока еще не грабил. Высокие материи, на которые нажимал Бойко, в данном случае ни при чем. Просто Сергею давно уже нравится Тамарка Снегова, табельщица с бетонного завода. Вот он и психует. Но тут уж ничего не попишешь. Все знают, у Полуэктова с ней давняя дружба и полное взаимопонимание. Этот факт зафиксирован даже в стенной печати.
Бойко порывается сказать что-то с места, но его успокаивают. Опять все кричат, перебивают друг друга.
Ю. П о л у э к т о в (продолжает). Просит не исключать его из бригады. Обещает подтянуться. Напоминает собранию, что людей полагается воспитывать, а не избивать. Бригадиру, на его взгляд, явно не хватает сердечности. Лирики в душе маловато! В принципе он готов Бойко простить, если тот перед ним извинится. В заключение подводит итог: «Коммунизм кулаком не построишь. Нервы сохранят свое значение и при следующей за социализмом формации».
А. Ю с у п о в. Зачем Полуэктов так говорит? Неправильно говорит. Все это не пустяк. Я — за Сергея! Человек хочет по-настоящему жизнь прожить. Слово такое дал. И держит такое слово. А Полуэктов со всеми за коммунизм проголосовал и больше ничего сделать для его приближения не хочет. Вдобавок еще выводит из себя хороших людей. Да если бы он мне такое, как Сергею, сказал, я бы ему голову оторвал. А что, по-вашему? Если Сергей решил стать настоящим человеком, так ему теперь любую обиду терпеть? Перед подлостью расшаркиваться не будем!
Согласен, конечно, немного я перегнул. Голову отрывать, может быть, и не стоит, а мозги Полуэктову вправить все-таки надо!
Ю. П о л у э к т о в. Кулаком?
А. Ю с у п о в. Бульдозером! (Оживление в зале. Почти аплодисменты.) Но и Сергей тоже малость в своем выступлении нагородил. Зачем нам другой бригадир? Мне лично не нужно другого. Мне этот нравится. И Полуэктова гнать — тоже не дело. Пусть остается пока у нас. Посмотрим, как слово держать умеет.
И последнее. Напрасно тут Полуэктов о каком-то соперничестве говорил. Вздор это, плохая фантазия. Снегову многие знают. Знают, что она из себя представляет. На руке — татуировка, а в голове — одни танцы. При мне Сергей однажды сделал ей замечание за крепкие выражения. Так она его так отбрила, что на собрании и не повторишь. Тем более пункт у нас на этот счет в обязательствах записан.
Ю. П о л у э к т о в. Неправда! Не такая она сейчас. Ты же ее не знаешь!
Снова поднимается невозможный гвалт. И зачем я только согласился вести этот протокол! Беру слово.
С. З у е в. Я сперва о лирике. Много говорить не буду. Случай только один приведу. Когда мы в загранку ходили, Сергей обезьяну забавную купил. Яшкой мы ее прозвали. Весь рейс на корабле жила. Мы думали, парень чудит. А он потом отпуск взял и к нам на Тамбовщину махнул. Я ему как-то об одном детдоме рассказал. Ребята там с моряками мечтали подружиться. Так он им Яшку в подарок привез. Да еще бинокль и коллекцию ракушек в придачу. Почитал бы ты, Юрка, письма этих детишек, тогда бы уж и судил о лирике. А то раздавишь со случайными приятелями полбанки — и во весь рот начинаешь о своей сердечности толковать.
И вообще Полуэктов, по-моему, ерундит. Нечего ждать, когда тебя перевоспитают. Ты же недавно прогулял, как самый последний пижон, а нам сказал, что был болен. Работу мы за тебя сделали, но нянчиться с тобой, как с младенцем, не собираемся. Сегодня такое время, что каждый первым долгом должен сам себя воспитывать!
Кроме меня выступили все остальные ребята. Борис Шестаков дважды подавал пространные реплики с места. Несколько раз держал речь председатель собрания. Записывать было бесполезно. Вовсю бушевали страсти. Землетрясение плюс небольшой тайфун! К тому же бумаги осталось только на постановление.
П о с т а н о в и л и: 1. Грубый поступок С. Бойко осудить. Но считать его не хулиганским, а квалифицировать точнее: как недопустимый для человека, который призван показывать другим пример выдержки, самообладания, дисциплины.
2. Бойко в бригадирах оставить. Полуэктова из коллектива, как предлагают некоторые, не изгонять. Помочь ему стать настоящим рабочим, личностью с ясной целью и твердой линией жизни.
3. Поручить Сергею как поэту написать гимн бригады, в котором бы нашли отражение следующие мысли:
а) жить и работать по-коммунистически — это значит каждый день подниматься на штурм, каждый день непримиримо сражаться со всяким старьем и всяческой гнилью;
б) стремись сегодня совершить вдвое больше, чем сумел вчера, будь настойчив — и тебе покорится недоступное;
в) помни всегда о тех, кто своей героической смертью дал нам возможность жить и творить в самое трудное, но зато и самое чудесное для планеты время!
4. Закончить монтаж опор и перекрытий корпуса среднего дробления на десять дней раньше срока. Так держать! Полный вперед!
(Из протокола общего собрания третьей комсомольско-молодежной бригады монтажников треста Карганачрудстрой[1].)
ЗВОНОК ИЗ ПЕРМИ
С утра в редакции областной газеты «Андреевский рабочий» было жарко и шумно, как в горячем цехе. Готовили номер, посвященный Дню Победы. Озабоченно сновали по кабинетам взлохмаченные сотрудники секретариата. Отдел промышленности в спешном порядке выколачивал по телефону месяц назад обещанную подборку «В труде — как в бою». Хлопали двери. Волновались корректоры. Длинными очередями расстреливали бумагу машинистки.
Аврал захватил всю редакцию. И только за дверью с табличкой «Спецкор З. Н. Осадчая» устойчиво держалась тишина.
Могло даже показаться, что хозяйка этого кабинета опять укатила в многодневную, как всегда, неожиданную и далекую командировку.
Действительно, подумалось Зине, лучше бы уж в командировку. По крайней мере забот по горло, все время на людях, и в голову не лезут шершавые, как наждак, мысли. Так уж у нее повелось: День Победы не столько праздник, сколько день раздумий о жизни, о своей судьбе. Как на поверке, выстраиваются в памяти отшелестевшие годы, и полузабытое, давнее медленно проплывает перед глазами.
Бессонные санбатовские ночи. Сдавленный шепот запекшихся губ: «Сестрица, воды…» Залп автоматчиков над могилой Андрея… Ободряющий голос: «Держись, Светлячок!..» Первая прогулка после госпиталя по Москве…
В тот день было безветренно, солнечно. С утра над городом весело прошумел теплый весенний ливень. В воздухе пахло грибами. Слюдяным блеском сверкали тротуары. В легком цветастом платье она шла по Тверскому бульвару, украдкой ловя собственное отражение в окнах домов, и все еще ей никак не верилось, что это снова весна, снова жизнь.
По привычке она козырнула пожилому майору. Тот понимающе улыбнулся. Улыбнулась и она. Только отче-го-то сразу кольнула не приходившая раньше в голову мысль: «А кто ж ты теперь, Осадчая?» Тогда она еще не знала, каким долгим окажется это саднящее ощущение пустоты, неустроенности, распутья.
Даже сегодня, когда уже давно позади и неудачные пробы в кино, и курсы радистов, и поисковая партия, и тесные аудитории университета, она, в сущности, так и не может ответить на тот занозистый вопрос. Вроде бы все как надо. Печатают, хвалят. Вот и в День Победы появится новый очерк. Говорят, получился. И все же по-прежнему неспокойно на душе. Как будто числится за тобой огромный долг, а ты не можешь никак его отработать. «Неполным сгоранием» назвал такое состояние герой одного из ее недавних очерков. Он, правда, относил эти слова к самому себе.
Зина прошлась по кабинету. Мягкий ковер глушил шаги. Задержала взгляд на портрете Фучика.
Вот уже третий год висит здесь эта редкая фотография, подарок журналистки из Братиславы, и все время Зине кажется: в глазах Фучика укор и горьковатая усмешка.
Зазвонил телефон.
— Зинаида Николаевна, зайдите к редактору.
— Вызвал я вас вот зачем. — Редактор был явно не в духе, на столе перед ним лежали безжалостно исчерканные полосы. — Горит номер. Синим пламенем горит. А главное, копоти много. — «Копотью» он обычно называл серые, студенистые материалы. — Понимаете, нужен «гвоздь».
— Значит, мой очерк…
— Да нет же, — остановил ее редактор. — Очерк на уровне. Сделано профессионально. Ему бы только чуточку огня. Чтобы опалил читателя изнутри. О войне уже столько написано…
— Я переделаю очерк. — Зина поднялась.
— Вот и отлично! — обрадовался редактор. — Только сначала не худо бы вам повидаться с одним человеком. Фамилию и координаты сейчас найду. — Он порылся в пухлой папке и протянул Зине листок из блокнота. — Еще утром по междугородной позвонил какой-то странный товарищ. Летит в Андреевск по сверхважному делу. Уточнить не соизволил. Из-за нелетной погоды застрял в Перми. Грозен до невозможности. Категорически требует, чтобы мы в «победный номер» о слесаре Колесникове написали. На Турбинке надо его искать. Говорит, легендарная личность, герой. А фамилию того, который звонил, не разобрал. Уж больно неважная слышимость была. Так что давайте проверим. А вдруг здесь хоть шляпка от «гвоздя»…
Вернувшись в кабинет, Зина торопливо позвонила:
— Алло! Турбинка? Это из «Андреевского рабочего». Осадчая… В какую смену работает слесарь Колесников? Что? Видимо, из механического. Очень хорошо. Спасибо. Сейчас выезжаю.
В пролете механического цеха ее встретил сменный мастер, с которым она говорила по телефону.
— Чуток опоздали. — Он виновато развел руками. — С Колесниковым уже беседуют.
— Из «Вечерки»? — обеспокоенно спросила Зина.
— Не-ет, тут совсем другое. Про какой-то десант… Да вы пройдите. Они сейчас в красном уголке.
Идти пришлось недалеко.
— Здравствуйте, — плотно прикрывая за собой дверь, с порога поздоровалась Зина.
Навстречу ей поднялись двое. В комнате тускло светила лампочка, и Зина подосадовала, что, идя в цех, постеснялась надеть очки.
— Колесников, — смущаясь, представился тот, что был ближе, русый, крутолобый, с добрыми глазами на открытом, по-славянски мягком лице. От его спецовки пахло мазутом.
Второго, высокого, в свободной черной куртке нараспашку, Зина разглядела только сейчас. Был он широк в кости, смуглокож, в темных волосах густая седина. Грудь его туго обтягивал мохнатый свитер, какие любят носить летчики, геологи и водолазы. Лицо этого человека показалось ей неприветливым, хмурым. Над неестественно изогнутой бровью белел узкий изломанный шрам.
Прихрамывая, высокий шагнул из-за стола, и тотчас у Зины бешено заколотилось сердце. Она едва не выронила блокнот.
Человек в свитере протянул ей руку:
— Нарожный. Только что с самолета…
«Я ХОЧУ СГОРЕТЬ ОТ МОЛНИЙ!»
Закрывая солнце, медленно плывет по небу многотонная стальная ферма. Прищурив глаза, Сергей внимательно следит за ее движением. Подняв над головой руку, едва уловимыми сигналами помогает крановщице закончить сложный маневр.
Черная металлическая махина точно опускается и замирает в уготованных ей гнездах. Вспыхивают голубые огни электросварки. И вот уже стальная конструкция намертво срастается с гудящей громадой одного из будущих пролетов. В такие-то вот минуты, должно быть, и родятся в сердце стихи. Где же тут не всколыхнуться душе, когда своими руками возводишь корпуса гигантского комбината, равного которому нет еще во всей Европе, когда видишь, как поднимается над тайгой, тревожа покой Карганач-горы, новый рабочий уральский город.
Горе́, говорят, миллионы лет. Она древней Эвереста. Старше Казбека. Седее Монблана. А город — моложе не сыщешь. Нет пока что широких проспектов. Не видно бульваров и парков. После работы многим идти по узеньким тропкам в бурые холодные палатки, в низкие дощатые бараки. Но зато допоздна, каким бы горячим ни выдался день, спорит, мечтает, загадывает братва: а как же здесь будет завтра? И дух захватывает, как на ветру.
Просигналив такелажникам отбой, Сергей задержался на верхней площадке. Не оторвать глаз от синеватой привораживающей дали.
Отсюда, с будущего цеха крупного дробления, хорошо видны все боевые порядки комбината. Еще недавно здесь буйствовали ветры, сгибая к земле низкорослые сосны, ломая молодой березняк, оголяя каменистые склоны. А нынче даже будто ниже стала легендарная Карганач-гора. У подножия ее, наступая на хвойный насупившийся лес, серебрится во всю десятикилометровую ширь рожденное строителями море. День ото дня преображаются его берега.
Ближе к восточным уступам четко вырисовывается светло-серое здание ТЭЦ. Высоко поднялась над ним вся в огромных шахматных клетках стопятидесятиметровая дымовая труба. Чуть правее, на том берегу, столпились темно-зеленые пакгаузы и временные склады. Стрелой уносится к ним недавно проложенная колея. Летит по сверкающим рельсам электровоз. Тянет за собой караван цистерн и открытых платформ. По соседству, постепенно высвобождаясь из лесов, растет насосная станция осветленной воды. От западных склонов горы шагают один за другим первые кирпичные дома Железногорска. А по извилистому шоссе, сердито погромыхивая кузовами, несутся к бетонному заводу неутомимые работяги МАЗы…
Скрежет металла, раскаты далеких взрывов, шипение электросварки, глухой нескончаемый гул! И кажется уже: это грохочет не стройка, а вырываются из-под земли, доносятся из рудных глубин густые, рокочущие голоса. Будто сама Карганач-гора угрюмо предупреждает человека: без боя богатств не отдам! Ну что же, поспорим. Затем и сошли с кораблей на сушу. Слышишь, гора?
— Серега, ты что? — В куртке нараспашку перед ним — Борис Шестаков. Губы в улыбке. Глаза веселые. — Сам с собой уже споришь? Или опять стихотворный момент?
Сергей отмахнулся. Надо же так размечтаться. Теперь Борис не отстанет. По части подначек первым в кубрике был. Но в эту минуту над стройкой, подхваченный таежным эхом, деловито поплыл басистый гудок. Кончилась смена. Тотчас откуда-то снизу раздался звонкий, совсем как у юнги, голос Семена Зуева:
— Стоп, машина! Бросай якоря!
Не терпится парню катер скорее наладить. Тоскует по большой волне. Вместе с Толькой Юсуповым все вечера колдуют. Раздобыли на складе списанный мотор. Пытаются теперь приспособить. Вот и сейчас: только с высоты — и что есть духу прямехонько к морю.
— Слыхал, какое название они своему линкору придумали? — Сергей подмигнул Борису, но тот ответил подчеркнуто строго:
— Название что надо. Это я предложил…
— Ишь ты! Ну а на кой бис так звучно: «Ураган»? Катерок-то — скорлупка!
— Чудак ты, Серега. Сам ведь рассказывал, как на рыбачьих челнах на Буге даже штурм начинали. Тут, брат, водоизмещение ни при чем.
— Так то же в войну. А сейчас…
— Ох и спорить привык! — рассердился Борис. — Чего же тогда, скажи, по десять раз на день стихи нам читаешь? Да все выбираешь похлеще, позвонче.
— Верно! Чтоб звали в атаку. — Сергей достал из кармана небольшую книжонку в коричневом переплете. Примирительно улыбнулся: — Добро, по рукам! Хай будэ «Ураган», только бы мотор заводился. Ты лучше послушай, какие бывают стихи.
— Сам сочинил?
— Скажешь тоже, — усмехнулся Сергей. — Шандор Петефи.
— Что-то не припомню.
— Надо бы знать, матрос Шестаков. Великий поэт Венгрии!
— А за искусство, между прочим, ты в бригаде отвечаешь. Вот бы и разъяснил при случае, как в прошлый раз о Рублеве.
— Погоди, доберемся! И Шандора Петефи еще почитаем, и Дмитрия Кедрина… Нам без поэзии нельзя!
Увлекшись, он даже не заметил, как из коричневого томика стихов, которым он взмахивал при каждом слове, выпала небольшая закладка. Подхваченная ветром, она, словно перышко, скользнула с площадки вниз. Борис видел, как этот белый кусочек бумаги исчез среди камней.
— Книгу хоть не урони, — прервал он Сергея. — Закладка уже на отметке «ноль».
— Где?!
— Вон там… — опешил Борис. — Н-на камнях…
Сергей стремительно спустился вниз и стал искать закладку. Ничего не понимая, Борис поспешил ему на помощь.
— Есть! — Сергей наконец разыскал под камнями белую полоску. Осторожно сдул с нее пыль. — Это ж для меня… Ладно… Тебе как другу скажу. Ты говоришь, закладка. А ведь это — документ. Давно, еще в Петровске, переснял я надпись одну. Который год она уже при мне. А вот разобрать до сих пор не могу!
— А ну-ка, дай глянуть. — Борис взял листок и тут же присвистнул. — И верно, попробуй разбери: «Пам. сат. О. и А. Р.». Кроссворд! Чайнворд-загадка!
— Эх, прочитать бы! — вздохнул Сергей. — Может, в этих десяти буквах столько сказано, что и не представить сейчас. На портрете ведь надпись была. На том самом…
— А ты бы, Серега, специалистам показал. Есть такие мастаки — хоть что расшифруют.
— Показывали уже.
— Ну и что?
— Да почти ничего. Установили, что сделана надпись острием ножа или кинжала. Сталь заграничной, не нашей марки. Вот и весь ответ. Выучил наизусть.
— Ты меня, конечно, прости, — Борис взъерошил пятерней и без того стоящие торчком волосы, — но про портрет давно уже толком нужно ребятам рассказать. В одиночку, Серега, не дело. Короче, давай на будущее — без секретов. Как в кубрике было. Идет?
Тут Борис вынул из-за пазухи сложенный вдвое листок и протянул его Сергею. Это была заявка московскому отделению «Книга — почтой». Монтажник Борис Егорович Шестаков просил выслать ему в Железногорск новейший самоучитель испанского языка и в подлиннике книгу «Дон-Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса.
— Ты это серьезно?
— Еще как! Язык в самый раз пригодится, когда буду опыт передавать. А что? В Индию, в Гвинею нашего брата запросто уже посылают. И до других стран черед дойдет. Представляешь, как все там ахнут, когда я им вдруг выдам на чистейшем испанском: «Здорово, камарады!». Ну и так далее, сам понимаешь…
— Не скоро ты в Испанию попадешь, — мрачновато сказал Сергей. — Туда брат, дорога закрыта.
— Эх ты. — Борис, не сдержав улыбки, тряхнул его за плечи. — А известно ли тебе, Пушкин из третьей бригады, что на острове Куба тоже говорят по-испански?
— Вот это придумал! — восхитился Сергей. — Только чего ж в одиночку? Может, оно сподручней вдвоем?
— Вдвоем, похоже, что лучше… — медленно проговорил Борис и кивнул Сергею: — Гляди.
По тропинке, петлявшей меж серых холмов щебня, далеко внизу шли двое: Юрий Полуэктов (его Сергей сразу узнал по пестрому исландскому свитеру и лихо сдвинутому набекрень берету) и табельщица с бетонного Тамара Снегова — на всей стройке только у нее такие золотистые, цвета поздней осени волосы. Рука Полуэктова лежала на плече девушки. Они брели не торопясь, весело разговаривая о чем-то. Сергею показалось, что он даже слышит их смех.
— А я-то думал, ты железобетонный… — взглянув на него, удивленно произнес Борис. — Выходит, ошибся. Толька Юсупов зря тогда опровергал…
— Еще не известно, кто из нас ошибся, — отозвался Сергей.
КОРОТКОЕ СЛОВО «ПОИСК»
Резко ударяя по матовым клавишам, Зина отстучала.
— Ну вот. Теперь посмотрите.
Нарожный взял листки. Жадно принялся читать.
За окном уже дымился рассвет. Заголубело над крышами небо. На стенках кабинета потускнели тени.
Зина с тревогой следила за выражением лица Нарожного. Какой странный все-таки человек. Не дав ей опомниться — «Расспросы потом!» — потащил домой к Колесникову, заставил того рассказывать о себе, о битве в Петровском порту. Настоял, чтобы Зина немедленно села за очерк. Пока писала, не выходил из редакции. Тоже что-то строчил в тетради с синим переплетом. И вот теперь она ждет его оценки, как решения самого строгого судьи. И волнуется, как девчонка. Что, если опять написала без искорки, без огня?
— А знаете, — Нарожный хлопнул широкой ладонью по подлокотнику кресла, — по-моему, здорово! Особенно вот это место. — Он кашлянул и прочел вслух: — «Растите, мальчишки. Будьте самими собой. Улыбайтесь, танцуйте, любите, мечтайте. Не напускайте на себя суровость. Но помните, знайте всегда: хранятся у ваших отцов пробитые пулями гимнастерки и тельняшки. И так надо, парни, идти вам по жизни, чтоб в лихолетье они оказались вам впору». Звучит!
Зина устало улыбнулась. Торопливо черкнула на первой странице: «Срочно в набор!».
— Ну а теперь, — шутливо сказал Нарожный, когда она вернулась из типографии, — готов дать интервью. С чего же начнем?
— Я бы хотела знать о вас все.
— Все? — усмехнулся Нарожный. — Это по-журналистски!
— Это еще и по праву человека, который воевал с вами на одном фронте…
— Я знаю. Даже больше, чем вы можете предположить.
— Откуда же? — удивилась Зина.
— Видите ли… — Нарожный потянулся к пачке «Беломора», но закуривать не стал. Размял в пальцах папиросу. На ковер посыпался табак. — Я ведь в Андреевске не только затем, чтобы повидать Колесникова. Я ехал и к вам. Когда-то вы обо мне справки наводили. А теперь самому в адресный стол пришлось обратиться. Я прямо из Петровска. От Анны Георгиевны Горской. Припоминаете?
— Постойте… Это та женщина из музея?
— Да. Она мне показала ваше письмо. Вот я и узнал о вас, о судьбе портрета и о том, что едва меня не произвели в живописцы.
— А разве вы не художник? Мы думали… — Зина вдруг отчетливо вспомнила сорок четвертый год, старинный особняк с колоннами и тихий задумчивый голос Рогова… Отчего-то защемило в груди, стало душно. — Все сходилось к тому, что именно вы…
— Нет уж, какой из меня портретист, — хмуро проговорил Нарожный. — Рисую еще хуже, чем пишу. Придумывал разные маскировочные штуки — это бывало. Оттого и прозвали Художником. — И резко спросил: — Выходит, зачислили меня в живописцы и похоронили?
— Нет, нет, — возразила Зина. — Я несколько раз пыталась уточнить. Посылала запросы. Во время войны и после. Но ответы приходили один безнадежнее другого. Даже в Министерстве обороны не могли сказать ничего определенного…
— А знаете ли вы, — перебил ее Нарожный, — что почти в каждой части был свой художник. Даже в партизанских отрядах. Даже среди десантников. Другое дело, что чаще всего они никому не говорили о своем призвании. Тогда они были прежде всего солдатами. Потому и трудно через столько лет восстанавливать истину. По свежим следам было проще. Как же вы могли начать поиск, а потом вдруг взять и все бросить? Да если так искать героев, половина из них останется неизвестной!
— Понимаю ваше волнение… — начала было Зина, но Нарожный перебил ее:
— Знаете что? Давайте говорить прямо, как старые фронтовые товарищи.
— Хорошо, — согласилась Зина. — Только расскажите сначала о себе.
— Выжил я, верно, чудом. — Нарожный выключил настольную лампу, задумчиво сощурил глаза. — Да только чудеса не повторяются дважды. Ранения, говорят, не проходят бесследно. Это я так… К слову… Жизнь, она ведь все равно идет своим чередом. Поступил в институт. Хотел доучиться. Но уже через год все пошло под откос. Врачи были кратки. Хотите ослепнуть и окончательно сорвать сердце — валяйте, протяните еще с полгода. Не поспоришь. Выдали мне новую пенсионную книжку и посоветовали ехать на юг. Вот и махнул я в Петровск. В первый же день поклонился братской могиле, десантникам-морякам. Там-то я однажды и повстречал Анну Георгиевну. Привела она меня в музей. И здесь я снова увидел портрет, который считал уже потерянным навсегда. Висит он на самом почетном месте. Одно досадно — надпись на табличке: «Неизвестный художник». Будто он к нам из XVII века пожаловал.
— Я думала, вы знаете все…
— Все, кроме имени художника, — удрученно произнес Нарожный. — Было это в марте сорок четвертого. Готовили к высадке десант. А мы, остальные, ложным рейдом немцев на себя отвлекали. Потом с боями на выручку шли.
На другой день, как освободили Петровск, хутор Михайловку отбивали. Другу моему Коле Сиротину приказано было отлеживаться. Обгорел в бою, когда к десантникам пробивались. Да разве удержишь такого. — Нарожный глубоко вздохнул. — Перед самым этим боем он мне про портрет и рассказал. «Сейчас, — говорит, — не время, а вот вышибем фрицев из хуторка, я тебе такую картину покажу, что еще злее станешь воевать». — «А кто же художник?» — спрашиваю. «Погиб, — отвечает, — художник». Поднялись мы в атаку. Николай в первой цепи. Тут его и срезала пуля. Будто поджидала — сразу наповал. У развалин какой-то церквушки…
Нарожный замолчал. В кулаке у него затрещал спичечный коробок.
— Во время боя, — продолжал Нарожный, — засыпало артиллериста-корректировщика в блиндаже. Почти прямое попадание. Откопали парня, глядим, а он собой картину прикрыл. Должно быть, тот самый портрет, про который Николай рассказал… — Нарожный, прихрамывая, подошел к окну, оперся о подоконник. С улицы доносились звонки первых трамваев. — Перед тем портретом, как перед знаменем гвардейским, поклялись, что будем бить фашистов не только за себя, но и за тех, кто погиб рядом с нами. А живы останемся — жить будем так, чтобы ничем и никогда не осквернить память павших. И дал я в тот день еще одну клятву: считать себя перед другом в долгу, пока не разберусь до конца с портретом. Никто ведь не мог сказать, что был за хлопец художник и кого это он на картине своей нарисовал. Задумал начать поиск. Да вышел тут у меня такой перекос, что только уже в Уфе очнулся.
— Ваш госпиталь был в Башкирии?
— И в Башкирии, и в Новосибирске… Меня потеряли — считайте, полбеды. А вот знаете ли вы, что из восьми десантников, которые остались в живых, до конца отвоевался не только Дмитрий Колесников? Трое еще вернулись домой. Адресов своих они, конечно, в министерстве не оставляли. Искать пришлось. С Андреем Хворостовым, первым по счету, можно сказать, повезло. Он человек оседлый. К станице своей прирос. На Кубани, в Белореченской, я его отыскал. Работает директором школы. С Колесниковым было сложнее. Не сразу он в Андреевск попал. После войны служил на Дальнем Востоке.
Координаты остальных пока не известны. Но ничего. Теперь-то уж обязательно найду. Поначалу было куда труднее. Я ведь после победы два с лишним года по госпиталям провалялся.
— Так вы, значит, уже давно…
Только сейчас Зина поняла, что этот человек в чем-то жизненно важном оказался крепче, сильнее, чем она. С ним война расправилась безжалостней, круче. И все же как бережет он свои фронтовые воспоминания. Так дорожит ими, так их хранит. Оттого и сегодня они зовут его в атаку. Ну а ты? В очерке написала: «Память должна быть активной». А у самой столько лет пылятся в дальнем углу книжного шкафа и тетрадка в клеенчатом переплете, и наклеенные на картон обгорелые клочки из блокнота погибшего журналиста…
— Вначале решил идти по следу неизвестного художника, — взволнованно продолжал Нарожный. — Потому и задумал разыскать оставшихся в живых десантников. Может, кто из них слыхал о портрете. Да только прикинул потом и понял: грош мне будет цена, если этим себя ограничу. Надо, чтоб люди узнали о подвиге моряков, чтоб стала известна судьба каждого бойца из отряда Доронина. Они заслужили не только Золотые Звезды. Они достойны бессмертия. Не мог я сидеть на завалинке в Ялте, окучивать яблони и разводить пчел, как рекомендовали врачи. Вы понимаете? Не мог!
Мы часто говорим: герои не умирают, они живут вечно. Но ведь это же пустые слова, если о героях знают лишь единицы. Память о подвиге должна вести за собой целую армию… В Котовске разыскал родных Кирилла Бочко. Из Слюдянки на днях получил письмо. Живет там двоюродная сестра боцмана Ивана Никодимовича Кривцова. Выходит, отсюда у меня дорога к Байкалу, в Сибирь. Затем — в Самарканд. Из комитета ветеранов войны сообщили: нашлись родственники Мухтара Алиева. Железный был парень, батыр. Тоже погиб на Буге… На Урале придется задержаться. Есть тут, подсказывает Колесников, ниточка одна. В Железногорске, на стройке…
— Ну а что же потом? Книгу будете писать?
— Нет уж, увольте. Твердо решил. Все соберу до крупицы и поеду в Москву. Зайду к настоящему писателю и выложу ему тетради на стол. Не откажется, совесть не позволит. Обязательно напишет!
— Но ведь их же было…
— Шестьдесят семь! А у меня пока только восемь тетрадей. Это хотите сказать? И здоровья на три года осталось? Не беспокойтесь, не сдамся.
— А знаете, Григорий, вы меня не совсем поняли. — Зина сама удивилась внезапно пришедшему в голову решению. — Я хотела сказать… Остальные тетради вам удастся заполнить не раньше, чем через пять-шесть лет. А можно это сделать гораздо быстрее…
— Быстрее?
— Да, быстрее. Если заполнять их не одному, а вдвоем.
Из редакции Нарожный вышел только в начале десятого. В руках он держал аккуратно завернутые в газету тетрадь в потертом клеенчатом переплете и папку с пожелтевшими обрывками из блокнота. Ему не терпелось поскорее все это прочитать. У оперного театра он взял такси. Примерно через час Нарожный позвонил из гостиницы Зине.
— С портретом кое-что начинает проясняться. В вашей головоломке упомянута фамилия одного из десантников. Помните последнее слово? Да, да: «оцветов». Так цветы, хризантемы разные тут ни при чем. В отряде у Доронина был старший матрос Александр Самоцветов. Остается только выяснить, какое он имел отношение к портрету. Что? Гипотеза? Что человек произошел от обезьяны, тоже было когда-то гипотезой.
ВИВА ЛА АМИСТАД!
Сергей тренирует волю. Возможностей для этого хоть отбавляй. Все время рядом маячит худощавая фигура Юрия Полуэктова. Этого смазливого синеглазого блондина, если бы не слово, обещанное ребятам, с огромным удовольствием он так бы и развернул иной раз на все сто восемьдесят градусов. Ничего как будто тот не делает поперек. Управляется сноровисто, не хуже других. Но Сергея прямо-таки выводят из себя и его кривая ухмылочка, с которой он выслушивает задания, и постоянное передергивание плечами, и вдобавок еще ко всему эта кудрявая шкиперская бородка, отпущенная бог знает по какому случаю. «Не нравишься ты мне, Полуэктов!» — хочется рубануть сплеча Сергею, но вместо этого он должен не спеша приблизиться к нему и вежливо, деликатно намекнуть:
— А пояс, между прочим, полагается застегивать намертво. Работаем на высоте…
Проходит несколько минут, и они снова рядом над одной конструкцией колдуют. Только стальная, нацеленная в небо колонна да решетчатый узор арматуры разделяют их. Оба монтируют каркас будущей агломерационной фабрики. Оба метр за метром поднимаются ввысь, взбираются под самые облака. Издали их, пожалуй, даже не отличишь друг от друга. Когда смотрят с земли, все наверху одинаковыми кажутся. Вот это-то и злит Сергея. В многотиражке знай себе напропалую из номера в номер: «Морская бригада», «Морской батальон»… А сегодня совсем огорошили. «Бригадой дружных» решили теперь величать.
Словно в насмешку придумали. Ну какие они, простите, с Полуэктовым друзья? Опять ведь он недавно выкинул номер. Травил на весь клуб без запинки: я, мол, давно бы от Бойко ушел, не оглянулся, только в другой бригаде с гульденами не тот простор, да и квартиры до конца семилетки не дождешься. А потом еще на спортплощадке перед девчатами загибал. Он-де и стойку на пятидесятиметровой высоте выжмет, и «ласточку» сделает в кузове мчащегося МАЗа. А ведь когда в бригаду просился, такое заявление накатал, что хоть сейчас его в коммунизм пропускай: и десять классов закончил, и права тракториста имеет, и по гимнастике первый разряд. Зачем только ему вся эта амуниция? По жизни и так ведь можно порхать. Без разрядов.
— Тамарка! Бонжур! — слышит вдруг Сергей у себя за спиной. Это кричит Полуэктов. Подругу заметил. Тамару Снегову. Выскочила из кабины проезжавшего мимо самосвала и стоит сейчас внизу, машет ему рукой.
Хорошо отсюда видно ее. Запрокинула голову, из-под голубой косынки — золотистая волна волос. По всему лицу разбежались веснушки. И белые зубы блестят. Веснушек, понятно, не видно. Это Сергею просто кажется, что разглядел. А зубы вправду блестят, белые как снег. Она смеется. А вот теперь уже хмурится. Строго грозит. Не ему, конечно, а этому… Но что это с ней?
Сергей круто обернулся — и застыл на месте: на балке между пролетами, отстегнув монтажный пояс, с налитым кровью лицом Полуэктов пытался выжать стойку. «Сорвется!» — обожгла страшная мысль. Широкий пояс, надежный друг верхолаза, позванивая пряжками, покачивался на прикрепленных к балке цепях. Онемев, следили за Полуэктовым, балансировавшим на головокружительной высоте, работавшие рядом Толька Юсупов и Семен Зуев.
Заметили Юркин трюк и остальные монтажники. Все замерли, не рискуя внезапным окриком выбить парня из равновесия.
Сергей к нему ближе всех. Но как предотвратить беду? А тут еще как назло, не видя происходящего, названивает крановщица. Сбоку наплывает готовая вот-вот опуститься на площадку очередная конструкция.
— Юрка!! — рванулся снизу отчаянный крик. Полуэктов вздрогнул, испуганно качнулся от приближавшейся тени в сторону и, не удержавшись, рухнул в пролет. В самое последнее мгновение он успел схватиться рукой за цепь.
— Держись! — одновременно крикнули несколько человек. И тут же каждый ринулся на помощь.
Полуэктов раскачивался на тридцатиметровой высоте. Пальцы словно прикипели к металлу. И не было сил разжать их и попробовать подтянуться к балке, вскарабкаться на нее. Холодный пот струился по лицу, слепил глаза. Еще секунда — и все…
Сергей расстегнул пояс, вскинул над головой руки. Крановщица, поняв намерение бригадира, начала разворачивать стрелу.
Внизу чернела земля. Из нее щетинисто торчали железные сваи. Расплывались мутно-серые пятна щебня, желтоватые срезы пней. Вокруг звенела тягостная тишина. Чувствуя, что цепь начинает ускользать из рук, Полуэктов в полубеспамятстве зажмурил глаза.
Внезапно он ощутил прикосновение чьей-то сильной и осторожной руки. Не сразу разглядел, что рядом раскачивается застропаленная плита, а на ней, держась за трос, стоит и тянется к нему Сергей Бойко. Дрогнула над ними стрела башенного крана, и Юрий почувствовал, что ноги коснулись наконец чего-то твердого. Сергей крепко обхватил его поперек туловища и притянул к себе. Качнулась и медленно поплыла в сторону бетонная плита. Затем, описав короткую дугу, начала плавно опускаться.
Их сразу же окружили. Толька Юсупов, часто моргая длинными черными ресницами, принялся ощупывать Полуэктова. Убедившись, что тот цел-невредим и лишь раздавил циферблат часов, облегченно вздохнул:
— С благополучным приземлением. — И порывисто тряхнул Сергею руку.
— С таким балаганом в другой раз без головы можно остаться! — налетел на Полуэктова Зуев. На лице у Семена выступили пятна. — Анархист! Позер! Трепач!
— Будет тебе. Проработать еще успеем, — осадил его Борис и протянул потупившемуся «гимнасту» раскрытую пачку папирос: — На, закури, рекордсмен двадцатого века…
Когда Полуэктов потянулся к огоньку, все заметили, как у него дрожит побелевшая у запястья рука.
Сергей молчал. Через головы ребят он первым увидел, что к ним, запинаясь о кочки, бежит не своя от радости быстроглазая веснушчатая девчонка с развевающейся голубой косынкой в руке. Растолкав монтажников, она бросилась к Юрию, чуть не плача припала к его груди. Он смущенно отстранился.
— Постой ты… Драть меня надо, а не обнимать…
Откинув растрепанные волосы, Тамарка пристально глянула на Сергея, будто встретилась с ним впервые.
— А ты и вправду хороший парень. Верно девчата говорят. — Озорно улыбнулась, но увидев, как нахмурился Юрий, небрежно обронила слова: — Спасибо тебе, бригадир.
Запрыгали перед глазами огневыми искорками веснушки. Еле оторвал Сергей от них взгляд.
— Слушать надо, когда тебе… когда тебе… — Он замялся, не зная, какое подобрать слово. Его выручил Семен Зуев:
— …когда друзья тебе говорят!
— А я разве что… — растерянно пробормотал Юрий.
Но его перебил Борис Шестаков. Заглянув в крохотную книжонку, извлеченную из-за пазухи, он торжественно провозгласил:
— Вива ла амистад!
— Ты это что? — возмутился Юсупов. — Если кричишь не по-нашему, так сразу и переводи. Я же тебя по-татарски не критикую.
— Да здравствует дружба! — вот что это значит, — пояснил Сергей. И не удержался: — На Кубе не только бороды носят, там еще и по-испански говорят.
— Тут тебе не ликбез! — сверкнул глазами Полуэктов, но, видя, что все вокруг засмеялись, тоже улыбнулся: — Впрочем, валяй. Я ведь теперь твой должник.
— Трудно тебе будет с ним рассчитаться, — вызывающе усмехнулась Тамарка. — Он-то уж никогда не сорвется. Известное дело — правильный человек…
— Во всяком случае, не акробат! — беззлобно отрезал Сергей.
СНОВА В ПУТИ
13 мая. Уже четвертый день как уехал Нарожный, а я до сих пор вспоминаю наш разговор накануне Дня Победы. И никак не пойму, отчего такая сумятица на душе.
Вчера я случайно взяла в руки потрепанный томик Андерсена. Перечитала старую сказку. О том, как Снежная королева околдовала мальчика Кая, превратила его живое сердце в голубоватую холодную льдинку. Кай сразу же стал равнодушным и черствым. Он сделался жестоким и жадным. Его сердце оледенело. Оно уже не способно было откликаться на призывный зов отчего края, учащенно биться и замирать от прилива красивых и добрых чувств.
А что если нечто подобное происходит у человека с памятью? Постепенно она остывает, как вулканическая лава. Гаснут воспоминания. Перестают пульсировать маленькие живые клеточки, в которых еще вчера теплились запечатленные, как казалось, навсегда картины, имена, запахи, даты, лица. Оледенение памяти… Прошлое, раздумья о котором будоражили душу, перестает напоминать о себе. Жить становится проще и легче. Но чего он стоит, купленный такою ценою покой? Тот, кто отрекся от своего прошлого, по сути дела, отрекся от самого себя.
Нельзя допускать охлаждения памяти. Она всегда должна быть живой, трепетной и горячей, как омытое кровью сердце.
18 мая. Наконец-то Григорий прислал письмо. В Слюдянке плохо. Не подтвердилось. Краток немыслимо. Никаких подробностей. Если бы не первая строчка — «Дорогой друг!» — я бы ответила вполне сердито. Впрочем, ему и так сейчас тяжело.
20 мая. Добилась-таки командировки. На днях выезжаю в Железногорск. Задание от редакции: написать репортаж «Огни города юности». Просьба Нарожного: во что бы то ни стало выяснить, куда тянется ниточка, которую он нащупал в разговоре с Колесниковым. В случае удачи будет продолжение очерка о Петровском десанте. Правда, зацепка слабая. Даже сам Колесников не уверен, стоит ли там искать. Но не попытаться нельзя. До чего же, наверное, трудно быть настоящим следопытом…
23 мая. Телеграмма из Иркутска. Молодец Нарожный! Всего четыре слова: «Есть девятая тетрадь. Григорий». Скорее в Железногорск! Да здравствует поиск!
8 июня. Репортаж давно уже напечатан, а очерк ни с места. Ничего не выходит, хоть плачь. А все из-за того, что ниточка привела прямехонько к Юрию Полуэктову. И надо же так случиться. Столько в Железногорске стоящих парней, а племянником героя оказался именно этот разухабистый, бойкий блондин.
Гляжу на него, молодого, самоуверенного, лихачески беззаботного, и тысячи «почему?» наплывают со всех сторон. Почему Александр Самоцветов, один из самых отважных десантников, сумел украсить свою короткую жизнь подвигом, хотя никто, казалось бы, не подсказывал ему правильного пути? Рос в распавшейся семье. Ничейным сыном в школу пошел. Жил на далекой заимке у молчаливого лесника, который угрюмо молился на образа и до самой смерти хранил в стенном тайнике серебряные рубли николаевской чеканки. Только на службе в городе Севастополе началась, по существу, у парня биография. Оборвала ее война. Ему тогда сровнялось лишь двадцать три.
Столько же сегодня и Юрию Полуэктову. Так почему же этот красивый и статный парень, с рождения познавший, что такое доброта и чуткость хороших людей, не испытавший в жизни и сотой доли невзгод Александра Самоцветова, оказался на поверку человеком без курса? Плутает, спотыкается, куражится, будто и впрямь не знает, куда силу девать, зачем дана она людям.
А ведь рядом такие ребята: только приглядись — и уже светлее становится на душе. Ну хотя бы Борис Шестаков, этот увалень с плутоватой улыбкой. Вечера напролет корпит над испанским, до изнеможения роется в книгах, где есть хоть какое-то упоминание об Антильских островах, стоически переносит насмешки местных остряков, мужественно осваивая кубинскую румбу. Совсем не похожий на него внешне, порывистый, пылкий Толя Юсупов вместе с тем чем-то ему сродни. Все та же нацеленность на твердо задуманное дело, та же увлеченность, тот же романтический настрой. И забавная вроде возня с катером, и модели парусников, выстроившиеся на книжном шкафу в тесной общежитской комнатенке, и купание в проруби во главе еще немногочисленных железногорских «моржей» — все это вовсе не щегольство, не флотская удалость. Студент-заочник кораблестроительного института, он бредит северными широтами, мечтает водить за Полярным кругом атомные корабли. Даже Семен Зуев, внешне типичный профессорский сынок, по недоразумению сменивший смычок скрипки на раскаленный электрод, всеми своими поступками и даже причудами лишь подтверждает сродство по-настоящему сильных и самобытных натур. Его отец действительно видный ученый, и прочил он своему сыну несколько иную карьеру. Но Семен оказался на редкость строптив. Вместо института — Тихоокеанский флот. Вместо университета — железногорская высота. Вместо аспирантуры — самостоятельная атака на философов всех веков. Начав с древних греков, Семен добрался, правда, пока лишь до Спинозы.
А у Полуэктова все не всерьез, все между прочим. Хотя, говорят, по натуре он тоже мечтатель и фантазер.
Словом, послал бог тему. Не знаешь, с какого конца подступить.
11 июня. Наконец-то человеческое письмо от Григория. Написал из Красноярска. Роется в краевом архиве. Отчего это так: чем дальше уезжает Нарожный от нашего города, тем чаще я вспоминаю и думаю о нем?
15 июня. Этот злосчастный очерк буквально выбил меня из колеи. А ведь была минута, когда я уже поверила, что вместе с Григорием мы смогли бы не только собрать о десантниках материал, но и написать целую книгу, боевую, призывную, нужную людям.
Замахивалась на книгу, а споткнулась на первой же непривычной теме. И все из-за этого Полуэктова. А как получилось бы славно, окажись на его месте настоящий парень, ну, скажем, такой, как Сережа Бойко. Вот о ком надо писать. Пусть не очень складны его стихи. Пусть бывает порою излишне горяч и безмерно суров там, где можно быть и помягче. Пусть прорывается иногда мальчишеское желание ошарашить округу бурлящей в мускулах силой. Но есть у парня черта, которая делает его человеком незаурядным. У Сергея необычайно высока мера строгости к самому себе. С детства он закаляет волю. Всегда норовит одолеть непосильное.
Вспоминаю, что он мне сказал во время нашей первой встречи. Часто-де ругают в газетах молодых людей, которые участвуют на Западе в танцевальных конкурсах на продолжительность, на рекорд. Называют их чудаками, оболтусами. А ведь это, должно быть, чертовски трудно — двигать ногами без отдыха 20, а то и 30 часов подряд. Лично я так бы, наверное, не смог. Не хватило бы сил. А вот если бы нужно было, спасая товарища, на руках по тросу над пропастью перебраться! Тут бы я с любым суперменом поспорил. Кто уж к чему тренирован. Я себя готовлю не к танцам, а к таким вот критическим ситуациям.
И верно — готовит. Ухитряется уже больше двух минут находиться под водой. Опробовал на лыжах самые крутые склоны Карганач-горы. Приемы самбо отрабатывает только с теми, кто килограммов на десять тяжелее его. А после какого-то недавнего случая за месяц научился без страховки ходить по канату, натянутому на тридцатиметровой высоте. И все время придумывает себе новые испытания.
А к чему готовит себя Полуэктов? Смеется: «Будет случай — увидите. Не хуже других. Только заявлений для печати не делаем…» Ну что от него ждать? Он даже о дяде своем ничего толком сказать не может. А ведь, по идее, Полуэктову прямая дорога в большую жизнь. Он же преемник Александра Самоцветова, ему и продолжателем быть. Почему за него должны нести эстафету другие? Каждому путь открыт! И Полуэктов мог бы стать таким же героем, как черноморец Александр Самоцветов. Если бы только… Стоп! А может быть, так и начать: «Он мог бы героем стать…»
Ты ждешь, Полуэктов, когда тебя под руки введут в наш завтрашний день и скажут по щедрости душевной: ладно уж, пользуйся, черт с тобой! А не подумал ли ты, что где-то там, у проходной, будут стоять и твой дед, скошенный пулей на подступах к Зимнему, и ровесник твоего отца, зарубленный махновцами под Гуляй-Полем, и умерший в госпитале от ран родной твой дядя Александр Самоцветов? Простят ли они тебе заурядную, бесшабашную жизнь?
Эх, Зинаида Николаевна, да это же и есть тот самый заряд, который нужен твоему очерку!
22 июня. Сегодня я такая счастливая. Не найду даже слов. Все меня поздравляют. Забежал Вершинин, рабкор с Тяжмаша. В экскаваторном у них во время обеденного перерыва мой очерк читали вслух, и его попросили пожать мне руку. А главное — обрадовал Бойко. Позвонил в редакцию из Железногорска. Газету, говорит, не достать. Просит прислать еще хотя бы парочку экземпляров. «Это, — смеется, — посильнее, чем удар в зубы». Непонятно, что он там хотел сказать, но, видимо, и до Полуэктова дошло. «Теперь-то мы уж его дожмем», — пообещал Сергей. Дожимайте, ребята. Правильно! Надо, чтобы все сегодня были достойны вашего гимна. Как там у вас поется:
28 июня. Письмо от Григория! Из Самарканда. Ответил сразу, как только получил мой пакет с газетой и подробным отчетом о поездке в Железногорск. Очерк ему понравился. Поздравляет с победой. Так и написал: «Это, Зина, победа!»
В Самарканде у него тоже удача. Отыскал родных и друзей Мухтара Алиева. Выступил в школе, где когда-то учился Мухтар.
Теперь у нас уже одиннадцать тетрадей. Одиннадцать рассказов о людях героической судьбы, о том, как шли они к подвигу. Но моя тетрадь требует, конечно, дополнений. Полуэктов рассказал слишком мало, а его обещание «подбросить еще кое-что» вряд ли можно принимать всерьез. Надо распутывать дальше.
И как же это хорошо, что возвращается наконец Григорий! Ехать он решил через Железногорск. Непременно хочет встретиться с Бойко и его братвой. Десятого будет в Андреевске. Я уже заложила в календаре листок.
РУКИ В ПОРОХЕ
Серега расстроен. Серега зол. Грамота, свернутая трубочкой, свидетельствует, что он является победителем конкурса силачей. Но какой он, скажите на милость, победитель, если Толька Юсупов выжал двухпудовку на шесть раз больше! И Борис, понимаешь, успокаивает: ты, дескать, в средней весовой категории, а Толька — в полутяжелой, какое же тут может быть сравнение. Утешил, называется. Как будто жизнь ставит перед человеком преграды в зависимости от его габаритов. Она, извините, не спрашивает, в каком вы весе выходите на помост. Ей важно другое: выдержишь или нет. И Семен еще со своей философией лезет. Выбирать, говорит, надо одно. Либо духовный размах, либо физическое совершенство. Тоже мне, профессор. На Джека Лондона еще ссылается. Погодите, я вам покажу Джека Лондона!
Немного успокоившись, Сергей повернул назад к клубу. Мало ли что расстроен. Бежать от товарищей все-таки не годится. Как-никак вместе пришли. Только Полуэктов куда-то исчез. Повертелся, как обычно, для виду у библиотеки и скрылся. Странный он какой-то стал в последнее время. Куксится, в глаза не глядит. По два раза в день на почту бегает…
Сергею вдруг показалось, что где-то рядом послышался сдавленный крик. Вглядевшись в темень, черной стеной подступившую со стороны леса, он бросился туда, откуда теперь явственно донесся отрывистый сипловатый возглас. Выхватил на ходу карманный фонарь. Узкий луч осветил двух ощерившихся парней. Высокий, стриженный наголо детина грубо удерживал за руку вырывавшуюся девушку.
— А ну, отпусти!
Сергей услышал злобный шепот второго хулигана:
— А в нюх не хочешь, заступник?
Не обращая внимания на угрозу, Сергей перехватил руку стриженого и, стиснув ее в запястье, резко рванул к себе. Верзила со стоном упал на колено. Девушка, освободившись, кинулась в темноту. И тут же удар в лицо едва не сбил Сергея с ног. Но он устоял. Только выронил от неожиданности фонарь. И вот уже слепящий луч света направлен ему в глаза. Держись, Сережка! Снова удар сзади. Но Сергей тут же возвращает его долговязому, и тот кубарем скатывается с насыпи.
— Бойко! — Это напарник длинного узнал Сергея. Брошен фонарь. Хулиганы сломя голову метнулись в разные стороны. Догнать бы хоть одного! Сергей пробежал несколько шагов и остановился. В висках шумит, тяжело дышать. Ну и подлецы — бьют из-за спины. А драться, выходит, иногда все-таки нужно.
Здесь вроде бы он натолкнулся на них. Ну да. Вот и фонарь. Не разбился даже. Горит. А это что такое? Сергей поднял с земли смятую косынку. Голубую, с тоненькой белой каемкой. Не может быть! Неужели это была Тамара?
— Снегова! — прокричал он в темноту.
Лениво откликнулось сонное эхо. И тотчас совсем рядом виновато прозвучал знакомый голос:
— Я здесь, бригадир… Не шуми…
Сергей молча протянул ей косынку. Она прижала ее к лицу и вдруг заплакала навзрыд.
— Не надо, Тамара. Зачем ты…
— Стыдно мне, понимаешь? Что я, хуже всех? Да потуши ты фонарь. Вот так. До клуба проводишь?
Сергей кивнул. Медленно они спустились с насыпи. Тамара снова заговорила, все еще со слезами в голосе:
— Не со страху я побежала. Пуганая… Ко мне эта дрянь так и липнет. Потому, может быть, я и злая. Когда еще на руднике жила, меня так и звали: «Не тронь — укусит». А мачеха, та еще почище величала. Да что я тебе про свое говорю. Совсем это ни к чему. Ты ведь, бригадир, меня не уважаешь…
— Сам не пойму, — глухо ответил Сергей.
— Вот как… — протянула она. — А почему?
— Потому что… Да потому что строишь из себя бог знает кого. А спроси, зачем на свете живешь, — не ответишь.
Стали попадаться прохожие. Тамара, так ничего и не возразив, остановилась на перекрестке. Она, видимо, решила дальше идти одна. Сергей по выражению ее лица догадался, что ей хочется о чем-то его спросить.
— Ну что молчишь? Говори…
— Юрка надумал уйти из бригады…
— Странно, — пробормотал Сергей. — Гнали в три шеи — просил оставить. А теперь — нате вам! В другую решил перейти?
— Уехать хочет отсюда. Не могу, говорит, больше. Чужой я здесь. — Тамара невесело усмехнулась. — Статейку вон какую в газете напечатали. Как обухом огрели. Думаешь, приятно? Все-таки человек. И неспроста ведь Юрка на нашу стройку приехал. Он, ежели хочешь знать, и сейчас… Вот только пришлют…
— Ты это о чем? — насторожился Сергей.
— Да вот… — смутилась девушка и сбивчиво заговорила, с трудом подбирая слова: — Я же к тебе как к другу. Поссорились мы с Юркой из-за отъезда. Оттого и убежала из клуба одна… Нельзя его отпускать. Поможешь?
— Поможем.
— Спасибо тебе. За все. — Тамара пожала Сергею руку и улыбнулась: — Какая у тебя ладонь. Мозоли. Наверно, и крапинки впечатались в кожу, как уголь у шахтера. У моего отца руки были в точечках. Совсем как от пороха.
Словно что-то припоминая, Сергей напряженно сдвинул брови.
— Давным-давно, еще в Петровске, увидел я в музее такую картину. Палачи Парижской коммуны — версальцами их называли — ищут среди рабочих тех, которые сражались на баррикадах. Подошел офицер к одному из арестованных, сжал саблю и зверем смотрит ему на ладони. Рядом — солдаты с ружьями наготове. А подпись под той картиной примерно такая: «На пальцах мозоли, и руки в порохе — расстрелять!» Вот ведь катюги! Я потом все, какие только нашел, книжки о коммунарах перечитал. А для себя зарубил: так надо жить на свете, чтобы всегда были пальцы в мозолях и руки в порохе. Чтобы каждому было видно: ты с теми, кто сражается на баррикадах.
— В мозолях и порохе…
Так запал Тамаре в память этот разговор, что, размышляя потом над каждым словом Сергея, она вроде бы даже слышала его голос, приглушенный, задумчивый, добрый. Зато никак не могла припомнить, где же они попрощались и как она добралась до клуба. А вот разговор с Юркой, поджидавшим ее у барака, тоже запомнился надолго. Может, потому, что он был коротким.
— Где пропадала?
— Отсюда не видно.
— Определенно, — буркнул Юрка, — иначе бы я тебя разыскал. Весь поселок обшарил.
— Покажи-ка мне лучше руки, борода.
— Извольте, мисс Карганач.
— Не то.
— Что не то? Ты же не глянула даже!
— Не в порохе руки-то у тебя…
— Брось чудить, — вспыхнул Полуэктов. — Взрывником мне, что ли, сделаться, чтобы тебе угодить?
— Зачем взрывником? Настоящий парень — тоже звучит что надо.
Полуэктов недоуменно повел плечами.
ТАЙГА ШУМИТ
На перрон станции Железногорск вышел из поезда высокий, плечистый человек в черной куртке нараспашку, с небольшим чемоданчиком в руке. Прихрамывая, досадливо морщась на каждом шагу, он медленно направился к вокзалу.
Это был Нарожный. С тех пор, как его видели в Андреевске, он сильно сдал, похудел. Глубже ушли под брови утомленные глаза, обозначились туго обтянутые кожей скулы.
Дежурный по станции, расторопный, словоохотливый старик, у которого Нарожный спросил, как добраться до стройки, участливо поинтересовался:
— Может, нездоровится с дороги-то? — И тут же предложил: — Передохнули бы лучше до утра. С погодой-то, вишь, какая история.
И в самом деле, все предвещало ненастье. Низко отпустилось над землей затянутое рваными тучами небо. Вихревой ветер кружил с посвистом пыль. В воздухе сгущалась духота.
— Ничего, не в открытом ведь море.
— На флоте, видать, служили? Балтиец?
— Черноморец.
— А у нас тут тихоокеанцы в большинстве.
— Вот их-то мне и надо, — улыбнулся Нарожный. — Бойко такого, случаем, не знаете?
— Это почему же не знаю! — обиделся старик. — Моряцкая бригада. И катер у них, как положено, есть. Где работают, там и стоит. Такой закон заведен.
— И где же теперь причал?
— Аккурат у главного корпуса. Деньки нынче натужные. Каждой минуте счет. Вот и ночует вся бригада на корпусах. Сколотили времянку, в ней и живут. И стройка под боком, и море под рукой. — Дежурный сощурился и снова предложил: — Переждали бы непогодь, а?
— Да нет уж. Я перво-наперво к морякам.
— Неужто дело такое срочное?
— Дальше некуда.
— Я ведь это к чему говорю? — усмехнулся железнодорожник. — Тут один ветрогон давеча подкатил. На самосвале. Раскудахтался. Срочный, вишь, у него рейс. К складу Взрывпрома. Какую-то химию противопожарную везет. Пропускайте его вне очереди. А небо чуток захмурилось — вмиг красавец переменился. Самосвал — под навес, сам — в дежурку бегом. «Козла» теперь забивает. Морского! А променаду прочим, тоже из ваших, В полоску на нем… тельняшечка…
— Добро, пошли в дежурку.
В маленькой прокуренной комнатушке собралось уже не менее десяти человек. За столом хитроглазый, ладно скроенный парень энергично перемешивал костяшки домино. Изрядно вспотев, он уже сбросил ковбойку и теперь сидел в одной тельняшке, под которой так и ходили упругие мышцы.
Чувствовалось по всему, что парень этот — хозяин положения и затейливое его балагурство положительно нравится компании.
— Кто здесь шофер? — громко спросил Нарожный.
Игроки притихли. Стало слышно, как за окном беснуется ветер.
— Ну, предположим, я, — нехотя ответил парень в тельняшке. — А дальше что?
— С каким грузом?
— Огнетушители системы «Опрыскиватель». Мечта лесника. Последнее слово химии…
— Перестаньте кривляться! — осадил его Нарожный. — Где должен быть моряк, если начинается шторм?
— Позвольте, — поднялся водитель, — вы что же, автоинспекция? Или, может быть, контр-адмирал в отставке?
Стараясь как можно легче ступать на разболевшуюся ногу, Нарожный приблизился к столу. И все, кто был в дежурке, почувствовали, какого огромного напряжения стоили ему эти несколько шагов.
— Когда мы шли под Петровском в атаку, — глядя в глаза шоферу, с расстановкой произнес Нарожный, — я был лейтенантом, гвардии лейтенантом…
— Под Петровском? Это где десант… В газете писали… — Лицо у водителя преобразилось, огнисто полыхнули по-восточному удлиненные глаза. — У-у, сила! С такими бы вместе…
— Так ты ж из обоза! — холодно отрубил Нарожный.
— Из какого обоза?
— А, по-твоему, отсиживаться в бурю, когда тебя ждут на стройке…
— Довольно! — грохнул ладонью по столу шофер. На пол полетели костяшки. — Все понятно, товарищ лейтенант… — И торопливо начал надевать ковбойку.
Лишь сейчас, сидя в кабине несущегося в ночь самосвала, Григорий почувствовал, как на него всей своей непомерной тяжестью навалилась небывалая усталость. Да только не о том тревога. Зубы сжимать привык. Сердце сдает — вот уж тут не попишешь. Должно быть, не зря журили врачи. Профессор, колючий такой старикашка, даже руки не подал на прощание. «Вы, почтеннейший, медицину не уважаете. Так вам никакие лекарства не помогут». Дорогой профессор, наука, она, конечно, права. Да ведь по-разному устроены люди. Вон в Слюдянке, где след оборвался, совсем уж думал — каюк мотору. Задыхался вконец. А отыскалась в Иркутске родня Ивана Кривцова — и будто новый заряд в груди!
Трудно, конечно, профессор. Трудно. Ну а «бате», Алешке Горскому, Мухтару Алиеву — им на причалах было легко?..
— Чудной вы, как погляжу, — не выдержал водитель. — Буря уже вовсю. А вы хоть бы слово.
— Разве еще далеко?
— Далеко-то оно, может, и не далеко, да только в такую погоду… Места здесь особенные.
— Чем же они особенные?
— Ветры случаются лесоломные. Налетают из-за горы, и начинается светопреставление. Метет, как в пустыне. Только треск стоит. Бурелому тут видимо-невидимо. Старики говорят, будто это земля человеку отпор дает. Чтоб не тревожил он железные клады.
Водитель вдруг резко повернул баранку, отчаянно нажал на тормоз. Машину занесло, развернуло. Лязгнули цепи. Что-то сломав на пути, самосвал еще немного продвинулся боком и наконец встал поперек дороги.
— Ну, началось! — Шофер с трудом распахнул дверцу и, прикрывая глаза ладонью, прыгнул в темноту.
В кабину ворвался ветер. В лицо хлестнула перемешанная с хвоей пыль. На зубах заскрипел песок.
Пересилив боль, Нарожный последовал за шофером.
Им загородила дорогу рухнувшая сосна. Над землею торчали ее могучие иглистые ветви. Яростно их раскачивал ветер. А вокруг разноголосо и протяжно стонала тайга.
— К складу прямиком не прорваться! — наклонился к Нарожному водитель. — Надо пробиваться с фланга.
Фланговый рейд оказался не легче. Через полкилометра им снова перерезал дорогу завал. Уже вовсю бушевала гроза. По черному небу метались молнии. Но было по-прежнему сухо и душно.
Вонзая в дерево топор, Нарожный то и дело поглядывал на шофера. Парень, видать, только сейчас сообразил, почему его так торопили с этим «химическим» рейсом. Просмоленные ветви. Сухая, как порох, хвоя. Дикая, неистовая гроза…
— Еще километр — и порядок! — крикнул водитель. — Тут, за поворотом, сторожка… Спуск небольшой… Товарищ, вы что?! Товарищ лейтенант!
— Ничего, брат… ты жми… — непослушными губами прошептал Нарожный, чувствуя, будто якорной цепью сдавило грудь. — Это, брат, сердце… Сейчас отойдет…
Он уже не слышал, как снова и снова врезался в завал топор, как выл, надрываясь, ветер и хлестали по кузову ветви, как самосвал наконец затормозил у небольшой сторожки, в окне которой слабо мерцал огонек.
ПЕСЧАНЫЙ МЫС
В два часа ночи над корпусами раздался сигнал тревоги. Взревела, заглохла на миг и снова взвилась на предельной ноте хриплая от натуги сирена. Басовито зарычали забиваемые ветром гудки.
Третья бригада торопливо принялась натягивать еще не просохшие с вечера робы. Захлопала дверь времянки. Высыпали из соседнего барака арматурщики.
Далеко-далеко, за восточными склонами Карганач-горы, узкая полоска неба была подкрашена огненным заревом. Оно разлилось по всему горизонту. Вспышками-сполохами поднималось ввысь светящееся палевое сияние.
Лет шестьдесят назад огненная лавина дотла испепелила здесь поселение староверов. С той поры и считали эти места проклятыми, гиблыми для человека.
Пожар пока еще далеко. Но в такую бурю верховое пламя несется с реактивной скоростью. С каждой минутой оно набирает силу, все стремительней приближается к стройке.
На том берегу тайга совсем рядом с насосной станцией. Тут же пакгаузы, погрузо-разгрузочная база. Битум, древесина, горючее…
— Сергей! — подбежал Юсупов. — С главного пульта звонили: стройка в опасности…
— Дороги в завалах! — зло взъерошил чуб Шестаков. — На лесовозе не проскочить.
— А по берегу, над водой? — выпалил бригадир арматурщиков Снегирев. И сам же с досадой ответил: — Часа полтора, не меньше.
— Из поселка выбраться еще труднее. Мы ближе всех к насосной! — крикнул Сергей и еще громче отдал приказ: — Слушай команду! Арматурщики, готовь топоры, лопаты, багры. Монтажники — катер на воду!
— Катер? Да его в щепки разнесет! — усомнился было кто-то, но ребята уже спешили к воде.
— В обход — двенадцать километров! — задыхаясь от ветра, прокричал на бегу Сергей. — А морем, напрямик, — только два!
У берега прибоем намыло песчаный порог, и катер словно врос в землю. Ноги скользят по водорослям. Их выбросило на берег, как в хороший курильский шторм.
Глаза уже привыкли к темноте, да и зарево стало ярче, и каждый хорошо теперь видит перед собой всхолмленное крутыми волнами море. Уровень его заметно поднялся. На берег с густым ревом набегают тяжелые валы. Вместе с тоннами воды они обрушивают на камни обломки дощатых строений, черные бревна, вывороченные с корнем пни. А на другом, невидимом берегу вглядываются сейчас во мглу, ждут помощи хлопцы-строители, горстка защитников склада…
Еще немножко! Еще полметра. Дружный рывок — и вот уже «Ураган» зарылся носом в волну. Сергей переваливается через скользкие поручни. Добравшись до штурвала, машет Юсупову:
— Мотор!
Один за другим взбираются на палубу монтажники. Семен и Борис закрепляют на корме брезентовый тент, сооружают укрытие. Ребята из бригады Снегирева торопливо передают на борт пилы и топоры.
— В первый рейс — только моряки! — командует Сергей. — Остальные — вторым заходом!
Катер рассчитан на четырнадцать человек. На борту уже тринадцать.
— Еще одного! Живее!
На палубу с прибрежного камня прыгнул высокий парень в зюйдвестке. Поскользнувшись, он упал рядом с рубкой, Его сразу же подхватили. Сергей разглядел, что четырнадцатый — Юрий Полуэктов.
Легкое суденышко содрогнулось от гула мотора и, завалясь немного набок, взлетело на пенный гребень встречной волны. На баке вспыхнул прожектор. Норд-норд-вест! Курс — на Песчаный мыс.
Вдали, оставаясь правее за кормой, маленькими светящимися точками мечутся по берегу огоньки. Волнистой цепочкой они протянулись к Магнитному перевалу, через который карабкается дорога к насосной станции. Должно быть, это спешат из поселка поднятые по тревоге бригады.
А небо все выше, все светлее. Зарево над горизонтом, растеряв бледно-палевые тона, становится желто-багровым. Оно растет, дыбится над землей. Его гнетущие краски еще резче оттеняют серебристую черноту волн.
С глухим перестуком, на пределе работает мотор. Гулко колотится сердце. Немеют руки. «Только бы продержаться, — думает Сергей. — Только бы хватило сил…»
Неожиданный удар в борт сотрясает катер. Сильный крен. Скрип обшивки. И тотчас еще более крутая волна снова швыряет навстречу смытые с причалов доски и бревна. Со звоном вылетает в рубке боковой иллюминатор. Мелкие осколки вонзаются в лицо. На губах — солоноватый привкус крови.
С палубы сразу несколько голосов:
— Берег!
В рубку боком протискивается Юсупов. У него перебинтована голова. Руки в глубоких ссадинах. Он наклоняется к Сергею:
— Здесь не причалить! Скалы!
Луч прожектора выхватывает из темноты серые глыбы затопленных валунов. Метров на двадцать протянулась опасная отмель. А дальше бурунный поток ударяется в подводные камни и образует бешеный водоворот.
Как быть? Рискнуть «Ураганом»? А если мель или скалы? Ведь катер — единственная возможность перебросить к насосной станции оставшихся на корпусах ребят. Нет, приближаться к мысу нельзя. Нужно действовать иначе…
— Толя, держи штурвал! — что есть силы кричит в разбитый иллюминатор Сергей. — Высаживаемся на отмель!
Поменялись в рубке местами. На миг Анатолий задержал руки на плечах Сергея и грубовато стиснул его.
Сгрудясь на палубе, все молча вглядывались в приближающийся берег. Сергей накрутил на руку трос.
— Первыми — мы с Шестаковым…
Резко оттолкнулся от мачты и прямо с борта окунулся в клокочущую серую мглу. Несколько сильных гребков — и он уже почувствовал ногами дно. Но первая же волна опрокинула его навзничь и потащила по отмели назад. Рядом вынырнула крючковатая, похожая на осьминога коряга. Сергей инстинктивно схватился за нее. Словно гигантской катапультой, его швырнуло навстречу берегу.
Прежде чем ударил следующий вал, Сергей сделал несколько прыжков вперед, заметил торчащую из песка сваю и повис на ней. И тут только вспомнил о тросе. Обхватив сваю одной рукой и для верности ногами, Сергей затянул двойной морской узел. Свободный конец бросил на катер.
Сергей снова метнулся вперед. Шатаясь, выбрался на берег и, обессиленный, рухнул на мокрый песок. Приподняв голову, увидел прямо перед собой массивный, похожий на причальную тумбу пень. Подполз, обдирая локти, и, изловчившись, накинул на косо спиленную верхушку скрученный петлею трос. Тотчас почувствовал, что за него ухватилось сразу несколько рук. Значит, теперь смогут гуськом переправиться на берег.
С гулом и стоном мчит по урочищам и урманам раскочегаренное ураганом пламя. В ночном продымленном небе зарницами вспыхивают отсветы наплывающего пожарища. Но наперекор завалам и шторму, наперекор слепой ярости стихии спешат со всех сторон к дальней просеке взмятенные тревогой бригады. И первыми в наступающей цепи — парни в промокших куртках, десантники Песчаного мыса.
ОГНЕННЫЙ ВАЛ
Рассвет в тот день был без солнца. Мутное небо заволокли тяжелые темные клубы дыма. Ветер все яростнее раздувал разбушевавшееся пламя. Каждый новый порыв его взметал и кружил над тайгой тучи пепла, сажи, горелых листьев. Меж обуглившихся стволов и дотлевающих пней туманом стелился по земле густой, едкий дым. С треском горел валежник. Огромными факелами вспыхивали бронзовые сосны. Охваченные огнем ветви кометами проносились над верхушками деревьев.
Сергей вспомнил, как во время войны фашисты взорвали Петровский механический завод. В несколько секунд к небу один за другим рванулись зловещие столбы огня и дыма. Качнулась и с грохотом рухнула высоченная, многометровая труба. И вот уже над холмами развалин, над грудами битого кирпича, расплавленного стекла и погнутых балок беснуется черно-багровое пламя, а ветер несет над степью густое облако пыли.
Так неужто и сейчас, как в войну… Комбинат… Целый город…
Охранник у склада кричал им:
— К четвертой! К четвертой просеке!
Там, у реки Безымянной, рядом с лесной сторожкой, стоят готовые к работе бульдозеры. Но некому вести их в бой. Отряд охраны эвакуирует склад. В случае чего, полоска вырубки не спасет. В такую непогоду здесь огонь не осадить. Единственный выход — бросок навстречу пожару. Сделать четвертую просеку первым валом обороны. Перейти в атаку и зажать пламя между рекой и Карганач-горой.
Сергей пока еще не представляет, как смогут они, четырнадцать задыхающихся от усталости парней, преградить дорогу огненной лавине. Ясно только одно: чтобы создать мертвую зону, нужно расширять просеку, валить деревья.
— Вперед!
Навстречу стремительно несутся высокие сосны, островерхие ели, густокронные кедры. Рябит в глазах от бесконечного мелькания стволов. Сергею уже кажется, что он слышит шипение горящей хвои и частую пальбу сухих смолистых веток. Неужто огонь совсем рядом?!
Не сразу ему удается сообразить, что это трещит, ломаясь под ним, кустарник. Оступившись, Сергей падает лицом на выстланную мхом землю. Только не расслабляться… Но подкатывает к горлу тошнота, опускаются руки, не дают подняться переплетенные над головой ветви.
И тут почудилось вдруг Сережке: сквозь мутную, зыбкую марь глядит на него тот самый моряк с портрета. Сурово глядит, исподлобья: «Лежишь колодой. Эх ты, десантник…»
Срывая ногти, обдирая о кору ладони, Сергей подтянулся к дереву. Отдышавшись, медленно поднялся на ноги. Перед глазами вспыхнули оранжевые пятна.
Куда же девались хлопцы? Отстали? Сбились с пути?
Он раздвинул кустарник. Впереди, за низкорослым ельником и дальше за редеющим частоколом осин и берез, угадывался просвет. Сложив рупором ладони, Сергей что есть силы выдохнул в гудящую от ветра тайгу:
— Вижу реку!..
И тотчас словно из-под земли вынырнул Борис Шестаков. В руке топор. Вокруг пояса обрывок троса. Отряхивая с робы прилипший мох, следом появился Семен Зуев. Он протянул кому-то руку. С земли поднялся Юрий Полуэктов. Один за другим показались и остальные. У всех утомленные, черные от копоти лица.
Урок на всю жизнь: взялся идти первым — не смей быть слабым. Равняются по ведущему.
И снова пружинит под ногами опавшая хвоя. Снова горячий ветер обжигает лицо. Скорее к бульдозерам! Все в порядке. Только баки пусты. Трое бросаются к избушке. Вот уже они бегут назад с канистрами. Помогая друг другу, быстро заправляют машины.
— Бульдозерами будем таранить ельник, — срывая голос, кричит Сергей. — Начинаем от реки. Остальные — цепочкой вдоль просеки. Рубите деревья! Машины поведем… — Он смешался, вдруг сообразив, что кроме него в кабину мог сесть лишь Юсупов. — Стойте, Толька ж на катере!
— Я могу на бульдозер, — рванулся к машине Полуэктов.
— Ты? Заводи!
Почти одновременно загромыхали и тронулись с места оба бульдозера. Стиснув рукоятки рычагов, Сергей направил машину в самую гущу ельника. Скосил по пути несколько тонких матово-белых берез. С ходу врезался в темно-зеленый массив.
Стало уже совсем светло. И теперь отчетливо видно, как взмахивают в отчаянии ветвями, силясь устоять перед напором машины, молодые, еще не окрепшие деревья. Цепляются за сорванный дерн вывернутые с корнем пни. С тягучим треском ложатся под нож стройные елочки-однолетки, зубчатолистые рябины. Ветер вздымает над землей тучи осыпавшихся игл.
Сергей выглянул из кабины. Бульдозер Полуэктова на хорошей скорости сметает сомкнутый строй елей. Машина идет ровно. Чувствуется уверенная рука. «Молодец, борода!» А дальше, где встали стеной корабельные сосны и нахохлившиеся лиственницы, медленно движутся вдоль просеки, врубаются в лес остальные хлопцы-монтажники. Его бригада. Его друзья. Готовые, он уверен в этом, сгореть в огне, но не пропустить пламя к корпусам.
Чернеют за бульдозерами широкие борозды. Со скрипом и уханьем пятится, расступается нахмуренный лес. Но сквозь шум ветвей и завывание ветра все явственнее пробивается стонущий гул пожара.
В кабине — как в мартене. Духота отнимает последние силы. Боль разламывает спину. Дым слепит глаза.
К защитной зоне уже прибавлено сто, а может быть, двести метров. С каждой минутой отвоевывается новый участок обороны. Но еще напористей натиск огненной бури. Слева продвижение пожара задержит река. Справа — остановит почти безлесая, каменистая Карганач-гора. И тогда разъяренная лавина клином врежется в четвертую просеку.
Со стороны реки послышался шум. Сергей оглянулся. По просеке, подскакивая на кочках, с зажженными фарами мчалась грузовая автомашина. Из кузова машут ему, что-то кричат. Постой… Да это же… это же снегиревцы!
Машина останавливается, из нее выгружают какие-то баллоны с блестящими шлангами и разбирают их между собой. Торопливо пристегивают заплечные ремни. Ясно: опрыскиватели. Только откуда все это взялось? Грузовик… Бензопилы… И эта химия… Но некогда гадать. Главное — хлопцы здесь!
Вот они бегут мимо бульдозера. Один за другим исчезают в дыму.
— Юсупов! Юсупов где? — кричит им Сергей.
— В море! Еще подвезет! — отзывается несколько голосов. И Сергей с облегчением шепчет: «Порядок…»
Внезапный шквал снова взметает огненные смерчи. Опять нарастает зловещий гул, раскаленный воздух обжигает легкие. Искры залетают в кабину, жалят руки, лицо. Бульдозер движется как в тумане. Над головой начинает дымиться брезент.
На пути вырастает непонятная преграда.
Ветер на миг разрывает густые космы дыма, и в узкой полоске просвета расплывчато проступают контуры второго бульдозера. Он стоит неподвижно. Мотор молчит. Кабина пуста.
В свете фар мелькнула зеленая зюйдвестка. Полуэктов?!
— Назад! Слышишь, назад!
Беглец остановился, попятился. Только тогда Сергей заметил рядом с Полуэктовым высокого, плечистого человека в свитере с опрыскивателем за спиной. Незнакомец приблизился к Юрке. И тот, круто повернувшись бросился назад, к бульдозеру.
Хлестнула мутная струя раствора. Над капотом машины всклубилось облако пара. Полуэктов включил мотор.
— Береги глаза! — услышал Сергей.
Незнакомец, припадая на одну ногу, шагнул навстречу бульдозеру. С шипением струя ударила в ветровое стекло, умыла машину, погасила затлевший брезент. Расстегнув куртку, Сергей тельняшкой утер лицо. А незнакомец, нагнав ушедший вперед бульдозер, неуклюже втиснулся в кабину к Полуэктову. Тут же обернулся и поднял над головой сжатый кулак. Это могло означать лишь одно: «Все в порядке. Бой продолжается».
Оба бульдозера вновь врываются в лес. А дымовую завесу уже пронзают огненные стрелы. Яркими кострами вспыхивают вершины рослых сосен и ветвистых кедров. Держись, Сережка! Десантники на причалах…
Внезапный удар прожигает насквозь. Черное пламя бьет в упор, как из орудийного ствола. И сразу же обрывается, затухая где-то в вышине, только что низвергнувшийся на машину грохот.
НАВСТРЕЧУ БОЮ
«В результате сместившегося циклона… Большие массы холодного воздуха прорвались из Антарктиды… Сила ветра достигла девяти баллов… В архивных материалах имеется упоминание о том, что подобной силы ураган… И только однажды, в 1899 году…»
Строчки скачут, наплывают одна на другую. Зина с раздражением откладывает листок. Слишком уж гладко описывает умудренный опытом синоптик все, что произошло в Железногорске. Для него это не более чем загадочное явление природы.
Звонит телефон. Зина торопливо берет трубку.
— Нет, связь пока не восстановлена. Подробности? Никаких подробностей…
Уже третий день весь Андреевск только и говорит что о Железногорске. Все ждут оттуда новостей. Но даже в редакции сегодня, к сожалению, могут лишь повторить утреннее сообщение областного радио. Огонь удалось приостановить. Буря постепенно стихает. На помощь железногорцам посланы самолеты отряда особого назначения.
Дотянувшись до календаря, Зина перевернула в обратную сторону несколько листков. 10 июля. Размашистая запись карандашом: «Нарожный в Железногорске». Еще недавно при мысли об этом радостно становилось на душе. А теперь…
Зина подошла к окну. По главному проспекту плывут один за другим похожие на дельфинов автомобили. Ветер разлохматил густые кроны деревьев. Через дорогу с книгами в руках бегут две девчушки в ярких фестивальных юбках. У входа в оперный театр мужчина с пустым рукавом, заправленным в карман пиджака, покупает мальчику розовый шар.
Все как обычно. Жизнь идет своим чередом. И кажется, будто и нет ничего, кроме куцых повседневных забот. Но стоит только скользнуть по меридиану на север — и ты окажешься в гуще боя. Там, где бушует гудящее пламя. Там, где сейчас Нарожный. Но почему опять и на этом рубеже именно он, а не ты? Случайность? Судьба? А может быть, это не что иное, как особое свойство сильных и цельных натур — всегда быть в самом пекле боя? Не случайность, не слепое везение, а именно высокое качество души, которое неизменно отличает первопроходцев и одержимых от всех остальных на свете, как бы красочно те ни толковали, что и они, если понадобится, тоже сумеют, выдержат, не подведут. Одни живут в ожидании боя. Другие выходят ему навстречу.
Опять звонит телефон. Все тот же вопрос.
— Нет, никаких подробностей…
Негромкий стук в дверь.
— Войдите!
В комнату шагнул незнакомый, слегка сутулящийся парень. По всему видно, только что с дороги. На его загорелом лице — следы пыли и сажи. Клетчатая ковбойка разукрашена жирными, расплывшимися пятнами. Сапоги покоробились, в трещины набилась грязь.
— Вы к кому?
— К вам, товарищ Осадчая.
— Из Железногорска?
Парень кивнул и осторожно, как что-то драгоценное, положил рядом с диваном свернутый вдвое бушлат.
— Садитесь же, что вы стоите, — забеспокоилась Зина. Она бросилась за стулом, опрокинула чернильницу.
— Зовут-то вас как?
— Басегин моя фамилия… Шофер я на самосвале…
— Вы… от Нарожного?
— От него…
— Ну и как там сейчас? Что в Железногорске? Может, вы есть хотите? У нас тут пиво в буфете… Господи, что я говорю! Да не молчите же вы наконец!
Шофер провел ладонью по густым волосам.
— Как только все это вам и рассказать…
— А вы по порядку.
Приглядевшись, Зина заметила, что у парня обгорели ресницы и брови. Видимо, поэтому все его лицо приобрело удивленно-растерянный вид и он стеснялся смотреть в глаза.
— Ладно, по порядку. — Басегин кашлянул в кулак. — Встретились мы с гвардии лейтенантом на станции. Вместе двинули на корпуса… И тут приступ у него случился… Ему бы в сторожке отдышаться… Еле мы туда сквозь завалы прорвались. А он чуть пришел в себя да еще как услышал, что над тайгой палы, — где там его удержать… Ты, говорит, матрос, а я лейтенант… Приказываю — в машину! Тут оно и началось…
Незаметно, по одному в комнату набилось столько людей, что уже стало трудно дышать. Парень говорил не торопясь, тщательно подбирая слова. Паузы между фразами становились все длиннее.
— Когда Полуэктов кинулся из машины, Нарожный загородил ему дорогу… Ободрил… Страх переломить помог. Вместе потом повели бульдозер… В одиночку бы Юрке не устоять…
— А как же сердце? — смятенно спросила Зина. — Ведь был же приступ.
— Приступ… — развел руками Басегин. — Попробуй останови такого. Когда на Бойко рухнула сосна, тут уж мы думали — труба. А Нарожный… Помог вытащить парня из кабины, и сразу же сам — за рычаги. В другой бы обстановке разобрались. На руках бы у него повисли. А тут… В дыму, в такой коловерти… Пошел бульдозер — значит, порядок… А он, можно сказать, это…
— Слушайте, Басегин, что произошло?
— Серега в больнице. Весь обгорел. Перелом руки. Но, думаю, выдюжит… А гвардии лейтенант…
— Что гвардии лейтенант? — Зина оперлась рукою о стол. Лицо ее побледнело.
Поднялся, выпрямился во весь рост и Басегин. Обвел всех, кто был в комнате, пристальным взглядом и тихо сказал:
— Не берег он себя… Ни капли… Даже до реки не донесли…
Накренились стены. Пятном расплылся портрет Фучика у двери. В висках застучали десятки пишущих машинок. Зина закрыла лицо руками. Все смешалось, перепуталось в голове…
…Санбат. Операционная в старом особняке. Портрет неизвестного моряка. Мечется, бредит раненый лейтенант. Просит пить и тихо зовет: «Браток, ты слышишь? Браток!» Григорий… Как же теперь, Григорий?..
Глаза у нее сухие. Только вздрагивают морщинки, рано залегшие меж черных сдвинутых бровей, да голос почему-то совсем как чужой:
— Он что-нибудь успел вам сказать? Хоть слово…
— Сперва прошептал: «Передайте в Андреевск…» А потом… — Басегин задумался и, немного помедлив, уверенно добавил: — «Надо искать…»
Тут он наклонился к бушлату, развернул его и достал перевязанный бечевкой толстый бумажный пакет.
— Вам велено передать.
Зина разорвала пакет. На стол одна за другой скользнули тетради в плотных синих переплетах. На обложке той, что лежала первой, аккуратно было написано тушью:
«Кривцов Иван Никодимович, боцман (1902—1944). Отдал жизнь, спасая друзей. Достоин бессмертия».
Здесь же оказалась сложенная вчетверо карта. Красным карандашом на ней было прочерчено множество стрелок-линий. От небольшого города на Буге они тянулись через всю страну, пересекая на своем пути голубые дуги меридианов.
С улицы донесся протяжный автомобильный сигнал. В окно Зина увидела: у входа в редакцию стоит открытый зеленый «газик», в машине, рядом с шофером — летчик в застегнутом наглухо комбинезоне.
— Через полчаса вылет, — робко пояснил Басегин. — Назад, в Железногорск…
— Я с вами, — решительно сказала Зина.
ПОТОМКИ ПРОМЕТЕЯ
На крыльце больницы Сергея ждала вся бригада. Три недели прошло с того дня, как вели они бой у реки на четвертой просеке. Три недели отделяют их от той минуты, когда, окруженные огнем, они вдруг услышали гул приближающихся моторов.
В памяти Сергея пронеслись события последних дней.
Сбивчивый рассказ Бориса Шестакова о том, как подоспели хлопцы со стороны поселка, как в самый критический момент выручили строителей танкисты… Растерянный вид Юрки Полуэктова, его забинтованная голова. Дважды доставал Юрка из кармана какой-то конверт, порывался что-то сказать, но так и ушел, не обронив ни слова… Полные скорби глаза Зинаиды Осадчей. Нелегко ей было говорить о Нарожном, его оборвавшемся поиске. Оттого, знать, и завела речь о шофере Басегине, мечтающем попасть в «морскую бригаду», да о какой-то лихой крановщице, что первой сдала кровь для переливания обгоревшим на пожаре…
Поправив на руке повязку, Сергей решительно распахнул дверь.
Ребята встретили его оглушительным «ура!». По-дирижерски взмахивая руками, Семен Зуев звонко пропел:
Опередив всех, кинулся с объятиями Толька Юсупов. Борис Шестаков с ходу двинул заранее заготовленную речь:
— Салюд, кэридо амиго! Комо сигэ устед? Сой…[2]
Но проявить свои ораторские способности ему не удалось. Семен торжественно вручил Сергею извещение на посылку из Петровска и, окончательно перебив у Бориса инициативу, генеральским голосом произнес:
— В воздухе пахнет южными фруктами. В ознаменование возвращения в строй бригадира Сергея Бойко приказываю без промедления — на почту. Вскрытие и дегустацию произвести на месте!
Когда Сергею вручили внушительных размеров плоский, крепко сколоченный ящик, Борис удивленно присвистнул:
— Поздравляю! Судя по очертаниям, тебе прислали складную кровать с балдахином.
В ящике оказалась картина.
На ней был изображен молодой, просмугленный весенним солнцем электросварщик. На высоко поднявшихся стапелях голубым огнем скрепляет он стальную обшивку будущего корабля. Ветер растрепал его русые волосы, вздул парусом робу на спине. В разрезе ворота — полосатый треугольник тельняшки. Парень на миг оторвался от работы. С хрустом расправил плечи и зачарованно глядит в широко распахнутую даль, напоенную звонкими красками прозрачного апрельского полудня. В его серых глазах — улыбка, дерзость, мечта.
На медной табличке — короткая надпись: «А. Горская. Потомок Прометея».
— Это от Анны Георгиевны, — улыбнулся Сергей. — Подарок нашей бригаде. Послушайте, что она пишет:
«Вместе с группой скульпторов и художников я работала над проектом памятника героям Петровского десанта. Картина, которую я вам посылаю, продолжает эту бесконечно дорогую для меня тему. Я попыталась представить одного из погибших моряков живым, будто он сегодня рядом с нами.
На пьедестале памятника стоит смертельно раненный матрос с развевающимся знаменем в руках. Я изобразила его и на картине. Он представляется мне таким же, как вы. И это не преувеличение. Я читала, как ты на пожаре…»
Так… Тут несущественно… — Сергей пропустил несколько строк и скороговоркой закончил:
«Больших вам успехов, дорогие мои монтажники. Будьте крылатыми, потомки Прометея!
Ваша Анна Георгиевна».
— Потомки Прометея… — восхищенно повторил Семен. — Отличное звание! Недаром Карл Маркс считал этот образ…
— Такое родство, братишки, надо еще доказать, — многозначительно пробасил Борис и, не заметив, как покраснел и дернул плечом Полуэктов, добавил все тем же тоном: — С нас картины писать пока рановато.
— Точно, — подхватил Толя Юсупов. — Мало вымечтать красивую жизнь, надо ее еще сделать.
Пробормотав что-то себе под нос, Юрка надвинул на глаза берет и незаметно отошел к окошечку с надписью «До востребования». Занятые картиной, ребята не обратили бы на него внимания, но вездесущий Семен засек момент получения Полуэктовым заказной бандероли.
— Остановись, мгновенье! — Он приблизился к Юрке. — Дегустация продолжается. В таких маленьких коробочках единственному сыну обычно присылают любимые народом деликатесы в экспортной упаковке. Не будь индивидуалистом, давай разворачивай…
— Пошел ты со своими деликатесами! — неожиданно взорвался Полуэктов и выбежал за дверь.
— Кстати, о коробочке, — прервал неловкое молчание Борис. — Держи, Серега, свой кубинский талисман. Я его еще тогда на четвертой просеке подобрал. — Он протянул ему коробочку из жести, наполненную петровской землей.
— Вот за это спасибо! — обрадовался Сергей. — Только при чем тут Куба?
— Да здесь же на крышке ясно написано: «На… па». Стало быть, «Гавана», ежели по-испански читать. Другого слова не подберешь.
Сергей не ответил. Только когда уже подходили к общежитию, неожиданно спросил:
— Хлопцы, а кто знает, были или нет в интербригадах кубинцы?
— Даже индейцы в Испании воевали, — отозвался Борис. — А вообще, как говорит профессор Зуев, библиотека — лучший друг человека.
НЕОБЫЧНОЕ НАЧИНАЕТСЯ ПРОСТО
Необычное начинается просто. Чаще всего без традиционных предчувствий и без загадочных следов на снегу. В равной степени необычное может случиться и в районе гремящих широт, и в окрестностях еще не обозначенного на карте городка. Не заглядывает оно лишь туда, где не верят в него и не умеют мечтать о нем…
В тот день всю смену монтажники третьей бригады провели на отметке «90», а вечером, после работы, отправились в библиотеку. Шли вчетвером: Сергей, Борис, Семен и Полуэктов. Толя Юсупов присоединиться не смог: расстался с ребятами у дверей спортивного зала. Прощаясь, он пообещал озолотить того, кто обменяет ему Мельникова-Печерского на книжку о конструировании моторно-парусных судов. Вот почему Борис чуть ли не с порога завел с библиотекарем, худенькой строгой девушкой в очках, разговор на морскую тему.
— Не имеете академического издания истории парусного флота — понимаю. Не видно капитальных трудов о такелажной технике корсаров — могу простить. Но где, спрашивается, брошюры из массовой серии «На воде — как дома?» — Борис стоял подбоченясь, широко расставив ноги, словно под ним был не гладко струганный пол библиотеки, а кренящаяся от ударов волн скользкая палуба корабля. — Учтите, только из-за вашей халатности до сих пор не качаются каравеллы на просторе нашего моря!
— О тайнах атомного ядра тоже ничего новенького не видно, — в тон Борису подбросил Семен.
— Теорию относительности ты уже одолел? — ткнул его в бок Сергей.
— Частично. Углублюсь, когда перейдем на шестичасовой рабочий день.
И только Полуэктов словно не слышал всей этой шутливой перебранки. Небрежно бросив на подоконник узорчатый джемпер, он молча и сосредоточенно рылся в карточках каталога. Когда подошла его очередь сдавать книги, Юрий недовольно поморщился:
— Ничего не надо. — И, видя, что библиотекарь все еще держит в руке его формуляр, недовольным голосом добавил: — Что нужно, того у вас никогда не найдешь.
— Господи, с чего это вы все на испанском помешались… — Девушка испуганно замолчала, увидев, как побагровело у Полуэктова лицо.
— Ты что же, втихаря решил испаньолу одолеть? — ехидно полюбопытствовал Семен.
— Погоди, — вмешался Борис. — Может, он и вправду надумал. Слышь, Юрка? Я ведь тебе говорю. — Он подошел к Полуэктову. — Хочешь, как мы с Сергеем?
— Всю жизнь мечтал прочитать «Дон-Кихота» по-испански, — огрызнулся тот. — Хочу насладиться ароматом подлинника.
— А вот это ты брось. Я же тебе серьезно.
Борис сказал это спокойно, но Сергей заметил, как сжались у него за спиной кулаки. Когда Шестаков кивнул Полуэктову: «Выйдем!», он тоже шагнул к двери.
— Сами разберемся, — грубовато остановил его Юрий.
— Мы сами, Сережа… — пробасил Борис и пропустил Полуэктова на крыльцо.
Вот так и началось в тот день необычное.
Когда Сергей и Семен вышли из библиотеки, ни Бориса, ни Юрия на улице не было. Им сказали, что оба минут пять назад промчались сломя голову в сторону общежития. И было похоже, что Борис гнался за Полуэктовым.
Сергей и Семен кинулись к общежитию.
Дверь в комнату была приоткрыта. На полу валялся перевернутый стул. Чемодан Полуэктова стоял на табурете у окна. Крышка откинута, содержимое вверх дном.
Присвистнув, Сергей неожиданно склонился над чемоданом. Из-под клетчатой рубашки виднелась пожелтевшая, слегка измятая фотография. Сергей взял ее и медленно поднес к окну, к свету. Семен с удивлением заметил, что бригадир переменился в лице.
— Ты что, Сережка?
Но Сергей, будто онемев, продолжал разглядывать фотографию.
— Я про портрет говорил, помнишь? — наконец отозвался он.
— Помню.
— Так вот он, этот матрос…
На фотокарточке был изображен молодой парень в летней белой форменке и немного сдвинутой набекрень бескозырке. По ленточке бежали золотые буквы: «Военно-Морской Флот». На обратной стороне снимка было две надписи. Одна полустертая, сделанная карандашом: «На добр. пам. Ив. Ст. и М. Серг. Ваш А. С.». И вторая, пониже, — синими чернилами:
«Юрочка, вот тебе фото, которое ты просил разыскать. Это дядя Саша снялся перед самым началом войны. Будь таким же, как он».
Сергей быстро достал из кармана томик стихов и, вынув из него закладку, положил ее рядом с фотоснимком.
— В точности! Все совпадает!
— Что там опять?
— Почерк один и тот же! Понимаешь, профессор, все становится на место. На портрете — десантник Александр Самоцветов, а на подрамнике — надпись, сделанная его рукой.
— Ух ты!.. — Семен вдруг кинулся к окну. Сощурил глаза, навалился грудью на подоконник. Спохватившись, снял с гвоздя над кроватью бинокль, навел его на подножие Карганач-горы. И тотчас протянул Сергею: — Зря изволили волноваться.
В бинокль хорошо было видно, как по узкой тропке, бегущей в гору, неторопливо бредут Борис и Юрий. Оба чем-то возбуждены. Борис размахивает на ходу какой-то книжкой. Полуэктов идет понурясь, глубоко засунув руки в карманы.
Сергей и Семен без отдыха пробежали не менее километра. Запыхались, вспотели, наглотались пыли. У серого потрескавшегося валуна в нерешительности остановились. Здесь тропинка разветвлялась надвое. Сворачивая влево, она змеилась дальше до самой вершины. Убегая направо, окольцовывала небольшую каменистую площадку, на которой месяц назад вырос выложенный плиткой холм с тяжелым поржавевшим якорем вместо обелиска. Прикинули — и свернули вправо, «к Нарожному»…
Борис и Юрий не слышали приближающихся шагов. Полуэктов сидел на пне и рассеянно листал испано-русский словарь. Рядом с воинственным видом стоял Шестаков.
— При чем же здесь гордость? — гремел его голос. — Давно уже надо было обо всем рассказать. Все-таки не чужие… И вот что учти. Если ты и сейчас отмолчишься, я слово, понятно, сдержу. Сам говорить не стану. Но жизни тебе не дам! Ведь ты же и так в долгу.
— Перед кем? Перед тобой? За то, что доверился, три строчки попросил перевести.
— Не передо мной, а хотя бы перед тем кубинцем…
— Перед кубинцем? — шагнул из кустов Сергей. И сразу же оказался лицом к лицу с Полуэктовым. — Видели мы фотографию, ты уж извини… Александр Самоцветов, десантник… А знаешь ли ты, что это он — на том самом портрете, перед которым я клятву давал?
Слышно стало, как подвывает над кручей ветер, как скатываются вниз мелкие гладкие камушки.
— Рассказывай, Юрка! — не выдержал Борис. — Надо же когда-то решаться. Если ты, конечно, человек, а не швабра.
Полуэктов весь напрягся, словно изготовился к драке. У него побледнело лицо. На миг он задержал взгляд на якоре над могилой Нарожного и только тогда подал голос:
— Фотографию видел? Что ж, превосходно! Главного только не знаешь. И не узнать бы тебе никогда, если бы… Да что там, гляди… — Резким движением он протянул вперед руку. На ладони у него лежали часы на широком потертом ремешке из желтой кожи. В циферблат их был вмонтирован маленький компас. В его овале, мелко вздрагивая, металась намагниченная стрелка.
Щелкнула крышка. На матовом серебряном диске Сергей увидел искусно выгравированную надпись. Она была на испанском…
У Сергея перехватило дыхание. Несомненно, это были те самые часы, с которыми ушел когда-то на фронт его названый брат, черноморец Алеша Горский.
— А что здесь написано? — недоуменно спросил Семен.
— Мы уже перевели, — ответил Борис. — «Дорогому товарищу Орландо от Августино Перейро. Мы еще встретимся на Кубе. Они не пройдут! Мадрид, 1937».
— Мадрид? — угрожающе двинулся на Полуэктова Семен. — Где взял, говори?
— Полегче! Мне их из дому прислали. Дяде Саше эти часы друг подарил. Когда умирал, сам ему на руку надел. Мать дядю Сашу в госпитале навещала, вот он ей и рассказал, за несколько дней до смерти. С войны они у нас в семье хранились. О надписи только не знали…
— Хлопцы! — Серые глаза Сергея полыхнули голубым огнем. — Все ж ясно теперь! — Он положил рядом с часами закладку с загадочными сокращениями «Пам. сат. О. и А. Р.» — Знаете, как надпись на подрамнике читать?
— Ну-ну, — подбодрил Борис.
— Первое слово — по-русски, а второе и инициалы, как ту «Гавану» на крышке, — по-испански! И выйдет тогда: «Памяти камарадо Орландо…
— …и Августино Перейро», — закончил Юрий Полуэктов.
— Верно! А это значит, что портрет написал все-таки Алеша Горский! — Сергей хлопнул Юрия по плечу. — Такое посвящение продиктовать или подсказать мог только он. Надпись же эту Александр Самоцветов сделал скорее всего уже после гибели друга. Вспомнил его слова и, глядя на крышку часов, нацарапал их острием кинжала. Орландо — так звали отца Алеши, когда тот в Испании воевал. А кубинец Августино, — боец интернациональной бригады. Он был ему другом, готовил к вылетам его истребитель…
— Послушай, — в голосе Семена прозвучало сомнение, — а почему же Анна Георгиевна не догадалась, что это сын ее картину нарисовал?
— Я, хлопцы, думаю так… — тихо сказал Сергей, потирая над бровью розоватое пятно, оставшееся от ожога. — Доведись Алеше вернуться с войны, он бы тоже ни в жизнь не поверил, что «Потомка Прометея» написала его мать. Я ж видел, как она раньше малевала. Разве сравнишь! — И в раздумье проговорил, возвращая Юрию часы: — Сдается мне, настоящие люди — это те, что в отличие от таких, как мы, могут, если надо, превзойти даже самих себя. Да так, что потом вокруг разводят руками: гляди ты, ну кто бы подумал… Подвиг, хлопцы, всегда удивляет. По правде сказать, до сих пор не представляю, как это Матросов взял вот так и грудью на пулемет…
Сергей подошел к могиле Нарожного, тронул рукою якорь. Нагретый солнцем металл еще хранил дневное тепло. А внизу в синей предсумеречной дымке несмело, по одному уже затеплились первые вечерние огни. Вспыхнула волнистая цепочка на эстакаде, искристо замигали звездочки на бессонных башенных кранах. Корпуса комбината казались теперь огромным океанским кораблем, плывущим сквозь горы на свет далекого, невидимого отсюда маяка.
— А Томка Снегова, слыхали новость, в крановщицы пошла, — глуховато вымолвил вдруг Борис. — Сразу же после пожара. Хочу, говорит, как вы. Поближе к небу.
Сергей почувствовал, как кто-то неуверенно коснулся его руки. Не поворачиваясь, догадался: Полуэктов.
— Часы, — прошептал тот, — я тут думал… Возьми их себе… Так будет вернее… — Помолчал и уже другим голосом добавил: — А за Томку, за Снегову, мы с тобой еще повоюем.
— Что ж, повоюем. И не только за Томку.
ЭПИЛОГ
Все, о чем рассказано здесь, случилось сравнительно давно. Сейчас эту историю в подробностях помнят лишь те, кто когда-то начинал стройку у подножия Карганач-горы.
Многое переменилось с тех пор. Дробя железняк, вовсю грохочет, выталкивает из-под земли тяжелогруженые составы богатырь-комбинат. Давно уже нанесен на карту и стал районным центром комсомольский город Железногорск. Все дальше отступает перед новыми домами тайга. Шумит за четвертой просекой молодой зеленый подлесок.
Не один адрес сменила за это время «морская бригада» Бойко. Колесит сейчас по Сибири. Сделались парни завзятыми гидростроителями. Нет теперь среди них лишь Толи Юсупова. В заполярном городе Мурманске он ремонтирует на верфях могучие ледоколы, остальные по-прежнему вместе. Держатся одним экипажем.
Зина Осадчая надолго рассталась с редакцией. Ее позвала дорога. Зина продолжает начатый Нарожным поиск. Она в непрерывных разъездах по стране. Встречаясь, беседуя с десятками и сотнями людей, окунаясь в тишину знаменитых и безвестных музеев, часами напролет копаясь в пыльных завалах архивов, по зернам-крупицам собирает она скупые сведения о героях Петровского десанта.
Зине помогают не только друзья по редакции. Вместе с ней в следопытском походе и ребята-монтажники из бригады Сергея Бойко. Участие в поиске они считают своим священным долгом. Ведь их бригада носит теперь гордое имя Петровского десанта. Еще в Железногорске приказом по стройке в ее состав навечно зачислены матрос-черноморец Алексей Горский и гвардии лейтенант Григорий Нарожный. Каждый день на них выписывают наряд. Каждый день есть и их две нормы. И неизменно, из месяца в месяц, отчисляют монтажники свои рабочие рубли в фонд поиска неизвестных героев. Без поддержки друзей Зине пришлось бы гораздо труднее. И дело тут, понятно, не в рублях…
На этом, собственно, я и собирался закончить повесть. Но в самый последний момент в одном из старых номеров «Интернациональной литературы» мне попалось описание боев на испанской реке Эбро. И вот что я узнал из небольшой, набранной мелким шрифтом заметки.
Оказывается, бойцы одиннадцатой интернациональной бригады, в составе которой сражались батальоны «Эрнст Тельман» и «Ганс Баймлер», в трудную минуту поступили точно так же, как и моряки-черноморцы на Буге. Раздобыв у рыбаков челны, темной, беззвездной ночью они высадили на крутой пустынный берег десант. Фалангисты и марокканские стрелки были уверены в своих силах. Они не ждали внезапной атаки. Отчаянный маневр принес республиканцам успех. Те, кто первым ступил на берег, сознательно пошли на верную смерть, чтобы проложить товарищам дорогу к победе.
Взволновало меня не только совпадение боевых ситуаций. В каждом новом подвиге, подумалось мне, частичка того героизма, который был проявлен вчера независимо от того, где полыхала битва. Кто знает, быть может, тут действует какой-то еще не открытый нами закон. Закон незримой эстафеты, цепной реакции, по которому энергия горения сильных и смелых сердец никогда не исчезает бесследно. И еще я подумал в тот вечер: определенно, все подвиги сплетены корнями, взаимосвязаны между собой. Даже тот неожиданный бой, который вела на четвертой просеке бригада Сергея Бойко, был выигран еще тогда, на бурном Эбро, на вспененном Буге. И так же не усомнюсь: отвага и одержимость железногорцев тоже теперь помогут кому-то в нелегком и яростном пути.
Может быть, я не прав, но, по-моему, тот, кто постиг, в чем смысл этого провозглашенного самой жизнью закона, всегда сумеет отыскать и осилить свою дорогу к подвигу, найти свой меридиан романтики.
РАССКАЗЫ
ЧАСЫ С КУКУШКОЙ
— Наташенька, прочти-ка мне телеграмму. Очки что-то никак не найду… — просит Александра Григорьевна, застилая круглый стол новой вышитой скатертью.
Наташа, темноглазая соседская девочка, несмотря на свои неполные двенадцать лет, знает уже, что у пожилых людей бывают странности, которые нужно не замечать. Поэтому она не задумывается над тем, почему одну и ту же просьбу Александра Григорьевна повторяет уже третий раз. Наташа, тряхнув головой, забрасывает за спину тонкие русые косички и начинает читать.
Длинная фраза звучит по-телеграммному нескладно.
— «Милая мамочка… вызван отчетом…» — Наташа делает паузу.
Александра Григорьевна слушает, прикрыв глаза. Кажется, что она вот-вот улыбнется. Так интересно вздрагивают на ее лице глубокие царапинки морщин.
— «…поезд… вагон… встречайте… целую… Коля». — Наташа закончила скороговоркой. И тут же предложила: — Давайте быстренько все приберем и пораньше поедем на вокзал. Хорошо? — И, не дожидаясь ответа, принялась наводить порядок на книжной полке.
Наташа всегда помогает Александре Григорьевне, потому что любит ее, как родную. Дружба у них завязалась давно. Пожалуй, с того самого дня, когда Александра Григорьевна принесла ей из заводской библиотеки сказки Андерсена. Наташа тогда училась во втором классе. Годы пробежали незаметно. Теперь она уже в шестом, а Александра Григорьевна — на пенсии.
Но все осталось по-старому. Видятся они каждый день. Особенно нравится Наташе приходить в эту маленькую комнатку по вечерам. Здесь так тихо, уютно. Мелькают в руках Александры Григорьевны блестящие спицы. И плавно, будто клубок, разматывается нить нескончаемого рассказа. О том, как в их городке устанавливали Советскую власть, как строили первый завод, как от кулацкой пули погиб дедушка Максим — Колин отец… Про Колю, Коленьку она, разумеется, говорит больше всего. Каждый раз что-нибудь новое припоминает. И такие слова редкие и душевные находит, что Наташа просто поражается.
Да и как не удивляться? Ведь она-то отлично знает, что сыну Александры Григорьевны скоро будет тридцать три. Он который уже год электростанции строит. Вот и сейчас в Иркутске — начальником. Свою машину имеет. Какой же это, спрашивается, Коленька?
Но с Александрой Григорьевной спорить на эту тему бесполезно. Она, видно, всерьез считает, что ее единственный сын по-прежнему малютка, который в холодной Сибири непременно должен простудиться, если ему не послать вязаные носки и перчатки.
А сколько писем уже отправлено в Иркутск — не сосчитать. Вот только оттуда весточки приходят не часто. Александра Григорьевна, чуть зайдет об этом речь, тихо вздыхает и задумчиво говорит:
— Занят Коленька. У него забот побольше нашего. Ночи, поди, не спит. Да и жена у него, детки…
Все это выглядит странно и не совсем понятно. В одном лишь Наташа не сомневается: сын у Александры Григорьевны заботливый и нежадный. Другим вон старушкам в суд подавать приходится, а этот сам деньги присылает, и переводы всегда приносят в один и тот же день. Во дворе дома все говорят, что такого сына надо еще поискать.
— Наташенька, ты что же молчишь? — Голос Александры Григорьевны заставил ее вздрогнуть. — Вот так задумалась. А времени, должно быть, много — пора на вокзал.
— Спрошу у мамы, который час! — бросила Наташа уже на ходу и, хлопнув дверью, вприпрыжку понеслась по коридору.
Вот так и Коленька когда-то бегал. Непоседливый был… Александра Григорьевна аккуратно сложила листок телеграммы и достала из комода небольшую лакированную шкатулку. Открыла ее, и сразу же словно какие-то маленькие молоточки часто-часто застучали в голове, смешали, перепутали все мысли. Не может Александра Григорьевна не волноваться. Ведь это же не простая шкатулка. Не для красоты она. В ней собраны все до единой Колины весточки, какие только приносили почтальоны.
На, самом дне — слегка пожелтевшие и хрустящие конверты довоенных лет. Адрес на них выведен крупными буквами. Это приветы из пионерских лагерей. Их немного. Гораздо больше здесь треугольников, свернутых из самой различной бумаги, но помеченных одним и тем же выразительным штампом «Солдатское». Письма с фронта. Они писались от случая к случаю, но приходило их все же немало. Куда тоньше лежащая над ними пачка разноцветных конвертов и ярких открыток с московской печатью на марках. По-студенчески торопливые и не всегда понятные строчки…
А дальше — «с днем рождения», «с Новым годом», «желаю счастья…»
Синие, белые, голубые бланки. И лишь одно, будто случайно сюда попавшее письмо. В нем Коленька пообещал выслать фотографию внучат…
Александра Григорьевна закрыла шкатулку, подошла к портрету сына. Осторожно протерла резную рамку, хотя на нее не успела сесть еще ни одна пылинка. Минуту помедлила. Улыбнулась: «А волос у него мой — сам вьется» — и поправила упавшую на глаза седую прядь.
В сером с крапинками пальтишке на пороге появилась Наташа. Стали собираться. Александра Григорьевна накинула на плечи выцветшую, но еще не утратившую вида пуховую шаль. Начала надевать пальто и вдруг почувствовала, что руки у нее немеют, как на морозе. Сердце забилось рывками. «Это от радости, — утешала она себя, — от радости». А сама никак-не могла справиться с верхней пуговицей. Так и оставила ее незастегнутой.
Ехали в переполненном автобусе. Александра Григорьевна как-то неестественно прямо, сидела у окна и бережно прижимала к груди букетик бархатно-алых георгинов — любимых Колиных цветов. В ее когда-то темно-карих, но с годами посветлевших глазах, казалось, снова вспыхнули огоньки юности.
…Мягкий вагон остановился как раз напротив них. Александра Григорьевна сощурилась и поднесла к бровям руку, будто ей нужно было смотреть на солнце или куда-то вдаль.
Первым на перрон соскочил высокий загорелый пассажир в бежевом полуспортивном костюме. Его густая волнистая шевелюра показалась Наташе лихо заломленной папахой. Александра Григорьевна качнулась вперед, на лице ее резче обозначились морщинки. И Наташа догадалась, что это и есть Николай Максимович, ее сын.
Большой, широкоплечий, с возбужденным взглядом живых коричневых глаз, он казался великаном рядом с маленькой и сухонькой Александрой Григорьевной, припавшей к его груди.
— Не надо, мама… Не надо… — смущенно басил Николай Максимович, почему-то оглядываясь по сторонам.
Цветы он с улыбкой отдал Наташе, шутливо назвав ее «курносым созданием».
Александра Григорьевна концам выгоревшей шали утирала непослушные слезы, хотя Николай Максимович сразу же заботливо вложил ей в руку шелковый в клетку платок. Она не могла говорить, а только почти беззвучно шептала:
— Сынок… дождалась…
Наташа переминалась с ноги на ногу. Ей было очень неловко. Но, видно, и Николай Максимович растерялся. Он смотрел куда-то вдоль поезда и с трудом выдавливал из себя слова:
— Лет семь, считай, не виделись. Все на стройках… Но о тебе не забыл. И вообще… плакать не стоит… Лучше расскажи, как живешь-скучаешь. Времени, видишь ли, в обрез. Меня в Москву вызвали… А я тут еще по пути в Свердловске день потерял. В совнархозе… Я, понимаешь, проездом…
Александра Григорьевна медленно опустила руки и, глядя себе под ноги, устало, но почти спокойно спросила:
— Выходит, не погостишь?
Наташе еще никогда не приходилось видеть такого сурового, пугающего спокойствия. Она смотрела на Александру Григорьевну, на ее плотно сжатые губы и чувствовала, что сейчас расплачется, как первоклассница, если Николай Максимович скажет: «Нет». Но он в эту минуту вдруг улыбнулся и решительно махнул рукой:
— Ладно! На день задержусь. Небось в министерстве не съедят. Веселее гляди, родная! — И, уже обращаясь к кому-то в вагоне, громко прокричал: — Иван Ильич, старина! Дай-ка мне мой чемоданчик. Поосторожней! До Москвы будете играть без меня. Остаюсь!
— Да здесь, я вижу, без перемен! — шумно восхищался Николай Максимович, в каждом углу обнаруживая знакомые с детства предметы. — Вот и лампа там же стоит, и книги на месте. Прямо скажу, не квартира, а дом-музей моего имени. Только мемориальной доски не хватает!
От его могучего смеха, казалось, в окнах дребезжали стекла.
Николай Максимович уже без пиджака ходил по комнате и весело поглядывал на Александру Григорьевну. А она, помолодевшая от счастья, суетилась у буфета, гремела тарелками, доставала из шкафа давно припасенную для такого случая банку клубничного варенья.
Наташа хотела незаметно улизнуть, но Николай Максимович именно в этот момент пожелал поподробнее узнать, кто она такая.
Поймав ее уже на пороге за руку, он заставил Наташу представиться.
— Так вон ты кто! — поразился Николай Максимович и тут же не то шутливо, не то серьезно приказал: — Свистай наверх папу с мамой. Живо!
В комнате сразу же стало тесно. Не хватило табуреток, и Наташу два раза посылали за стульями. Когда она вернулась во второй раз, мама уже не поправляла воротничок своего нового платья, а вместе с папой, который наконец перестал повторять, что он «прямо из диспетчерской», расспрашивала Николая Максимовича о Сибири.
— Коленька, а чем же ты будешь бутылку открывать? — неожиданно спросила Александра Григорьевна и почему-то загадочно улыбнулась.
Николай Максимович старательно наморщил лоб и по-детски оттопырил нижнюю губу. Видно было, что он силился что-то вспомнить.
— Постой, постой… — нараспев начал он и вдруг безудержно расхохотался. — Ах ты, лукавая! Все, говоришь, на месте? Сейчас найду.
Николай Максимович потянул на себя средний ящик буфета и, немного порывшись, извлек оттуда какое-то хитрое приспособление, напоминающее штопор.
— Мой первый вклад в науку. Механизация жизненно важного процесса! — почти ликуя, пояснил он. И Наташа невольно засмеялась вместе со всеми. Про себя она уже давно решила, что Николай Максимович ей нравится — такой простой, веселый. Только уж очень шумит. Наверное, привык распоряжаться…
А он, словно для того чтобы окончательно завоевать Наташину симпатию, высоко поднял полный бокал и торжественно произнес:
— Первый тост — за маму… Она одна, без отца, воспитала меня, вывела, как говорится, в люди… Я ей многим обязан. И никогда ее не забуду. Вот так.
Александра Григорьевна чуть-чуть не расплескала вино. Она просветлела и улыбнулась какой-то новой, доброй и ласковой улыбкой. Наташа слышала, как папа вполголоса сказал: «Счастливая Александра Григорьевна», и видела, как мама кивнула ему в ответ.
А Николай Максимович звонко, по-русски поцеловал мать в губы и тут же достал из чемодана что-то большое, завернутое в плотную бумагу.
— Это тебе от меня. — Он кашлянул и тихо добавил: — Из самой Сибири привез, на курьерском…
Зашуршала бумага, и все увидели, что это массивные старинные часы. Наташа залюбовалась дорогим подарком. Позолота, замысловатые завитушки на стрелках, какие-то ангелы, склонившиеся к циферблату, тонкие римские цифры… Раньше такие часы она видела только в музее, нет, еще в каком-то заграничном кинофильме — там они стояли на камине.
— Спасибо, сынок… — вымолвила, сильно волнуясь, Александра Григорьевна и опустила глаза.
— Учти, скоро будет бой, начнет куковать кукушка, — сообщил Николай Максимович и добавил: — Уникальная вещь. Почти куранты. Будет обо мне память.
Александра Григорьевна все еще не оправилась от смущения. Николай Максимович молча комкал неприятно шелестевшую бумагу. Наташин папа поправил очки и скромно заметил:
— Кстати сказать, память у вас великолепная. Можно позавидовать. Ведь столько лет прошло.
— Как вы сказали? — насторожился Николай Максимович.
— Да я о подарке. Мы ведь тоже знаем, что вы еще школьником пообещали матери купить часы. Она нам рассказывала. Вы уж не скромничайте.
— Н-ну да… А как же! — Николай Максимович ослабил галстук и заговорил громче и быстрее: — Помню, помню. Самые большие, говорил, куплю. Кажется, даже с кукушкой обещал. Так, что ли?
— Да, да… с кукушкой, — еле слышно отозвалась Александра Григорьевна и как-то виновато улыбнулась.
— Вот видите! — торжествующе пробасил Николай Максимович. — Все как в газете: «Дал обязательство — выполни». — Он подмигнул Наташе: — А ну, курносая, давай займемся установкой оборудования! — И в комнате снова раздался его оглушительный смех.
Все молча слушали Николая Максимовича. А голос его гудел уверенно, бодро:
— Зеркало — на стол, ларец — тоже куда-нибудь подальше. — С этими словами Николай Максимович подал Наташе хорошо знакомую ей лакированную шкатулку. — А механизм с кукушкой — сюда. На прочном фундаменте будет стоять. — И он постучал толстым пальцем по комоду.
— А теперь полагается еще по одной. — Николай Максимович потянулся к бутылке. — За новую встречу.
На другой день Николай Максимович уехал не вечером, как собирался, а в полдень. Он утром что-то вспомнил, прищелкивая языком, торопливо стал укладывать в чемодан разбросанные по комнате вещи. Вскоре Александра Григорьевна с сыном и Наташей поехали на вокзал.
Прощание было невеселым: ведь снова предстояла многолетняя разлука, да и вообще трудно было загадывать о новой встрече. Наташа заметила, что глаза у Александры Григорьевны красные, потускневшие. Совсем как у папы, когда он приходит домой после ночного дежурства. Николай Максимович непринужденно шутил, растягивая слова, рассказывал что-то о новом реактивном самолете, на котором он решил лететь из Москвы.
Александра Григорьевна зябко куталась в шаль и невпопад кивала головой. Звякнул колокол. Николай Максимович зачем-то глянул на часы и глухим басом спросил:
— Так вот, ты на меня не в обиде?
— Что ты, Коля… С чего бы мне?.. — Александра Григорьевна попробовала улыбнуться. Наташа почувствовала, что это стоило ей большого усилия.
Гудок прозвучал пронзительно, резко. Николай Максимович несколько раз взмахнул с подножки шляпой. А потом все с грохотом унеслось куда-то вдаль, скрылось за привокзальными домишками и осенними липами.
Домой в заранее нанятом Николаем Максимовичем такси Александра Григорьевна и Наташа ехали молча. Тревожный осенний ветер забрасывал машину сухими желтыми листьями. Александра Григорьевна сидела согнувшись, у нее странно подергивалась одна бровь.
Наташа хотела сказать в эту минуту что-нибудь ласковое, утешительное. Она смутно догадывалась: на душе у Александры Григорьевны не только горечь разлуки. Но, как это всегда бывает, подходящих слов не нашлось. И Наташа, вспомнив о подарке, робко спросила, чтобы начать разговор:
— Александра Николаевна, а почему ваш Коля привез большие часы? Вы же мне всегда говорили, что он обещал подарить вам маленькие, на руку… Ой, дядя, остановите!
Шофер затормозил. Александра Григорьевна с трудом поднялась. На глазах у нее застыли росинки слез.
— Пойдем, Наташенька, лучше пешком.
Холодный ветер теперь уже в лицо швырял им облетевшие листья. Какими-то невероятно сиротливыми показались Наташе еще недавно так восхищавшие ее тополя. Только сейчас она заметила, что меж оголенных ветвей уныло чернеют растрепанные ветром, покинутые грачами гнезда.
За всю дорогу Александра Григорьевна не проронила ни слова. И Наташа, несмотря на свои неполные двенадцать лет, поняла, что пока лучше не спрашивать ни о чем.
Когда они подошли к дверям квартиры, слышно было, как вызванивают время часы и беспечно кукует кукушка.
ОГНИ НЕ ГАСНУТ
Где-то вдали за поселком, в самой гуще леса, замер, словно затерялся меж высоких елей, густой, рокочущий гудок, только что проплывший над корпусами завода. Кончилась первая смена. В механическом цехе рабочие столпились у свежей «молнии». На слегка покоробленном листе ватмана чьей-то размашистой рукой крупными буквами написана фамилия строгальщика Орлова.
Ученик токаря, худощавый и рыжеволосый Петька Пронин, протолкавшись вперед, тут же выпалил скороговоркой:
— Везет людям! Как по заказу: что ни день — двести!
— А ты думал, как у тебя: что ни вечер — сто пятьдесят с бутербродом? — мигом поддел Пронина острый на язык Сергей Ласкин, коренастый загорелый парень в выцветшей гимнастерке.
Вокруг засмеялись. А кто-то из стоявших рядом, негромко, но с чувством выговаривая слова, сказал:
— Везет? Нет, брат, Орлов сам кого хочешь вывезет…
В это время тот, о ком шла речь, пожилой широкоплечий человек в стеганом бушлате, плотно облегавшем не по годам крепкую фигуру, выходил уже из цеха. Он явно был чем-то озабочен. В его глубоких приветливых глазах обычно искрилось что-то солнечное, молодое, отчего становились незаметными тонкие нити морщин и словно бы таяли снежинки седины, запутавшиеся в темно-русых волосах. А сейчас тень какой-то неясной, невесть откуда взявшейся угрюмости лежала на его лице, придавая ему непривычно сумрачное выражение.
У проходной Орлова догнал Вершинин, парторг завода. Вид у него усталый. Будто две смены кряду не отходил от станка. На смуглом, с бронзовым отливом лице заметно выделяются скулы. Взгляд из-под приподнятых бровей, как всегда, спокойный, мягкий, только чуть-чуть проступает в густо-карих глазах спрятанная до случая усмешка. Вершинин уже целую неделю пропадает у энергетиков: там все никак не ладится с установкой нового генератора. Очевидно, не обошлось без приключения и сегодня.
— Дело к тебе есть. По дороге поговорим. Я тоже домой, — сказал он с расстановкой и тут же прибавил шагу, чтобы не отстать от Орлова.
Некоторое время шли молча. Вершинин всегда испытывал какую-то сковывающую неловкость, когда ему приходилось беседовать с Орловым. Незначительная разница в годах, разумеется, была тут ни при чем. Просто он чувствовал, что его стремление сблизиться с этим интересным волевым человеком неизменно наталкивается на невидимую преграду. Они говорят друг другу «ты», нередко вместе сидят в президиуме собраний, встречаются порою даже за праздничным столом, — и все-таки это всего лишь хорошие отношения, которым далеко до настоящей дружбы. Об этом подумал Вершинин и сейчас. Он покосился на Орлова и неторопливо начал:
— Надумали мы, Дмитрий Степаныч, вечер провести. Вместе хотим собрать молодежь и кадровых рабочих. Пусть расскажут, как строили Советскую власть, как ее защищали. Кой-кому полезно будет послушать. Небось такие, как ваш Пронин, считают, что и завод здесь сам собой вырос, и поселок уже лет сто стоит…
— Дело хорошее, — не очень охотно отозвался Орлов.
— Знаю, что не любишь выступать, знаю. Сказать по правде, сам не оратор. Но, понимаешь, бывают минуты…
— Ну вот что, — прервал его Орлов, — я тебе не ветеран рабочего движения и на героя баталий биографией не вышел. Говорить мне, стало быть, не о чем. — И добавил как самый веский довод: — Таких, как я, знаешь сколько? Тысячи!
— Вот и хорошо, что тысячи! — ухватился за мысль Вершинин. — Скорее до сердца дойдет.
Орлов недовольно поморщился и поинтересовался, будто бы и не было предыдущего разговора:
— А что, Лешка твой скоро с целины приедет? С рудника хлопцы уже возвратились.
Вершинин вздохнул. С укором посмотрел на Орлова. Из-за холма уже вынырнули шиферные крыши поселка.
— Скоро. Вчера письмо прислал…
Орлов остановился и, повернувшись спиной к ветру, начал раскуривать трубку. А потом спросил, глядя под ноги:
— Ты с обжигальщиками в Донбассе встречался?
— А как же.
— Кочкина такого не слыхал?
— Слушай, Степаныч, что это ты меня об одном и том же второй раз на неделе спрашиваешь? Говорил ведь тебе: не слыхал и не видел.
— Ну и точка, — невнятно буркнул Орлов. — Вопросов больше не имею.
Вершинин нахмурился. Он давно уже заметил, что всю последнюю неделю с Орловым творится что-то неладное и только его железная выдержка не дает волнению прорваться наружу, проскользнуть в разговоре. Наверное, в десятый раз Вершинин попытался вызвать его на откровенность, но снова безуспешно. Орлов через силу улыбнулся и коротко, как всегда, ответил:
— Нет, ничего. Все в порядке.
«А глаза отчего прячешь?!» — чуть было не рубанул сплеча Вершинин. Необычайно остро ощутил он вдруг все свое бессилие перед замкнутостью человека, который так упрямо не желает открывать ему боль привыкшего к молчанию сердца. Но сдержался. И только, когда уже подошли к дому Орлова, нерешительно напомнил:
— Ты, Степаныч, все-таки подумай… — Он не договорил.
Орлов ничего не ответил и торопливо попрощался.
Вершинин с минуту постоял у крыльца. Услышал, как хлопнула на втором этаже дверь, махнул с досады рукой и повернул снова к заводу. Дома его не ждали. По телефону он предупредил, что задержится до вечера: вместе с главным энергетиком решили посидеть над схемой капризного генератора. Всю дорогу у Вершинина не выходил из головы расстроивший его разговор с Орловым. От него остался тяжелый, не дающий покоя осадок. Шел и зло ругал себя: «Эх ты, психолог! В генераторах-то разбираешься, а вот к человеку дорогу найти не можешь. Опять осечка…» А другой, раздраженный голос перебил: «Да и он тоже хорош. Верно говорят в цехе: булатный характер. Попробуй-ка подступись к такому, если сам он Орлов да еще Кочкин какой-то у него на уме. В Донбасс, что ли, ехать выяснять, что это за личность? Впрочем…»
Вершинин замедлил шаг. Нервным движением сорвал на ходу несколько сухих, хрустящих листьев шиповника. В ладонь впились мелкие, невидимые колючки. Он остановился. Сощурил в раздумье глаза, глянул в сторону дома, у которого только что попрощался с Орловым, затем спохватился и, расстегнув плащ, чуть ли не бегом кинулся к заводоуправлению.
Два года назад у Орлова умерла жена, и теперь в просторной комнате, обитой серебристыми обоями, он жил один. Отказавшись от услуг соседок, сам себе готовил на плитке ужин и по утрам кипятил чай. Почти каждый вечер к нему заходил кто-нибудь из знакомых. Орлов, несмотря на суровую, таежную внешность, был радушным хозяином, а умение разбираться в хитрой науке о людских характерах делало его просто незаменимым собеседником для тех, кто не мог долго держать при себе переживаний, горестей, сомнений. Многие шли к нему в минуту радости или беды. Для каждого умел он приберечь хорошее, нужное слово. Но вряд ли кто знал, что этот душевный, сильный человек, оставшись один, долго ходит по комнате, заложив за спину натруженные за день руки, и думает, думает… А потом сядет у окна, закурит трубку и до поздней ночи слушает, как радиоприемник сквозь легкий треск и завывание доносит музыку и голоса из самых дальних городов. Это успокаивает. Отгоняет мысли об одиночестве.
Вот уже неделя как в комнате Орлова по вечерам свет не гаснет дольше обычного, а соседка по квартире — розовощекая и звонкоголосая заводская телефонистка Таня Юрасова каждый день слышит теперь один и тот же вопрос:
— Мне письмеца не приносили?
И сейчас, придя с работы, он непременно бы побеспокоил ее, но она уже ушла. Очевидно, в ночную смену.
Орлов вошел в комнату. Пошарив рукой по стене, зажег свет. Повернулся к вешалке и вдруг увидел на полу подсунутый под дверь голубой конверт. Письмо! Наконец-то… Сразу же защемило в груди, будто кто-то провел там шершавой, загрубевшей ладонью.
Брошен на стол футляр от очков. Кое-как протерев запотевшие стекла, от волнения чуть ли не по складам читает Орлов расплывшиеся вдруг перед глазами короткие строчки обратного адреса: «УССР, г. Амвросиевка, Цемзавод, молодежное общежитие, Кочкину А.»
…Саша Кочкин был любимцем отряда. Сероглазый двенадцатилетний мальчишка, стойко переносивший наравне со взрослыми все тяготы беспокойной лесной жизни, покорил даже самых угрюмых партизан. Да и какое сердце могло остаться холодным, когда все в отряде знали, что нет у парнишки ни отца, ни матери. Их расстреляли ворвавшиеся в село немецкие мотоциклисты. Избитый, весь в крови, Сашка убежал в лес, где с малолетства знал каждую тропку. На рассвете, когда по мшистым полянам стелился густой и тяжелый туман, его нашли партизаны. Сашку на руках принес в отряд разведчик с плечами молотобойца. Это был Дмитрий Орлов — рабочий с Урала, сержант пехоты, попавший в окружение и бежавший из фашистского плена, чтобы стать народным мстителем в белорусских лесах.
Сашку, не сговариваясь, все называли сынком. «Сынок», — говорил ему и Орлов, а сам вспоминал небольшой украинский городок, куда он в памятном июне вместе с семьею приехал в отпуск и где после первых же разрывов бомб стал добровольцем. Тот самый тихий городок, в котором маленький слепой кусочек металла оборвал жизнь его неугомонной золотоволосой дочурки. Может быть, поэтому в голосе Орлова Сашка и уловил ту необыкновенную, неподдельную задушевность, которая всегда сближает людей, делает их друзьями.
Они стали неразлучными — повидавший виды лучший разведчик отряда и искроглазый мальчишка, совсем уже не по-детски смотревший на войну.
— Сынок-то тебе вроде как орленок! — шутили партизаны.
Орлов в такие минуты незаметно подмигивал Сашке, а тот от смущения еще ниже опускал русую голову, чтобы никто не видел, каким радостным светом вспыхивали его глаза. Он хорошо помнил слова своего старшего друга, сказанные однажды после удачного поиска.
Они вместе вышли тогда из землянки. От сильного ветра раскачивались верхушки корабельных сосен. Орлов обнял Сашку, оглянулся по сторонам, словно боясь, что их кто-то услышит, кому об этом разговоре знать не положено, и тихо сказал:
— Кончим, Сашок, войну — махнем на Урал. У нас не хуже здешнего. Не край, а легенда… — Он мечтательно закрыл глаза, а потом привлек мальчишку к себе и потеплевшим, но отчего-то виноватым голосом спросил: — А сыном мне будешь?
Сашка, сжав губы, мгновение молчал. Потом едва заметно кивнул головой и порывисто уткнулся ему в грудь. Орлов подхватил чуть было не упавшую Сашкину ушанку и поцеловал его в растрепанные ветром волосы.
Но быть для парнишки отцом Орлову довелось недолго. В сорок четвертом после тяжелого ранения его отправили на Большую землю. Вернуться в Полесье уже не пришлось. Наступал вместе с частями Второго Украинского фронта. Только через год узнал он о судьбе своего орленка. В одной из ночных схваток с карателями Сашка пропал без вести. А потом крестьяне рассказали партизанам, что немцы перед самым своим бегством зверски замучили на окраине села какого-то мальчишку, имени которого в этих местах никто не знал…
Немало воды утекло с тех пор. Многое в памяти стерлось или поблекло. Но вышло так, что притаившаяся боль неожиданно снова напомнила о себе. Случилось это совсем недавно.
Вечером после работы Орлов, как всегда, со свежим номером «Известий» пристроился у приемника. Старательно посвистывал на плитке чайник. На средних волнах грустили о чем-то волжские трехрядки. Слышно было, как под окном ребята-монтажники со стуком «забивают козла». И вдруг все это куда-то провалилось, будто унеслось, подхваченное внезапным порывом ветра. Кровь горячей, гудящей волной прилила к вискам. И Орлов, не веря глазам, охрипшим голосом прочитал:
— «Простым рабочим поступил на завод и воспитанник детдома Александр Кочкин. Здесь он приобрел специальность, стал машинистом вращающихся печей…» Это была заметка о донецких цементниках.
Александр Кочкин! Сашка… Орлов сломал несколько спичек, прежде чем ему удалось задымить трубкой. Забыв обо всем на свете, в смятении спрашивал он себя: что это — совпадение или счастливый случай, радость или напрасно вспыхнувшая надежда? Что же это наконец?!
В тот же вечер написал и отправил в Донбасс взволнованное и полное ожидания письмо. Он знал мудрое житейское правило: кто не обольщает себя шаткими надеждами, тот застрахован от горечи разочарований. Но как мог он не поверить в счастье, если в ушах стоял шум корабельных сосен и казалось — в упор на него смотрят ставшие когда-то родными глаза.
Весь следующий день Орлов ходил сам не свой. Тогда-то он и спросил впервые, слыхал ли что-нибудь Вершинин о машинисте Кочкине. Орлов знал, что парторг год назад ездил на Амвросиевский завод и что память у него цепкая. Но разговор с ним ничего нового не добавил. Оставалось только ждать.
И вот прочитанное письмо лежит на столе. Орлов медленно подходит к столу. Отдергивает занавеску и пристально, долго смотрит сквозь синеватое стекло туда, где на фоне потемневшего вечернего неба, словно снизившиеся звезды, блестят огни родного завода. А через несколько минут в комнате с серебристыми обоями, колыхаясь, плавают уже сизые облака табачного дыма и музыка из приемника заглушает скрип гнущихся от тяжелых шагов половиц.
Орлов снова подносит к свету голубой конверт, зачем-то разглаживает его на ладони. И опять дрожит в руке сложенный вдвое листок.
«Дорогой Дмитрий Степанович!
Не знаю, что вам и сказать. Трудно писать такие письма. Словом, произошла ошибка. Все хорошее, что вы тут мне написали, я попросту не заслужил. Живу я один — это верно. Отца с матерью не помню. А вот партизанить мне не пришлось. Ходил в то время пешком под стол. Мне и сейчас-то всего девятнадцатый.
Выходит, письмо не мне. А тезка мой, сдается, был настоящим человеком. Я хлопцам своим в общежитии рассказал, так они говорят: мне до него далеко. И верно. Норму я на обжиге, правда, даю, а вот вечернюю школу снова бросил. Да еще недавно с получки перебрал. Чуть выговор не закатали. Стыдно теперь людям в глаза смотреть. Хлопцы говорят: драть меня надо, да некому. И верно — некому. Один ведь я.
На этом все. И есть еще у меня к вам просьба. Что-то неспокойно мне стало. Прямо уж скажу: можно, я буду вам писать про свою жизнь? Если нет — не обижусь. И вообще, подамся я скоро куда-нибудь на Сахалин. Советуете?
А что так получилось, ну, совпадение это, мне, ей-богу, обидно. Понимаю, будете переживать, а как тут быть, ума не приложу. Не знаю. Может, что не такие сердитесь. А если что, только скажите — в кровь расшибусь, но сделаю. Впрочем, кончаю.
А. Кочкин».
Орлов снова раскурил трубку. Тяжело выдохнул дым, не спеша стая расстегивать бушлат. По стеклу застучали крупные капли давно уже собиравшегося дождя.
По шоссе то и дело проносились громыхающие на повороте самосвалы. Торопливые лучи фар с разбегу ударяли в окна и мчались дальше, вспарывая плотную осеннюю мглу. Орлову вдруг отчаянно захотелось, чтобы хоть кто-нибудь постучал в дверь, вошел к нему, присел рядом. Может быть, тогда в комнате стало бы теплее. Он приглушил приемник и прислушался. Нет, никого. А ведь вчера и Сергей Ласкин за Тургеневым прибегал, и Таня-соседка весь вечер заколачивала в стену какие-то гвозди. Вчера… А сегодня он один и перед ним письмо, погасившее надежду.
«Постой, а как все-таки быть с этим хлопцем из Донбасса? Что же ему ответить? Парень он, видать, не простой… — Орлов нахмурился, еще больше наморщил лоб. — Молод, конечно, а ведь тоже не сладко одному-то…»
Дождь не прекращался. По-осеннему нудный и упрямый, он продолжал настойчиво барабанить в окно. Близилась ночь.
— Принимай гостя! Самовар готов? — прямо с порога пошутил Вершинин и начал ожесточенно вытирать забрызганные грязью сапоги.
Орлов, никак не ожидавший этого визита, не нашелся сразу, что сказать, и немного смутился. Но Вершинин не заметил его растерянности. Вымокший до нитки, продрогший на холодном ветру, он тем не менее был в отличном настроении и вовсе не собирался унывать.
— Ты, собственно, с чего это сияешь? Лужу, что ли, перепрыгнул? — невольно усмехнулся Орлов.
— Не лужу, а море! С генератором разделались, понимаешь? В душу ему залезли, всю схему проверили, а нашли-таки загвоздку! Теперь держись, дело пойдет, — не переводя дыхания, выложил Вершинин, и на его утомленном лице снова появилась добродушная улыбка.
— Домой, значит, не попал?
— Ну, мои, брат, привыкли. В милицию звонить не станут.
— А я вот тут музыку слушаю, — словно оправдываясь, как можно спокойнее сказал Орлов и включил приемник чуть ли не на полную громкость. Письмо, лежавшее на столе, он уже успел прикрыть книгой.
Вершинин взъерошил и без того стоявшие торчком волосы и, потирая озябшие руки, весело тряхнул головой:
— Совсем уж было домой бежал, да решил все-таки к тебе заглянуть. Кой-чего сказать надо…
«Знаю твои разговоры, — с досадой подумал Орлов, — снова начнешь агитацию. Пришел ведь, и дождь ему не помешал…»
А Вершинин помедлил, совсем уже другим, почти строгим голосом закончил:
— Давай-ка все-таки вспомним того машиниста. Кочкина твоего…
Орлов так круто повернулся, что чуть не выронил трубку. Должно быть, он переменился в лице, потому что Вершинин сразу же замолчал и подозрительно сощурил глаза. Орлов стиснул зубы, тяжело оперся рукой о стол, захватил в кулак скатерть. Опять зашумели в ушах как пламенем охваченные корабельные сосны.
— Степаныч, да ты, брат, что? — Вершинин бросился к нему. — Сердце? Присядь-ка давай…
Сказано это было таким хорошим, тревожно взметнувшимся голосом, что Орлов мгновенно почувствовал, как у него снова заныло в груди, но тут же вздохнулось свободнее, будто что-то там перевернулось.
— Угадал, сердце… — Он опустился на скрипнувший стул, встретился взглядом с усталыми, напряженно застывшими глазами Вершинина и вдруг отчетливо, с каким-то радостным облегчением понял, что сейчас, как другу, расскажет ему обо всем.
…Вершинин слушал молча. Ничем не выдал своего волнения, не проронил ни слова. Боялся перебивать. Человек, быть может, впервые в жизни брал вот так и доставал слова из самого сердца. Наконец Орлов отодвинул книгу и протянул ему голубой конверт.
Вершинин прочитал письмо, задумался. Столкнулись над переносицей густые кустистые брови. Как человек, немало повидавший на веку невзгод, он хорошо понимал, что в такую минуту нужно не утешать, а говорить уверенно, твердо, так, чтобы в твоих словах не было фальши, чтобы тебе верили. На фронте тоже, бывало, смотрит в глаза раненый товарищ, ждет ответа, а взгляд, перед которым не покривишь, предупреждает, огнем жжет: только не успокаивай зря, будь другом, слышишь?..
— Раньше надеялся — сын будет. А теперь… — Орлов взглянул на конверт и с горечью добавил: — Да и что этому парню сказать, тоже вот не придумаю. У него ведь своя судьба, своя дорога… На Сахалин вон собрался…
Вершинин быстро вскинул на Орлова радостно заблестевшие глаза и с какой-то особой, давно уже хранившейся в душе, но неожиданной даже для самого себя нежностью сказал:
— Эх, Степаныч! — Он обнял его за плечи. — Да ведь хлопец сам к тебе рвется! Будет у тебя сын.
— Правду говоришь? — Орлов весь напрягся и даже подался вперед.
— Правду.
— А как знаешь? Меж строк прочитал?
— Письмо, оно само собой. Ты, брат, соседку свою, Таню Юрасову, благодари. Чего уж тут таиться. Она мне про твое ожидание, про беспокойство и про письмо сегодняшнее все, что могла, рассказала. А позвонить в Амвросиевку вместе надумали. Она же у нас лучшая телефонистка. Мигом устроила. Вот я с Донбассом и переговорил. Меня там еще не забыли…
— А что же тебе про сынка… про Кочкина моего сказали? — тихо спросил Орлов, даже не заметив, что из давно потухшей трубки на скатерть просыпался серый, как цементная пыль, пепел.
— Видишь ли, твой Кочкин — парень горячий. Получил письмо и на другой же день — к начальству: хочу на Урал. Там, говорит, у меня родня объявилась. Вот только ответа дождусь — и в дорогу…
— Так и сказал?! — Орлов выпрямился во весь рост, растерянно и в то же время восхищенно посмотрел на Вершинина и, стараясь пересилить волнение, неуверенно спросил: — А как думаешь, сможем мы с ним… Ну, понимаешь, парень уже взрослый, сам себе хозяин… Как нам вместе-то?
— Об этом не тревожься. Если уж потянулись друг другу навстречу — обязательно породнитесь. Так, брат, уж человек устроен. — Вершинин понизил голос: — Ты же Лешку нашего знаешь. А мы ведь в семью его взяли — все уже соображал. Да что ты так на меня глядишь? Усыновили мы его, когда в Тагиле работал. Многие тогда детей ленинградских… которые после блокады… к себе — как родных. У нас ведь в роду голубоглазых и в помине не было. Ну, да об этом много не говорят…
Орлов разом как-то просветлел. В его потеплевших глазах, в самой их глубине, вспыхнули, зажглись солнечные искорки.
— Вот ты какой… — И голос отчего-то дрогнул чуток.
Вершинин смущенно улыбнулся, повертел в руках книгу и тоже поднялся из-за стола.
— Тай ему и напиши. Вместе, мол, с Лешкой Вершининым будете на завод ходить. Обжигальщики нам нужны. На тысячи верст вокруг стройка идет!..
Было уже совсем темно, когда наконец Вершинин собрался домой. Невольно поежился, надевая сырой, насквозь промокший плащ.
— Постой, — тоном хозяина приказал Орлов и через минуту вышел в коридор с огромной, на свой рост, шуршащей плащ-палаткой. — Давай облачайся. По-боевому. Для твоей должности наряд самый подходящий.
А потом задержал уже на пороге:
— Слушай, Григорий, что это ты мне о каком-то собрании говорил?
Вершинин, старательно нахлобучивая капюшон, только махнул рукой:
— Успеется. Завтра напомню.
По-прежнему лил осенний, несмолкающий дождь. Ночное беззвездное небо нависло сплошной хмурой тучей. Злыми порывами, шумящим прибоем набегал с севера стонущий ветер. С трудом выдергивая из вязкой грязи сапоги, Вершинин шел по обочине шоссе. Разрывая завесу ненастной ночи, вдали мигали огни, казалось, плывшие ему навстречу. С каждым шагом они разгорались все ярче, все сильнее.
Вершинин оглянулся. В окне у Орлова тоже светился огонек.
САШКА-ЛЕНИНГРАДЕЦ
Каждое утро в одно и то же время они проходят мимо моего дома. Он, высокий, черноволосый, широко и уверенно шагает через наш двор, идет как по прочерченной линии, глядя прямо перед собой. Она крепко держит его за руку и быстро-быстро семенит рядом. Ей трудно за ним поспевать. Она еще маленькая. Но девочка не показывает виду. У нее, наверное, будет упрямый характер.
Я выхожу на работу и пересекаю двор на пятнадцать минут позже, чем они. Иду той же самой дорогой. И мне даже кажется, что я попадаю в их следы. В такие минуты я не могу не думать о них. Вернее, о нем.
…Его у нас на курсе звали Ленинградцем. У парня была красивая, редко встречающаяся фамилия — Нагорный. У него было хорошее имя — Саша. Но все почему-то говорили всегда:
— Ленинградец приехал…
— Ленинградца позовите…
— Ленинградец вам сыграет — ахнете…
А играл он действительно дивно. Нехитрый инструмент, каким мне раньше представлялся баян, в его крепких, совсем не музыкальных с виду руках мгновенно превращался в чудесный родник певучих, задушевных мелодий. Из протяжно вздыхающих мехов он извлекал такие удивительные и неожиданные для слуха звуки, что, право, порою трудно бывало сдержать неведомо откуда подступившую грусть или вихрем налетевшую радость.
Когда Саша склонялся к баяну, он весь преображался. На его обычно матово-бледных щеках выступал жаркий румянец. Всегда напряженное, будто в ожидании тревожной вести, открытое и красивое лицо постепенно начинало озаряться где-то в глубине возникающей улыбкой. Его черты становились мягче, добрее. Холодными и неподвижными оставались только глаза. Их не могла оживить даже музыка.
Саша был слеп.
С первого взгляда это было незаметно. И если кто-нибудь, присматриваясь к нему, удивленно вдруг округлял глаза, его отводили в сторону и сдержанно, вполголоса объясняли:
— Это у него с войны… У парня в биографии Ленинград… Думаешь, не обращался? Сам Филатов сказал: наука бессильна… Упорный? Это уж точно. Сам понимай: до четвертого курса дошел, и все время отличник. А ведь факультет у нас исторический. На каждую тему — по тысяче страниц…
И верно. Трудно приходилось Ленинградцу. Попробуй одолей «Капитал», если ты ни разу в жизни не видел ни одной его страницы. Как рассказать на экзамене о распаде Римской империи, когда карта, висящая за спиной преподавателя, не подмигивает тебе разноцветными пятнами завоеванных провинций и четко обведенными кружочками древних столиц? Как же вгрызаться в науку, когда из всех учебников на твоей общежитской этажерке только один «Краткий курс»? Семь толстенных, в четыре пальца томов. Такова уж система Брайля. Сейчас, говорят, для потерявших зрение даже «Тихий Дон» ухитрились переложить. А тогда, в первые годы после войны, всего Шолохова мы Ленинградцу читали вслух. По полтора часа перед сном. И слушали трагическую историю Григория Мелехова всей комнатой, хотя многие давно уже знали ее чуть ли не наизусть. Читаем, мол, не только для тебя: всем интересно…
И как учебники одолеть — тоже придумали. На курсе сорок человек. Вот мы и договорились, что будем с Ленинградцем по очереди заниматься. Подготавливаешь к определенному дню нужные книги, из пузатых томов делаешь «выжимки» в специально заведенную тетрадь, консультируешься с доцентами, допекаешь во время перерывов податливых на расспросы аспирантов. Словом, удаляешься с Сашкой в пустую аудиторию во всеоружии. А чтобы в дверь не ломились, вывешиваешь записку: «Здесь занимается Ленинградец. Стучи, если жизнь надоела». За Сашку мы хоть кому готовы были голову оторвать. Оберегали его как только могли. И все-таки случались такие минуты, когда мы знали, что ничем не можем ему помочь.
Однажды читал нам лекцию по истории дипломатии новый, совсем еще молодой преподаватель. Ему во что бы то ни стало хотелось с первого же раза произвести на нас неотразимое впечатление. Слишком уж старательно он произносил и закруглял сложные и звучные фразы, чересчур уж энергично налегал на картинные жесты. Все это было ни к чему. Мы бы слушали его и так. Кому не интересно узнать, как воевали с железным канцлером бывалые русские дипломаты? Но преподаватель хотел понравиться. И поэтому его раздражал черноволосый студент с неподвижным, застывшим лицом, который, почти не переставая, стучал чем-то по столу. Он явно мешал кандидату наук до конца блеснуть своей эрудицией и отточенностью речи, которыми тот еще при поступлении в аспирантуру покорил придирчивых экзаменаторов. Вот почему преподаватель не вынес и спросил в упор:
— Вы что, молодой человек, азбукой Морзе увлекаетесь?
Все замерли. Он обращался к Ленинградцу. Саша почувствовал это. Он медленно поднялся из-за стола и, задевая за стулья, направился к двери. Пошарив ладонью, нашел ручку и с силой рванул ее на себя.
Преподаватель опустил голову. Он был, в сущности, неплохим парнем, и потом наш курс с ним подружился. Но тогда… Тогда мы могли бы его избить. Если бы он сразу же не сказал:
— Товарищи… Я сделал глупость… Я сейчас же перед ним извинюсь… — И он бросился за Сашей вдогонку.
Вошли они в аудиторию вместе. Не успел преподаватель и рта открыть, как Ленинградец, взяв его за руку, тихо, но очень твердо произнес:
— Я сплоховал, ребята… Так нельзя… Я должен извиниться.
— Ну что вы, за что же… — растерялся кандидат.
— Надо было мне объяснить, что это не морзянка, а азбука для слепых. Откуда вам было знать, что это я иглой буквы накалываю…
Ленинградец снова сел на место. А лектор неуверенно взошел на кафедру и неожиданно для всех по-человечески взволнованно и ярко закончил прерванный рассказ о Бисмарке и Горчакове.
После этого случая всех новеньких, и студентов, и профессоров, мы предупреждали раз и навсегда:
— Учтите…
Только Геннадию Ракитину, хотя и перевелся он к нам из Иркутска лишь к концу четвертого курса, никто не стал ничего объяснять. Геннадий сам предупредил в первый же день:
— Мы с Сашей земляки. Из одного села. Знаю его, как себя.
Этот рослый, ладно скроенный парень с симпатичными ямочками на щеках, которые придавали его немного скуластому лицу постоянно застенчивое выражение, сразу же пришелся всем по душе. Особенно сердечно и с тихой завистью встретили его такие, как я, кому не пришлось в отгремевшей войне мерзнуть в окопах и ловить в расплывающуюся прорезь прицела черные фигуры врага. У Геннадия на отвороте пиджака скромно поблескивал гвардейский значок, а идя на экзамены и зачеты, он прикалывал на грудь узенькую полоску из орденских лент. И этим было сказано все. Мы его с ходу записали в свою компанию.
Огорчало только, что Геннадий не смог подружиться с Ленинградцем. Но его трудно было в этом винить. Не всегда ведь земляки становятся друзьями. Иногда общие воспоминания не столько роднят, сколько разделяют людей. Нам тогда было и невдомек, что причина их отчужденности таилась совсем в другом.
Никому из нас и в голову не приходило, какая нестерпимая боль обжигала и мучила Сашку, когда он слышал, как Ракитин, тяжело ступая по полу, весело обращался к Тоне Смирновой:
— А не пойти ли нам, Тонечка, сегодня в кино?
Мы же не знали, что Ленинградец, весь затаясь и сникнув, долго прислушивался потом к их неторопливым шагам, медленно затихающим в конце коридора. Мы и не подозревали, что эта кудрявая, всегда улыбающаяся, чуть-чуть беззаботная девушка давно уже задела и, сама того не ведая, не на шутку растревожила Сашкино сердце. Все бы на свете отдал человек, только бы и ему хоть раз в жизни пойти, как другие, вместе с нею в кино. Хоть раз в жизни, сидя в затемненном зале, смотреть потом во все глаза на экран и осторожно, локтем касаться ее руки…
А вместо этого приходилось незаметно считать на пальцах медленно тянувшиеся дни, прятать поглубже надежду и покорно ожидать той заветной далекой минуты, когда она, Тонечка Смирнова, подойдет наконец к нему и скажет певуче и нежно:
— Пора заниматься, пошли.
Нам казалось, что мы знаем Ленинградца. На самом деле мы его не знали. Не знали его дум. Не знали его переживаний. Не знали, о чем поет в его руках баян, когда рядом не остается никого, кроме все понимающей гулкой тишины.
Вот почему того, что произошло на последнем курсе во время зимних каникул, не мог предвидеть из нас никто. Вот почему все, что случилось, окончательно стало нам понятным лишь несколько лет спустя. Тогда же мы попросту растерялись. Жизнь удивила нас. А мы не знали, благодарить ее за это или ругать.
Мне хорошо запомнился тот тихий, безветренный вечер, когда наша студенческая агитбригада на двух скрипучих санях с песнями подкатила к шахтерскому клубу. Ярко светили у входа огни. На снегу протянулись голубые тени.
— Артисты приехали! — всплеснула руками розовощекая девчушка в расшитом узорами полушубке. И, как бы в ответ на ее восторженный возглас, Геннадий Ракитин, не смущаясь мороза, запел только что вошедший тогда в моду «Шахтерский вальс». Песню подхватила и с размаху бросила в звездное небо золотоволосая Тонечка Смирнова. Такой уж у нее был звонкий и чистый голос. Ленинградец — он всегда ездил с нами — вскинул баян, и поплыла над поселком песня.
А уже через несколько минут наш неподражаемый конферансье Колька Снегирев, аккомпанируя себе на гитаре, пел перелицованные применительно к новой обстановке «Универсальные уральские частушки».
Ему долго аплодировали. Хохот стоял столбом. Но зал сразу же притих, когда на сцену вышел Ленинградец. Он слегка склонился к вздрогнувшему баяну и, резко вдруг откинувшись назад, во всю ширь растянул мехи. Знакомая, тысячу раз слышанная с детства мелодия, в которой, казалось бы, уже не найти и нотки, способной зазвучать по-новому, неожиданно полилась и зажурчала таким кристальным ручейком, такой луговою свежестью пахнула в лицо, что не было просто сил сдержать защемившую в сердце тоску. Наверняка почудилось каждому, что это не баян выводит задумчивый, грустный мотив, а несет его залу взволнованный девичий голос: «Хорошо любить такого, кто любовью дорожит…» — «Вот тебе и «Волга-реченька», — подумалось тогда и мне. И впервые, пораженный внезапно ударившей в голову догадкой, я задал себе в ту минуту вопрос: а что, если наш Ленинградец влюблен?
Эта мысль так потрясла и смутила меня, что я даже не помню, как рукоплескал Саше вместе со всеми. Неужели Тоня? Не может быть… Но как же тогда? Ведь Тоня и Геннадий… Они всегда вместе… Даже поют дуэтом…
Аплодисменты гремели все громче. Саша стоял, опираясь на стул, и радостно, но сдержанно улыбался. Он улыбался людям, которые даже не подозревали, что этот черноволосый баянист не видит их, а только слышит и чувствует чутким, трепещущим сердцем.
Я отыскал взглядом Тоню. Она стояла у края занавеса и изо всех сил хлопала в ладоши. Так, что даже, растрепались ее золотистые, вьющиеся крупными кольцами волосы. Губы у нее пересохли. Очевидно, от волнения. А в глазах, еще недавно безоблачных и озорных, сейчас — я готов был поклясться — блестели слезы. Рядом стоял, облокотись на пианино, Геннадий Ракитин. Он так же, как и я, смотрел на Тоню. С его смугловатых щек почему-то исчезли ямочки.
В это время пожилой шахтер из первого ряда встал с места и протянул Ленинградцу записку. Тот не шелохнулся. Рука с запиской повисла в воздухе. Не успел я сделать и шагу, как меня опередил Геннадий. Он подошел к краю сцены и что-то шепнул шахтеру. Записку, не читая, сунул в карман.
За кулисами он развернул ее и показал ребятам. Всего несколько слов: «От бывших солдат большая просьба. Сыграйте нам что-нибудь фронтовое». Все переглянулись. Тоня сказала:
— Обязательно прочтите ему. Он сыграет.
— А я думаю, не стоит, — отрезал Геннадий.
— Почему? Он же Ленинградец.
— Ленинградцы бывают разные…
— Не заговаривайся. — Это уже сказал я. — Не ты один воевал.
— Эх вы… — махнул рукой Ракитин и знаком отозвал Тоню в сторону. Но она не двинулась с места. Она слушала, как играет Саша.
Снова загремели аплодисменты. Через минуту к нам подошел Ленинградец.
— Тут тебе записка, — сказала Тоня. — Вспомни что-нибудь фронтовое. Сыграй вчерашним солдатам.
Саша побледнел. Ракитин усмехнулся:
— Ну что тебе стоит? Ты же Ленинградец…
Я не знаю, что ответил Саша. Меня вызвали на сцену. Но зато я хорошо теперь знаю, что было потом.
Вскоре Геннадий и Тоня вышли из клуба. На улицу доносились звуки спортивного марша. Ребята показывали акробатический этюд. Высоко в промороженном небе дрожали от холода редко разбросанные, почти невидимые звезды. Геннадий и Тоня приблизились к заколоченному досками запасному выходу. Поднялись на припорошенное пушистым снегом крыльцо.
— Так что ж ты хотел мне сказать?
— Тоня… — Геннадий заглянул ей в глаза.
— Говори…
— Я тебя люблю, Тоня…
— Я знаю.
— Зачем же молчишь?
— Не знаю, как быть…
В клубе снова послышались рукоплескания. Весело, по-цыгански беспечно заиграла гитара.
— Я все обдумал. Скоро получим дипломы. Поедем вместе?
— Не знаю, что тебе и сказать.
— Нет, ты скажи. Я тебе безразличен?
— Зачем же ты так… Не в этом ведь дело.
— Кто-то другой?
— Не нужно, Геннадий. Мне и так тяжело.
— А мне легко?
— Кое-кому еще труднее.
— Сашка?
Тоня кивнула.
— Ты его любишь? — Геннадий сузил глаза.
— Не знаю даже, как тебе объяснить. Любовь это или что-то другое, но он такой человек, без которого мне будет трудно. Трудно и одиноко. Понимаешь?
— Нет.
— Что ж, и я не сразу это поняла.
— Ты просто жалеешь его.
— Неправда. Он не из таких. — Тоня заговорила быстро и горячо. — У него же воля. Всем бы такую. Тогда бы и жизнь по-другому пошла. На иного посмотришь: «Бросаю курить!» Растопчет ногой папиросу. А через неделю, глядишь, снова дымит как ни в чем не бывало. Привычка! Папиросу даже не в силах одолеть. А Саша английский без единого пособия сокрушил. Слыхал ведь, как «Гамлета» он в дороге на память читал. Играть не умел. Научился! Без нот, без подсказок. Теперь даже музыку сочиняет. Я это точно знаю…
— Но он же слепой!
— Зато настоящий.
— Ты все это выдумала, Тоня. Не спорь. Тебе сейчас хорошо. Фантазия умиляет. А что будет завтра? Если ты с ним… Ты думала, что его ждет? В лучшем случае вакантное место в пыльном архиве. Никогда ты не сможешь пойти с ним в кино, любоваться картинами, спешить на стадион. Никогда у тебя не будет нормальной семьи. Да что там! Он ведь даже не представляет, какие у тебя глаза…
— Он сильный. С ним и я становлюсь сильнее.
— Он слепой.
— Он честный, прямой…
И тут Ракитин не выдержал. Ревность, обида, глухо кипевшая злость захлестнули его. И он почти крикнул Тоне в лицо:
— Да он же вас всех обманул!
— Что?
— Да, обманул. Чтобы в героях ходить. Чтобы сочувствовали его судьбе такие, как ты.
— Не смей!
— А ты спроси его, воевал ли он хоть один день?
— Но ведь он же Ленинградец…
— Такое же он имеет отношение к Ленинграду, как я к Парижу…
— Не верю. У него глаза… Это от раны…
— А знаешь ли ты, что он во время войны со шпаной от матери убежал? Бродяжничал, с хулиганами где-то шлялся. Может, ему в драке…
— Подлец!
Ракитин и Тоня вздрогнули. У крыльца в одном пиджаке нараспашку стоял Ленинградец.
— Я бы тебя сейчас ударил, — тихо сказал он, подойдя к ним вплотную. — Если бы…
— Если бы что? — Не своим голосом отозвался Ракитин.
— Если бы Тони здесь не было.
— Саша… — позвала его она. Ракитин же словно примерз к крыльцу.
— Ты меня, Тоня, прости. Случайно наткнулся. Но раз уж услышал, так я сам скажу. Сейчас же. При нем. Пусть слышит. Люблю я тебя.
Скрипнул снег под ногами Ракитина. Он рванулся с крыльца. Но Саша преградил ему дорогу.
— Постой! Не кончил еще… Про Ленинград ты здесь верно сказал. Не воевал я ни дня. Из дому убежал — тоже верно. Нет, ты погоди… А только шпана тут ни при чем. Я же на фронт убегал. К тем, кто в блокаде. И если бы не бомбежка… Если бы не бомбежка…
— Саша… — взяла его за руку Тоня. — Довольно…
— Ты же все это знал, Ракитин.
Послышались торопливые шаги. К крыльцу подлетел Колька Снегирев. От него валил пар.
— Ребята! Куда вы все запропастились? Надо же концерт продолжать. Генка, ты что? Тоня? — он растерянно смотрел на них и ничего не мог понять. — Сейчас ваш дуэт. Вы слышите?
Все молчали. Колька вгляделся в напряженно застывшее лицо Ленинградца и тут только заметил, что тот стоит без пальто.
— В чем дело? Концерт хотите сорвать? Коронный же номер…
Тоня вдруг прижала ладони к лицу, порывисто отвернулась в сторону. Плечи ее вздрогнули. В следующее мгновение она уже сбежала с крыльца и, не видя тропинки, бросилась по глубокому снегу в темноту.
— Не трогайте ее, — ледяным голосом сказал Сашка и медленно направился к освещенному крыльцу.
Коронный номер был сорван. Но сцена не пустовала. К удивлению многих, на эстраду снова вышел слепой баянист. Встретили его восторженно. Но он поднял руку и попросил тишины. А потом негромко, но так, что все услышали его голос, сказал:
— Я никогда не воевал. Не сражался за Ленинград. Но я всегда мечтал быть с теми, кто защищал этот легендарный город. Я сыграю вам свой марш, который еще не исполнял ни разу. Он называется «Ленинградцы»…
Не передать словами, как взволновала нас Сашкина музыка. Словно гонимая яростным ветром войны, мужественная, литая мелодия бушевала не только в звуках. Она стучалась и смело входила даже в наглухо закрытые сердца. Шахтер, пославший записку, наверняка сжал до боли зубы. Боясь пошелохнуться, он, будто завороженный, следил за стремительными движениями побелевших Сашкиных рук, и я убежден, что перед его повлажневшими глазами во весь рост вставало Незабываемое. Никогда еще Сашка Ленинградец не играл с таким вдохновением.
…Много лет отсчитали мы с того памятного дня. Сегодня нас уже никто не зовет молодыми специалистами. Видимся мы, бывшие однокурсники, редко. Вот только Сашка постоянно встречается мне в пути. И совсем не потому, что живет он в нескольких кварталах от меня. Просто такая уж у него натура. Беспокойным не сидится на месте. Раньше я знал лишь одно: Нагорный в вечерней школе рабочим историю преподает. Потом я встретился с ним в университете культуры. Лекцию он читал. О Парижской коммуне. А теперь еще, говорят, заводским ребятам из драмкружка помогает. Музыку взялся к спектаклю о целине написать. Ленинградец… Романтик…
Каждый день я гляжу ему вслед. Каждый день вместе со своею дочуркой он проходит мимо моего окна. Она очень похожа на него. Такая же стройная и суровая с виду. Только волосы у нее не отцовские. Золотистые и вьются вовсю. Точь-в-точь как у Тони.
МОРЕ ШТОРМИТ
Был субботний вечер. По студенческому обычаю в общежитии устроили танцы. Все жильцы высыпали в коридоры. Оторвались от книг даже вечно занятые аспиранты.
И только двое, второкурсники Николай и Сашка, не откликнулись на призывные звуки аккордеона. Им было не до веселья.
Сашка, голубоглазый шутник и всегда восторженный малый, сейчас убитый горем сидел у окна. Молча барабанил пальцами по подоконнику, морщиня лоб… Валя, кудрявая первокурсница с биологического факультета, которую он ценил дороже всего на свете, сегодня в решительном разговоре сказала, что… что не любит его. Если бы только это! Еще бы полбеды. А то ведь она другого любимым назвала. И кого?! Алешку — Сашкиного друга и земляка… Вот и вышло так, что еще вчера Сашка имел двух друзей, а сегодня из-за Валиного признания да и характера своего вспыльчивого — ни одного не имеет.
Николай тоже глядел невесело. Наклонив голову, ходил взад-вперед. Вот уже полчаса в комнате висит напряженная тишина, наступившая после горьких слов Сашки, а он, Николай, не может сказать ничего ободряющего. Вдобавок еще в голову, толкая друг друга, лезли досадные воспоминания. Не вовремя нахлынули они, не вовремя! А впрочем…
Николай подошел к окну. Взял Сашку за плечи и слегка его встряхнул:
— Ну, не горюй, браток. Поговорим лучше. — Николай сел рядом. — Сказала «нет», с другом поссорился… В жизни все бывает.
Сашка невесело усмехнулся и только кивнул головой. Николай продолжал:
— Я тебе о Сахалине кое-что рассказывал. Как служил, работал портовиком. А вот еще один случай… Словом, к месту… Были у нас в порту два друга. Мотористы Григорий и Ваня. Дружили — водой не разлить. Всегда вместе. Вечером идут по набережной с баяном, молодые, веселые, да так поют, что рыба из воды выскакивает… Дружба у них еще флотская. Бескозырками после первого года службы обменялись. С тех пор неразлучными были. Да вот… Словом, Гриша влюбился в рыбачку Олю.
Николай оживился, его темно-карие глаза как-то по-особенному заблестели.
— Ну, брат, дивчина! Идет в намокшей парусиновой робе, в чешуе рыбной, в сапогах грубых. А лучше тебе и не нужно. На десять других, во всяких шелках с ног до головы, не променяешь! Не такая она, чтобы уж очень красотой выдающаяся, а все-таки то, что называют «неотразимая». Лицо открытое. Глаза голубые и черт знает какие ясные. Под зюйдвесткой тугие косы русые спрятаны. И певуньей была первой. Голос чистый, зальется — и веришь, что все побережье слышит ее. Работала с хлопцами наравне… Короче говоря, влюбился по бескозырку наш Гриша в рыбачку звонкоголосую. И она к нему душевно относилась.
Парень Гриша был из себя статный, крепкий… Словом, девчата его уважали. Так вот, вместе с Олей делит он каждую свободную минуту. Мчит на катере мимо ее сейнера — бескозыркой помашет. Останутся вдвоем. «Что хочешь, все отдам, все сделаю для тебя», — говорит ей. А она смеется. «Море всего больше люблю», — отвечает. Вот они вдвоем на шлюпку и — по волнам. А когда Гриша с Ваней наладили старый катерок, оставшийся от японцев, который уже на слом хотели списать, стали втроем бороздить море. Гриша в моторах был знатоком. Любую систему как свои пять пальцев изучил. Катер в его руках — что баян в Ивановых. Так вот, Гриша — на штурвале, Ваня играет, а Оля тяжелую косу теребит и — соловьем. Словом, тут тебе ничего не нужно, только бы нестись вот так и нестись к горизонту.
Радостно становилось Грише в такие минуты. Веселье из него так и рвалось, обо всем он тогда забывал, одну Олю видел перед собой. — Николай тяжело вздохнул — А надо было и вокруг посмотреть… Впрочем…
До поры до времени все вроде бы шло хорошо. Гриша уж Ивану представил дело как окончательно слаженное. С этого и началось. Иван ничего не ответил, а на другой день кататься не пришел. Заметил Гриша, что Оля будто увяла сразу. Что-то у него в груди тревожное шевельнулось… А она говорит: «Ваня где? Что ж это он…» Песен в тот вечер не пела. А над морем, как назло, чей-то баян грустил. И в следующий раз Иван не пришел. И снова баян сиротливо играл что-то грустное, будто звал кого-то. А потом… Словом, Оля ушла к Ивану.
Николай внимательно глянул на Сашку. Тот, нахмурив брови, с интересом ждал продолжения рассказа.
— Не звал он ее… — Николай снова посмотрел на Сашку. — Любовь позвала. Бросила их, как говорят, в объятья друг другу. И все. Дружбу Гриши да Ивана как о причал хватило — треснула и надвое раскололась. Ходит Григорий, с Ваней не говорит. Тот ему что-то объясняет, а он в ответ: «Уйди, сам знаю…» Встреч с Ольгой избегает. И горем ни с кем не делится. Люди смотрят — все видят, а как помочь? Идет время, а Гриша на Ивана по-прежнему волком глядит, обида в глазах. Трудное это дело — уважать чужую любовь, когда она на обломках твоей расцвела. — Взгляды Николая и Сашки встретились. — А тут еще разговор пошел: свадьба у Ивана с Олей скоро, после осенней путины. Узнал такое Григорий — боль вскипела. Ушел к морю. Бродит по берегу. Море гудит, и сердце камнем в груди переворачивается. Шторм собирался, по-осеннему внезапный. Ветер воду пенит. Серые тучи как будто из воды вынырнули. А Григорий ходит, туч этих мрачнее. Один с невеселыми своими думами.
Любовь, брат, дело сложное. Из сердца сразу не выкинешь, верно сказано. — Николай медленно провел рукой по лицу. Взъерошил темные волнистые волосы. — Ходит Григорий. В море шторм начинается, а на душе у него уже давно штормит. — Николай на мгновение задумался, как бы припоминая что-то, и стал рассказывать дальше. — А в тот день на рейде японский пароход стоял. Он к нам в порт за бумагой пришел. Ковш у нас мелкий, крупные суда в него не входят — на рейде качаются. А катера буксируют к ним плашкоуты[3] с грузом. Один плашкоут подтянут, пока его разгружают — буксир за другим идет. Вернется с ним — порожняк забирает. Вот «японец» так и грузился. Да в тот вечер вышло неудачно. Синоптики наши, как всегда, пообещали погоду ясную, а тут — шторм! Гриша в тот момент об этом, конечно, не думал, да вдруг услышал сирену. Завыла — значит, что-то неладно. Григорий от своих дум очнулся и — сломя голову в порт. По песку бежать тяжело, а он несется — ветер в ушах свистит. Прибежал и слышит: беда стряслась.
Когда стал шторм надвигаться, решили прекратить погрузку, да шкипер-японец настоял, чтобы продолжали. Ему невыгодно было время терять. А тут уж плашкоут начало бить о борт. В самый раз бы бросить погрузку и отбуксировать его назад. Да катер буксирный в ковше застрял. Мотор надрывно зарычал и заглох. Мотористом на катере был Иван… Ищет, в чем дело, — не поймет. Не тянет мотор, и только! А в море плашкоут с людьми, с грузом. Да тут еще глядят — «японец» снялся с якоря и в открытое море уходит. Плашкоут бросил и людей наших не взял, подлец! А знаешь, что значит в шторм без мотора? Крышка, грубо говоря. Ну, здесь Иван и придумал: идти спасать товарищей на старом японском катерке. На том самом… Вызвались с ним еще двое. Диспетчер говорит: «Безумно!», а Иван ему: «Людей бы спасти, после разберемся». Остальные промолчали — выхода все равно не было. И ушли они в штормящее море. А плашкоут уже в открытое унесло.
Николай отодвинулся от радиатора — стало жарко.
— Прибежал Григорий, а над мотором все, кто был, присели — колдуют. Гриша растолкал их. Он, опытный механик, недолго копался. Сразу нашел, в чем загвоздка. Наладил с помощью хлопцев, и отвалили от причала.
А шторм уже разгулялся вовсю. Где искать посудину ту и плашкоут? Тут и сам начпорта не скажет. Рыщут по волнам, а каждый думает о том, что на легком катерке далеко не уедешь, тяжелый плашкоут на буксир не возьмешь. Гриша в штурвал до боли вцепился, губы кусает, а катер ведет. Знает, что от него зависит жизнь всех, кого в море умчало. Он первый и заметил сигнальный огонь.
Море ревет. Катер Иванов швыряет. Плашкоут едва против волны успевает ставить. Того и гляди опрокинет. Конец никак не могут принять. Словом, все мокрые от воды и пота. Но борются. И взяли-таки катерок и плашкоут на буксир. Как назад шли, о том много потом разговоров было. «На злости, — сказал начпорта, — дотянули». У входа в ковш чуть не разбились. Но все-таки пришвартовались благополучно. Людей спасли да и груз…
В диспетчерскую хлопцев на руках друзья-портовики внесли. Григорию да Ивану всех больше руки жмут. Да неловко Грише как-то. Хотел он выйти. Только в дверь, а тут Ольга на порог. И мимо него — к Ивану на шею. Целует его, обнимает и плачет: «Жив!» А тут кто-то возьми да и скажи: «Гриша, мол, спаситель».
Николай достал из пачки папиросу, начал нервно ее разминать.
— В двух словах ей все и рассказали. Подошла она к Григорию и несмело поцеловала его в щеку. «Хороший ты, Гриша. Настоящий парень…» — только и сказала. А Григорий стоит и вымолвить слова не может. И все тоже молчат. Хотел Григорий выбежать за дверь, да, видно, много у него в душе этот шторм перевернул. Провел рукой по глазам — морская вода, она глаза ест. Весь вперед подался, зубы сжал и… протянул Ивану руку. «Эх, Иван, много ты мне… Словом, дружба по-старому». И обнялись двое старых друзей. Иван рад, как ребенок, усталость, все переживания вмиг забыл. А Гриша Оле тихо говорит: «Одно только утешение — за хорошего парня выйдешь…» — а сам в сторону смотрит. Видно, плохое оно, это утешение было… Медленно вышел Григорий, и никто его в тот вечер не видел… А через три недели свадьба была.
— Ну и как? — не выдержал Сашка.
— Что «как»? Кричали «горько». И, конечно, горше всех Григорию было.
Николай остановился. Повернулся к столику и стал искать спички.
— Ну а потом что? Гриша как? — снова спросил Сашка.
— Гриша?.. Словом, уехал он с Сахалина. Нелегко ведь рядом. А друзьями остались. Настоящими. Переписываются даже.
Николай бросил в пепельницу смятую в комок папиросу и достал новую.
ЧЕРНОГЛАЗАЯ
История Сережкиной любви
Сергей медленно шел по аллее парка. Осенний ветер, словно не находя себе места, с унылым завыванием метался меж почерневших деревьев, раскачивал, теребил ощетинившиеся колючками кусты акаций. Пахло засохшей полынью. А может быть, это просто тянуло дымом. На берегу реки жгли облетевшие листья.
До условленного часа было еще далеко. Сергей присел на скамейку. Невесело усмехнулся: вот так и придется сидеть одному. Но тут же прогнал эту мысль. Лена должна, обязательно должна прийти. Не может она поступить иначе. Ведь завтра поезд уже умчит его на Дальний Восток.
Дальний Восток… Сколько негаснущих воспоминаний связано у Сергея с этим суровым и невыразимо поэтичным краем! И самое дорогое из них — встреча с Леночкой.
Это случилось во Владивостоке позапрошлым летом. Сергей ждал теплохода, чтобы отплыть на Сахалин, к месту своей преддипломной практики. В тот день он раньше обычного отправился на морской вокзал. Над городом прямо из просветленных рассветом волн вставало большое веселое солнце. Оно улыбалось зеленым, слегка серебрящимся сопкам, глазастым, распахнутым настежь окнам домов, шумным, сердитым причалам, зеркальным палубам кораблей. В порту только что пришвартовался теплоход с Камчатки. Когда Сергей переходил виадук, навстречу ему хлынул поток пассажиров. Он облокотился на перила, решил переждать. Не хотелось толкаться и мешать людям, которые после многодневной качки спешили ступить наконец на твердую землю.
И тут он увидел смуглолицую стройную девушку. Она быстро прошла мимо, хотя в руках у нее было два довольно объемистых чемодана. Сергей вначале засмотрелся на ее голубую спортивную курточку, а потом только спохватился и бросился вдогонку.
— Давайте я вам помогу.
Лишь после длительных переговоров девушка отдала ему один чемодан, а второй — твердо заявила, что без особого труда донесет сама. И даже не улыбнулась при этом.
До камеры хранения дошли молча. Когда сдали вещи, Сергей предложил пройтись по набережной. Он, конечно, понимал, что девушку сейчас меньше всего интересует прогулка над морем, но ему почему-то хотелось еще хоть немного побыть с ней вместе.
Разговорились. Как только Сергей сказал, что уже окончил четыре курса факультета журналистики, посыпались вопросы:
— А трудно поступать? На экзаменах здорово режут? Нет, я серьезно…
Он улыбнулся:
— Сразу видно, что вы собираетесь в институт.
— Ваша проницательность необыкновенна. Можете работать оракулом… при домоуправлении.
«Ершистая», — подумал Сергей. И тут же невольно отметил, что глаза у насмешницы не простые — черные-черные и с каким-то особенным блеском. Хочется в них смотреть долго, не отрываясь. Такие обычно не прячут взгляд.
По волнам убегали вдаль, расплываясь на зыбкой воде, золотые солнечные блики. У самого берега носились над морем чайки. Сергей на все лады принялся расхваливать свердловские институты. А черноглазая, наоборот, стала доказывать, что в Иркутске ничем не хуже. Даже лучше — ближе к дому. Но по-настоящему поспорить с ней так и не удалось. Девушка неожиданно оборвала разговор:
— До свидания. Меня ждут одну…
Как зовут ее, куда она поехала учиться — об этом Сергей мог только строить догадки. До сих пор непонятно, почему он тогда так смутился и не сумел прямо спросить обо всем.
Практика в газете прошла интересно. Сергей охотно собирался в трудные командировки. Он дважды ездил на север Сахалина, к нивхам-оленеводам и нефтяникам Охи. Без проводника нашел дорогу в один из дальних таежных поселков. Послал в редакцию несколько радиограмм с борта рыбацкого флагмана, рекордсмена осенней путины. В горячей работе, в бессонных ночах над пахнущими типографской краской газетными полосами забывались и как-то таяли за бортом все иные заботы и волнения. И все же не раз, оторвавшись от записной книжки или вглядываясь в штормовой горизонт Охотского моря, Сергей ловил себя на мысли, что думает о ней, о черноглазой. И порою вместо сжатых и точных газетных строк на бумагу просились расплывчатые четверостишия.
— Много у вас, молодой человек, лирики, — сердито ворчал секретарь редакции. — Этот элемент ценится преимущественно в романсах. А мы — газета. — И вслед за словами следовало несколько безжалостных взмахов карандашом.
С неровностью стиля Сергей в конце концов справился, вошел в берега, а вот мечтал по-прежнему — и порывисто, и лирично. Никак не мог примириться с мыслью, что случайная встреча во Владивостоке так и останется для него только воспоминанием, только внезапно вспыхнувшим и тут же растаявшим вдали огоньком.
Временами ему почему-то казалось, что черноглазая тоже думает о нем. С упрямством неисправимого оптимиста в душе Сергей надеялся на новую встречу. Сердцем он чувствовал: она — впереди. И сердце не обмануло.
Накануне Октябрьского праздника вместе с Никитой Волковым он был на вечере в политехническом институте. Прогуливаясь по коридору, Сергей не без иронической улыбки разглядывал вывешенные на конкурс стенгазеты. Начал даже напевать: «И скучно, и грустно…» Но вдруг он осекся, остановился и замер как вкопанный. Его бросило в жар. Нет, это было невероятно! С маленькой фотографии над косо нарисованным почтовым ящиком на него, несмело улыбаясь, смотрела она — черноглазая. Сергей дважды прочитал сухую, короткую подпись: «Дальневосточница Лена Ермакова приехала к нам из Советской Гавани. Она — первокурсница, но ее, лучшую гимнастку энергофака, сегодня знает уже весь институт. Пожелаем же ей успеха в предстоящих соревнованиях!» Сергей готов был расцеловать редактора, поместившего этот снимок. Он чуть было не пустился в пляс и едва не задушил в объятиях ничего не понимавшего Никиту.
В тот же вечер они встретились. Сергей был обрадован и взволнован, не сумел даже толком расспросить, как так случилось, что Леночка вместо Иркутска оказалась вдруг в Свердловске и почему она до сих пор не дала о себе знать. Понял только, что у нее здесь тетя, которая давно уже звала в гости, и что Уральский политехнический — это не так себе вуз, а самое что ни на есть солидное заведение. Разговаривала она спокойно, чуть-чуть сдержанно и опять же немного настороженно, как тогда, во Владивостоке. Но теперь Сергея это не смущало и не тревожило. Какая разница — отчего и почему, главное, что черноглазая девчонка-насмешница, с которой так долго виделся лишь во сне, снова рядом, красивая, стройная, с ласковым взглядом из-под слегка нахмуренных бровей!
Чудесный был этот вечер. Сергей говорил без умолку. За каких-то два часа полностью израсходовал весь запас привезенных с практики шуток и анекдотов. Никак не мог потом он вспомнить, где они потеряли Никиту Волкова и отчего тогда так внезапно оркестранты вдруг заиграли прощальный вальс.
Провожал он ее почти до самого дома. На углу у киностудии Лена остановилась:
— До свидания, Сережа. Дальше я дойду сама.
И снова, как и при первой встрече, он понял, что спорить с ней бесполезно. Об этом ему яснее слов сказали ее глаза. Но в ту минуту он увидел в них не только строгостей своенравное упрямство. Что-то промелькнуло в них такое, отчего светло и радостно сделалось на душе и всю дорогу потом, до самого общежития, хотелось петь и повторять без конца: «До свидания, Сережа… До свидания, Сережа!»
Странные вещи творятся порою с людьми. Казалось бы, все так же вертится вокруг своей оси Земля, по-прежнему нужно спешить по утрам на лекции, а вечером, как всегда, ругаться с комендантом общежития из-за неисправного титана. Но в то же время весь мир для Сергея неожиданно преобразился, помолодел, наполнился новыми радостными красками и голосами. Удивительное состояние! Полнейшая невесомость. Бродишь ли по улицам города, не узнавая встречных знакомых, листаешь ли учебник, не видя отмеченных к семинару страниц, — сердце знай себе выстукивает какую-то одному ему ведомую мелодию, которую тут же подхватывает и разносит по свету шальной, неунывающий ветер. И самому хочется вдруг сорваться с места, взбежать на железнодорожную насыпь и лихо вскочить на подножку первого же вагона бог знает куда несущегося поезда. Хорошо бы еще рядом клубилась непроглядная, черная ночь, глухо стучали по рельсам колеса и мимо раскаленными стрелами пролетали со свистом разноцветные огни светофоров.
Никита Волков ревниво исподлобья следил за Сергеем. Сочувственно качал головой и убежденно потом говорил однокурсникам:
— Ничего, парень он крепкий. Больше трех экзаменов не завалит.
Где уж тут было ему, спокойнейшему во всем университете человеку, понять, что в жизни Сергея наступил тот самый неотвратимый момент, начиная с которого друзьям не принято обижаться, если они порою оказываются вдруг в тени. Эту несложную истину Никита постиг не сразу. Не в пример своему другу, он был человеком сомнений и даже к простейшим жизненным выводам всегда добирался окольной дорогой долгих раздумий. С улыбкой слушал Сергей его фундаментальные рассуждения о смысле бытия, о воспитании чувств, о сущности истинной дружбы.
— Все это верно, старик, — насмешливо говорил он Никите. — Только для меня важнее всех твоих теоретических изысканий тот заурядный факт, что ты-то и есть самый настоящий друг. И вообще, довольно ссылаться на Ромео и Джульетту, нужно просто любить. Любить, а не вздыхать и сохнуть. Уверяю тебя, Шекспир останется доволен.
Никита смущался. Снимал очки и, протирая стекла, неуверенно возражал:
— Ссылаться, может быть, и не стоит, а вспоминать о них, ей-богу, не лишне…
— Все это, Никита, необязательная теория. Мелкий шрифт. Любят, товарищ Сократ, не по книгам, а по законам жизни!
Действительно, в те удивительные, головокружительные дни Сергею было не до книг. Кто это выдумал изображать влюбленных этакими задумчивыми бледными юношами с томиком Блока в руках? Ничего подобного! У влюбленных нет для этого времени. Вместо того чтобы уединяться и тихо мечтать о своей избраннице, Сергей предпочитал видеться с ней каждую свободную минуту. Нередко из-за этого приходилось давать туманные объяснения суровому и желчному декану факультета. Впрочем, какое все это имело значение. Разве человека, потерявшего голову, могут смутить карающие приказы деканата?
Никогда в жизни Сергей не забудет тех неповторимых вечеров, когда вместе с Леночкой они тайком пробирались на закрытый уже стадион пионеров и школьников и до поздней ночи катались потом на коньках, совсем одни на большом ледяном поле. Где-то за высоким забором шумел, затихал, гасил огни запорошенный снегом город. Проносились вдали покрытые инеем автомобили и продрогшие за день трамваи. А они, забыв обо всем на свете, со смехом выводили на матовой глади катка замысловатые узоры, двойные «восьмерки», азартно бегали наперегонки или, съехавшись к середине и отчаянно запрокинув головы, молча, тяжело дыша, вглядывались в низкое темно-синее небо, пытаясь разглядеть огненный пунктир знакомых созвездий.
Возвращались всегда пешком. Сергею нравилось не спеша идти по полуосвещенным улицам уснувшего города, вдыхать полной грудью морозную свежесть ночи и говорить немного грустным, задумчивым голосом. Лена любила слушать его рассказы о нелегкой, но зато по-настоящему бурной жизни журналистов, полной романтики, поиска и борьбы. Часто она, ласково, доверчиво заглянув ему в глаза, негромко просила:
— Знаешь, Сережа, спой мне еще… вашу курсовую…
Он крепче брал ее под руку, слегка откашливался и, немного волнуясь, вполголоса начинал напевать неизвестно кем сочиненную на мотив «Школьного вальса» песенку о неунывающем и славном парне из боевого племени журналистов.
Однажды они задержались, как всегда, на углу у киностудии. Лена уже хотела попрощаться. Но Сергей взял ее руки в свои и, почувствовав вдруг совершенно неожиданную, какую-то незнакомую робость, очень тихо сказал:
— Я хотел бы, чтобы мы всегда шли рядом… Понимаешь?.. Рука об руку… Чтобы твое сердце слышало стук моего сердца… Чтобы твои глаза…
— Не нужно, Сережа. — Лена осторожно высвободила руки. — Это очень хорошие слова… Слишком хорошие… А мы так мало знаем друг друга…
Долго потом стоял Сергей у тускло светившегося фонаря. Пока не подошел к нему только что заступивший на смену постовой.
— Нехорошо, гражданин. Подпираете столб без всякого смысла, а дома небось родители ждут.
— Нет у меня родителей.
— Все равно пора домой. Нечего по ресторанам шататься.
Сержант успокоился лишь после того, как Сергей предъявил ему удостоверение дружинника. Он улыбнулся и даже козырнул на прощание:
— Виноват. По виду ведь не всегда определишь. Доказано.
Что верно, то верно. В этом-то Сергей однажды убедился. Еще на третьем курсе. Тогда Никита ему тоже пророчил провал на экзаменах и всерьез советовал перечитать «Ромео и Джульетту».
Ее звали Наташей. Она была самой веселой девушкой факультета. «Душа нашей художественной самодеятельности», — так выразился о ней в стенгазете непризнанный курсовой поэт, безнадежно влюбленный в нее Сенька Караваев. Впрочем, кто только не был в нее влюблен. Даже седоватый заведующий кафедрой физвоспитания, славившийся далеко за пределами университета своей немыслимой строгостью, не устоял перед задорной синевой Наташкиных глаз и скрепя сердце освободил ее от зачета по плаванию. Плавать она, конечно, умела. Просто ей лишний раз захотелось проверить силу своих чар. Сергей не обладал закалкой ветерана спортивного движения, поэтому он поддался ее обаянию с еще большей быстротой.
Дело было, разумеется, не в красоте. Встречал он девчат не менее симпатичных и привлекательных, чем она. Но ни одна из них не могла похвастаться таким жизнелюбием и таким восторженным нравом, как Наташа. Она обладала удивительным свойством — умением в любую минуту зажигать вокруг улыбки, разглаживать морщины на сократовских лбах даже самых угрюмых скептиков и ворчунов. До утра Наташа была готова танцевать на университетских вечерах. Нещадно грабила своего отца — заслуженного деятеля медицины, выручая из финансовых затруднений каждого, кто только заикался на эту тему. В драмкружке она играла героинь, и ее как-то похвалил в печати главреж областного театра. Словом, Сергею тогда показалось, что это сама жизнь, шутки ради принявшая образ веселой, неунывающей девчонки в модном шуршащем платье, подошла однажды к нему на студенческой вечеринке и сказала, сощурив глаза:
— Давай без намеков. Будем друзьями.
Честно говоря, что она тогда сказала, Сергей давно уже забыл. А вот блеск ее смеющихся, стремительно приближающихся глаз, руки, сомкнувшиеся вдруг за его спиной, горячие губы — такое забудешь не скоро.
— У Сережки с Наташей — любовь, — говорили потом на курсе и вполголоса во время больших перерывов заговорщически обсуждали это событие. Мнения насчет свадьбы раздваивались. Одним казалось, что это дело ближайшего месяца (все знали, что Наташа человек решительный, задумала — не остановишь). Другие считали, что «горько» придется кричать все-таки не раньше, чем закончится весенняя сессия (каждому было ясно, что Сергей не пойдет на иждивение к тестю-профессору, а на заочное его обещали перевести только к лету).
Но курсовые предсказатели просчитались. Сразу после экзаменов ребята дружно решили поехать на целину, хотя по случаю производственной практики они могли бы этого и не делать. Переходить на заочное в такой момент Сергей, попросту говоря, не захотел.
— Вместе с хлопцами — в Казахстан, а потом без задержки в загс, — бодро сказал он Наташе и радостно улыбнулся, видя, что она весело кивнула в ответ.
В день отправки эшелона он ждал ее на перроне. Никита Волков масляной краской писал на дверях теплушки утвержденные группой слова: «Здесь едут романтики». Семка Караваев играл на аккордеоне, а вся братва дружно распевала изрядно уже охрипшими голосами:
Наташи не было. Сергей швырнул на нары рюкзак и бросился к таксофону.
— Она уехала в аэропорт, — ответила домработница.
— С какой это стати?
— Встречать Николая Сергеевича.
— Что это еще за родственник?
— Это ее жених.
На платформе звенела песня. В трубке уныло гнусавил гудок. «Романтики», — вывел Никита и поставил восклицательный знак. Сергей медленно направился к вагону.
Приехав с целины, он узнал, что Наташа вышла замуж за молодого московского ординатора, одного из учеников ее отца. Перевелась в МГУ. Выглядит хорошо. И, судя по всему, счастлива. Подробностями он интересоваться не стал. Даже тогда это уже не имело значения.
Так стоит ли вспоминать об этом сейчас, когда для Сергея нет человека дороже и роднее, чем она, черноглазая. Только о ней думает он каждую минуту. Лишь для нее готов он с утра до вечера без устали петь все, какие есть на свете, песни. Да что там песни! На все согласен! Учить наизусть «Илиаду», сдавать сопромат, ходить по общежитию на руках, сражаться на ринге с любым чемпионом… Все бы сделал, все одолел. Только бы не хмурились, не молчали ее глаза. Чтобы всегда в них плескалась улыбка. Чтобы всегда в них светилась мечта.
Но Леночкины глаза — загадка. Смотрят приветливо, ласково. Не наглядишься, когда они такие. А потом вдруг нахмурятся, потускнеют. Отведет их в сторону, сдвинет густые брови — и не поймешь, не узнаешь, что же смутило их, что огорчило. И разбегаются сразу слова. Стоишь и молчишь, как скульптура. А столько бы надо сказать!
Каждый раз решительный разговор Сергею приходилось откладывать до более подходящего случая. Леночка охотно делилась институтскими новостями, не уставала рассуждать на самые неожиданные темы: о том, что неплохо бы на улицах города посадить березки, что давно пора на студенческих вечерах вместо надоевших танго и фокстротов начать разучивать кубинскую румбу, о том, что гимнастика при коммунизме будет таким же обязательным предметом, как литература и диамат… Но никакими силами нельзя было ее заставить заговорить о самом главном и сокровенном. Ни разу она даже словом не обмолвилась, а что же будет дальше, как быть потом, когда Сергей сдаст госэкзамены и ветер разлуки пахнет им в лицо. Казалось, она даже не думает об этом. А может быть, она, как всегда, таила раздумья в себе и просто не подавала виду?
К ним поспешила навстречу весна. Ранняя, светлая, звонкая. Она растопила снега и сомнения. Весна им кивнула с улыбкой: вы не ошиблись, это — любовь…
В парке тогда было тихо. Еще не просохли аллеи. Еще не красили скамеек. Еще молчали фонтаны. И можно было ходить не только по дорожкам. Взявшись за руки, они бродили меж потемневших сосен, и под ногами у них едва слышно шуршали полуистлевшие прошлогодние листья. Леночка очень часто останавливалась и с радостной, неудержимой улыбкой смотрела в высокое, насквозь просиненное небо. В ее широко раскрытых, бездонных глазах, как в зеркале, отражались медленно проплывавшие над верхушками сосен облака.
Минута, о которой он так долго мечтал, наступила для них внезапно. Кончились, пересохли вдруг в горле слова. Сами не зная отчего, они замолчали и замерли, чутко вслушиваясь в вечернюю тишину. В конце аллеи, там, где расступились растворившиеся в сумраке деревья, по небу прокатилась падающая звезда. Сергей встретился взглядом с Леночкой. Они словно впервые всмотрелись друг другу в глаза. Отчаянно, пристально, дерзко. И в следующее же мгновение ее быстрые нежные руки ласково коснулись его лица, порывисто взъерошили ему волосы и мягко скользнули к плечам. Он ощутил вкус ее вздрагивающих губ, вдохнул хвойный запах ее волос и почувствовал, что у него в груди бьется второе сердце.
Она целовала его торопливо, несмело, беспомощно, но с такой искренностью, на какую способна лишь девушка, полюбившая впервые.
Не успел Сергей ее даже по-настоящему обнять, как Леночка вдруг, словно опомнившись и смутившись своего порыва, смятенно отстранилась от него. Отодвинулась к краю скамейки, закрыла лицо руками. Она долго молчала, не решаясь взглянуть на Сергея, а он терпеливо ждал. Ждал, когда снова ее глаза, ее губы и руки скажут ему без слов, неслышно прошепчут: люблю.
Но Леночка не шелохнулась. Она словно окаменела. И ему даже показалось, что на ее лице испуг. Так это не вязалось с радостным грохотом сердца, с острым ощущением счастья, которое, он знал, с этой минуты навсегда теперь породнило и сблизило их, что Сергей не стал больше колебаться.
— Леночка… — Он осторожно, но крепко обнял ее за плечи, повернул к себе, чтобы лицом к лицу. — Я же люблю тебя. Черноглазая…
Никак не ожидал Сергей, что услышит в ответ!
— Не провожай меня сегодня, не надо…
Она ушла, ни разу не оглянувшись. Впрочем, что он мог тогда заметить: уже через несколько шагов за ней сомкнулась глухая стена темноты.
Письмо, которое день спустя вручил ему Никита Волков, окончательно смутило Сергея. В нем было всего несколько строк:
«Сережа!
Дай мне опомниться. Ничего не говори, не спрашивай ни о чем. Так трудно все это охватить и осмыслить. Даже кружится голова.
Может быть, лучше пока не встречаться. Не знаю…
Мне радостно и страшно. Ты уже такой взрослый, так много видел. А я первокурсница, девчонка, которая сама-то еще толком не знает, чего же ей хочется в жизни.
Подумай обо всем хорошенько. Ты же мне друг.
Лена».
Сергей перечитал письмо. Пальцы невольно сжались в кулак. А перед глазами долго еще плясали, подмигивая ему, непонятные, до боли обидные слова. «Не встречаться… Подумай…» Выходит, лишь друг… Вот так же, другом, назвала его когда-то девчонка-соседка, в которую он безнадежно влюбился еще в седьмом классе. У нее были глубокие задумчивые глаза и длинные, золотящиеся на солнце волосы. Она была библиотекарем. Она ходила на танцы с молодым розовощеким лейтенантом. Она обожала этого лейтенанта. Иначе бы они не поженились. А Сережку она всегда называла другом.
Но ты-то, Леночка, для чего мудришь? Прикидывай, взвешивай, соизмеряй! Унынием несет за версту от этих прилизанных слов. Добро бы когда сомнения, когда в неясной тревоге стонет и мечется сердце. Но не сегодня! Не сейчас, когда пришла любовь, когда не осталось места для раздумий, когда больше всего на свете хочется лишь одного: быть рядом, вместе…
Сергей, не видя букв, рассеянно листал подсунутые Никитой книги. Молча уходил потом в спортзал и, выпросив у ребят из секции перчатки, с ожесточением начинал колотить невозмутимо поблескивающую «грушу». Если бы он только знал, кого ему нужно сокрушить, какую преграду убрать с пути.
Через каждые пять минут он не выдерживал, срывался и задавал себе дикий, нелепый вопрос: «А что, если она не любит; что, если все это не больше, чем необузданный взлет его раскалившейся фантазии?» Но светлое, волнующее чувство звонкой, солнечной радости, которое впервые так властно охватило его в тот незабываемый вечер, и сейчас гасило на лету злые искорки отчаяния, не давало им вспыхнуть в полную силу.
Внутренний голос подсказывал Сергею, что лучше всего не ломиться, не лезть напролом, а, призвав на помощь всю свою волю и самообладание, хотя бы немного подождать. Не может же Леночкино молчание длиться вечно. Наверняка не сегодня-завтра раздастся телефонный звонок и в трубке наконец прозвучит долгожданное: «Вечером, в семь…»
Два дня крепился Сергей, а на третий все-таки не вынес. Запустил в ухмылявшегося Никиту толстенным томом «Всеобщей истории», наскоро пригладил у зеркала непокорный вихор и, подсчитав на ходу наличные ресурсы, кинулся на угол ловить свободное такси.
К политехническому подъезжал в самый раз. Только что прозвенел последний звонок с лекций. Одновременно с шумом распахнулось несколько массивных дверей, и на институтскую площадь высыпала целая армия студентов. Замелькали папахи и кожаные папки, высоченные прически и похожие на подзорные трубы, туго скатанные чертежи.
Леночку он увидел сразу, как только она появилась в дверях. На ней был красный, с белой у ворота каемкой, свитер. Сергей махнул ей рукой, но она его не заметила. На каких-то несколько секунд он потерял ее из виду. И вот уже красный свитер Леночки мелькнул далеко впереди. Сергей вихрем сорвался с места и, расталкивая идущих, бросился вдогонку. Он настиг ее почти у самой трамвайной остановки. Но тут же замедлил шаг. Леночка была не одна.
С ней шли два высоких широкоплечих парня. Тот, который был справа, нес ее спортивный чемоданчик. Сергей прислушался. Второй провожатый напевал какую-то незнакомую песню. Мелодия ему не понравилась, а слов он так и не разобрал. Все трое спешили. Но Леночка тем не менее ухитрялась на ходу вполголоса подпевать. И это особенно бесило Сергея.
Глупейшее положение. Идешь по пятам, как сыщик, изучаешь два стриженых затылка, сверлишь глазами красный свитер с белой полоской — и это все, на что ты можешь рассчитывать. А еще говорят, если кому-нибудь пристально смотреть в спину, так он обязательно почувствует на себе взгляд и тут же обернется. Впрочем, мало ли что говорят. А в жизни выходит совсем иначе. Он и минуты не мыслит пробыть без нее, рвется к ней, тянется всей душой. А она — как ни в чем не бывало. Весела, беззаботна. Разгуливает по улице с какими-то типами, чемоданчик нести доверяет. Улыбается еще при этом. А ты, как чужой, — в сторонке. Будто и не было у вас тихого вечера, некрашеной скамейки, пряного запаха прелых прошлогодних листьев и чуть-чуть солоноватого привкуса на губах. Эх, Лена, Леночка…
В общежитие Сергей пришел поздно. Долго и бесцельно бродил по городу. Отчаянно продрог и устал. Не зажигая света, забыв об ужине, сразу же повалился на кровать. Но уснуть не смог. Ему казалось, что и луна светит неимоверно ярко, и будильник против обыкновения тикает на весь дом. В конце концов Сергей решительно потянулся к настольной лампе. Несмотря на давнишний уговор, который запрещал тревожить спящего соседа, тут же растолкал сладко посапывающего Никиту.
— Неужели правила утверждены лишь для того, чтобы их нарушать? — сердито пробурчал тот и, зевая, уселся по-турецки на кровати. Но, выслушав сбивчивый рассказ Сергея, наболевшую исповедь истомившегося влюбленного, Никита смягчился и даже подал совет: — Ты, Сережка, всего себя заново взглядом окинь. К такой девушке нельзя идти в сапогах. Топают сильно. А ты это любишь — чтобы с шумом, с бенгальскими огнями…
— Дон Жуаном еще назови.
— Во всяком случае, ты не первокурсник! — Никита взял с тумбочки очки. В минуту спора они ему обычно прибавляли хладнокровия. И сейчас, глянув на Сергея сквозь толстые, в прозрачной оправе стекла, он заговорил спокойнее и тише: — Для нее это, быть может, самое первое чувство. И не целовалась она, должно быть, еще ни разу. Ты это тоже учти. Человек, который впервые в жизни увидел море, никогда не станет тут же очертя голову нырять в набегающую волну. А ты хочешь, чтобы она тебе чуть ли не во время лекций на шею бросилась.
— Сухарь ты, Никита. Типичный.
— Для меня любовь — чувство святое.
— Святых, между прочим, девушки обходят стороной.
— Единственная не обойдет. — Никита отвернулся к стене и накрылся с головой одеялом.
А Сергей придвинул к столу табуретку и, отбросив последние колебания, быстро написал на институтский адрес короткое, но энергичное письмо. Он заверял Леночку, что трижды проверил себя и знает теперь наверняка: нет ему жизни без нее. Они должны снова встретиться в парке. На той же самой скамейке. «Если любишь — придешь».
Без пальто, в накинутом на плечи пиджаке выбежал он на улицу и, пугая поздних прохожих, понесся к почтовому ящику.
В парк Сергей пришел за час до назначенной в письме минуты. Было тепло. Легкий ветерок разносил по аллеям слабый весенний аромат. Казалось, он исходит не только от пробивающейся к солнцу листвы, а струится отовсюду, со всех сторон. Дымом костра поднимается к верхушкам деревьев от нагретой за день земли. Невидимым туманом стелется по берегам реки, подмытым вешней, талой водой. Наплывавшая, откуда-то из глубины парка музыка тоже струилась, как тонкий, весенний аромат.
Хотелось отыскать в памяти, в самых дальних ее тайниках, особенные, чистые, никем еще не сказанные слова. Такие, чтобы сразу достали до сердца. Как легко мог он раньше говорить девушкам, что они неподражаемы, хороши, красивы. И как трудно найти единственно верное слово сейчас, для сегодняшней встречи.
А тут еще, путая мысли, стучатся, толкутся в мозгу не ко времени вспомнившиеся стихи: «Любит — не любит. Я пальцы ломаю…» Почему именно эти строчки? Разве нет у Маяковского других, более подходящих стихов?
«Любит — не любит…» Похоже, что стрелки тоже чувствуют этот угрюмый кованый ритм. «Я пальцы ломаю», — с каждым шагом все пронзительней, громче отдается в голове.
Часы ожидания действительно легче, чем последние несколько минут. Осталось совсем немного. А стрелки, будто нарочно, начинают вдруг замедлять свой бег. Даже секундная теперь лениво, нехотя движется по кругу. Словно окончательно выбилась из сил.
Тускло светится циферблат. Остается каких-то три минуты. Вот уже две… Наконец одна… Черный как уголь дрозд удобно устроился на ветке и не мигая насмешливо глядит на Сергея. Впрочем, что он понимает, этот дрозд.
По-прежнему слышна негромкая, далекая музыка. Все как и час назад. Только в воздухе стало отчего-то душно. Будто собирается первая весенняя гроза.
Мимо прошли высокий парень и под руку с ним худенькая, в юбке колоколом девушка. Она сердилась:
— В другой раз опоздаешь — пеняй на себя.
— Но я же прямо со стройки.
— Вечно у тебя отговорки. Генка никогда бы так не поступил.
Да, другие так не поступают. Другие всегда приходят вовремя. А вот те, кого ждешь, неизменно опаздывают или не приходят вовсе.
«Любит — не любит. Я пальцы ломаю…» Куда же ты девалась, черноглазая? Неужто не можешь понять, как тяжело бродить одному по аллее, где кажется, даже безмолвные акации замерли и прислушиваются, не твои ли это шаги.
До самых ворот Сергей оглядывался. Все еще надеялся: а вдруг… Навстречу ему попадались одинокие пары. Какая-то девушка в полосатом платье спросила его, который час. Сергей понял это лишь тогда, когда она окликнула его вторично. Тут же он почему-то представил, как широкоплечий стриженый парень снова заботливо подсаживает Леночку в трамвай, и молча, так и не ответив девушке, еще быстрее зашагал к выходу.
Никогда ему раньше не удавалось дозвониться по телефону до Ермаковой. Если он настаивал, чтобы ее разыскали, вежливые женские голоса охотно соглашались, просили подождать несколько минут и тотчас трубка опускалась на рычаг. Мужские голоса вообще обходились без дипломатии. Но на этот раз Сергей решил не отступать. Шесть монет проглотил ненасытный автомат, прежде чем сидящий у факультетского телефона дежурный поверил наконец, что студентке Ермаковой звонят не по личным делам, а по вопросу о межвузовском вечере дружбы. Сергей готов был отрекомендоваться кем угодно — директором театра, председателем горсовета, президентом Гвинеи, только бы позвали хоть на одну секунду ее, Леночку Ермакову. Но к телефону подошла какая-то незнакомая особа и чугунным голосом сообщила:
— Ермаковой сегодня в институте не будет.
— Но она мне очень нужна!
— Поезжайте тогда на вокзал. Она как раз кого-то встречает.
— Кого встречает?
— Мне кажется, к вечеру дружбы это не имеет прямого отношения…
Неужели как тогда, с Наташкой? Не может быть. Такое не повторяется. Не могли его обмануть Леночкины глаза. Не могли!
Сергей вскочил на ходу в проезжавший мимо парка трамвай. С силой дернул на куртке «молнию». Рывком расстегнул ворот рубашки.
В приоткрытое окно волной плеснулся весенний ветерок. Но Сергей не почувствовал ни его свежести, ни легкого аромата.
Снова встал перед глазами высокий крутоплечий парень с крепким стриженым затылком. Что он ей тогда за песню напевал? И куда они, спрашивается, так торопились? Ему-то уж наверное известно, кого она поехала встречать.
А ты, представитель прозорливой профессии, гроза факультетских девчат, тычешься в каждый вопрос, как слепой щенок в стенку. Так тебе и надо, дураку. Веришь каждому слову. А что, если за всем этим — «дай опомниться», «ты же мне друг» — ничего, кроме беспросветной пустоты? Не хватало тебе еще в жизни только такого водевиля…
Медленно поднимался Сергей по общежитской лестнице. У самой двери своей комнаты он вдруг услышал, что с третьего этажа льется печальная, бархатная мелодия какого-то незнакомого блюза. Это означало, что комендант разрешил танцы и физматчики включили самодельный магнитофон. В другой бы вечер это обрадовало. Но сейчас Сергей не стал даже вслушиваться в музыку. Не задерживаясь, он толкнул дверь. Обвел сидевших в комнате рассеянным взглядом. Усмехнулся, увидев на столе серебристоголовую бутылку шампанского. И тогда только сообразил, отчего так пристально смотрит на него синими настороженными глазами удивительно знакомая девушка. В белоснежном шерстяном жакете она была похожа на артистку из какого-то забытого французского кинофильма.
— Наташа…
Когда-то он поклялся, что больше ни за что на свете не произнесет ее имени. Кажется, давал себе слово даже кивком не здороваться с ней, пройти при встрече с холодным, безразличным видом. Так должен поступать настоящий мужчина. А сейчас этот настоящий мужчина стоял в растерянности у вешалки и абсолютно не представлял, как же ему теперь быть. Слишком уж неожиданной оказалась эта встреча. С глазу на глаз он мог бы, конечно, сказать ей что-нибудь резкое, хлопнуть дверью и уйти. Не помогли бы тогда ни загадочная улыбка, ни грустный прищур вздрагивающих ресниц. Но сейчас рядом с Наташей сидел Семен Караваев, а у окна стоял и барабанил пальцами по этажерке невозмутимый Никита Волков. И как-то неловко показалось Сергею устраивать при них впечатляющую сцену отречения от своего недавнего прошлого. Тем более что ребята — это безошибочно угадывалось по их лицам — уже простили Наташу Смирнову еще до его прихода.
— Госэкзамены она будет сдавать с нами, — сияя, с откровенным восторгом выложил Семен.
— Перевелась из МГУ, — поддакнул Никита.
— Маленькая неприятность… — усмехнулась Наташа.
— Здравствуйте… — сказал Сергей.
А потом они пили шампанское. За встречу. И просто так. Грызли невероятно кислые яблоки, которые Никита упорно называл мичуринскими, и рассеянно слушали последние Сенькины стихи. Наташа молчала. Нервно теребила голубую пуговицу на жакете. Сергей чувствовал, что она настойчиво ищет, ловит его взгляд. Но ему все это было совершенно безразлично. Он смотрел в одну точку и почти не слышал голосов. Мысли его были далеко. Не хотел уходить лишь потому, что в одиночку коротать такой вечер наверняка оказалось бы еще труднее. К тому же в душе он испытывал гордость от приятного сознания, что ему удалось-таки сохранить то твердое, суровое спокойствие, которое постепенно подавило и вконец обезоружило Наташу. Красивая, по-прежнему обаятельная и внешне все еще самоуверенная, она теперь беспомощно смотрела на него, и в глубине ее глаз угадывался не упрек, а немой вопрос: «Неужели ты не рад, неужели я тебе совсем безразлична?» — «Ты не ошиблась», — хотелось сказать Сергею и подняться наконец из-за стола. Но какая-то сила удерживала его на месте.
— Сережа, я многое должна тебе сказать, — наклонилась к нему Наташа и кивнула на дверь. — Ты слышишь? Только на одну минутку.
— О чем говорить? — нарочито медленно спросил он, а сам подумал с горькой досадой: чего бы он только не отдал, чтобы не эта, а другая вот так же стояла сейчас перед ним и, смущенно улыбаясь, звала его в коридор.
Наташа протянула руку:
— Пойдем. — И совсем тихо: — У меня ведь все-таки горе…
Они прошли на второй этаж, где не так мешала музыка. Остановились у окна, около двери на лестничную площадку.
— С Николаем мы разошлись… — Наташа провела рукой по запотевшему стеклу и посмотрела Сергею в глаза. — Я навсегда виновата перед тобой…
— Незачем трогать прошлое.
— Неправда! От прошлого не уйдешь. Я поняла это сразу, как только увидела тебя. Я же пришла к тебе, Сережа…
«Как это у них просто: пришла, ушла, не явилась совсем. — Сергей вскинул на Наташу глаза. — А потом, наверное, все вот так же, одинаково покаянно глядят на тебя, готовые снести хоть что, хоть какую боль, только бы снова разбередить, растревожить сердце».
— Я пойду… — сказал и осекся.
На запотевшем стекле Наташа вывела, не глядя на на него, короткое слово — «люблю». Осторожно дотронулась горячими пальцами до его руки, нежно погладила ее, поднесла к губам, прижала к пылающей щеке. Она всегда была ласковой, эта взбалмошная и строптивая девчонка. Она всегда умела смирить его ревность, загладить любую обиду. Может быть, оттого так трудно оттолкнуть ее сейчас. Может быть, оттого так нелегко унять горячую волну, взметнувшуюся вдруг в груди. А ее немигающие глаза все ближе, все синее. Все лихорадочней мечутся в них колкие, зовущие огоньки.
«Что я делаю?» — пронеслось в голове, но тотчас же эхом откликнулся другой, равнодушный, усталый голос: «Теперь все равно…» И разом кончились мысли, испепелились крутые слова. Сладко, как в жарком хмелю, закружилась, затуманилась голова. Каруселью поплыли перед глазами и растаяли в сомкнувшейся темноте желтые мигающие лампочки, бледно-зеленые коридорные стены. Совсем как давным-давно на третьем, далеком курсе.
Только тогда Сергею наверняка не хватило бы сил вырваться из этих объятий. И, придя наконец в себя, он ни за что не сказал бы:
— Довольно. Не надо.
— Значит — она? — резко спросила Наташа, и Сергей понял, что ей уже известно все. Хотел ответить спокойно, отрубить раз и навсегда, но то, что он увидел в окне, мигом вышибло из-под ног закачавшийся пол, дико перекосило уличные фонари.
Через дорогу к троллейбусной остановке бежала Леночка. Ее уже почти догнал какой-то взлохмаченный парень. Но она успела все же вскочить на подножку.
Перепрыгивая через три ступеньки, Сергей сбежал по лестнице вниз. Рывком распахнул на улицу дверь. Навстречу ему с низко опущенной головой брел по зеркальным лужам забрызганный грязью, всклокоченный парень. Это был Никита. Натолкнувшись на Сергея, он отстранил его плечом и молча прошел в общежитие.
— Постой, что случилось?
— Землетрясение в Ашхабаде, — мрачно бросил Никита и снова повернулся к нему спиной.
— Она увидела нас?
— А какая, собственно, разница? Иди продолжай.
— Знаешь, ты брось! — рванулся к нему Сергей. Но Никита так посмотрел ему в глаза, что сразу же бессильно опустились руки и горько сделалось на губах. Только в эту минуту Сергей догадался впервые, что не ему одному дорога черноглазая. Только в эту минуту он понял, что был у него настоящий, единственный друг.
Разве представишь, какое мужество помогало Никите так долго сдерживаться и молчать. Разве узнаешь теперь, что творилось у него в душе, когда он, увидев, как рушится Сережкина любовь, пытался задержать Леночку на крыльце, уговаривал ее вернуться, не уходить…
До поздней ночи блуждал Сергей у ступенчатого здания киностудии. Заглядывал во все освещенные окна в разбегающихся от перекрестка домах, с надеждой всматривался в удивленные лица прохожих. Но случайные встречи выпадают, видно, лишь тогда, когда их не ждешь. Не чаще.
Только перед самым рассветом забылся Сергей коротким и зыбким сном. С утра он уже был на площади перед политехническим институтом. Леночка на лекции не пришла.
Лишь на третий день она появилась на занятиях. Сергей упрямо дежурил в коридоре, с нетерпением дожидаясь звонка на перерыв. Он должен во что бы то ни стало рассказать Леночке обо всем. О своей любви, о тягучем, невыносимом ожидании. О сомнениях, долгих раздумьях. О минутной слабости, вызванной отчаянием. Не может она не поверить ему! Не каменное же у нее сердце. Не могут ее лучистые, озаренные жарким пламенем глаза стать вдруг холодными, ледяными.
Он попросил пробегавшую мимо девушку-первокурсницу позвать студентку Ермакову. «Посыльная» возвратилась лишь перед самым концом перерыва.
— Вас зовут Сергеем?
— Да. А Леночка что?
— Она вас просит больше никогда не приходить. — По лицу девушки легко было догадаться, что она как могла постаралась смягчить ответ.
Сергей кивнул. Направился уже было к выходу, но снова окликнул первокурсницу:
— Скажите, а в тот день у Ермаковой ничего не случилось?
— В какой день? Он назвал число.
— Как же, прекрасно помню. Ее тогда с собрания на вокзал отпустили. Отец у нее через наш город проезжал. Она с ним должна была повидаться. У нее ведь матери нет.
А дома на него вдобавок ко всему обрушился Никита:
— Эх ты, жизнелюб! Носишься со своей драмой, а не знаешь даже, что девчонка росла без матери. И вообще, как погляжу, многого ты еще на свете не знаешь.
— Никита, а ты не мог бы мне помочь? — осторожно намекнул Сергей.
— Боюсь, теперь тебе уже не поможешь.
— Что же она, по-твоему, из кремня?
— А ты думал, девчата из одних поцелуев состоят?
И снова Сергей почувствовал, что перед ним совсем уже другой человек. По крайней мере на такую тему с Никитой теперь говорить было бесполезно.
На следующее утро Сергей выехал в Новоуральск, на трубный завод, к героям своих очерков. Приближался день защиты дипломной работы. Нужно было в последний раз сверить рукопись с жизнью, внести подсказанные временем исправления. «Первопроходцы» — так он назвал цикл очерков-рассказов о людях суровых и жарких профессий, с одержимостью подлинных романтиков штурмующих завтрашний день. Писал увлеченно, с волнением. А вот в гости теперь отправлялся без радости. Вдохновение, которое так окрыляло в первые весенние дни, сменилось тупой, холодной апатией. Даже самые яркие и огненные страницы сегодня уже не трогали своим накалом, не будили воображения свежестью образов, дерзкими взлетами мысли. «Писать-то ты красиво научился…» — начинал он разговаривать сам с собой, но никак не мог закончить каждый раз ускользавшую фразу.
Рабочие рукопись похвалили: «Все как в жизни. Краснеть не придется». А Сережке эта добрая похвала показалась хуже самой горькой обиды. Будто крест-накрест хлестнули его по лицу. Совестно отчего-то было смотреть ему своим героям в глаза.
Еще в вагоне за несколько перегонов до Свердловска он окончательно решил, что добьется встречи с Леночкой, что бы там ни случилось, какая бы стужа ни угадывалась в ее глазах. Пусть она даст ему пощечину, пусть оборвет обжигающим «нет», но он, черт возьми, не может теперь без нее, нет ему без нее дороги, и счастья настоящего тоже не будет без нее. Разве так уж все непоправимо? Неужели большая, единственная любовь не имеет права хотя бы на маленькую, крохотную ошибку? Кому это нужно, чтобы люди так мучительно расплачивались за свои нелепые, чисто случайные промахи? Нет в конце концов таких проступков, которых нельзя было бы искупить. Так он и скажет ей. Все напрямик. А там — пусть рассудит сама.
Но ничего Сергею сказать не довелось. В деканате энергофака ему сугубо официально сообщили, что студентка Ермакова досрочно сдала экзамены и вчера уехала из города. Куда именно — уточнить не могли. На курсе тоже никто ничего не знал. Подсказали только адрес Лениной тетушки. Через полчаса Сергей уже постучался в массивную, высокую дверь старого, с круглой деревянной башенкой особняка. Невидимая в полумраке прихожей, пожилая женщина, не снимая цепочки, довольно угрюмо пояснила ему, что никаких племянниц отродясь не имела, а квартирантки ей о своих планах не докладывают.
Сергей поспешил на почтамт. Отправил в Советскую Гавань срочную телеграмму. Он понимал, что это выстрел наугад, крик в темноту. И все-таки надеялся на ответ. Но почтальоны каждый день только разводили руками:
— Вам пока еще пишут…
Не думал не гадал Сергей, что так уныло покатятся под уклон его последние студенческие дни. Не скрасила их ни телеграмма «первопроходцев», пожелавших счастья и трудных дорог, ни назначение на Сахалин, о котором еще недавно так сильно мечтал, ни даже примирение с Никитой, который с боем отстоял себе право работать после окончания за Полярным кругом, в далеком порту Игарка. Когда-то они, правда, собирались поехать вместе.
Не смог забыться Сергей и потом. Ни в тревожную пору экзаменов, ни после шумного выпускного вечера, ни в хлопотные дни отъезда. Стоило только на миг закрыть глаза, как в памяти сразу же оживали воспоминания. Намертво сплавились они навсегда с тихим мотивом студенческой песни, искрящимся свечением вечернего льда и слабым запахом пробивающейся к солнцу листвы. Даже уже в родительском доме, в небольшом поселке на отлогом волжском берегу, не уставал он вспоминать неповторимый блеск ее глаз, синеватый отлив ее густых волос, в которых запутался как-то залетный весенний ветер.
Дорога на Дальний Восток выпала ему поздняя. Вызов из редакции пришел лишь в начале сентября. Землю как раз прихватил первый предутренний заморозок.
Только перед самым отъездом поделился Сергей своим горем с отцом. Тот долго не выпускал изо рта трубку с коротким искусанным мундштуком. А потом сердито выколотил пепел и тихо обронил, покосившись на дверь:
— Наука тебе, красавец, на всю теперь жизнь.
Сергей вспылил:
— Да неужто у тебя, батя, все в молодости как по-струганому шло?
— Может, и случалось твоего еще похлеще, — неожиданно спокойно ответил отец. — Да только тебе, Серега, на мою молодость оглядываться нечего. Время нынче другое.
Даже колеса состава, казалось потом, по одному выстукивали отцовские слова, в точности каждый раз повторяя с начала недолгий прощальный разговор.
Когда за окном вагона покатились гранитные волны Уральских гор и вместо березовых рощиц к линии подступили бронзовые стволы смолистых и рослых сосен, Сергей понял, что в этом поезде до Владивостока ему не доехать. Тут же достал с полки чемодан. На день решил задержаться в Свердловске. В городе, где прошли его студенческие годы. «Зайти в университет, посмотреть на младшекурсников, попрощаться со всеми перед долгой разлукой», — так говорил он себе. «Увидеть Леночку, в последний раз попытаться ей все объяснить», — поясняло вполголоса сердце.
Встретились они в институте, в коридоре третьего этажа. Косые золотистые лучи осеннего бледнолицего солнца слабо пробивались сквозь двойное оконное стекло. Длинные, расплывчатые тени неподвижно лежали на свежевыкрашенном, но уже порядком затоптанном полу. Леночка от неожиданности остановилась. Едва приметно дрогнули губы, еще чернее сделались незнакомым пламенем вспыхнувшие глаза. Сергей загородил ей дорогу:
— Леночка… подожди…
Он взял ее за локоть, но она отдернула руку и, сдвинув брови, быстро-быстро пошла по коридору. Сергей догнал ее. Ржаво задребезжал и прокатился по всем этажам долгий, протяжный звонок. На миг скрестились их взгляды. Острая боль и немая обида сверкнули в ее глазах. Но он успел увидеть в них не только суровость и отчужденное молчание. В далекой, нетронутой глубине ее взора короткой вспышкой мелькнуло смятение, пробилась и тотчас потухла, как в омуте, мгновенная искорка наглухо спрятанной грусти.
Леночка замерла, задержалась на месте всего лишь на несколько секунд. Но этого было достаточно, чтобы Сергей успел прошептать обжигающие горло слова:
— В парке… на нашей скамейке… Сегодня же, в шесть! Я уезжаю… Я жду…
Леночка опустила голову и молча направилась к аудитории.
Когда Сергей вышел на площадь, он оглянулся на высокое серое здание института. Ему показалось, что на третьем этаже у приоткрытого окна стоит Леночка. Но наверняка сказать этого он не мог.
…Воспоминания Сергея не успокоили. Чем старательнее он воскрешал их в памяти, тем сильнее и звонче они отзывались отрывистыми ударами в груди.
Намаявшись за день, умолк и неслышно прилег за деревьями ветер. В парке стало пустынно и тихо. Начал накрапывать мелкий дождь.
Давно уже часовая стрелка невозмутимо спешила к семи. Но Сергей не уходил. Кутаясь в пальто, он продолжал сидеть на скамейке. Его напряженный, полный ожидания взгляд без устали скользил по притихшей аллее.
По голым поникшим ветвям деревьев в хмурое осеннее небо бесшумно карабкался вечер. Кончился дождь. Но над головой все еще темнели одинокие несмытые тучи.
Где-то далеко за лесистыми холмами затеяли позднюю перекличку усталые паровозные гудки. А Сергею по-прежнему казалось: еще мгновение — в конце аллеи появится Леночка и медленно пойдет навстречу ему по влажным багряным листьям.
НЕКРАСИВАЯ
Она работает за прилавком. В магазине с красивым, почти сказочным названием «Детский мир». С утра до вечера здесь не затихают звонкие голоса ребятишек. Вот и сейчас. Весело смеется курносый малыш, прижимая к груди бархатную обезьяну. Кокетливо примеряет у зеркала новую шапочку с пушистым помпоном трехлетняя модница. А тому вон мальчику не до смеха. Идет, опустил голову и вовсю сопит носом. Вот-вот заплачет: мама наотрез отказалась купить заводную машину.
Маше жалко мальчишку. Он такой славный, тихий. Да и вообще неказистый, худенький, весь в веснушках. Про него наверняка уж никто не скажет: «Какой симпатичный ребенок». А Маша знает, как это плохо — быть некрасивой. Все время ловить на себе сочувствующие взгляды сердобольных женщин, разглядывать неискренность улыбок на устах молодых счастливых папаш, впервые покупающих сыну или дочке игрушку. Это здорово плохо, когда говорят про тебя: «Жаль вот только — некрасивая…»
— Постойте, гражданка! — Маша даже вышла из-за прилавка, чтобы женщина с мальчиком могла увидеть ее. — Вы, кажется, хотели купить заводную машину?
— Да… — Женщина немного смущена. Она вспомнила, что довольно громко сказала у прилавка: «У меня осталось только два рубля, а получка у отца через неделю. И пожалуйста, не реви…» — Видите ли, у меня с собой мало денег…
— Знаете, это ничего. — Маша видит, с какой надеждой, с какой благодарностью смотрят на нее заплаканные, не по-детски грустные глаза малыша, и не может отчего-то найти нужных слов. — Возьмите эту игрушку… Она ведь заводная…
— А как же деньги? — Мать мальчика недоуменно оглядывается вокруг. Видно, что ее больше всего беспокоит, не слышат ли их окружающие.
— Отдадите в зарплату.
— Но вы же меня не знаете…
— Это не беда, — улыбается Маша малышу. — Вы-то ведь знаете, как меня найти.
— Ну да, понятно. Я вам сегодня же занесу, до закрытия. Дома у меня, разумеется, есть. — Мать подталкивает сына к прилавку. — Скажи же тете спасибо.
Мальчишка счастлив. Поэтому не может вымолвить ни слова. Только уже у самого выхода он оборачивается и несмело машет доброй продавщице рукой.
Маша улыбается. Улыбка не сходит с ее лица даже после насмешливых слов напарницы:
— Дуреха. Пропали денежки. Как пить дать. Вернет она, как же, жди… И зачем ты ей подарок поднесла — поражаюсь…
— Я не ей, а малышу, — тихо отвечает Маша и неуверенно добавляет: — Надо же все-таки людям верить.
— Наивная, — пожимает плечами Зина. — Вот когда отменят деньги, тогда и верь каждому встречному-поперечному. А пока ты эти миллионерские замашки брось.
— При чем здесь миллионеры… — досадливо морщится Маша и аккуратно приглаживает говорящей кукле растрепавшуюся прическу.
На Зину она не сердится. Зина всегда такая. Не злая вовсе, а если обидит, так невзначай. Зато всегда посоветует, какое платье к лицу, какие клипсы в моде. Она разбирается. Ей и положено: самая красивая на весь «Детский мир». Залюбуешься, когда после работы идет из магазина домой. Все на нее оглядываются. Каждый день свидания назначают. Оттого она так и хохотала, когда Маша призналась ей, что еще ни разу в жизни не целовалась. Не понимает Зинка, что не всем такое счастье, как ей. Одно твердит: надо уметь понравиться. Это, говорит, искусство. Может, и правда…
Маша стоит за прилавком. Маша продает игрушки. А улыбка не сходит с ее лица. Это ничего, что мысли немного грустные. Грусть она ведь прячется где-то там, внутри. Зачем же ее показывать другим? Так ведь и огорчить кого-нибудь можно невзначай.
Часы отсчитывают время. Долго оглядываются, отходя от Машиного прилавка, малыши. Им, очевидно, нравится заводной поросенок, который почти непрерывно наигрывает на скрипке.
Маша продает игрушки. Розовощеких, с длинными загнутыми ресницами спящих красавиц; надувных, с грустными глазами, скучающих по Африке слонов; вечно смеющихся, неунывающих Петрушек. Смешные, неуклюжие, милые… Все вы по-своему симпатичные и хорошие. Даже вон тот длинноухий нахмуренный ослик, сшитый почему-то из рубчатого вельвета… Ведь в каждой игрушке прячется, притаилась до случая счастливая улыбка малыша…
— Опять размечталась? Пошли домой, благодетель всероссийский, — слышит она вдруг голос Зины. — Лавочка закрывается. Не забудь внести в кассу очередной взнос. Деньги тебе мадам, очевидно, пришлет по почте.
Маша молчит. Медленно идет она к кассе. Не спеша снимает халат. Немного, конечно, досадно. Дело, понятно, не в деньгах.
— Ладно, — успокаивает ее Зина, ловко подкрашивая у зеркала губы. — На, лучше красоту наведи. Новая, последний шик.
Маше помада ни к чему. Ей просто хочется побыть одной. Но Зина не отстает. Пытается развеселить. Домой, говорит, пойдем вместе. Разве ее переубедишь.
Из магазина они выходят под руку. Не торопясь идут мимо потускневших витрин. Маша слышит, как гремит засовом, закрывая за ними дверь, вечно сердитая, ворчливая тетя Поля. Ни о чем не хочется говорить. Лучше молчать.
Мягко шуршат по асфальту уставшие за день колеса машин. Вздыхают о чем-то, старательно отбивая удары, большие горсоветовские часы. Медленно выезжает на площадь увенчанный кинорекламой, торжественно сверкающий новенькими стеклами трамвай. Какой-то рыжеволосый парень в синей спецовке, спрыгнув с подножки и стремительно перебежав улицу, неожиданно останавливается перед девушками.
— Одну минутку. — Он окидывает их быстрым взглядом и решительно обращается к Маше: — Если не ошибаюсь, у вас моему сынишке купили машину. Заводную, с моторчиком… Точно? Порядок! Вот вам должок. Держите. Огромное спасибо.
Рука у него большая, сильная. В веснушках и золотистых волосах. У запястья белеет широкий шрам.
— Да что вы… — Маше неловко. — Могла бы мамаша и завтра принести.
— Конечно, — вставляет Зина и слегка щурит свои восточные, совсем как у Самойловой, глаза. Это обычно нравится.
Парень мгновение пристально смотрит на нее, но тут же поворачивается к Маше:
— У сынишки моего нет матери… Это он приходил с сестрой. У него, понимаете, сегодня день рождения. Ну и вот так случилось… С деньгами-то…
— Это ничего, — каким-то не своим голосом отвечает Маша, а парень добавляет, глянув почему-то на Зину:
— Сестра мне вас в точности описала. Сразу узнал. Видел, как вы вышли из магазина. — Он мнет в руке теперь уже ненужный трамвайный билет. — Так вот, еще раз благодарю. И от Мишки моего вам спасибо. Для него ведь это… Ну словом, доволен как, чертенок. До встречи!
— Эх ты, — зло цедит сквозь зубы Зина. — Молчишь, как мумия. Видала, как я с ним перемигнулась? То-то. Мне-то он лично не нужен. Физиономия неприметная, и бензином от него несет. А ты-то что моргала? Познакомилась хотя бы.
Маша молчит. Потому что не умеет говорить грубостей. А может быть, еще и потому, что не знает просто, что же сказать. Сердце отчего-то колотится сильно-сильно. Даже хочется руку прижать к груди.
— Постойте! — слышит она вдруг окрик и, оглянувшись, видит, что их снова догоняет тот самый огненноволосый парень в спецовке.
В руках он бережно держит маленький букетик подснежников. Их продают на углу. Улыбаясь, он протягивает цветы Маше.
— Простите, — это уже относится к Зине, — последний купил.
— Тоже мне, джентельмен. — Зина поджимает губы и щурит вслед парню глаза. — И во сне ему таких букетов не снилось, какие мне дарят каждый день.
Она явно не в духе.
А Маша снова улыбается. Ей букеты дарят не каждый день. Она ведь некрасивая.
О ЧЕМ ЖЕ ТЫ, ВАЛЬС?
Шофер резко затормозил. Надвинул на лоб промасленную кепчонку, кивнул в сторону видневшегося вдали бревенчатого строения:
— Самый надежный во всей тайге телефон. Звоните себе на здоровье!
Как он догадался, что ей нужно звонить? Скажи на милость, какой прозорливец. Таня порылась в чемоданчике и протянула водителю деньги.
— Не стоит благодарности, — сквозь зубы процедил шофер и с шумом захлопнул дверцу. — Поберегите на парфюмерию.
— При чем здесь парфюмерия?
— А при том, барышня, что не наша вы, а залетная. — Он бесцеремонно окинул ее с головы до ног, задержал взгляд на пестрой «абстрактной» косынке, из-под которой выбились по-мальчишечьи коротко стриженные волосы, и с нарочитой вежливостью уточнил: — Вроде туристки. Понятно?
Тяжело переваливаясь на ухабах, забрызганный грязью «газик» с рычанием помчался дальше сквозь глухо откликнувшуюся эхом тайгу. А Таня медленно направилась по хорошо протоптанной тропинке к новенькой, рубленной в лапу избе, над крыльцом которой виднелась вывеска: «Почта. Телефон. Телеграф».
Совсем как в Свердловске, на улице Ленина… Мимо главпочтамта, как всегда, бегут сейчас трамваи. Торопятся куда-то вечно занятые опаздывающими пассажирами такси. Институтские ребята идут после практики в поликлинике на дневной сеанс в кино. Покупают самые дешевые билеты и в ожидании начала заходят в Художественный салон. Рассматривают картины и конечно же громко спорят, не обращая внимания на солидных, молчаливых посетителей. Все это там. Далеко-далеко.
А здесь — вековая тишина, нарушаемая лишь густым, протяжным стоном, который день и ночь наплывает откуда-то из глубины тайги. Затерявшаяся на карте Семеновка — маленький, глухой поселок. Если будет зимой сильная вьюга, заметет, небось, все эти приземистые домишки по самые крыши. И дороги тогда к ним не сыщешь.
Эх, Таня, Таня, и как же это все неладно у тебя получилось. Ведь, бывало, в институте громче всех на воскресниках пела: «И в снег, и в ветер…» Сводило от холода пальцы, до боли трескались губы, а ты, задыхаясь от ветра, вновь и вновь повторяла эти слова. Девчата тебя сильной считали…
Таня с трудом открыла тяжелую дверь. В темноте нащупала ручку другой. Толкнула ее и оказалась в довольно тесной, с низким потолком комнатушке. В ней пахло свежими сосновыми стружками. Кое-где на грубо струганных стенах выступили янтарные бусинки смолы. У окна она сразу приметила небольшую, в серебристой рамке акварель — студеная таежная река, только что освободившаяся ото льда. Очень точно художнику удалось передать характерное для этих мест сочетание угрюмых каменистых берегов, древних могучих кедров и стальной с голубоватым отливом воды. Несмотря на хмурые, по-зимнему суровые краски, от этой небольшой картины веяло волнующей весенней свежестью. Казалось, вот-вот ударит в волну золотой солнечный луч и мгновенно раздробится на тысячи ярких, сверкающих брызг.
Залюбовавшись акварелью, Таня не сразу обратила внимание на девушку в наушниках, которая склонилась за барьером и что-то записывала в толстую канцелярскую книгу.
— Мне бы поговорить со Свердловском.
Девушка вздрогнула, но тут же улыбнулась.
— Здравствуйте.
Ее большие серые глаза с притаившейся у самых зрачков синевой приветливы, смотрят доверчиво, просто. Нельзя не улыбнуться в ответ. Прошло всего каких-то десять минут, а они уже беседовали как давние знакомые. И трудно было представить, что с Оленькой, так звали русоволосую телефонистку, можно держать себя как-нибудь иначе, затаеннее или строже.
— Вы знаете, Свердловск дадут часа через два, не раньше.
— Я подожду. Торопиться мне некуда.
— Хотите, книгу дам почитать? — у Оленьки немного смущенно вздрагивают ресницы. — О любви.
— Спасибо. Лучше расскажите мне об этой картине.
— Возьмите лучше книгу.
Таня встретилась с Оленькой взглядом и поняла, что настаивать не нужно. В глазах девушки, только что светившихся радостным блеском, нежданно проглянула горькая, видать по всему, глубоко засевшая в сердце печаль. Мало ли что у нее связано с этой акварелью.
Оленька снова склонилась у аппарата. Словно дожидавшиеся этой минуты, беспорядочно принялись подмигивать ей многочисленные огоньки-оконца, напоминая настойчивым жужжаньем о далеких и близких абонентах. Таня раскрыла книгу, но читать не смогла. Слишком много шершавых, беспокоящих мыслей устало ворочалось в голове. Неладно все-таки получилось. Неладно…
Ехала по назначению в эти глухие, урманные места не то чтобы с особой охотой, по крайней мере без страха. Работают же люди даже на краю земли, на дрейфующих станциях! А это всего лишь отдаленный район области. Не Полярный, а просто Северный Урал. Виталий был настроен мрачнее.
— Хлебнешь еще, погоди, — говорил он со скептической усмешкой. — Это ты тут такая прыткая.
А она — до чего же глупая! — беспечно отмахивалась, смеялась в ответ:
— Я и в тайге не заплачу. И вообще учти: твое предложение насчет курортного, или как еще его там называют, института меня абсолютно не интересует.
Виталий сокрушенно вздохнул и, глядя в окно, осторожно промолвил:
— Но ведь я же тебя люблю…
— Разлука для любви — то же, что ветер для огня, — весело отшутилась она и принялась укладывать чемодан.
Все было просто и понятно. Только в последнюю минуту отчего-то тревожно забилось сердце. Виталий по-своему истолковал ее волнение и тихо, нерешительно напомнил:
— Будет тяжело — звони… Место в институте остается за тобой… — Помолчал и еще тише спросил: — Любишь?
— Ну как же такого не любить.
Определеннее ответить не смогла. Вернее — не захотела. Над этим по-настоящему она задумалась лишь сейчас. Так кто же он для нее — этот удивительно добрый и симпатичный хирург, гордость баскетбольной команды мединститута, надежда кафедры, без пяти минут кандидат наук? Славный малый, незаменимый, надежный друг. И потом, он такой высокий, что, когда идешь с ним под руку, все девчата с завистью смотрят вслед. Только любовь ли это? Почему она вспомнила Виталия, не в первые свои таежные дни, а именно сейчас, когда так неумолимо начали сбываться худшие его пророчества? И вправду, будто в воду смотрел, думает Таня.
Больше тридцати километров до железной дороги. Газеты приходят с трехдневным опозданием. С дальними лесоучастками связь только по рации. И самое невыносимое — грубость, замшелость этих неразговорчивых, таежных людей. Хоть расшибись в лепешку, никак не найдешь с ними общего языка, если ты не глушишь стаканами водку и не приучен с малолетства к соленому, крепкому слову. А в довершение всего — жить негде. Дом, в котором обычно селились работавшие здесь врачи, сгорел как-то во время лесного пожара. До сих пор стоят на краю поселка почерневшие, обуглившиеся срубы. Вот и втиснули ее в избу к учительнице, у которой и без того семья — двое детей и старушка мать…
Минула всего лишь неделя, а Таня почувствовала, что она здесь задыхается. Жизнь — не в жизнь. Во время практики в светлых и чистеньких клиниках, в сверкающих полированным металлом операционных все выглядело совсем иначе. Совсем не так. И сами собой всплыли в памяти слова Виталия: «Будет тяжело — звони… Место в институте… за тобой…» Какая, в конце концов, разница, любит она его или нет. Ведь он от нее ровным счетом ничего не требует. Просто готов, как всегда, по-дружески помочь, поддержать. К тому же в Свердловске у нее осталась тяжело больная тетка. Так сказать, семейные обстоятельства…
Таня откладывает книгу. Не до чтения. Каждая мысль наглухо завязалась тугим узлом. В одиночку теперь не распутать. Таким вот, как Оленька, куда легче, думает она, глядя на спокойное, чуть-чуть удивленное лицо сидящей за барьером девушки. Соединяет абонентов, читает в минуты затишья потрепанные книжонки о любви, а по вечерам, должно быть, пляшет в клубе кадриль или ходит за гармошкой и распевает на всю тайгу унылые, нескладные частушки. Ей, русоволосой, наверное, и невдомек, что можно и нужно жить как-то иначе, по-другому.
— Что же вы не читаете? — Оленька даже всплеснула руками. — Может, не нравится? Тогда найду про шпионов.
— Да нет же, — усмехнулась Таня. — Я просто устала. Дороги здесь трудные.
— Тогда подождите немножко. Смена моя как раз кончается. Заглянем к нам в клуб. — Она подмигнула, но сказала почему-то невесело, с грустинкой в голосе: — Ключи у меня. Доверили.
Клуб оказался большой избой, сложенной из крупных потрескавшихся бревен. Молча они поднялись на широкое крыльцо. Замок долго не открывался. Внутри он, видимо, весь заржавел. Наконец дверь со скрипом распахнулась. Следом за Оленькой Таня прошла в полутемный зал.
— Не нужно зажигать свет, — попросила она и тут же, не веря глазам, удивленно отступила назад: в углу, тускло поблескивая черным лаком, стояло низенькое фортепиано. — Откуда здесь инструмент?
— А вы умеете играть? — зазвеневшим вдруг голосом спросила в свою очередь Оленька и подошла к пианино. Смахнула пыль, осторожно подняла крышку. Хотела провести рукой по клавишам, но, должно быть, передумала. Пальцы замерли на полпути. Она отдернула руку, как будто это прикосновение могло причинить ей боль.
Таня в душе подосадовала, что в полумраке не видно лица девушки и поэтому трудно догадаться, чем смущена и так взволнована она.
— Сыграйте что-нибудь, — робко попросила Оленька.
Таня кивнула и села за фортепиано. Только что же сыграть? Впрочем, какая разница. Внезапно ожила в памяти грустная мелодия григовской «Песни Сольвейг», и она, невольно закрыв глаза, коснулась холодных клавиш. Волшебное очарование светлой, сказочно нежной музыки незримыми волнами расплескалось в притихшей темноте. Отступили, растаяли еще минуту назад сжимавшие голову мысли. И на душе сразу сделалось спокойно и мирно. Все потонуло в густом тумане — тревоги, печали, раздумья последних дней. Забылись на миг даже обидные слова, которыми сразил ее заведующий райздравом, суровый и седой в мохнатом свитере старик: «В этих местах, девушка, нужны не просто инженер, учитель, врач. Здесь нужен прежде всего верный, надежный человек. Вы вот бодритесь, а вижу, что дрогнули. Тайги испугались. А нужно, чтобы она вас боялась. Если вам непонятны мои слова, лучше уезжайте не мешкая. Я вам даже посодействую, хоть сейчас…»
Инструмент был расстроен, низко нависший потолок глушил и осаждал рвавшиеся ввысь аккорды. Но Таня продолжала играть. И вот уже закружились вокруг празднично-призывные звуки неувядаемой «Венгерской рапсодии».
— Может, неинтересно? — отрывисто спросила она Оленьку, молча застывшую у полузакрытого шторой окна.
— Нет, почему же, — встрепенулась девушка. — До сердца доходит. Это же Лист…
Таня изумленно вскинула на нее глаза и снова сожалела, что нельзя разглядеть ее лица. А Оленька прислонилась щекой к стеклу и, пока звучала музыка, не проронила больше ни слова. Но только лишь замер финальный аккорд, она круто обернулась и тихим, изменившимся голосом попросила:
— Вальс к «Маскараду» сыграете?
— Хачатуряна… А почему именно этот вальс?
— Его здесь раньше очень часто играли, — все так же тихо ответила Оленька.
— Играли или играл? — Таня начала наконец догадываться, в чем тут дело. Но ей не хотелось быть навязчивой, и она поспешила сгладить смысл слишком легко вырвавшихся слов. — Я ведь просто так. Поставила диагноз. По привычке.
— Постойте… так вы, выходит, наш новый врач?
— Да, как будто.
— Значит, вы вместо Николая Григорьевича… — Оленька не договорила. Голос ее дрогнул.
— Вероятно, так.
Таня положительно не знала, что и сказать. О ее предшественниках ей почему-то никто ничего не говорил. Похоже было на заговор молчания. Скупо, подчеркнуто официально упомянули, как и Оленька, лишь об одном из них, о каком-то Николае Григорьевиче, который теперь в Свердловске. «Так вышло, — сказали в райздраве. — Иначе было нельзя». О подробностях говорить не стали. Вероятно, боялись, что пример коллеги, переселившегося из этих мест в большой город, может дурно подействовать на нее. Поэтому Таня спросила напрямик:
— А он был хорошим врачом? Его здесь любили?
Оленька ответила не сразу. Но как только она заговорила, Таня поняла, что диагноз поставлен верно. Столько тепла и нерастраченной нежности вкладывала девушка в каждое слово, что даже самому не искушенному в сердечных делах человеку стало бы ясно, как любит она и как она верит в свою любовь.
— Без него здесь многое переменилось… Вечера вот даже перестали проводить… А музыка, верите — нет, та самая, которую он так часто играл… Это ведь он нарочно свое пианино сюда поставил, чтобы для всех… Музыка, я говорю, до сих пор будто бы и не смолкала.
Таня не стала больше расспрашивать. Она снова порывисто склонилась к фортепиано. И вспененные волны хачатуряновского вальса сверкающим потоком хлынули в вечернюю тишину.
Тане всегда казалось, что в переливах и стремительных взлетах этой мелодии таится не только смутная, неясная тревога и ожидание чего-то неотвратимого и рокового. Не раз доказывала она Виталию, что в этой лавине неудержимых элегических аккордов явственно слышится в то же время призыв к борьбе. Человек, неужели тебе не хочется поспорить с судьбой? Неужто не решишься ты бросить ей вызов?! Виталий смеялся, называл это вздором, вольным толкованием абсолютно точного подтекста. И непременно добавлял, что под такую музыку нужно не рассуждать, а кружиться без устали в танце. На то, мол, и вальс. Интересно, что бы он сказал сейчас? Вальс Хачатуряна в невзрачном таежном клубе. Любимая мелодия врача, перекочевавшего из глухомани в центр. Девушка, у которой музыка оживляет в памяти образ этого человека. Чуточку все-таки романтично… Обязательно нужно будет описать все это Виталию в красках. Может даже случиться, что в первый же вечер в Свердловске они с ним будут танцевать этот вальс.
Ударив в последний раз по клавишам и опустив уставшие с непривычки руки, Таня мгновенно почувствовала, что они с Оленькой не одни. Она обернулась. Тотчас же щелкнул выключатель. Щуря глаза, на нее уставились четверо лесорубов, четверо угрюмолицых, насквозь пропахших живицей парней. В грубых брезентовых куртках, грязных и исцарапанных сапогах рядом с новеньким графитно-черным фортепиано они выглядели так же странно, как акварель в серебристой рамке на голой бревенчатой стене. Но больше всего Таню поразило выражение глаз этих людей. Она увидела в них не удивление и не любопытство. Разочарование, горькая досада сквозили в каждом взгляде.
— А мы-то думали, Николай Григорьевич вернулся… — ни к кому не обращаясь, под ноги себе обронил меченный шрамом парень и резким движением нахлобучил на голову ушанку. Он хотел еще что-то сказать, но посмотрел на Оленьку, задержал на ней взгляд и, безнадежно махнув рукой, молча направился к двери. Следом за ним шумно шагнули через порог и остальные.
Таня опустила крышку фортепиано. Недовольно загудела внутри сердитая басовая струна. Вот так-то, обидно кольнуло в груди, играет она наверняка не хуже того врача, а уедет — определенно никто не станет ее вспоминать. Ну и пусть.
— А картину эту тоже он написал? — неожиданно резко спросила она, сама еще не зная толком, что ее так расстроило и отчего вдруг невероятно пасмурно стало на душе.
— Он.
— И вам подарил?
— Мне.
— На прощание?
— Не было у нас прощания.
— Значит, сбежал.
— Не говорите так! — Оленька сжала кулаки. — Вы же ничего не знаете. — На глазах у нее навернулись слезы.
— Простите. Я ведь это не со зла. — Таня закусила губу. Она почувствовала, что краснеет. До чего же теперь неловко. Разве можно так говорить, когда, сразу видно, у человека любовь. Не то что у нее с Виталием, а настоящая, без сомнений. Она попыталась улыбнуться, протянула девушке руку: — Не обижайтесь, Оленька. До свиданья.
По дощатому тротуару Таня заторопилась к телефонной станции. Уже на крыльце не выдержала и оглянулась. В освещенном окне хорошо был виден силуэт Оленьки. Она стояла у пианино и, очевидно, снова вытирала с его зеркально-черной поверхности пыль.
Таня пожала плечами, взялась за ручку двери. Тотчас же за ее спиной раздался знакомый взволнованный голос:
— Доктор, беда!
К ней, спотыкаясь, бежал тот самый шофер, который еще недавно так разозлил ее своими насмешливыми словами: «залетная», «вроде туристки». В ватнике нараспашку, тяжело дыша, он прислонился к столбу и с трудом произнес:
— Скорее в Заречное… С мальчишкой там худо… Мигом домчу…
До Заречного восемнадцать километров. Бездорожье. Надвигается ночь. Нельзя терять ни секунды. Какой уж тут телефон! Таня опрометью бросилась к устало урчащему грузовику. Как хорошо, что при ней чемоданчик с медикаментами и инструмент. Только бы не опоздать!
— Что у мальчишки?
— Не знаю. — Водитель нажал на стартер. Машина, лязгая цепями, выехала на размытую дорогу. — Выбежал из леса человек. Чуть не плачет. Сынишка, говорит, без памяти. Ну, я и развернулся… За вами…
По его разгоряченному лицу струится пот. Он все еще не отдышался. Поэтому Таня больше не задает вопросов.
Машину бросает из стороны в сторону. Встречный ветер яростно хлещет в стекло. Надсадно гудит перегретый мотор. В мигающем свете фар возникают на пути и, стремительно отпрянув, уносятся в ревущую темноту столпившиеся у обочины деревья. В голове, заглушая гуденье мотора, стучит, надрывается одна-единственная мысль: только бы не опоздать.
А шофер, мертвой хваткой стиснув баранку, неожиданно спрашивает смущенно и глухо:
— Оленька как?..
— Что вы сказали?
— Картина висит?
— Висит… — ничего не понимая, Таня пристально смотрит на парня. А тот сдержанно шепчет, почти не разжимая губ:
— Все еще ждет…
— Кого она ждет?
— Николая Григорьевича, кого же еще.
Он щурит глаза, ниже склоняется к баранке. И снова навстречу машине неудержимо несутся непроглядная мгла, горбатая дорога, нахохлившиеся деревья-великаны.
Скорее. Скорее. Скорее! Тревога за больного мальчишку разметала, отбросила прочь все остальные заботы и думы. Но они поодиночке незаметно возвращаются опять.
«Примите заказ на Свердловск»… Ржавый замок… Непонятная девушка… Музыка… Вальс… Незнакомый ей врач, которого все еще помнят и ждут…
— Скажите, зачем он уехал отсюда?
— Зачем? — зло повторяет водитель, и ей кажется, что сейчас он снова насмешливо бросит ей: «барышня». Но парень только сокрушенно качает головой: — Вы ж ни черта не знаете.
— Что я не знаю? — она должна наконец знать!
Шофер не отвечает. Шофер вглядывается в дорогу. Шофер выжимает скорость. Ему не до разговоров. Только отчего-то еще сильнее взбугрились под кожей желваки и резче обозначились на лбу морщинки. Один за другим отлетают километры. Неожиданно его прорывает.
— Пожар тут случился… — глухо роняет он. — Доктор девчонку из люльки спасал… Балкой его… Малышку успел заслонить. А сам…
— И что же? — Тане кажется, будто ее наотмашь ударили по лицу. Только боль отчего-то отдалась в груди.
— Самолетом его — в Свердловск… К койке теперь прикован… — И тут же без перехода: — Двое уже сменилось после него. Разве сравнишь. Мелкота…
Таня желает лишь одного: только бы шофер не отрывал взгляда от дороги. Она знает: трудно будет смотреть ему в глаза.
И слов сейчас таких не найти, чтобы ответить, не кривя, этому грубоватому, занозистому парню. Что ж, может быть, он и прав. А только того мальчишку, который без памяти или в бреду, она все равно поставит на ноги, что бы там ни случилось. Даже если потребуется операция. Даже если нужно будет сделать невозможное.
Это, вероятно, очень трудно — своими руками сделать невозможное. Но ведь легко, наверное, только Ремарка читать, в теплой комнате, на мягкой тахте. Это ведь проще, чем ринуться в пламя. Это ведь приятнее, чем спорить с тайгой…
Вдали заискрились огни Заречного. Последний километр. Таня уже наготовила чемоданчик. Но тут же едва не выронила его из рук. Машину вдруг резко рвануло вбок. Отчаянно забуксовали колеса. «Газик» напрягся, весь задрожал, но только еще сильнее осел кузовом в грязь.
Шофер выругался и, распахнув дверцу, прыгнул в темноту. Под сапогами у него захлюпала вода.
— Вылазьте — приехали. — Он подал ей руку. — Намертво сели.
— Как разыскать мальчишку? — тихо спросила Таня.
— Второй дом у дороги. Справа… — Водитель глянул на ее легкие туфельки, созданные для городских тротуаров, и досадливо поморщился: — Машину оставить нельзя…
— Не беспокойтесь, — прервала его она и, выбравшись на обочину, бросила в сердцах через плечо: — Я ведь туристка.
Он ее окликнул, не успела она сделать и десяти шагов. Подбежал, разбрызгивая грязь. Молча протянул рубчатый китайский фонарь. Их пальцы встретились. И Таня почувствовала, что шофер ободряюще пожал ей руку.