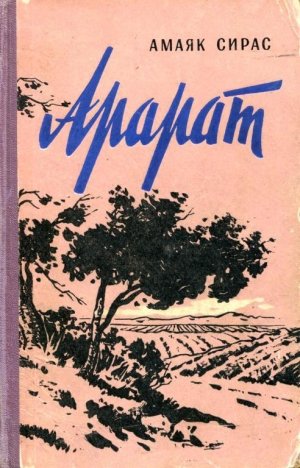
Часть первая
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
Глава первая
УБЕЛЕННЫЕ СЕДИНОЙ
В СЕРЕДИНЕ июня сорок первого года Асканаз возвращался в Ереван после поездки в одно из сел Араратской равнины.
Солнце уже достигло зенита. Древний Аракс, лентой пересекавший поля, отливал расплавленным серебром. Асканаз с живым интересом всматривался во все, что его окружало, словно он впервые видел эти зеленые поля и плодовые сады; следил за стремительным полетом ласточек, неутомимо охотившихся за мошками для своих только что вылупившихся птенцов; наблюдал за муравьями, трудолюбиво укреплявшими стены своего муравейника.
Четырнадцатое число, суббота… Сегодня он был приглашен на обед к своему старому другу. Последние дни перед предстоявшей ему дальней поездкой Асканаз решил посвятить встречам с друзьями.
Статный и широкоплечий, он, несмотря на свои тридцать три года, сохранил юношескую живость. Привычным жестом откидывая упрямо сползавшую на широкий лоб густую прядь волос, он продолжал вглядываться в окрестности.
Сколько раз ходил он по этим местам — и всякий раз, глядя на природу, подмечал в ней что-то новое и непривычное.
Родился он на том берегу Аракса, в Сурмалинском уезде. В двадцатом году, после войны[1], семья Асканаза покинула родные места и вместе с другими беженцами обосновалась на жительство в селении Двин. Асканаз рано лишился родителей. Толкового и способного мальчика любили все односельчане. Уважаемый в селе крестьянин Наапет взял к себе осиротевшего Асканаза и, видя его страстное желание учиться, поместил окончившего сельскую семилетку мальчика в ереванскую среднюю школу имени Мясникяна. В Ереване Асканаз жил в семье родственника Наапета. Семья эта — муж и жена с пятью детьми — занимала небольшую комнату. Асканаз спал в коридоре и там же готовил свои уроки.
Он всей душой привязался к преподавателю истории Жирайру, отлично знавшему свой предмет и пользовавшемуся в школе общим уважением. Жирайр, в свою очередь, обратил внимание на любознательного юношу, часто приглашал его к себе домой и, зная, что у Асканаза нет своего угла, оставлял у себя ночевать. Он-то и внушил Асканазу любовь к истории и стремление углубить свои знания в этой области.
В двадцать седьмом году Асканаз успешно окончил десятилетку и в том же году был принят в Ереванский государственный университет. Сейчас же после окончания вуза его призвали в армию; он год прослужил рядовым, после чего его назначили политработником. Демобилизовавшись из армии, Асканаз вернулся в Двин и стал преподавать историю в той самой сельской школе, которую когда-то окончил. Влюбленный в науку и наделенный незаурядным трудолюбием, он в тридцать девятом году без затруднений сдал экзамен и был зачислен в аспирантуру при кафедре истории советских народов Ереванского государственного университета.
Попутно с занятиями в университете Асканаз начал прилежно собирать материалы для своей диссертации. Темой для диссертации он выбрал «Деятельность районных и сельских ревкомов Армении в годы гражданской войны». В поисках нужного ему материала он не раз ездил в села Арпа, Юва, Рндамал и Иджеван, жители которых были активными участниками гражданской войны 1920—1921 годов. Асканаз беседовал с бывшими членами ревкомов, которые сообщили ему много интересных подробностей жизни того времени; внимательно изучал он и архивные материалы.
Сегодня в два часа Асканаз выехал из села, но в дороге автомашина потерпела аварию. Не дожидаясь, пока водитель исправит повреждение, он решил пешком дойти до Еревана.
Добравшись до города, он направился к вокзалу, вблизи которого жил его знакомый. Здесь он остановился перед одноэтажным домом нового квартала, возникшего за последние годы. Около дома был разбит маленький сад, где заботливая рука хозяина насадила молоденькие фруктовые деревца. На ровных грядках росли разнообразные овощи.
У калитки сада Асканаза встретил коренастый, плотный мужчина лет пятидесяти. Его худощавое лицо было покрыто загаром, в коротко подстриженных усах и волосах уже пробивалась заметная седина. Рукава его желтой холщовой сорочки были высоко закатаны. Завидя Асканаза, он воскликнул, раскинув мускулистые руки:
— Добро пожаловать, добро пожаловать! — и, пожимая ему руку, добавил: — Что же ты так опоздал? Хозяйка наша уже беспокоится… До чего ж ты запылился!
— Ты уж меня извини, Михрдат, поневоле запоздал: машина в дороге стала, пришлось добираться пешком.
— Ладно уж, ладно! Да ты подожди, я почищу тебя…
Он принес щетку и хотел было почистить одежду гостя, но Асканаз воспротивился. Он сам привел себя в порядок, ополоснул руки тут же во дворе, причесался и лишь после этого вошел в дом.
Дом Михрдата был выстроен по дедовскому образцу: парадная дверь открывалась прямо в квадратное просторное помещение, нечто вроде своеобразного холла, которое летом превращалось в столовую, дверь налево вела в большую жилую комнату, направо — в кухню. За кухней находился килар — погреб, где было прохладно даже в самый сильный зной и где хранились продукты, а также вино и студеная вода в глиняных кувшинах.
Асканаз знал, что в этом доме его всегда ждет сердечный прием. Он окинул взглядом стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью и заставленный тарелочками с зеленью, сыром, лавашом и бутылками вина. За стол еще не садились. У окна, склонившись над книгой, сидел какой-то старик. Асканаз посмотрел на него и радостно воскликнул:
— Наапет-айрик[2] как это ты сюда попал?!
— Я-то здесь ежедневно бываю, но ты лучше скажи мне другое: почему молчком-тайком от меня решения принимаешь? Был в селе и хотя бы словом обмолвился, что в далекий путь собрался, а?.. Нельзя так, сынок, ведь я о тебе, как родной отец, заботился. Правда, ты у нас ученый, радуюсь этому, но, быть может, и мы могли бы тебе добрый совет подать… Нет, ты уж не оправдывайся, нехорошо это получилось.
Старик встал, положил книгу на подоконник, слегка похлопал Асканаза по плечу, но его лицо продолжало хранить укоризненное выражение.
Асканаз был очень многим обязан этому человеку. В школьные годы старик по-отечески заботился о нем. Асканаз почитал его не только из чувства признательности и не потому, что вообще привык с уважением относиться к старым людям. Он искренне любил Наапета и сейчас с виноватой улыбкой смотрел на старика, на его выразительное лицо с примелькавшейся ему еще с детства крупной черной родинкой на левой щеке. Асканаз помнил, что Наапету часто советовали отпустить бороду, уверяя, что она будет под стать его густым усам. Но Наапет, не обращая внимания на эти советы, каждую неделю ходил бриться к знакомому парикмахеру.
Асканаз почувствовал, что ему даже как-то приятен упрек Наапета. Старик как бы подчеркивал их близость. Именно поэтому и был особенно мягок тон ответа Асканаза.
— Ты же теперь горожанин, Наапет-айрик! Я пробыл в селе всего несколько минут, но ты был так занят беседой, что я не решился тебя отвлекать… Я хотел встретиться с тобой здесь, в городе, чтобы накануне отъезда досыта наговориться, и, кроме того, решил, чтобы в этот раз ты был моим гостем, а не я твоим. Завтра мы все собираемся у Шогакат-майрик[3].
— Ну ладно, не хочу обижать тебя перед отъездом. Как узнал я от Михрдата, что ты в дальнюю дорогу тайком от меня собираешься, обидно мне стало…
— Скажи-ка лучше, как твое здоровье сейчас? В прошлую встречу ты что-то жаловался… — заботливо спросил Асканаз и пододвинул стул Наапету.
— Э-э… — отмахнулся старик. — С тех пор, как моя старуха отдала богу душу, плохо у меня идут дела. Сам знаешь, до таких лет дожил и не знал, что такое болезнь. А эти последние два года маюсь, как неприкаянный, да и не по душе мне, что чужие руки в доме хозяйничают. А еще ребята на селе пристали: состарился, мол, ты, хватит тебе в поле работать, да и навязали мне на голову колхозный ларек. А эта работа мне не по душе, хоть и стараются меня уверить, что-де легче она да и в городе буду ближе к профессорам, смогу лечиться…
Асканазу было известно, что двинский колхоз часть своей продукции сбывал в городе и имел специальный ларек на ереванском рынке.
— А что же говорят профессора? — заботливо спросил он.
— А что они скажут, сынок? Я лучше их знаю свои болезни — старость и одиночество…
Вслед за Михрдатом в комнату застенчиво вошла небольшого роста пожилая женщина. Всем своим видом она словно говорила: «Лучше не замечайте моего присутствия».
Сатеник, жена Михрдата, была на пятнадцать лет старше мужа. Воспоминания о том, при каких условиях судьба свела их друг с другом, были для них одновременно и самыми тягостными и самыми приятными. Сатеник выглядела намного старше своих лет. Конец головного платка закрывал ей рот. Лишь блеск глубоко запавших глаз оживлял ее увядшее лицо.
Тотчас же встав с места, Асканаз подошел к хозяйке дома и почтительно пожал ее руку.
— Уж извини меня, тикин[4] Сатеник, за опоздание.
— Что ты, сынок, какие могут быть извинения… — тихо произнесла Сатеник и, целуя Асканаза в лоб, добавила: — Я всегда молюсь за тебя…
Придвигая стулья к столу, Михрдат обратился к Наапету и Асканазу:
— Милости прошу, пожалуйте, пора уже сесть за стол!
— А где же Габриэл? — спросил Асканаз.
— Э-э, мой Габриэл стал настоящим блудным сыном! — с добродушной улыбкой сказал Михрдат. — Не знает ни времени, ни часа.
— А ты еще Асканаза упрекал за опоздание! — вмешался Наапет. — И у тебя сын не лучше, как я погляжу.
— Асканаза все знают как аккуратного человека, поэтому мне показалось странным его опоздание. А наш Габриэл — жеребчик необъезженный, с него спрашивать трудно…
— Подождем еще немного! — прервал его Наапет и, взяв книгу с подоконника, стал ее перелистывать.
Михрдат не стал возражать.
— Что это ты читаешь? — заинтересовался Асканаз.
— Не читаю, просто так смотрю, глаза плохо видят. Но книга эта неподходящая для тебя. Ты лучше посмотри другие…
На широком подоконнике было сложено больше двух десятков книг. Перебирая их, Асканаз вполголоса читал названия: «Хаос» Ширванзадэ, «Ануш» Туманяна, «Избранные произведения» Исаакяна, «Самвел» Раффи, «Мать» Горького, «Раны Армении» Хачатура Абовяна, «О молодежи» Ленина, «Хаджи Мурат» Толстого, «Знакомые» Дереника Демирчяна…
— Это книги Габриэла, — заметил Михрдат.
Асканаз обратился к Наапету:
— А ты какую книгу смотришь, айрик?
— Она неподходящая для тебя.
Асканаз поглядел — Наапет держал в руках библию.
— А для тебя она, значит, подходящая?
— Ну, мое дело другое, приходилось ее в свое время почитывать. Вот попалась она мне здесь на глаза — дай, думаю, вспомню старое, посмотрю. Она, оказывается, на константинопольском наречии написана, а я не знаю его! Та библия, которую я когда-то читал, на эчмиадзинском языке[5] была написана, в нем я кое-как разбирался…
Асканаз взял в руки книгу. Старое издание; на последней, чистой странице было написано от руки: «На память от посаженного отца Манаваза Абрааму и Сатеник в день их бракосочетания. Лето 1891, город Багеш». Асканаз прочел эту надпись вполголоса и невольно бросил взгляд на Сатеник. Та опустила голову и краем фартука вытерла глаза.
Полвека назад, пятнадцатилетней девушкой, Сатеник вышла замуж за Абраама. И муж и ее посаженный отец Манаваз погибли в годы первой мировой войны, во время резни армян. Михрдат был вторым мужем Сатеник.
Заметив, что дарственная надпись на библии вызвала неприятные воспоминания у Сатеник, Асканаз отложил библию, взял «Раны Армении» и обратился к Наапету, чтобы переменить тему разговора:
— Ну, а здесь язык понятный, не так ли?
Наапет взглянул на книгу, погладил переплет и сказал:
— Конечно! Приятен голос нашего Абовяна, упокой господь его душу! И теперь частенько заставляю детей читать его мне вслух, перебираю в памяти давно прошедшие дни. А как написано про Агаси! Вот молодец был, право, молодец… — И он обратился к Сатеник и Михрдату: — Душа радуется, когда смотришь на теперешнюю молодежь: каждый из молодых — словно новый Агаси! Сатеник, Михрдат, берегите Габриэла, он парень славный.
Услышав имя сына, Сатеник просветлела, слегка отодвинула повязку, закрывавшую ей рот, и вздохнула.
— Да, трудно понять теперешнюю молодежь, — пожал плечами Михрдат. — Сколько ни твержу Габриэлу: приведи, мол, свою суженую, чтоб поглядеть на нее, обдумать, как быть дальше, — не признается ни мне, ни матери. «Нет еще у меня, говорит, никакой суженой».
Сатеник пробормотала:
— Запала ему в душу любовь, — умереть бы мне за сынка моего!..
— Ну, хватит ждать! — распорядился Михрдат. — Пожалуйте к столу. А ну-ка, жена, воздай честь дорогим гостям.
На этот раз не стали возражать ни Наапет, ни Асканаз и заняли места за столом, друг против друга.
Пока Михрдат разливал вино в стаканы, Сатеник поспешила на кухню и вскоре вернулась, неся миску, над которой поднимался пар; по комнате разнесся аппетитный запах толмы. Хозяйка с особым старанием приготовила любимое блюдо ереванцев — мясной фарш, завернутый в нежные, молодые виноградные листья. Михрдат поднял стакан и предложил привычный тост:
— Будем здоровы все!
Наапет и Асканаз звонко чокнулись с Михрдатом.
— Сестрица Сатеник, — обратился к хозяйке Наапет, — когда же ты сядешь за стол вместе с нами?!
Поблагодарив кивком головы, Сатеник тихо отозвалась:
— Кушайте на здоровье.
— Она установила правило — куска в рот не положит, пока все домашние не поедят! — объяснил Михрдат, по опыту знавший, что никто не в силах заставить жену изменить установленный порядок. — Теперь будет ждать Габриэла.
Асканазу не впервые было обедать в этой семье, и он хорошо знал привычки Сатеник. Отведав толмы, он с восхищением промолвил:
— Какая вкусная получилась у тебя толма, тикин Сатеник!
Сатеник улыбнулась, довольная похвалой. Коснувшись рукой Асканаза, она сказала:
— Кушай на здоровье, родной! Нарочно мало тебе положила, чтобы не отбить аппетита: на второе у меня жареная курица…
— Свидетель бог, грех портить вкус такой толмы, съев после нее еще что-нибудь, — заметил Наапет.
— Ой, ослепнуть бы мне… — всполошилась Сатеник и поспешила на кухню. Она вернулась с новой миской толмы, откуда наложила щедрую порцию на тарелку Наапета.
Наапет ладонью расправил усы и, подняв стакан, обратился к Сатеник:
— Сестрица Сатеник, не мало ты натерпелась в жизни. Но раз даровала тебе судьба такое счастье, как заботливого мужа и хорошего сына, — довольно горевать. Теперь и тебе, и мне лишь одно остается пожелать — чтоб судьба пощадила нас и мы больше не знали горя.
— Да услышит и исполнит твое пожелание господь, — тихо отозвалась Сатеник.
После этого выпили за Наапета, пожелали Асканазу благополучного путешествия, Михрдату — здоровья, а отсутствующему Габриэлу — счастливой жизни.
В заключение Сатеник подала клубнику.
Михрдат помог жене убрать посуду со стола, вставил папироску в длинный мундштук и с наслаждением закурил.
Наапет достал из кармана четки; перебирая их, он подошел к окну и обратился к Асканазу:
— Погляди-ка, как ясно видны обе вершины Арарата!
— Да, чудесно. Дом Михрдата хорош тем, что стоит выглянуть в окно — и перед тобой оба Арарата!
— Десять лет гляжу на них и не могу налюбоваться! — подхватил Михрдат.
Все трое вышли во двор, уселись на длинную скамью и с минуту молча глядели на заветную гору. Чуть видная тучка медленно плыла по небу между Большим Араратом и Малым.
— Действительно, можно всю жизнь любоваться этой картиной и она не надоедает: ведь каждый час Арарат выглядит по-иному… — произнес Асканаз.
— Он сейчас похож на старого льва… — заметил Михрдат, выпуская дым из ноздрей. — Гордого, величавого льва!
— А в облачные дни оба Арарата кажутся головными верблюдами каравана…
— А то словно огромные головы сахара среди поля!
Наапет, молча слушавший их, собрал в ладонь четки и внушительно сказал:
— Арарат похож только на самого себя и больше ни на кого!
Михрдат промолчал. Асканаз задумался на минуту, взглянул на суровое лицо старика и заметил:
— Нет человека, который, глядя на Арарат, не подыскал бы ему сравнения.
— Но никто не понимает, что такое Арарат! — уверенно возразил Наапет.
— То есть?
— Не понимают, что Арарат похож только на самого себя. Он — пророк!
Асканаз обычно не прекословил старику. Он молча ждал, чтобы Наапет пояснил свою мысль.
— Ну да! — с воодушевлением продолжал Наапет. — Арарат — это мудрый пророк. Ведь Ной, приставший со своим ковчегом к его вершине, так и сказал ему: «Исполнись мудрости, гора избранная!» И когда бы ни привиделся мне во сне Арарат, он всегда беседует со мной, словно живой человек. И на следующий день обязательно случается что-либо хорошее! А ну, взгляни внимательно на него: вершина у него белая — знак справедливости и мудрости, у подножия — зеленеющие поля, в долинах — цветы, — это уж знак неувядаемой жизни. Он словно хочет сказать: «Люди, будьте подобно мне справедливыми и мудрыми, и жизнь ваша будет цвести во веки веков».
— Сравнение определяет не столько описываемое, сколько описывающего, — улыбнулся Асканаз.
— Ты что-то сказал, сынок? — откликнулся Наапет: увлеченный своими мыслями, он не расслышал Асканаза.
— Говорю, сравнение хорошее, но каждый человек кузнец своего счастья.
Асканаз бросил взгляд на белую вершину Арарата, затем перевел взгляд на седую голову Наапета. Погруженный в мысли старик, казалось, ведет тайную беседу с заветной горой. Чудилось, что и Арарат, в свою очередь, пристально смотрит на Наапета и два среброглавых старца понимают друг друга…
Сатеник тревожно сновала возле дома, не спуская глаз с садовой калитки. Но вот лицо ее прояснилось: показался Габриэл с товарищем. Габриэл походил на отца, но был выше его ростом. Михрдат хотел было упрекнуть сына за опоздание, но, видя веселое настроение молодых людей, ничего не сказал.
— Асканаз, — заметил товарищ Габриэла, — ведь сегодня доклад Вртанеса! Если хочешь попасть туда, нужно уже идти: остался всего час до начала.
— Как же так, Ара?! — упрекнул юношу Михрдат. — Я-то думал, что ты к нам в гости пришел, а выходит, что ты нашего гостя похищаешь!
Ара залился румянцем. Этот стройный, красивый юноша с тонкими чертами лица был застенчивым, словно девушка. В кругу друзей его часто называли «Ара Прекрасным».
— Я не знал, что сегодня доклад Вртанеса, — вместо него отозвался Асканаз. — Тогда надо торопиться.
Михрдат счел неудобным возражать: Вртанес, старший брат Ара, — известный писатель, и понятно было желание Асканаза попасть на его доклад.
Между тем Сатеник, отозвав в сторону Габриэла, выпытывала у него, обедал ли он. Как ни заверял ее Габриэл, что он пообедал у матери Ара, Сатеник не унималась.
— Позови Ара, скушайте хоть немного…
— Да нет, мама-джан, в горло не полезет. Не задерживай нас, нам нужно идти!
— Ох, опять идти… Да когда же ты дома посидишь?! Я не вижу тебя совсем! Да вы хоть фруктов отведайте…
Габриэл со смехом поцеловал мать и побежал к товарищу.
Асканаз собрался уходить вместе с Ара и Габриэлом. Он пожал руку Сатеник и заглянул в ее печальные глаза.
— Спасибо, тикин Сатеник, увидимся осенью.
— Счастливого пути тебе, родной, пусть розы расцветают на твоем пути!
Асканаз прижал к устам морщинистую руку доброй женщины, а она поцеловала его в лоб, отирая слезы на глазах.
— Наапет-айрик, я не прощаюсь с тобой: завтра ты и Михрдат — мои гости. Соберемся у Шогакат-майрик!
Когда молодые люди вышли из сада, Сатеник, которая редко переступала порог своего дома, выбежала на улицу и долго смотрела им вслед.
— Господь милостивый, сохрани моего Габриэла, да будет он опорой отцовского дома, да найдет свое счастье с хорошей девушкой из достойной семьи, — шептала она.
Глава вторая
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ
Асканаз, Ара и Габриэл добрались до парка «Флора» уже к восьми часам вечера. Зал недавно отстроенного деревянного летнего театра был переполнен. Те, кто не попал в зал, толпились в дверях. Молодые люди с большим трудом пробрались в зал через боковой вход и, не найдя свободных мест, кое-как пристроились на приставных стульях.
В то время как члены президиума усаживались за стол, председательствующий заметил Асканаза и пригласил его подняться на сцену. Асканаз прошел в президиум и сел на крайний стул в третьем ряду. Через несколько минут на сцену вышел Вртанес — склонный к полноте мужчина лет сорока с умным широким лбом.
Асканаз хотел было окликнуть Вртанеса, но, заметив его озабоченный вид, решил не отвлекать его. Вртанес, прежде чем сесть, оглянулся, заметил Асканаза и приветливо кивнул ему.
Вместе с тридцатью другими писателями и литературоведами Армении Вртанес только что вернулся из Москвы после окончания декады армянской литературы. Итогам этой декады и был посвящен его доклад.
Несмотря на вечернюю прохладу, в зале было душно: собралось свыше тысячи человек. Вртанес чувствовал, что глаза многих присутствовавших пристально следят за ним. Он тщательно подготовил свой доклад, а многое даже написал заранее; но теперь, видя разнородную аудиторию, начал тревожиться: сумеет ли он заинтересовать своих слушателей? Беспокойство его усиливалось при мысли, что голос может изменить ему… Он окинул испытующим взглядом зал, увидел много знакомых лиц. Ласковая улыбка мелькнула на его лице, когда он заметил стоявшего перед рампой Ара. Вртанес знал, что младший брат гордится им. Значит, нужно не уронить себя в его глазах.
Прозвучал звонок председателя. Сразу стало тихо, — а этого не так-то легко достигнуть во время таких многолюдных собраний. Услышав, что слово для доклада предоставляется ему, Вртанес встал с места и медленно подошел к трибуне.
Разложив перед собой листки, он спокойно начал говорить. Первые несколько минут он с тревогой ждал, что вот-вот из задних рядов послышатся восклицания: «Громче!», «Ничего не слышно!». Но нет, никто его не прерывал. Вртанес ободрился — значит его голос доходит до слушателей. Он рассказал о теплом приеме, который им оказали москвичи, и затем продолжал:
— У нашего народа были мужественные сыны, которые, не задумываясь, жертвовали своей жизнью во имя родины. С оружием в руках защищали они честь армянского народа, святость родного очага, право родной страны на существование. Но одновременно у нас было и иное оружие, которое придавало силу руке воина, вдохновляло упавшего духом и внушало веру в светлое будущее. Этим оружием была наша культура!
Наши летописцы, наши писатели были соратниками наших воинов. И когда меч выпадал из рук воина, летописец и писатель брали в руки тростник или перо и огненным, неугасимым словом оживляли веру и надежду в сердцах людей.
И эти писатели достигали своей цели: не только люди передовые, но даже и неграмотные научились ценить родную письменность. Мне вспоминается такой случай. Восьмилетним ребенком я проходил по улице села. Впереди меня брела какая-то старуха. И вдруг я заметил, что она с трудом нагнулась и подняла с земли печатный листок, вырванный бог знает из какой книги. Она близко поднесла к глазам этот листок, бормоча: «Написано что-то… может быть, какие-нибудь хорошие слова… Дам учителю, пусть спрячет! Ведь небось пишут только истинное, а истину топтать под ногами нельзя…»
Вртанес умолк, перевел дух, отпил воды и снова заговорил:
— И многовековая культура и физическое существование нашего народа подвергались смертельной опасности в дни первой империалистической войны. От окончательной гибели нас спасла лишь Великая Октябрьская революция. Армянский народ пошел по дороге, проложенной великим русским народом, пошел по пути, указанному Лениным. Мы залечили наши раны и с новым воодушевлением начали развивать нашу культуру.
Заканчивая свой доклад, Вртанес сказал:
— Мы являемся законными наследниками нашей многовековой культуры, и мы обязаны отдать все силы делу создания культуры нашей эпохи. В наших рядах не должно быть места равнодушным верхоглядам и беспринципным бумагомарателям. Мы обязаны создать такие произведения, чтобы грядущие поколения вспоминали о нас с чувством гордости!
После Вртанеса и другие писатели рассказали, как проходила московская декада.
Торжественная часть собрания была закончена. Объявили перерыв.
Асканаз подошел к Вртанесу, пожал ему руку, и они вместе вышли.
— Ну, что скажешь? — спросил Вртанес, отирая платком пот со лба.
Асканаз улыбнулся:
— Твой доклад понравился даже… — и он назвал имя одного из членов президиума, академика, известного своей придирчивостью.
Но в этот вечер Вртанес был исполнен дружелюбия ко всем и без всякой задней мысли сказал:
— Да, надо бы повидаться с ним и поблагодарить за то, что он оказал мне любезность, оставшись до конца доклада.
Прогуливаясь по аллеям парка, они встречали знакомых, и Вртанес с детской радостью выслушивал похвалы. Они уже собирались войти в зал, когда, оттолкнув в сторону Асканаза, кто-то преградил дорогу Вртанесу с громким криком:
— Что это за безобразие, товарищ Вртанес?!
Пред Вртанесом стоял юноша лет двадцати пяти, с круглым, полным лицом и узким лбом. У него были неестественно широкие веки, которые почти закрывали глаза. Асканазу не хотелось, чтобы хорошее настроение Вртанеса было испорчено. Зная подошедшего к ним юношу, он был уверен, что его негодование вызвано каким-нибудь пустяковым поводом, и поспешно сказал:
— О безобразиях поговорим после, товарищ Тартаренц: уже дали третий звонок, опоздаем на второе отделение…
— А я не к вам обращаюсь, товарищ Асканаз, а к Вртанесу. То, что я хочу сказать, касается именно второго отделения, — сердито прервал его Тартаренц и снова обратился к Вртанесу: — Я вас спрашиваю: что это за безобразие?
— А что случилось? — спокойно спросил Вртанес.
— А то, что председатель не поставил мои стихи в программу, а у меня чудесный материал. Что ж получается?.. Одному разрешают выступить, да еще артистам поручают читать стихи, а меня и вовсе лишают слова!
— Мне об этом ничего не известно.
— Так вот, я вас ставлю в известность! Давайте пойдем, скажите там распорядителю, чтоб мне дали слово… Ничего, если и опоздаете немного!
— Да ведь я тут не волен решать! — попробовал возразить Вртанес.
— То есть как это не вольны?! Вы же докладчик, они вас послушаются. Скажите им, пусть лучше кончат дело миром, а то все равно я своего добьюсь и выступлю!
Асканаз попробовал было вмешаться, но из этого ничего не вышло: Тартаренц не желал слушать увещеваний и стоял в такой позе, что пройти в зал можно было лишь оттолкнув его. А на это не были способны ни Асканаз, ни Вртанес.
— Я вам говорю, что одного вашего слова будет достаточно… Пойдемте со мной, — твердил Тартаренц.
— Ну хорошо, идите и попросите распорядителя от моего имени, чтобы вас внесли в список выступающих… — вынужден был уступить Вртанес.
Тартаренц потер лоб, взвешивая в уме, получится ли что-либо из этого или нет. Воспользовавшись его замешательством, Асканаз подтолкнул Вртанеса и сам вслед за ним быстро прошел в зал. Тартаренц закричал было Вртанесу: «Записку дайте, записку!», но контролер захлопнул дверь перед самым его носом, и Тартаренц кинулся ко второму входу — за кулисы.
Вртанес и Асканаз сели в ложе. Занавес был уже поднят. Один из поэтов читал свое стихотворение. Вртанес поглядывал то на сцену, то туда, где сидела Ара и Габриэл. Встречаясь с сияющим взглядом младшего брата, он старался забыть о неприятном разговоре с Тартаренцем.
Асканаз сперва внимательно слушал выступления, избегая смотреть в зрительный зал. В последнее время он держался очень замкнуто и ни с кем не хотел встречаться, кроме близких людей. Но когда в зрительном зале начали громко аплодировать одному из артистов, Асканаз невольно обернулся. Сидевшие рядом с Ара и Габриэлом две девушки словно этого и ждали: они перестали аплодировать и обе пристально посмотрели на него. Мысленно повторив имена: «Маргарит… Ашхен…», Асканаз как-то сразу помрачнел. Он словно забыл о том, где находится, и отдался воспоминаниям.
Вртанес не замечал душевного состояния Асканаза. Он то и дело вполголоса делился с ним своими впечатлениями, не обращая внимания на то, что Асканаз отделывается односложными ответами.
С минуту сцена оставалась безлюдной. Исчез и конферансье. В задних рядах тут и там слышались нетерпеливые хлопки. Вдруг на сцену вышел Тартаренц. Хотя в это время никто уже не хлопал, он несколько раз поклонился и, достав из кармана какой-то листок, начал читать свое стихотворение. Он произносил слова в нос, и смысл многих строк почти не доходил до слушателей. Чувствуя неловкость за него, Вртанес старался ни на кого не смотреть; до него доносились лишь отдельные слова: «свод», «любовь», «вино», «чаша»…
Вновь наступило молчание. Тартаренц не хотел покидать сцену — он ждал аплодисментов, но в зале слышался лишь неодобрительный гул. Вртанес чувствовал себя так, словно слышал упрек: «Это ты помог ему выйти на сцену!»
А Тартаренц не сдавался. Выхватив из кармана другой листок, он принялся читать новое стихотворение. И опять до слуха зрителей доносились лишь отдельные слова, лишенные смысла. Но вот Тартаренц прочистил горло и, уже не глядя в бумагу, начал говорить:
— У нас — масса достижений. И если враг будет угрожать нашей священной отчизне, мы своей грудью отстоим завоевания социализма, именно своей грудью! — повторил он и ударил себя рукой в грудь.
Послышались редкие хлопки. Тартаренц раскланивался до тех пор, пока в зале не воцарилось полное молчание.
Когда он наконец удалился, Вртанес с облегчением вздохнул.
Начался концерт. Вртанес вместе со всеми восторженно аплодировал исполнителям народных песен (приглашены были лучшие силы столицы).
Был уже двенадцатый час, когда концерт кончился. Публика по аллеям парка направилась к выходу.
Вртанес и Асканаз собрались покинуть парк, когда к ним подошли Ара, Габриэл и Тартаренц вместе с темя двумя девушками, присутствие которых в зрительном зале так смутило Асканаза. Стараясь ничем не выдать своего волнения, он поздоровался с ними. Первая из них — Ашхен, стройная, с горделивой осанкой — три года назад вышла замуж за Тартаренца. У нее уже был маленький сын. Ее спутнице Маргарит казалось на вид лет двадцать. Этой тоненькой девушке с нежным лицом особую прелесть придавали пышные черные волосы. Прильнув к плечу Ашхен, она что-то нашептывала ей на ухо.
При виде Тартаренца на лице Вртанеса появилось недовольное выражение. Асканаз, которому не терпелось остаться одному, спросил Вртанеса:
— Значит, завтра собираемся у Шогакат-майрик?
— Да нет! — воскликнул Вртанес, радуясь возможности поговорить на другую тему. — Мы же изменили решение! Соберемся у меня!
Асканаз не стал возражать. Обратившись к Ара, он лишь справился о том, все ли знают, где собираться.
— Мне уже известно! — вмешался Тартаренц. — Я заготовил кое-что, чтобы прочесть в связи с твоим отъездом. Наверное, ты обратил внимание, как меня горячо принимали слушатели? А этот безмозглый распорядитель еще не хотел выпускать меня на сцену!..
Ашхен потянула его за рукав. Тартаренц отдернул руку и сердито посмотрел на жену. Делая вид, что не замечает молчаливой ссоры супругов, Асканаз обратился к Габриэлу:
— Габриэл, ты вместе с отцом и Наапетом завтра явишься прямо к Вртанесу, хорошо?
— А где же Зохраб и Егине? Почему их не видно? — обратился Вртанес к Ара (речь шла о их среднем брате, хирурге, и его жене).
— Егине я видел в перерыве. Она сказала, что Зохраба срочно вызвали в больницу: произошел несчастный случай, необходима была операция.
— Вот оно что… — задумчиво кивнул головой Вртанес.
— Что за нелепость быть врачом! — воскликнул Тартаренц, — Подумайте только, человек не принадлежит себе, каждую минуту могут вызвать по всякому, поводу!
— А разве мало значит спасти жизнь человека? — возразила Ашхен.
— А ты и рада прицепиться к случаю, чтобы возразить мне! — грубо бросил ей Тартаренц.
— Я собираюсь домой. Ты идешь? — спокойно спросила Ашхен.
— Нет. Я еще здесь задержусь, — заявил Тартаренц и, попрощавшись, удалился.
Пожав руку Вртанесу, Ашхен повернулась к Асканазу и, стараясь поймать его взгляд, мягко спросила:
— Значит, ты твердо решил уехать, Асканаз?
— Да, Ашхен, — кивнул головой Асканаз.
Он, в свою очередь, пристально взглянул на нее, но ничего не прочел на ее, как всегда, горделивом лице.
Ара и Габриэл пошли провожать Ашхен и Маргарит. Взяв под руку Асканаза, Вртанес сказал:
— Не хотелось бы омрачать завтрашний день присутствием этого… Тартаренца, но… нельзя обижать Ашхен.
— А-а, ты о Тартаренце?.. — рассеянно отозвался Асканаз. — Ну, он неисправим, Дома-то он мешать не будет, но в делах общественных с ним надо быть построже.
Вртанес понял намек, но ему нечего было возразить. Асканаз и до этого не раз упрекал его в излишней мягкости.
На углу улицы Агаяна они расстались.
Оставшись один, Асканаз глубоко вздохнул и медленно направился домой. На него нахлынули тяжелые воспоминания.
Глава третья
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Комната, которую занимал Асканаз, находилась на третьем этаже нового дома. Он жил в ней один. Соседи уже спали. Зайдя в комнату, он зажег свет, снял шляпу и пиджак и подошел к письменному столу. Пыль тонким слоем лежала на столе. Асканаз машинально взял тряпку, стер пыль, привел в порядок наваленные в углу стола книги и сел, охватив голову руками.
Несколько минут он пристально смотрел на карточку в рамке справа от чернильницы, затем протянул руку, взял снимок и стал его разглядывать. С омраченным лицом он положил снимок обратно.
На снимке были сняты три девушки. С двумя из них — Ашхен и Маргарит — он только что расстался на улице. Третья, Вардуи, чуть склонив к плечу голову, смотрела на него со снимка ласковым, проникающим в душу взглядом. Асканаз не в силах был оторваться от карточки. И чем больше он смотрел на нее, тем больше сжималось его сердце.
…Ашхен и Маргарит подружились с Вардуи, когда она переходила на второй курс университета. Сами они только что кончили десятилетку. Постепенно дружба их так окрепла, что каждой из них были известны задушевные мысли и переживания другой. Отправившись после выпускных экзаменов в туристскую поездку по Армении, Ашхен по возвращении совершенно неожиданно вышла замуж. Избранником ее оказался юноша, с которым она познакомилась во время этой поездки. На она так и не сумела объяснить подругам, что могло сблизить ее с Тартаренцем и почему она решила выйти за него замуж.
Узнав о том, что Ашхен вышла замуж, Маргарит и Вардуи несколько дней ходили как потерянные, опасаясь, что их дружбе с Ашхен пришел конец. Но это продолжалось всего несколько дней, они скоро убедились, что все осталось по-прежнему.
Тартаренц как-то после женитьбы зашел к Вртанесу вместе с Ашхен. У Вртанеса был и Асканаз, незадолго до этого начавший читать лекции в университете. Своей удивительной красотой Ашхен поразила воображение Асканаза, но он постарался ничем этого не выдать. Тартаренц любил посещать знакомых и пользоваться их гостеприимством, но сам избегал приглашать гостей. Ашхен понимала, что это посещение обязывает ее и, вопреки желанию мужа, пригласила к себе на обед Вртанеса и Асканаза. Именно у Ашхен Асканаз и познакомился с Маргарит и Вардуи.
Вардуи… С первой же встречи эта девушка покорила Асканаза. В ее синих глазах таилось такое неотразимое очарование, что Асканаз полностью отдался пылкому чувству первой любви. Они часто встречались у знакомых, нередко вместе ходили в кино и в театр, посещали литературные вечера, но Асканаз все не находил повода для объяснения. Но вот как-то случилось, что они вместе поехали отдыхать летом на озеро Севан.
В доме отдыха Асканаз и Вардуи не только ежедневно встречались, но почти все время проводили вместе и в столовой сидели рядом.
После завтрака Вардуи обычно уходила на женский пляж. Мужчины купались поодаль от женщин или же на другом берегу.
Как-то раз во время купанья один из юношей сказал:
— Слушайте, ребята, а ведь судьба забросила к нам на остров настоящую Афродиту. Честное слово, у нее такая фигура, что даже в музее не увидишь…
И он назвал имя Вардуи.
Асканаз вспыхнул от возмущения. Не повышая голоса, он резко спросил:
— Значит, ты подсматриваешь за женщинами, когда они купаются?
— Сказал тоже! — хладнокровно возразил юноша. — В прошлом году в Крыму я купался всегда на одном пляже с женщинами.
— Ну, на всяком пляже свои нравы, — пренебрежительно бросил Асканаз.
— Я же не специально подсматривал за Вардуи, увидел случайно, когда проходил мимо… — оправдывался юноша.
— Предположим, что случайно, но рассказывать об этом непристойно! — резко заметил Асканаз и вошел в воду. Он уже не слышал, как за его спиной кто-то из отдыхающих вполголоса объяснял юноше отношения Асканаза и Вардуи.
Перед обедом Вардуи с восторгом показала Асканазу горсточку камней, которые она собрала на берегу. На этих камешках, величиной не больше желудя или каштана, природа с удивительным искусством нарисовала листья и цветы, самые причудливые узоры. Асканаз осторожно, по-одному брал из нежной ладони Вардуи камешки и внимательно рассматривал их.
— Возможно, наши древние миниатюристы что-то заимствовали от них, — задумчиво предположил он.
— Древних миниатюр я не видела, — проговорила Вардуи. — Но трудно поверить, чтобы рукой человека можно было нарисовать нечто подобное.
— В одном ты права, Вардуи: с природой трудно соперничать! — и Асканаз взглянул на Вардуи, как бы говоря: «Вот еще одно творение природы. Чья кисть могла бы нарисовать такое лицо?!»
После обеда, подчиняясь правилу о «мертвом часе», Асканаз прилег на свою кровать. Вардуи все время была у него перед глазами. Держа в руке камешки, взятые у Вардуи, он рассматривал их и незаметно прижимал к лицу, словно желая почувствовать прикосновение ее, рук. Сейчас он снисходительно вспоминал даже того юношу, который с таким восхищением говорил о Вардуи, сравнивая ее с Афродитой.
Прошло шесть дней со дня их приезда на остров. Встречаются они только в присутствии других. Такие встречи уже не удовлетворяют Асканаза. Нет, нет, довольно, он должен поговорить с ней, открыть ей свое сердце! Пусть все знают, что он не только интересуется этой девушкой, но и любит ее! Его радости не было предела, когда Вардуи охотно приняла его предложение покататься на лодке вокруг острова.
Близился вечер. Лениво накатывали на берег волны Севана. Асканаз засучил рукава, помог Вардуи сесть в лодку, столкнул лодку в воду, вскочил в нее и взялся за весла. Девушка опускала в воду то одну, то другую руку, по-детски радуясь плещущей волне, любуясь отсветом угасающего солнца. Они подплыли к подножию высокого утеса, где полоска пологого берега была покрыта мелким песком. Не спрашивая разрешения у Вардуи, Асканаз направил лодку к берегу.
— Здесь редко кто бывает, можешь набрать кучу своих любимых камешков, — объяснил Асканаз, помогая Вардуи сойти на берег.
Асканаз любовался зарумянившимся лицом девушки. Глаза ее, казалось, вобрали синеву озера, а нежные губы напоминали два лепестка розы. Почувствовав, что его влечет к Вардуи какая-то неотразимая сила, Асканаз отпустил ее руку и отошел. Пока Вардуи, сидя на песке, выбирала наиболее красивые камешки, Асканаз вскарабкался на утес. Найдя в расщелине скалы гнездо горлинки, он взял из него двух птенцов и спустился вниз.
— На… — проговорил он, протягивая Вардуи птенцов.
— Ах, Асканаз, зачем ты взял их из гнезда? Посмотри, как они дрожат…
Асканаз смутился — ведь он хотел доставить ей удовольствие! Вардуи встала, тихонько прижала птенцов к груди и, вытянув губы, осторожно поцеловала их в головки.
— Я не заметила, откуда ты их взял. Нельзя их положить обратно в гнездышко, Асканаз?.. — попросила она.
В ее словах Асканаз почувствовал упрек. Он взял птенцов, бережно положил их за пазуху, направился к подножию скалы и стал карабкаться наверх. Вардуи с тревогой следила за ним.
— Осторожней, Асканаз…
Схватившись за выступ скалы, Асканаз взглянул вниз и увидел полное тревоги лицо Вардуи. Он осторожно положил птенцов обратно в гнездо, погладил их и, спустившись на несколько метров, спрыгнул вниз.
Начинало темнеть. Держась за руки, они смотрели на синеющие воды озера. Вардуи предложила вернуться домой.
— Подожди, Вардуи, побудем еще немного! — молил Асканаз.
— Неудобно… поздно уже! — нерешительно пробормотала девушка.
— Прошу тебя…
Асканаз нагнулся к Вардуи. Лицо у нее вспыхнуло, но она не отстранилась.
— Родная, я не могу больше молчать! — шепнул Асканаз. — Люблю, люблю тебя…
Вардуи потупилась. Камешки из ее рук посыпались наземь.
Асканаз не в силах был более сдерживаться; он обнял ее, прижался к губам девушки.
Вардуи отстранила его, опустилась на песок. На глазах у нее заблестели слезы. Растерявшийся Асканаз с тревогой смотрел на нее. Неужели он чем-то ее оскорбил?!
— Вардуи, прости меня… Ведь мы любим друг друга…
Вардуи вытерла глаза, встала и тихо сказала:
— Вернемся…
Асканаз не посмел возражать. Через несколько минут они уже плыли по озеру. Лодка мягко скользила по волнам. До самой пристани они не обменялись ни одним словом.
В маленьком доме, где отдыхает обычно не больше ста человек, взаимоотношения людей бросаются в глаза. Все знали, что Асканаз и Вардуи — влюбленная пара, и никому не приходило в голову злословить о них. В этот вечер, однако, Вардуи казалась очень рассеянной, она ни с кем не, вступала в разговоры и тотчас же после ужина ушла в свою комнату. Это дало повод предположить, что между влюбленными произошла какая-то размолвка.
Асканаз всю ночь не сомкнул глаз. Почему Вардуи избегает его? Но ведь он не мог, нет, не мог поступить иначе! Они были наедине, он не мог больше откладывать своего объяснения!.. Лишь под утро ему удалось немного вздремнуть. Проснувшись и отказавшись от завтрака, он пошел искать Вардуи. Ему надо во что бы то ни стало поговорить с ней!
Вардуи сидела на балконе с одной из своих подруг. На ее коленях лежала книга. Подойдя к ним, Асканаз поздоровался и, извинившись перед ее соседкой, отозвал Вардуи в сторону. Он заглянул ей в глаза, и сердце его затрепетало: Вардуи смотрела на него с улыбкой, значит она не сердится на него.
Они вместе поднялись на одну из вершин. Дул свежий утренний ветерок. Над головой у них простиралось безоблачное небо, у ног лежало спокойное озеро. Асканаз в нескольких словах поведал Вардуи все, что он передумал за бессонную ночь. И Вардуи поняла его. Решено было, что по возвращении в город Асканаз познакомится с родителями Вардуи и затем они назначат день свадьбы.
Вскоре все в доме отдыха узнали, что Вардуи и Асканаз собираются пожениться, и пришли к единодушному мнению, что более подходящую пару трудно найти.
Как-то раз они снова поехали на лодке к той скале, у подножия которой Асканаз впервые поцеловал Вардуи. Вокруг скалы кружились горлинки, они то опускались, то вновь взлетали, трепеща крыльями.
— Смотри, Асканаз, быть может, это те самые птенцы…
— Что же, возможно. Мне хотелось тогда, чтобы ты поглядела на них вблизи… А ты рассердилась на меня.
— Асканаз… — помолчав, нерешительно произнесла Вардуи.
— Я слушаю тебя, дорогая.
Вардуи вздохнула, нагнувшись, набрала горсть мелких камешков и стала по-одному бросать их в море. Асканаз схватил ее за руку:
— Ты же хотела мне что-то сказать!
— Да ничего, мелькнула глупая мысль.
— Ну скажи, Вардуи!
— Я все думаю, Асканаз… Ведь если природа бессмертна, почему же человек смертен?!
Асканаз понял, что она не досказала занимавшую ее мысль, но, не давая ей этого почувствовать, с улыбкой ответил:
— Не будем философствовать. Все смертно в мире, но, когда я с тобой, мне не хочется думать о смерти. Только жить, только любить…
— Я же говорила, что мелькнула глупая мысль…
Асканаза почему-то охватила неясная тревога; он крепко схватил Вардуи за руку, словно стремясь удержать ее около себя.
Через две недели они вместе вернулись в Ереван. Отец Вардуи работал плановиком, мать занималась домашним хозяйством. Асканаз понравился родителям Вардуи. Для того чтобы жениться, ему нужно было обзавестись своей комнатой; он жил у Шогакат-майрик, как ее приемный сын. Комнату ему обещали дать только следующей весной. Но в мае его вызвали в военкомат и на три месяца послали на переподготовку на военные, курсы. Хотя Асканаз получил обещанную комнату, но они решили отложить свадьбу до осени. Асканаз прилежно занимался, мечтал о своей будущей семейной жизни. Ему доставляла безграничную радость мысль о том, что наконец-то у него будет своя семья, что чудесная девушка, лицо которой рисовалось ему и во сне и наяву, станет его женой.
Почти каждый день он писал письма Вардуи и аккуратно получал от нее ответы. И каждый раз он находил новые слова для того, чтобы выразить ей свою любовь, передать ей все оттенки своего чувства.
И вдруг письма Вардуи перестали приходить. Асканаз продолжал писать, но ответа не получал. Он тревожился, ходил мрачный, тяжелое сомнение наполнило его душу. Неужели она разлюбила?.. Нет, нет, лучше не думать об этом! Он с беспокойством ждал того дня, когда ему можно будет вернуться в Ереван и выяснить все на месте. Писать родителям Вардуи у него не поднималась рука, так что в Ереван он приехал в полном неведении.
Куда же пойти? Он долго думал об этом и в конце концов решил пойти к Ашхен. К счастью, Тартаренца не оказалось дома. Ашхен, уложив ребенка, прибирала комнату. Бросив свой чемодан на пол, Асканаз двумя руками стиснул руку Ашхен и испытующе заглянул ей в глаза. Ашхен отвернулась.
— Ашхен… — делая над собой усилие, проговорил Асканаз. — Я пришел, чтобы ты…
Можно было не продолжать: Ашхен и сама знала, почему он пришел.
С минуту Ашхен молчала, потупив голову, потом, взяв за руку Асканаза, сказала:
— Вардуи… ах, у меня не поворачивается язык…
У Асканаза подкосились ноги, он сел. Ашхен сбивчиво рассказала ему, что Вардуи поехала вместе с группой студентов в одно из ближайших сел, чтобы помочь колхозу провести сбор винограда, но на обратном пути машина потерпела аварию, и Вардуи погибла.
— Так было тяжело, так тяжело… Не находила слов, чтобы сообщить тебе.
Асканаз молча плакал. Заплакала и Ашхен. Но она скоро взяла себя в руки, подошла к Асканазу, погладила его по голове и мягко сказала:
— Мужайся, Асканаз. Нам нужно будет навестить ее родителей…
…И вот теперь у Асканаза остались на память о Вардуи лишь собранные ею когда-то на берегу Севана камешки, ее ласковые, полные любви письма и карточка, где она снята вместе с подругами.
Каждый раз, когда Асканаз встречался с Ашхен или Маргарит, ему казалось, что его душевная рана снова начинает ныть. Со дня гибели Вардуи прошел почти год. Но и сейчас перед ним ярко вставали те блаженные дни, которые он провел на Севане вместе с любимой девушкой. Думая об этом, Асканаз прижал к губам ее карточку.
Глава четвертая
СЕМЬЯ ШОГАКАТ-МАЙРИК
Прожитые Шогакат-майрик шестьдесят лет наполовину выбелили ее волосы и прочертили легкие морщинки под глазами. Но она сохранила природную живость и энергию и целиком посвятила себя заботам о младшем сыне — Ара, с которым жила в старом двухэтажном доме на улице Зохрабяна. Комната ее помещалась а самом конце длинного балкона, и два ее окна выходили во двор, осененный густой листвой исполинской шелковицы. В темные ночи, когда ветер шелестел в листве раскидистого дерева, он невольно вызывал у Ара какое-то таинственное чувство.
В раннее воскресное утро Шогакат-майрик проснулась, как обычно, рано, быстро оделась и прибрала постель. Неслышно ступая в мягких домашних туфлях, она подошла к кровати Ара, стоявшей возле окна. Ара, откинув одеяло, лежал, уткнувшись лицом в подушку. Как ни уговаривала его мать лежать на боку или на спине, Ара не мог отвыкнуть от своей детской привычки.
Шогакат-майрик осторожно натянула на него одеяло и, полюбовавшись на сына, ступая на цыпочках вышла в коридор, умылась на кухне и заварила чай.
Почти двадцать пять лет своей жизни Шогакат провела в этой комнате. В тревожные дни 1916 года она с мужем и двумя сыновьями, Вртанесом и Зохрабом, переехала из Игдыра в Ереван и поселилась в этой комнате. Здесь спустя четыре года и родился ее последний сын — Ара. И в октябре того же года во время турецко-армянской войны погиб в Карсе ее муж, так и не увидев новорожденного сына. Единственным кормильцем семьи остался юноша Вртанес. Но вот наступили новые времена. В Армении установилась советская власть. Перед Вртанесом открылась широкая дорога: бывший рабочий, он в конце концов получил возможность всецело посвятить себя любимому призванию — литературе.
Когда Вртанес решил жениться, пришлось подумать о новой квартире. Тяжело было Шогакат-майрик видеть, как распадается ее семья, но она понимала, что теперь уже не те времена, нельзя требовать, чтобы взрослые сыновья жили вместе с родителями. После того как Зохраб, став признанным хирургом, женился и получил новую квартиру, Шогакат осталась вдвоем с Ара. В ту пору Асканаз еще учился в Ереванском университете. На одном литературном вечере он подошел к Вртанесу и сказал ему, какое большое впечатление произвел на него его последний роман.
— И знаете что? Жизнь вашего героя напомнила мне мою собственную жизнь!.. — воскликнул Асканаз.
Завязалась беседа, во время которой выяснилось, что отец Асканаза был близким другом отца Вртанеса, одного из старожилов Сурмалу. Вртанес пригласил Асканаза к себе домой и познакомил его с матерью. Узнав о смерти родителей Асканаза, Шогакат-майрик со слезами на глазах воскликнула:
— Асканаз-джан, теперь у меня четверо сыновей вместо трех, так и знай!
И вскоре Асканаз из студенческого общежития перешел жить к Шогакат-майрик, как ее четвертый, приемный сын. Правда, Асканаз недолго прожил у Шогакат, потому что тотчас же после окончания вуза его призвали в армию, а после демобилизации он поехал работать в село. Но он все время поддерживал самую тесную связь с названной матерью. Поступив в аспирантуру Ереванского университета, он снова поселился у Шогакат-майрик и переехал в отдельную комнату лишь тогда, когда решил жениться на Вардуи. Асканаз, так же как Вртанес и Зохраб, раза два в неделю обедал у Шогакат-майрик.
Уже около года Шогакат-майрик жила вдвоем с Ара. Сыновья (в том числе и Асканаз) так щедро помогали ей, что она не знала нужды. Закончив десятилетку, Ара стал работать в Публичной библиотеке. У него обнаружились способности к рисованию, и он в свободное время занимался в мастерской известного художника.
Младший сын… Шогакат знала, что Ара никогда не расстанется с нею. У нее была одна заветная мечта — дожить до того дня, чтобы видеть Ара женатым, понянчить его детей. «А там уж пусть четверо сыновей подымут мой гроб и предадут мой прах земле», — говорила она каждый раз, когда сыновья собирались у нее и поднимали бокалы за ее здоровье и долголетие.
…Когда вода в чайнике закипела, Шогакат-майрик подошла к кровати Ара и осторожно погладила его по голове. Ара поежился и медленно повернулся на спину, но глаз не открыл. Мать долго смотрела на лицо сына, шепча благословения. Она себя считала одной из счастливых матерей, недаром ей завидовали многие. Но жизнь выработала своеобразную философию у Шогакат-майрик: она была уверена, что полного счастья нет на свете. Поэтому каждый раз, когда она смотрела на младшего сына, ее охватывало чувство тревоги. Это чувство тревоги никогда не покидало ее, хотя о нем никто не догадывался.
Она наклонилась над Ара и осторожно поцеловала его в лоб.
В эту минуту дверь тихо приоткрылась и в комнату проскользнула Цовинар, четырнадцатилетняя дочка Вртанеса. Откинув за спину черные косы, Цовинар со смехом подбежала к бабушке, крепко поцеловала ее и тотчас же прыгнула на кровать Ара. Прикрыв ему глаза ладонями, она воскликнула, изменив голос:
— А ну, скажи, кто? Говори скорей!
— Да оставь ты его, баловница! — вмешалась Шогакат. — Спит он еще, не мучай его!
— Совсем даже не спит, а притворяется! — возразила Цовинар.
Ара схватил руки Цовинар, стиснул их, но, чувствуя, что шалунья не даст ему покоя, сказал:
— Ну ладно, Цовик, каждый раз затеваешь ту же игру…
— Если тебе не нравится моя игра, вставай и поиграй со мной в другую. Да ты ни одной игры и не знаешь!.. — упрекнула его Цовинар и скомандовала: — Быстрей вставай и одевайся — папа с мамой ждут тебя и бабушку!
— Ох, пристала, как смола! — махнул рукой Ара и, присев в постели, начал одеваться.
Цовинар утаскивала у него то носки, то сорочку или башмаки, звонко хохоча каждый раз, когда Ара начинал бегать за нею и отнимать свои вещи. Бабушка иногда добродушно ворчала на Цовинар: «Хватит, негодница, мучить моего Ара!» Но ничего не помогало: они не представляли себе иных взаимоотношений, хотя Ара уже считал себя взрослым и старался принять серьезный и солидный вид. Но для Цовинар он оставался все тем же товарищем детских игр.
Наконец Ара оделся и умылся. Цовинар схватила его за руку и потащила к двери, но бабушка прикрикнула:
— Хватит тебе баловаться, слышишь? Садись за стол. Напьемся чаю и тогда пойдем.
Но и после чая Ара не спешил уходить. Он подошел к углу комнаты, где у него была устроена маленькая мастерская. Взяв один из приставленных к стене подрамников, он жалобно сказал:
— Цовик, посиди спокойно около бабушки хотя бы полчаса! Я хочу поработать. Мне надо кончить «Бабушку с внучкой».
Ара давно уже решил нарисовать мать вместе с Цовинар: ему хотелось сделать сюрприз своему учителю, показать свою первую самостоятельную композицию. Ара казалось, что он нашел характерную позу и выражение для «бабушки», но «внучка» не давалась ему. Цовинар и эту затею Ара считала какой-то новой игрой; вначале она послушно усаживалась в позе, которую для нее выбирал Ара, но вскоре ей надоедало сидеть спокойно, она начинала гримасничать, шевелиться и при первой возможности убегала из комнаты.
Присматриваясь в это утро к Цовинар, Ара решил, что уже выявил основную черту ее характера: весь мир казался ей детской игрой, и она все еще не могла примириться с мыслью, что уже выросла и должна серьезно относиться к жизни. Водя кистью и по временам поглядывая на присмиревшую Цовинар, сидевшую около Шогакат-майрик, Ара хотел поскорее закрепить на полотне свой замысел и убедительно воплотить его.
Вначале и Шогакат-майрик не считала занятия сына чем-то серьезным, тем более когда узнала, что Ара хочет нарисовать ее: ей казалось, что следует рисовать портреты лишь известных людей. Но, видя, как горячо увлекается Ара живописью, она мысленно примирилась с его занятиями и лишь порою бормотала про себя: «О господи, внемли молитве матери, исполни желания сына!»
Пока Шогакат-майрик передавала ключ соседке, прося приглядеть ее за комнатой, сгоравшая от нетерпения Цовик уже тащила Ара к выходу. Спустя несколько минут они втроем подходили к квартире Вртанеса.
…Седа, жена Вртанеса, приветливая, сохранившая свежесть молодости женщина лет тридцати пяти, к трем часам уже закончила все приготовления к обеду и возмущалась тем, что гости запаздывают. В просторной комнате, выходящей окнами на улицу, за маленьким столиком сидели Асканаз и Наапет-айрик, беседуя и поглядывая на играющих в нарды[6] Вртанеса и Михрдата. По-видимому, Вртанес проиграл — то и дело слышались его возгласы:
— Михрдат, тебе везет, у тебя все время двойные очки выпадают!
— Нет, душа моя, признайся лучше, что ты попросту разучился играть. Ведь этим «пяндж-чаром» ты мог закрыть мне дорогу, а зачем-то выпустил меня!
— Да нет, тебе попросту везет! — настаивал Вртанес.
— Ну ладно, коли так, смотри — по-другому кину кости! — улыбнулся Михрдат. Он подкинул кости в воздухе, подставил тыльную часть ладони, дал скатиться на доску и с торжеством указал на выпавшие очки: — Ну, а насчет этого «дор-чара» что скажешь, дорогой товарищ?!
Пока в комнате шел шутливый спор вошедших в азарт игроков, Ара и Габриэл, прислонившись к перилам дворового балкона, лениво переговаривались между собой. Внимательный наблюдатель заметил бы, что они не отрывают глаз от дорожки двора, которая вела к дому. Беседа у них не клеилась, потому что оба собеседника с тревогой думали об одном и том же: придет ли сегодня Маргарит к Вртанесу.
Было время, когда Ара и Габриэл ничего не скрывали друг от друга, но вот уже несколько месяцев они избегали говорить о Маргарит. Каждому из них хотелось бывать с ней наедине, но встречались они с нею всегда вместе, либо в доме у Вртанеса, либо у Ашхен. Никто из них не решался назначить свидание Маргарит и не знал, как она относится к нему.
Но вот под деревьями аллейки показались Маргарит и Ашхен. Между ними семенил двухлетний сынишка Ашхен — Тиграник. Дергая мать за юбку, он требовал, чтоб его взяли на руки. Ашхен выполнила желание мальчугана, что-то весело приговаривая.
В коридоре гостей встретили Шогакат-майрик и Седа. Шогакат ласково поцеловала Маргарит, потом Ашхен и, взяв на руки Тиграника, заявила:
— Цовик сегодня обещала поиграть с детьми. Проходите в комнату.
В эту минуту вышли в коридор Ара и Габриэл. Они поздоровались с Ашхен, но никто не решился первым протянуть руку Маргарит. С девичьей проницательностью разгадав причину этой нерешительности, Маргарит с улыбкой одновременно протянула им обоим руки. Покраснев, Ара и Габриэл переглянулись и молча вошли за ней в комнату.
Вртанес и Михрдат, кончив играть в нарды, вместе с Наапетом и Асканазом рассматривали лежавшую на столе карту Европы. Асканаз объяснял ход военных действий.
На вопрос Вртанеса, где Тартаренц, Ашхен объяснила, что он пошел куда-то по делу (она не сказала, куда и по какому делу) и придет минут через двадцать — тридцать.
Вртанес попросил Маргарит сыграть что-либо, пока соберутся остальные гости. Маргарит не стала ждать, чтоб ее упрашивали, тотчас же села за рояль и сыграла марш из оперы «Алмаст» Спендиарова, зная, что этот марш кое-кому здесь очень нравится. Ара незаметно подошел к роялю, в то время как Габриэл, стараясь казаться спокойным, внимательно разглядывал давно знакомую картину на стене, изображавшую какой-то охотничий эпизод.
По-видимому, ночные размышления и переживания снова не давали покоя Асканазу. Не обращая внимания на игру Маргарит, он подошел с Ашхен к окну и о чем-то вполголоса заговорил с нею. Ашхен задумчиво слушала его. Услышав звуки музыки, в комнату вбежала Цовик с восьмилетним братом Давидом (своим крепким телосложением он и впрямь походил на своего легендарного тезку). За ними прибежал и Тиграник. Дети окружили Маргарит, а Тиграник, поднявшись на цыпочки, бил пальцем по клавишам. Кое-как доиграв марш, Маргарит начала играть детскую песенку. Дети радостно захлопали в ладоши. Народный мотив понравился и Наапету; хлопнув по плечу Михрдата, он весело воскликнул:
— Вот эта музыка мне по сердцу! — и, подойдя к детям, принялся хлопать в ладоши вместе с ними.
В комнату вошла Шогакат. Она казалась недовольной — опаздывали Зохраб и Егине, но царившее в комнате веселое настроение вызвало улыбку на ее лице.
— Э-э, сестрица Шогакат! — обратился к ней Наапет. — Прошло времечко, когда мы смеялись и пели, наступили денечки, когда нам больше пристало кряхтеть да отдыхать… Предоставь уж молодым работать, присядь с нами, порадуйся на детей, вспомни свою молодость!
— В кругу детей наш Наапет и сам как ребенок! — засмеялся Михрдат, придвигая ей стул.
— Когда у человека легко на сердце, и старость ему нипочем! — кивнула головой Шогакат.
— А это уж истина! — подтвердил Наапет, не переставая хлопать в такт.
— Но я на тебя сердита, Михрдат, так и знай! — как бы вспомнив что-то, заметила Шогакат. — Почему не привел с собой Сатеник, зачем ей, бедняжке, сидеть одной дома?!
— Твой упрек был бы справедлив, сестрица Шогакат, если б я сам все время не уговаривал ее бывать на людях. Да все напрасно, заладила свое: тогда, мол, выйду из дому, когда мой Габриэл попросит меня пойти сватьей к родителям его суженой… — объяснил Михрдат.
При этих словах он мельком взглянул сперва на Габриэла, потом на Маргарит, а Шогакат-майрик, которая поглядывала то на Ара, то на Маргарит, промолвила:
— Дай бог Габриэлу найти свою желанную, дай бог того же моему Ара, чтобы мы в один день их обручили!..
В коридоре послышались громкие голоса. Распахнулась дверь, и, в сопровождении Седы, в комнату вошли Зохраб с женой, с ребенком и каким-то незнакомым мужчиной.
Зохрабу было уже за тридцать. Это был человек невысокого роста, с уже облысевшим лбом, в очках. Поклонившись всем, он подошел к Асканазу и Ашхен.
Жену его звали Егине, но она требовала, чтоб ее называли Еленой. Ей было не больше двадцати пяти лет. Эта беспечная на вид, миловидная женщина была одета с большим вкусом. Представляя присутствующим своего спутника, она с улыбкой заявила:
— С трудом заставила прийти Артема Арзасовича! Он зашел к нам, не могла же я его оставить…
— Милости прошу, очень рады… — повторял Вртанес, пожимая руку новому знакомому.
Артем Заргаров служил в Народном комиссариате пищевой промышленности заместителем начальника одного из отделов, где работала Елена. Это был мужчина лет тридцати, с гладко зачесанными назад редкими волосами. На его полном и круглом лице бросались в глаза узенький лоб и мясистый ноздреватый нос. Он был одет в шелковую сорочку и полосатые, тщательно отглаженные брюки. Представляясь, он склонял голову и протягивал для пожатия левую руку, приговаривая: «Левая — ближе к сердцу». Присутствующие заметили, что большой палец на правой руке у него был забинтован, но никто не счел удобным спросить, где он поранил палец.
В беседе выяснилось, что семья Заргарова живет на даче. Приглядевшись к нему, Наапет впоследствии охарактеризовал его как пронырливого человека, «прошедшего сквозь огонь, воду и медные трубы». И действительно, Заргаров очень легко сблизился с новыми знакомыми, а кое-кому из них показался даже симпатичным.
Дочери Елены было пять лет, она очень походила на мать. В свидетельстве о рождении имя девочки значилось Зефюр, но мать называла ее Зефирой, требуя, чтоб ее так называли и другие.
— Ах, Маргарита, да ты устроила здесь настоящий концерт! — воскликнула Елена и попросила, чтоб Маргарит сыграла что-нибудь для ее Зефиры.
Маргарит исполнила просьбу, но музыка уже не доставила прежнего удовольствия взрослым. Седа, которая во всем любила порядок и аккуратность, тотчас же увела Давида, Тиграника и Зефиру в другую комнату, где для них был приготовлен отдельный стол, и поручила их заботам Цовинар; она заметила, что Цовинар, которая вначале охотно согласилась занимать детей, на этот раз сделала недовольную гримасу.
Вернувшись к гостям, Седа пригласила их занять места за столом. Было уже больше четырех часов.
…В семье Шогакат-майрик было правилом, что за редкими исключениями все члены семьи — сыновья, невестки и внуки — по праздникам обедали вместе. Чаще всего собирались на квартире у Вртанеса, так как у него было удобнее, да и Седа была женщиной гостеприимной. Изредка собирались у Зохраба — Елена не придавала особого значения этим семейным сборищам. Но для Шогакат-майрик семейные обеды были настоящим праздником. Ей очень хотелось в это воскресенье устроить у себя семейный обед, но так как должны были прийти и другие гости, а ее небольшая комната не могла всех вместить, пришлось собраться у Вртанеса. А как хотелось Шогакат-майрик, чтоб этот прощальный обед в честь Асканаза состоялся у нее, чтобы Асканаз наконец «снял с себя траур» и с легким сердцем пустился в путь. Асканаз понимал тайное желание Шогакат-майрик и, несмотря на щемящее чувство, вызванное воспоминаниями о Вардуи, старался казаться оживленным. Сидя рядом с Ашхен, он, чтобы не отстать от других, ел одно блюдо за другим и весело поднимал бокал, когда провозглашались тосты.
Седа принесла на большом металлическом подносе зажаренного целиком ягненка. Наапет, который до этого молчал, поднял свой бокал и обратился к Шогакат:
— Сестрица Шогакат, пусть все твои дни будут не хуже сегодняшнего, и да не убудет радости у твоих детей!
Следуя примеру Наапета, все чокнулись с Шогакат, и она, взволнованная этим пожеланием, вытирала глаза и повторяла:
— Спасибо, родные мои, спасибо, да не коснется вас горе… Кушайте, что ж вы ничего не кушаете?
— Вот теперь требуется мастер, чтобы разрезать на куски этого аппетитного ягненка! — воскликнул Вртанес.
— Лучшим мастером, конечно, окажется хирург, — с поклоном в сторону Зохраба заявил Заргаров; он сидел по правую руку от Елены и старательно услуживал ей.
— Ой, боже избави! — воскликнула Елена. — Нет, Артем Арзасович, я категорически против этого: он нарежет так, словно произведет медицинское вскрытие, а это совсем не эстетично!
Зохраб, сидевший по левую руку от жены, не высказывал особого желания произвести «вскрытие» ягненка.
В эту минуту в дверь постучали, и Седа пошла открывать. В комнату вошел Тартаренц. Быстро окинув взглядом присутствующих, он сделал общий поклон. Сидевший рядом с Маргарит Ара встал и уступил свое место Тартаренцу. Ашхен взглянула на мужа, и ей стало как-то неприятно, что до сих пор о нем никто не вспомнил. В свою очередь Тартаренц бросил взгляд на жену и, по-видимому, по-своему объяснив перемену в ее лице, с нескрываемой враждой посмотрел на Асканаза.
Вновь зашла речь о том, кто должен разрезать на части жареного ягненка. Не ожидая, чтоб его попросили, Тартаренц придвинул к себе поднос и, взяв нож, начал резать ягненка, при этом прибегая больше к помощи рук, чем ножа. Кое-как раскромсав ягненка, он положил себе на тарелку целую ножку и отодвинул поднос. Все это время Ашхен чувствовала себя крайне неловко, тем более, что Елена, посмеиваясь, что-то нашептывала Заргарову.
— Вот и отыскался мастер! — воскликнул Наапет, пристально следивший за Тартаренцем.
Тартаренц, наполнив доверху свой бокал, поднял его и сказал:
— Пью за здоровье всех тех, за кого пили!
И, осушив свой бокал, принялся с жадностью есть.
Как видно, остальные гости уже успели утолить голод. Заргаров попытался было предложить кусок жаркого Елене, но она с гримасой отказалась. Это не ускользнуло от внимания Ашхен. Взяли себе по куску лишь Вртанес и Михрдат, и то скорее из вежливости.
Тартаренц сидел между Габриэлом и Маргарит. Утолив первый голод, он впервые обратил внимание на Заргарова. Узнав у Габриэла имя гостя, он воскликнул:
— Простите, позвольте познакомиться…
Но, протягивая руку Заргарову, он нечаянно уронил стакан Елены. Не обращая внимания на недовольное восклицание Елены, он поднял ее стакан, пожал протянутую Заргаровым левую руку и громко назвал себя. Словно только сейчас обратив внимание на то, что ему протянули левую руку, а большой палец правой руки Заргарова забинтован, он с выражением сочувствия спросил:
— Что с вами случилось, дорогой?
— Да ничего, пустяки, — уклончиво ответил Заргаров.
— Как пустяки? Нужно быть осторожнее.
— Когда хочешь помочь другим, забываешь об осторожности! — многозначительно произнес Заргаров.
— Артем Арзасович часто бывает в селах. Помогая трактористу наладить трактор, он поранил себе большой палец, — вмешалась Елена.
— Вот это я называю — настоящий человек! Заботливый, благородный… — сверкнув глазами, воскликнул Тартаренц, краем глаза следя за тем, пришлась ли по вкусу его похвала Заргарову.
Слова Елены произвели впечатление на всех. Лишь Наапет, прищурив глаза, испытующе оглядел Заргарова, словно решая вопрос, какую помощь мог оказать трактористу этот человек.
— А вы знакомы с моей женой? — вновь обратился к Заргарову Тартаренц.
— Имел это счастье, — с широкой улыбкой отозвался Заргаров.
Ашхен недовольно вскинула голову, делая вид, что не расслышала слов мужа. Ее почему-то раздражал гнусавый голос Заргарова.
— Ну и мелет же глупости этот Тартаренц… — пробормотал Михрдат.
Когда сидевшие за столом выпили по стакану вина, Наапет, обычно не придававший значения житейским мелочам, задумчиво проговорил, обращаясь одновременно к Асканазу и Вртанесу:
— А ну, умные головы, растолкуйте мне, что задумала Германия? Взяла Париж и дошла уже до Греции…
— Аппетит у нее разыгрался, — усмехнулся Михрдат.
— А если пойдет на нас? — словно размышляя вслух, продолжал Наапет. — Нелегко придется, а?!
— Да смилуется господь над бедными матерями, — со вздохом сказала Шогакат.
— Пусть только посмеет против нас пойти… Разгромим в пух и прах! — решительным тоном заявил Заргаров.
— Не так-то легко будет.. — спокойно возразил Вртанес.
— Ну, для изнеженной интеллигенции все, что не совсем обычно, всегда кажется трудным, — заметил Заргаров, потирая покрасневший нос. — Но мы-то привыкли преодолевать всякие трудности!
При этих словах Асканаз внимательно посмотрел на Заргарова, хотя не счел нужным вмешиваться в разговор.
— Есть, конечно, люди, которые не боятся трудностей! — сказал Тартаренц. — Жаль, не было вас вчера на докладе Вртанеса, Артем Арзасович, вы бы видели, какое впечатление произвело мое выступление!..
Заметив, что стоявшая перед ним бутылка пуста, он наставительным тоном обратился к Ара:
— А ну, молодой человек, позаботься о вине! Учись быть расторопным. А вдруг скоро будет война, попадешь в армию, должен себя показать.
— Ой, ослепнуть бы мне, зачем моему Ара на войну идти?! — воскликнула Шогакат-майрик. Слова Тартаренца так встревожили ее, что она чуть не разрыдалась.
Вртанес ласково взглянул на мать и, обратившись к Заргарову, с обычным спокойствием сказал, словно в ответ на его замечание:
— Наша интеллигенция сумеет выполнить свой долг.
— Э-э, джан, было бы лишь здоровье, остальное образуется… — поспешил переменить тему Михрдат. — Мы словно забыли о том, что наш общий любимец Асканаз завтра уезжает. Хочется музыки и танцев. А ну, покажите свое умение, цветы нашей жизни! — обратился он к Маргарит, Ара и Габриэлу.
Маргарит послушно встала из-за стола, села за рояль и сыграла плясовой мотив. Но никому не хотелось танцевать.
— Были бы люди моего склада, сейчас бы затеяли хоровод. Эх, чешутся у меня ноги! — весело притопнул ногами Михрдат.
— Какой вульгарный человек… — шепнула Елена Заргарову, небрежно кивнув головой на Михрдата.
Заргаров сидел молча. Елене не понравилось его безразличие. Она встала с места и, подойдя к Маргарит, попросила ее сыграть вальс. Когда раздались звуки вальса, Елена подхватила Ара и закружилась с ним.
Хотя Шогакат-майрик не нравилось свободное обращение Елены с мужчинами (не понравилось ей и то, что Елена привела постороннего человека на семейный обед), но так как Елена всегда особенно ласково относилась к Ара, она прощала ей многое. Тартаренц тотчас же вскочил и пригласил Ашхен. Та нехотя покружилась с ним несколько раз и снова села на свое место. Недолго танцевал и Ара. Но Елена вошла во вкус, пригласила Зохраба и, получив отказ, остановилась перед Заргаровым. Последний словно этого и ждал, тотчас же вскочил, и они довольно долго кружились по комнате.
Между тем Шогакат-майрик и Седа быстро убрали со стола посуду и принесли из кухни вазы с черешнями и абрикосами.
— Все должны танцевать, все! — распоряжалась Елена.
Оставив Заргарова, она подошла к Асканазу, который, чтобы не обижать ее, сделал с ней несколько кругов. Вслед за ним Елена пригласила Габриэла, а потом и Вртанеса.
— Э-э, Наапет, не знали мы с тобой этих танцев, но Асканаза должны почтить, — сказал Михрдат, когда умолкли звуки вальса.
Он закинул левую руку за шею Наапета и, помахивая платком, пошел впляс по комнате, медленно и однотонно подпевая:
— А ну, молодежь! — остановившись, чтобы перевести дух, сказал Наапет. — Если уж я два круга прошел, вам следует не меньше двенадцати. Я теперь погляжу на вас!
Несмотря на это приглашение, все снова уселись за стол.
Тартаренц решил завязать более близкое знакомство с Заргаровым: выяснилось, что тот очень близок к одному влиятельному лицу, которому Тартаренц давно уже хотел пожаловаться на то, что его не ценят. Заргаров очень охотно обещал Тартаренцу познакомить его со своим влиятельным приятелем.
Пробило восемь часов. Елена стала собираться домой. Несмотря на уговоры Шогакат-майрик и Седы остаться выпить чаю, она одела Зефиру и, поблагодарив, стала прощаться. Ее примеру последовали Зохраб и Заргаров. Прощаясь с Асканазом, с которым Елена держалась запросто, как с деверем, она поцеловала его и сказала:
— Когда вернешься, сразу же приходи к нам!
Асканаз поблагодарил ее, обнял Зохраба и холодно протянул руку Заргарову.
Тартаренц, которому хотелось закрепить свое знакомство с Заргаровым, тоже собрался уходить. Он обратился к Ашхен:
— Я приду домой попозже.
— Ашхен сегодня у меня ночует, — вмешалась Седа.
Тартаренц кинул многозначительный взгляд на Асканаза, потом взглянул на Ашхен и пожал плечами.
— Ну и пусть ночует! — бросил он, выходя вслед за Заргаровым.
Напившись чаю, собрались уходить и Наапет с Михрдатом. Наапет крепко обнял Асканаза, поцеловал его и промолвил:
— Счастливо доехать, счастливо вернуться тебе, сынок. Говорят, хочешь полететь на самолете, да? Ну, путь тебе добрый! Я там распорядился, чтоб Гарсеван и Аракел доставили тебе фрукты на аэродром.
— Ну, зачем ты беспокоился, Наапет-айрик! — запротестовал Асканаз.
Обняв в свою очередь Асканаза, Михрдат несколько раз поцеловал его, приговаривая:
— Это я, а это — Сатеник.
Асканаз проводил старых друзей до ворот.
Михрдат не настаивал, чтобы Габриэл вместе с ним вернулся домой. Хотя он и не знал, какие отношения у Габриэла с Маргарит, но чувствовал, что его сыну приятно еще побыть с нею.
После их ухода все снова уселись за стол. Седа увела спать Давидика и Тиграника. Цовинар обрадовалась, что может, наконец, сесть за стол со взрослыми. Никому не хотелось есть, но Седа накрыла стол для ужина. «Когда человеку предстоит дорога, стол всегда должен быть накрыт!» — говорила Шогакат-майрик, и Седа свято выполняла ее наказ.
Шогакат сидела против Асканаза и не сводила с него глаз, словно стремясь запечатлеть его образ в своей душе. Вздохнув, она покачала головой и тихо сказала Асканазу:
— Поезжай, сынок, развей горе… Не поворачивается язык сказать, но ведь таков закон жизни… Скоро год исполнится, не век же тебе горевать, может, найдешь себе подругу жизни, утешишься!
Асканаз признательно взглянул на Шогакат, но ничего не ответил.
Вскоре после этого собралась уходить и Маргарит. Ара встал, чтобы ее проводить. Шогакат спросила сына:
— Ара, ты скоро вернешься? Я подожду тебя.
— Да что ты говоришь, майрик! — возмутился Вртанес. — Куда ты пойдешь на ночь глядя? Не пущу я тебя, переночуешь у нас.
— Ну ладно, но только пусть и Ара ночует здесь.
— Пусть ночует, но он молодой парень! Быть может, ему хочется одному побыть, — пошутил Вртанес.
— Одному побыть?! — невольно вырвалось у Шогакат-майрик, и она с тревогой взглянула на сына.
Никто не заметил выражения ее лица. Ара, которому была понятна тревога матери, сказал, пересиливая себя:
— Ну, мама, здесь же тесно. Я провожу Маргарит, а потом… пойду домой.
Шогакат беспомощно оглянулась, но потом, словно внезапно найдя выход, обратилась к Габриэлу:
— Габриэл-джан, тебе далеко идти, переночуй с Ара у нас!
— Вот и хорошо, — одобрил Вртанес.
— Пойдешь, да, Габриэл? — настаивала Шогакат.
— Пойду, отчего же, — согласился Габриэл.
Маргарит пожелала доброго пути Асканазу, попрощалась со всеми, условилась с Ашхен о завтрашней встрече и ушла вместе с Ара и Габриэлом.
Комната Асканаза находилась недалеко от квартиры Вртанеса, но ему предстояло еще уложить дорожные вещи. Ашхен вызвалась помочь ему. Асканазу хотелось поговорить наедине с Ашхен, и он с благодарностью принял ее предложение. До их возвращения Вртанес уселся за письменный стол, чтобы вкратце изложить для газеты свой вчерашний доклад.
Глава пятая
МАРГАРИТ УТОЧНЯЕТ ОТНОШЕНИЯ
Ара, Маргарит и Габриэл несколько минут молча шагали рядом по улице Абовяна. Маргарит жила в нагорной части Еревана — на Конде. Дойдя до первого перекрестка, она хотела свернуть на улицу, ведущую к Конду, но Ара, взяв ее за локоть, сказал:
— Не спеши так, Маргарит, погуляем немного.
Маргарит согласилась. Но все-таки никому из них не хотелось говорить. В первый раз товарищи гуляли с любимой девушкой. И в первый раз закадычные друзья чувствовали, что долголетней дружбы недостаточно для того, чтобы нашлась тема для беседы втроем, хотя у каждого из них в душе было что сказать.
Понимала ли Маргарит, что и Ара и Габриэл неравнодушны к ней? Конечно, она догадывалась об этом, но относилась к ним обоим одинаково приветливо. Прежде Ара и Габриэлу случалось обиняком заводить разговор о Маргарит; но они быстро спохватывались, чтобы не высказать что-либо лишнее и этим самым не выдать свои тайные чувства. Откровенные во всем другом, они под конец даже перестали разговаривать о Маргарит, хотя и чувствовали, что так не может долго продолжаться. Но в этой скрытности не было ничего преднамеренного. Сердцу обоих была дорога одна и та же девушка, и они с течением времени это поняли. Они молча пришли к решению ждать ответа Маргарит.
Габриэл с тревогой думал о том, что отношения его с Маргарит принимают тот оттенок, который носит название взаимного уважения, в то время как в отношениях Маргарит и Ара он видел зарождающуюся любовь.
Сегодня, с той самой минуты, когда Маргарит в коридоре одновременно протянула руки и ему и Ара, Габриэла не покидала мысль, что Маргарит неравнодушна к Ара. Для того чтобы найти подтверждение своей догадке, он обращался к воспоминаниям, и то, что прежде не имело значения в его глазах, теперь становилось доказательством. Уже хотя бы одно то, что Маргарит часто бывала у Седы и Вртанеса, где она почти каждый раз встречалась с Ара (к тому же Маргарит была пианисткой, а Ара художником, значит у них были общие интересы, а к работе Габриэла — он был слесарем — она не проявляла ни малейшего интереса), подтверждало его предположения.
И сейчас Габриэла терзало даже не то, что он обманулся в своих надеждах (ведь он ни одним словом не обмолвился о своих чувствах к Маргарит!), — его мучило другое. Она казалась ему идеалом девушки, той незнакомой девушки, которую ему предстояло еще найти и полюбить со всем пылом юношеской любви. Та девушка должна была походить на Маргарит, быть такой же нежной и обаятельной, с такими же волнистыми волосами и улыбчивыми глазами. Габриэлу хотелось поскорее отыскать эту незнакомую девушку, познакомить ее с Ара и Маргарит. В глубине души ему даже хотелось, чтобы его избранница чем-нибудь превосходила Маргарит. Обо всем этом думал Габриэл, разговаривая с Ара и Маргарит о деревьях на улице Абовяна и журчащей в канаве воде. Ему почему-то казалось, что именно в этот вечер должны были определиться отношения Ара и Маргарит и от него зависит помочь им. Придя к этому заключению, он вдруг воскликнул:
— Ох, а я и забыл, что мне надо вернуться домой, я ведь на рассвете должен поехать на аэродром провожать Асканаза!
В эту минуту он совершенно позабыл о том, что обещал Шогакат-майрик остаться ночевать у Ара.
Ара вздрогнул; он еще не решил, что сказать, когда Маргарит вмешалась:
— Ах да, тебе нужно рано утром быть на аэродроме. Раз так, Габриэл-джан, иди домой, выспись.
Габриэл решил, что этим все сказано: ясно, Маргарит хочет остаться вдвоем с Ара. Он пожал руку Маргарит и заглянул ей в лицо; она, как всегда, улыбнулась ему в ответ. Но, прощаясь с Ара, Габриэл заметил, что его товарищ то ли не хочет, то ли не может прямо глядеть ему в глаза.
Габриэл успел отойти уже довольно далеко, когда Ара наконец поднял голову и взглянул на Маргарит. На улицах почти не было прохожих. Ара хотел было взять Маргарит под руку, но не решился. Куда же им идти теперь? Ведь на городских часах уже пробило одиннадцать часов. Не бродить же по улицам! Трудно угадать, что мелькнуло в эту минуту в голове у Ара, но в голосе его было и требование, и просьба, когда он произнес:
— Маргарит, пойдем к нам!
— К вам? Так поздно?.. Нет, нет, мне пора домой, наши будут беспокоиться. Если тебе не хочется меня провожать, я пойду одна, я не боюсь.
— Маргарит, пойдем, прошу тебя!
— Хочешь, я приду завтра днем?
И, переговариваясь так, они шли вверх по улице Абовяна. Если уж говорить правду, то Маргарит не беспокоилась о том, что родные будут ждать ее: она часто оставалась ночевать у Ашхен, а сегодня нарочно предупредила дома, что Ашхен, вероятно, не отпустит ее. Но ей показалась странной просьба Ара. Разве удобно ей пойти к нему, тем более что Шогакат-майрик нет дома? Насколько она успела заметить, раньше Ара не была свойственна такая смелость. Что же заставляло его настаивать на своей просьбе? Но Ара с тем же мягким упорством продолжал:
— Нет, я хочу сейчас, теперь. Вот мы дошли до нашей улицы. Пойдем, Маргарит.
— Ведь уже поздно, Ара! Ну ладно, раз ты так просишь, зайду на полчаса, только с условием, что ты мне покажешь «Бабушку и внучку». Цовинар мне рассказывала, что она позирует тебе…
— Рассказывала, да? — с забившимся сердцем переспросил Ара. — Но ведь это пока только эскиз. Да и кроме того, картины надо рассматривать при солнечном свете.
— Раз так, я не пойду.
— Нет, нет… Ну, сама скажи: разве ты согласишься сыграть музыкальную пьесу, прежде чем выучишь ее?
— Если ты мне покажешь свою незаконченную картину, я тоже соглашусь играть тебе еще не совсем готовую пьесу.
— Я мало понимаю в музыке, и твои пьесы будут мне казаться прекрасными. А незаконченная картина вряд ли может произвести впечатление.
Они уже подошли к дому, где жили Ара с матерью.
— Вернемся, Ара, неудобно, уже поздно…
— Ну, честное слово!.. — запнулся Ара.
На этот раз Маргарит уже явственно почувствовала мольбу в голосе Ара. В ней проснулось любопытство: что заставляет Ара так настойчиво приглашать ее к себе? Неужели он считает, что они должны объясниться? Маргарит стало неловко. Как-то нехорошо вышло — спровадили Габриэла, чтобы остаться вдвоем… Она нехотя поднялась по лесенке и, пройдя по длинному балкону, вошла в комнату. Ара зажег свет и распахнул окно. Свежий ночной воздух хлынул в комнату.
В первые минуты ни Маргарит, ни Ара не решались заговорить. Маргарит заметила, что Ара стал как будто еще больше робеть, очутившись с ней наедине. Маргарит начала перелистывать большой альбом, лежавший на столе, порою расспрашивая Ара о его замыслах. Ара воодушевился; он не только с жаром объяснял ей свои замыслы, но и вдавался в подробности законов живописи.
Маргарит слушала его, удивляясь тому, что Ара не заговаривает ни о чем другом. Время текло. Ара как будто был рад лишь тому, что его кто-то слушает.
— Ну, Ара, — сказала наконец Маргарит, — мне уже пора.
Это сказано было не только потому, что было действительно поздно, но и для того, чтоб Ара наконец решился сказать то, ради чего попросил ее зайти в такой поздний час.
Ара, сидевший напротив Маргарит, встал с места, подошел и, взяв ее за руку, наклонился как бы для того, чтоб заглянуть ей в глаза. Но Маргарит с удивлением заметила, что он не решается встретиться с ее взглядом. Она также встала и мягко провела рукой по голове Ара. По его телу как бы пробежал электрический ток. Он вздрогнул и выпустил руку Маргарит. Маргарит почувствовала, что Ара не в силах что-либо сказать ей. Она давно заметила его нерешительность, но сейчас ей очень хотелось, чтоб он переборол себя. Маргарит хотелось, как и каждой девушке, чтобы ее избранник был смелый мужчина. Она была достаточно проницательна, чтобы видеть, что Ара не таков, хотя понимала, что его тянет к ней непреодолимое влечение.
— Маргарит, не оставляй меня одного… — через силу выговорил Ара.
Маргарит почувствовала, насколько ее воля сильней воли юноши. Двумя руками она взяла голову Ара, притянула к себе и шепнула:
— Почему ты просишь, чтоб я тебя не оставляла одного? Ну, говори же, Ара!
Дыхание их смешалось. Ара видел близко от себя лицо Маргарит, слышал, как бьется ее сердце, и словно только сейчас понял, что жизнь без Маргарит потеряет для него всякую ценность. И он смог лишь прошептать:
— Не оставляй меня одного…
— Не можешь остаться один, без меня? Но почему ж до сих пор не говорил ни слова, а, бессовестный?
— Ты останешься, правда?
— Ох, опять о том же… Ну ладно, я останусь, что же дальше, ну, скажи, что?! — засмеялась Маргарит и тряхнула голову Ара так сильно, что его губы коснулись ее лица.
Она тотчас же отошла от него и села на стул. Ара попятился и отвернулся лицом к стене. Ему казалось, что все это происходит во сне.
Маргарит уже не могла настаивать на своем решении уйти. В словах Ара «не оставляй меня одного…» и «ты останешься, правда?» Маргарит видела и признание в любви, и вспышку затаенных чувств, и утверждение того, что они созданы друг для друга. Правда, Маргарит хотелось бы, чтобы Ара прямо сказал ей об этом, сказал, что они должны принадлежать друг другу, высказал ей это в пылких словах. Но ей было ясно, что Ара сейчас не способен ничего сказать, хотя его лицо говорило лучше слов.
Прошло несколько минут. Ара немного успокоился. Они вместе подошли к окну. Небо было затянуто легкими тучками, не было видно ни звезд, ни луны. Колеблемая ночным ветерком, глухо шелестела листва шелковицы под окном. Ара невольно вздрогнул и теснее прижался к Маргарит. Она мягко отвела его руку, наклонилась к подоконнику, прислушиваясь к таинственному шороху в темноте.
— Маргарит, — тихо произнес Ара. — Ты храбрая, да?
— Храбрость — качество мужчин, Ара, — улыбнулась Маргарит.
— Но ты храбрая, я вижу…
— Ну, конечно, храбрая, раз в полночь нахожусь в комнате чужого мужчины! Ты это считаешь храбростью, да, Ара?
Ара не ожидал такого ответа. Он покраснел, отошел от окна, сам себя ненавидя за то, что не находит в себе решимости объясниться с Маргарит. Больно его задело и то, что Маргарит говорила о нем, как о постороннем человеке.
— Значит, ты меня считаешь чужим, да, Маргарит? — глухо спросил он.
— Почему это волнует тебя, Ара? Конечно, мы чужие в том смысле, что не родственники.
— Не родственники, но… ведь чужой мужчина и чужая девушка становятся самыми близкими людьми друг для друга!
— О, мой Ара! — вырвалось у Маргарит.
— Моя Маргарит… — шепнул Ара.
Они еще долго стояли у окна и шепотом говорили те слова, которые так дороги всем в эти минуты.
Заря окрасила небо, когда Маргарит перегородила стульями комнату, завесила их одеялом и, уже после того как Ара лег, не раздеваясь, прилегла на постель матушки Шогакат.
Рано утром Шогакат-майрик осторожно вошла в свою комнату (у нее был второй ключ). Видно было, что она провела тревожную ночь. На цыпочках она тихо подошла к кровати сына. Ара мирно спал. По лицу Шогакат-майрик скользнула улыбка облегчения. Она что-то шепнула, перекрестила сына и обернулась к своей кровати, предполагая, что на ней спит Габриэл.
— Пошли тебе бог счастья, Габриэл-джан, — пробормотала она вполголоса, — на радость твоим родителям!.. Ну что тебе стоит уступить кусочек своего бесстрашия моему бедному Ара?!
Для Шогакат-майрик не были тайной тяжелые переживания сына: она знала, что Ара боится темноты и одиночества.
Как-то раз она осталась ночевать у Вртанеса, Ара был дома один. И вот уже заполночь он прибежал к матери, бледный, полуживой от страха. На следующий день, пересилив себя, Ара признался ей в своей слабости, которую тщательно скрывал до этого. Эта болезнь сына глубоко удручала Шогакат-майрик, и она не решалась никому рассказывать о ней. Не говорила она даже Вртанесу, и не потому, что не доверяла старшему сыну, а из боязни причинить ему лишнее огорчение. Кроме того, Шогакат-майрик считала, что есть вещи, о которых не должен знать даже родной брат. Она страдала молча, не зная, как вылечить Ара от припадков болезненного страха. Это и было причиной того, что она так настойчиво уговаривала Габриэла переночевать с Ара.
Она подошла к своей кровати, взглянула — и окаменела. В первую минуту она не поверила глазам, взглянула второй раз и убедилась, что зрение не изменяет ей: в постели лежала одетая девушка. Заветная мечта, которую она лелеяла в глубине души, так внезапно стала действительностью. Маргарит — у них… Но как это произошло, каким образом этот вопрос решился за несколько часов? Неужели Маргарит узнала тайну болезни Ара? Оставив бесплодные догадки, Шогакат-майрик обняла Маргарит и со слезами радости расцеловала ее. Маргарит потянулась, медленно открыла глаза, не понимая в первую минуту, где она находится. Она невольно сделала даже жест, чтоб оттолкнуть женщину, которая почему-то целовала ее, но потом узнала Шогакат-майрик, приподнялась в постели и густо покраснела.
— Маргарит-джан… — повторяла Шогакат.
Столько радости было на ее лице, столько нежности в голосе, что Маргарит сочла излишним объяснять и оправдывать свое присутствие в комнате Ара.
Проснулся и Ара. Увидев мать, он натянул одеяло на голову. Шогакат подбежала к нему, откинула одеяло и, видя, взволнованное лицо сына, воскликнула:
— Успокойся, сынок, успокойся, умереть мне за радость твою!
Затем она снова подошла к Маргарит и, обнимая ее, сказала:
— Бесценная моя, я обычаи и порядки знаю… Пусть только вернется мой Асканаз — тотчас же справим свадьбу. Передашь отцу и матери сердечный поклон от нас, скажешь, что ночевала в эту ночь у Шогакат-майрик. Сегодня же вызову к себе Вртанеса и Зохраба, поговорю с ними, чтобы устроить помолвку.
Маргарит не могла понять, что же так сильно волнует Ара, и лишь догадывалась о том, что Ара видит в ней нечто большее, чем будущего спутника жизни. И эта догадка наполняла ее сердце и любовью к Ара, и тревогой за него.
Глава шестая
АШХЕН
Асканаз редко оставался летом в Ереване. В этом году он ждал, что его, как обычно, пошлют на курсы военной переподготовки. Но две недели назад его известили, что, поскольку он уже три раза проходил курсы, в этом году он призываться не будет.
После гибели Вардуи он долгое время не мог опомниться, замкнулся в себе, забросил свои научные занятия. Какими бы тесными ни были отношения, связывавшие его с близкими людьми, Асканаз чувствовал, что ему необходимо на некоторое время переменить обстановку. Вначале он решил было поехать на кавказское побережье, но как раз в это время в университете Асканазу предложили выехать в Киев, затем во Львов для обмена опытом научной работы. Он охотно принял это предложение, тем более что надеялся в архивах Львова отыскать новые материалы о переселившихся в Польшу армянах.
Мысль о предстоящей поездке вначале сильно обрадовала его, но чем ближе наступал день отъезда, тем сильнее одолевали его тяжелые мысли: ведь именно этим летом он собирался поехать в свадебное путешествие с Вардуи!
После того как Ашхен сообщила Асканазу о гибели Вардуи, они часто встречались в доме Вртанеса, но ни разу ни Асканаз, ни Ашхен ни словом не обмолвились о Вардуи. Встречаясь с Асканазом, Ашхен догадывалась, что рана его еще не затянулась, хотя после смерти Вардуи прошел почти год.
Придя к Асканазу, Ашхен помогала ему укладывать вещи в дорожный чемодан. Как ни был поглощен своими переживаниями Асканаз, но все-таки заметил, что под ее обычным горделивым видом скрывается чувство глубокой неудовлетворенности. Асканаз всегда считал неудобным спрашивать, при каких обстоятельствах Ашхен решила стать женой Тартаренца. Но каждый раз, встречая их вместе, он убеждался, что они совершенно разные люди.
Минут двадцать — тридцать беседа шла вокруг подробностей предстоящего путешествия. Под конец, когда Асканаз уже готовился проводить Ашхен к Вртанесу, чтобы там попрощаться с родными, она, стоя уже в дверях, вдруг повернулась к Асканазу и посмотрела на него. Он поймал ее взгляд и не увидел на ее лице обычного горделивого выражения. Она смотрела на него испытующе и грустно; эта удивительная молодая женщина, которую природа так богато одарила, не была счастлива.
Как же это случилось, почему так неудачно сложилась жизнь этой гордой девушки? Ашхен и сама иногда не могла дать себе отчета, почему она решила выйти замуж за Тартаренца. Да, это было в тот год, когда она только что окончила десятилетку и поехала с подругами в экскурсию на Кафанские рудники. В клубе шахтеров был вечер. Выступал ансамбль песни и пляски, приехавший из Еревана. Во время перерыва на сцену вышел, Тартаренц и произнес речь: он каким-то образом присоединился к ансамблю. На этом-то вечере одна из подруг и познакомила Тартаренца с Ашхен. С тех пор Тартаренц ходил за Ашхен по пятам; встречаясь с ней, он с жаром уверял ее, что не может жить без нее, покончит с собой, если она откажет ему. Нашлись знакомые, которые стали уверять Ашхен, что Тартаренц искренне любит ее. Ее уговаривали стать женой Тартаренца даже те, кто хорошо знал ему цену: «добрые люди» не хотели «мешать его счастью». В течение двух-трех недель Тартаренц старался показать себя с самой лучшей стороны. В характере Ашхен было при разрешении всех жизненных вопросов поступать очень круто. Она быстро говорила «да» и «нет» и крепко держалась своего решения, упорствуя даже тогда, когда это решение было неправильным. Тартаренц сумел показать себя с выгодной стороны, стать в позу того героя, о котором втайне мечтала девушка, только что сошедшая со школьной скамьи, и она сказала свое необдуманное «да». Таким образом Ашхен стала женой Тартаренца.
Через год у Ашхен родился ребенок, и ей пришлось целиком посвятить себя уходу за ним. Тартаренц оказался человеком крайне скупым и не разрешил матери Ашхен жить с ними. Ашхен пришлось на время отказаться от возможности поступить в высшее учебное заведение. Но когда Тигранику исполнилось два года, она решила, что может оставлять днем ребенка у родных и ходить заниматься. Но Тартаренц, который давно уже сбросил с себя маску, держался в семье, как необузданный деспот. Он категорически запретил жене учиться. Он считал, что жена должна довольствоваться семейной жизнью и полностью посвятить себя заботам о муже и ребенке. Между мужем и женой почти каждый день шли из-за этого споры. Гордость Ашхен не позволяла ей жаловаться кому-нибудь на грубое отношение мужа, хотя окружающие замечали, как удручают Ашхен выходки Тартаренца. Ашхен уже оставила надежду на то, что может повлиять на мужа, она решила добиться своей цели — поступить в университет, не обращая внимания на сопротивление мужа. Сейчас она более чем когда-либо чувствовала потребность в поддержке близкого человека. Хотя Асканаз никогда и словом не обмолвился о семейной жизни Ашхен, молодая женщина знала, что от его наблюдательного взора ничто не ускользнет. Кроме того, Вардуи как-то призналась ей, что она рассказала Асканазу о ее семейных неприятностях.
И теперь Асканаз, глядя на печальное лицо Ашхен, терялся в догадках о том, что означает ее пристальный взгляд. Видя, что Ашхен хочет заговорить с ним, он с улыбкой придвинул ей стул.
— Асканаз, — проговорила Ашхен, опускаясь на стул, — сколько дней может голодать человек?
На лице Асканаза выразилось изумление. Он готовился хладнокровно выслушать ее, но этот вопрос был слишком неожиданным. Он пожал плечами.
— Тебе кажется странным мой вопрос, да? Но я жду ответа, Асканаз…
— Кажется, я как-то слышал, что человек может прожить без пищи около сорока дней.
— Ну, значит, душа у человека гораздо выносливее тела… — со вздохом проговорила Ашхен.
— Несомненно.
— Но и душевной выносливости есть предел, Асканаз. Вот уже тысяча сорок дней, как душа моя голодает, и я уже не могу выдержать этого голода, не могу, не могу… — И Ашхен отвернула лицо от Асканаза.
Асканаз понял, на что намекает Ашхен.
— Прости меня, Ашхен, прости, что я был так не чуток, что ни разу не поинтересовался твоей жизнью. Быть может, я мог бы тебе помочь, — тихо сказал он.
— Не извиняйся, Асканаз, ты все равно не мог бы мне ничем помочь: ведь я тебе все равно бы не призналась, гордость бы помешала. Но всякому долготерпению приходит конец, и я чувствую, что моя гордость не только не защищает меня, а я скоро сделаюсь предметом насмешек.
— Боже упаси, Ашхен, что ты говоришь?!
— Ну, подумай, Асканаз: уже тысячу с лишним дней я замужем за Тартаренцем, и все это время душа моя голодала. Сейчас я только нянька, домработница и больше ничего. Я не смею думать о большем!
— Прости меня, Ашхен… Но мне попросту странно слышать от тебя такие слова!
— Знаю я, знаю, что ты хочешь сказать… В наше время, мол, недопустимо, чтоб женщина позволила себя так унижать?! Ведь я могу, не обращая внимания на запреты мужа, и продолжать образование, и найти себе подходящую работу, тем более что кое-какие способности у меня есть…
— Совершенно верно! Ты сама сказала то, что мог бы сказать тебе и я.
— Но в том-то и дело, дорогой мой, что у меня нет никакого желания изображать из себя страдающую героиню романа, разглагольствовать о своих правах, осуждать мужа. Я хочу, чтобы муж был другом мне, хочу, чтоб он поддерживал меня своими советами, чтоб я могла находить утешение в его любви. Вот уже три года я мечтаю об этом, и мечтаю бесплодно. Каждый день та же утомительная рутина, те же мелочные счеты. Что же мне делать — жить под одной кровлей с мужем, оставаясь чужой ему, или уйти от него?
Асканаз не знал, что ответить. Почувствовав его смущение, Ашхен быстро сказала:
— Я не жду от тебя ответа на мой вопрос. Я думаю лишь о моем Тигранике: ведь он одинаково привязан и ко мне, и к отцу. Как мне разрушить его веру в отца? На это я не могу решиться. Я чувствую себя связанной по рукам и ногам! Пойти на то, чтобы лишить ребенка отца, сделать его сиротой? Прежде я думала, что Тартаренц может измениться, но чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что вода из одного источника имеет один и тот же вкус… Этот человек создан для того, чтобы унижаться перед другими и унижать своих близких. Скажи, Асканаз, почему человек так несовершенен?..
— Ашхен, дорогая… Даже самый совершенный человек не лишен каких-либо недостатков.
— Это уж относится к области отвлеченных суждений, Асканаз. Ну ладно, извини меня, что в последний вечер я говорю с тобой о таких неприятных вещах. Сердце у меня переполнилось, хотелось излить свое горе. До последнего времени меня останавливало то, что я затруднялась доверить кому-нибудь заботу о Тигранике. Теперь мне будет легче — мой малыш уже подрос. Осенью поступлю в университет. А если Тартаренц будет ставить мне палки в колеса, я уж не знаю, что сделаю. Не могу я больше терпеть это унизительное положение! Как бы мне хотелось, чтобы ты скорее вернулся!.. Об всем этом я могу говорить только с тобой.
— Но почему ты молчала до сих пор, Ашхен? Если бы я знал, что мое присутствие хоть чем-либо облегчит твое положение, я никуда бы не поехал…
— Лишнее это… не стою я такой жертвы.
— Не говори так, Ашхен! До сих пор я не имел представления о твоей жизни, но теперь… ты и сама знаешь, что такая ничтожная жертва…
— Не надо. Если я еще раз приду к тебе с подобной жалобой, то покажусь тебе надоедливой, а то и просто жалкой… А это было бы для меня ужасно.
— Ашхен, мы всегда сумеем понять друг друга…
— Ну, Асканаз, я отняла у тебя много времени, пойдем — нас ждут.
Асканаз встал, помог подняться Ашхен, окинул ее пристальным взглядом: на ее лице было обычное выражение горделивого достоинства. Асканаз уверил Ашхен, что он постарается вернуться как можно скорее, чтобы помочь ей сдать приемные экзамены в университет. Проводив Ашхен на квартиру Вртанеса и попрощавшись со всеми, он вернулся домой и тотчас же лег спать, но долго не мог уснуть. Рассказ Ашхен встревожил его. Как должно быть полно горечи ее сердце, если она, не щадя себя, отбросив всякую гордость, призналась ему во всем! И чем больше думал он об Ашхен, тем больше росло его уважение и сочувствие к ней.
В условленный час на рассвете Асканаза разбудил гудок машины. Он быстро оделся, взял чемодан и спустился вниз. Машина принадлежала учреждению, начальник которого, некий Умршат, собирался лететь в Москву. Асканаз поздоровался с Умршатом и поблагодарил его за то, что он заехал за ним.
Несколько минут спустя машина помчалась по безлюдным улицам города. Как только Асканаз вышел из машины, он увидел Габриэла: верный своему обещанию, юноша приехал проводить Асканаза. Разговаривая с ним, Асканаз заметил грузовую автомашину, остановившуюся у здания аэропорта; оттуда вышли двое мужчин, неся деревянные ящики на плечах. Узнав приехавших, Асканаз с Габриэлом поспешили к ним навстречу.
— Аракел, Гарсеван, ну зачем вы беспокоились! — воскликнул Асканаз. — Я же говорил Наапет-айрику…
Прибывшие были братьями. Младший, Гарсеван, был богатырского сложения. Он легко опустил наземь тяжелый ящик, стиснул своей ручищей руку Асканаза и сказал, улыбаясь:
— Ну, стоит ли об этом говорить, Асканаз-джан? Это фрукты первого сбора, твои любимые абрикосы. В самолете довезешь, не испортятся. Только смотри: кого бы ни угощал, говори, что это абрикосы из Двина!
Асканаз обернулся, чтобы пожать руку Аракелу, а Гарсеван продолжал:
— Да и Наапет-айрик был бы в обиде на нас, если бы мы тебя отправили без фруктов!
Веял легкий утренний ветерок. На вершинах Арарата не было ни облачка, и родная природа словно смягчала боль тяжелых переживаний последних дней. Асканазу доставила большую радость встреча с друзьями детства, с людьми, у которых было честное, любящее сердце. Когда прозвучал сигнал посадки в самолет, Асканаз сердечно расцеловался с Габриэлом, Аракелом и Гарсеваном. Через две-три минуты он из окна самолета прощально махнул им рукой.
Мотор «Дугласа» зарокотал, самолет побежал по полю, набирая скорость, и незаметно оторвался от земли. Асканаз попробовал найти внизу фигуры провожающих, но их уже не было видно.
Глава седьмая
ВСТРЕЧА СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
Асканаз не впервые совершал полет. Он удобно уселся в кресле, чтобы крыло самолета не мешало ему глядеть вниз.
Из окна самолета здания, похожие на пестрые детские кубики, очертания полей, холмов и лесов напоминали рельефную карту. В памяти Асканаза живы были впечатления последних дней, особенно его беседа с Ашхен. Он помог устроиться Умршату и больше не обращал внимания на него. Склонив голову к окну самолета, он мысленно уносился в Ереван и беседовал с оставшимися там друзьями.
Умршат, довольно тучный мужчина лет пятидесяти, с широким круглым лицом, впервые совершал поездку в самолете. Он попробовал было глядеть в окно, но почувствовал себя плохо и откинулся назад; желая отвлечься от неприятных ощущений, он тронул Асканаза за плечо. Почувствовав руку Умршата, Асканаз повернулся к своему спутнику.
— Значит, вы летите в Москву? — задал он вопрос, для того чтобы как-нибудь завязать беседу.
— Да, я… — начал Умршат и проглотил окончание фразы, потому что самолет нырнул в воздушную яму: могло показаться, что под ногами пассажиров проваливается пол.
Асканаз постарался успокоить Умршата, заверил его, что эти воздушные ямы не опасны, объяснил, почему они бывают. По-видимому, Умршат слушал его невнимательно, потому что через несколько минут испуганно спросил:
— А что же такое эти самые «воздушные ямы?» Много их еще встретится нам?
— А это уж зависит от атмосферных условий, от местности, над которой мы пролетаем, и от опытности пилота.
Этот неопределенный ответ еще более встревожил Умршата. Достав платок, он начал вытирать вспотевший лоб, хотя в самолете было довольно прохладно. Жалея Умршата, Асканаз старался развлечь его; вскрыв один из ящиков, он угостил своего спутника абрикосами и старательно занимал его беседой вплоть до той минуты, когда самолет опустился на Тбилисский аэродром. Как только самолет, пробежав по дорожке, остановился, Умршат схватил свой чемодан и кинулся к дверце. Он осторожно спустился по лесенке и, лишь встав ногой на землю, ответил на вопрос Асканаза.
— Понимаешь, забыл тебе сказать, что в Тбилиси у меня есть кое-какие дела. Ты не сердись, дорогой мой, что бросаю тебя, я денька через два выеду отсюда. Есть у меня тут друзья-приятели, сядем вместе в международный и тихо-мирно поедем. К чему спешить, все равно смерть не опередишь. Ну, будь здоров, доброго пути тебе, без «воздушных ям». Как только вернешься в Ереван, прямо ко мне!
— Спасибо, — отозвался Асканаз.
Умршат с деловым видом посмотрел на часы и воскликнул:
— Да, вот что значит самолет, в один час домчал из Еревана в Тбилиси!
У него был такой вид, словно он совершил некий подвиг, согласившись лететь в самолете, и удивляется тому, что Асканаз не рассыпается в похвалах его отваге.
Самолет летел по маршруту Тбилиси — Сухуми — Ростов — Харьков — Москва.
Еще не было одиннадцати, когда самолет опустился на Сухумский аэродром. Вместе с другими пассажирами Асканаз направился к буфету. Все старались пораньше занять места за немногочисленными столиками, несмотря на то, что один из служащих аэродрома громко объявил:
— Товарищи, можете завтракать не торопясь… Погода вдоль Кавказского хребта ухудшилась. Начальник аэродрома запретил давать старт в направлении Ростова.
Убедившись, что вылет действительно откладывается на неопределенное время, Асканаз не стал ждать, пока освободится место за одним из столиков. Решив позавтракать позже, он вышел из буфета, чтобы осмотреть окрестности. Проходя мимо канцелярии аэродрома, он обратил внимание на какого-то военного, который, стоя спиной к нему, беседовал с одним из служащих аэродрома. Что-то знакомое было в фигуре военного, но Асканаз счел неудобным мешать чужой беседе. Пройдя двадцать — тридцать шагов, он повернул обратно. Военный шел ему навстречу. Асканаз невольно вскинул руку к шляпе. Но военный — полковник, судя по знакам различия, — прищурил глаза и протянул руку Асканазу.
— Ну, вот и встретились снова! — произнес он добродушно. Полковнику казалось на вид лет сорок пять. Это был человек крепкого сложения, чуть выше среднего роста. Уже потерявшая свежесть кожа лица была покрыта легким загаром. Его проницательные глаза смотрели ласково и чуть-чуть насмешливо.
В течение трех лет Асканаз проходил военную переподготовку в части, которой командовал Андрей Федорович Денисов. Асканаз удачно выполнил несколько ответственных поручений командира полка, и Денисов представил Асканаза на утверждение в звании старшего политрука. В военном комиссариате Спандаряновского района города Еревана в военную книжку Асканаза только недавно занесли его новое звание.
Предполагая, что Асканаз снова едет на переподготовку, Денисов весело сказал:
— Снова будем вместе?
— Нет, товарищ полковник, в этом году меня не призвали.
— Ну, какой там полковник? Будешь обращаться ко мне по уставу, когда наденешь форму. А как твои научные дела? Я ведь знаю, что и у меня в части ты порою занимался своей наукой.
— Был такой грех, — кивнул головой Асканаз.
— Какой у тебя маршрут? — кратко, по-военному справился Денисов.
— Киев. До Харькова — самолетом, дальше — поездом.
— Вот так совпадение, черт побери! Ведь я возвращаюсь домой из санатория. Наши проводят лето под Киевом, на берегу Днепра. Я обещал жене последние десять дней отпуска провести дома.
Он взглянул на Асканаза и с присущей русскому человеку прямотой добавил:
— Там моя Алла собрала у себя на даче всю родню: сестра ее, племянники, еще какая-то родственница… А мы ждем с Дальнего Востока нашу старшую дочку, приедет погостить с новорожденной дочуркой… Одним словом, будет настоящий матриархат! Да, забыл твое имя… Ас… Ас… Вспомнил! Асканаз Аракелович, если тебе не скучно будет у нас и нет надобности останавливаться прямо в городе, поедем к нам на дачу. Скажу Алле: а вот это уже мой гость! Спаси, друг, а то целых десять дней в компании женщин и детей я могу не выдержать.
— Спасибо.
В дни переподготовки, когда Асканаз встречался с Денисовым как с командиром части, он и не предполагал, что может когда-либо чувствовать себя так свободно и Денисов будет разговаривать с ним как близкий знакомый. Но все поведение Денисова было так естественно и внушало такое доверие, что Асканаз вскоре почувствовал: иных отношений с этим прошедшим через горнило жизненных и военных испытаний человеком у него не могло и быть. Оба они были так рады этой неожиданной встрече, что теперь время проходило для них незаметно.
Вечером выяснилось, что самолет вылетит на следующее утро. Асканаз переночевал в номере Денисова, в гостинице. Они условились, что по прибытии в Киев выедут оттуда на машине на дачу Денисовых. Асканаз намеревался денька два погостить у Денисова, а в воскресенье утром тот обещал отправить его обратно в Киев на пароходе. Денисов с особым воодушевлением описывал прелесть предстоящего путешествия по Днепру. Асканаз с благодарностью принял это предложение, потому что оно давало ему возможность ближе познакомиться с Украиной; кроме того, он боялся, что, отклонив предложение Денисова, обидит этого человека, которого искренне уважал.
Глава восьмая
КРОВАВОЕ УТРО
В среду ночью Денисов и Асканаз прибыли в Киев и на следующее же утро в автомашине выехали из города. Дорога шла вдоль берега Днепра на юг. К вечеру они добрались до того украинского местечка, где находилась семья Денисова. Название этого местечка — Краснополье — Асканаз объяснял тем, что вокруг него расстилались засеянные бураком обширные поля. Краснополье понравилось ему и своими возделанными полями и окрестными лесами, и, в особенности, тем, что рядом протекал Днепр.
Семья Денисова жила в двухэтажном кирпичном домике, состоявшем из шести комнат и окруженном пристройками: кухня, сарай баня. Перед домом был разбит просторный сад, где росли яблони и вишневые деревья.
У калитки Денисова и Асканаза встретила жена полковника Алла, свояченица его Оксана Мартыновна Остапенко с десятилетним сыном Миколой и семилетней дочуркой Аллочкой, названной в честь тетки, и ее молоденькая родственница. Денисов расцеловался со всеми, а маленькую Аллочку подхватил на руки и вместе с нею поднялся в гостиную на второй этаж.
Асканаз, в первую минуту почувствовавший себя неловко среди незнакомых людей, очень скоро освоился с ними. Этому способствовало и то, что с Аллой Мартыновной он был знаком и раньше.
— Вот и мой комиссар… Как хорошо ты сделал, Андрей, что привез его с собой! — воскликнула Алла и затем, обращаясь к сестре, добавила со смехом: — Ну вот, Оксана, смотри, это тот кавказец, о котором я тебе говорила.
Асканаз пожал протянутую ему белую руку, которой придавали особую прелесть ямочки на кисти. Он не сразу отвел взгляд от улыбающегося лица Оксаны, освещенного закатными лучами солнца. Пышные кудри Оксаны были подхвачены на затылке голубой шелковой сеткой.
Оксана, каждое движение которой дышало прелестью жизнерадостной, красивой женщины, высвободила свою маленькую руку из ладони Асканаза и тихонько шепнула сестре:
— Так вот каков, оказывается, твой Асканаз!
На что намекала Алла Мартыновна, знакомя Асканаза с сестрой? Ее слова: «Вот и мой комиссар!..» — говорили о каких-то приятных для обоих воспоминаниях.
Об этом событии Алла Мартыновна рассказала во время ужина. Прошлым летом, когда часть Денисова стояла лагерем под Ростовым, Алла Мартыновна приехала к мужу и поселилась вместе с ним в деревянном домике. В лагерном клубе часто устраивались вечера. В клубе-то и познакомился Асканаз с Аллой Мартыновной, которая не пропускала ни одного вечера. Денисов, перегруженный делами, не всегда имел возможность посещать клуб, и Асканазу пришлось раза два проводить Аллу Мартыновну домой. Однажды Асканаз, получив письмо от Вардуи, был в приподнятом настроении и поделился своей радостью с Аллой Мартыновной; она после этого стала относиться к нему еще приветливее. Во время очередных военных маневров Денисов возложил на Асканаза обязанности комиссара санбата. Жены командиров тоже захотели принять участие в маневрах в качестве медсестер санбата, и Алла Мартыновна была назначена старшей сестрой. Во время маневров Асканаз обратил на себя внимание заботливым отношением к бойцам и санработникам части. Стоило ему появиться в подразделениях, как кто-нибудь из сестер восклицал: «А вот и наш комиссар!»
Дойдя до этого места, Алла Мартыновна обратилась к Асканазу:
— А вы помните такой случай? Когда мы как-то отдыхали на берегу речки, молодой артиллерист, увидев группу санитарок, громко крикнул: «Ой, палец мне прищемило колесом! Пусть самая молоденькая и хорошенькая сестричка перевяжет мне рану, а то плохо мое дело!» Тут наша Анютка, которая считала себя самой молоденькой и хорошенькой среди сестер, так и кинулась к нему со всех ног на помощь… А артиллерист заложил, руку за пазуху, смотрит на Анютку и улыбается, улыбается и спрашивает: «Скажи как тебя зовут?» Анютка сердится: «Зачем тебе мое имя, давай скорей руку, перевяжу!» А тот хохочет: «Душенька, говорит, прошла у меня боль, как только я тебя увидел! Встретимся после маневров, ладно?..» Залилась краской наша Анютка, бросилась назад… Ох, и веселые же парни эти артиллеристы!
При этих словах все расхохотались, а Андрей Федорович лукаво спросил:
— Как же это Алла: а тебя, значит, никто не позвал, ты никому не приглянулась?
— Нет, — хладнокровно отозвалась Алла, — мне не повезло. После того как ты однажды ошибся, счастье от меня отвернулось. Второй раз никто не ошибался.
Алла и Андрей Денисовы были женаты уже двадцать три года. Они встретились в трудные дни восемнадцатого года, когда Андрей был в рядах вновь созданной Красной Армии, сражавшейся с полками генерала Краснова на Дону. В этих боях Андрей был ранен, и если б не заботы Аллы, которая спрятала его в своем доме, его не было бы в живых. В эти тревожные дни они и полюбили друг друга и стали неразлучными на всю жизнь. Алла наравне с Денисовым несла все тяготы войны. Особенно трудно стало тогда, когда через год после брака у нее родилась дочь и она с ребенком на руках переезжала с места на место.
Денисов и после гражданской войны остался в рядах Красной Армии, прошел учебу в военной школе, а затем окончил академию.
Алла не расставалась с мужем; с течением времени все больше росла их взаимная привязанность, особенно за последние два года, когда их единственная дочь вышла замуж за военного и уехала с мужем на Дальний Восток. Денисов привык к повседневным заботам жены и не мыслил себе жизни без нее. А Алла Мартыновна считала, что если муж будет лишен ее забот, он не сможет полностью отдаваться своему делу, поэтому уход за мужем и заботы о нем считала своего рода общественной обязанностью.
Испытанные в молодости жизненные невзгоды оставили свой след на лице Аллы Мартыновны: глаза ее утратили прежний блеск, около висков пролегли тонкие морщинки. Видя мужа отдохнувшим и поздоровевшим, Алла радовалась и, одновременно, тревожилась, не зная, как сообщить ему о полученной телеграмме. Дочь сообщала в телеграмме, что поездка откладывается на месяц: мужу передвинули отпуск.
Но когда Алла сказала о телеграмме Денисову, тот спокойно ответил:
— Ну что ж, ждали два года, потерпим еще месяц.
…Ужин затянулся. Сидя рядом с мужем, Алла то и дело подкладывала ему на тарелку особо аппетитные ломтики поджаренной курятины. Оксана сидела напротив Асканаза и, поглядывая на него смеющимися глазами во время рассказа сестры о событиях лагерной жизни, мысленно говорила себе: «Так вот он каков, Асканаз! Недаром Алла так хвалила его — настоящий кавказец, высокий, черноволосый, с пламенными глазами».
С присущей ей непосредственностью Оксана сказала:
— А мой Павло без конца учится. Чего он так застрял в Москве?
Муж Оксаны Павло Остапенко был инженером-строителем; его послали в Москву освоить новые методы строительства мостов.
— «Век живи — век учись», правильно сказано, — философски заметил Денисов.
— Опять ты свое твердишь, Андрей Федорович, — рассердилась Оксана, теребя салфетку. — Откуда я знаю, в каком деле он совершенствуется — в строительном или в искусстве пленять девушек?!
Алла укоризненно посмотрела на сестру: ей не хотелось, чтобы Оксана говорила о муже таким тоном в присутствии Асканаза. Молча слушавший Оксану Асканаз решил придать разговору шутливый характер.
— Насколько мне известно, инженеры — люди добропорядочные. Они гораздо более увлекаются проектами, чем девушками, чего нельзя сказать о поэтах и артистах.
— Ох, мой Павло ни одному из них не уступит в этом отношении! — покачала головой Оксана.
— Оксана убедилась на своем опыте… — лукаво поддел Денисов.
— Потому-то и неспокойна, что убедилась! — защитила сестру Алла и обратилась к Асканазу, чтобы переменить разговор. — А как ваша невеста? Разве она не тревожится, когда вы отсутствуете?
— И очень хорошо, если тревожится: это доказывает, что действительно любит! — вмешался Денисов.
И Алла и Оксана заметили, как омрачилось лицо Асканаза. Он наклонился к Алле и сказал на ухо несколько слов. Алла неожиданно вскочила с места, притянула к себе голову Асканаза, поцеловала его в лоб и снова села. На глазах у нее блеснули слезы.
Ни Денисов, ни Оксана ни о чем не расспрашивали и старались переменить разговор, когда в комнату вбежали Микола и Аллочка в сопровождении молодой девушки, которая встретила Денисова и Асканаза у калитки сада.
Эта девушка, которую звали Марфушей, была родственницей мужа Оксаны. Она была одета в вышитую украинскую сорочку и юбку, на шее у нее висели длинные мониста. При взгляде на лицо Марфуши невольно приходило на ум выражение «кровь с молоком»; улыбка не исчезала с ее лица: казалось, что она так и родилась — с улыбкой.
Марфуша поставила на стол вазы со свежей черешней и земляникой, принесла двинские абрикосы, которые в дороге изрядно помялись. Не дожидаясь, пока ей положат фрукты на тарелочку, Аллочка схватила со стола абрикос и откусила его. Несколько капелек сока пролилось на ее платьице. С упреком покачав головой, Оксана осторожно вытерла платье и положила ей на тарелку несколько плодов.
Асканаз вспомнил просьбу Наапета — говорить всем, кого он будет угощать, что абрикосы выращены в Двине. Но воспоминание о Вардуи не располагало к рассказу о том, где растут абрикосы. Появление детей отвлекло его от горьких мыслей. Через несколько минут Аллочка так освоилась с Асканазом, что уселась к нему на колени. Погладив его по щеке, она шепотом сообщила ему о том, что ей хочется еще абрикосов. Оксану тронула эта доверчивость девочки, и гость показался ей еще более симпатичным. Выбрав абрикос для девочки, Асканаз спросил, ходит ли она в школу. Чисто выговаривая слова по-украински, Аллочка сообщила, что с первого сентября она будет ходить в школу имени Шевченко, а двадцатого августа ей исполнится семь лет. Желая похвастаться своими знаниями, она с гордостью сообщила и о том, что уже умеет читать.
— Это я ее выучил, — поспешил заявить Микола.
— И вовсе не ты, а мама! — вздернув носик, воскликнула Аллочка.
— Ну, а стихотворение какое-нибудь знаешь? — спросил Асканаз, лаская ее кудрявую головку.
Девочка ответила не сразу. Она взглянула на мать и тетку, потом искоса посмотрела на Миколу: очевидно, она не очень ладила с братом.
Оксана с материнской гордостью любовалась дочуркой.
— Скажи дяде, кем ты хочешь быть, — подбадривала она.
— Артисткой! — воскликнула Аллочка.
Спрыгнув с колен Асканаза, она подбежала к матери и зашептала ей на ухо.
Мать что-то сказала Марфуше, и та увела Аллочку в соседнюю комнату. Заметив, что Асканаз повеселел, Денисов и Алла Мартыновна с улыбкой переглянулись.
Через несколько минут вернулась Аллочка, держа за руку Марфушу. Девочка была одета в длинное, доходившее до пят белое платье; длинные распущенные волосы были перехвачены алой лентой.
Со своей неизменной улыбкой Марфуша объявила:
— Выступает артистка Алла Павловна Остапенко. В программе — Пушкин и Тычина.
Все зааплодировали, Микола буркнул: «Начинается!» — и уселся поудобнее, чтоб видеть каждое движение младшей сестренки.
Маленькая «артистка» довольно уверенно начала декламировать:
Прочтя начало, девочка остановилась, чтобы перевести дыхание, проверила, на месте ли алый бант, и уже после этого продолжала декламировать, а кончив читать, поклонилась. Все зааплодировали. Девочка смутилась, попятилась и, наступив на подол платья, чуть не упала.
— Вот, так и знал! — воскликнул Микола.
Оксана вскочила с места, подхватила Аллу и булавкой подколола ей подол. Во втором отделении своего концерта Аллочка прочитала по-украински стихотворение Тычины.
Под громкие аплодисменты «артистка» убежала в другую комнату. Асканаз со смехом побежал за нею, поймал ее и, усадив на плечо, вернулся обратно, с восхищением сказав Оксане:
— Прекрасная память и какое чистое произношение!
— Оба стихотворения из моего учебника, — объяснил Микола. — Алла подслушивала, когда я наизусть учил, вот и запомнила.
— Ну да, Миколушка, конечно, из твоего учебника, — подтвердила мать, притянув к себе сына.
— Как видно, обычный спор между братом и сестрой, — заметил Асканаз.
Оксана попросила Марфушу увести детей спать. Прощаясь, Аллочка по очереди поцеловала всех. Расцеловав ее в обе щеки, Денисов предложил:
— Ну, а теперь поцелуй Миколку…
— Не хо-о-чу, он меня щекотит…
— Вовсе нет! — возмутился Микола. — Вас она целует, а меня в щеку кусает. Я-то ведь не кусаю ее, а только щекочу, чтобы рассмешить.
— Ах ты, баловница!.. — лаская девочку, с упреком сказал Денисов.
Аллочка надула губки, но Марфуша по знаку Оксаны увела ее.
— Если им позволить, до утра будут препираться!
После этого еще около часа сидели в столовой.
Асканаз чувствовал себя совершенно непринужденно в этой новой обстановке и с увлечением рассказывал Алле Мартыновне и Оксане о своих занятиях в области истории. Заговорили они о гражданской войне на Украине, а также о вновь воссоединенных с Украиной областях. Для Денисова и Аллы его познания не казались удивительными, но Оксана, муж которой часто бросал ей упреки в том, что она, кроме крепдешинов, чулок и туфель, ничем не интересуется, удивлялась тому, что историку-армянину так много известно об Украине, даже и о том, чего она сама не знала. Прислушиваясь к тому, что рассказывал Асканаз, она время от времени прерывала его восклицаниями:
— Да, да, вы правы, хороша наша Украина!
Лицо Оксаны сияло такой радостью, ее глаза блестели так ярко, что Асканаз невольно залюбовался ею.
…Отпуск Денисова кончался первого июля. Он обещал жене побыть на даче последние десять дней. Но на следующий день, увидевшись со старыми друзьями и просмотрев газеты за последнюю неделю (он не всегда успевал читать в дороге), он начал тревожиться. Асканазу он сказал лишь одно:
— Очень уж разгорелся аппетит у гитлеровцев после дешевых побед, чем-то скверным пахнет…
Совесть солдата не давала ему покоя. Десять дней сидеть дома только потому, что у него есть формальное право на отдых, — нужно ли это? Тем более что он успел и полечиться и отдохнуть. Теперь ему не терпелось поскорее приступить к работе. Первый день он кое-как сдерживался, с улыбкой следил за тем, как Асканаз забавляется в саду с Миколой и Аллочкой, вовлекая в игру и Марфушу с Оксаной.
В субботу утром он с Асканазом отправился на речную пристань и, узнав, что в воскресенье утром пароход отходит в Киев, заказал два билета: для Асканаза и для себя. Вернувшись домой, он сообщил жене о своем решении. Алла Мартыновна опечалилась, но, зная характер мужа, не стала возражать. Чтоб успокоить ее, Денисов обещал приехать на дачу через несколько дней.
За ужином, услышав о том, что на следующее утро Андрей Федорович и Асканаз уезжают, Оксана не могла скрыть своего недовольства.
— Но почему так скоро? Ведь дети так привыкли к Асканазу Аракеловичу!..
Она ясно дала понять, что ей приятно общество Асканаза.
Уложив детей, Оксана засуетилась, уставила стол закусками, сама накладывала полные тарелки зятю, сестре и Асканазу.
Уже был первый час ночи, когда Денисов и Алла ушли в свою комнату, Асканаз и Оксана вышли на балкон.
От Днепра веяло свежестью. Мягко шелестела в саду листва яблонь и вишневых деревьев. Небо было усеяно звездами.
Оксана, накинув на плечи тонкий шарф, с минуту молча вглядывалась в колеблющиеся ветки, затем повернулась, невольно задев плечом Асканаза.
— Пожелать вам доброй ночи? — спросила она.
— Благодарю вас. Я, кажется, побуду еще немного на балконе… — отозвался Асканаз.
— Я не мешаю вам?
— Ну, что вы говорите, Оксана Мартыновна?! Я отдохнул после обеда, и мне не спится…
— Итак, вы завтра уезжаете, и уезжаете навсегда?
— Уезжаю завтра, да, но почему же навсегда? Ведь сказано: «Гора с горою не сходится, а человек с человеком может встретиться».
— Значит, надо надеяться только на счастливый случай?
И Асканазу показалось, что Оксана слегка вздохнула. Они не заметили, как, разговаривая, медленно спустились по ступенькам и подошли к скамейке. Помогая Оксане перейти через канавку, Асканаз взял ее под руку. Оксана не отняла своей руки. Они молча уселись на скамейку.
Шарф Оксаны соскользнул с плеч, ее обнаженные руки касались Асканаза.
Взяв нежную руку Оксаны, Асканаз коснулся ее губами и сказал:
— Взгляните, Оксана Мартыновна, как прекрасен Млечный Путь! У нас есть предание о нем — армяне называют его «дорогой, по которой убегал укравший солому». В такие минуты чудится, что не только мы, но и вся земля, вся вселенная смотрит на небо и любуется его красотой. И мне кажется, что все живое в природе объединено одной связью, и этой связью является любовь… Деревья-исполины питают своими соками молодую поросль, птицы заботливо оберегают птенцов от хищников…
— Да, вы правы… — задумчиво подтвердила Оксана. — И когда в такие минуты смотришь на мир, кажется, что нет ничего лишнего, что каждое существо имеет право на жизнь, ведь сердце природы так велико, что у всякого в нем есть свой уголок.
— Да, природа велика и необъятна! — подхватил ее мысль Асканаз. — Но человек… у настоящего человека сердце вмещает весь мир — каждое явление природы, каждое ее творение имеет свое отражение в человеческом сердце.
— Сердце человека подобно Днепру, так же глубоко и бурно, как он… Это не мои слова, так говорила моя подруга Клаша, о которой шла молва, что она втайне пишет стихи.
— Эх, неладно построен мир! Мы восхищаемся здесь красотой природы, а там, на Западе… — Мысли его приняли другое направление: он подумал об опасности войны. Асканаз так и не закончил фразы. Он молча поднес, к губам руку Оксаны, Оксана сидела так близко, что ему казалось — он слышит биение ее сердца.
— Ну, почему же вы замолчали, Асканаз Аракелович? Говорите же! — проговорила Оксана, вглядываясь в лицо Асканаза.
Но Асканазу как будто не хотелось говорить. Он молча разглядывал далекий горизонт. Не дождавшись ответа, Оксана сказала:
— Да, вы правильно сказали о любви, Асканаз Аракелович. Мне кажется, что человечество не осознало еще всей силы и всего значения любви. Мы узнали силу воды, силу ветра, научились использовать железо и золото, пытаемся проникнуть в глубины атома, но мы не научились еще целить ту великую силу, которая таится в душе человека. И если человечество научится ценить эту силу, всемогущую силу любви, тогда человеку уже не придет в голову использовать силы природы для уничтожения людей.
— Да, именно нашему поколению предстоит задача научить этому человечество.
То беседуя, то умолкая, Асканаз и Оксана не заметили, как шла к рассвету короткая июньская ночь, самая короткая ночь в году. Горизонт на востоке чуть просветлел, растаял на небе бледный диск луны. Асканаз помог Оксане встать со скамейки.
— Если вы не устали, Оксана Мартыновна, пройдемся немного, полюбуемся восходом. Хороши восходы на Украине!
— О, нет, не устала, — откликнулась Оксана.
Она на минуту зажмурилась, затем тряхнула головой, как бы прогоняя сонливость.
Они взобрались на ближний холм; вдали, на равнине, как бы разлилось пламя пожара. Через несколько минут над горизонтом поднялся огненный диск солнца. Послышалось громкое щебетанье птиц. Утренний ветерок повеял в лицо Асканазу.
Осторожно оправив шарф на плечах Оксаны, Асканаз ласково взглянул на ее порозовевшее от солнечных лучей лицо.
— Посмотрите, как они радуются солнцу, радуются любви… — проговорила Оксана, показывая рукой на пролетавшую над их головой стайку воробьев.
Асканаз с восхищением любовался восходящим солнцем, смотрел то на залитые золотым сиянием поля, то на заалевшее лицо Оксаны. И вдруг с западной стороны донеслись оглушительные раскаты взрывов.
Асканаз и Оксана переглянулись.
Какие-то здания неподалеку от пристани, горели, охваченные пламенем…
Они спустились с холма и побежали к дому. На балконе стоял Денисов; услышав взрывы, он оделся и вышел во двор. Заметив Оксану и Асканаза, он махнул им рукой и, словно говоря сам с собой, негромко сказал:
— Это уже похоже на войну…
Вновь послышались взрывы и далекий гул. На этот раз ясно слышался рокот бомбардировщиков.
Вставало кровавое утро двадцать второго июня.
Глава девятая
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
Весть о начале войны дошла до Еревана в час дня, когда Молотов сообщил по радио, что гитлеровские армии вероломно ворвались в советские пределы вдоль всего западного фронта.
Был жаркий июньский день. Поднявшийся ветер засыпал пылью лица прохожих. Перед громкоговорителями на улицах и площадях толпился народ. Радиорупора то по-русски, то по-армянски повторяли выступление Молотова. Военнообязанные и добровольцы спешили в военкоматы.
Многие ереванцы еще с утра выехали за город, чтобы провести воскресный день в садах или на берегах Занги. Одни разводили костры для шашлыков, другие, уже закончив приготовления к завтраку, расселись вокруг скатертей, разложенных прямо на траве, когда до них дошла весть о войне. Не прошло и часа, как большинство из них вернулось в город. К двум часам дня в городе нельзя было найти человека, который не слышал бы о нагрянувшем бедствии.
Теперь другими казались не только душевное состояние людей, но и весь их облик. Люди стали молчаливы, сосредоточенны, многое из того, что до этого казалось важным и неотложным, сейчас потеряло всякое значение. Всех занимал один вопрос — какой размах примет война, что готовит завтрашний день.
Семья Шогакат-майрик и в это воскресенье по традиции должна была собраться, чтобы отобедать вместе. Думали собраться у самой Шогакат-майрик, но ей после отъезда Асканаза не хотелось возиться с воскресными обедами. Она охотно приняла приглашение. Седы.
К двенадцати часам Цовинар побежала за бабушкой и дядей. Ара удалось уговорить племянницу посидеть хоть полчаса рядом с Шогакат-майрик. Стоя перед полотном с кистью в руках, Ара трудился над своей картиной. Цовинар потихоньку гримасничала. Но это не мешало Ара; характер Цовинар проявлялся яснее. Шогакат-майрик, глядя на сосредоточенное лицо сына, думала о том, что сегодня же поговорит с Вртанесом об Ара, скажет ему и невестке, что Ара и Маргарит любят друг друга, и попросит старшего сына помочь устроить их судьбу.
Ара выключил радио, чтоб шум не мешал ему сосредоточиться. С небольшими передышками он продолжал настойчиво работать. Сегодня кисть повиновалась ему лучше, чем всегда, каждый штрих словно дополнял чем-то новым набросок на холсте. С нетерпением молодого художника он представлял себе тот момент, когда покажет своему учителю готовую картину.
Внезапно дверь распахнулась и в комнату без стука вошла пожилая соседка; на ее побледневшем лице еще сильнее выделялся крупный нос.
— Да ты что, разве не слышала, Шогакат-майрик?! Война началась!..
Шогакат вскочила с места, Ара застыл с поднятой в воздухе кистью, лукавое личико Цовинар приняло серьезное выражение.
— Какая война, где? — с ужасом переспросила Шогакат.
— Фашисты на нас напали!..
— Ой!.. — Колени у Шогакат подкосились, она упала на стул и ударила себя по коленям. — А мой Асканаз в самом пекле, значит, окажется…
— Э-э, все мы в пекле окажемся… — простонала соседка.
— А что говорит Мхитар? Он же у больших людей бывает, вероятно, ему многое известно… — Шогакат-майрик говорила о единственном сыне соседки.
— С утра вышел из дому, до сих пор не возвращался. Когда еще вернется — не знаю! Ах, как будто предчувствовало его сердце, не раз он говорил мне: «Смотри, не грусти, если случится мне на войну пойти!»… А как не грустить — ведь единственный он у меня!.. Ох, не выдержит его отец такого горя, не выдержит!
Пока Шогакат переговаривалась с соседкой, Ара спешно прибрал палитру, кисти, краски; он кинул тоскливый взгляд на незаконченное полотно: в эту минуту ему показалось, что не скоро ему можно будет вновь подойти к мольберту и взять кисть в руки.
Цовинар невольным движением схватила Ара за руку и молча заглянула ему в глаза.
Вместе с сыном и внучкой Шогакат-майрик поспешила к Вртанесу. Она уже не думала о семейном обеде, ей хотелось поскорее увидеть старшего сына.
Они проходили по улицам города, и Шогакат-майрик задавала вопросы всем встречным, чувствуя потребность говорить с людьми, слышать их голос:
— Правда это, да?
— Да, правда, майрик.
Никто не переспрашивал, о чем хотела узнать эта встревоженная женщина, — все и так понимали ее.
Когда они добрались до квартиры Вртанеса, открывшая им двери Седа молча обняла и крепко поцеловала Ара. Шогакат-майрик невольно прослезилась. Вртанес стоял спиной к ним и говорил с кем-то по телефону.
Шогакат-майрик напрягла слух, чтобы понять из отрывочных слов сына, о чем идет речь. Ей показалось, что он говорит о вещах, не имеющих никакого отношения к войне. Вртанес кончил говорить по телефону, обернулся к матери и брату. Он был задумчив, но спокоен. Он поцеловал мать, обнял Ара за плечи, затем сел за свой письменный стол, взял ручку и склонил голову.
Шогакат-майрик не раз бывало расспрашивала Вртанеса, что он пишет. Тот обычно отделывался неопределенным ответом, но через несколько дней сам предлагал матери прочесть отрывки из написанного, так что Шогакат-майрик порою приходилось быть первым читателем и первым критиком его произведений. И сейчас Шогакат-майрик захотелось узнать, что пишет Вртанес. И она нетерпеливо спросила, не обращая внимания на то, что сын уже начал писать:
— Весь мир перевернулся, Вртанес!.. Скажи, что ты пишешь?
— Пишу о том, что враг будет побежден! — не поднимая головы и продолжая писать, ответил Вртанес.
Уверенный голос сына поразил ее. Она повернулась к Ара, который задумчиво перебирал книги Цовинар. Смотрела на него Шогакат-майрик, и старая, тайная забота вновь сжимала ей сердце. Она словно только сейчас вспомнила, что ее всегда точила мысль о том недостатке Ара, который мог иметь роковое значение в его жизни. Прошло несколько минут, и Вртанес кончил писать. Перед ним была даже не полностью написанная страничка. Он перечел ее и, вложив в конверт, обратился к брату:
— Ара, отнеси, пожалуйста, этот конверт в редакцию «Советакан Айастана»[7]: сегодня будет выпущен специальный номер газеты.
Ара взял конверт и тотчас вышел.
Вртанес сел рядом с матерью и с минуту молча смотрел на ее морщинистое лицо. Он смотрел на лицо матери, думая о том, что и здесь, дома, и там, на просторах необъятной родины, идет война, война во имя счастья и покоя матерей, война с паникой и растерянностью, война, богатая подвигами самоотверженности и твердости духа. Вот эти сморщенные, узловатые руки, — с какой любовью они работали для своих детей, ласкали их, и сколько сыновей будут с надеждой и верой ждать того заветного дня, когда материнские руки вновь обнимут их! И Вртанес почувствовал, что в эту минуту ему страстно хочется лишь одного: чтобы его мать нашла в себе достаточно силы и мужественно приняла участие в этой страшной для матерей войне.
Цовинар подошла, села, тесно прижавшись к отцу, и вполголоса пожаловалась, что Давидик подрался во дворе с мальчишками и не хочет идти домой, боясь гнева отца. Погруженный в свои мысли, Вртанес рассеянно слушал дочь. Цовинар внимательно посмотрела на бабушку, перевела взгляд на отца и серьезно спросила:
— Папа, я и Давидик — мамины дети, а ты — бабушкин ребенок, правда?
Вртанес стряхнул с себя задумчивость и улыбнулся:
— Совершенно правильно: я — бабушкин ребенок, а она — моя мама… — И Вртанес, прижимая голову дочки к груди, с любовью взглянул на мать.
Какое счастье, что есть на свете человек, который может назвать его своим ребенком! И как трогательно, что это слово — «ребенок» — все еще звучит в устах Шогакат-майрик, хотя последнему ее «ребенку» уже идет двадцать первый год!
Но Цовинар не терпелось; пересев к бабушке, она потянула ее за рукав и спросила:
— Бабушка, папа когда-то был таким же маленьким, как мы, правда? И когда он шалил, ты его шлепала, да?
— Э-э, Цовик, только тебя не хватало… — жалобно сказала Шогакат-майрик. — Ты бы лучше пошла за Давидиком и привела его домой.
Она повернулась к Вртанесу и с тревогой в голосе сказала:
— И письма-то мы от Асканаза не успели получить. Хотя бы узнать, где он, что с ним…
— Рано еще, мама, придет письмо.
— Получим, правда? — словно говоря сама с собой, произнесла Шогакат-майрик.
В эту минуту в комнату вошел Ара и сообщил, что он отдал пакет, но Вртанеса вызывают в редакцию: вместе с бригадой писателей он должен сегодня выступить в военном комиссариате перед призывниками. Седа, хлопотавшая на кухне с обедом, положила на тарелку несколько кусочков мяса. Вртанес наспех проглотил их и вышел из дому.
Потянулись дни. Жизнь постепенно входила в новое русло. На заводах и в учреждениях, в клубах и на призывных пунктах, на собраниях выступали рабочие и представители интеллигенции, матери и жены, студенты и служащие — говорили слова, идущие от сердца, а потом принимались за работу и работали страстно и напряженно.
Объединенные в одну бригаду партийный работник и представитель армии, писатель и артист, профессор и врач воодушевляли отправляющихся на фронт. Пламенная речь сменялась лирическим стихотворением, после вдохновенного материнского увещевания люди слушали задушевную песню.
Вртанесу часто приходилось выступать в одной бригаде с сыном пожилой соседки Шогакат-майрик — Мхитаром Берберяном, с которым он сблизился за последние годы. Мхитар, смуглый молодой человек с правильными чертами лица, работал в Центральном Комитете партии. Мхитар отказался от брони, освобождавшей его от призыва в армию. Двадцать пятого июня его вместе с Вртанесом вызвали в военный комиссариат, чтобы отправить на курсы командиров, но потом командование отменило это распоряжение, находя, что они окажутся более полезными как работники редакций фронтовых газет.
Мхитар еще учился в десятилетке, когда отец его тяжело заболел. Шестнадцатилетнему подростку пришлось пойти работать на машиностроительный завод, чтобы содержать родителей. По вечерам Мхитар ходил в вечернюю школу и успешно окончил ее. Оправившись после длительной болезни, отец его снова вернулся на завод. Рано познавший трудовую жизнь, Мхитар был гораздо опытнее и выглядел серьезнее многих своих сверстников. Мать его, преждевременно состарившаяся женщина, дрожала над сыном и со слезами на глазах делилась с Шогакат-майрик своими опасениями за судьбу Мхитара.
После отъезда Асканаза Ашхен несколько дней находилась в подавленном состоянии. Она чувствовала потребность в советнике и друге и понимала, что Асканаз является именно тем человеком, который лучше всех ее поймет. В то же время ей приходило в голову, что, когда Асканаз вернется, она не сможет уже по-прежнему поддерживать с ним дружеские отношения. Склонные к злословию люди могут превратно истолковать эту дружбу, а Ашхен была слишком щепетильна и горда для того, чтоб дать малейший повод к подозрениям. Ее обрадовал приход Маргарит. Та ей подробно рассказала о своем объяснении с Ара.
Хотя неприятности в семейной жизни Ашхен стали обычным явлением, но с некоторых пор она решила не принимать близко к сердцу свои ссоры с Тартаренцем и настойчиво продолжала готовиться к поступлению в университет. Но все самым странным образом изменилось, как только началась война. Тартаренц сразу стал необычайно внимателен к жене и ребенку и ничего не предпринимал без советов Ашхен. Так вел он себя дома. Но как ведет себя Тартаренц вне дома, Ашхен не представляла. Лишь одно ей было непонятно — Тартаренц совершенно перестал говорить о литературе. Трудно было объяснить это тем, что Тартаренц разуверился в своем литературном таланте, что у него открылись глаза и оказалось достаточно воли и готовности посвятить себя другой деятельности. От внимания Ашхен не укрылось то, что Тартаренц очень сблизился с Заргаровым: в течение недели, прошедшей со дня объявления войны, Заргаров был два раза приглашен к ним на обед, и Тартаренц проявил по отношению к гостю совершенно не свойственную ему щедрость. Правда, для того чтоб гостеприимство не обошлось слишком дорого, Тартаренц разбавил бутылку коньяка таким же количеством воды, тщательно закрыл горлышки обеих бутылок пробками и торжественно открывал в присутствии гостя бутылки, словно коньяк был только что куплен.
Как ни старалась Ашхен привыкнуть к Заргарову, внутренняя неприязнь к нему все возрастала.
Ашхен и сама не могла бы сказать, чем объясняется эта неприязнь. Может быть, ее отталкивала его внешность — узкий лоб, мясистый нос или же гнусавый голос? Но разве все это могло вызвать такую глубокую неприязнь? Ашхен много думала об этом, но ответа не находила.
Как-то вечером она собиралась пойти с мужем в летний концертный зал, где должен был состояться общегородской митинг по поводу отправки на фронт большой группы призывников. При мысли о том, что на этом митинге ей придется встретиться с Заргаровым, Ашхен заранее почувствовала раздражение. Тартаренц в этот день рано пообедал и поспешил уйти, сославшись на спешное дело; он уверил жену, что пойдет в парк раньше нее и займет места в зале. Ашхен договорилась с соседкой, которая согласилась приглядеть за ребенком, и уже собиралась выйти из дому, чтобы встретиться с Маргарит в условленном месте, когда в комнату вошла Марджик, ее приятельница.
Ашхен дружила с этой девушкой, хотя встречалась с нею редко. Бойкая Марджик несколько лет тому назад болезненно переживала то, что, несмотря на свои годы (ей было уже под тридцать), она не встретила среди знакомых молодых людей никого, с кем могла бы связать свою судьбу. Однако она как будто немного свыклась с мыслью, что ей суждена доля «старой девы». Проучившись два-три года на филологическом факультете, она оставила университет и поступила секретарем в какое-то крупное учреждение. Она уверяла, что совершенно не интересуется семейной жизнью своих знакомых, но удивительным образом всегда много знала о них.
Сказав, что забежала прямо с работы, Марджик расцеловалась с Ашхен и затараторила:
— Ой, Ашхен-джан, я целую вечность не видела тебя! Ведь мы больше трех месяцев не встречались? Неужели ты не можешь хотя бы днем забежать ко мне на несколько минут? Поговорить, отвести душу!
— Неудобно мешать тебе на работе.
— Ой, что ты, как раз и избавишь меня от докучливых людей! Если б знала, сколько человек приходит и надоедает с пустяками…
— Ну, теперь-то все изменилось. Война, людям некогда ходить попусту. Ну, садись, садись. Пообедай, я только что разогревала обед.
— О нет, Ашхен-джан, мне совсем не хочется кушать… Ты знаешь, почему я к тебе забежала?
— Ты зашла навестить подругу. Я понимаю твой невысказанный упрек — я обещала зайти к тебе и не зашла.
— Ну, глупости, какие же счеты между подругами! Я сейчас тебе все скажу. Видишь ли, я на днях видела твоего мужа вместе с Заргаровым. Потом случайно узнала, что этот Заргаров бывает у тебя дома…
— Ну, да… — нахмурилась Ашхен. — А в чем дело?
— Ах, ты спрашиваешь, в чем дело? Ну, ты же знаешь, как я люблю тебя! Мне известны твоя гордость и твоя воля. Но я сказала себе: я должна предупредить Ашхен, выполнить свой долг перед подругой!
— Ну, говори же, не тяни! Можно подумать, что-то ужасное произошло…
— Я собираюсь раскрыть перед тобой подлинное лицо этого Заргарова.
— Я его не знаю, но он мне очень неприятен. У него есть основание считать меня негостеприимной хозяйкой, хотя Тартаренц то и дело приглашает его. Но говори же, в чем дело?
— Так знай же, Ашхен-джан, этот Заргаров не из числа тех людей, которых можно спокойно принимать у себя в доме, в особенности в дни войны, когда мы должны быть особенно бдительны!
— А Тартаренц так сблизился с ним!..
— Если б муж твой знал, что за фрукт этот новый его знакомый, он никогда бы не сблизился с ним!
— Эх, Марджик… Но мы все говорим вокруг да около, скажи ясно, в чем дело.
— Хочешь ясно — изволь: этот Артем Арзасович Заргаров просто аморальная личность! Мне кровь бросилась в голову, когда я узнала, что он бывает у вас… Не сердись на меня, Ашхен-джан, но ведь тебя бог создал для того, чтоб мужчины с первого же взгляда влюблялись в тебя!
— Ну, ты опять отклонилась, Марджик.
— Ой, да… Я хотела тебя спросить: известно ли тебе, что этот Заргаров бросил свою жену и двоих детей?
— Откуда мне знать?
— А что стоит бросить жену такому человеку? Вот послушай, я случайно узнала все подробности. Оказывается, этот Заргаров жил в жалкой комнатушке с женой и двумя детьми. Вначале вел себя очень скромно: преподавал историю в какой-то школе. Но вот однажды инспектор гороно заходит в школу, чтобы послушать, как он ведет занятия. Побывав на его уроке, он сейчас же пишет докладную записку о том, что Заргаров полнейший невежда; выражает свое удивление, как можно было доверить ему преподавание истории, когда он не имеет ни малейшего представления об эпохе, о которой рассказывает. В записке говорилось о таком курьезе: оказывается, Заргаров сказал, что декабристы сначала хотели убить царя, но потом, как представители буржуазии, пришли к соглашению с царизмом… Ты представляешь себе это?! Что тут говорить, его немедленно отстранили от преподавания! Но, как это часто бывает, Заргарова на следующий год назначили ни больше ни меньше как директором другой школы! Там с ним тоже произошел курьезный случай. В одном из младших классов школы преподавал учитель армянского языка, очень опытный и знающий. Заргаров зашел к нему в класс. Учитель разбирал в это время с учениками такую фразу: «Лишь на рассвете рассеялась пыль над полем боя». Заргаров после занятий вызывает этого учителя к себе и начинает его распекать: как, мол, тебе не стыдно, нельзя говорить «пыль рассеялась». Учитель спрашивает: «А как же нужно говорить?» А вот как: «Пыль… впрочем, ты сам должен знать, не хватало еще, чтоб я тебе подсказывал!» — «Лучше не будем спорить о чистоте языка, — говорит учитель, — начиная с Мовсеса Хоренаци и кончая Дереником Демирчяном, слово «рассеяться» имеет именно тот смысл, в котором я употребил его!» — «Значит, ты хочешь сказать, что я невежда?!» — поднимает голос Заргаров. «Это уж ваше дело, но попрошу избавить меня от споров относительно чистоты языка, этот спор выше ваших возможностей и ниже моего достоинства». Дело дошло до вышестоящих инстанций, и Заргарову запретили работать на педагогическом поприще!
— Ну, вот и хорошо, Марджик-джан, правильно поступили.
— Конечно, хорошо. Но все дело в том, что Заргарову всегда удается найти себе новых покровителей. Он всегда ищет такое место, чтобы работы поменьше, а получать побольше.
— Но какое это имеет отношение к тому, что он покинул жену и детей? — с явным нетерпением спросила Ашхен.
— Ах, ты думаешь, что не имеет отношения? Наверное, я бессвязно рассказываю, но все дело в том, что имеет отношение. Я сказала, что Заргаров всегда ищет доходное место. И вот он знакомится с одной женщиной, которая занимала ответственную должность в тресте столовых. Эта женщина (ее звать, кажется, Седа), как мне рассказывали, очень ловкая и пронырливая особа. Заргарову удалось пронюхать, что ее собираются выдвинуть на какую-то еще более ответственную работу. Он сближается с нею, у них завязываются близкие отношения. А у этой Седы муж недавно умер и оставил в ее полное владение прекрасно обставленную квартиру из трех комнат. Заргаров начинает расписывать Седе, что его брак с первой женой является попросту недоразумением, что жена его человек отсталый, с предрассудками, что он несчастлив с нею и что лишь Седа может его утешить.
— И что же ответила ему эта Седа?
— А что она должна была ответить, как ты думаешь? Ей-то ведь только этого и требовалось!
— Но это же безнравственно — отнимать мужа у женщины и отца у двоих детей!
— Нашла у кого искать нравственности! Итак, Седа благосклонно принимает предложение Заргарова, и он на следующий же день перебирается к ней, бросив жену и двоих детей! Теперь, благодаря покровительству новой жены, Заргаров занимает какой-то довольно значительный пост в Комиссариате пищевой промышленности. Говорят, он занимается темными махинациями. Да, представь себе, он умудряется показывать меньший оклад, чтобы урезать алименты!
— О, гадина! — с отвращением воскликнула Ашхен.
— Заргаров надеется преуспеть с помощью жены. Но люди, подобные ему, лишены чувства благодарности. Заргаров очень любит легкие интрижки с женщинами… Вот почему, когда я узнала, что он бывает у тебя, моя бесценная Ашхен, сердце у меня чуть не разорвалось. Я тотчас же решила прийти и предупредить тебя!
— Спасибо тебе, Марджик-джан, но относительно меня ты можешь быть совершенно спокойна. Меня беспокоит лишь положение его покинутой жены: если он урезывает им алименты, как может она прокормить бедных детей?!
— Эх, Ашхен, ты всегда думаешь о других! Ты лучше подумай о том, чтобы этот подлый человек не толкнул твоего мужа на какой-нибудь недостойный поступок. А жена с детьми как-нибудь проживут. Не будет же она сидеть дома, наверное, поступит работать.
Ашхен задумалась. Как хорошо, что Марджик помогла ей узнать этого Заргарова. Теперь она нашла объяснение своей неприязни, теперь, если она встретит на митинге этого человека, она будет во всеоружии.
Она предложила Марджик пойти на митинг, но Марджик отказалась, заявив, что идет на занятия кружка противовоздушной обороны.
В шесть часов в просторном концертном зале парка «Флора» даже иголке негде было упасть. В первом ряду сидели военные — рядовые бойцы, сержанты и командиры вместе с семьями.
В других рядах бок о бок сидели люди самых различных профессий, а также студенты и учащиеся девятых и десятых классов. Войдя в зал, Ашхен стала искать глазами Тартаренца. Он сидел вместе с Заргаровым в седьмом ряду. С минуту колебалась — ей не хотелось подходить к ним, но Тартаренц, не сводивший глаз с входа, приподнялся и стал махать рукой. Ашхен поневоле пришлось подойти и сесть рядом с мужем.
Рассматривая собравшихся на митинг, Ашхен иногда поглядывала на мужа, думая: «Да, Тартаренц как будто изменился к лучшему, но почему он подружился с этим Заргаровым?» Когда ее взгляд нечаянно падал на Заргарова, она вспоминала рассказ Марджик и он казался ей еще более отвратительным.
…Митинг начался. Забыв обо всем, Ашхен слушала докладчика, «Все для победы!» Этот лозунг, который Ашхен много раз слышала с первых же дней войны, как бы заставил ее встряхнуться. Да, позабыть о мелочах, принести в жертву все!.. Можно простить многое даже этому Заргарову, если он способен честно работать в эти трудные для родины дни.
Она невольно переводила взгляд на Заргарова и тотчас же упрекала себя за снисходительность: нет, нельзя прощать его, если то, что рассказывала Марджик, правда.
На трибуне появился Вртанес. Вся превратившись в слух, Ашхен смотрела на писателя, который казался взволнованным, нервно приглаживал рукой уже начинавшие седеть волосы над широким лбом. Обратившись со словом приветствия к уходившим на фронт бойцам, он заявил, что многие писатели едут на передовые линии, чтобы защищать родину. Он выразил твердую уверенность в том, что война закончится победой братских советских народов во главе с великим русским народом.
Последние слова Вртанеса потонули в громе аплодисментов. Зал снова громко зааплодировал, когда председатель сообщил, что сейчас выступят некоторые из призывников.
Слово было предоставлено рабочему машиностроительного завода. Вытянув могучие руки, он сказал:
— Вот этими руками я уже десять лет работаю молотом. Теперь враг вынуждает меня сменить молот на винтовку… Так будьте уверены, что винтовка в моих руках будет служить так же верно, как служил молот!
На сцену вышел человек могучего сложения. Это был уроженец Двина Гарсеван, недавно провожавший Асканаза на аэродроме. Он был уже в военной форме. Выйдя на сцену, он снял пилотку, но тут же надел ее набекрень, что вызвало легкий смех в зале.
— Товарищи, — начал Гарсеван, — я не привык говорить речи. Скажу только, что вчера сдал свою садоводческую бригаду нашему семидесятилетнему Наапету-айрику. Сдал — и завтра утром уезжаю на фронт. В присутствии всех людей, сидящих в этом зале, клянусь Араратом, что не сниму с себя обмундирование советского бойца, пока последний фашист не будет выгнан, как говорится в нашем эпосе «Давид Сасунский», подобно вороватой собаке, из пределов нашей страны. И это будет так, потому что мы ведем войну за правое дело!
Зал загремел от аплодисментов. Горячо аплодировала и Ашхен. Когда Гарсеван, спустившись со сцены, хотел сесть рядом с Наапетом, тот встал и поцеловал его в лоб.
Председатель объявил:
— Слово предоставляется Унану Аветисяну.
Застенчиво вышел молодой человек лет двадцати семи, крепкого сложения и с выправкой военного. Окинув взглядом зал, он громко сказал:
— Дорогие товарищи, нас пятеро братьев. И все мы сегодня попрощались с нашей матерью, нашими женами и детьми, чтобы уехать на фронт. Перед всем армянским народом мы клянемся вернуться на родную армянскую землю только тогда, когда враг будет сломлен и изгнан. Вот все, что я хотел сказать. — Он повернулся и поспешно сошел со сцены.
Все зааплодировали. Из рядов выбежала девочка и протянула большой букет Унану. Тот взял цветы, поцеловал девочку и сказал чуть слышно:
— Для тебя, моя маленькая, для того, чтобы ты и другие дети росли свободными и счастливыми!
Когда девочка вернулась в зал, ее стали спрашивать: «Что он тебе сказал, что сказал?»
— Сказал… сказал, что я буду счастливой…
Когда Унан взял цветы у девочки и поцеловал ее, на глазах у Ашхен показались слезы. Ей почему-то вспомнился вечер в этом же зале, тот самый вечер, на котором так неудачно выступал Тартаренц. Как ей хотелось бы, чтобы ее муж выступил сегодня! Что из того, если даже он будет нескладно говорить? Люди отнесутся к нему хорошо. В словах выступающих они видят то, что волнует их до глубины души.
Ашхен посмотрела на мужа. Но Тартаренца как будто вовсе не интересовало то, что происходило на сцене. Он все время перешептывался с Заргаровым. Сегодня больше, чем когда-либо, Ашхен хотелось знать, что сблизило мужа с Заргаровым. Но как заговорить об этом?
Когда участники митинга вышли из зала, было еще светло. Ашхен шла между мужем и Заргаровым. Ашхен хотела поменяться местами, но Тартаренц взял ее под руку и уже собирался свернуть в одну из боковых аллей, когда перед ними появились Ара и Маргарит. Ара радостно сообщил Ашхен, что они сегодня получили письмо от Асканаза, тот благополучно доехал, остановился у одного из старых знакомых и выедет в Киев через несколько дней.
— Но поедет ли он теперь в Киев? — задумчиво спросила Ашхен.
— Затрудняюсь сказать. Письмо-то было написано за два дня до войны, — отозвался Ара.
— А это уж его дело, куда он поедет, — сухо отозвался Тартаренц. — Вы уж нас извините, Маргарит-джан и Ара-джан: у нас спешное дело. Сами понимаете, война, она налагает обязательства на каждого человека.
— Ах, просим прощения, — одновременно сказали Маргарит и Ара и поспешно отошли.
Тартаренц подхватил под руку Ашхен и Заргарова и повел их в безлюдную аллею.
— Ну, Ашхен, можешь поздравить дорогого товарища Заргарова, — со льстивой улыбкой воскликнул он.
Ашхен с любопытством взглянула на нового приятеля мужа. Заргаров левой рукой растирал щеку. Носком ботинка он рыл песок на дорожке. Встретившись глазами с Ашхен, он отряхнул песок с носка и принужденно улыбнулся.
— Поздравить? Но с чем? — спросила Ашхен.
— Артем Арзасович назначен на место призванного в армию заведующего отделом комиссариата, — поспешил объяснить Тартаренц. — И вдруг, представь себе, выясняется, что занимающий эту должность имеет право на броню, а его предшественник не воспользовался этим! Товарищ Заргаров уже оформил сегодня свою броню.
При последних словах Тартаренца Заргаров протянул правую руку, предполагая, что Ашхен собирается поздравить его.
— Ах, так! — воскликнула Ашхен, решительно отводя руку за спину и показывая этим, что она не намерена поздравить Заргарова. — Я с удовольствием пожала бы руку… этому призванному в армию заведующему, если б только могла встретить его!
Рука Заргарова с минуту оставалась протянутой, и Ашхен вдруг заметила, что она какая-то странная: большой палец правой руки Заргарова был расщеплен, на этой руке у него было шесть пальцев.
Улыбка исчезла с лица Заргарова. Он быстро отдернул назад свою руку. Обрадованный удачей с броней, он забыл сегодня забинтовать расщепленный палец. Это было тем более некстати, что Ашхен, вероятно, помнила выдуманную историю о помощи трактористу.
Ашхен, которая всегда снисходительно относилась к слабостям людей и особенно деликатно вела себя с теми, кто имел какой-либо физический недостаток, почувствовала еще большую неприязнь к Заргарову. У нее мелькнула мысль: «Откуда появился среди нас этот пещерный человек и почему так стремится к дружбе с ним Тартаренц?» Она повернулась к мужу и сурово сказала:
— И ты предлагаешь мне поздравить человека, который откровенно радуется, что ему удалось прикрыться броней?..
Заргаров с яростью пнул ногой какую-то кочку, а Тартаренц, с трудом сдерживая гнев, произнес через силу:
— Как ты не хочешь понять, Ашхен, что и тыл у нас должен быть сильным. Я просто сожалею… Но Артем Арзасович — свой человек, я могу прямо сказать при нем…
— Свой человек?! Приди в себя, Тартаренц, близость, такого человека не может довести до добра!
— А близость таких грязных людей, как Асканаз, доведет тебя до добра?
— Ну, Тартаренц, зачем оскорблять тикин Ашхен? — вмешался Заргаров. — Она сидит дома, мало что знает, ей трудно сразу разобраться.
Ашхен считала ниже своего достоинства разговаривать с этим, ставшим ей уже нестерпимо отвратительным человеком, тем более что он осмеливался выступать в роли ее защитника.
— Значит, ты только из-за этого завел меня сюда? — с негодованием спросила она мужа.
— Нет, Ашхен-джан, — смягчив тон и понизив голос, произнес Тартаренц. — Товарищу Заргарову удалось добиться того, что меня приняли на первый курс Медицинского института. А студентов-медиков не призывают в армию до окончания института…
— Как?! — еле смогла выговорить Ашхен.
— А вот так! Подробности сообщу потом. Уже оформлено!
— Но сейчас же лето, о каком институте может быть речь? Сейчас же каникулы.
— Ну что ж, скоро наступит осень.
— Но ведь ты же жаловался, что тебя не ценят, как поэта, ты же хотел… Хотя что об этом говорить?! Расскажи, как вы это устроили? Ну как? — повторяла Ашхен. Ее самолюбие было глубоко задето циничными признаниями ее спутников.
— Но вы представляете себе, тикин Ашхен, что значит быть врачом, тем более врачом санитарным в дни войны? — примирительным тоном заговорил Заргаров, словно не придавал значения оскорбительному замечанию Ашхен.
— Да, да, — с воодушевлением подхватил Тартаренц. — Ты подумай: ведь сражающейся армии необходима самая лучшая, здоровая пища! Ну, а моя специальность…
— Оставь, пожалуйста! — со сдержанным гневом прервала его Ашхен. — Ты говоришь о специальности?.. Я хочу тебе напомнить твои же слова в доме Вртанеса, когда речь шла о войне…
Но она тотчас же остановила себя: «Стоит ли тратить слова на таких людей!»
— Да, Ашхен-джан, — вновь обратился к жене Тартаренц, считая, что необходимо задобрить ее, — товарищ Заргаров дает мне командировку в район по делам своего учреждения. Я тебя прошу в случае, если из военного комиссариата мне принесут повестку, сообщи им, что я выехал в командировку и тебе неизвестно, где я сейчас нахожусь. Если они будут очень настаивать и возникнут затруднения, обратись к Артему Арзасовичу, он тебе посоветует, как быть… Понятно? Сентябрь не за горами, я буду числиться в институте, и никакая повестка мне не страшна. Я выеду сегодня же, ночным поездом, а то кто знает…
— Ты кончил?
— Ну, сделаешь, как я говорю? — потирая руки, спросил Тартаренц.
— Подлец! — не удержалась Ашхен и, повернувшись, быстро пошла по аллее.
— Как ты думаешь, товарищ Заргаров, не испортит ли жена все дело? — с испугом спросил Тартаренц.
— А я откуда знаю? С этой женщиной ты жил, ты и должен знать, на что она способна.
— Ах, женщины… Один сатана знает, на что они способны!
— Прямо чертовка! — пробормотал Заргаров, провожая взглядом Ашхен.
Нельзя было понять, о чем он думает, глядя на гибкий стан и гордую походку жены своего нового приятеля. Махнув рукой, он с горечью сказал:
— Дай бог, чтобы все добром кончилось… Только что-то ей очень хочется спровадить тебя в армию!..
Тартаренц сжал кулаки, словно вспомнив что-то.
— Пусть только удачно кончится все, а уж тогда я с ней расквитаюсь!
Ашхен, не оглядываясь, быстро шла по аллее. Лицо ее горело от негодования, она что-то шептала про себя. Ей не хотелось видеть никого, никого… Куда ей идти? Домой? Но ведь скоро придет муж и ей придется собирать его в дорогу!.. Какая насмешка! Ее будут спрашивать, куда уехал Тартаренц… Подумают, что на фронт. Как ей смотреть в глаза людям, что ей сказать, когда принесут повестку? Так и не придя ни к какому решению, Ашхен свернула к дому Вртанеса.
Дверь ей открыла Цовинар. С детской непосредственностью она обняла Ашхен и сказала:
— Сколько у нас народу! Уходят воевать дядя Зохраб, Габриэл, дедушка Наапет…
— Как дедушка Наапет? — поразилась Ашхен.
— Ой, нет, нет, не дедушка Наапет, а те двое дядей, которые пришли с ним — один такой высокий, головой стукнулся о лампочку в передней…
Цовинар не терпелось сразу выложить все новости. Ашхен с улыбкой погладила ее голову и вошла в комнату. В первую минуту никто не заметил ее прихода, но Цовинар громогласно сообщила матери:
— Тетя Ашхен пришла, мама!
Седа приветливо поздоровалась с Ашхен и спросила!
— А где же Тартаренц? Как его дела?
— Он там, с Заргаровым, — неопределенно ответила Ашхен.
Седа поняла, что Ашхен не хочет говорить о муже. Она вполголоса объяснила Ашхен, кто их гости. Человек, который «стукнулся головой о лампочку», был, оказывается, Гарсеван, только что выступавший на митинге. Вместе со своим братом Аракелом он на следующее утро уезжал на фронт. Вместе с ними пришли их жены — Пеброне и Ребека — провожать мужей. Пеброне была в свое время сельской учительницей, влюбилась в Гарсевана и вышла за него замуж. Она и теперь еще выглядела молоденькой девушкой, несмотря на то, что у них было уже двое детей. От постоянного пребывания на воздухе лицо ее сильно загорело и даже слегка загрубело. Держалась она спокойно и уверенно. Ребека была намного старше Пеброне. Лицо ее говорило о твердом характере, а по натруженным рукам было видно, что она немало поработала на своем веку.
Наапет был на митинге вместе с Михрдатом и Габриэлем. Габриэлу предстояло утром выехать на фронт; он решил зайти попрощаться с семейством Вртанеса и повидаться с Ара. Узнав об этом, Наапет выразил желание вместе с ним пойти к Вртанесу.
На следующее утро выезжал на фронт и Зохраб; он пришел вместе с женой, чтобы провести последний день у брата.
За несколько минут до прихода Ашхен соседка Шогакат-майрик принесла повестку: Ара вызывали в военный комиссариат. Так как соседка знала, что Шогакат находится у старшего сына, она расписалась в получении повестки и прибежала сюда, чтобы вручить ее Ара.
У окна, выходившего на улицу, стояли Ара и Маргарит. Подойдя к ним, Ашхен заметила, что Маргарит молча плачет. Она обняла подругу, не в силах вымолвить ни слова. О, если бы она имела возможность плакать в эту минуту так, как плакала Маргарит! Маргарит плакала, но ее слезы должны были закалить волю юноши, придать ему твердость. Ашхен было сейчас особенно горько оттого, что она не могла оплакивать отъезд мужа теми же слезами, как Маргарит.
Ни для кого не было тайной, что Ара и Маргарит дали друг другу слово, и это заставляло всех с нежным чувством относиться к молодой паре.
Не было тайной это и для Габриэла. Хотя в ту ночь, когда он оставил Маргарит наедине с Ара, он так и не сомкнул глаз и промучился бессонницей еще несколько ночей, но в конце концов успокоился, придя к решению, что должен остаться другом и Ара, и Маргарит. Он искренне желал им счастья. То обстоятельство, что Ара предстояло расстаться с Маргарит и трудно было предвидеть, что их ожидает в будущем, вызывало в сердце Габриэла боль и тревогу. Сознание, что на фронте он будет защищать и будущее счастье своих друзей, наполняло его гордостью. Несмотря на то, что час прощанья еще не настал, он крепко поцеловал Ара, а затем по-братски обнял Маргарит. Когда же он заметил, что она плачет, слезы невольно навернулись у него на глаза.
Посередине комнаты стояли Гарсеван, Аракел и Зохраб, окруженные родными. Елена, припав к плечу мужа, по временам тяжко вздыхала.
На столе появились закуски и бутылки с вином. Гарсеван разлил вино в бокалы и обратился к Шогакат-майрик и Наапету:
— Одно пожелание у меня к вам, Шогакат-майрик и дедушка Наапет: чтобы вы долго жили нам на радость и наставляли нас!
Чокнувшись с Гарсеваном, Шогакат опустила бокал на стол и медленно обвела взглядом присутствующих. Итак, значит, один из ее сыновей, Асканаз, уже там, Зохраб уезжает завтра, а Ара… Тревога сжала ей сердце. Как перенесет младший сын предстоящие ему испытания? Ведь он страдает недостатком, который помешает ему быть воином! Она была еще во власти этих мыслей, когда Гарсеван обратился к Наапету:
— Что бы ты делал, дед Наапет, если б вдруг помолодел?
— Не надо говорить об этом, Гарсеван-джан… — с неудовольствием отозвался Наапет.
— Почему же? Послушайте, люди добрые, дед Наапет сердится, что я желаю ему помолодеть!
Сильный бас Гарсевана заставил всех прислушаться. Михрдат, не отводивший задумчивого взора от лица сына, очнулся и уверенно проговорил:
— Наапет пустого слова не скажет. Говори, Наапет, скажи свое слово!
— Да, правильно ты говоришь, Михрдат-джан, люблю я слышать слово умудренных жизнью людей! — продолжал Гарсеван. — Пью за твое здоровье, желаю тебе долгих лет, держи голову выше: мы с твоим Габриэлом будем драться так, что небу жарко станет. А ты чего скисла, Пеброне? Улыбнись, сияй, словно месяц в новолуние! Люблю, когда ты смеешься, право слово, люблю!
— Уф, опять начал плести несуразицу! — махнула ручкой Пеброне. — Уймись ты, ведь Наапет-дедушка хочет что-то сказать…
— Ой, умереть мне за тебя, дед Наапет, говори, говори, ждем твоего слова!
— Садись, — повелительно сказал Наапет.
Дождавшись, пока Гарсеван уселся, Наапет пригладил коротко остриженные усы и размеренным тоном начал:
— Говоришь, если бы помолодел… Лишнее слово! Что прошло, то прошло, молодость тебе не рыба, чтобы из реки выловить, не товар, чтобы на рынке купить. Каждому возрасту свое время! И ребенку хочется сразу взрослым стать! Но он так и остается до поры ребенком, так же, как и молодой остается молодым, а старик стариком. Когда старик заявляет, что, мол, если б я был молод, то-то и то-то б сделал, или когда молодой похваляется, что, мол, будь я постарше, я бы показал себя, — пустое дело! Так говорят те, кто не желает трудиться, как положено по возрасту. Командир не доверит мне ружья. Но кто может помешать мне приложить руки к делу, которое принесет пользу моей стране?
— Вот это мудрое слово! — воскликнул Михрдат.
— Эх, умереть мне за тебя, дед Наапет! Смотрите, Пеброне, Ребека, если только узнаю, что вы поперек воли деда Наапета что-нибудь сделали…
Шогакат смотрела на полного жизни Гарсевана, и в голове ее мелькнула мысль: «Ах, как было бы хорошо, если б Ара посчастливилось быть на войне вместе с этим человеком!» Слова Наапета заставили ее встрепенуться. Она очнулась от раздумья, вскочила и, взяв в руки бокал, взволнованно сказала:
— Идите, наши бесценные!.. Где коснется рука ваша шиповника, пусть покроется он розами, пусть и в темноте будет светло вам, и да не ступите вы ногой на порог бесчестных людей! Пусть рубит без промаха ваш меч, пусть отсохнет рука у врага и онемеет язык его! Идите вместе с моим Асканазом, и да поможет вам господь! Вернитесь с победой, живы-здоровы домой, к вашим семьям. Невестушки мои дорогие, дочери мои, вашему сердцу я стойкости желаю, чтобы крепко вы мужнину честь хранили, ваших защитников подбадривали, глазам злоумышленника шилом казались, глазам доброжелателя — розой!
Возможно, что Шогакат-майрик стремилась подбодрить не столько их, сколько себя, и чем дальше она говорила, тем тверже звучал ее голос. Она видела, что к ее словам внимательно прислушиваются все, даже дед Наапет и ее старший сын. А ведь до этого ей часто казалось, что они не нуждаются в ее советах. А теперь они с благоговением слушали ее… И это придавало ей новые силы.
…Несмотря на то, что утром все, кроме Шогакат-майрик, собирались поехать на вокзал, — расставаясь, сейчас целовались друг с другом. Зохраб с минуту не выпускал мать из объятий, он видел, что она с трудом сдерживает слезы. Прощаясь с Габриэлом, Шогакат несколько раз поцеловала его.
— Да сохранит господь матери ее единственного сына, родной мой!.. Почаще пиши матери, каждый день пиши, — повторяла Шогакат и, обращаясь к Михрдату, добавила:
— Ну, раз Сатеник не хочет выходить из дому, я сама приду к ней, в это же воскресенье приду, передай ей.
Габриэл подошел к Ара, Маргарит и Ашхен и несколько мгновений молча стоял перед ними. Он то смотрел на Ара, то переводил взгляд на Маргарит и Ашхен, не в силах произнести ни слова. Когда все, кроме Шогакат-майрик, вышли в переднюю, он сказал, понизив голос:
— Дорогая Маргарит, Ашхен-джан… прошу вас — заходите иногда к маме и пишите мне обо всем, что она поручит вам. Ей захочется, чтобы в письме слово в слово было так, как она сказала.
— Не беспокойся, Габриэл-джан, так и будем делать! — пообещала Ашхен и, обняв Габриэла, поцеловала его.
В этот поцелуй она вложила свои заветные чувства.
Глава десятая
САТЕНИК И МИХРДАТ
Выйдя от Вртанеса, Габриэл с отцом направились к себе домой. У них собирались провести ночь Наапет, Пеброне и Ребека со своими мужьями. Гарсеван и Аракел пошли на призывной пункт, куда им приказано было явиться на вечернюю поверку. После переклички они должны были прийти к Михрдату, чтобы провести вместе последнюю ночь перед отъездом.
Сатеник, с бьющимся сердцем ожидая возвращения сына и мужа, перекладывала в маленьком чемоданчике белье Габриэла… Бог знает, в который раз она одну за другой доставала вещи, прижимала их к лицу, целовала, обливаясь слезами, и вновь укладывала на место. Ее небольшая фигура, казалось, съежилась еще больше. Узнав три дня назад о том, что Габриэл едет на фронт, она почти перестала спать. От слез и бессонницы глаза у нее воспалились, исчез их блеск, придававший живость ее изможденному лицу. В присутствии жены Михрдат старался не выдавать своей тревоги и все эти дни исполнял за нее всю домашнюю работу и даже сам готовил обед. Так и теперь, придя домой, он занялся приготовлением ужина, чтобы накормить гостей.
Наапет подошел к Сатеник и ласково заговорил с нею, стараясь утешить и подбодрить ее. Но Сатеник словно и не слышала его. Она даже не взглянула на гостей. Обняв мать, Габриэл увел ее в свою комнату. Прислонив голову к груди Габриэла, Сатеник словно прислушивалась к биению его сердца и лишь спустя несколько минут глухо, протяжно начала ему что-то говорить.
Сатеник родилась и выросла в Битлисе. Пятнадцатилетней девочкой ее выдали замуж за человека, которого она впервые увидела тогда, когда священник во время брачного обряда соединил им руки. В первые пять лет после замужества она в присутствии посторонних не говорила с мужем, а когда оставалась наедине, понижала голос, чтоб никто, кроме него, не слышал ее голоса. Имени мужа она не называла, а говорила: «старший в доме», «твой брат», — смотря по тому, с кем шла беседа. Когда свекровь и свекор скончались, Абраам отделился от братьев. Лишь после этого Сатеник вздохнула свободнее, хотя по-прежнему оставалась в полном подчинении у мужа. Впоследствии семья Абраама переселилась в город Арчеш, на берегу Ванского озера; Абраам и здесь занимался своим ремеслом — он был золотых дел мастером. Когда началась первая мировая война, Сатеник была уже матерью троих детей. Старшему сыну Арпиару было уже двадцать два года. Родившиеся после него трое детей погибли во время какой-то эпидемии. Последыши — пятилетний Амбарцум и двухлетний Асанет были предметом ласк и нежных забот и родителей и старшего брата. Со взрослым сыном Сатеник говорила уже стесняясь, уважительно.
И вот настал день, ужасный день, когда ни муж, ни Арпиар не вернулись больше домой. Не вернулись домой мужья и взрослые сыновья многих ее соседок. Лишь долгое время спустя Сатеник узнала подробности гибели мужа и сына. Приспешники Энвер-паши и Талиат-паши собрали мужчин Арчеша, вывели их за город и перерезали всех до одного в ближайшем ущелье.
Сатеник осталась вдовой с двумя маленькими детьми. Она оставила родной край, дом и все свое состояние и, положив несколько узлов на арбу одного из соседей, после долгого и мучительного путешествия с группой беженцев добралась до Еревана. Первое время она кое-как перебивалась. К получаемому от комитета помощи беженцам пособию она прибавляла свой собственный жалкий заработок, стирая или прислуживая в домах ереванских богачей. Но вскоре ее постиг новый удар. Заболел и умер ее младший сын, и у Сатеник не осталось никого на свете, кроме маленькой дочки. Она ни на минуту не спускала глаз с пятилетней Асанет, всюду брала ее с собой, даже отправляясь на поденную работу. Да и на кого она могла оставить ребенка? Жила она на задворках церкви Сурб-Саркиса, в полуразрушенном сарае, где ютилось несколько семей беженцев. В следующем году положение Сатеник еще больше ухудшилось. К обычным лишениям прибавился и голод. Сатеник часто отправлялась во двор церкви с ребенком на руках в надежде получить хотя бы кусок хлеба: были дни, когда она не стеснялась даже просить милостыню. Но Асанет с каждым днем все больше слабела. В холодный день, завернув ребенка в жалкие лохмотья, Сатеник пошла к церкви и села на камень у входа. Время шло. Прижимая девочку к груди, она старалась согреть ее. Пособие обещали выдать лишь через несколько дней, а дома было так же холодно, как и на дворе. Сатеник даже забыла, для чего она пришла сюда, — посиневшее лицо ребенка ужасало ее.
Вдруг Сатеник дико вскрикнула и с ребенком на руках упала на плиты церковного двора. Когда она открыла глаза, то почувствовала, что кто-то старается вырвать ребенка у нее из рук. Силы словно вернулись к Сатеник, она своими иссохшими руками еще крепче вцепилась в ребенка.
— Не дам!..
У нее отнимали последнюю надежду в жизни, и она, уже теряя сознание, отталкивала эти безжалостные руки. Но стоявшие около нее люди оттащили ее от ребенка, и она с плачем снова упала на холодные каменные плиты. Сатеник очутилась в крохотной каморке пономаря. Она приподняла отяжелевшую голову, взгляд ее упал на сидевшего на скамейке человека. Он был одет в залатанную шинель. Его заросшее бледное лицо, запавшие глаза и выступавшие скулы говорили о том, что он только что оправился от какой-то тяжелой болезни. И действительно, когда этот человек встал с места, Сатеник увидела, что он ходит с трудом, опираясь на толстую палку. Она вспоминала, что именно этот человек вырвал из ее рук мертвого ребенка, и ненавидящим взглядом следила за каждым его движением.
А этому человеку (это был Михрдат) от души хотелось найти слова утешения для Сатеник, но он чувствовал, что ничем нельзя утешить осиротевшую мать. В комнату вошел пономарь. Вместе с Михрдатом они отнесли мертвого ребенка в церковь; священник наскоро прочел заупокойную молитву, и маленькую Асанет вместе с другими умершими от голода беженцами свезли на кладбище. Михрдату удалось добиться, чтобы Асанет не свалили в общую могилу. Он сам вырыл ей могилку, несмотря на слабость, и навалил несколько камней на ее могильный холмик. На другой день он повел Сатеник на кладбище. Несчастная женщина с рыданиями упала на могилу дочери.
— И меня, и меня похорони здесь, умоляю тебя, добрый человек! Разрой могилу, положи меня рядом с дочерью и засыпь нас землею!
Михрдат не сомневался в искренности ее слов; он понимал, что несчастная женщина потеряла всякую цель в жизни.
— За какой грех послал мне бог это проклятие — пережить всех близких? К чему мне жить дальше? — с плачем твердила Сатеник; вернувшись с кладбища, она сидела в углу сарая.
Михрдат ежедневно навещал ее, приносил ей еду, какую только мог раздобыть, и когда почувствовал, что Сатеник начинает прислушиваться к его словам, он счел своим долгом сказать:
— Подумай, Сатеник, не тебя же одну постигло это горе. Нельзя же заживо хоронить себя. Живым положено жить, не погибать же всем…
И Михрдат рассказал Сатеник свою жизнь, которая мало чем отличалась от ее судьбы. В год, когда началась первая мировая война, Михрдат был учителем в одном армянском селе, вблизи Эрзерума. Вскоре после того, как началась война, здание школы отобрали под казарму, а Михрдата угнали в армию. В это время Михрдат был уже женат и имел двухлетнего сына Габриэла. Отец и старшие братья Михрдата жили в Эрзеруме. В первые месяцы после призыва в турецкую армию Михрдат был на положении солдата. Но вот всем армянам их части предложили сдать оружие и согнали в особый лагерь, где держали, как пленников. «Пленники на собственной земле…» — с горечью вспоминал Михрдат. Но число заключенных с каждым днем уменьшалось: группу за группой уводили куда-то, и никто из них не возвращался назад. Михрдату стало ясно, что его судьба решена, что через несколько дней его, так же как и остальных, или расстреляют, или зарубят. Сговорившись с несколькими товарищами и выбрав ночь потемнее, он бежал из лагеря. Вскоре ему стало известно, что Энвер-паша и Талиат-паша со своими приспешниками, с благословения Вильгельма, приступили к истреблению армян. Солнце затмилось для Михрдата. Преодолев все преграды и препятствия на своем пути, он добрался до села, где оставил семью. У него теплилась слабая надежда увидеть в живых жену и маленького Габриэла. Но глазам его представилось обезлюдевшее, разоренное село — аскяры или согнали всех жителей села с родных мест, или перебили. Хорошо владевший турецким языком Михрдат решил выдать себя за турка и догнать караван изгнанников-армян. Но вскоре он убедился, что его намерение неисполнимо. Всюду, куда бы он ни попал, он встречал разоренные, безлюдные селения, всюду ему рассказывали одну и ту же страшную историю о резне и согнанных с места армянах[8]. Он узнал, что убивали не только мужчин, но и женщин, стариков и детей. Как-то раз его задержали, и ему с трудом удалось избежать смерти. Скрываясь между скал, он долго обдумывал свою участь и пришел к заключению, что нет никакой надежды найти близких. Хоронясь днем и пробираясь по ночам на север, он с большими трудностями добрался до линии фронта, выбрал удобный момент и перебрался на сторону русских.
Рассказывая командиру русской части свою историю, он почувствовал, что испытания его соотечественников не были для того новостью. И действительно, Михрдат вскоре убедился, что всему миру известна страшная судьба, постигшая армян.
Ему разрешили уехать в тыл. Он увидел многочисленные группы беженцев, изгнанных из родных сел и домов, кое-как влачивших существование, но все же не терявших надежды на будущее. Ему рассказали, что все угнанные из его родного села крестьяне были вырезаны турками. Итак, он остался один на свете… В это время Михрдату исполнилось двадцать пять лет, но в его черных волосах уже появилась седина. У него не лежала душа ни к какой работе. И он решил поступить добровольцем в одну из русских частей. Вплоть до 1918 года он служил в этой части, участвовал во многих боях, заслужил славу хорошего солдата и опытного разведчика. Когда же часть, в которой служил Михрдат, вернулась в Россию, Михрдат остался в Сардарабаде. Вскоре для Армении создалось еще более тяжелое положение: турки угрожали Еревану. В Сардарабаде вновь разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть. Михрдат сражался в рядах повстанцев. На этот раз судьба улыбнулась армянскому народу — турки были отброшены. В последнем бою Михрдат был ранен в ногу, и его отправили на лечение в Ереван. Немного оправившись, он пошел в церковь Сурб-Саркиса, чтоб отыскать земляков, и во дворе церкви встретил Сатеник с мертвой девочкой на руках…
— Нельзя же заживо ложиться в могилу, надо жить, — повторял он каждый раз, встречаясь с Сатеник.
Сатеник лишь молча плакала в ответ. Единственное, что удержало ее от желания броситься в Зангу (после смерти дочери эта мысль не раз приходила ей в голову), было сознание, что она чем-то обязана Михрдату. Сатеник стирала ему белье, чинила шинель, вязала для него носки. Когда Михрдат ушел из барака и поселился в лачуге, Сатеник иногда прибирала у него, наводила чистоту.
Михрдат горько задумывался над участью, постигшей его семью, и с глубоким сочувствием относился к горю Сатеник, оставшейся такой же одинокой, как и он сам. За год знакомства с Сатеник Михрдат постепенно пришел к убеждению, что если двое несчастных свяжут свою судьбу, это облегчит горе каждому из них. Он сознавал, что стал единственной опорой в жизни Сатеник. Бросить Сатеник, принести ее в жертву горю, означало бы сказать ей: «Распрощайся с миром, тебе нечего ждать от него!» А разве мог Михрдат пойти на то, чтобы увеличить число жертв, кровью которых была обагрена каждая пядь земли в Армении?
Сама Сатеник философским размышлениям не предавалась. Но видеть Михрдата стало для нее потребностью. Как-то раз, уже после того как Михрдат совершенно оправился от раны, Сатеник, прибрав его лачугу, собиралась вернуться домой. Завязалась беседа, и она засиделась у Михрдата, чувствуя, что тот тяготится одиночеством. Сатеник осталась у Михрдата. Через несколько месяцев у нее под сердцем зашевелился ребенок; жизнь ее приобрела новый смысл.
Она продолжала жить в углу того же сарая, но каждый раз, когда чувствовала, как шевелится у нее под сердцем ребенок, она улыбалась, хотя со страхом думала о будущем, стыдясь смотреть людям в глаза. Так сильно было в ней это чувство стыда, что ей иногда хотелось умереть. Но то, что вызывало у нее желание умереть, как раз и связывало ее с жизнью, рождая жажду жизни. Неужели правда, что у нее снова будет ребенок, что она услышит голос ребенка, сможет ласкать его, заботиться о нем, проводить бессонные ночи над его колыбелью, усыплять его песней? — думала Сатеник. Эта мысль наполняла душу Сатеник таким счастьем, что она преобразилась: к ней вернулась прежняя энергия, она стала жизнерадостной и бодрой.
Однако выросшей в патриархальных понятиях женщине безгранично тяжела была мысль о том, что она должна стать матерью незаконного ребенка. До этого никто на нее не обращал никакого внимания. Но в последнее время живущие в одном с нею сарае беженцы начали подозрительно посматривать на нее. До ушей Сатеник не раз доходили злобные слова женщин: «Так вот по какому пути пошла эта молчальница!..» Именно после этих оскорбительных слов и хотелось Сатеник наложить на себя руки. Она не находила себе оправдания: ведь Михрдат был почти на пятнадцать лет моложе ее!.. Обо всем этом Сатеник ни слова не говорила Михрдату. Но когда Михрдат заметил, что у Сатеник будет ребенок, в его сердце что-то дрогнуло, и он молча заплакал. Возможно, что он и не заглядывал так далеко. Но если Сатеник и впрямь может иметь ребенка, что ему еще надо? Он не позволил Сатеник больше оставаться в сарае и настоял, чтобы она со своим скарбом перебралась к нему. Среди немногих вещей Сатеник он нашел и полученную ею во время венчания с Абраамом библию — дар посаженного отца Манаваза.
И Сатеник, которая словно ходила над бездной, почувствовала, что у нее есть прибежище, есть человек, который может о ней позаботиться и пожалеть ее. Михрдат, понимавший, кем является он для этой измученной женщины, относился к ней ласково и бережно.
Возле Михрдата Сатеник чувствовала себя в безопасности. Она никого не видела, кроме него, не слышала постыдных намеков и обидных перешептываний и ждала лишь того счастливого мгновения, когда услышит первый крик своего ребенка. И вот весной двадцатого года Сатеник прижала к своей груди новорожденного сына. По желанию Михрдата новорожденного назвали Габриэлом, именем его погибшего мальчика.
Неужели снова может начаться жизнь? До этого подобные вопросы никогда не приходили в голову Сатеник. Замирая от счастья, она с безграничной нежностью ухаживала за сыном. Габриэл… он заменял шестерых детей Сатеник и маленького сына Михрдата, словно принес вновь то счастье, которое когда-то им давали погибшие дети.
Михрдату не удалось вернуться к любимому делу — преподаванию, потому что в разоренной стране его специальность была не нужна. Он взялся за ремесло жестянщика, потом портняжничал, был сапожником; недолгое время служил даже смотрителем в приюте для сирот.
Но вот наступили новые времена. В Армении установилась советская власть. Осужденная на медленное умирание страна начала возрождаться. Открылась швейная фабрика, и туда взяли на работу тридцать человек из того приюта, где служил Михрдат. Вместе со своими питомцами на фабрику поступил и Михрдат, ставший со временем одним из лучших мастеров швейного цеха. Маленький Габриэл, счастье и надежда родителей, рос под солнцем возрожденной родины. Михрдат горячо интересовался новой жизнью. Но Сатеник была ко всему равнодушна, для нее не существовало ничего, кроме Габриэла. Прошло два-три года, и новое горе постигло ее: мальчик не говорил. Сатеник со страстным нетерпением ждала того дня, когда Габриэл произнесет заветное слово «мама», но время шло, и она начала терять надежду. Мучительно было видеть ей, как ребенок показывает пальчиком и тянет: «м-м-м…» Маленький Габриэл бойко бегал по комнате и во дворе, потом подходил к ведру и, глядя на мать, тянул свое «м-м-м». Сатеник понимала — Габриэл хочет, чтоб ему вымыли руки. Мальчик показывал пальцем на стакан, потом на свой рот. Но Сатеник качала головой и говорила: «Скажи: «Мама, дай воды…» Пока не скажешь — не дам. Ну, скажи: «Мама, дай воды». Но мальчик продолжал показывать пальцем и, если ему не давали воды, заливался горькими слезами. И мать подхватывала его на руки, спешила успокоить его, не в силах сдержать слезы.
Суеверную женщину мучила мысль о том, что она провинилась перед богом, живя без брака с посторонним мужчиной, и теперь несет наказание за совершенный ею грех. Михрдату же подобная мысль не приходила в голову. Он пригласил врачей, и они в один голос подтвердили, что мальчик здоров и со временем обязательно заговорит. Но Сатеник не верила в это. Она решила обратиться к знахаркам, ходила с ребенком на паломничество к «святым местам». Но когда все эти средства не привели ни к чему, она еще более укрепилась в мысли, что невинный ребенок расплачивается за ее грех. Сатеник сочла бы вполне естественным, если бы Михрдат разошелся с нею и взял себе более подходящую по возрасту жену, тем более что — Сатеник это достоверно знала — детей у нее больше не будет.
С тоской в сердце она кое-как объяснила свою мысль Михрдату. Михрдат безгранично любил сына. Объяснение с Сатеник очень расстроило его, и он провел несколько бессонных ночей, перебирая в памяти события последних месяцев. Как мог он допустить, чтобы Сатеник решилась сделать ему подобное предложение? Нет, нет, он спас эту несчастную женщину от неминуемой гибели, хотел облегчить ее жизнь… Принять предложение Сатеник — это значило думать только о себе, о своем личном благополучии. И он исполнил немую просьбу, которую, как ему казалось, он прочел во взгляде Сатеник: как-то днем он пришел домой вместе со священником, и тот, совершив краткий обряд венчания, объявил Михрдата и Сатеник мужем и женой.
В глазах Сатеник Михрдат был безгранично добрым и самоотверженным человеком, похожим на тех сказочных героев, о которых она слышала в детстве. Вначале мысль о том, что их совместная жизнь освящена браком и Габриэл стал законным ребенком, принесла ей душевное спокойствие. Но вскоре ее страдания возобновились: Габриэл все еще не говорил, а Михрдат, вступив с нею в законный брак, лишился возможности связать свою жизнь с молодой женой и иметь других детей.
Неизвестно, чем кончились бы ее тайные переживания, если бы Габриэл не начал вдруг говорить. После того как он пролепетал первые заветные слова: «мама», «папа», — не прошло и нескольких недель, как он заговорил не хуже, чем любой трехлетний ребенок. Сатеник плакала от счастья, она готова была целовать половицы, по которым ступали ножонки ее сына. Каждый день во время купанья Габриэла она, выливая на него последний ковш воды, приговаривала: «Купаю тебя, сыночек, водой из реки Иордана, из Силоамской купели!» Этим присловьем она сопровождала купанье своих шестерых детей.
Затем, одев ребенка и взяв его на руки, она прислушивалась к его неумолчной болтовне, учила немудреным детским стишкам:
Сатеник была счастлива сознанием, что маленький Габриэл ее понимает. И действительно, мальчуган протягивал ручонки, смеясь, стягивал с головы матери платок, играл ее седыми волосами.
После этого события пошли своим чередом. Габриэл вырос, стал школьником. Сатеник относилась к вещам сына с благоговением; когда мальчик засыпал, она приводила в порядок его одежду и школьную сумку. Когда Габриэлу впервые повязали в школе пионерский галстук и он, покраснев от волнения, прибежал домой, Сатеник также залилась радостным румянцем и после этого каждую ночь наглаживала его алый галстук. Сатеник в свое время учила грамоту; когда Габриэл начал читать свой букварь, ей хотелось помочь сыну готовить уроки, но скоро она убедилась, что это ей не по силам. Габриэл уже выучил букварь, и Сатеник ждала, что сын прочтет обычные в старых букварях заключительные строки: «Крест свят, будь мне прибежище и сила»; но этого не было в новом букваре, и Сатеник оставалось лишь повторять про себя:
— Умереть мне за грамоту твою… Умереть мне за твой красный галстучек!
Любовь Сатеник к Габриэлу носила чрезмерный характер, принимая порою болезненный оттенок.
Летом Габриэл попросил у матери, чтоб та сшила ему короткие штанишки. Сатеник кое-как примирилась с этим, но когда Габриэл и зимой начал ходить на физкультурную зарядку в коротких штанишках, она уже не знала покоя. Стоило Габриэлу войти, как она бросалась растирать ему колени, тревожно спрашивая:
— Согрелись, родной, ну, скажи, согрелись?
— Да я не замерз, мама, честное пионерское слово, мне совсем не холодно! — пытался уверить ее Габриэл.
И летом и зимой Сатеник неизменно укрывала сына толстым шерстяным одеялом, и так же неизменно Габриэл сбрасывал с себя это одеяло и спал неукрытый. Отправляя сына на лето в пионерский лагерь, Сатеник давала ему тысячу наказов, как вести себя, чтобы не заболеть. А Габриэл все лето ходил в одних трусиках и возвращался черный от загара, зимой же обливался каждое утро холодной водой. Сатеник сначала трепетала, глядя на эти выходки сына, и лишь постепенно примирилась с его привычками.
Габриэл и был тем звеном, которое связывало Сатеник с новой жизнью. Часто бывало, что Габриэл приходил домой вместе со школьными товарищами. Девочки и мальчики громко переговаривались, смеялись и спорили, перебивая друг друга. Сатеник молча, с ласковой улыбкой прислушивалась к гомону детей, вздыхала и неслышно бормотала:
— Ах, если б моя Асанет осталась в живых… Пусть уж ходила бы голоногая, как эти девочки, и дружила бы с мальчишками!
Она угощала детей печеньем и фруктами, всегда была готова накормить их обедом, расспрашивала каждого ребенка, кто его родители, есть ли у него братья и сестры, и если узнавала, что в семье он единственный, была с ним особенно ласкова.
Как-то весной дети вернулись из школы раньше обычного и окружили Сатеник с веселыми возгласами:
— Поздравляем, сегодня день всех матерей — восьмое марта!
И одна из девочек накинула новый шелковый платок на голову Сатеник.
Сатеник растерялась от неожиданности. Что это значит — «день матерей»? И ей вспомнились прожитые горькие дни… Значит, ей выпало на долю не только счастье вновь стать матерью, но и для нее, как для матери, установили особый праздник.
В этот день дети заставили Сатеник пойти с ними в театр. Второй раз она согласилась пойти в театр, когда дома праздновали совершеннолетие Габриэла. Ставили пьесу Сундукяна «Хатабала». В памяти Сатеник запечатлелся образ несчастной дочери купца-богатея, и она не раз после этого задумчиво повторяла:
— Бедная Маргарит, как ее оскорбили!
Габриэл часто пересказывал матери содержание прочитанных книг. К старым книгам, имевшимся у Михрдата, прибавились новые книги — сочинения Ленина, произведения Абовяна, Туманяна, Дуряна, Раффи, а также Пушкина и Гюго. Сатеник не удавалось запомнить имена всех писателей, но она с любовью стирала пыль с книг, а иногда и подносила их к губам, потому что Габриэл любил читать их. Как-то раз Габриэл прочел матери рассказ Демирчяна под названием «Сато». Вспомнив те дни, когда и ей приходилось стирать на других из-за куска хлеба, Сатеник с возмущением воскликнула:
— Ишь, люди с черной душой!.. Что же, выходит, прачка не человек?
В рассказе упоминалось, что события происходили в Ереване; Сатеник озабоченно спросила:
— Габриэл, ты не знаешь, где живут те люди, у которых Сато служила? Позовем ее к нам домой, поможем ей чем-нибудь!
Габриэл засмеялся. Видя, что мать обиделась, он поспешил объяснить, что Сато — героиня книги Демирчяна. Это объяснение не удовлетворило Сатеник: она не понимала разницы между героиней книги и реальным человеком, ей хотелось поговорить с Сато, открыть ей свое сердце.
По просьбе матери Габриэл не раз читал ей отрывки из ее любимых книг — «Раны Армении» и «Армянская лира».
Михрдат ничего не жалел для сына. Видя, что любовь к сыну вновь вернула к жизни некогда окаменевшую от горя Сатеник, он старался ничем не дать ей почувствовать разницу в их возрасте. И он настолько успел в этом, что Сатеник уже не стеснялась в присутствии посторонних говорить о нем, как о своем муже, хотя вначале предпочитала иносказательно называть его «наш старший».
Михрдат был уже цеховым мастером на швейной фабрике и пользовался славой лучшего мастера. С помощью месткома он построил себе маленький дом и поселился в нем с женой и сыном.
У Сатеник как будто не оставалось повода горевать. Габриэл кончил семилетку и поступил в техникум; окончив его, он завел себе новых товарищей на заводе, куда поступил слесарем. Сатеник с неизменной приветливостью принимала всех новых друзей мужа и сына, но упорно отказывалась выходить из дому и бывать у знакомых.
В заветном сундучке, привезенном с родины, она хранила памятные вещи, связанные с Габриэлом. Вот в этой коробочке — пучок волос Габриэла, когда ему исполнился год; это рубашонка, которая была на нем в тот день, когда он впервые произнес «мама»; вот это его букварь, его первые короткие штанишки, его первый пионерский галстук, а вот это — полученный в «день матерей» головной платок, который Сатеник сняла и спрятала в сундук. Когда Габриэлу случалось хотя бы на несколько дней уехать из дому, Сатеник садилась перед сундучком и словно утоляла тоску по сыну, перебирая его вещи.
Когда Сатеник услышала весть о начавшейся войне, она тотчас же спросила мужа:
— Это османы начали войну?
— Нет, Сатеник, на этот раз не османы, а немцы: теперь фашисты стали господами в стране немцев.
— А что такое фашист? — справилась Сатеник.
— Фашист — это дурной человек.
…Прижавшись головой к груди сына, Сатеник заново переживала все, что ей пришлось испытать в жизни. Габриэл понимал, что происходит в душе матери, понимал и то, что ее невозможно утешить словами. Он больше часа просидел рядом с ней, лишь иногда ласково проводя рукой по ее седым волосам, выбившимся из-под платка.
Пришли Гарсеван и Аракел и сели ужинать. Михрдат несколько раз заглядывал в комнату Габриэла, но, видя, что мать и сын молча сидят обнявшись, счел за лучшее не тревожить их.
Сатеник наконец выпустила сына из объятий и, сдерживая слезы, тихо сказала:
— Иди поешь, сынок, а потом ложись, ведь утром… тебе нужно ехать.
Она взглянула на сына, словно надеясь, что он опровергнет ее слова. Но Габриэл сказал ей:
— Нет, мама, я лучше посижу с тобой.
— Ой, нет, родной мой, тебе надо выспаться!
И Габриэл понял, что для успокоения матери он должен поесть и лечь.
Сатеник постлала ему постель. Выглянув в соседнюю комнату, она увидела, что гости уже спят. Когда Габриэл лег, она села у его изголовья.
Глава одиннадцатая
НА ВОКЗАЛЕ
Глядя на сына, Сатеник думала о том, что принесет ей будущее.
Неужели в эту ночь приходит конец ее счастью, доставшемуся ей ценой стольких страданий! Сатеник, переживавшая тревогу каждый раз, когда Габриэл запаздывал домой, напрасно старалась теперь призвать к себе на помощь мужество. Ее лишь слегка утешало сознание, что Габриэл сильный и выносливый юноша.
Габриэл дышал спокойно и ровно. «Ах, почему мой Габриэл не женился на хорошей девушке, был бы у меня сейчас внучок…» — думала Сатеник. Но здесь нить ее мыслей обрывалась. Нет, ведь и в этом случае Габриэлу все равно пришлось бы уйти на… (язык у нее не поворачивался произнести это слово!), где смерть стоит на страже. Так не лучше ли, если бы этой войны вообще не было?! Но на этой мысли она не задерживалась. Ведь война-то все равно уже началась, Габриэлу все равно придется идти воевать!.. Пусть хотя бы живым остался! И Сатеник, вытирая глаза, мысленно твердила: «Пусть вернется домой, если даже… потеряет руку или ногу… Хотя нет, нет, пусть вернется таким, каким идет на войну, вернется с честью!..»
Страдания, испытанные в жизни, закалили душу Сатеник. Бывало раньше, настигнутая бедой, Сатеник мысленно взывала: «Господи, на тебя моя надежда, смягчи сердца жестоких людей!» А теперь Сатеник уже не просила бога о милосердии. Быть может, под влиянием Габриэла она изменилась и поняла, что со злом надо бороться. И Сатеник теперь мысленно повторяла: «Пусть падет зло на головы тех, кто его породил!» И мать желала силы и стойкости сыну, чтобы он своей рукой сокрушил злодеев.
Но вскоре все эти мысли рассеялись, и мать вновь отдалась воспоминаниям о сыне. Габриэл стал ворочаться, и ей показалось, что сына что-то тревожит во сне. Она вспомнила самые заветные часы, связанные с его детством, машинально положила ему руку на грудь и, низко склонившись над ним, вполголоса запела колыбельную песню, которую когда-то пела ему:
Она несколько раз пропела колыбельную, перекрестила сына, съежилась у его изголовья и положила свою иссохшую руку на загрубевшую, мускулистую руку сына.
Утром раньше всех поднялся с постели Михрдат. Он приготовил шашлык на завтрак, принес свежей зелени с огорода, накрыл на стол и тогда лишь окликнул гостей. Когда Габриэл вошел вместе с матерью в столовую, Михрдат с гостями уже готовились сесть за стол. Пеброне ни на шаг не отходила от мужа и все время что-то нашептывала ему на ухо. Во время завтрака уезжающих напутствовал Наапет.
— Родные мои, — обратился он к Гарсевану, Аракелу и Габриэлу, — сами знаете, мы всегда хотели жить мирно. Но вот началась война, и вы идете на фронт. Будьте отважны, ведь недаром у нас в народе говорится, что на смелого человека собака только лает, а труса — кусает. Слов нет, силен фашист, да только на кого он идет? На русских! Так ведь русские сумеют за себя постоять! Держитесь, чтоб не отставать от русских братьев, бейте так, чтобы раскрошились зубы у врага! Помните, что мы надеемся на вас.
А ты, сестрица Сатеник, утешайся тем, что родила такого сына-смельчака! Он любому мужчине не уступит. Ведь мужчина на то и рожден, чтоб всякую беду грудью встречать. Вернется он цел и невредим с войны, красавицу невестку в дом приведет, и все горести с твоего сердца словно чистой родниковой водой смоет.
Сатеник, слушая Наапета, кивала головой и взволнованно повторяла: «Да, дожить бы до этого, увидеть ту девушку, которую полюбит мой Габриэл… Ведь ни словечком не обмолвился сынок мой, любит ли кого или нет!.. Умереть за него и за любимую его!..»
Позавтракав, все встали и пошли гурьбой к вокзалу.
Габриэл шагал позади всех, ведя мать под руку. За последние два-три года Сатеник впервые выходила из дому.
На перроне было столько народу, что казалось, иголке некуда было упасть. Неслись оглушительные звуки духовой музыки. Глядя на лица отправляющихся на фронт воинов и провожающих их родных, становилось ясно, что эти последние минуты перед прощанием были наиболее тяжелыми. Об этих тяжелых переживаниях можно было скорее догадаться по выражению лиц и полным тоски взглядам, чем по тем коротким фразам, которыми они обменивались. Даже тогда, когда умолкала музыка, люди говорили о самых заветных вещах не шепотом, а в полный голос. Словно и не было больше тайн, словно самое заветное делалось явным для всех и самое удивительное было в том, что все эти заветные тайны были очень схожи: здесь мать что-то говорила сыну, там девушка — юноше, дети — отцу.
Призывники собрались в заранее указанном месте; их окружили родные. Тут же была и семья Шогакат-майрик. Ашхен, приехавшая на вокзал вместе с Ара и Маргарит, подошла к Габриэлу, ласково поцеловала его в лоб и попросила познакомить ее с Сатеник. Приветливость Ашхен наполнила нежностью сердце Сатеник, и она сожалела, когда узнала, что Ашхен уже замужем. Внутренним материнским чутьем она догадывалась, что в сердце сына закралась любовь, но никак не могла угадать, кто его любимая.
После того как представитель городского военкомата объявил митинг открытым, на импровизированной трибуне появилась пожилая колхозница. Это была мать Унана Аветисяна, который накануне выступал на митинге в парке «Флора». Сдвинув головной платок назад, она с минуту внимательно оглядывала толпу. Сатеник не сводила с нее глаз. Она с трепетом ждала, что скажет эта женщина.
— Бесценные наши воины, — негромко начала та, — я своих пятерых сыновей — Унана, Айказа, Геворка, Амаяка, Ашота — посылаю на фронт… Поцеловала их в лоб и отправила, чтобы они защищали нашу большую и могучую страну. Каждый из вас — светильник своего очага. Раз нужно отразить злого врага, идите, родные, несите суд и возмездие врагу, с честью и победой вернитесь домой, к своим семьям. Унан-джан, ты вырос на земле нашего Зангезура, дышал свежим воздухом горы Навс, пил студеную воду реки Цав, честно трудился в совхозе. Так смотри же, докажи и на фронте, что молоко матери тебе впрок пошло. Верю я, что и там вы, братья, не посрамите своего имени. Все мы, матери, будем ждать, чтоб наши дети вернулись с победой, вернулись в наши материнские объятия.
— Молодец наша Ханум! — воскликнул Наапет, устроившийся вблизи от трибуны.
Сатеник старалась не пропустить ни одного слова из выступления Ханум. Пятерых сыновей… И как хорошо она сказала: «Вернитесь в материнские объятия!.. Ах, Габриэл, что бы там ни было, вернись в объятия матери!» Сатеник прислушивалась к многоголосой толпе, но не отрывала глаз от Ханум, которая стояла неподалеку от нее.
Слово предоставили Мхитару Берберяну. Левой рукой он отбросил прядь волос и заговорил сначала тихо, а потом возвысил голос.
— Мы, провожающие вас сегодня мужчины, способные носить оружие, не прощаемся с вами: ведь мы встретимся с вами там, на фронте!.. Велика наша отчизна, и неисчерпаемы наши силы. Там, на передовой линии, уже сражаются наши братья, сыны русского, украинского и других братских народов. Станем и мы плечом к плечу с защитниками нашей родины, оправдаем доверие взрастившего нас армянского народа!
Прозвучали слова приказа, и призывники стали прощаться с родными. Зохраб твердо решил не изменять присущему хирургам самообладанию. Он поцеловался с родными, вытер платком глаза жене, несколько мгновений не выпускал из объятий маленькую Зефиру и поднялся в вагон так, словно садился в автомашину, отправляясь на очередную серьезную операцию. Вслед за ним в вагон поднялись Гарсеван и Аракел, доверив попечению деда Наапета «свои дома и семьи».
Габриэл, все время стоявший рядом с родителями, подошел к Ара, Маргарит и Ашхен, чтобы попрощаться с ними. Сатеник, затаив дыхание, следила за каждым движением сына. Габриэл обнял Ара, еле сдерживая волнение. Взяв за руки Маргарит и Ашхен, он обратился к матери:
— Мама-джан, и Маргарит, и Ашхен дали мне слово часто навещать тебя. Они будут писать мне все, что ты им поручишь, так что не беспокойся…
Сатеник уже не смогла сдерживаться, разрыдалась и с плачем произнесла:
— Похоронил бы ты меня лучше, а потом уехал!
Ашхен обняла Сатеник:
— Нет, мать, ты должна жить для Габриэла, чтобы он был спокоен за тебя. Посмотри на Ханум — ведь она пятерых сыновей провожает на войну!.. И наш Габриэл будет там, среди тысячи верных и храбрых товарищей…
И Ашхен с такой любовью поцеловала Габриэла, что Сатеник прониклась к ней полным доверием. Более сдержанно поцеловала Габриэла Маргарит.
А Габриэл взглянул на отца, перевел взгляд на мать, и его сердце сжалось от сознания, что у Сатеник нет никого ближе, чем он, ее сын. С этим тяжелым чувством он и сел в вагон.
Поезд тронулся. Сотни рук махали шапками, платками, посылая прощальный привет отъезжающим воинам. Поезд уже давно скрылся за поворотом, но на перроне все еще стояла толпа людей.
На привокзальной площади Ара наскоро попрощался с Маргарит и Ашхен: его вызывали к двенадцати часам в военный комиссариат. Вртанес, Седа и Елена уехали на машине.
Мхитар остался с Маргарит и Ашхен. С Маргарит он познакомился за несколько дней до этого у Вртанеса, а сейчас Маргарит познакомила его с Ашхен.
Ашхен протянула руку и почувствовала, что Мхитар слегка задержал ее. Она внимательно взглянула в лицо Мхитару. Это сын соседки Шогакат-майрик; как же случилось, что она ни разу не видела его? Ведь она несколько раз бывала у Ара! Ашхен подумала об этом и опустила глаза, чувствуя, что не может выдержать пристального взгляда Мхитара.
— Как вы хотите? — обратился к подругам Мхитар. — Поедем ли в трамвае или подождем немного и возьмем такси?
— Я пойду пешком, не хочу ни в трамвае, ни в такси, — заметила Ашхен.
Не зная, чему приписать желание пройти пешком длинный путь от вокзала до центра города, Мхитар спросил:
— Разрешите проводить вас?
— Пожалуйста, если вы не прочь идти с нами пешком.
— С вами — да, — с улыбкой отозвался Мхитар, который был человеком очень сдержанным и не имел привычки говорить любезности хорошеньким девушкам.
Не придавая никакого значения словам Мхитара, Ашхен взяла под руку Маргарит и свернула на проспект, ведущий к центру города.
— Вы кого провожали? — спросил Мхитар.
— Всех! — коротко ответила Ашхен.
— Простите… Я предположил, что вы провожали брата или мужа…
Ашхен так и не поняла, сказал ли Мхитар эти слова без всякого умысла, или же, зная что-либо (ведь в семье Вртанеса кто-нибудь мог рассказать ему о ее семейных делах), хотел уколоть ее. Она тяжело переживала недостойное поведение Тартаренца, и ей казалось, что весь город уже говорит о дружбе ее мужа и Заргарова.
Задетая словами Мхитара, она отделывалась лишь односложными ответами на вопросы своего спутника.
Часть вторая
АСКАНАЗ АРАРАТЯН
Глава первая
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
ДВАДЦАТЬ третьего июня Асканаз уже оформил свои документы в Краснопольском военкомате. Ему предстояло выехать в Белую Церковь, куда за день до него уже выехал Денисов. Он снабдил Асканаза письмом, адресованным в штаб армии, и Асканаз получил назначение в дивизию Денисова.
Сменив свой гражданский паспорт на книжку военнослужащего, Асканаз из военкомата решил вернуться на дачу, чтобы попрощаться с семьей Денисовых.
Алла Мартыновна, которую жизнь приучила не терять присутствия духа в любых обстоятельствах, взялась за организацию районного кружка противовоздушной обороны. Оксана же находилась в состоянии растерянности: ее сильно тревожила судьба детей и раздражало то, что в этот переломный момент муж находился где-то далеко.
Окружив Асканаза, все старались сказать ему на прощание что-нибудь ласковое.
— Как я рада, что вы будете вместе с Андреем Федоровичем! — воскликнула Алла Мартыновна.
— Дядя, а как ты будешь убивать фашистов? — дергая Асканаза за рукав, приставала Аллочка. — У тебя нет ни винтовки, ни сабли…
Асканаз одной рукой схватил Аллочку, другой — Миколу и по очереди поцеловал обоих.
— Асканаз Аракелович, за эти несколько дней мы так сроднились с вами… — Голос Оксаны дрогнул, и, едва сдерживая слезы, она проговорила: — Мы вас провожаем, как родного!
— Благодарю вас, — сказал Асканаз. — Я тоже прощаюсь с вами, как с родными!
— Берегите себя…
— Мы верим, что вы покажете себя бесстрашным и достойным воином! — добавила Алла Мартыновна.
— Ну, скажешь ты тоже, Алла, — нахмурилась Оксана. — Как будто Асканаз Аракелович может быть иным! Смотрите же, непременно заезжайте, если случится быть поблизости…
— Обязательно!
Асканаз на прощание расцеловался со всеми.
…В первый день все произошло так, как и предполагал Асканаз. Он благополучно добрался до Белой Церкви, явился в штаб армии и получил назначение в дивизию Денисова. Со склада ему выдали обмундирование. Выйдя из здания, где помещался штаб, Асканаз отправился на почту и послал три открытки, две в Ереван, на имя Вртанеса и Ашхен, а третью на имя Аллы и Оксаны. В них он коротко сообщил о своих делах и обещал писать систематически.
До места расположения дивизии Денисова Асканазу предстояло ехать часов двенадцать.
Ведущее к железнодорожной станции шоссе было забито людьми. Многие старались чем-либо помочь едущим на передовые линии: один хотел нести чемодан, другой предлагал папиросы, молоденькие девушки с застенчивой улыбкой преподносили солдатам цветы.
Асканаз унесся мыслью к оставшимся в Ереване друзьям. Но вдруг его коснулась чья-то холодная рука, и незнакомый голос произнес:
— Разрешите вам помочь, товарищ старший политрук!
Перед Асканазом стоял пожилой мужчина и протягивал к чемодану руку. Какое-то неприятное чувство овладело Асканазом, но он вежливо ответил:
— Благодарю вас, мы уже почти добрались до станции. Да и, кроме того, я привык сам себя обслуживать.
— О, да, я понимаю. Но разве можно допустить, чтобы такой культурный человек, как вы, таскал тяжести?! Разрешите мне, прошу вас…
— Не настаивайте, я никогда не соглашусь причинить вам такое беспокойство.
— О, что вы говорите, какое беспокойство!.. Не знаю, как вас величать по имени-отчеству? Меня зовут Илья Карлович. Я сразу же догадался, что вы кавказец. Эх, люблю Кавказ! Чудесная страна: редкостные фрукты, пылкие люди…
— Особенно люди? — скупо улыбнулся Асканаз.
— Ну да, чудесные люди! Но вы так и не сказали, как вас звать, товарищ старший политрук?
— Ну, вот, мы и добрались до станции! — произнес Асканаз, не чувствуя необходимости называть свою фамилию слишком настойчивому незнакомцу.
Вокруг станционного здания собралась огромная толпа, но благодаря усилиям милиционеров и военных патрулей удалось водворить порядок, и людей посторонних на перрон не пропускали.
Заметив, что старший политрук, фамилию которого ему так и не удалось узнать, уже становится в очередь, чтобы пройти на перрон, Илья Карлович сделал последнюю попытку заставить своего спутника разговориться.
— Товарищ старший политрук, — просительным тоном сказал он, — мой единственный сынок накануне войны был призван в армию и находится где-то здесь поблизости. Может, вас не затруднит передать ему письмо? Сами понимаете, чувства отца…
Тоном, который мог показаться оскорбительным собеседнику, Асканаз сказал:
— Письмо можете послать по номеру полевой почты.
Илья Карлович ничем не обнаружил, что его задел ответ Асканаза. Нервно потерев лоб, он с довольным видом воскликнул:
— Очень признателен вам за совет, товарищ старший политрук! Желаю вам удачи.
Асканаз не мог заподозрить что-либо дурное в просьбе своего спутника: совершенно естественно было желание отца послать весточку сыну, призванному в армию. Но Асканаз все же почувствовал облегчение, когда Илья Карлович отстал от него.
Встретив на перроне знакомых командиров, Асканаз вместе с ними сел в вагон, С первой же минуты он почувствовал невольную симпатию к одному из своих попутчиков — капитану Борису Шеповалову, который также направлялся в дивизию Денисова.
Это был молодой человек с веснушчатым круглым лицом, густыми русыми волосами и крепкими руками. Прошло несколько часов, и Асканаз почувствовал, что Шеповалов относится к нему тоже с искренней симпатией. Это было уже предвестием дружбы. Они завоевали доверие друг друга, беседуя о самых простых и обыкновенных вещах.
В пять часов дня поезд довез их до места следования. Асканаз и Шеповалов вместе с несколькими другими военными пешком добрались до штаба дивизии, расположенного в землянках, наскоро вырытых у опушки леса.
Они явились к начальнику штаба дивизии — немолодому подполковнику, который сказал, принимая их документы:
— Как раз вовремя подоспели!
Асканаз получил назначение дивизионного агитатора, Шеповалов был направлен в один из полков командиром батальона.
Вскоре Асканаз был вызван на совещание. Разъяснив вкратце создавшееся положение, комиссар приказал политработникам немедленно отправиться в полки, чтобы подготовить дивизию к предстоящим боевым операциям.
Асканазу очень хотелось повидаться с Денисовым, прежде чем отправиться в свой полк. Он свернул было к землянке Денисова, но вскоре остановился, не пройдя и нескольких шагов: ведь он находился сейчас в иных взаимоотношениях с Денисовым, а все, что нужно было ему знать, ему разъяснили. Стоило ли беспокоить командира? Асканаз уже повернул обратно, когда из землянки вышел сам Денисов в сопровождении командира артиллерийского полка. Перед боем Денисов решил лично еще раз проверить готовность артиллеристов. Увидев Денисова, Асканаз тотчас же вытянулся и взял под козырек.
Денисов замедлил шаги и произнес:
— Ну как, все в порядке? Получил назначение?
— Точно так, товарищ командир! — отрапортовал Асканаз.
Опытный командир почувствовал, что его политрук что-то хочет ему сказать, и с улыбкой добавил:
— Вероятно, Аллочка надавала вам поручений, а вы обещали их в точности выполнить?..
Асканаз в первую минуту не понял, какую Аллочку, имеет в виду Денисов — жену или ее племянницу. У Денисова сейчас каждая секунда была на счету, и, вновь принимая официальный тон, он сказал:
— Ну, приступайте к делу!
— Есть, товарищ полковник! — ответил Асканаз и зашагал в расположение своего полка.
Глава вторая
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ ДЕНИСОВ
Дивизия Денисова принадлежала к числу тех частей Красной Армии, которым выпало на долю первыми принять на себя удар вооруженного до зубов врага.
В конце августа дивизия закрепилась на одном из участков Украинского фронта, вдоль западного берега Днепра.
В три часа ночи Денисов собрался на КП, решив по пути зайти в помещение санбата, где находились доставленные с передовой линии раненые.
Когда Денисов вошел в комнату в сопровождении адъютанта, он увидел бойца с прибинтованной к груди левой рукой, стоявшего возле кровати. Увидев командира дивизии, боец вытянулся и отрапортовал:
— Товарищ комдив, шестеро раненых ждут эвакуации в тыл. Докладывает красноармеец — снайпер Зотин.
— Так, ждут эвакуации шестеро. Но здесь я вижу семь бойцов.
— Точно так, я седьмой.
— А вы чего ждете?
— Жду вашего приказа остаться в санбате, пока заживет рана. Рана-то у меня легкая.
— А что говорит врач?
— Говорит, заживет через девять-десять дней.
— Ну, а сколько фашистов вывел из строя?
— Если последний раз не промахнулся, то девять. Как раз в эту минуту меня и ранили!
— А чем был ранен?
— Осколком мины… из миномета.
— Из миномета?.. — Денисов пощупал пальцы снайпера. — Нет, пальцы не повреждены. Ну как, метко стреляют гитлеровцы?
— Товарищ комдив, ловко орудуют минометами. Одна батарея целый день била на правом фланге, так и не смогли ее накрыть.
— А пробовали вывести ее из строя?
— Слыхал, что комбат просил из полка помощи артиллеристов. Да, видимо, не получил этой помощи.
Узнав, что один из бойцов ранен в голову, а другой в шею, Денисов снова обратился к снайперу:
— Вот видишь, плохо маскируются наши, а гитлеровцы свое дело знают.
— Наши бойцы — сами знаете — как разгорячатся, так и не помнят уже о правилах маскировки!
— А помнить о них необходимо, братец. Ну, поправляйся.
— Разрешите не ехать в тыл, товарищ комдив!
— Ага… — Денисов повернулся к адъютанту. — Передай, чтоб оставили в санбате под наблюдением врачей.
Выйдя из санбата, Денисов заметил на полутемной улице села большую толпу. Это были бежавшие от гитлеровцев жители захваченных врагом населенных пунктов. Они ждали отправки в глубокий тыл. Толпа состояла главным образом из стариков и женщин с детьми. На лицах этих суровых и мрачных стариков, этих хныкавших от усталости детей, этих озабоченных матерей, он словно читал: «Что же с нами будет дальше?!» Денисов подошел к старику, который, опираясь на палку, что-то наставительно говорил маленькому внуку.
— Откуда вы, папаша? — спросил Денисов.
Старик поднял голову и ничего не ответил.
Денисов повторил свой вопрос, и тот начал объяснять, из каких он мест, и, помолчав, со вздохом добавил:
— Каждому желательно вернуться в свой дом, со своего поля хлеб собирать, из своего колодца воду пить… А пока нужно бы осесть где-нибудь, работенку найти… Со многими я говорил, и у всех одно на языке: доехать бы поскорей, делом заняться.
— Вот доберетесь до места — и работа найдется.
— То же и я говорю… Сказали бы вы, товарищ командир, чтобы люди, которые нашей эвакуацией ведают, поскорее нас до места довезли…
Повернувшись, Денисов заметил сидевшую рядом с ним женщину. Двое малышей дремали, склонившись на большой узел. Женщина тихо плакала, не вытирая слез.
— Почему вы плачете? — спросил Денисов.
Женщина подняла глаза на Денисова, как бы без слов говоря: «А разве не ясно, почему я плачу?»
Денисову хотелось поговорить со многими, расспросить и утешить их, но не было времени. Он снова окинул взглядом толпу: это была маленькая часть родного народа, уже познавшая всю горечь вражеского нашествия. Эти люди не говорили, чего они требуют от Денисова, но именно это заставляло его с особенной силой почувствовать свой долг защитника родины.
Денисов проехал больше двух километров, направляясь к передовым позициям, затем пешком поднялся на покрытую стогами сена маленькую высотку. Здесь-то и был его КП.
Небо на востоке уже светлело, когда Денисов выслушал рапорты командира артполка и начальника связи. Дав им указания, он вызвал начальника штаба подполковника Гомылко. Этот подтянутый, щеголеватый военный лет тридцати всегда шагал, откинув голову назад, так что его маленький рост не сразу бросался в глаза. Доклад начштаба заставил задуматься Денисова: гитлеровцы бросили свежую мотомеханизированную дивизию против рубежа, занятого полками Денисова.
— Так… — произнес Денисов, мысленно окидывая взором расположение своих полков и огневых точек.
Учтя создавшееся положение, он дал новые указания командиру артполка.
…Уже свыше двух часов дивизия отражала непрерывно следующие друг за другом атаки противника. В ушах у Денисова гудело от залпов орудий и минометов, автоматов и винтовок. Всю местность, которую ему удавалось рассмотреть в полевой бинокль, то и дело заволакивало густыми облаками пыли и дыма, и ему приходилось догадываться о положении на линии огня лишь по тому, усиливалась или затихала стрельба со стороны наших или же вражеских позиций.
Августовское солнце палило еще довольно сильно, и его лучи, пробиваясь сквозь облака дыма и пыли, жгли потное лицо Денисова. «Неужели опять придется отступать?!» — мелькнуло у него в голове, когда ему доложили, что действовавший на левом фланге стрелковый полк оставил передовые позиции и, отступив на вторую линию обороны, продолжает оказывать сопротивление врагу. «Неужели… неужели отступать?!» — сверлило в его голове, хотя он и стремился к тому, чтобы никто по выражению его лица не мог догадаться, какие сомнения его терзали.
Он мысленно представлял себе путь отступления за прошедшие два месяца. Неужели он допустил какую-нибудь ошибку, которую можно было бы оценить, как нарушение воинского долга? Совесть воина не давала ему покоя: ведь его дивизия отступала и отступала, сдавая города, неся большие потери. Сейчас дивизия уже нуждалась в пополнении.
Денисов старался отогнать тревожные мысли, которые могли помешать ему руководить боем. Он вытер запыленный, потный лоб. Положение 1001-го полка становилось все более и более тяжелым. Артиллерийский огонь врага почти накрывал его позиции. Заметив приближающегося с картой Гомылко, Денисов опустил бинокль.
— Разрешите обратиться, товарищ комдив? — произнес Гомылко осипшим голосом.
Комдив чувствовал, что его начштаба не скажет ему ничего утешительного.
— Докладывайте, — коротко сказал Денисов.
— Наша левая соседка… двести семнадцатая, сдала Демидовку… — проговорил Гомылко и красным карандашом показал на карте направление, в котором отошла соседняя дивизия.
Денисов махнул рукой, но за этим не последовало обычных в подобном случае слов: «Черт бы их побрал!..» Он лишь потер рукой лоб и вполголоса спросил:
— Еще что скажете хорошенького?
— Противник пытается зайти к нам в тыл, вклинившись в участок тысяча первого полка…
— Ну, и что ж вы предлагаете? — спокойно спросил Денисов, быстро прикидывая в уме возможное решение.
— Разрешите отозвать из центра батальон и послать наперерез…
— Ну что вы?! — резко остановил его Денисов.
Карандаш Гомылко замер на карте.
— Не вижу другого выхода, товарищ комдив.
— Пошлите батальон из резерва. Нельзя ослаблять центр.
Гомылко знал, что Денисов крайне неохотно пускал в ход резервные части. Батальон, о котором говорил Денисов, был оставлен в резерве на самый крайний случай. Карандаш выпал из рук Гомылко.
— Но ведь в резерве… — пробормотал он.
— Ну, да это неоспоримая истина, — поняв его мысль, кивнул головой Денисов. — Час тому назад это было истиной, но в военной жизни истины изменчивы. Выполняйте приказ!
Гомылко взял под козырек и направился к телефону передать приказ комдива.
Авиация противника начала бомбить тылы дивизии. Денисов взял бинокль и довольно долго рассматривал поле боя. Что-то похожее на улыбку мелькнуло на его лице. Действующему на правом фланге 625-му полку, отразившему все атаки противника, удалось продвинуться вперед. Эта удача в какой-то степени утешила комдива. Он приказал соединить себя с командиром полка, который коротко доложил, что первый батальон под командованием капитана Шеповалова вытеснил противника с передовых позиций, а командир второй роты Белобородов погиб.
— Кто его заменяет?
— Командование роты взял на себя комвзвода Карпов. В первом батальоне…
Сильный взрыв заглушил слова комполка. Денисов отвел трубку, потряс ею в воздухе и снова приложился к ней.
— Ну, что у вас там в первом батальоне?..
— Тяжело ранен комиссар Хромов, некем его заменить.
— Пошлите пока парторга.
— Для закрепления успеха прошу усилить батальоном.
— Держитесь своими силами. Получите огневую поддержку от дивизии.
Денисов отошел от телефона. Итак, Хромов… очень уж был горяч, вероятно, сам возглавил атаку. Закрепить успех… А когда прибудет пополнение? Денисов снова потер лоб. Связавшись со штабом армии, он попросил прислать бомбардировочную авиацию.
Он не заметил, как настал полдень: перед глазами стояла сплошная завеса пыли и дыма. Подошел с докладом начальник разведки: захваченный в плен вражеский офицер на допросе сообщил, что противнику подбросили свежий полк.
Денисов задумался над перегруппировкой своих сил. Послышались непрерывно следовавшие друг за другом взрывы.
— Быстро разузнайте, что там происходит! — приказал он адъютанту.
Выяснилось, что самолеты противника перебили расчет двух гаубиц. Денисов глубоко перевел дыхание, словно ему не хватало воздуха. В ушах звенело от залпов зениток и постепенно замиравшего рокота самолетов.
Положение дивизии постепенно ухудшалось. 625-й полк, действовавший в этот день наиболее удачно, также попал в тяжелое положение: противник сосредоточил большую часть своих сил против этого полка, и ему грозило окружение.
Наступившая ночь не принесла успокоения Денисову. Вернувшись в штаб, он задумался: положение дивизии было тяжелое; придется снова просить о пополнении, о том, чтобы ему подбросили танков, помогли авиацией…
Ординарец принес алюминиевую тарелку с гречневой кашей и двумя кусочками консервированного мяса. Денисов за целый день не прикоснулся к еде. Взяв ломоть украинского пшеничного хлеба, он положил сверху кусочек мяса. Но есть ему не хотелось, сказывалось сильное нервное напряжение. С ломтем в руке он подошел к стене, окинул взглядом карту и начал мысленно набрасывать план будущих операций. В комнате было душно. Он расстегнул воротник кителя и, почувствовав облегчение, принялся за свой ломоть хлеба с мясом.
Утолив голод, он стал просматривать бумаги. Взгляд его упал на несколько конвертов. Денисов перебрал конверты. Два из них были надписаны рукой Аллы. Бессовестно, что он до сих пор не прочитал их! Он быстро просмотрел оба письма жены. Прочел до конца, и у него вырвалось долгое «н-да-а…» Он поднял сжатый кулак и медленно опустил на стол, мысленно повторяя строки ее письма. «…Мы не так себе представляли… до каких же пор будем отступать?.. Я готова ко всякой неожиданности. Если так будет продолжаться, может быть, долгое время не увидимся… Мне дали поручение, я остаюсь здесь…» Здесь?! «Не ищи меня в тылу…»
Денисов прищурил глаза, посмотрел на потолок. Да, а какими словами закончила Алла свое письмо?! Как это у нее написано? Да, «Не ищи меня на путях отхода, ищи на пути наступления…» Ах, Алла моя, Алла, я думал, что ты вышла из строя, а ты вот как, гражданскую войну, оказывается, вспомнила!..
В дверь негромко постучали. Денисов пришел в себя и нетерпеливо бросил: «Войдите!»
В комнату вошел запыхавшийся Гомылко. Чувствуя на себе вопросительный взгляд комдива, он хотел что-то сказать, но Денисов протянул руку к стулу, предлагая ему сесть.
— Пошлите меня в полк, — начал было Гомылко, наклоняясь к Денисову.
— Об этом после, — прервал его Денисов. — Удалось ли получить оперативные сводки?
— Точно так, удалось, — отозвался Гомылко.
Он доложил Денисову более точные данные о потерях, о новом расположении частей, о боезапасах, передал сводки.
Денисов сделал несколько пометок на листке и, заметив, что Гомылко что-то еще хочет сказать, поторопил его:
— Ну, договаривайте.
— Из шестьсот двадцать пятого сообщают, что комиссар первого батальона Хромов умер.
Денисов вздрогнул. Помолчав, он спросил:
— А как там с Синявским? Снова просит подкреплений? (Синявский был командиром шестьсот двадцать пятого полка.)
— Просить-то просит, но с ним самим худо: поврежден левый глаз. Я узнал об этом от полкового комиссара. Сам он ни словом не обмолвился. Следовало бы хоть на время сменить его…
Денисов, пробегая глазами сводки, пробормотал:
— Кутузов воевал с одним глазом…
— Да, но…
— При чем здесь «но», товарищ начштаба? Надо предложить Синявскому вылечить глаз.
— Прошу вас послать меня в полк заменить его! — решительно встал со стула Гомылко.
— Опять вы о том же?! — нахмурился Денисов, но, видя напряженное лицо Гомылко, добавил уже мягче: — Ладно, посмотрю, решу.
Узнав, что дивизионный комиссар еще не вернулся из штаба армии, куда был вызван утром, Денисов задумался на минуту, затем повернулся к Гомылко:
— Распорядись, чтоб в три ноль ноль ко мне явился агитатор Араратян.
Глава третья
НАШИ ЛЮДИ
В полночь перестрелка немного утихла. Асканаз собирался пойти в батальон Шеповалова, чтобы провести беседу с бойцами, о событиях за истекшие два месяца. Два месяца… Никакой период жизни Асканаза не мог идти в сравнение с этими двумя месяцами!.
…Асканаз вспомнил тот день, когда он получил свое первое боевое крещение. В окопах переднего края он вел беседу с бойцами, когда началась сильная перестрелка.
— Товарищ старший политрук, — обратился к нему командир батальона, — вот по этому траншейному ходу вы можете добраться прямо до штаба полка.
— А куда ведет другой траншейный ход? — спросил он.
— А этот ход ведет ко взводу Каратова. Там сегодня ожидается жаркое дело.
Асканаз молча направился в траншею.
— Куда, куда это вы, товарищ агитатор? — встревожился комбат.
— К Каратову, — ответил Асканаз.
— Уж пошли бы лучше в резервную роту, — грохот такой, ничего не услышат.
Комбат не разобрал, что ему сказал в ответ Асканаз.
После артиллерийской подготовки противник пошел в атаку. Затрещали автоматы и пулеметы. Земля сотрясалась от взрывов. Чередовались атаки и контратаки.
Бой утих лишь к вечеру. Хотя с обеих сторон были потери, но противники остались на своих позициях.
Комбат вызвал к себе комвзвода Каратова.
— Молодец! Надо только сохранять хладнокровие. Не так уж трудно отбросить противника!
— Вовремя выручил и старший политрук. Когда на левом фланге пулеметчик Комаров вышел из строя, он тут же заменил его и помог отбить атаку противника.
— Какой старший политрук?
— Ну, старший политрук! Он так и сказал: «Каждый военный должен уметь воевать, как рядовой боец».
— Так вот оно что… — протянул комбат.
И когда чуть попозже Асканаз, с усталым, запыленным лицом, зашел к нему в блиндаж, он сказал ему:
— Ну, спасибо тебе за помощь, товарищ старший политрук!
Асканаз крепко пожал протянутую ему руку, думая про себя: «А я вот не благодарен сам себе: ведь противник все-таки не был отброшен назад… Вот если бы мы оттеснили его назад и опрокинули в реку, — другое дело! Но все же день не пропал у меня даром».
За эти два месяца обмундирование Асканаза успело вылинять и обтрепаться, лицо обветрилось. Он крепко подружился с сержантом-автоматчиком Браварником, смышленым и расторопным парнем.
Левая рука у Асканаза была забинтована, и каждый раз, глядя на нее, Асканаз чувствовал себя неловко. Желая прочистить и смазать свой револьвер, он разобрал его и во время сборки пружиной поранил себе руку. Асканаз не придал этому значения, но на следующий день ранка загноилась, и санитарный инструктор заставила его пойти на перевязку.
— Трудно привыкаете к боевой обстановке, да? Вот поэтому-то и отступаем, — насмешливо сказала девушка, перевязывавшая ему руку.
— Да я уже давно… — замялся Асканаз.
— Где там давно! Вон руки у вас какие нежные, — махнула рукой девушка и прибавила: — Да вы не очень горюйте, я вам в два счета залечу. Не только револьвер будете как следует держать, но и танком управлять!
— Ну, вот и спасибо! — улыбнулся Асканаз, жалея о том, что у него не нашлось подходящего острого словца в ответ на шутку девушки.
Вспомнив разговор с санитаркой, Асканаз поморщился: «Какая нелепость… Все время говорю о дисциплине, о сноровке в обращении с оружием, а сам… А ведь как я был уверен в себе! Вот что значит, быть не кадровым военным…»
Орудийный залп заставил его на минуту остановиться. Молча шагавший с ним Браварник тоном бывалого человека заявил:
— Не обращайте внимания, товарищ старший политрук, это попросту ночные шалости.
Асканазу почудилось, что Браварник решил, что он испугался снаряда противника. Асканаз стиснул зубы и коротко приказал:
— Пойди вперед и отыщи КП батальона.
На КП выяснилось, что Шеповалов ушел в первую роту. Не желая терять времени, Асканаз попросил провести его к командиру ближайшей роты и вместе с ним спустился в окопы, чтобы побеседовать с бойцами.
Некоторые из бойцов дремали, привалившись к стенам окопа, другие приводили в порядок и смазывали винтовки и пулеметы.
— Ну, Коля, ты плохой математик! Погоди, посмотрим, что нам скажет товарищ старший политрук, — громко сказал один из бойцов, узнав о том, что к ним в окоп пришел агитатор.
— А ну, Григорий, объясни нам, почему ты недоволен Колиными расчетами? — с улыбкой спросил Асканаз.
Поленову очень пришлось по душе и то, что дивизионный агитатор знает его по имени, и то, что он сейчас получит ответ на интересующий его вопрос.
— Товарищ старший политрук, Коле Титову не терпится узнать, сколько мы гитлеровских дивизий разгромили…
— Ишь, чего захотел… Пусть лучше подсчитает, куда мы дойдем, если и впредь будем отступать… — буркнул боец Мазнин.
— А что ж, подсчет — дело неплохое, — с улыбкой отозвался Асканаз. — А ну, подсчитай-ка ты сам, сколько убудет фашистских солдат, если и Титов и каждый из вас будут уничтожать по одному фашисту в день?
— Затрудняюсь сказать, товарищ старший политрук. Но, сколько бы ни перебили, все же часть нужно оставить, чтобы было кого бить, когда будем выкидывать фашистов из нашей страны!
Асканаз знал, что Поленов пользуется славой балагура. Прислонившись спиной к стене окопа, он машинально сунул забинтованную руку в карман. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил повязку.
Он подробно рассказал о сводке двухмесячных военных операций и добавил в заключение:
— А сейчас мы на всем протяжении фронта от Ледовитого океана до Черного моря — то есть на протяжении трех тысяч километров, товарищи! — оказываем упорное сопротивление врагу. И если каждый командир и каждый боец будут честно выполнять свой долг, фашистам не выдержать!
— Три тысячи километров?!. — протянул Мазнин. — Этого и за год пешком не пройдешь…
— Вот так расстояньице, черт побери! — рассмеялся Коля Титов. — Деревьев не хватит эту линию фронта озеленить.
— Значит, получается так, товарищ старший политрук, — вновь заговорил Поленов, — что у нас на правом фланге Ледовитый океан? Пусть попробуют фашисты пробиться туда… Будет то же, что случилось с их предками на Чудском озере!
— Тут не так важно то, что на правом фланге у нас Ледовитый океан, — заметил Асканаз. — Важно то, что в тылу наш народ полон гнева и ненависти к наглым захватчикам!
Поднялась луна, заливая своим бледным светом окоп. Асканаз пристально вглядывался в обветренные и изможденные лица Поленова и Титова, выражавшие одновременно и то, что обычно называют решимостью воина, и то, что принято определять словами «человеческое страдание».
В голове Асканаза мелькнуло: «В страданиях закаляется воля». Левая рука у него заныла сильнее, и он невольно закусил губу. Ему стало досадно при мысли, что бойцы, вероятно, считают его тыловиком. Может быть, этот словоохотливый Поленов даже считает Асканаза болтуном, который раз в неделю является в окопы, чтобы пересказывать бойцам новости, подчас уже известные им…
Асканаз в сопровождении Браварника выбрался из окопов. Он собирался пойти в другой батальон, но на полковом КП ему сообщили, что его вызывают в штаб дивизии.
Прошагав с Браварником с полчаса, Асканаз остановился передохнуть. Ущербная луна то и дело скрывалась за плывущими по небу облаками. Чудилось, будто прикрытая черным покрывалом земля притаилась в ожидании рассвета…
— Товарищ Араратян!.. — осторожно окликнул его Браварник.
Асканазу пришелся по душе дружеский оклик сержанта; он словно впервые почувствовал, что нуждается в задушевном, простом слове, нуждается так же сильно, как и те, с которыми он работал в течение этих двух месяцев. Ему захотелось пожать руку Браварника, но тот наклонился, стараясь рассмотреть шест с дощечкой, укрепленный на небольшом холмике.
— Вот тут похоронили комиссара Хромова… — заговорил Браварник, поглаживая рукой дощечку. — Не смогли доставить его в санбат, фашисты не давали нам передышки. Тут-то и похоронили его. Эх, товарищ Араратян, комиссар у нас был мировой!
И не найдя слов для выражения боли о погибшем комиссаре, Браварник замолчал и заговорил совсем тихо, словно сам с собой:
— Рядом с могилой рос мак. Кто-то из нас нечаянно задел лопатой, сломал стебель, и так жалко стало… Мне хотелось посадить его на могилу… Не могу я привыкнуть к мысли о смерти!
— Да и зачем к ней привыкать, браток?
— Не сочтите меня за труса, товарищ Араратян. Лично я смерти не боюсь. Но вот такой пустяк, скажем, растоптанный цветок или там разоренное птичье гнездо, меня расстраивают…
— Тот, кто цены не знает малому, и на большое дело не способен. Я тебя понимаю, Браварник.
— Вот и хорошо! А то бывает и так: заговоришь в простоте душевной с человеком, который хотя бы на один чин выше тебя, и пропало дело! Стоит открыть рот, что вот, мол, жаль этого разрушенного дома или же сожженного села, сразу так и накинутся: «А-а, ты что, вредные настроения проповедуешь, в отчаяние впал, не хочешь больше воевать, да?!» Право слово, жалеешь иногда о том, что заговорил! Хорошо вы это сказали, честное слово, товарищ Араратян: «Тот, кто цены не знает малому, и на большое дело не способен». Мы уже у штаба, товарищ политрук, вы пароль не забыли?
…У Денисова только что закончилось совещание. Против него за столом сидел Гомылко и, нахмурившись, читал вслух сообщение Совинформбюро: «Двадцать четвертое августа… В направлении Днепропетровска…»
— Да, далеко они зашли… Не так-то легко будет повернуть на Берлин…
Денисов еще раз проверил на карте рубежи дивизии и, ткнув карандашом в крестик, обозначавший КП 625-го полка, сказал:
— Крепкий мужик у нас Синявский! Советовал ему хоть немного поспать, а он отказывается, уверяет, что даже глаз у него перестал болеть!
— Это у него халхин-голская закалка сказывается, его не так легко сломить! — с гордостью сказал Гомылко и, глядя на покрасневшие от бессонницы глаза Денисова, добавил: — И вам бы не мешало поспать.
— Совет разумный, только плохо то, что вы сами ему не следуете! Обещаю не отстать от вас, коли вы подадите пример, — усмехнулся Денисов.
Тут же после ухода Гомылко в комнату вошел Араратян, взял под козырек и стал перед столом начдива так, чтобы не было видно забинтованной руки.
Денисов испытующим взглядом окинул Асканаза. Трудно было сказать, вспомнил ли он те дни, когда Асканаз гостил у него в Краснополье. Асканаз же был поглощен мыслью о том, зачем вызвал его к себе комдив, с которым ему почти не приходилось встречаться за эти два месяца.
— Садитесь, товарищ Араратян. Скажите, вы хорошо знаете Шеповалова?
— Так точно. Часто приходится бывать у него в батальоне. Как раз вечером был в одной из его рот.
— Ах, так… Днем он довольно далеко продвинулся. Синявский очень доволен им.
— Самого Шеповалова мне не пришлось увидеть, меня вызвали к вам.
— Скоро увидитесь с Шеповаловым и не скоро расстанетесь. А это что, уже ранены? — заметив забинтованную руку Асканаза, спросил Денисов.
— Да нет, простая царапина… Проходит уже.
Асканаза беспокоила мысль о том, что ему скажет комдив. Денисов не заставил его долго томиться в неизвестности.
— У Шеповалова был хороший комиссар — Хромов. Мы вчера потеряли его. Вы назначаетесь вместо Хромова.
— Слушаюсь, товарищ комдив.
— Фронтовая жизнь за два месяца научила вас большему, чем могли дать в мирное время всякие курсы переподготовки. Не так ли?
— Так, товарищ полковник.
— Можно знать теоретически многое. Но в деле обстановка сама подскажет, как следует поступить в том или ином случае.
— И часто человек, сделав половину дела, догадывается, что надо было начинать иначе.
— Бывает и так, что человек лишь в конце спохватывается, что начал не так, как следовало… Какой это ученый говорил…
— Дидро, в своем «Племяннике Рамо».
— Вот хорошо, что удержали в памяти… Все же очень важно с самого начала знать, как браться за дело. Помните о том, что с этого дня на вас возлагается ответственность за действия и жизнь многих сотен людей.
— Благодарю за доверие, товарищ полковник.
Денисов встал с места, сделал несколько шагов по комнате, затем подошел и, положив руку на плечо Асканазу, просто сказал:
— Алла Мартыновна всегда вспоминает тебя в письмах.
— Я очень тронут. Где она сейчас?
— Она у Оксаны. Сердится на нас, что мы отступаем. Не нравится ей это… Пишет, что мы встретимся с ней на путях наступления.
— То, что мы отступаем, и нам не нравится, товарищ полковник.
— Да и кому может понравиться? Эх, плохо мы еще деремся, плохо!
И, положив руку на плечо Асканазу, мягко сказал ему:
— Часть Шеповалова — на передовой линии, ее ожидают горячие бои. Не задерживайся. Желаю тебе удачи…
Когда Асканаз вышел из комнаты, Денисов посмотрел на часы. «Да, Гомылко прав, надо отдохнуть хотя бы час». Предупредив адъютанта, чтобы ему немедленно дали знать в случае тревоги, он расстегнул верхние пуговицы кителя и прилег на диван.
Пока адъютант с тревогой отсчитывал минуты, надеясь, что Денисову удастся отдохнуть хотя бы час, тишину ночи нарушил грохот немецких орудий и минометов.
— Черт бы их побрал, еще и пяти часов нет! — злобно буркнул он.
В следующую минуту открыли ответный огонь и советские артиллеристы. Немного погодя послышался рокот самолетов. Беспокойство охватило младшего лейтенанта. Услышав звонок телефона, он на цыпочках вошел в комнату и взял трубку. Звонил Гомылко. Пока адъютант колебался, будить комдива или нет, Денисов вдруг поднялся с дивана и одним прыжком очутился у телефона. Гомылко сообщал, что противник перешел в атаку по всей линии обороны.
Денисов еще накануне дал необходимые указания на случай наступления врага. Но сейчас ему не терпелось попасть на свой КП, чтоб ознакомиться с обстановкой.
Снаряды и мины дальнобойных орудий и минометов врага разрывались довольно близко. Денисов всегда внушал командирам, что в первую очередь следует подавить по возможности больше огневых точек врага, и сейчас он возмущался, что его приказ выполняется плохо. Не успела еще его автомашина выехать из села, как сильный взрыв заставил шофера резко затормозить. В клубах дыма и пыли в первую минуту трудно было что-либо разобрать. Через две-три минуты пыль медленно осела, и Денисов увидел несколько человек, столпившихся около воронки. Охваченный тяжелым предчувствием, он приказал адъютанту узнать, что произошло.
Адъютант сразу же вернулся. Денисов, выйдя из авто, поспешил к месту взрыва. Около воронки лежал бездыханный Гомылко. Денисов вгляделся в лицо мертвого соратника. Зубы Гомылко были стиснуты, словно он протестовал против смерти. Маленький, щуплый начштаба показался в эту минуту Денисову богатырем. Грудь у него была слегка приподнята, словно он собирался встать и зашагать туда, куда он так стремился при жизни.
— Перенесите тело в штаб и положите под дивизионное знамя! — распорядился Денисов.
Он и сам не заметил, как добрался до КП. Перестрелка, с каждой минутой усиливалась. Денисов хладнокровно оценивал создавшееся положение. Он рассматривал в бинокль поле боя, когда к нему подошел начальник оперативной части Орлов, временно заменивший Гомылко. Не опуская бинокля, Денисов сказал:
— Сегодня здоровый глаз Синявского как будто видит лучше, чем вчера. Захлебнулась уже вторая атака противника. Он достоин поощрения, а Гомылко?
Не услышав ответа, Денисов опустил бинокль и взглянул на стоявшего рядом Орлова.
Невольная оговорка причинила такую боль Денисову, что он лишь усилием воли сдержал навернувшиеся слезы.
Глава четвертая
ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ
Не теряя времени, Асканаз попрощался с товарищами по штабной работе и в сопровождении Браварника направился в полк Синявского. Он шагал, думая о своих новых обязанностях. «Боевой и политический руководитель… ответственный за жизнь многих сотен людей…» Он чувствовал тревогу при мысли об этом, но именно эта тревога и заставляла его подтягиваться. Асканаза радовала мысль, что теперь-то ему, быть может, удастся преодолеть чувство недовольства самим собой, которое он испытывал после того, как неосторожно повредил себе руку.
Проходя мимо того места, где был похоронен Хромов, Асканаз поискал глазами свежий могильный холм. Ему вспомнились слова Браварника о маке, и он подумал о том, что на взрыхленной земле весной пробьются свежие всходы. «Смерть и жизнь идут рядом», — мелькнуло у него в голове. Он обернулся к Браварнику:
— Да, Хромова мы не забудем, а весной природа украсит его могилу цветами.
— «Природа возвращает все то, что отнимает», — такое присловие было у нашего колхозного семеновода.
— А я было подумал, что так говорил учитель естествознания…
— Что ж, вероятно, говорил и он, да мне больше запомнились слова семеновода.
Занятый разговором с Браварником, Асканаз подошел к позициям своего полка. Снедавшая его внутренняя тревога еще более усилилась, когда, представившись командиру полка Синявскому, он пошел на КП Шеповалова. Не успел он пройти и десяти шагов, как загрохотали орудия и минометы. От гула канонады и проснулся Денисов в ту минуту, когда Асканаз ускорил шаги, чтоб поскорее добраться до Шеповалова.
Солнце еще не показывалось, хотя восток порозовел. В это утро противник открыл огонь раньше обычного. Над головой Асканаза и Браварника то и дело проносились пули и осколки.
— Ох… — раздался неподалеку негромкий стон.
Асканаз свернул в ту сторону, откуда доносились голоса. Молоденькая сестра тащила раненного в ногу бойца.
— Что это с тобой? — спросил Асканаз у раненого.
— Да нога, проклятая! Если б ранило не в ногу…
— Капризный попался мне раненый! Все кажется ему, что фашист у него должен был спросить: куда, мол, дорогой противник, прикажешь тебя ранить?
— Ох, и санитарка же попалась, врагу не пожелаю! — вздохнул раненый.
Асканаз нашел Шеповалова сильно озабоченным. Фашисты яростно напирали, и батальон с трудом отражал атаки врага. Веснушчатое лицо Шеповалова было залито по́том.
Он корил командира пулеметной роты, высокого старшего лейтенанта:
— Зарываетесь носом в землю, словно страусы, как будто спасете голову, если будет подбит хвост. Почему молчит станковый пулемет во второй роте? Подбили наводчика? Да когда же вы научитесь маскироваться, черт побери?! Смените наводчика и перебросьте пулемет в «лисью нору». Огонь откроете, когда противник будет на расстоянии ста пятидесяти — двухсот метров. Они подходят вот с той стороны, — Шеповалов рукой указал направление, — думают, что у нас там нет огневой точки. Ну, выполняй!
Когда командир пулеметной роты отошел, Шеповалов повернулся к Асканазу, отирая рукавом гимнастерки потный лоб.
— Я так и думал, что ты придешь, сегодня здорово навалились. А ну, погляди на карту.
Асканаз наклонился над картой. Шеповалов дал указание командиру одной из рот и снова обернулся к нему.
— Этих проклятых ПТР так и не подбросили мне, приходится пушками подбивать фашистские танки…
— Попробуй бутылки с зажигательной смесью.
— Бутылки, конечно, неплохо, не ведь бросать-то их можно только на близком расстоянии. Благодаря этим бутылкам и отбились мы от одной атаки! Ну, Асканаз Аракелович, вчера ты побывал в третьей роте. Не возражаешь, если я попрошу тебя и сегодня отправиться туда?
Асканаз прочел на взволнованном лице комбата гораздо больше того, о чем говорили его слова. Почувствовав всю серьезность положения, он решил не терять ни минуты и сказал:
— Ладно. Значит, я пошел в третью роту. Ну, желаю тебе удачи!
— Тебе также, — улыбнулся Шеповалов, пожимая руку Асканазу.
На этот раз Асканаз шел так уверенно и осмотрительно по траншейным ходам, что Браварнику уже не приходилось предупреждать его.
Командир третьей роты лейтенант Остужко встретил Асканаза на углу траншейного хода. На смуглом лице этого двадцатичетырехлетнего юноши ярко блестели темные глаза, густой чуб выбивался из-под надетой набекрень пилотки. Он поздоровался с Асканазом и коротко доложил ему о положении. Асканазу понравился спокойный тон Остужко.
«Значит, так, держимся…» — проходя по окопам, мысленно повторял он слова Остужко. Взгляд его упал на лица Григория Поленова, Алеши Мазнина, Коли Титова и других бойцов, с которыми он беседовал накануне. Каждый из них сосредоточенно бил по наступающему противнику.
Солнце уже поднялось, крепко пригревая затылки бойцов. Григорий Поленов в шутку заявил, что солнце до обеда играет им на руку, так как слепит глаза фашистам.
— Ненадежный у тебя помощник! — отмахнулся ворчливо Алеша Мазнин.
Чуть попозже положение еще более осложнилось. Показались бомбардировщики противника. Хотя против них удачно действовали полковые зенитчики, но комбинированный огонь артиллерии, авиации и танков противника, а также непрерывно следующие друг за другом атаки поставили батальон в тяжелое положение.
После длившегося несколько часов ожесточенного боя и Шеповалов и Асканаз почувствовали, что удерживать далее позиции нецелесообразно, тем более что противнику удалось ворваться в окопы одной из рот, расположенных в центре.
Шеповалов убедился в том, что связь со штабом полка прервана. Он еще не знал о прорыве, создавшемся на рубежах обороны дивизии. Взяв в руки телефонную трубку, он называл условные позывные третьей роты, желая связаться с Асканазом.
— «Дуб»… Слушай, «Дуб»!
В первую минуту послышалось какое-то жужжание, потом все смолкло. Шеповалов понял, что «Дуб» тоже отрезан от него. Он немедленно приказал найти обрыв провода и восстановить связь. Одновременно он послал связного за Асканазом, чтобы посоветоваться с ним. От неумолкающего гула орудий у людей закладывало уши. Поднявшийся к вечеру ветер засыпал пылью глаза.
Фашистским войскам удалось, в конце концов, отрезать батальон Шеповалова. В то время, как основные силы противника непрерывно атаковали еще удерживавшие свои рубежи полки, особой колонне было дано задание или уничтожить, или захватить в плен батальон Шеповалова.
Связной Федор, посланный за Асканазом, был известен под кличкой «Квашня». Этой кличкой батальонные шутники хотели поддеть рыхлого, не по летам раздобревшего Федора и его мягкий, податливый характер. Когда Федор добрался до позиций третьей роты, на его потном лице лежал слой пыли, глаза покраснели оттого, что их непрерывно приходилось протирать.
— Ттт-оварищ кк-ком… — еле выговорил он. Видно было, что ему не хватает дыхания.
— А ну, помолчи, отдышись, — распорядился Асканаз.
Пули и осколки с визгом и свистом проносились над их головами. Боец отдышался и передал Асканазу приказ комбата. Асканаз видел грозную опасность, нависшую над батальоном, и понимал, что не следует терять ни минуты.
Асканаз подошел к Остужко.
— Будете держать рубеж во что бы то ни стало. Дальнейшие приказы получите через Браварника.
Асканаз прикинул на глаз расстояние, отделявшее его от Шеповалова: как будто не больше шестисот метров, но каким огромным кажется это расстояние под неумолкающим визгом снарядов!.. О том, чтобы перебежать его хотя бы согнувшись, не могло быть и речи. Асканаз, Браварник и Федор легли наземь и начали ползти. Но вскоре Асканаз убедился, что противник заметил их. Вокруг засвистели пули. На пути лежало несжатое поле. Браварник переполз на правую сторону от Асканаза, чтобы своим телом защитить его. Федору стало как-то неловко, он пополз дальше, шепнув:
— Подтягивайтесь за мной, впереди — ямы, там пули нас не достанут.
— Слышь, Квашня, ты не очень-то высовывайся, — мягонький ведь, а пуля как раз мягкого места и ищет!
— Хватит тебе, нашел время шутить!
Асканазу плохо давалось пластунское искусство. Он выбросил вперед руку, чтоб ухватиться за кочку и подтянуться, но вдруг почувствовал, что рука у него намокла. Взглянул на руку — она была вся в крови, хотя боли в первую минуту он не почувствовал. Асканаз с тревогой взглянул на Браварника и Федора, боясь, что и они ранены. Но Браварник и Федор продолжали проворно ползти вперед. В ту же секунду Асканаз заметил, что рядом лежат тела двух убитых бойцов. Земля вся пропиталась их кровью. Он окликнул Браварника и Федора и приказал им замереть на месте. Огонь противника затих. Безжизненные тела убитых бойцов служили надежным прикрытием.
Асканаз и сам не смог бы определить, сколько времени прошло, пока они добрались до КП батальона. Сидя в воронке, образовавшейся от разрыва большого снаряда, Шеповалов распоряжался действиями подразделений при помощи связных: его КП был взят на прицел противником.
И Шеповалов и Асканаз перевели дыхание, увидев друг друга; мир, который был раньше и просторным и свободным, сузился теперь до того, что казалось, нет и пяди земли, не охваченной огнем войны. Шеповалов первый высказал горькую истину:
— Итак, Асканаз Аракелович, батальон — в окружении. Дивизия отступает.
И тем не менее комбату стало легче от присутствия Асканаза. Но Асканаз почувствовал в первую минуту такую тяжесть на душе, что даже не смог ничего сказать Шеповалову. Он сделал усилие над собой, и по телу его словно пробежал электрический ток. Это состояние было знакомо ему, оно вызывалось большим душевным напряжением.
Шеповалову донесли, что фашисты, атаковавшие позиции центральной роты, откатились, не выдержав рукопашного боя.
— Нельзя терять времени! — заговорил наконец Асканаз. — Нам нужно создать кулак…
— Кулак? Хорошая мысль! Да, именно сильный кулак. Сейчас дам приказ перегруппироваться. Ударим сразу и прорвем кольцо окружения, чтоб соединиться с нашими. Не то так и погибнем все, восклицая «во имя родины!» и не принося ей никакой пользы.
При последних словах Шеповалов взглянул на Асканаза и по выражению его лица понял, что тому не понравились эти слова. Неужели в эти роковые минуты между ним и комиссаром с первых же шагов должна возникнуть размолвка?
— Ну, давай, товарищ комиссар! — нетерпеливо воскликнул он.
— Из дивизии помочь нам не могут. А для того, чтоб выбраться самим, нам придется прорвать кольцо окружения, а затем пробиваться сквозь расположение фашистских частей.
— Ну, возможно, что мы прорваться и не сумеем. Но потрепать-то их мы ведь сумеем?!
— Думаю, что и это вряд ли. Получится как раз так, как ты говорил: мы погибнем, восклицая «во имя родины!» и не принося ей никакой пользы. А ну, погляди на карту: видишь вот этот лес, всего на расстоянии трех километров? Туда нам и нужно пробиваться!
Разорвавшийся снаряд взметнул столб земли. Шеповалова и Асканаза засыпало пылью и комьями.
Шеповалов отряхнулся. Он еще не пришел ни к какому решению, когда послышался смешанный гул и крики.
— Ну, что там за базар?! — с раздражением крикнул он. — Немец? А ну, ведите его сюда!
Выяснилось, что бойцы второй роты обнаружили в окопах двух фашистских солдат в обмундировании красноармейцев. Один из переодетых фашистов оказал сопротивление и был убит, а второго прислали на допрос к командиру батальона.
— Забавно получается, можно сказать — окружение в окружении! А ну, подойди поближе, поглядим, что ты за птица?
— Я русский, товарищ командир, — заявил пленный, вытягиваясь и отдавая честь.
— Ах, русский! Вот мы сейчас и поговорим по-русски…
Но пленный молчал. Асканаз пристально взглянул ему в лицо и спросил по-немецки:
— Из какой части?
Для Шеповалова было новостью, что Асканаз знает немецкий язык. Он потер руки и пробормотал: «Так, так, вытряси-ка из него правду!»
Вздрогнув от резкого тона Асканаза, пленный машинально ответил:
— Пехотинец, герр офицер!
— Вот это правда, — со смехом воскликнул Шеповалов. — А то русским назвался…
Из допроса пленного выяснилось, что против батальона Шеповалова действует целый полк. Чтобы поскорее покончить с батальоном, немецкое командование переодело нескольких солдат в обмундирование красноармейцев и забросило их в окопы, чтоб они убили командиров и вынудили бойцов к сдаче. От пленного удалось получить и другое важное показание: оказывается, все основные силы на этом участке были сосредоточены против дивизии; действовавшему же против батальона фашистскому полку приказано было в кратчайший срок либо захватить в плен, либо разгромить батальон Шеповалова. Допрос продолжался всего несколько минут, но нельзя было терять время. Асканаз махнул рукой, чтоб Браварник увел пленного.
— Так… — протянул Шеповалов. — Так ты говоришь — лес?..
Видно было, что он обдумывает предложение Асканаза.
— Немцы боятся наших лесов! — кивнул головой Асканаз.
— Так ведь та сторона не наша!.. А когда же мы в таком случае соединимся с нашими, если отойдем так далеко?!
— Сегодня отойдем, а завтра соединимся. Что же касается леса, — он наш, как все на нашей земле!
— Ты прав, конечно, я же не в этом смысле сказал… Вы, ученые, очень уж придираетесь к словам… Лес-то сейчас в их руках. — Шеповалов свел брови и решительно махнул рукой: — Ну, приступим!
Батальону Шеповалова удалось сковать действия противника на своем участке фронта. В краткие перерывы между следующими друг за другом атаками фашисты через громкоговоритель предлагали бойцам батальона сдаться в плен. Однако, чувствуя, что их призывы и посулы не возымели действия, фашисты бросили в бой три танка, намереваясь вклиниться в позиции батальона и расправиться с каждой ротой отдельно.
— Ждать далее нельзя, — сказал комбат Асканазу, — танки могут вызвать панику, и тогда трудно будет поправить дело…
Браварник и Федор вместе с другими связными побежали по окопам, разнося приказ командира батальона.
Самым неожиданным для фашистов образом бой снова разгорелся. Пока фашистские подразделения занимали несколько окопов, в которых Шеповалов оставил немногочисленные заслоны, чтобы отвлечь внимание противника, вторая рота, к которой была придана часть первой, стремительно ринулась на врага. В царившей полутьме гремели залпы, разносились крики. Противники сшибались, нанося друг другу удары штыками, заступами или же схватываясь врукопашную. Всем бойцам дано было твердое задание — пробиваться вперед к лесу. Асканазу комбат поручил командование замыкающими тыл ударными ротами.
Неожиданная активность находившегося в окружении батальона приводила фашистов в ярость. Их орудия и минометы сосредоточили весь огонь на пространстве между опушкой леса и окопами, чтоб помешать продвижению батальона.
И вот наконец бойцы передовой роты батальона Шеповалова достигли леса и укрепились на опушке.
Асканаз вместе с третьей ротой добрался до леса последним.
Первое, что он услышал, было радостное восклицание командира роты Остужко:
— Товарищ комиссар, я эти места знаю, как свои пять пальцев!
— Ну, вот и хорошо!.. — отозвался Асканаз, отдышавшись.
Фашисты продолжали преследовать батальон; одна колонна подступила к опушке.
Послав связных к Шеповалову с донесением о том, что третья рота благополучно добралась до леса, Асканаз и Остужко расставили бойцов. Асканаз взял автомат одного из убитых бойцов и залег вместе со снайперами. Вдруг слева донесся страшный грохот. Асканаз оглянулся и, при свете подожженного снарядом дерева, заметил, что прямо на него катится огромный танк, окрашенный в зеленовато-серый цвет.
Асканаз вздрогнул и невольно откинулся назад. Опомнившись, он увидел, что трое бойцов во главе с Федором ползут наперерез танку. Струйки пуль танкового пулемета проносились над головами бойцов. По-видимому, водитель танка собирался раздавить гусеницами засевших на опушке советских бойцов. Асканаз немедленно приказал одному из отделений поддержать Федора, а остальным взять на прицел продвигающихся под защитой танков фашистских автоматчиков. Танк беспрепятственно катился вперед, винтовочные пули не могли пробить его броню. Четверо бойцов, вышедших против него, вынуждены были свернуть в сторону, чтобы не попасть под гусеницы танка. Асканаз приказал расступиться и пропустить танк, а Федору вместе с товарищами дал задание следовать за танком и уничтожить его любой ценой в глубине леса. Федор молча кивнул головой. Сам же Асканаз с остальными бойцами решил задержать приближающиеся отряды автоматчиков.
В те дни танк внушал ужас неопытным бойцам, которым казалось, что это бронированное чудовище неуязвимо. Неожиданный дружный залп бойцов застал врасплох немецких автоматчиков, которые двигались во весь рост, уверенные в том, что надежно защищены ползущим впереди танком. Многие были скошены первым же залпом, остальные же укрылись и открыли огонь. Запылали деревья. В клубах дыма и языках пламени силуэты людей принимали фантастические очертания, то неестественно уменьшаясь, то принимая устрашающие размеры.
Фашисты численностью превосходили советских солдат, и огонь их автоматов косил бойцов роты. Вернувшийся связной доложил Асканазу, что Шеповалов прошел довольно далеко в глубину леса. Возникла опасность, что фашисты отрежут арьергардную часть от основной колонны. Полученная весть встревожила Асканаза. Ему показалось, что он допустил ошибку, пропустив танк и ввязавшись в неравный бой с автоматчиками. Он ничем не выдал своей озабоченности, хотя лихорадочно искал возможности отступить с минимальными потерями.
Вдруг оттуда, куда прополз танк, послышался гул взрыва. Асканаз прислушался. Он различал голоса бойцов:
— Да здравствует Федор! Не пропала Квашня… Ура-а!
Оказывается, Федор залег под откос и, когда танк подъехал ближе, швырнул связку гранат прямо под гусеницы и подорвал его.
Видя, что танк вышел из строя, фашисты не ослабили огня, но в их действиях уже не было прежней уверенности. Асканаз распорядился передать по цепи приказ — с боем незаметно отходить в глубину леса. Фашисты не решались продолжать в темноте преследование отступающего батальона. Они ограничились тем, что держали под неослабным огнем всю опушку леса.
Когда бойцы настолько углубились в лес, что огонь врага уже не настигал их, Асканаз приказал роте стать на отдых и велел вызвать Федора и его товарищей. В темноте перед ним выросли фигуры трех бойцов.
— А где Федор? — спросил Асканаз.
Отозвался напарник Федора Владимир Гарданов:
— Когда был получен ваш приказ — отходить в глубину леса, мы потеряли его из виду.
— А он не был ранен?
— Нет.
— Как только он появится, скажите, чтоб он пришел ко мне. А теперь вперед, товарищи!
Связные сопровождали третью роту к Шеповалову, который в это время делал перекличку бойцам.
Асканаз признал Шеповалова по голосу. Раскинув руки, он подбежал к нему. Но когда они хотели обняться, свесившаяся ветвь дерева хлестнула их по лицам.
— Никаких удобств для обмена приветствиями! — пошутил Шеповалов, крепко тряся руку Асканазу.
Не теряя времени, они решили отправить Остужко с несколькими разведчиками обследовать окрестности и наладить связь с местным населением. Остужко был опытный разведчик. Взяв с собой Алешу Мазнина и трех других бойцов, он скрылся в лесу. Ему же было поручено найти в селах убежища для раненых, так как их присутствие в батальоне могло затруднить боевые действия.
Покончив с этим, Шеповалов и Асканаз занялись проверкой запасов продовольствия. Каждому бойцу было выдано по сухарю, на каждые пять человек — по одной банке рыбных консервов.
Трудно было определить в темноте, сколько человек осталось в ротах и местоположение каждой роты. Шеповалов и Асканаз решили обойти людей, расспросить и подбодрить их. Издали еще доносились разрывы мин противника, но постепенно в лесу наступила тишина, нарушаемая лишь голосами вспугнутых птиц.
Идя по лесу вместе с Браварником, Асканаз отдавал указания командирам взводов. Асканаза особенно занимал вопрос о раненых. Санитары подобрали и уложили под кустами восемь человек; светя карманными фонарями, они оказывали раненым первую помощь. Взяв с собой еще двух бойцов, Асканаз пошел назад, к опушке леса. Пройдя несколько десятков шагов, он остановился и прислушался: ему показалось, что кто-то стонет. В первую минуту он колебался: не ослышался ли? Но стон повторился.
Пройдя несколько шагов, Асканаз наклонился и увидел очертания человеческой фигуры.
— Кто это? — с трудом произнес тревожный голос.
— Свои, свои! — поспешил успокоить Асканаз. — Ты ранен?
— Не пойму, как двинусь — все тело ноет, мочи нет.
— Из какой роты?
Раненый простонал:
— А танк? Подорвался или нет?..
Услышав последние слова, Асканаз нагнулся к лицу раненого, и у него вырвалось восклицание:
— Федор, ты?!
— Товарищ комиссар, это вы? Вырвались, значит, из окружения?.. Эх, жаль, ранило меня…
Асканазу почудился какой-то упрек в словах умирающего бойца.
По его телу пробежала дрожь, и он скорее для собственного успокоения, чем для утешения раненого, произнес:
— Потерпи чуточку, сейчас перенесем тебя…
— Прошу вас, товарищ комиссар, не трогайте, дайте спокойно умереть… Только бы свету мне, свету, темно… А-а, немцы, немцы… Огонь…
Федор бредил. Через несколько минут он умолк.
Асканаз ощупал его лицо, почувствовал, что оно холодеет. Он с волнением нагнулся и прижался губами к лицу бойца.
Глава пятая
УВЕРЕННОСТЬ И СОМНЕНИЯ
— Значит, в ловушку угодили, Коленька. А как отсюда выберемся — неизвестно. Сегодня кое-как обошлись стограммовыми сухарями да паршивой рыбкой. А что будем завтра делать?..
Так жаловался дружку Григорий Поленов на следующее утро, сидя с ним рядом под большим деревом. Собеседником его был Коля Титов — высокий худощавый боец, растиравший в руках высохший листок дерева. Он старательно ссыпал труху в обрывок газетной бумаги и беспомощно посмотрел на Поленова.
— И спички-то нет, чтобы зажечь самокрутку, а хочется курить, прямо за душу тянет! Нашел тоже чем угощать. От этой проклятой малины только живот пучит!
— Какой ты неблагодарный… Ну и голодай себе на здоровье, посмотрим, долго ли выдержишь.
— А тебе бы только о еде разговаривать! Не можешь, что ли, потерпеть? Вот вернутся разведчики, наладится связь с населением — набивай тогда себе брюхо на здоровье!
— Пойти-то они пошли, — многозначительно сказал Поленов, — а вот когда вернутся?.. Ведь с ними-то, кажется, и Алешка Мазнин ушел…
— Ну и что ж, что Алешка? — привстал с места Титов. — Плохо он, что ли, бился? А ну, припомни, как он в окопе фашистов гвоздил!
— Этим-то и отвел он мне глаза! Вижу, боец как боец, честно воюет.
— А чего он бесчестного сделал?!
— Не сделал, так сделает.
— Ты тут мне загадки не загадывай! Знаешь что — так говори прямо.
— Да, собственно, ничего особенного… — попробовал уклониться от ответа Поленов, но, заметив раздражение на лице Титова, загадочно произнес: — А ну, оглянись, нас никто не подслушивает? Знаешь, что мне этот прохвост недавно сказал: «Мне бы, говорит, в наше село попасть: там у меня девушка на примете есть. Обвенчаюсь с ней и буду себе жить-поживать! Чего ж, говорит, задаром погибать?! Вот и Федор танк фашистский подбил, надеялся, видно, орденок получить, а что выиграл? Почетное погребение? Кому жизнь надоела, пусть себе на рожон лезут, с немцем сражаются, чтобы их… с честью похоронили! Моя родина, говорит, — родное село, а оно сейчас немцем захвачено. А фашисты обещали не трогать тех, которые будут спокойно по домам сидеть…»
Титов приподнялся на коленях и прямо взглянул в глаза Поленову.
— И ты ведешь такие разговорчики с предателем Алешкой и не сообщаешь об этом командиру да еще позволяешь ему идти в село на разведку?! Ах ты, мерзавец этакий!..
— А ну, помолчи… — тоже приподнялся с места Поленов. — Я пришел в армию, чтобы воевать, а не для того, чтобы бегать к командирам и доносить на товарищей…
— Это тебе не простой разговор, — сжав кулак, прервал его Титов. — Это настоящая измена, а ты прямой пособник предателя!
— Ну, ну, придержи язык… С Алешки шкуру спущу, если он не вернется!
— Это он с тебя шкуру спустит, растяпа!.. Сейчас же пойду к комиссару, расскажу ему, как ты предателя покрывал! — и Титов вскочил на ноги.
Он остановился в недоумении, услышав раскаты хохота. Поленов катался на земле от хохота.
— Ты что думаешь, не пойду, не расскажу? Погоди только… — нахмурился Титов.
— Коля, голубчик, я был уверен, что ты пойдешь и сообщишь. На твоем месте и я бы так поступил!
— Врешь, не пошел бы! Молчал же до сих пор…
— Молчал, потому что нечего было говорить!
— То есть как это «нечего»? Значит, по-твоему, это пустяки?
— Да, погоди ты, очухайся. Если непременно хочешь идти, пойдем вместе, а то, чего доброго, заблудишься еще…
— Ишь ты, заботливый какой!
— Недооцениваешь ты меня, Коленька, а я вот без проверки к командиру не побегу, на товарища зря наговаривать не буду.
— Послушай, помолчи, а то не ручаюсь за себя. Ты о каких это наговорах болтаешь?
— А я, дорогуша, о том тебе и толкую, что Алешки Мазнин ничего этакого не говорил. Я тебе все наплел, хотел стойкость и бдительность твою проверить!
— Слушай, ты хоть на этот раз правду говоришь?..
— Ну, ну, за кого ты меня принимаешь, дурной?
Титов схватил Поленова за воротник гимнастерки и с силой встряхнул его.
— Ты со мной таких шуток не шути, понял?!
— Коля, миленький, да разве можно без шуток?! Ладно, не сердись, пойдем лучше к ребятам, послушаем, какие там новости.
Под кустом молча сидели рядом Шеповалов и Асканаз. На рассвете они снова обошли бойцов батальона. Утешительного было мало: помимо убитых — свыше двадцати раненых; продовольствие было на исходе, боеприпасов могло хватить только на несколько дней…
— Влипли, одним словом… — с неудовольствием произнес Шеповалов. — Невольно приходит в голову: уж не лучше ли было погибнуть, сражаясь в окопах?!
— Нет, не лучше! — резко прервал его Асканаз. — Если мы все время будем оглядываться назад, далеко не уйдем.
— Ты прав, Асканаз Аракелович. Сейчас я думал о том, что дальше, делать, но до возвращения Остужко ничего нельзя решить. Давай-ка не будем сидеть сложа руки, соберем батальон, сделаем перекличку, поговорим с бойцами, чтобы не пали они духом.
— Вот это дело! — согласился Асканаз и затем, словно продолжая вслух какую-то мысль, неожиданно спросил: — Ты хорошо знаешь тех, кто ушел в разведку?
— Ты хочешь знать, надежные ли они люди? — спросил Шеповалов.
— Ну да.
Шеповалов кивнул головой.
Бойцам было приказано выстроиться на лесной поляне. Окружавшие поляну тенистые деревья образовали как бы естественную маскировку. Везде были расставлены сторожевые посты. К тому времени, когда пришли Шеповалов и Асканаз, бойцы были уже построены повзводно. Комбат и комиссар проходили перед рядами, стараясь запечатлеть в памяти лицо каждого бойца, словно пытаясь определить, на что способен каждый из них.
Большую часть солдат составляли русские и украинцы. Бойцов из Средней Азии и с Кавказа было не больше двух десятков. Когда проверка была закончена, Шеповалов приказал сдвинуть ряды и заговорил, став в середине образовавшегося круга:
— Дорогие товарищи, мы находимся в тылу у врага. Мы временно отрезаны от нашей дивизии. Не стану скрывать — положение у нас трудное. Но в жизни не бывает безвыходных положений. Мы с батальонным комиссаром решили вчера вывести роты из окопов и пробиться в лес, чтоб спастись от уничтожения и организовать сопротивление врагу. От вас требуется соблюдение строжайшей дисциплины и верности воинской присяге. Мы должны победить врага и победим его!
Шеповалов говорил уверенно. Асканаз подумал немного, затем стал рядом с Шеповаловым и, окинув глазами бойцов, сказал:
— Товарищи, ни на минуту не забывайте о том, что, в каких бы условиях мы ни оказались, мы являемся защитниками нашей великой родины! Противник стремился любой ценой уничтожить нас — и не смог. Но он не отказался от своего плана. Фашисты хорохорятся сегодня, но им несдобровать, если мы не будем забывать о том, что стоим на нашей земле и являемся ее хозяевами. Мы постараемся поскорее соединиться с нашей родной дивизией. Успех этого зависит от нас самих. В каком бы тяжелом положении мы ни оказались, поклянемся остаться верными родине!
После комбата и комиссара выступили командиры рот и бойцы.
Шеповалов придал бойцов третьей роты к первой и второй ротам, укомплектовал санчасть. После этого, оставив наблюдателей, приказал батальону двигаться вперед.
…К вечеру батальон успел уже отойти довольно далеко от предыдущей стоянки. Шнырявшая в лесу фашистская разведка не рискнула углубиться далеко в лес.
А Остужко все не было. Асканаз начинал уже тревожиться. Он подумал о том, не предложить ли Шеповалову послать новую разведку, но все-таки решил выждать еще немного. Как пройдет эта ночь? Сильная усталость свалила его, и он, лежа под деревом, с горечью думал, что скажет Денисов, когда узнает, в каком положении очутился батальон.
— Товарищ комиссар! — донесся до него голос Браварника.
— Ну, в чем дело?
— Товарищ комиссар, вы же целые сутки в рот ничего не брали. Вот ваш паек, мне из хозчасти выдали.
— Хлеб с колбасой… А почему не сухарь и рыбные консервы?
— Вам такой паек полагается, товарищ комиссар.
— Отнесешь сейчас же это в санчасть, отдашь раненым!
— А как же вы, товарищ комиссар? Вот у меня сухарь остался, может, покушаете?
Чтоб не обидеть бойца, Асканаз взял сухарь, но нервы его были так напряжены, что он не смог проглотить ни кусочка и положил его в карман. Желая проверить, все ли получили положенный паек, Асканаз решил обойти людей.
Собравшись группами, бойцы о чем-то спорили. Иногда доносились и ругательства. Темнота мешала разглядеть лица спорящих.
— Товарищи, да где же ваша совесть?! — взывал кто-то. — Два пайка сухарей стащили! Отдайте обратно, ведь Колька без сухаря остался.
— И такой вот шкурник небось бойцом себя почитает! — раздался возмущенный голос Коли Титова. — Сожрал чужой паек, а завтра о воинской чести разговаривать будет!
— Да брось ты, какая уж воинская честь у нас осталась?! Взяли и бросили нас прямо в пасть фашистам! Не завтра, так послезавтра всем нам капут будет!.. Комиссар-то у нас из профессоров, думает, что и здесь ему лекционный зал, речами нас кормит… Нет, брат, ты мне покажи, как фашисту голову свернуть, а то… Другой нужен был Шеповалову комиссар, опытный в военном деле…
Голос у бойца был хриплый, осевший. Время от времени он умолкал, потягивал носом и с хрустом жевал что-то, по-видимому, пайковый сухарь.
— А все-таки, товарищ Поленов, язык у тебя без костей! — раздался голос Коли Титова. — Не забывай, что ты — советский солдат!
— Ой, Колюшка, не надо меня агитировать! Ведь ты сам ругался, что тебя сухарным пайком обделили. Из-за сухаря всех по отцу-матери обложил. А я, товарищ дорогой, я за весь Советский Союз душой болею!
— Видно, как ты болеешь, прямо высох весь от тоски: вместо того, чтобы помогать товарищам, разговорчики тут разводишь…
— Ну ладно, возьми мой паек, не плачь: я только половинку отгрыз… — воскликнул Поленов.
— Поглядите, какой добросердечный! — послышался насмешливый голос. — Сам и хапнул, наверное, два пайка зараз, а теперь хочет удивить нас: смотрите, мол, какой я добрый…
— А ну, заткнись! — обозлился Поленов.
— Давай, давай сюда твой сухарь! — раздался голос Коли Титова. — Нет у меня времени заниматься моралью, я голоден.
— Бери уж, бери, а то из-за одного сухаря бог знает что на товарищей наплел!..
— Так ведь меня обида взяла не за сухарь, а за дружбу! — возразил Коля. — Товарищ за товарища жизни не должен жалеть, а тут сухарь…
— Это ты правильно сказал. Вот если наше начальство правильную линию возьмет, тогда и выведет нас из этой западни, а не то мы все здесь перегрыземся! А дружба в деле себя показывает. Разве плохо мы дрались с фашистами? Ловко выскочили из этого проклятого окружения!
— Прямо не верится, ребята, что мы остались живы!.. — воскликнул кто-то.
— Если мы живы, то благодаря Шеповалову и комиссару, который так не нравится товарищу Поленову! — вмешался снова Коля Титов. — Когда комиссар приказал пропустить танк, у него расчет был оторвать автоматчиков от танка. А как остались автоматчики лицом к лицу с нами, мы и сбили с них спесь!
— Ну, запел свое! Ты что, к комиссару в адвокаты нанялся? Вот возьмут тебя завтра фашисты за грудки, посмотрим, как ты запоешь. Что вы за люди, не понимаете критику.
— А ты разводи свою критику, когда вернешься в колхоз. А здесь армия, пойми наконец, товарищ Григорий Поленов! — повысил голос Титов.
— Молодец, Колюшка, вижу я, что у тебя хорошо варит котелок. Тебе бы теперь лейтенантом быть. А вот, того не понял, что я тебя проверяю!
— Да отвяжись ты от меня. Вот навязался ревизор на мою голову! Не выводи меня из терпения, слышишь, не то так обревизую тебе бока, что…
— Эх, Коля, боюсь я, что заржавеет у меня винтовка, честное слово, надоело мне малину собирать, душа боя просит…
В это время к бойцам подошел Асканаз. Им владело только одно страстное желание — сохранить боеспособность батальона.
Напряженно думая об этом, он повелительно произнес:
— Смирно! Пусть выступит вперед старший.
Четко ступая по отсыревшей земле, Поленов выступил вперед и отрапортовал:
— Товарищ комиссар, шестеро бойцов второй роты ужинают и готовятся отдыхать. Докладывает боец Поленов.
— Плохо же вы готовитесь отдыхать! — резко сказал Асканаз. — Подняли шум на весь лес… Все получили положенную на ужин норму?
— Точно так, товарищ комиссар. Относительно одного пайка недоразумение получилось, да мы его уже уладили. И кто сейчас думает о пайках? Лишь бы удалось скорее выбраться из этой западни!
— Ну, трудностей впереди еще много. Вольно.
В темноте Поленов смутно видел фигуру Асканаза. Ему хотелось оправдаться перед комиссаром (Поленов предполагал, что комиссар слышал его), но он смешался и не находил слов.
Велико же было его удивление, когда Асканаз, положив руку ему на плечо, спросил:
— Так у тебя душа боя просит, да?
— Товарищ комиссар, честное слово…
— А ведь говорят, что из болтунов плохие вояки выводят!
— Уж вы простите меня, товарищ комиссар… Дайте мне самое трудное задание: головой отвечаю…
— Ладно. Свободен.
В наскоро вырытой землянке сидели рядом комбат, и его комиссар.
Шеповалов оторвал клочок газеты, ссыпал последнюю махорку и скрутил «козью ножку». С сосредоточенным видом втягивая дым и медленно выпуская его из ноздрей, он слушал Асканаза.
Близился рассвет. У входа в землянку послышался какой-то шорох. Через минуту, нагнувшись, вошел адъютант Шеповалова.
— Товарищ комбат, Остужко вернулся.
Шеповалов и Асканаз вскочили с мест. Вошел Остужко.
— Ну, как? — спросил Шеповалов.
— Все в порядке, товарищ комбат.
— Молодец! — И Шеповалов стиснул разведчика в своих объятиях.
— Ну, садись, садись, передохни немножко, потом расскажешь все подробно, — сказал Шеповалов.
Остужко отдышался и начал рассказывать. Лица обоих командиров, освещенные колеблющимся светом свечки, все больше и больше светлели.
Разведчик рассказал, что на рассвете он и приданные к нему бойцы добрались до околицы села и, переодевшись в заранее припасенную одежду, по знакомым Остужко огородам вошли в село. Из расспросов у верных людей они выяснили, что фашистов в селе нет, но есть уполномоченный ими староста. Остужко удалось поговорить со знакомой колхозницей, которая пользовалась полным доверием подпольной партийной организации. Через эту женщину и связался Остужко с подпольщиками. Прежде всего он условился о переброске раненых бойцов к надежным людям, затем о доставке продовольствия в лес. И, наконец, он точно разузнал, какой партизанский отряд действует здесь, в тылу у немцев.
Взяв у Шеповалова карту, Остужко карандашом прочертил, насколько продвинулись фашисты, куда и какой дорогой должен двигаться батальон для того, чтобы, соединившись с партизанским отрядом, пробиться к своей дивизии.
Остужко сообщил также, что привел с собою из села пять человек; из предосторожности он оставил их под охраной связных.
— Ну, а как себя вели там твои люди? — спросил Шеповалов, обменявшись взглядом с Асканазом.
Остужко заправил под пилотку свисавшую на лоб прядь и неохотно сказал:
— Минаев, Иванов и Булатбаев парни бывалые и ловкие. Они прекрасно выполняли все задания. Благодаря их сноровке и удалось так быстро договориться с крестьянами. Вместе с пятью колхозниками они на своей собственной спине доставили до двухсот кило хлеба и мяса в лес, так что батальон пока что обеспечен продовольствием.
— Вот и хорошо. Я представлю твоих орлов к награде, как только мы доберемся до дивизии. Но у тебя было четверо разведчиков. А что же четвертый?
— Хотел доложить о нем после, товарищ комбат.
— Ну, ну, докладывай.
— Этот Мазнин негодяем оказался, товарищ комбат! Пробираемся мы задами по селу, а его кашель схватил. Говорю — сдержись, не кашляй, а он — еще сильнее. Минаев уже хотел его на месте пристукнуть, я еле удержал. А потом выпросил разрешение пойти молока достать. Ушел и… исчез… Потом уж узнали, что он в соседнее село сбежал, в знакомой семье приютился…
— И ты не принял никаких мер? Ведь такой человек может серьезно навредить нам! А еще говоришь, что все удачно прошло!.. — рассердился Шеповалов.
— Я обязан был вернуться вовремя, товарищ комбат, чтобы сообщить вам данные разведки, но я позаботился о том, чтоб обезвредить этого Мазнина: подпольная организация знает о нем, и за ним установлено наблюдение. Наказания ему не избежать!
Асканаз, не упускавший ни одного слова из рассказа Остужко, разделял тревогу Шеповалова.
— Не будем терять времени, Борис Антонович.
— Я уже обдумал, — по-обычному деловито откликнулся Шеповалов. — Пусть Минаев займется переброской раненых; хлеб и мясо теперь же раздадим бойцам. А через час батальон двинется вот в этом направлении, — он показал отмеченный красным крестиком пункт на карте. — Вести батальон будет Остужко, он хорошо знает эти места. Попрошу тебя, Асканаз Аракелович, отобрать бойцов в группу Минаева и дать им указания.
Асканаз и Остужко наметили четверых бойцов, которые должны были переместить раненых вместе с прибывшими из села колхозниками, Асканаз задумался над тем, кого еще назначить.
— Смотри, товарищ комиссар, выбирай поосмотрительней! — предупредил Шеповалов. — Вызови-ка сюда ко мне Минаева, Остужко. Хочу через него передать благодарность руководителю подпольной организации за помощь нам.
Выйдя из землянки Асканаз велел Браварнику вызвать Поленова.
— Итак, товарищ Поленов, вам не хочется, чтоб винтовка у вас заржавела? — спокойно спросил Асканаз, когда тот явился.
Поленов насторожился. Видно было, как напряглись желваки на его скулах. Он тотчас же ответил: «Точно так!» Но Асканаз почувствовал, что ответ был дан как-то настороженно.
— Семья где ваша?! — спросил Асканаз.
Поленов вздохнул.
— Отец и мать в Смоленской области остались. А жена… Хорошая у меня жена, толковая, недавно зубоврачебный техникум окончила. Мы с ней поехали в Западную Украину. Тоня моя зубы врачевала, а я тракторы да плуги налаживал…
— Значит, механиком был?
— Сперва косарем работал, потом комбайнером, а уж под конец научился в МТС испорченные тракторы и комбайны ремонтировать.
— Какие вести у тебя от жены?
— Эх, и говорить не хочется, товарищ комиссар… Ходит слух, что угнали ее в Германию…
— Так ты не хочешь, чтобы ржавело оружие у тебя?
— Горит сердце у меня, товарищ комиссар!
— Ты знал Алешу Мазнина?
— Точно так, товарищ комиссар, как не знать. Я многих знаю.
— Будем говорить только о Мазнине. Можешь сказать, как он вел себя, какие у него были настроения?
Поленов весь подобрался. Он знал, что Коля Титов никому ничего не сказал о своем разговоре с ним. Так неужели Мазнин…
— А что ж Мазнин… Хорошо сражался, плохих настроений как будто не было…
— Значит, по-твоему, не было? А оказалось, что были. Да будет тебе известно, что Мазнин изменил своей воинской присяге. И он является не просто дезертиром, а перешел на сторону врага.
— Товарищ комиссар, да я ему шею сверну!.. Попался бы он мне в руки…
В этих словах звучало такое искреннее волнение, что Асканаз счел нужным успокоить его:
— Прежде всего нужно вернуть его, привести сюда…
— А где же он сейчас?
— Разведчики знают. Отправишься с ними в село и постараешься убедить этого Мазнина вернуться в батальон. Говорят, он связался там с какой-то девушкой.
— С девушкой?!. Уж увольте, товарищ комиссар, не умею я агитировать.
— Простые слова и бывают самыми убедительными. Ты попросту скажешь ему: «Алеша, ты плохо поступил. Родина может и наказать, может и простить тебя, если только ты вовремя осознаешь свою ошибку».
— Хорошо, — согласился Поленов, убежденный словами Асканаза. — Я ему так и скажу: образумься, мол, Алеша, нашел время связываться с девушкой… А может, и этой девушке скажу, чтоб отпустила Алешу.
— Нет, это ты брось, до девушки тебе дела нет. Времени у тебя будет в обрез, придется сохранять крайнюю осторожность. С Мазниным тебе устроят свидание. Одним словом, обо всем позаботится начальник разведки.
— Готов к выполнению задания, товарищ комиссар. Клянусь честью советского воина… — торжественно заявил Поленов. Затем, как бы преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, хмуро спросил: — А если все-таки он не согласится вернуться?..
— Если не согласится?.. Ну, тогда поступишь так, как поступают с предателями!
Асканаз с облегченным сердцем шагал в рядах бойцов батальона. Доставленные Остужко сведения помогли ему и Шеповалову наметить дальнейшие действия. Что бы их не ждало в будущем, все было лучше, чем неизвестность. Лишь бы соединиться с партизанами!..
Остужко уверенно вел батальон сквозь лабиринт лесных тропинок. Асканаз полной грудью вдыхал свежий лесной воздух, и душа его как бы стряхивала бремя забот. В подобные минуты Асканаз невольно тянулся рукой к нагрудному карману, где в кожаном бумажнике хранилась у него карточка Вардуи, снятой с Маргарит и Ашхен. В памяти Асканаза всплыл образ Ашхен, припомнился разговор с нею в последний вечер перед отъездом. Ашхен… Асканазу казался недосягаемо далеким тот заветный день, когда он мог бы снова встретиться с нею. Он вздохнул и пробормотал по-армянски: «Да будет благословен тот миг, когда я снова увижу тебя, Ашхен!»
К нему подошел Браварник.
— Разрешите обратиться, товарищ комиссар…
— Ну, обращайся.
— Николай Титов хочет поговорить с вами, товарищ комиссар, да никак не решается.
Асканаз вышел из рядов, остановился. Впереди, всего на расстоянии ста шагов, шел Шеповалов, мимо проходили бойцы.
— Подойди-ка ко мне, Титов! — позвал Асканаз. Голос его звучал мягко, дружелюбно.
Титов, подойдя, подумал: «Теперь-то ласково говорит, а как расскажу, заговорит иначе».
— Товарищ комиссар… — начал он и сам почувствовал, что голос у него дрожит.
Уже по его тону Асканаз понял, что тот собирается сообщить ему что-то необычное. Останавливаться во время марша не полагалось, и он взял Титова за локоть, зашагал рядом с ним.
— Ну, говори, — подбодрил он Титова.
— Я промашку дал, товарищ комиссар… Готов хотя бы ценою жизни искупить свою вину…
— Ты сперва расскажи, в чем провинился. А об искуплении поговорим потом.
— Уж не знаю, как начать, товарищ комиссар. Целый час собираюсь подойти к вам, да все не решаюсь… Командир взвода Михайлов сказал, что Алексей Мазнин предателем оказался. Правда это, товарищ комиссар?
— Я поручил Михайлову побеседовать об этом с бойцами.
— Вот он и рассказал. Говорит, что и Григорий Поленов в разведку пошел…
— Ну да. А в чем дело?
— Так ведь Григорий Поленов знал о намерениях Мазнина!
— А тебе это откуда известно?
— Сам он и рассказал мне.
— Ну, а ты?
— А я промах дал, товарищ комиссар. Виноват…
— Расскажи, в чем ты считаешь себя виноватым.
Титов рассказал о своем разговоре с Поленовым и прибавил:
— А когда я рассердился на него, он меня заверил, что все это было шуткой. И я, дурак, поверил ему, поверил, что он испытывает мою бдительность!..
— В таких вопросах шутки недопустимы.
— Я это и сам знал, да только он сумел меня уговорить. Кто разберет, когда Поленов шутит и когда серьезно говорит? А вот теперь он пошел в разведку! Не навредит ли он…
— Не навредит?.. — Асканаз не докончил.
Вызвав к себе командира взвода младшего лейтенанта Михайлова, он распорядился держать под наблюдением бойца Николая Титова, пока они не доберутся до назначенного места и командование сумеет заняться этим вопросом.
Узнав о том, что Титов не сообщил вовремя о предательских замыслах Мазнина, о которых ему стало случайно известно, Михайлов, негодуя, воскликнул:
— Таких, как ты нужно бы перед строем…
Душевное спокойствие Асканаза было нарушено. Григорий Поленов… Как же это он не разглядел, что представляет собой этот боец? И неужели Поленов способен на такое лицемерие? Ведь Асканаз расспрашивал его о Мазнине… Конечно, Поленов склонен к балагурству, любит сболтнуть лишнее, но на дурной поступок он не способен, нет!..
Здесь течение его мыслей прервалось. «А не стараюсь ли я этими рассуждениями оправдать собственную недальновидность?!» — потирая лоб, подумал он.
Асканаз шагал по тропинке, опустив голову и чувствуя себя подавленным неожиданным признанием Титова.
Глава шестая
ОКСАНА
— Дорогая, примирись с мыслью, что у тебя нет больше сестры… — уговаривала Алла Мартыновна Оксану. — Не расспрашивай обо мне, не интересуйся мной! Если можно будет, я сама свяжусь с тобой. А теперь запомни пароль, с которым к тебе будут приходить мои люди. Имей в виду, что таких людей будет немного, я буду посылать их только в случае крайней необходимости, ну, скажем, раз или два раза в месяц. А сама я всегда буду, осведомлена о том, как ты живешь, в чем нуждаешься, что тебя беспокоит.
— Ах, Алла, Алла, боюсь, что у меня ничего не получится!
— Оксана, возьми себя в руки. Во имя спасения Миколы и Аллочки ты должна приспособиться к новым условиям.
Этот разговор сестер происходил в Краснополье, в подвале одного из больших домов, служившего бомбоубежищем.
Уже третий день фашистские войска обстреливали город. Кое-кто из жителей успел бежать, но уже на второй день гитлеровцы со всех сторон окружили город и держали под прицельным огнем окрестные дороги. О бегстве не приходилось помышлять.
Алла Мартыновна знала, что судьба города решена, части Красной Армии должны были оставить его. Именно это вынуждало ее откровенно говорить с Оксаной. Жене Денисова удалось убедить руководителей горкома, чтобы ее перевели на подпольную работу. Она настаивала на своей просьбе, ссылаясь на свой опыт в годы гражданской войны.
Упоминание о Миколе и Аллочке вызвало слезы на глазах у Оксаны.
— Не думала я, что ты окажешься такой малодушной, Оксана, — упрекнула ее Алла Мартыновна. — Ты же сама не захотела вовремя уехать из города! Теперь тебе остается стойко встретить испытания. Помни одно, что фашисты недолго продержатся на нашей земле!..
— А ты подумай о Павло… Как ему будет тяжело, когда он узнает, что мы остались в тылу врага!
— Да, имей в виду, тебя могут спросить о Павло и обо мне…
— Спросить?! Боже мой, только этого не хватало!.. Зачем я им нужна?!
— Ведь пойми: могут найтись подлые, бессовестные люди, которые донесут, что…
— Ах, Алла, я не вынесу, не вынесу!
— Довольно, Оксана, ты же не ребенок. Послушай меня. Если спросят обо мне, скажи, что мы очень редко встречались, летом ты иногда приезжала погостить ко мне. Что же касается Павло, говори, что он не пригоден к военной службе и еще до начала войны уехал в командировку в какой-то другой город и почти не писал тебе. Если ты хранишь его письма, сейчас же по возвращении домой сожги их. Поняла?
— О, боже, что за положение!.. Я должна отрекаться от родных, изворачиваться. Чуть не каждый день я получала письма от Павло, а теперь сжечь их?!
К сестрам подошли Марфуша, Аллочка и Микола. Слышались постепенно затихавшие взрывы и удаляющийся рокот самолетов. Аллочка кинулась в объятия матери.
— Пойдем домой, мама. Здесь плохо — темно, сыро, нельзя играть… Ведь фашисты больше не придут, правда? Их прогонят мой папа, дядя Андрей, дядя Асканаз, что абрикосы привез… Они будут стрелять, а фашисты испугаются и не придут, правда?..
Оксана крепко прижимала к груди девочку, отвечая «да», «да» на все ее вопросы.
Микола молча стоял возле матери. Он выглядел не по-детски серьезным и больше уже не поддразнивал сестренку. Марфуша задумчиво поглядывала на Аллу Мартыновну; она послушалась ее совета и решила остаться с Оксаной, чтобы помогать ей.
Через час находившимся в бомбоубежище сообщили, что опасность миновала.
Когда Оксана с сестрой, Марфушей и детьми подходила к своему дому, у нее вырвался крик и подкосились ноги. Аллочка с плачем прижалась к матери. Дом, в котором они жили, лежал в развалинах: он рухнул от прямого попадания бомбы.
— Плачем горю не поможешь… — спокойно сказала Алла. — Хорошо, что нас не было дома, никто бы не уцелел.
Через несколько дней фашисты вошли в город. После того как дом был разбомблен, Алла Мартыновна перевела Оксану с детьми и Марфушу в невзрачную хибарку на глухой уличке и в тот же день распрощалась с ними. Перед уходом она велела говорить всем, что ушла из города с отступавшими советскими войсками.
Оксана заперлась в тесной каморке. Из-под развалин рухнувшего дома им мало что удалось спасти, и Оксана с ужасом думала о том, как она прокормит детей. Узнав от Миколы, что в город вошли фашисты, Аллочка прижалась к груди матери, дрожа всем телом.
Оксану очень тревожило то, что Микола часто выбегал на улицу. Но Микола не обращал внимания на запрет матери. Возвращаясь, он деловито докладывал ей:
— Прошло сорок шесть солдат с автоматами. У них был пулемет и еще что-то такое — не то пушка, не то миномет… Дядя Андрей о таком мне ничего не рассказывал.
— Говорю тебе, Микола, не ходи. Под ногами растопчут, дурной!
— А я на тротуаре стою. Они же не дураки, чтобы пушку по тротуару тащить!
— Не дураки они, а враги, — с тоской говорила Оксана.
— И я им тоже враг! — решительно и резко отзывался Микола.
— Молчи, Микола. Если при них скажешь так, они убьют тебя…
Убьют… Это слово заставляло задуматься Миколу. Что это значит — убьют? Вот от бомбы погибли соседи — Алексей, Федор, учительница Вера Павловна… Они не могут уже ни говорить, ни двигаться. А Микола не представлял себе, чтобы после того, как его убьют, он не смог бы уже ходить, выбегать на улицу, обнимать маму, дразнить Аллочку. Понятие «жить» и «умереть» не укладывалось в его сознании. Слыша от матери часто повторяющееся слово «убьют», Микола каждый раз умолкал, задумывался, стараясь сдержать желание выбежать на улицу, видеть все, что там происходит.
Прошло еще несколько дней. Оксана по-прежнему не выходила из дому; обо всем, что происходило в городе, она узнавала только от Марфуши и Миколы. А те не сообщали ничего утешительного: арестовали столько-то евреев; столько-то жителей, мужчин и женщин, угнали на принудительные работы; появились какие-то торговцы; такие-то поступили «полицаями» к фашистам…
Оксана как будто свыклась со своим положением. У нее мелькнула надежда, что о ней забыли и ее никто не будет тревожить. «Я — мать двоих детей. Марфуша — молоденькая девушка, почти девочка… Какой интерес представляем мы для них?!» — старалась успокоить она себя.
Наступила ночь. Тусклый свет керосиновой лампы едва освещал комнату с плотно завешенным оконцем. Микола уже улегся. Оксана еще не ложилась. Она держала на коленях Аллочку, здоровье которой тревожило ее.
— Выпей глоток молока, Аллочка, — убеждала Оксана. — Ты же ничего не ела вечером. Наверное, голодна, потому и не можешь заснуть…
— Не-е, не голодна.
— Может, болит у тебя что-нибудь?
— Не-е, не болит. Мамочка, придут они?!
— Никто не придет, детка. Закрой глазки, усни, усни.
— А у Сони кровь из руки шла… и из носика шла… Ударили ее те… — и Аллочка запнулась.
— Ах, Марфуша, я же говорила тебе, чтоб ты не выводила девочку на улицу! — воскликнула Оксана. — Насмотрелась она всяких ужасов, напугана. Ну что мне теперь с ней делать?!
Марфуша, которая в это время перемывала посуду и прибирала в комнате, молча подошла к Аллочке и погладила ее по голове.
— Мам, я хочу Марфушу… пусть она тоже придет, ляжет со мной, крепко-крепко обнимет меня!
Марфуша придвинула свою кровать и легла рядом с Аллочкой. Девочка то гладила лицо матери, то перебирала косы Марфуши, спрашивая об отце, о тете Алле и дяде Андрюше и обо всех знакомых, о которых помнила. Было уже довольно поздно, когда Аллочка наконец успокоилась и уснула.
Оксане не спалось. Укрыв ребенка, она потушила лампу и снова улеглась, прислушиваясь к дыханию детей. Когда же будет конец этой неизвестности? Оксана не видела никакого просвета и с ужасом ожидала того, что ей принесет завтрашний день.
Вдруг она вздрогнула и присела на постели: в дверь сильно постучали.
Впервые после прихода фашистов в дверь их домика стучали так поздно и при этом так громко и бесцеремонно. Не ожидая ничего хорошего, Оксана машинально протянула руку к платью, хотя сердце у нее захолонуло ог волнения. Вскоре заколотили в оконце. Проснулась Марфуша и поспешила зажечь лампу. Слабый свет слегка подбадривал Оксану, и она торопливо накинула платье.
Оксана попросту не знала, на что решиться. Наконец она медленно подошла к двери, которую вот-вот должны, были уже высадить стучавшие люди; взгляд ее упал на Миколу, который с молотком в руках стоял возле двери. Оксана с ужасом кинулась к сыну, схватила его за руку, пытаясь отобрать молоток.
— Оставь, мама, оставь… Разобью голову первому, кто войдет…
— Микола, не делай глупостей. Если ты это сделаешь, нас всех убьют — и тебя, и меня, и Аллочку…
«Убьют…» Опять это страшное слово! Матери удалось вырвать из рук сына молоток. Она умоляла Миколу лечь в постель, но тот упрямился. Наконец Оксана опять подошла к двери и, чувствуя, что ее незваные гости разъярились, слабо окликнула:
— Кто вы, чего вам надо?
— Именем немецкого командования сейчас же откройте дверь! — крикнул гневно и повелительно из-за двери кто-то, говоривший по-русски с сильным акцентом.
— Сжальтесь, бога ради… — молящим тоном произнесла Оксана. — Дома у меня дети, они боятся. Приходите днем, завтра…
— Что значит «боятся», по какому праву вы оказываете нам сопротивление? Немедленно откройте, не то…
Оксана постепенно овладевала собой. Не открывая двери, она сказала:
— Так я же беспокоюсь о детях. Прошу вас, приходите завтра утром, мы никуда не убежим…
— Хватит болтать! Сейчас же откройте, не то прикажу стрелять… Ну, раз… два…
Оксана поняла, что угрозу могут привести в исполнение, и отодвинула засов.
В комнату ввалилось сразу четверо вооруженных людей — двое в мундирах гитлеровских офицеров, двое в обмундировании солдат. Старший из офицеров, высокий обер-лейтенант с продолговатым лицом и тонкими усиками, быстро осветил карманным фонарем комнату и, увидев стоявшего посредине Миколу, прикрикнул на него:
— А ты чего стоишь? Дети должны спать в это время.
— Зачем же вы приходите и нарушаете их сон? — отозвалась осмелевшая Оксана.
Не обращая на нее внимания, обер-лейтенант шагнул к Марфуше. Оксана заслонила девушку.
— Что вам надо, вы же видите, что здесь только дети и беспомощная женщина…
— Довольно болтать! — забрал обер-лейтенант и с силой оттолкнул Оксану. Та потеряла равновесие и с размаху упала на кровать Аллочки.
Послышался такой душераздирающий вопль, что по телу Оксаны пробежали мурашки. Она уже никого не видела, ничего не слышала. Аллочка с громким плачем билась у нее на руках. Оксана сжимала в руках извивающееся тело девочки, смотрела на ее искаженное лицо и широко раскрытые глаза; ей казалось, что Аллочка сошла с ума. Оксана целовала ее, повторяя: «Успокойся, детка, смотри вот Марфуша, Микола…» Но Аллочка продолжала рыдать навзрыд, то крепко жмурясь, то снова широко раскрывая глаза.
— Аллочка, с тобою я, твоя мама…
Девочка прильнула лицом к груди матери: ее словно била падучая.
— Ну ладно, ладно! — послышался равнодушный голос обер-лейтенанта. — Подумаешь, плачет. Дети всегда плачут.
Он повернулся к Марфуше и резко спросил:
— А ты почему не выполняешь приказа немецкого командования?!
— Я?.. — заикаясь, переспросила Марфуша, одергивая платье на себе. — Какой приказ я должна была выполнить, я ничего не знаю.
— Нашли хорошенькую отговорку! Все только и твердят, что ничего, мол, не знаем. Уже десять дней вывешен на улицах приказ на немецком, русском и украинском языках, что все жители старше семнадцати лет, будь то мужчины или женщины, обязаны явиться в комендатуру, чтоб получить наряд на работу. Почему же ты не выполнила приказа коменданта?
— Так я же еще школьница! — воскликнула Марфуша, откидывая назад косу. — Я еще не кончила десятилетки, у меня нет никакой специальности!
Обер-лейтенант схватил Марфушу за руку и с помощью солдат сорвал с нее платье, оставив ее в одной рубашке. Ощупав девушку с ног до головы, он деловито заявил:
— Ноги сильные и руки тоже, можешь отлично работать. Ну, быстрей одевайся и пойдем!
— Куда пойти, зачем?! — с плачем говорила Марфуша, с ненавистью глядя на обер-лейтенанта. — Бесстыдники, осматривают меня, словно я животное? Говорю вам — я учусь еще.
— Довольно болтать! — крикнул второй офицер, хватаясь за кобуру.
Оксана стояла спиной к фашистам, стараясь, чтоб Аллочка не видела их. Она почувствовала на плече тяжелую руку офицера.
— А у вас, мадам, дети уже не маленькие! — резко сказал он. — Вы можете тоже работать. Теперь мы вас не тронем, но если узнаем, что вы опять прячете у себя трудоспособных девушек, — не ждите пощады!
Оксана ничего не поняла из слов офицера. Все ее внимание было поглощено Аллочкой. Хлопнула дверь. Оксана почувствовала, что в комнате никого не осталось. Она машинально закрыла дверь на засов, прикрикнула на Миколу, чтоб он лег, и вновь взяла на руки Аллочку.
— Все ушли, Аллочка. Вот посмотри — никого нет. Рядом с тобою только твоя мама и Микола. Ну, успокойся же, успокойся, доню…
Прошел час, два часа, но Аллочка не успокаивалась. Лишь к утру она притихла и уснула. Оксана начала прибирать комнату. Участь Марфуши тревожила ее, страшно делалось, что рядом нет никого, с кем она могла бы поделиться своими опасениями и тревогами. Особое беспокойство вызывала у нее Аллочка. Но вот девочка открыла глаза. Точно очнувшись после тяжелого сна, она пристально оглядела сперва мать, потом Миколу, беззвучно шевеля губами. Затаив дыхание, Оксана ждала. Аллочка с трудом выговорила:
— А-а… гг-де… Мм-арр-ффу-шша?..
В первую минуту Оксана предположила, что Аллочка говорит со сна, но в следующую минуту девочка села в постели, протерла глаза и проговорила заикаясь:
— Мма-мма… а-а… ффа-шши-ссты… уушш-лли?..
Девочка стала заикой. Успокоив Аллочку, Оксана ушла на кухню и дала волю слезам.
Боль за ребенка и постоянный страх, что не сегодня-завтра могут прийти и за нею, совершенно измучили Оксану. Услышав какой-нибудь шорох под окном или за дверью, она в ужасе вскакивала, с трепетом ожидая, что вот-вот к ней нагрянут фашисты. Алла не подавала признаков жизни.
Тревогу вызывало в ней и то, что небольшой запас продовольствия постепенно таял. Оксана уже подумывала, что ей нужно выйти из дому, встретиться со знакомыми и спросить совета, как быть дальше. Днем соседка занесла ей молоко. Оксана покормила Аллочку и уложила ее спать. Микола отпросился на улицу. Когда Аллочка заснула, Оксана присела у стола, охватив ладонями голову, и закрыла глаза, стараясь отвлечься воспоминаниями о прошлом, которое ей казалось сейчас таким далеким.
В дверь негромко постучали. Оксана натянула повыше одеяло на Аллочку, которая тихо посапывала во сне, и лишь после этого открыла дверь. В комнату вошел совершенно незнакомый ей мужчина лет пятидесяти, с тросточкой в руках. Мигая глазами, он поклонился и протянул руку Оксане. Она машинально протянула ему свою руку и вздрогнула, почувствовав прикосновение холодных, липких пальцев.
— Вы, конечно, удивляетесь, Оксана Мартыновна, и спрашиваете себя, кто этот человек, который так бесцеремонно явился к вам… — тут незнакомец придвинул стул, сел рядом с Оксаной, — и хочет поговорить с вами по душам!
— Да нет, я…
— Но удивляться тут нечему. Такие уж настали времена, что честные люди должны думать друг о друге. За последние дни эти негодяи мобилизовали уже свыше ста молодых девушек и парней. Часть оставляют здесь, а часть собираются угнать в Германию…
— Угнать в Германию?! — с ужасом повторила Оксана. — А как же Марфуша?
— Вот как раз из-за Марфуши я и пришел. Я помогал поставить каждого на соответствующую ему работу…
— Вы помогали… помогали немцам?! — гневно вырвалось у Оксаны, но она, вовремя спохватившись, замолчала.
Незнакомец нервно мигнул. Обеими руками ухватившись за набалдашник, изображавший лошадиную голову, он оперся подбородком на руки и спокойно сказал:
— Вы говорите — «помогаю немцам»? Неправильное суждение: я помогаю н а ш и м! Я работаю у немцев — это так. Но если бы вместо меня работал кто-нибудь другой, было бы еще хуже. Как я вам уже сказал, я стараюсь помочь чем могу: стараюсь добиться более подходящей работы, а то и вовсе освободить наших людей. Самое же главное — я под различными предлогами не даю отправить нашу молодежь в Германию или, во всяком случае, добиваюсь отсрочки. Вот, например, Марфушу…
— Да, да, что с нею?
— «Василий Власович, — говорит мне ваша Марфуша, — ведь я еще учусь…» Рассказала она мне о вас, и я сделал все, что мог. Поговорил с кем следует, и Марфушу назначили официанткой в столовую. Пообещали мне, что ее не отправят в Германию, если будет хорошо себя вести.
— А что значит «хорошо себя вести»?
— А кто его знает, молодая ведь, мало ли что может втемяшиться в голову?.. Да, значит, попросила Марфуша, чтоб я к вам зашел, успокоил вас. Как видите, я исполнил…
— Очень признательна, вам Василий Власович. Значит, нашей Марфуше не угрожает опасность?
— Ну, какая там признательность… Мой долг помогать нашим людям, следить за тем, чтоб ни Марфуше, ни таким, как вы, никто повредить не мог.
Василию Власовичу показалось, что Оксана с уважением отнеслась к его словам, и он уже более смело продолжал:
— Да, в тяжелое время мы живем. Как говорится, человек человеку волком стал. Никто доброму делу и доброму слову не верит.
— А как вы думаете, разрешат Марфуше прийти домой?
— А это уж от нее зависит: если будет хорошо вести себя…
После минутного молчания Василий Власович поднял голову и с сочувствием спросил:
— Ну, а как ваш супруг? Наверное, ему тяжело, что он ничем не может помочь вам!
Оксана насторожилась. Вспомнив наказ Аллы, она равнодушно махнула рукой:
— Мужья теперь плохие… Еще за полгода до войны уехал в Москву и перестал писать, не интересовался ни мной, ни детьми.
Василий Власович поговорил о том, о сем, спросил с здоровье детей. Оксана сообщила ему, что маленькая дочка ее плохо себя чувствует. Вскоре после этого Василий Власович встал и начал прощаться, заверив Оксану, что будет часто к ней заходить и сообщать новости о Марфуше. Подойдя к дверям, он осторожно оглянулся и, понизив голос, сказал, что надеется тайными путями получить известие о родных Оксаны.
Проводив его, Оксана вернулась в комнату и села у постели Аллочки. Она была в глубокой тревоге, — ей было ясно, что ею интересуется фашистская полиция. «Вот и начались самые тяжкие испытания!» — с горечью подумала она.
Глава седьмая
У ДОЛИНИНА
Ночь, а за нею день… Еще ночь, еще день… Батальону иногда приходилось идти обходными тропами, чтобы не дать врагу напасть на свой след. Бывали случаи, когда отдельным группам бойцов приходилось завязывать бои с фашистами, но батальон все время упорно продвигался на восток.
Наконец добрались до назначенного пункта. Остужко пришел сюда на день раньше и уже успел связаться с подпольной организацией, действовавшей в районе. Узнав о том, что один из руководителей партизанского отряда по прозвищу «Дядя» хочет увидеться с ним, Шеповалов от души обрадовался.
Асканаз передал Шеповалову рассказ Титова о Григории Поленове; тревожные мысли не покидали его. Доставив раненых в села, Минаев должен был догнать батальон. Ну, а если Поленов окажется предателем и выдаст своих?.. Эта мысль была такой тягостной, что Асканаз с трудом сохранял душевное равновесие.
Партизанские связные повели руководителей батальона в тайное убежище, и в глубине леса перед Асканазом открылся новый мир… Связные раздвинули густо разросшийся терновник, и Шеповалов с Асканазом вслед за ними спустились вниз по вырубленным в земле ступеням, в подземное помещение.
С первого же взгляда на Дядю Асканаз почувствовал восхищение. Настоящее имя начальника партизанского отряда, было Константин Долинин. Это был человек лет, тридцати пяти, могучего телосложения, с крупными чертами лица, оттененного широкой казацкой бородой и густыми усами. Особенно понравились Асканазу ясные, проницательные глаза Долинина.
— Да какой там к черту Дядя?! — облапив Долинина, воскликнул Шеповалов. — Полюбуйтесь только, молодой кабалеро, пожиратель девичьих сердец!
— Ну-ну-ну! — с улыбкой отмахнулся Долинин.
Асканаз, рассмеявшись, также пожал руку Долинину. Командир партизанского отряда, видимо не упускавший повода пошутить, с упреком сказал:
— Вот, видите, товарищ комбат, комиссар не согласен с данной мне характеристикой!
— Откуда вы угадали? — справился Асканаз.
— А партизан обязан многое угадывать. Видно, устали немножко от маршей да стычек с фашистами, а?
— Не столько от маршей и стычек, сколько от неопределенности. Не можем провести как следует ни одной операции.
— Ничего, вскоре предвидится дело, и горячее дело. Ведь вам придется идти на соединение с дивизией.
— Только с дивизией… — твердо произнес Асканаз.
Долинину стало понятно, о чем подумал в эту минуту комиссар батальона.
— Да, вы оторвались от своей части, но… самое важное — не потерять головы, какие бы трудности ни встретились. Ну, а трудности…
В рассказе Долинина было мало утешительного. Красная Армия снова отступала. Фашисты готовились форсировать Днепр.
После скромного обеда командир партизанского отряда набросал программу предстоящих действий. Крупная фашистская часть, численностью свыше трех тысяч солдат, готовилась соединиться с войсками, налаживающими переправу через Днепр (Долинин показал на карте направление). Поезда, перебрасывающие солдат этой колонны, должны были пройти по большому мосту. Предстояла задача взорвать этот мост.
— Первый поезд мы пропустим. Когда же второй дойдет до середины, партизаны взорвут мост! — сказал Долинин. — Это и будет нашим сигналом к нападению. Фашисты выскочат из вагонов; именно в этот момент и нужно вытрясти из них души.
Асканаз внимательно изучал каждое движение Долинина и старался не упустить ни одного слова. «Этот человек так же хорошо чувствует себя в лесу, как рыба в воде…» — проносилось у него в голове.
Долинин попросил вызвать Остужко; он хлопнул начальника разведки по плечу и весело сказал:
— Так вот он, разведчик!.. Итак, Остужко, тебе поручается взорвать склады горючего и боеприпасов в местечке Н., для того чтобы фашисты не смогли подоспеть на помощь после крушения состава. Может быть, у вас есть какие-нибудь замечания? — обратился Долинин к Шеповалову и Асканазу.
Асканаз обменялся взглядом с Шеповаловым и, прочитав одобрение на его лице, произнес:
— Нам нужно дождаться наших. Мы еще не знаем, как размещены наши раненые.
— Так мы можем послать туда разведчика, — предложил Долинин.
— Все это так… Но один из разведчиков внушает нам подозрение.
Асканаз вкратце рассказал историю с Мазниным и Поленовым. Долинин, видя, что Асканаз сильно огорчен, заметил:
— А что ж вы думаете, попадаются и такие типы. Но я предлагаю иное: быть может, этот Поленов почувствовал, что допустил преступную оплошность, не разоблачив Мазнина; не исключено, что он постарается обезвредить Мазнина, чтоб снять с себя пятно.
— Но почему же он не признался мне, когда я его спрашивал о настроениях Мазнина?
— Вы бы его не послали, если б он признался.
— Я вижу, вы оптимист, товарищ Долинин!
— До известной степени да. Если мой оптимизм не оправдывается… то я дорого расплачиваюсь с теми, кто разочаровывает меня.
Большинство солдат быстро привыкает спать ровно столько времени, сколько позволяет военная обстановка. Не прошло и двух часов, как Асканаз проснулся. Чуть поодаль от него слышалось ровное дыхание Браварника. Асканаз надел свой плащ, которым он укрывался, и осторожно вышел из землянки.
На небе не было ни облачка. Тишину нарушал лишь мерный шелест леса, да иногда слышалось хлопанье крыльев обеспокоенных птиц, перелетавших с места на место. В тусклом сиянии луны, пробивавшемся сквозь ветви деревьев, видны были проторенные тропинки.
Увидев вышедшего из землянки Браварника, Асканаз решил не распекать его за то, что тот встал раньше времени (ему пришло в голову, что он сам заслуживает такого же замечания).
— С добрым утром, Браварник! — сказал он шутливо, хлопнув бойца по плечу.
Браварник вздрогнул, инстинктивно схватился левой рукой за автомат и, улыбнувшись, поднял правую руку к пилотке.
— Здорово, товарищ комиссар! — отозвался он и, почувствовав, что комиссар в хорошем настроении, добавил: — А ночка-то какая славная! Эти места напомнили мне детство. Я часто ходил с матерью по грибы. Однажды мы даже в лесу заночевали…
— Значит, любишь лес?
— Да. Вот слышу я этот шелест и треск — и знаю, что это обыкновенный лесной шум. А посторонние голоса и звуки сразу различаю.
— Так это в мирное время! А сейчас все так перемешалось, что не всегда разберешь…
— Ну нет, товарищ комиссар, наметанный глаз и привычное ухо разберут.
— Ты, видимо, человек бывалый. В таком случае не оставить ли тебя у Дяди воевать партизаном?
— Если прикажете — останусь… — отозвался Браварник не слишком охотно. — Да только хотелось бы вместе с батальоном добраться до дивизии…
— Ладно уж, будешь при мне.
Они шли к землянке Шеповалова: там назначено было совещание партийного и комсомольского актива батальона.
— Наверное, волнуется твоя мать, что нет от тебя писем.
— Мать — известно, последыш я у нее, она ко мне очень привязана.
Асканаз знал, что братья Браварника сражаются на Ленинградском фронте. А Браварник продолжал, забыв, что уже рассказывал об этом комиссару:
— Отец-то у меня два года назад скончался. Семьдесят пять ему было. Сестра замужем. Мать совсем одна осталась. Пока не попали мы в окружение, каждый день по открытке посылал. Бог знает, что ей в голову придет сейчас!..
Асканазу понятна была тревога бойца.
— Потерпи, Браварник, вот выберемся из окружения, напишешь матери длинное, хорошее письмо! Не забудь передать привет от меня.
— Непременно напишу, — радостно откликнулся Браварник и затем, меняя тон, добавил: — А вот и землянка комбата, товарищ комиссар.
Склонившись над картой, Шеповалов делал на ней какие-то пометки. Увидев Асканаза, он нахмурился.
— Встал на час раньше. А ведь приказано было как следует отдохнуть!
— Я уже выспался.
Шеповалов передал комиссару, что Долинин обещал из своих запасов пополнить недостаток в патронах, дисках и гранатах.
— Вот это порядочек! — весело воскликнул Асканаз и, словно сделав какое-то открытие, быстро добавил: — Борис, честное слово…
— Ну, ну, в чем ты меня хочешь уверить?
— В том, что мы обязательно доберемся до нашей дивизии!
— Подозреваю, что ты хотел сказать не это, — засмеялся Шеповалов. — Уж больно ты горячо начал!
— А ты представь себе, что это мое самое горячее желание.
— Представляю, — кивнул Шеповалов. Он достал из кармана кусок хлеба с вяленым мясом, разделил пополам и, передавая половину Асканазу, с усмешкой сказал: — Доложено мне, что свой паек вы изволили передать раненым, товарищ комиссар!
После двухдневного марша батальон добрался до условленной полянки в лесу, которому, казалось, конца не будет. Были приняты все меры, чтобы не дать разведке противника обнаружить следы батальона.
Шеповалов и Асканаз разработали вместе с командиром партизанского отряда все подробности предстоящих операций. На рассвете бойцы батальона и партизанского отряда заняли назначенные позиции. В той части леса, через которую пролегало железнодорожное полотно, фашисты вырубили довольно широкие просеки. Железнодорожный путь находился над наблюдением патрулей, вооруженных автоматами и ручными пулеметами.
Только Шеповалову, Асканазу и Дяде было известно о том, когда и каким образом будет произведен взрыв моста. Боец в форме обер-лейтенанта, хорошо владевший немецким языком, и с ним пятеро смельчаков, переодетых фашистскими солдатами, должны были подойти к патрулю, стерегущему мост. Пока «обер-лейтенант» будет опрашивать патрульных, переодетые бойцы должны спуститься к устоям моста и под предлогом осмотра сделать свое дело. Взрывчатка была переброшена заранее, под покровом ночи. Все назначенные в подрывную «пятерку» поклялись хотя бы ценою жизни выполнить задание.
Притаившись на расстоянии одного километра от опушки леса, партизаны и бойцы батальона ждали условленного знака.
Заря только что окрасила небо, когда издали донеслось пыхтение паровоза. Асканаз, стоявший рядом с Шеповаловым, старался то в бинокль, то невооруженным глазом разглядеть подходивший поезд. Асканаз подбадривал бойцов, отдавал распоряжения, выносил решения с такой быстротой, которая казалась невероятной ему самому, с полуслова схватывая то, что говорили ему Шеповалов и Долинин.
И после напряженного ожидания никого не поразило, когда прогремел оглушительный взрыв и в воздух взлетели обломки вагонов и изуродованные тела. У насыпи метались фигуры оставшихся в живых фашистов.
Партизаны и бойцы батальона бросились в атаку. Первая часть задания была выполнена; теперь нужно было уничтожить живую силу противника. Трескотня пулеметов перекрыла крики фашистских солдат. Но вот перед рухнувшим мостом остановился новый состав. Из вагонов высыпали солдаты. Партизаны начали расстреливать солдат противника или прямо в вагонах или на полотне. Однако на этот раз большой группе фашистов удалось занять позиции и в свою очередь, открыть огонь по партизанам.
С помощью связных Долинин сообщил Шеповалову и Асканазу, что наступило время с боем отойти. Промедление могло поставить под угрозу всю нападавшую группу.
К полудню сводному отряду удалось отойти километров на десять. Опомнившиеся фашисты не хотели упустить возможности расправиться с партизанами. Положение еще более осложнилось, когда фашисты пустили в ход вызванную штурмовую авиацию. Три самолета летели низко над лесом, сбрасывая бомбы и поливая все вокруг длинными пулеметными очередями.
Асканаз находился вместе с Браварником во взводе Михайлова, которому поручено было отбивать атаки фашистской роты.
Выражение «жизнь и смерть шагают бок о бок» казалось уже не философской метафорой, а точным описанием того, что происходило в действительности. Временами разгорался ожесточенный рукопашный бой. И вот Михайлов, только что метким выстрелом сваливший двух фашистов, решил последовать совету Асканаза и оторваться от противника, который намного превосходил численностью его взвод. Но именно в эту минуту Михайлов был ранен в голову и потерял сознание.
Подоспевший Титов взвалил себе на спину комвзвода, чтобы вынести его из боя. Под градом пуль он залег с Михайловым на спине и отстреливался от наседающего противника. Кровь из раны Михайлова стекала на затылок Титову и заливала ему лицо. Могло показаться, что ранен сам Титов. Он отполз немного и снова залег. Новая пуля, попавшая в бок Михайлову, оборвала его жизнь, и он скатился наземь. Асканаз приказал Браварнику взять на себя командование взводом вместо Михайлова. Разорвалась новая мина, и в каких-нибудь пяти шагах Асканаз увидел упавшего Браварника. Асканазу казалось, что вот-вот Браварник встанет с земли. Но Браварник не поднимался. Когда Асканаз нагнулся над ним, глаза бойца уже тускнели. Асканаз приложил руку к его лбу.
— Ма… тери… моей… — с последним вздохом через силу выговорил Браварник.
У Асканаза стало так тяжело на душе, что на мгновение он забылся. Фашистские автоматчики подошли еще ближе. Асканаз, опомнившись, схватил автомат Браварника. Сбоку прогремела очередь автомата Титова, и фашист, взявший на прицел Асканаза, растянулся на земле.
— Вставайте, товарищ комиссар, — раздался тревожный голос Титова, — справа подходят…
Асканаз оглянулся на Браварника и лежавшего рядом с ним Михайлова.
Сердце у него сжалось, когда он понял, что вынести тела невозможно. «Ни могилы, ни маков на них…» — мелькнула мысль, но прежде всего нужно было выводить, батальон из боя.
Асканаз взглянул на Титова:
— Прими командование взводом.
Лишь к шести часам сводному отряду удалось оторваться от фашистов. Но и долго еще после этого продолжали доноситься разрывы мин и снарядов противника, рокот его самолетов.
Потребовалось несколько часов, пока Шеповалову и Асканазу удалось собрать бойцов батальона. По подсчетам Долинина выходило, что противник потерял не менее шестисот солдат и офицеров.
— Спасибо вам, товарищи батальонцы! — заключил Долинин, обращаясь к Шеповалову и Асканазу. — Хорошо поработали мы с вами на этот раз!
Он помолчал и задумчиво прибавил:
— А все-таки фашисты готовятся к тому, чтобы форсировать Днепр…
— Да, — хмуро произнес Шеповалов. — Фашисты двигаются быстрее нас. Следовало бы и нам ускорить темпы…
Асканаза тревожил и другой вопрос: не было никаких вестей о группе Остужко, которой было поручено взорвать склады горючего и боеприпасов в местечке Н. Не знают они, какова судьба и того отряда, которому поручено было перебросить раненых… Не так-то легко было «ускорить темпы»! К тому же в последнем бою сводный отряд потерял больше девяноста человек. Асканаз высказал свои сомнения Долинину.
— Сейчас нам прежде всего нужно замести свой след, — деловито заявил Долинин. — И это удастся, если только мы удачно организуем наше продвижение.
Глава восьмая
СОМНЕНИЯ РАССЕИВАЮТСЯ
Склонившееся к горизонту солнце последними лучами окрасило реденькие облака, залив небо кроваво-красным заревом. Асканазу вспомнилось предание, слышанное в дни детства. Глядя на багровый закат, мать его со страхом осеняла себя крестом, приговаривая: «Спаси бег, плохой это знак, быть кровопролитию…» Шогакат-майрик не отличалась суеверием, но возможно, что сейчас и она усмотрела бы в кровавом закате нечто зловещее.
Но эти мысли, на мгновение возникнув в голове Асканаза, тотчас же исчезали, словно мелькнувший метеор.
Всю ночь и весь день батальон двигался по маршруту. Долинин отправил с батальоном своих разведчиков, заверив Шеповалова и Асканаза, что будет поддерживать связь с Остужко и поможет ему догнать батальон.
Душевная тревога Асканаза не давала ему покоя. Батальон понес большие потери. В числе погибших был и Браварник, с которым у Асканаза установились дружеские отношения… В течение дня Асканаз несколько раз видел Колю Титова. Хотя отвага и самоотверженность Титова были вне сомнений, но все-таки история с Поленовым накладывала черное пятно не только на Титова, но и на весь батальон.
Объявили привал. Шеповалов, Асканаз и Долинин сели под раскидистым деревом, привалившись к его стволу.
— Часа два отдохнем, и я пожелаю вам доброго пути, — задумчиво сказал Долинин. — Пока — конечный пункт Краснополье, а уж оттуда… прыжок к дивизии!
— Краснополье…
Асканаз не смог закончить. Грянул взрыв, и два прожектора залили лес потоками света. Встревоженные бойцы быстро построились. При ярком свете видны были их усталые, запыленные лица, истрепавшаяся, разорванная одежда.
Приходилось прервать отдых.
— Напали, поганцы, на наш след, — сказал Долинин, поглаживая густые усы. — Нет смысла открывать ответный огонь, тем более что мы не знаем ни численности врага, ни рода его вооружения. Это мое мнение, а как полагаете вы, товарищ комбат и товарищ комиссар?
— Мы тоже так считаем, — отозвался Шеповалов. — Весь вопрос в том, как бы незаметно отойти…
Обстрел прекратился. Но вскоре тишина была нарушена хриплыми звуками громкоговорителя.
— Ого, за агитацию принимаются!.. — отозвался Долинин. Видно было, что этот трюк для него не является новостью.
Тем не менее батальону было приказано оставаться в боевой готовности.
Вначале трудно было что-либо различить, но постепенно слышимость улучшилась.
— Советские солдаты! — говорил кто-то по-русски, но с нерусским акцентом. — С вами говорит представитель немецкого командования. Вы окружены со всех сторон. Знайте, что главные силы вашей армии разгромлены. Большая часть оставшихся в живых добровольно сдалась в плен и по приказу нашего фюрера отправлена в Германию, где спокойно ожидает отправки домой. Со дня на день ожидается взятие Москвы. Вы упорствуете совершенно напрасно. В последний раз предупреждаю: сложите оружие и сдавайтесь. От имени фюрера обещаю сохранить вам жизнь.
По приказу Шеповалова и Долинина несколько разведчиков отправились выяснить, какие силы брошены против батальона. «Представитель немецкого командования» продолжал говорить, когда к Шеповалову подошел Титов и, получив разрешение, обратился к комбату:
— Товарищ комбат, нет сил терпеть! Разрешите мне с моими ребятами подобраться к громкоговорителю и прекратить этот вой.
— Терпение так же необходимо бойцу, как смелость, — покачал головой Шеповалов. — Терпи, казак… А своим парням скажи, чтобы глядели в оба.
А голос продолжал выкрикивать в рупор:
— Русские партизаны тоже убедились, что борьба в тылу является бессмысленной. Они группами сдаются нам в плен. Сейчас с вами будет говорить ваш товарищ, красноармеец Григорий Поленов. Он сегодня утром сдался нам в плен и сейчас расскажет, как ему живется у нас.
У Титова потемнело в глазах, точно около него разорвалась бомба. Он шагнул было к Асканазу, но, видя искаженное гневом лицо комиссара, замер на месте. Шеповалов презрительно мотнул головой в сторону рупора:
— А ну, послушаем, как будет заливать…
— Товарищи! — послышался голос из рупора.
Все напрягали слух, но трудно было определить, действительно ли говорит Поленов, из рупора неслись хриплые звуки.
— Товарищи… — послышалось снова. — Я сегодня утром добровольно сдался в ближайшем селе командованию немецкого гарнизона. Ко мне отнеслись очень хорошо, дали мне новую одежду и сытно накормили. Сказали, что я могу жить в любом селе, где только пожелаю. «Дадим тебе, говорят, землю, паши и сей себе на здоровье». Я убедился, что выстоять против мощной немецкой армии нам не под силу. Я видел, как сотни и тысячи наших бойцов добровольно сдаются в плен. Так что, товарищи, советую опомниться, сдаться в плен, зачем зря свою кровь проливать.
Терпение Титова истощилось. Быстро шагнув вперед, он молящим голосом произнес:
— Нельзя же так, товарищ комбат, товарищ комиссар… Этого подлеца нужно схватить и расстрелять перед всем батальоном!
Долинин положил руку ему на плечо и внушительно сказал:
— Фашисты очень обрадуются, если узнают, что среди нас есть люди, поверившие в их вранье. А ты — боец Красной Армии, твое поведение должно вызывать гнев у врагов, а не радовать их.
Но Титов не мог успокоиться.
— Так вы ж не знаете, товарищ Дядя, ведь этот подлец был бойцом нашего взвода!..
— Знаю… Посмотрим, что он еще скажет.
Ярость душила Титова.
— Итак, предупреждаю в последний раз… — снова послышалось в рупоре. — Вы выслушали вашего товарища. Даю вам пять минут. Пришлите вашего представителя, чтобы договориться с нашим командованием об условиях сдачи. В противном случае…
Выстрелы заглушили громкоговоритель. Начался сильный орудийный обстрел. Подбежал запыхавшийся разведчик и доложил, что против батальона действует специальный карательный отряд. С тыла его, видимо, атакуют советские части.
После короткого совещания решено было перейти в наступление.
Через три часа бой утих. Не причинив особого урона батальону, карательный отряд отошел обратно. Однако ясно было, что противник не оставит батальон в покое. Командиры решили изменить маршрут, чтобы ввести врага в заблуждение.
Всеобщую радость вызвало появление Остужко. Лейтенант-разведчик коротко доложил комбату, что он встретился с Минаевым, а затем с партизанами, взорвал два немецких склада с горючим и один с боеприпасами. Рассказал он и о том, что спешил догнать батальон, но узнал в одном из сел, что карательному отряду поручено завязать с батальоном бой. Стрелявшими в тылу карательного отряда и были люди Остужко.
— А где же Минаев? — справился Шеповалов.
— Да вот они.
Минаев и один из партизан вели под руки человека, который едва держался на ногах. Лицо его было залито кровью, правая рука бессильно болталась.
Асканаз вгляделся в истерзанного бойца и вдруг воскликнул:
— Григорий Поленов!
— Точно так, товарищ комиссар, — с трудом произнес тот.
— Итак, перед нами Григорий Поленов, тот, кто недавно расписывал нам немецкий рай! — усмехнулся Долинин.
Приказав дать Поленову водки, он сам протер ему лицо мокрой ватой.
Поленов постепенно приходил в себя. Он вытянулся, несмотря на то, что еле держался на ногах, и повернулся к Шеповалову.
— Разрешите обратиться к товарищу комиссару, товарищ комбат!
— Давай, давай, разрешаю.
— Товарищ комиссар, ваше задание выполнено!
Сердце у Асканаза сильно забилось. Он понимал, что если вернулись благополучно Минаев с другими бойцами, то, значит, задание выполнено. И все же он нетерпеливо спросил:
— Ты мне скажи прежде всего: какой это Григорий Поленов говорил в немецкий громкоговоритель?
— Не могу узнать, товарищ комиссар. Ко мне-то они сильно приставали, чтобы я выступил. Да ничего у них не вышло.
— А как же они узнали твое имя и фамилию?
— Забыл сдать командиру взвода письмо жены, полученное в первые дни войны. По этому письму и пронюхали.
Пока Шеповалов слушал доклад Минаева, Асканаз усадил Поленова на пень, уселся сам против него и принялся расспрашивать.
— Расскажи вкратце, если можешь. Если чувствуешь себя плохо, отложим…
— Разрешите рассказать все подробно, товарищ комиссар! Если не скажу сейчас, не успокоюсь.
— Ну ладно, говори.
— Значит, так… Оставили мы наше обмундирование в верном месте, переоделись крестьянами и вошли в село. Надежные люди помогли нам разместить раненых. А на другой день устроили мне встречу с этим гадом Мазниным в одном доме, хозяина я так и не видел. А Алешка…
— Алешка… — прервал его с горечью Асканаз. — Как видно, ты хорошо знал о намерениях этого Алешки!
— Не отрекаюсь, виноват я, товарищ комиссар… — Поленов здоровой рукой вытер выступившую на лбу кровь. — Если бы можно было искупить вину…
Его голос дрогнул, он прикрыл глаза.
Подошел вызванный санитар и перевязал ему рану на голове.
— Я вижу, трудно тебе говорить. Давай потом.
— Очень вас прошу, товарищ комиссар, дослушайте меня до конца. Да, пришел этот гад и, можете себе представить, обнял меня, расцеловал… Не буду скрывать, расцеловался я с ним, думаю: проснулась у подлеца совесть, хочет вернуться в батальон.
— Он действительно обвенчался там с какой-то девушкой?
— Точно так. Но я по вашему приказу девушкой этой совсем не интересовался. И вот начал я уговаривать Мазнина: Алеша, мол, на что это похоже, нехорошо ты поступил. Вижу — нет, он поет под фашистов: от Красной Армии скоро рожки да ножки останутся, бери с меня пример, оставайся и ты, мол, в селе, будем себе жить-поживать; у жены хорошая подружка есть, с нею тебя и окрутим…
— Так. Дальше?
— А я ему в ответ: «Алеша, да ведь у меня жена есть, ребенок скоро у нас будет… А теперь узнал я, что угнали жену мою в Германию, в плену у фашистов моя жена… И сколько таких, как она, говорю. И на нас — на тебе и на мне — лежит долг святой, вызволить из рабства наших советских женщин. А что же ты, Алеша, мне предлагаешь? Чтобы я жену в фашистской неволе оставил, с другой женщиной связался?!» Да только кому это я говорю? Есть же пословица: «Черного кобеля не отмоешь добела», «Дураку советы ни к чему»… А этот бесстыдник свое твердит: я тебе, мол, добра желаю, погибнешь попусту, голову сдуру под пули подставишь. Я ему говорю: «Не даром я погибну, скажут, что Поленов с честью пал, сражаясь за родину, умер». А он мне в ответ: какая там мол, родина, конец, нет у нас никакой родины! Тут уж я не вытерпел. «И как, говорю, язык у тебя поворачивается, как это родины у нас нет?!» — «Нет, говорит, теперь нужно для себя жить, а это — пустые слова». — «Так ты, говорю, воин ведь, присягу принимал… Как же можно отрекаться от родины, забывать о своей воинской присяге?!»
— Запоздали эти слова, не для него они, — хмуро заметил Асканаз.
— Да, — с горечью покачал головой Поленов, — не убедил я его. «Ах так, — говорю я, — значит, ты не боец Красной Армии, а дезертир! А ты знаешь, как с дезертирами поступают?» А он смеется: «Что это ты мне грозишь? Вспомни, что ты не в армии сейчас, а в немецком селе!» Кровь бросилась мне в голову, обругал я его: «Ах ты, собака, сукин сын, да как ты смеешь наше украинское село немецким объявлять?» А он мне: «Слышь, не грози, а то плохо тебе будет…» — «Нет, говорю, зачем грозить, я тебя без угроз на месте прикончу!» А у меня с собой нож был, артиллерист один подарил. Выхватил я его и с размаху — прямо в шею этому гаду. На месте уложил… Так что, товарищ комиссар, выполнено ваше поручение. Да, забыл сказать, что после этого вошли в хату двое, говорят мне: «Можешь идти к Минаеву. А мы уж тут спрячем концы в воду».
Во время рассказа Поленов морщился от боли, временами поглаживая кожу вокруг раны. Асканаз видел, что он стискивает зубы, стараясь пересилить боль. Наклонившись к нему, Асканаз осторожно закатал наверх рукав его гимнастерки. Заметив длинную ножевую рану с присохшей кровью, он с упреком произнес:
— Почему не сказал, чтобы тебе руку перевязали? Ну хватит, передам тебя санитарам, может, удастся поместить на излечение в какой-нибудь избе.
— Прошу вас, товарищ комиссар, разрешите досказать. Рана у меня, видно, не очень глубокая, острой боли я не чувствую.
Асканаз разрешил ему продолжать, но предупредил, чтобы он не очень распространялся.
После казни Мазнина Поленов вернулся к Минаеву и вместе с ним отправился в условленное место, чтобы встретиться с Остужко. Лейтенант обрадовался, что у него людей прибыло, назначил Поленова и еще одного бойца сторожить, пока Остужко со своей группой закончит подготовку к взрыву.
— Я стоял от своего напарника на пятьдесят шагов, — продолжал Поленов. — И вдруг рядом со мной, как из-под земли, выскочили трое фрицев. Один ударил меня чем-то тяжелым по голове, а двое других скрутили мне руки за спиной и поволокли к своему начальнику. «Эх, Григорий, не повезло тебе, — думаю я, — так и не удалось добраться до батальона!»
— Обо всем подробно потом расскажешь, Поленов, — прервал его Асканаз, — сейчас батальон двинется в путь. Ты объясни, что это за история с громкоговорителем?
— Так я к этому и веду, товарищ комиссар. Начали меня у этого фашистского начальника избивать, требовать, чтобы я сказал, из какой я части, как там очутился. Я им наплел, что в армии не был. А они мне тычут в глаза женино письмо: вот, мол, доказательство, что ты не только в армии был, но и против нас сражался. Тут уж не вытерпел я, говорю: «А раз меня в армию призвали, я туда танцевать пришел или сражаться?» — «А, говорят, так бы и говорил. Ну, хочешь жить?» — «Почему нет, отвечаю, очень даже хочу». — «Тогда, говорят, пойдем сейчас с нами, и ты им в громкоговоритель объясни, чтоб они нам сдались и что мы им ничего не сделаем». Тут я наотрез отказался. Оставили они меня на время в покое, дали мне хлеба, чаю: «На, говорят, поешь, попей, скорее образумишься». Говорю: «Нет у меня аппетита, не могу я ничего есть». А они — ничего, мол, покушай, легче станет. И все долбят свое, что мне по громкоговорителю нашим объявить, а моих отказов и слушать не хотят. Не забыть бы сказать, товарищ комиссар, у них, видно, еще такие мерзавцы, как Мазнин, имеются, сведения о наших передают. А то как бы они могли пронюхать, где находится батальон?
— Ну, конечно, есть и такие, говорят же: «В семье не без урода», — ответил Асканаз.
— А немного погодя приходит ко мне другой фашист и говорит: «Вот, облегчили мы тебе дело: тут по-русски написано все, что ты должен сказать». И читает мне по бумаге… «Как знаешь, говорит, но все равно кто-нибудь другой от твоего имени эту бумагу прочтет, и тогда твоим родителям от советской власти не поздоровится». Не стерпел я, выругал его как следует, хотел на него кинуться. Тут меня и пырнули ножом, а тот офицер приказал: «Бросьте его в темный подвал, пусть поостынет немного; завтра все, что нам нужно, сам скажет». Бросили меня в вонючий подвал, а я лежу, прислушиваюсь, жду, когда же взрыв будет. Пускай, думаю, Остужко с Минаевым задание выполнят, а там неважно, останусь я в живых или нет. Прошло то ли полчаса, то ли больше, и вдруг затряслось все от взрыва. Успокоилась душа у меня, понял я, что наши свое дело сделали. А боец, тот, что вместе со мною сторожил, оказывается, рассказал нашим о том, что со мной приключилось. Вот после взрыва, как суматоха началась, Минаев с бойцами подобрались к подвалу, высадили дверь и вывели меня. Двинулись мы все к лесу. Жаль только, что очень ослаб я от побоев и раны, не смог принять участие в бою. А уж остальное, товарищ комиссар, вы и сами знаете…
Асканаз встал с пня, но Поленов ухватился за его рукав здоровой рукой:
— Очень прошу, товарищ комиссар, и не думайте оставить меня на излечение! Хоть полумертвый, все равно хочу добраться с вами до дивизии, хочу доказать товарищам… что я не чета Мазнину, что… это было недоразумение…
— Ну, ты постарайся поправиться, а об этом мы поговорим после и все выясним, — ответил Асканаз.
Распорядившись, чтобы Поленову сделали перевязку, Асканаз направился к Шеповалову. Рассказ Поленова сходился с тем, что доложили комбату Остужко и Минаев. Шеповалов и Асканаз с минуту молча глядели друг на друга. В этот момент они с особой силой почувствовали душевную близость.
— Ты знаешь, Асканаз Аракелович, что это Минаев уложил того немца, который уговаривал наших в громкоговоритель?
— Прекрасно. Вижу, что наши ребята учатся воевать по-настоящему!
— Но у меня есть для тебя и более радостная весть.
— Ну, ну?.. — поощрил его Асканаз.
— Остужко разузнал, что наша дивизия действует неподалеку от Днепра, в окрестностях Краснополья.
— Краснополья? — Асканаз глубоко перевел дыхание и, обняв Шеповалова за плечи, потряс его. — Да ты понимаешь, Борис, это значит, что мы скоро соединимся с Денисовым!
— Будем добиваться этого, — сдержанно отозвался Шеповалов. — А в Краснополье надо немедленно связаться с центром местного подполья.
— Может быть, я смогу тут сделать кое-что. Ведь семья Денисова осталась в Краснополье.
— Что ж, и это не помешает. Во всяком случае, с нами будут и бойцы Остужко и разведчики Долинина. Они ребята расторопные.
Краснополье… Как там Оксана? Жива ли, здорова ли Алла Мартыновна?.. Асканаз вспомнил канун двадцать второго июня, себя и Оксану на крыше сарая, в ожидании восхода солнца… С какими надеждами провожали люди на войну своих близких! А теперь… И Асканазу вспомнились слова Денисова, о которых ему писала Алла Мартыновна: «Ищи меня на путях наступления». А сам он сейчас — на пути отступления.
…Бойцы батальона и партизаны Долинина, стараясь ничем не выдать себя врагу, продвигались вперед, держа направление на Днепр. Поленов шагал рядом с Колей Титовым, описывая ему свои приключения. Часть из них он уже успел рассказать Асканазу, многое, по мнению Титова, он придумывал тут же, на месте.
— Эх, Колюшка, виноват я перед тобой: сдуру ввел тебя в беду!
— Какой он тебе к черту Колюшка? — одернул его один из бойцов. — Забыл, что с командиром взвода говоришь?
Титов отмахнулся от него и со сдержанным раздражением посоветовал Поленову:
— Ты бы поменьше говорил, Поленов, побереги раненую голову.
— Вот доскажу, товарищ Титов, чтобы тяжесть с сердца сбросить, а голова не отвалится, поболит и перестанет. Значит, так: подошли мы к селу, а Минаев дорогой мне все объяснил. Иду я себе, значит, известное дело, переодетый, как заправский крестьянин. Вижу, едет повозка, а в ней — фашист. Говорю себе: дам-ка я передохнуть ногам, подсяду к нему! По-немецки-то я не знаю, а по-русски заговорить — опасно… Ах, гады проклятые, на собственной земле не позволяют на родном языке говорите! А сесть все-таки хочется. Обидно мне, что наша русская кобылка фрица везет, а не меня. Решил я притвориться глухонемым, замычал, замахал руками и влез в повозку. Фриц мне грозит: слезай, мол, рус, не то убью. А старик, который конем правил, посмотрел на меня внимательно и говорит фрицу: «Пускай себе сидит, не видишь, что ли, глухонемой. Чем он тебе помешал?»
— А по-каковски старик говорил? — насмешливо спросил Титов.
— Наполовину по-русски, наполовину по-немецки.
— Так, значит, ты только наполовину понимал?
— Нет, зачем, все. А если и не понимал, то догадывался.
— Ишь ты, какой понятливый оказался.
— Эх, Титов, Титов, ты всегда недооценивал меня. А у меня природная смекалка! Да, на чем это я остановился? Значит, фриц этот перегнулся ко мне, цап меня за ухо — и давай орать. Испугался я, что этот гад меня и взаправду оглушит, — как мне тогда с Алешей-то беседу вести? Вижу, не перестает фриц орать мне в ухо, собрался я с силами, схватил его за горло и давай орать еще громче. «Ах ты, мерзавец, кричу, ты что думаешь, у меня голоса не хватит тебя перекричать?!» Вырвал у него из рук автомат, дал ему по башке, тут он и дух испустил.
— Григорий, побойся бога: зачем было фрицу одному по дорогам разъезжать?
— А ты думаешь, они больно умные? Угробил я этого фрица, а старик на меня обижается. «Ты что ж это, говорит, беду на меня накликал, ведь теперь меня и мою семью загубят фашисты!» А я ему: «Зачем фрица в свою повозку усадил да с ним раскатывал? Вот учись, как нужно расправляться с врагом». А потом передал я ему автомат фрица и говорю: «А вот тебе и оружие, иди в лес, станешь партизаном, я за тебя тогда словечко замолвлю».
— Если хоть половина того, о чем ты мне тут рассказывал, правдой окажется, — недоверчиво проговорил Титов, — тогда можно считать, что ты свою вину немного загладил.
— Эх, Коленька, не вспоминай лучше…
Поленов рассказал еще несколько своих приключений и добавил:
— А все-таки наш комиссар парень подходящий!
— А вспомни, что ты о нем говорил: молокосос, мол, и черт знает что еще…
Поленов пытался отшутится.
— Это ты меня просто не так понял. Насочинил чего-то… А я хотел вот что сказать: комиссар наш правильный человек, умеет людей с одного взгляда узнавать, ценить их по достоинству.
Хотя Титов в душе еще не простил Поленова, но ответ Григория пришелся ему по душе. Он подхватил Поленова под руку и повел его по петляющей в лесу неровной тропинке.
Глава девятая
НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
В один из сентябрьских вечеров полупустынными улицами Краснополья проходил, сутулясь под дождем, мужчина в потрепанной одежде. Электростанция была взорвана перед самой эвакуацией, и с наступлением вечера городок погружался в темноту. Лишь кое-где чадили развалины подожженных зданий. Если б не фашистские патрули, городок казался бы вымершим, тем более что в эту пору хождение по улицам разрешалось только по специальным пропускам.
Одинокий прохожий оглядывался по сторонам, пытаясь по памяти определить, где находилось прежде то или иное учреждение. Развалины домов мешали ему ориентироваться. Он заметно избегал встреч с людьми и, заслышав голоса, сворачивал в сторону или прятался в тени ближайших развалин. Наконец он свернул на одну из поперечных улиц. Глаза его уже свыклись с полумраком. Оглядев всю улицу вдоль и поперек, он зашагал быстрее.
За ним издали осторожно следовал другой мужчина, тоже в поношенной одежде, стараясь не терять из виду фигуру идущего впереди.
Вскоре первый незнакомец остановился перед низеньким домиком и, оглядевшись, трижды стукнул пальцем в тусклое оконце. Никто не отозвался. Незнакомец еще раз негромко постучал. За окном зашелестело, кто-то изнутри осторожно приотворил форточку, и женский голос едва слышно спросил:
— Кто там?
— Свои, откройте дверь скорее…
— Я никого не могу впустить, поздно уже…
— На минутку. Я вас не задержу.
Женщина что-то жалобно и недовольно прошептала. Форточка закрылась. Через минуту медленно приоткрылась дверь. Впустив незнакомца в комнату, женщина зажгла свечку и внимательно оглядела пришельца, который остался стоять в первой половине комнатки, разделенной надвое занавесью.
Женщина стояла неподвижно, тяжело дыша, и не сводила с незнакомца застывшего взгляда. И вдруг словно осветилась затуманенная душа: щеки женщины покрылись румянцем, она широко раскрыла глаза и, взмахнув руками, кинулась на шею незнакомцу, с плачем повторяя:
— Асканаз Аракелович… родной мой!
— Оксана Мартыновна, ну, успокойтесь, прошу вас, присядьте…
— Какое счастье видеть около себя родного человека! Ах, Асканаз Аракелович, почему свалилась нам на голову такая беда?!
И Оксана снова горько зарыдала. Наконец она успокоилась, позволила усадить себя на стул. Не в ее привычках было задавать вопросы, — она лишь не сводила внимательных глаз с лица Асканаза. Чуть загрубевшим выглядело это знакомое лицо. Но приветливое выражение и улыбка были все те же. Взгляд Оксаны упал на Асканаза, и ее поразила его поношенная одежда. И вдруг Оксана словно очнулась: почему Асканаз одет так странно, почему он здесь, в Краснополье, когда советские войска отступили? Неужели?.. И Оксана на мгновение пожалела, что дала волю своим чувствам.
Этим утром батальон добрался до Краснополья. Предположение Долинина оправдалось: его разведчик был перехвачен во время встречи с одним из местных подпольщиков. Остужко, издали следовавший за разведчиком, сумел вовремя ускользнуть от полицаев. Долинин был сильно удручен этим провалом: правда, оба схваченных — и разведчик и подпольщик — были люди верные, он знал, что они скорее умрут, чем проговорятся.
Нужно было переждать два-три дня, а то и больше, пока восстановится связь с подпольем. А без этой связи невозможно было раздобыть продовольствие и, в особенности, припрятанные подпольщиками боеприпасы. Невозможно было без этого и провести батальон через оккупированные места.
А спешить с продвижением было необходимо: опоздай батальон с прорывом через фашистское кольцо — кто знает, удастся ли соединиться с дивизией! По этому поводу между Шеповаловым, Асканазом и Долининым много было споров. Наконец Асканазу удалось убедить товарищей в том, что ему следует вместе с Остужко переодетым пробраться в Краснополье, чтобы попытаться хотя бы через Оксану восстановить прерванную связь с местными подпольщиками. Остужко через бывших соседей Оксаны удалось узнать, куда она перешла после того, как ее дом был разбомблен. Остужко и был тем вторым прохожим, который издали следовал за Асканазом. После того как Асканаз вошел в домик Оксаны, Остужко остался сторожить на улице — на случай всяких неожиданностей.
Конечно, Асканаз не мог все это объяснить Оксане. Поняв ее безмолвный вопрос, он с улыбкой сказал:
— Всякое в жизни бывает, Оксана Мартыновна.
— Вас постигла неудача, да?
— Да, и мы надеемся, Оксана, что ты поможешь нам выйти из тяжелого положения.
— Я? — удивленно переспросила Оксана.
— Скорее даже не ты, а Алла Мартыновна. Ты только должна посоветовать нам, как связаться с нею.
Они говорили шепотом.
Алла Мартыновна лишь недавно присылала к сестре своего связного, сказавшего Оксане условленный пароль. Оксана поняла, что Асканазу этот пароль неизвестен, его привело сюда прежнее знакомство. Оксана твердо запомнила наказ Аллы — никому не верить, никому не говорить о том, что она поддерживает связь с сестрой. Какой же ответ дать Асканазу? И Оксана сказала точно таким тоном, каким ребенок отвечает затверженный урок:
— С Аллой? Что вы! Откуда я могу знать, как связаться с нею?..
Видимо, Оксана сомневается в нем. Это, конечно, ужасно! Какой же выход? Капли пота выступили у него на лбу.
Оксана, конечно, поняла, какое впечатление произвели на Асканаза ее слова. Нервы ее не выдержали, из глаз брызнули слезы.
— Мма-ма… — послышался испуганный возглас.
Закрыв лицо руками, Оксана плакала, не в силах сдержаться.
Из-за складок занавеси по очереди высунулись головы Миколы и Аллочки. В первую минуту Микола неприязненно посмотрел на незнакомца и заслонил мать, как бы готовясь защитить ее. Вслед за ним выбежала Аллочка, босыми ножками протопала по полу и вскарабкалась на колени к матери. Оксана тотчас же взяла себя в руки. Осушив глаза, она обняла девочку и, показывая на Асканаза, сказала:
— Помнишь дядю Асканаза, Аллочка? Микола, ты не вспомнил дядю?
Приветливый тон матери успокоил детей. Но Микола наклонился к уху матери и, прикрывая рукой рот, с любопытством спросил:
— А теперь кто он такой?
Откуда знала Оксана, кто он такой теперь? Однако она решила успокоить детей.
— Он хороший, — также шепотом сказала она сыну.
Теперь Микола уже более доверчиво взглянул на Асканаза.
Взяв Аллочку на руки, Асканаз поцеловал ее и, приглаживая кудри, сказал:
— Знаешь, я до сих пор помню, как ты хорошо декламировала в тот день. Научил тебя Микола новому стихотворению?
До этого Аллочка молча смотрела ему в лицо испытующим взглядом. Но теперь ее лицо прояснилось, она улыбнулась и, выскальзывая из рук Асканаза, проговорила:
— Дда, ввыуччила… Я-я жже арртиссткой ддолжжна ббыть…
Микола грустно взглянул на сестренку, затем с покровительственным видом обнял ее за плечи и уверенно сказал:
— И будешь!
Его маленькие руки невольно сжались в кулаки. Асканаз не задал ни одного вопроса: он догадался о том, что случилось с Аллочкой. Заметив, что Оксану расстроили слова девочки, он также уверенно подтвердил:
— Скоро вот вышвырнем фашистов, Аллочка будет учиться и станет настоящей артисткой!
Слова его произвели на Аллочку большое впечатление. Она потянулась к Асканазу и, когда он снова взял ее на руки, со вздохом опустила голову на его плечо. Девочка чувствовала потребность в защитнике и, по-видимому, ей показалось, что в лице Асканаза она нашла человека, который может защитить и ее и ее близких.
Нет ничего более убедительного для любящей матеря, чем доверие ее ребенка к человеку постороннему: этот человек становится близким и для нее. А ведь Асканаз не был чужим для семьи Оксаны… Аллочке нравится Асканаз… Оксана с радостью следила за тем, как доверчиво льнут к Асканазу и Аллочка и даже сдержанный по натуре Микола. Затем она с трудом убедила детей лечь в постель, запретив вскакивать, а сама тихо сказала Асканазу:
— Вы видите, что стало с моей Аллочкой!.. И она думает, что сможет стать артисткой… Ах, гады!
— Не отнимайте же этой веры у ребенка ни в коем случае! — твердо сказал Асканаз, ни о чем не спрашивая.
Но Оксане не терпелось облегчить сердце.
— Чем больше я смотрю на Аллочку, слышу, как она заикается, и вспоминаю, как чисто и ясно она говорила, тем сильнее болит у меня душа! Во мне прямо кипит ненависть к этим гадам!..
Оксана умолкла. Глаза ее сверкали гневом, лицо вспыхнуло румянцем. Взяв Асканаза за руку, она подробно рассказала ему все события той злополучной ночи. Заканчивая свой рассказ, она со вздохом произнесла, мешая «ты» и «вы»:
— И вот свершилось ужасное — Аллочка начала заикаться… Вы и сами слышали!.. Кто же возместит моему бедному ребенку эту страшную потерю? Скажи, дорогой Асканаз, утешь меня… Неужели Аллочка должна до конца жизни остаться заикой?.. Какая горькая насмешка!.. Она же так хотела стать артисткой, и вдруг…
Оксана, поникнув, глотала слезы. Асканаз погладил ее руку и успокаивающе сказал:
— Она испугалась, это нервное потрясение. Наша медицина, конечно, найдет способ…
— Ах, Асканаз Аракелович, я уже отчаиваюсь… Хоть бы поскорей избавились мы от этого кошмара!
— Не надо отчаиваться, Оксана, — остановил ее Асканаз.
— Ну как не отчаиваться? Вот я слышала столько хорошего о вас… А теперь вижу в тылу и в таком виде… Не знаю, что и думать.
Помолчав немного, Оксана заговорила снова:
— Ведь я была такой беспечной… ничего не понимала, не интересовалась политикой! А как ревновала Павло!.. А теперь я должна жить в разлуке с родными, сочинять небылицы о собственном муже! Он был такой хороший! А ведь пришлось сжечь все его письма! И знаешь, он не только пригоден к военной службе, но и работает в армии инженером. А мне велено говорить, что он непригоден к военной службе. Ах, как хорошо, дорогой Асканаз, что ты здесь! Ведь сколько времени я не смею никому открыть сердце! Говори же, рассказывай, я хочу слышать твой голос! Объясни мне, долго ли все это будет продолжаться, долго ли придется видеть эти отвратительные рожи? Каждый день приносит новое несчастье! Что сейчас делается с моей бедненькой Марфушей и что от меня хочет этот Василий Власович? Ох, боюсь я, что угонят нашу Марфушу в Германию…
— А кто такой этот Василий Власович?
Оксана рассказала о посещении Василия Власовича и описала его внешность.
— Ты говоришь, среднего роста, худощавый, часто мигает… — Асканаз словно хотел что-то припомнить. — Аллой он интересовался?
— Интересовался, говорил так заботливо… А после того как он пообещал помочь Марфуше, я чуть было не открыла ему сердце!
— Нет, нет, Оксана! — нахмурился Асканаз. — Что можно ожидать от человека, поступившего на службу к фашистам? А расспросы этого человека вызывают у меня глубокое подозрение.
— Вот эти-то подозрения и убивают меня! Я еще не научилась узнавать людей, все время помнить о том, что нельзя со всеми говорить начистоту, говорить то, что есть на самом деле! Алла недаром смеялась надо мной: «Что у тебя на сердце, то и на языке». А каково наше положение теперь? На каждом шагу тайны, секреты, приходится обдумывать каждое слово… А я совершенно не привыкла к этому, дорогой мой!
— Тогда, когда царит насилие, тайны создаются сами собой. Ты должна серьезно обдумывать каждый свой шаг, дорогая Оксана, и поступать только так, чтобы это было на пользу общему делу.
— Вот и Алла это говорила. А я ничего не умею делать! Мой Павло иногда шутил, что я, кроме крепдешинов и фасонов туфель, ни о чем не умею говорить. А теперь все иначе: Оксана, храни тайну, Оксана, говори с одним так, а с другим этак! Совсем у меня голова закружилась!
— От людей близких не стоит и нельзя хранить тайны. Ну, а эти, — Асканаз с отвращением махнул рукой, — это же не люди… Дорогая Оксана, вся наша страна ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. И здесь, в тылу, у нас есть тысячи таких бесстрашных советских людей, как Алла Мартыновна…
Оксана вздрогнула, у нее невольно вырвалось:
— Откуда ты знаешь, что Алла…
— Она писала об этом в одном из писем Денисову…
Лицо Оксаны просветлело. Теперь для нее все стало ясно. Она поняла теперь, что ей незачем скрываться от Асканаза.
— Единственное мое утешение — это Алла, я понимаю, что надо брать с нее пример… За это время я видела ее всего один раз и то ночью. А когда я вижу ее или только слышу о ней, я чувствую какую-то уверенность, верю, что фашисты не могут долго продержаться, что будем мы жить по-прежнему! Вот и сейчас ты здесь, поэтому я воспрянула духом. Спасибо тебе за это, дорогой! Но ведь ты должен уйти… И снова одиночество, та же тревога, та же неопределенность…
— Дорогая Оксана, твердо помни только одно: все это временно, и наберись мужества. Будь осторожна, никакого доверия ни фашистам, ни людям, которые служат у них!
— Еще раз спасибо тебе, Асканаз, хоть немного отлегло от сердца. Я все силы приложу, чтобы помогать Алле. Пускай она только скажет, что я могу для нее сделать, я сделаю все, все… Ты сказал, что тебе необходимо встретиться с Аллой. Я завтра жду человека от нее. Да, непременно нужно сказать ему относительно Василия Власовича! Алла мне не открывает, где она находится, она поддерживает связь со мной через других людей… И это очень хорошо, я и сама не хочу знать многого. Ты тоже не говори мне, по какому делу хочешь встретиться с Аллой: говорить мне об этом не к чему…
Асканаз понимал, что Оксана жаждет выговориться. По-видимому, ей не часто приходилось встречаться с людьми.
— Но если не удастся вылечить Аллочку… Погоди, я слышу какой-то шум… Ой, я боюсь за тебя, Асканаз Аракелович!
Асканаз насторожился. Послышался негромкий стук в оконце. Асканаз повернулся к Оксане и спокойно сказал:
— Это сигналят мне. Итак, никому не рассказывай о нашей встрече.
Своим условным стуком Остужко давал знать Асканазу, что надо торопиться.
— Ты ждешь кого-нибудь ночью, Оксана? — спросил Асканаз.
— О, боже мой, кого же мне ждать? Я с ужасом думаю о том, что могут ворваться опять фашисты! Слышишь, кто-то царапается в дверь… быть может, Василий Власович?
— А ну, спроси, кто там?
Оксана колеблющимися шагами подошла к двери, прислушалась.
— Оксана, милая, открой… это я… — послышался тихий шепот из-за двери.
Лицо Оксаны выразило одновременно и радость и страх… Одной рукой она схватилась за Асканаза, словно для того, чтобы удержаться на ногах, а другой повернула ключ в замке.
В комнату проскользнула худенькая девушка в насквозь промокшей одежде. Она с плачем кинулась в объятия Оксаны. Лицо девушки было бледно, глаза ввалились. Но Асканаз все же узнал ее, и голос его дрогнул от жалости:
— Марфуша, ты?!
— Спасите меня, Асканаз Аракелович, — с плачем проговорила Марфуша. — Я с семью девушками сегодня бежала от н и х, — узнали мы, что утром хотят нас в Германию угнать. Может, уже ищут нас!.. Мне нельзя здесь долго оставаться, я и Оксану под беду подведу. Берегитесь и вы, как бы и вас не захватили! Ах, сколько нам пришлось вынести!.. — и Марфуша не могла сдержать рыданий.
Асканаз, оставив Марфушу у Оксаны, вышел на улицу. Тотчас от стены дома отделилась тень и подошла к нему. Это был Остужко.
— Скоро выйду. Тут с девушкой одной беда… — сказал ему Асканаз.
— Хотя документы у нас в порядке, но лучше поторопиться, товарищ комиссар.
— А если придется возвращаться втроем?
— Рискованно, товарищ комиссар. Пусть этот третий переждет где-нибудь до завтра.
Остужко не досказал своей мысли. Разведчик думал о том, что отвечает за безопасность комиссара и не имеет права подвергать риску его жизнь.
Молча кивнув ему, Асканаз вернулся в комнату. Оксана уговаривала Марфушу что-нибудь поесть. Но та не соглашалась, хотя и была голодна. Подойдя на цыпочках к детям, спавшим крепким сном, она осторожно поцеловала их, потом направилась к двери, но остановилась и снова жалобно заговорила:
— Бога ради, помогите мне, Асканаз Аракелович! Я не могу больше видеть этого Шульца, я не хочу ехать в Германию! Ведь вы же партизан, не правда ли? Так помогите мне! Оксана, проси и ты за меня…
— Значит, ты твердо решила бежать, Марфуша? — спросил он.
— Ой, не могу я оставаться у них! И Оксану не хочу подводить… Что же мне делать? Посоветуйте мне.
— Они обязательно кинутся искать тебя и остальных! — подтвердил Асканаз. — И для Оксаны нехорошо, если тебя застанут здесь. А ну, Оксана, подумаем, где можно до завтра спрятать Марфушу?
Оксана и Марфуша задумались. И вдруг Марфуша встрепенулась, на лице ее мелькнула улыбка.
— А что, если пойти к бабке Агриппине, Оксана?
— Ну что ж, и живет-то она недалеко. На этой же улице.
— Вот, вот! Она совсем одинокая. Вряд ли кто заподозрит семидесятилетнюю старушку.
— Правильно! — воскликнула Оксана. — Вчера только я заглядывала к ней. Она немного туга на ухо, а перед фашистами притворяется вовсе глухой. И знаешь, что она мне сказала? Говорит: «Когда спать ложусь, никогда двери не запираю: если тихонько постучатся, не услышу, а может, постучатся такие, которым не с руки будет громко стучать». Она о тебе спрашивала, и я все ей рассказала. Иди прямо к ней! А завтра… раз Асканаз Аракелович обещает, значит исполнит.
Марфуша испытующе взглянула на Асканаза и, словно прочитав подтверждение в его глазах, с облегчением сказала:
— Ну и хорошо. Я уж не стану задерживаться.
Она выбежала на улицу. Асканаз вышел вслед за ней и шепнул Остужко несколько слов; разведчик молча последовал за Марфушей.
— Тебе пора уходить, да? — спросила Оксана. — Бога ради, будь осторожней! А завтра приходи: Алла обязательно свяжется со мной, тем более после истории с Марфушей. Ей все становится известно, и она не оставит меня в беде…
— Приду непременно! — заверил Асканаз. — Зайду даже днем, если удастся.
— Да, но… Понимаешь, и хочется мне, очень хочется, чтобы ты пришел, и страшно. Ты понимаешь меня, не правда ли?.. А утром я выберу удобную минутку и зайду проведать Марфушу. Как будет хорошо, если вам удастся спасти ее! А вот мне нельзя с вами, я не могу бросить детей…
В голосе Оксаны опять зазвучали слезы, но она сделала усилие над собой.
— Ну, Оксана Мартыновна, пора нам распрощаться с тобой, — до завтра! Прошу тебя, будь осторожна, в особенности с этим Василием Власовичем!
— Но ведь ночью о н и запрещают выходить, как же ты?.. — вдруг с испугом спросила Оксана.
— Это все предусмотрено, — успокоил ее Асканаз, не вдаваясь в подробности.
Выйдя на улицу, Асканаз нашел Остужко в приподнятом настроении. Марфуша благополучно добралась до домика старой Агриппины. Несмотря на спешку, ловкий разведчик, очевидно, успел перемолвиться словцом с молодой беглянкой.
Глава десятая
АЛЛА МАРТЫНОВНА. ПОСЕТИТЕЛЬ ОКСАНЫ
Дождь то переставал идти, то снова начинал поливать улицы и дома. Лишь за полночь он наконец прекратился. С одной стороны, это было на руку Асканазу и Остужко — легче было избежать нежелательных встреч. Но зато липкая грязь мешала быстрой ходьбе. Асканаза искренне восхищала способность Остужко безошибочно ориентироваться в полной темноте. Молодой разведчик шел впереди, выбирая наиболее удобную дорогу и часто оглядываясь, чтобы сохранить одно и то же расстояние между собой и Асканазом. Шум дождя мешал ясно различать звуки, и это заставляло Остужко еще больше напрягать внимание.
Когда они уже вышли из Краснополья, Остужко с сожалением сказал:
— Если б знал, что никого не встретим, можно было взять с собой Марфушу…
— Бедная девушка намучилась, пусть хоть выспится сегодня. Как ты думаешь, безопасно ли ей оставаться у этой старухи?
— Думаю, что безопасно. Для этих бандитов ничего привлекательного в домике бабушки Агриппины нет.
— А для тебя, как видно, есть? — поддел его Асканаз.
Остужко усмехнулся. А у Асканаза настроение было скверное. «А ведь Оксана вначале не доверяла мне… — думал он. — Если и завтра не удастся наладить связь с Аллой Мартыновной, до каких пор ожидать?.. Нет, хватит ждать, мы уже почти у цели, теперь нельзя останавливаться! Но где же выход из положения?!»
Этот вопрос настойчиво возникал в голове, но ответа на него Асканаз не находил. Озабоченный своими мыслями, он даже не заметил, как добрался до землянки, где его нетерпеливо поджидал Шеповалов.
— Наконец-то!.. — с облегчением воскликнул комбат. — Я уж забеспокоился!..
Шеповалов сильно исхудал — давали знать себя лишения последних недель. Оспинки на его лице стали еще заметней.
Асканаз вкратце рассказал о своем посещении.
— Да-а… — протянул Шеповалов. Чувствовалось, что он не слишком доволен результатами разведки. — Так ты говоришь, она не поверила тебе сначала? Вот и молодец, правильно она поступила, твоя Оксана! Но ты не горюй, дело налаживается.
— То есть как?! — встрепенулся Асканаз.
— Ну, ты же знаешь Долинина… «Не могу, говорит, сидеть и ждать у моря погоды!» Послал в окрестные села новых разведчиков, да и в Краснополье направил несколько человек следом за тобой. И пока ты вел там переговоры с Оксаной, Алла Мартыновна вместе с Зотовым и нашими людьми совещались, как помочь батальону.
— Зотов? Это не…
— Он самый, наш разведчик-снайпер! Ему было дано задание связаться с нами! Денисову дали знать из армии, что, по данным отдела партизанского движения, мы вырвались из окружения и двигаемся в направлении Краснополья. Вот он и выслал людей нам навстречу.
— Вот это дело! Когда мы встретимся с Аллой Мартыновной?
— Завтра утром она будет у нас.
Рассказав о том, чем сейчас заняты Долинин и Зотов, Шеповалов задумчиво добавил:
— Ну, мы как-нибудь выберемся, да еще сумеем, надеюсь, потрепать фашистов… Но все это мало утешает меня, Асканаз Аракелович: положение, оказывается, много серьезнее, чем мы предполагали. Немцы опять продвинулись вперед да еще в нескольких направлениях… Говорят, идут бои под Киевом… Ленинград поставлен под угрозу!..
Долинина сильно встревожил провал разведчика. Встретившись с Аллой Мартыновной, он высказал ей свои опасения: арест партизана-разведчика и связного подпольщика может поставить под угрозу работу краснопольского подполья. Он успокоился лишь после того, как узнал, что кое-что уже предпринято: местом явки было назначено село, наполовину разрушенное бомбардировкой и почти безлюдное. Подпольщики остановили свой выбор на этом селе, так как оно сильнее всего пострадало от бомбежки, и в течение нескольких ночей вырыли подземный ход к уцелевшему колхозному амбару — обширной постройке с капитальными стенами. Снаружи она не вызывала никаких подозрений. Алла Мартыновна давно заприметила этот амбар и теперь устроила там Шеповалову временный КП. Часть бойцов батальона была размещена в ближайших селах, другая часть скрывалась в глубине приднепровского леса.
Под утро в амбаре собрались Долинин, Шеповалов, Асканаз и Остужко. Притаившись в развалинах, стояли на посту дозорные партизаны и бойцы. В амбаре, кроме сколоченной из полок длинной скамейки и простого стола, ничего не было. Колеблющийся огонек свечки бросал причудливые тени на затянутые паутиной стены.
Из подземного хода вышла Алла Мартыновна. Она была чем-то сильно озабочена. Из-под головного платка выбивались пряди заметно поседевших волос, зорко глядели проницательные глаза.
Остановившись перед Асканазом, Алла Мартыновна бросила взгляд на его вылинявшее обмундирование, всмотрелась в лицо и покачала головой:
— Так вот вы до чего дошли!..
— Алла Мартыновна, как я рад, что вижу вас… Честное слово, не считайте преувеличением, но у меня к вам родственное чувство. Ваше мужество восхищает меня.
— Не говори об этом… Что мы сделали?.. Вы отступаете, а мы, как кроты, зарылись в землю…
— Да, положение тяжелое. Вы негодуете справедливо, дорогая Алла Мартыновна. Но гнев — это тоже разящее оружие в руках бойца.
— А вы воюйте так, чтобы я вам всем сказала спасибо.
Асканаз опустил голову.
— Ну ладно, не вешай головы, комиссар… — Она подошла к Шеповалову и Долинину и коротко сообщила: — Хлеб получите сегодня.
— Вот за это спасибо! — обрадовался Шеповалов. — Уж простите, и без этого у вас дел хватает…
— А это как раз и составляет одно из наших дел.
— Как же мы получим хлеб?
— В пекарне Краснополья есть наши люди. Много не обещаю. Но шофер грузовика, доставляющий ежедневно хлеб немецким гарнизонам ближайших сел, сегодня получит больше нормы. Излишек он сбросит в условленном месте.
— А на грузовике не будет никого из немцев?
— Шофер сумел втереться к ним в доверие. Большей частью он ездит один.
— Прекрасно. Лучше обойтись без столкновения…
— Разумеется, — подхватила Алла Мартыновна. — Ну, а каково моральное состояние батальона? — повернулась она к Асканазу.
— Трудности закалили дух бойцов. Правда, были отдельные неприятные случаи…
Пока в амбаре собирались парторги и комсорги, командиры взводов и особо отличившиеся бойцы, Асканаз рассказал Алле Мартыновне о Мазнине, Поленове и Титове.
На Поленове была широкополая шляпа, скрывавшая повязку на голове. Титов волновался всю дорогу, хотя Поленов не переставал твердить ему: «Да что ты так изводишься? Виноват-то я, искупать вину надо мне, а не тебе. Я так все объясню, что никто и не подумает винить тебя». — «Пустяки ты болтаешь, Григорий, — сердился Титов, — словно я за шкуру свою боюсь… Но куда это годится, что в таких условиях люди должны заниматься нашим вопросом?!»
Поленов с Титовым ждали за дверями амбара. В нескольких словах Шеповалов объяснил план предстоящих действий. Участники сбора оживленно зашептались, когда Шеповалов сообщил, что Денисову известно о пройденном батальоном боевом пути, что он благодарит бойцов за совместные действия с партизанами и за уничтожение фашистской группировки.
В заключение Шеповалов сказал:
— Благодарность командира дивизии передайте бойцам. С каждым из бойцов поговорите отдельно и разъясните новое задание.
Асканаз приказал ввести Поленова и Титова.
Рассказав об истории с Мазниным, Асканаз заключил:
— Как видите, Поленов довел свою скрытность до преступного обмана. Даже в последнюю минуту перед уходом в разведку он ни словом не обмолвился о преступных замыслах Мазнина. А Титов проявил легковерие. Каждый из нас должен знать, чем дышит его товарищ, а наше командование должно быть всегда в курсе всех событий нашей боевой жизни. Если мы будем хорошо знать друг друга, — враг нам уже не страшен…
Алла Мартыновна, внимательно выслушав сообщение Асканаза и объяснения Поленова и Титова, попросила слова. Взгляды всех присутствующих обратились к ней.
— Дети мои, — медленно заговорила она, — с военной жизнью я давно знакома. Настоящий военный коллектив — это дружная семья. Представьте себе такую вещь: ребенок занозил себе руку, но скрывает это от матери, боясь, что ему будет больно, если начнут извлекать занозу. Через несколько дней рана начинает гноиться. Наконец мать замечает распухшую руку и видит, что она требует серьезного лечения. А ведь скажи ребенок о своей ране сразу же, не было бы никаких осложнений. Так и в военной жизни: если происходит что-либо, нарушающее установленный порядок, об этом должны своевременно узнавать командир и комиссар. Если же запустить хотя бы незначительную рану, она может загноиться. Вот вам мой материнский наказ: будьте отважны и помните, что за вашими подвигами с волнением следят ваши близкие. Желаю успеха, родные мои!..
В словах Аллы Мартыновны была такая сила, что к сказанному ею нечего было прибавить. Все время, пока она говорила, Поленов не сводил с нее глаз. Правда ее слов взволновала его: «Сердце ты мне растопила, голубушка Алла», — подумал он.
Шеповалов отдал командирам приказ готовиться к выступлению, как только стемнеет.
К Асканазу подошел Остужко.
— Товарищ комиссар, а ведь мы обещали Марфуше, что возьмем ее с собой.
Асканаз задумался. Затем, решившись, он подошел к Алле Мартыновне и рассказал ей о своем вчерашнем посещении.
— Значит, и сегодня пойдешь к Оксане? — улыбнулась Алла Мартыновна.
— Не могу не пойти, Алла Мартыновна. Оксана решит, что я испугался или же начнет представлять всякие ужасы.
— Нет, она не посчитает осторожность за страх, настолько-то она разбирается… Но вот за Марфушей, конечно, надо пойти! — Алла Мартыновна немного подумала и добавила: — Ну ладно, идите. В другой день не разрешила бы. Но сегодня очищают улицы, мобилизовано все население. В нескольких кварталах работой руководят наши люди. Вот вы и сойдете за местных жителей.
Узнав, что Асканаз собирается снова пойти в Краснополье, Шеповалов окинул его взглядом, в котором читалась тревога о боевом товарище.
— Если ты считаешь необходимым и Алла Мартыновна не возражает, что ж, иди! — И Шеповалов значительно добавил: — Помни, что ты очень пригодишься во время предстоящей операции!
— Да, бессмысленную гибель можно приравнять к измене, — пояснил его мысль Асканаз.
Алла Мартыновна передала Остужко три чистых бланка с печатями немецкой комендатуры Краснополья, и Остужко изготовил из них три фальшивых пропуска с вымышленными именами для себя, Асканаза и Марфуши; для Марфуши — на имя мальчика-подростка.
Когда Асканаз зашел к Шеповалову перед уходом, комбат крепко пожал ему руку:
— Внуши Оксане, чтобы верила в нашу победу!
Дождь прошел, оставив после себя бесчисленные лужи. Группы пожилых женщин и мужчин с лопатами в руках расчищали тротуары и разгребали жидкую грязь. В числе работавших были Асканаз и Остужко, внешне ничем не отличавшиеся от жителей Краснополья. Однако из предосторожности они избегали вступать в разговоры и держались врозь. Незаметно для окружающих они добрались до домика, где жила Оксана. Убедившись, что кругом спокойно, Асканаз вошел в домик, а Остужко направился к бабушке Агриппине.
Оксана встретила Асканаза с нескрываемой радостью. Схватив за руку, она провела его в комнату.
— Ночью, при свете, я не смогла хорошенько разглядеть тебя, Асканаз Аракелович. Как ты изменился!.. Почернел, глаза ввалились. Ну, садись, садись… Миколу послала к соседям, — продолжала она, — там часто собираются дети. Я заставляю Миколу ходить туда — пусть развлекается. А Аллочка там…
Оксана указала на дверь, которая вела в чулан, служивший кухонькой. Оттуда был выход во двор.
Асканаз приоткрыл дверь. Сидя на скамейке, Аллочка заплетала волосы кукле. Асканаз приласкал девочку и дал ей плитку шоколада, совсем размякшую оттого, что он носил ее в кармане. Он не решился заговорить с ребенком, зная, как больно Оксане слышать заикание девочки.
Когда они вернулись в комнату, Оксана, понизив голос, таинственно сообщила:
— Я хочу порадовать тебя: час тому назад встретилась со связным Аллы в хлебной очереди. Это семидесятилетний старик, он занимается починкой обуви. Ты пойдешь к нему и возьмешь с собой вот эти старые башмаки… Остальное он знает..
Асканаз улыбнулся.
— Дорогая Оксана, я очень тронут… Благодарю тебя, но я уже видел Аллу…
— Ты видел Аллу?! — радостно воскликнула Оксана. — Говорил с нею, рассказывал ей про меня?
— Видел и рассказал. Да и пришел сюда с ее разрешения.
— Ой, как хорошо, что ты пришел! Ты знаешь, я всю ночь мучилась, думала о том, хорошо ли поступила, что просила прийти: а вдруг это принесет вред, а вдруг спасение Марфуши помешает вам?..
— Спасение Марфуши входит в нашу задачу! Каждый честный человек нужен родине, так что не волнуйся.
— Эх, я живу только воспоминаниями. Как хороша была та ночь, когда мы вместе любовались восходом солнца!.. Помнишь? Когда же вернутся прежние счастливые дни, когда?
Асканаз читал на лице Оксаны терзавшие ее мысли.
— Тогда мы были свободны и счастливы, — мягко сказал он. — А сейчас нужно действовать, чтобы вернуть эти дни.
— Ах, как хорошо было бы, Асканаз, если б ты всегда был с нами! Но нет, какие я глупости говорю… Да, я хотела спросить: может ли случиться, чтобы ты встретился с моим Павло? Если встретишь его, ради бога, не проговорись ему о болезни Аллочки! Он такой впечатлительный!
— Может быть, тебе удастся увидеть его даже раньше, чем мне, Оксана. Не вечно же будут сидеть в Краснополье фашисты.
— Если б скорей!.. Но ты спешишь, Асканаз? Погоди, выпей хотя бы стакан чаю.
— Ничего не надо, Оксана. Сейчас придет Остужко.
Глаза Оксаны наполнились слезами.
— Хотя бы с Аллой ничего не случилось. Ведь она совсем не бережет себя…
В дверь постучали.
— Скорей иди в чулан, к Аллочке, я узнаю, кто стучится… — шепнула Оксана.
Асканаз скользнул в чулан.
Оксана открыла входную дверь и отступила в смущении. В комнату вошел Василий Власович. Он протянул Оксане холодную руку и всмотрелся в ее лицо, залитое слезами.
— Что случилось? — быстро спросил он.
— Аллочка у меня прихворнула. Только что уложила ее в постель.
Весь разговор ясно доносился до Асканаза. Он шепнул Аллочке, чтоб она легла на скамейку и закрыла глаза, потому что так хочет мама.
Девочка покорно позволила укрыть себя тоненьким одеяльцем, лежавшим на скамейке.
— Ну, ну, у такой заботливой матери, как вы, ребенок долго болеть не будет, — приветливо отозвался Василий Власович. — Я уж там поговорил, с кем следует, чтобы вас ни на какую работу не вызывали. Хватит с вас забот о детях! Вот только молодежь плохо себя ведет: вчера ночью сбежали восемь девушек. Ну, куда они могли сбежать, интересно знать? Двоих уже поймали. Представьте себе, и Марфуша тоже сбежала… — При последних словах он испытующим взглядом окинул Оксану.
Сердце у Оксаны екнуло, но она не подала виду.
— Такие уж времена настали, что каждый только о себе думает. Никто не может отвечать за другого, — ответила она, сама удивляясь своей выдержке.
— Это, конечно, правильно. А все-таки нехорошо она поступила, неправильно! Но оставим это. А ведь я пришел к вам с радостной вестью…
В лице Оксаны не дрогнул ни один мускул.
— Что вы, какая для меня может быть радость? Девочка у меня заболела, я сама не своя…
— Ну, это временно, пройдет… — Тут Василий Власович осторожно огляделся: — Вы никого не ждете?
— Да кому я нужна?… Нет, я никого не жду.
— Вот и хорошо… — и Василий Власович осторожно вытащил из внутреннего кармана конверт, вскрыл его, извлек из него другой, меньшего размера, и, протягивая Оксане, сказал шепотом: — Вот тут письмо от Денисова, нужно его передать Алле Мартыновне. Мое-то положение щекотливое, сами знаете. А вы, как советская патриотка, обязаны помочь нам связаться с партизанами. Это письмо вы должны лично передать Алле Мартыновне и никому, слышите, никому, даже самому близкому человеку не говорить об этом!
Асканаз тревожно прислушивался. Голос Василия Власовича все больше казался ему знакомым. Где он его слышал? И при каких обстоятельствах? Но сейчас даже это было не так важно, как то — сумеет ли Оксана сохранить выдержку, дать должный ответ? Разгадает ли Оксана, что ее хотят спровоцировать? Сохранит ли выдержку? Ведь это так соблазнительно: обрадовать сестру письмом Денисова, оказать помощь партизанам! Асканаз затаил дыхание.
— Я вам и в прошлый раз говорила, Василий Власович, у меня нет никаких сведений о сестре, — послышался мягкий голос Оксаны. — Тем более не представляю себе, как можно передать ей письмо. Возьмите его, пожалуйста. Что же касается партизан, то мне ничего о них не известно, и никакой помощи я им, конечно, оказать не могу. Я сама нуждаюсь в помощи, где уж мне помогать другим? Вы человек бывалый, Василий Власович, подыщите более подходящих людей. Спасибо вам за то, что заходите ко мне, хотите меня утешить. Только прошу меня ни во что не вмешивать, у меня своих забот достаточно.
И Оксана положила письмо на стол перед Василием Власовичем.
— Так, так… — скрывая раздражение, произнес Василий Власович. — Нехорошо такой толковой, культурной женщине, как вы, открещиваться от помощи патриотам, к тому же для вас это никакой опасности не представляет. А письмо пускай все же останется у вас…
— Нет, Денисов никогда не пересылал писем жене через меня! Я так редко встречалась с сестрой и с зятем, что как-то чуждаюсь их. К тому же Алла постоянно разъезжала с мужем и редко писала мне. Так что вы совершенно напрасно предполагаете, будто я знаю, где она находится сейчас.
— Но ведь перед самым объявлением войны вы приезжали к сестре в гости?
— Вы правы, именно в гости! И на короткое время.
Василий Власович понимал, что потерпел неудачу. Он помолчал и позволил Оксане сунуть письмо ему обратно в руки.
— Так вы говорите, прихворнула у вас девочка? — сказал он после недолгого молчания и шагнул к двери, ведущей в чулан. — А я тут для нее сластей принес.
Оксана вскочила с места; она почувствовала, что вот-вот потеряет самообладание. Не пустить Василия Власовича к Аллочке значило вызвать у него подозрения. Поэтому она ограничилась тем, что громко сказала:
— Ради бога, Василий Власович, не будите ее: девочка всю ночь не спала, только что удалось ее усыпить. Спасибо вам за внимание. Я сама передам ей сласти и скажу, что вы ей принесли.
— Нет, нет, я тихонько положу ей под подушку… Пусть увидит, когда проснется, порадуется крошка… — Василий Власович тихонько открыл дверь в чулан.
В лице Оксаны не было ни кровинки, ноги у нее подкашивалась, сердце колотилось так сильно, что она боялась, не услышал бы Василий Власович. Она тоже вошла в чулан — и не поверила своим глазам. Асканаза в чулане не было. Аллочка лежала на скамейке с закрытыми глазами — или действительно спала, или притворялась спящей.
Василий Власович быстрым взглядом окинул кухню, осторожно положил пакет со сластями под подушку Аллочки и на цыпочках вернулся обратно. Вид у него был какой-то смущенный.
Снова усевшись, он стал говорить о том, что, лишенный семейного счастья, находит утешение лишь в заботе о чужих детях. Придвинувшись к Оксане, он взял ее руку и стал поглаживать. По телу Оксаны пробежала дрожь отвращения; едва сдержав желание оттолкнуть его, она высвободила руку.
Дверь с шумом открылась, и в комнату вошел Асканаз с лопатой в руках. С трудом скрывая испуг, Оксана вопросительно взглянула на него.
Асканаз окинул внимательным взглядом Василия Власовича, шагнул ближе к Оксане и резко сказал:
— А вы, мадам, почему не изволили почистить грязь хотя бы вокруг своего дома? Выходит, другие обязаны за вас работать? А ну, быстрее, приступайте к делу!
— Что вы хотите от бедной женщины? — вступился Василий Власович. — У нее же болен ребенок! Вы мужчина, неужели трудно немножко поработать вместо женщины, обремененной детьми?
— Если бы у лентяев не было таких адвокатов, как вы, дело пошло бы лучше. А ну, берите лопату, мадам, и сейчас же выходите!
— Пожалуйста, не заступайтесь за меня, Василий Власович! — просящим тоном заговорила Оксана. — Придется пойти, а то скажут, что я не выполняю распоряжений…
Оксана взяла лопату и обратилась к Асканазу:
— Сейчас сын придет, выйду вместе с ним, похищу!
— Ишь, выискала предлог! Погодите, еще научат вас работать по-настоящему! — насмешливо отозвался Асканаз.
Воспользовавшись тем, что Василий Власович сочувственно смотрел на нее, Оксана повторила свою просьбу. Асканаз направился к двери со словами:
— Ладно, я зайду еще раз после того, как вы тут расчистите грязь!
Оксана почуяла в последних словах Асканаза иносказательный смысл. Поняла она и то, что ей поручается задержать Василия Власовича подольше у себя. Состроив гримасу, она с жалобной улыбкой обратилась к человеку, который был ей так ненавистен:
— Вот подумали бы вы, Василий Власович, о том, чтобы избавить нас от таких отвратительных грубиянов!
А тот еще не разобрался в происшедшем. Испытующим взглядом окинув Оксану, он поспешил войти в свою привычную роль:
— С такими людьми могут расправляться партизаны. А вот вы ничем не хотите помочь нам…
— Вы опять об этом? Ну что за пользу может принести такая беспомощная женщина, как я?
Василий Власович был сильно раздосадован: он надеялся найти в чулане Марфушу. Оксана как будто действительно ничего не знала, ни во что не хотела вмешиваться… Но тогда кто же был этот незнакомец? Если он действительно сотрудничал с немцами, то почему Василий Власович не знает его?
Василий Власович снова взял Оксану за руку. Бедной Оксане показалось, что к ней прикоснулась холодная скользкая лягушка.
— Если этот тип еще раз явится к вам, непременно постарайтесь узнать, как его зовут и где он живет. Вы обещаете мне это? — настойчиво спросил он.
— Так он же сказал, что придет, когда грязь расчистят. Я разузнаю все и непременно вам расскажу.
Глава одиннадцатая
ЗАВЕТНЫЙ МИГ
Асканаз свободно вздохнул лишь тогда, когда вместе с Остужко и Марфушей добрался до амбара. Шеповалов с Долининым и Аллой Мартыновной обсуждали время выступления и маршрут похода.
— А-а, Марфуша, добро пожаловать, доченька! — воскликнула Алла Мартыновна, увидев девушку. — Дайка обниму тебя. Хорошо сделала, что убежала.
Затем Алла вопросительно взглянула на Асканаза.
— Все в порядке, Алла Мартыновна. Только надо предупредить сапожника, чтобы не ждал заказчика.
Алла Мартыновна кивнула головой и обратилась к Марфуше:
— А ну, рассказывай!
— Ах, тетенька, ведь целых пять дней… — сбивчиво начала Марфуша, — нас заставляли подавать обед офицерам… Работа, конечно, не тяжелая, да только трудно себя пересиливать, обслуживать ненавистных людей. Потом вызывает меня этот комендант Шульц к себе и говорит: «С сегодняшнего дня будешь только мне одному прислуживать!» И сам улыбается. До чего же противно! И спрашивает, согласна ли я. А я ему говорю: «Раз приказано, надо выполнять». Вот он мне показывает, и дает понять, что нужно комнату в чистоте содержать, постель прибирать. Я головой киваю: ладно, мол, понимаю (этот Шульц немного по-русски знает). А потом подходит ко мне, — ну, сами знаете, с нехорошими мыслями подходит… Голова у меня закружилась. Думаю — кричать, никто на помощь не придет! А если и придет, будет Шульцу помогать, а не мне… А он что-то приговаривает, целоваться лезет, к себе тянет… Я отбиваться стала, а он рассердился и выгнал меня. Обрадовалась я, побежала в столовую. Думала, этим все и кончится. Так нет, на другой день приказывают Шульцу обед отнести. Отнесла я, а он из шкафа какую-то бутылку достал, налил в рюмки вино, предлагает мне с ним пообедать. Я, конечно, отказываюсь, а он мне рюмку с наливкой сует: «Выпей этот рюмка, говорит, это для девочка очень хорошо…» Боже ты мой, я и в жизни-то не пила, стану я с таким вот пить! Оттолкнула я руку, он рюмку выронил, и рюмка разбилась. А я растерялась, стою… Рассердился Шульц, покраснел, показывает на осколки, приказывает мне подобрать. Нагнулась я, а он как кинется на меня… Не вытерпела я, тетенька, укусила его за руку. Обозлился он, вытолкал меня из комнаты. Побежала я к девушкам, — мы жили там при столовой, — плачу, успокоиться не могу. А у других не лучше, у каждой свое горе…
По выражению лица Аллы Мартыновны Марфуша поняла, что она слишком разболталась. Она заспешила:
— А вечером подошел ко мне какой-то человек, назвал себя Василием Власовичем, утешать начал: ничего, мол, поговорю с герром Шульцем, чтобы простил тебя… А я думаю: за какую вину меня прощать? Но ему ничего не сказала. А он шепчет: «Выпрошу для тебя разрешение, чтобы ты к Оксане пошла: нужно письмо Алле Мартыновне отнести». Тут я прикусила язык… Кое-как отделалась от него. А на другой день узнали мы, что всех наших парней и девушек хотят угнать в Германию. Никто из нас и глаз не сомкнул! На наше счастье ночка выпала дождливая. Одна девушка, Римма, давай любезничать со сторожем, а мы тем временем убежали. Как же с Риммой-то будет?! Ведь она, тетенька, может попасть в беду… Ну, разбежались мы в разные стороны. Я, конечно, сразу к Оксане. Повезло мне: встретила Асканаза Аракеловича и Остужко. Тетенька, я пригожусь в батальоне, буду санитаркой, мне Остужко сказал…
— Ну, молодец, и впредь не теряйся! Когда увидишь Андрея Федоровича, поцелуй его за меня.
Вместе с Шеповаловым Асканаз еще раз проверил намечаемый маршрут батальона. Хлеб был уже доставлен. Подразделения батальона ждали только сигнала.
Шеповалов, которому Асканаз рассказал про Марфушу, подозвал ее. Марфуша, переодетая парнем, подошла и вытянулась перед комбатом.
— Ну, девушка, — улыбаясь, сказал Шеповалов, — не забывай о том, что с этого дня ты уже боец. А ну, как надо приветствовать старшего? Вот, так, молодец! Остужко отведет тебя к санитарам. А доберемся до места — получишь новенькое обмундирование.
На несколько минут Шеповалов, Долинин, Асканаз и Алла Мартыновна остались одни.
— Ну, что скажешь, Асканаз Аракелович? — спросила Алла Мартыновна.
Асканаз вкратце передал разговор с Оксаной. Рассказал он и о человеке, который теперь называл себя Василием Власовичем, а раньше, когда Асканаз его встретил неподалеку от Белой Церкви, — Ильей Карловичем.
— Ясно, что это предатель и при этом трусливый, — заметил Асканаз.
— Правильно, трусливый предатель, он трусит, потому что у него нет почвы под ногами. У нас есть сведения, что он действительно переехал сюда из Белой Церкви. Как видно, там его разгадали, а на новом месте он надеялся развернуться. Он уже взят на учет. Мне известно, что ему поручено выявить мое местопребывание. Значит, пристает к бедной Оксане? Говоришь, Оксана наконец, взяла себя в руки? Вот и хорошо! А если этому Василию Власовичу так уж хочется видеть меня, — что ж, мы ему эту возможность предоставим!..
Глаза Аллы сверкнули.
Приближалась минута расставания. Алла Мартыновна по-матерински расцеловалась с Шеповаловым и Асканазом.
— Желаю вам успеха! Асканаз Аракелович, скажешь Андрею Федоровичу, что видел меня. Пусть и в мыслях у него не будет, что я могу уехать отсюда. Я буду ждать его здесь, буду ждать с победой. Ну, счастливого вам пути!
Бойцы батальона и партизаны маленькими группами двигались к заранее назначенным пунктам. Остужко повел Шеповалова и Асканаза к стрелковому взводу Титова, которому поручено было замыкать арьергард.
В оголенных ветвях леса свистел холодный ветер. Титов коротко отрапортовал командирам о том, что взвод его находится на отдыхе.
— Ну, как приняли бойцы весть о благодарности командира дивизии? — спросил Асканаз.
Титов доложил.
— Ну что Поленов, образумился? — поинтересовался Асканаз.
— Не образумился, товарищ комиссар, опять наболтал лишнее!
— Опять за свое?
— Говорит, хороши, нечего сказать, благодарность выражают, а сами отступают! А ты тут из сил выбивайся, чтобы их нагнать!
— Ну, а ты что? Небось промолчал?
— Я на него прикрикнул, а он, по своему обыкновению, сейчас же вывернулся: уверяет, будто я его плохо понял. «Я, говорит, хотел сказать, что мы действительно будем достойны благодарности, когда разгромим фашистов в пух и прах! Вот тогда, мол, и заслужим благодарность командования». Спрашиваю его: «Почему ж ты с самого начала не так говорил»? А он в ответ: «Видно, таким уж уродился… В уме правильно рассуждаю, а язык мелет другое: должно быть, язык у меня неладно привешен… Ну, все и хохочут… Не знаю, что с ним делать, товарищ комиссар!
— Ты вот что ему посоветуй, — заметил Шеповалов, — каждый раз, как захочется ему что-нибудь непутевое взболтнуть, пусть покрепче прикусит язык.
— Товарищ комбат, у него и на это ответ найдется! — с отчаянием сказал Титов.
— А как его раны, заживают? — справился Шеповалов.
— Говорит, что чувствует себя отлично.
— Ну, это самое главное.
Беспросветная ночь. С севера дует ледяной ветер. Царит тишина — обманчивая тишина поля битвы.
Шеповалов взглянул на часы. Фосфорически поблескивающие цифры сказали ему: еще сорок минут. После мучительного марша батальон наконец достиг сборного пункта в тылу фашистских войск. По данным разведки противник собирался атаковать дивизию Денисова, в надежде форсировать Днепр. Шеповалов должен был неожиданным ударом внести смятение в передовую группу противника. Было условлено, что батальон перейдет в наступление, как только над позициями дивизии взовьются в воздух желтая и красная ракеты.
Тягостны были минуты ожидания. Шеповалов уже несколько раз успел обсудить с Асканазом все детали операции, но испытывал потребность еще раз поговорить с ним. Его угнетали мрак и безмолвие.
— Аракелович, ты мечтаешь или спишь? — негромко спросил Шеповалов.
— Больше мечтаю, чем сплю, — стряхнув с себя задумчивость, отозвался Асканаз, закутавшись в шинель. Он сидел рядом с Шеповаловым у подножия невысокого холма.
— Мечтать… — протянул Шеповалов. — Да, пожалуй, надо уметь мечтать. Иногда, не находя решения какой-либо задачи, засыпаешь, думая о ней, прикидываешь и так и эдак! А проснешься, начнешь взвешивать, обсуждаешь, отбрасываешь в сторону все фантастическое — и глядишь, в конце остается кое-что пригодное для разрешения мучившего тебя вопроса!
— Каждая мечта, в основании которой лежит что-то реальное и положительное, всегда к чему-то приведет. И несомненно, правы те, кто говорит, что в жизни нет безвыходных положений. Но если это справедливо в отношении личности, то еще более справедливо в отношении целого народа! И потому-то иго фашистов будет свергнуто, что в их стремлениях нет ничего положительного. Ишь, чего захотели, властвовать над всем миром! Гитлер похож на лягушку, которая пыталась сравниться с волом.
— Это ты точно сказал — именно на лягушку… Слушай, Асканаз Аракелович, у тебя есть в Армении любимая девушка?
— А тебя это очень интересует?
— Честное слово, у меня нет привычки принуждать к откровенности. Говоря по правде, я хотел было запретить тебе идти вторично к Оксане, но мелькнула мысль: а вдруг, думаю, заело человека?.. Тем более, я слышал, что эта Оксана — красавица… Попытал я сперва Аллу Мартыновну, потом стал к тебе приглядываться: вижу, нет, не то, что я думал! И пришло мне в голову, что ты любишь какую-нибудь красавицу-армянку! Хорошо, когда есть кому о тебе думать! Прежде я считал, что мы с Анфисой просто хорошие супруги. Мне теперь приятно вспомнить даже наши с ней семейные ссоры! Ладно, оставим это, я вижу, ты не расположен говорить по душам… Итак, Долинин будет на левом фланге, я буду руководить боем отсюда. А ты будешь на правом фланге с Остужко. Я тебе дам знать через связных, как идти на соединение с нашими, если только положение не осложнится…
Попрощавшись, Асканаз окликнул залегшего неподалеку бойца и вместе с ним направился к Остужко.
Мрак стал рассеиваться. Небо на востоке просветлело. Асканаз промолчал, когда Шеповалов говорил ему об Оксане, но промолчал не потому, что был скрытным по характеру, а потому, что не находил слов для выражения своих чувств. Душа его тосковала по любви. Ашхен, Оксана?.. Кто из них может заменить Вардуи?.. Мог ли он сейчас думать об этом? И в то же время чувствовал, что именно сейчас ему особенно тягостно одиночество, что ему нужна подруга жизни, хотя бы они жили врозь, далеко друг от друга.
Асканаз без приключений добрался до Остужко. Встреча с лейтенантом-разведчиком обрадовала Асканаза. В последнее время улыбка не сходила с лица влюбленного лейтенанта. Марфуша с первого же взгляда произвела сильное впечатление на юношу, и он даже не пытался скрыть свои чувства. Уже после нескольких минут беседы с командиром роты Асканаз убедился, как трезво тот мыслит, как повысилось чувство ответственности у Остужко.
Асканаз обошел бойцов, уже занявших исходные позиции. Он чувствовал, что испытания еще более сплотили их.
В воздухе взвилась желтая, а за нею красная ракеты.
На огневые позиции фашистов обрушились залпы дальнобойной артиллерии Денисова. Шеповалов вздохнул полной грудью и отдал приказ бойцам ползком пробираться вперед. Еще немного, и батальон залпами ручных пулеметов и автоматов нанес свой первый удар с тыла по фашистам.
Бойцы Шеповалова были изнурены утомительным переходом. У многих одежда разодралась, некоторые с трудом шагали в сапогах с оторванными подметками. Но с лиц бойцов исчезла усталость, как только они услышали голос орудий родной дивизии.
Заметно было, что двусторонний обстрел явился для фашистов неожиданностью. Против Шеповалова был немедленно брошен немецкий батальон. Но тот заранее предусмотрел эту возможность: подпустив фашистов довольно близко, советские бойцы плотным, сосредоточенным огнем скосили их.
Стычка на этот раз происходила на узком участке фронта. Сплошная огневая завеса держала в неослабном напряжении обе стороны. Шеповалову удавалось довольно ясно различить в бинокль все поле боя. «Если дивизионным орудиям удастся подбить танки, батальону легче будет соединиться с дивизией…» — думал он. Асканаз заметил, что в том направлении, где действовал Долинин, пылает несколько подожженных танков. «Ага! — с удовлетворением пробормотал он. — Значит, танковая атака сорвалась…»
Солнце уже поднялось на небо. Пробиваясь сквозь облака, его лучи слепили глаза бойцам Шеповалова.
— Видите, солнце помогает фашистам! — ворчал Поленов. Но видно было, что ему мешает не столько солнце, сколько раненая рука, разболевшаяся оттого, что приходилось ползти, опираясь на нее.
Действовавший против батальона Шеповалова враг усилил натиск. Земля содрогалась от залпов. Уши у бойцов заложило от беспрерывного грохота. Шеповалов вслух повторил мысль, сверлившую его мозг:
— Нам дано задание подавить эту точку… Необходимо усилить удар с тыла!
Он оглянулся, желая позвать связного, и увидел, что тот лежит неподвижно. Когда ж его убило? Но думать об этом не было времени. Шеповалов заметил, что одна из санитарок ведет под руку раненого. Когда они подошли ближе, Шеповалов узнал Марфушу и Поленова. Встревоженная девушка, еще не свыкшаяся с военной обстановкой, поспешно оторвала рукав гимнастерки у Поленова и сделала ему перевязку. Поленов заметил комбата.
— Товарищ комбат, пулей мне плечо поцарапало. А ножевая рана еще не успела затянуться… Пулевая рана — почетная! Будут знать, что в бою ее получил, а то ножевая рана, да еще полученная в плену, — это же срам и позор!..
— Не говори так много, Поленов. Смотри, опять ранят тебя, не сможешь добраться до дивизии.
— Есть не получать новой раны! — отрапортовал Поленов.
— А ты, Марфуша, беги к комиссару — он у Остужко. Пусть отберет несколько смельчаков и поручит им подавить вон ту огневую точку… видишь, вон там? Это — пулеметное гнездо. Оно мешает нам. Повтори приказ.
Марфуша слово в слово повторила приказ.
— Передать лично Араратяну, больше никому!
— Слушаюсь! — Марфуша покраснела.
Шеповалов приказал взводу Титова, а также действующим справа и слева взводам приготовиться к штыковому бою сразу же после того, как будет подавлен пулеметный огонь.
Марфуша вернулась бегом и доложила, что приказ будет исполнен.
Потянулись томительные минуты ожидания. В бинокль не все удавалось рассмотреть. Огонь противника нарастал. Усилилось и давление на позиции Шеповалова, хотя. Титов доложил, что приданному к его взводу, снайперу Зотову удалось уложить руководившего атакой немецкого офицера.
Еще минута — и над пулеметным гнездом врага взвился столб пыли и дыма. Завязался штыковой бой. Противник, обнаруживший местонахождение КП, поливал его минометным огнем. Быстро перебегая с места на место, Шеповалов бормотал: «Высокий рост Титова помогает ему… Ага, свалил еще одного… Быстрей же, быстрей, подбираются справа!.. Вот так, молодцы!..»
Ему не терпелось лично принять участие в рукопашной схватке, но нужно было руководить боем. Подняв бинокль, он хотел прикрутить винт, чтобы яснее разглядеть, что творится на флангах, как вдруг, почувствовал, что пальцы не действуют. Рядом разорвалась еще одна мина. Шеповалов покачнулся и упал наземь. Марфуша и два бойца кинулись к нему. Осколком мины Шеповалова ранило в бедро. Лицо его покрылось бледностью.
Пока Марфуша перевязывала ему рану, Шеповалов приказал бойцу:
— Беги, зови комиссара!
Штыковой бой шел неподалеку. До Шеповалова доносились хриплые выкрики, звякание сшибающихся штыков и винтовок, выстрелы, стоны раненых. Комбат смотрел на постепенно прояснявшееся небо, на высокое солнце, и все казалось ему не таким, как раньше.
Гул ли выстрелов удалялся или сам он уже плохо слышал шум сражения? Шеповалов думал об этом, когда к нему подбежал Асканаз.
— Борис!.. — выкрикнул он, стараясь не выдать волнения.
— Ты был хорошим комиссаром, Асканаз Аракелович… Вместе привели батальон сюда… Я вышел из строя, как видишь… Прими командование!
— Командир батальона ты, Борис. Я буду действовать, как твой заместитель.
— По праву, данному мне командиром дивизии, приказываю тебе немедленно принять командование! — твердо сказал Шеповалов.
Асканаз приказал двум бойцам уложить Шеповалова на носилки, а Марфуше велел оберегать его и быть наготове, чтобы доставить раненого в санчасть дивизии.
Отдав приказ о перегруппировке сил, Асканаз окинул взглядом поле сражения. Темпы боя как бы ослабли. Фашисты накапливали силы после неудачного штыкового боя. Асканаз решил, что наступил подходящий момент для решительного удара, который дал бы возможность батальону наконец прорваться сквозь вражеское кольцо.
Он усилил фланги взводами, приказав им прикрыть основную колонну перекрестным огнем и расчищать ей путь. Подразделения центра должны были, составив крепкий кулак, ринуться вперед, на соединение с войсковой частью, высланной Денисовым.
Когда батальон добрался до разгромленного пулеметного гнезда противника, бойцам показалось, что еще прыжок — и они у цели. Но автоматы противника продолжали поливать батальон огненным ливнем. Асканазу донесли, что боеприпасы иссякают. Единственным спасением было как можно скорее соединиться со своими. Асканаз отдал приказ авангардным частям ползком добраться до вражеских позиций и завязать рукопашный бой.
Первым добрался до окопов врага взвод Титова и с криком «ура» бросился на фашистов. «Вот тебе… получай!..» — приговаривал Титов, щедро рассыпая удары. Вдруг он покачнулся от внезапной острой боли в паху. Глянув вниз, он заметил у своих ног раненого фашиста.
— Ах ты, гад!.. — крикнул Титов и размахнулся…
— А ну, подвинься, Колюшка… — послышался знакомый голос, и приклад винтовки опустился на голову фашиста.
Титов не сразу сообразил, что происходит вокруг. Противник не выдержал натиска, потому что и с другой стороны на него ударили советские бойцы. Большая часть фашистов была перебита. Лишь немногие были захвачены в плен.
Титов взглянул на стоявшего рядом Поленова.
— Ты бы шел к санитарам, а то не поймешь, не то воитель, не то раненый…
Поленов не успел огрызнуться: бойцы выволокли из окопов гитлеровского ефрейтора, который яростно отбивался. Поленов ударом кулака выбил из его рук разряженный револьвер и с презрением проговорил:
— Ах, вот ты где, гадина! Будь моя воля, я заставил бы тебя подойти к репродуктору да во весь голос спросить: «А где же теперь тот Поленов, что якобы призывал своих товарищей сдаваться фашистам?! А?»
Ефрейтор втянул голову в плечи и попятился перед наступавшим Поленовым.
— Повезло тебе, гад, — добрались мы до наших… Не то несдобровать бы тебе!
Операция, намеченная на этот день немецким командованием, была сорвана.
Вечером, навестив Шеповалова, переведенного в санчасть дивизии, Асканаз привел себя в порядок и отправился на доклад к Денисову.
Задумчиво поглядывая на Асканаза, Денисов слушал его и делал пометки в записной книжке.
— Эти испытания — хороший урок вам… — произнес комдив, выслушав доклад. Затем, прищурив глаза, он медленно проговорил: — Получишь пополнение. А дальше видно будет.
Заметив, что Асканаз хочет еще что-то сказать, он кивком головы дал понять, что слушает его.
Асканаз коротко рассказал о встрече с Оксаной. При имени Аллы Мартыновны на лице комдива выразилось волнение.
— Алла Мартыновна здорово выручила батальон! — заметил Асканаз.
Денисову страстно хотелось узнать, не грозит ли непосредственная опасность жизни Аллы, но он не решался задать этот вопрос и лишь негромко произнес:
— Значит, видел и Оксану и Аллу… Ладно, вызову ночью — расскажешь подробно. А теперь иди отдохни.
Оставшись один, Денисов достал последнее письмо жены и долго не отрывал от него глаз.
Глава двенадцатая
АСКАНАЗ АРАРАТЯН
Асканаз на собственном опыте убедился, что опасности и испытания кажутся более страшными и тяжелыми, когда о них думаешь, чем когда их переносишь. Проверяя заново состояние батальона и готовя доклад Денисову, Асканаз словно впервые полностью представил себе, какие трудности пришлось преодолеть батальону. Потери в личном составе были так велики, что только через две недели боеспособность батальона была восстановлена.
В октябре на центральном участке фронта, где действовала дивизия Денисова, началось развернутое наступление немцев. В конце месяца бои шли в направлении на Можайск, Мало-Ярославец, Калинин; в ноябре — на Волоколамск, Тулу. Не останавливаясь перед тяжелыми потерями, враг рвался к Москве.
Отступая, Денисов на своем участке фронта изматывал живую силу и технику противника, убежденный в том, что недалек заветный день возмездия.
Асканазу было присвоено звание майора: он сам и многие из бойцов и командиров батальона (в том числе и Остужко с Титовым) были награждены орденами. Шеповалов в глубоком тылу залечивал раны, поддерживая переписку с Асканазом.
Обо всех событиях боевой жизни и связанных с ними переживаниях Асканаз вел записи в своем военном дневнике. Вот некоторые выдержки из его дневника.
«Действующая армия. 25 октября 1941 годаВо время больших исторических событий человек склонен бывает думать, что переживаемая им эпоха не имеет себе подобной в веках. Этим он как бы стремится возвысить себя в собственных глазах, указать грядущим поколениям: вот, мол, какие испытания пришлось нам выдержать.
Только что вернулся от Денисова: его суровое, но уверенное выражение лица кажется мне воплощением стойкости советского человека. Сколько километров мы уже отступили, сколько сел и городов оставили!.. Вот и сегодня он сообщил, что вновь получен приказ об отступлении. Моему батальону дали задание — охранять тылы отступающих частей. Я до сих пор не научился хладнокровно выслушивать подобные приказы, хотя и сложилось мнение, будто я выдержанный человек. Может быть, мне помогает то, что сам Денисов никогда не теряет душевного равновесия, а его уверенность как-то действует и на других. Говорят, что вера двигает горами…
Денисову доставили письмо от Аллы Мартыновны. Оказывается, комендант Краснополья Шульц потерял спокойствие. За последние недели он приказал повесить свыше двух десятков и арестовал массу людей… В ответ на мои негодующие слова Денисов заметил:
— Ярость хороша, когда наносишь врагу сокрушительный удар!
Железная логика. Мы, армяне, знаем это по своему горькому опыту: ведь армянский народ в течение своей многовековой и многострадальной жизни не раз испытывал ярость против беззаконий захватчиков… А теперь охвачены яростью двести миллионов населения громадной страны! У нас есть и воля, и возможность нанести сокрушительный удар по врагу.
В подобных условиях даже личная жизнь течет по особому руслу. В последнем бою Остужко подбил два танка, и Денисов сам перед строем прикрепил к его груди орден Красной Звезды. А вечером, во время проверки подразделений, Марфуша тихонько спросила меня: «Неужели Остужко действительно такой храбрый?» Любовь Марфуши и Остужко ни для кого уже не является тайной. Да они и не скрывают ее. Каждый из них словно старается отличиться друг перед другом. Всем приятно смотреть на эту влюбленную пару.
1 ноябряКакой счастливый день для меня — получил длинное-предлинное письмо из Еревана. Пишет Ашхен. К концу ее письма приписали по нескольку слов Шогакат-майрик, Вртанес, Ара, Маргарит и Михрдат. Ашхен учится на курсах сестер и работает практиканткой в военном госпитале. От Зохраба нет известий, Шогакат-майрик очень обеспокоена. Гарсеван отличился в Крыму, о нем писали в армянских газетах. Ашхен пишет мне:
«За эти четыре-пять месяцев войны мне часто доводилось бывать в селах, на заводах, в госпиталях, на призывных пунктах. И где бы я ни бывала, я словно читала на лицах: «Вот видишь, и я выполняю нужную работу!» Я считаю неправильной пословицу «Подобное к подобному тянется»[9]. Если и один плох и другой плох, то такой союз не может быть длительным; точно так же, как не могут дружно жить хищники, так и люди с дурными наклонностями не могут ужиться, — ведь поведение каждого из них подчинено грубо эгоистическим целям. Именно хорошие наклонности людей делают их дружбу прочной.
Ты помнишь наш разговор накануне твоего отъезда? Я говорила тебе, что моя душа голодает без духовной пищи. И это действительно было так! Но потом я пришла к убеждению, что виновата сама. Да, моя вина, хотя мой эгоизм (который я ошибочно принимала за гордость) никому, кроме меня самой, не приносил вреда. Я поняла, что так больше жить нельзя: точно так же, как тело гибнет без пищи, черствеет и душа. Теперь я нахожу «пищу для души», работая в госпитале. Этим, конечно, не разрешается вопрос о моей личной жизни. Я тебе говорила уже, что не намерена изображать героиню романа. Но когда я прихожу домой и застаю Тартаренца и Заргарова, слышу их рассуждения, мне становится ясно, что эти люди заботятся только о личном благополучии, — душа у меня переворачивается. Невольно думаешь: неужели так и не проявит себя то хорошее, что, наверное, таится все же у них в глубине души?..»
Долгое время я находился под впечатлением этого письма. Как безжалостна ко мне судьба! Сперва Вардуи, потом она! Я не могу быть откровенен с Ашхен: ведь она надеется, что в Тартаренце заложено что-то хорошее и оно рано или поздно проявит себя, имею ли я право разрушить эту веру?..
5 ноябряГлубокая, беспросветная ночь. Снег белым покрывалом окутал землю. Сегодня мы на нашем участке отразили несколько атак: как видно, фашисты ослабили темпы своего наступления, хотя не перестают бахвалиться, что скоро возьмут Москву. Что ж, говорят ведь: «Язык без костей»… Вчера вечером я собирал командиров рот и взводов, чтобы разъяснить им боевое задание. Когда все разошлись, ко мне подошел Титов и попросил, чтоб ему выдали новые сапоги для нескольких бойцов его взвода. Я обещал, а затем справился о Поленове. Он замялся.
— Ну, ну, говори! Опять?..
— На этот раз, товарищ комбат, почти нечего сказать. Как вернулся из госпиталя, словно воды в рот набрал. Только недавно опять сострил по поводу сапог. Говорит: «Зачем мне рот открывать, когда вон сапоги мои за меня говорят, каши просят!»
Как видно, во взводе так привыкли к балагурству Поленова, что теперь его непривычное молчание удручает всех. Они, верно, думают: должно быть, плохи наши дела, если даже Поленов перестал шутить! Да, люди стали философами: Титов настойчиво просил, чтобы сапоги в первую очередь выдали именно Поленову.
7 ноябряНочь и день прошли в ожесточенных боях. Всего час, как утих бой. Получил из политотдела дивизии материалы. Итак, на Красной площади состоялся традиционный парад! Одной этой вести достаточно для того, чтобы воодушевить бойцов. После моего сообщения попросил слова Остужко.
— Товарищи, сегодня днем погиб один из моих разведчиков, и вы знаете, при каких обстоятельствах? Возвращаясь с разведки, он наткнулся на путевой указатель, на котором по-немецки было написано: «На Москву». Не выдержала душа у парня, зачеркнул он крест-накрест эти слова и на другой стороне дощечки стал выводить химическим карандашом: «На Берлин!» А в это время его подстрелили.
Голос у Остужко дрогнул, на глазах выступили слезы. Никогда я не видел его таким взволнованным. Сегодня Остужко со своей ротой первым вступил в бой.
6 декабряСнова был у Денисова. За последний месяц он меня вызывал уже несколько раз. Коротко докладываю ему о состоянии батальона, получаю от него точные, лаконичные задания. Войдя к нему сегодня, по-обычному стал на вытяжку.
— Садитесь! — сказал он, кивком указывая на стул.
Мы уже под стенами Москвы. Блиндаж Денисова хорошо замаскирован, прикрыт сверху толстым слоем снега. Внутри жарко от жестяной печурки. С одного из «вспотевших» бревен потолка капает. Одна капля упала мне прямо на лицо.
Я молча смотрю на Денисова, ожидая, чтобы он заговорил. Однако он не спешит, просматривая бумаги.
— Вы помните, когда мы оставили населенный пункт В.? — спрашивает он.
— Двадцать седьмого ноября.
— Так. А сколько километров отсюда до В.?
— Не больше восемнадцати — двадцати километров.
— Вы, конечно, помните, при каких обстоятельствах мы оставили этот населенный пункт. Население почти не успело эвакуироваться.
— Точно так, помню.
— Гитлеровцы возвели неподалеку оттуда довольно сильные укрепления. Советую восстановить в памяти окрестности В., это вскоре пригодится вам.
Затем Денисов придвинул мне стакан со «ста граммами» и тарелку с ломтем хлеба и куском сала.
— Ну как, привыкли к салу? Оно хорошо защищает от стужи, — перешел он на дружеский тон.
— Я не разборчив в отношении пищи.
— Но вы, кавказцы, довольно привередливы в еде.
— Зависит от места и времени.
— Как ты думаешь, — помолчав, спросил Денисов, — сумеет ли Оксана до конца выдержать роль? Как бы не случилось беды…
— Она старается свыкнуться с положением. Ну, и Алла Мартыновна не оставит ее без поддержки.
— Алла-то поможет… Ну, а если Оксана узнает о муже, не потеряет голову?
— А разве о нем что-нибудь известно?
— Руководя работой своих саперов, он был тяжело ранен. Положение безнадежное.
Денисов встал, несколько раз прошелся по блиндажу, затем подошел и положил мне руку на плечо.
— Батальон твой получит пополнение в составе одной роты; получишь достаточное количество противотанкового оружия, придадим и орудий… — он развернул карту и показал мне направление, — а когда мы дойдем вот до этого пункта, твой батальон пойдет в обход и нанесет удар гитлеровцам с тылу. С дивизией встретишься в этом населенном пункте… — он указал пункт на карте.
Я вскочил с места, схватил Денисова за руку и взволнованно воскликнул:
— Значит…
— Ты прав, контрнаступление! Но радоваться подожди. Поговори со своими бойцами, объясни предстоящую задачу.
Я вышел из блиндажа комдива в каком-то лихорадочном состоянии. Так, значит… Но я не хотел догадками опережать события. Помню, я почти бежал, проваливаясь в глубоком снегу по колено: не терпелось тотчас же сообщить радостную весть своим.
Бойцы и командиры были размещены в селе. Я заходил по очереди во все избы. Часть бойцов уже спала, другие беседовали с колхозниками. В одной из хат несколько женщин и мужчин, работавших на сооружении укреплений вокруг Москвы, говорили о том, что если наша часть продвинется вперед, то они пойдут вслед за нами, потому что в ближайших деревнях у них есть родные. Какая-то молоденькая женщина, закрыв лицо руками, горько плакала, повторяя имя «Дима». Конечно, никто еще не знал о готовящемся наступлении, но все словно чувствовали: сейчас можно говорить лишь о наступлении, о продвижении вперед, — отступать уже некуда, позади — Москва.
Я велел вызвать к себе командиров рот и взводов и поспешил на свой КП. Проходя мимо избы, где расположен был взвод Николая Титова, я услышал шум и громкие голоса. Открыл дверь, вижу: лежа на шинелях или стоя посреди хаты, бойцы о чем-то горячо спорят. Кто-то заметил меня, послышалась команда: «Смирно!»
Все вскочили на ноги.
— Почему не пользуетесь передышкой для того, чтобы хорошенько отдохнуть? Что это за гомон, когда вы научитесь дисциплине? — рассердился я.
— Все было спокойно, товарищ майор… — виновато объяснил Титов. — Да только поспорил Поленов с Маховым.
Опять Поленов… А говорили, что он уже не спорит, не балагурит. Что же произошло? Я потребовал, чтобы Титов доложил мне в нескольких словах.
— Только что поужинали, товарищ майор. Ребята прилегли отдохнуть. Вот Махов и говорит Поленову: «Чего скис, по Москве соскучился? Ничего, денька через два и до Москвы дойдем, ведь дорога-то отступления прямо в Москву ведет, успеешь налюбоваться столицей!» Не успел он выговорить, Поленов ему по уху… «Ах ты, мерзавец, кричит, да как ты смеешь язык распускать?» А Махов ему в ответ: «Что ж, выходит, распускать язык только тебе позволено? Как ты смел ударить меня?» А Поленов как напустился: «Я, говорит, люблю побалагурить, но насчет Москвы глупых шуток никогда себе не позволял и другим не позволю!» Вот такое дело, товарищ майор…
Вызвал я Поленова и Махова к себе на КП. Махов помалкивал, а Поленов попросил прощения, что пустил руки в ход.
Ну, я и заявил им, что дисциплинарное взыскание на виновных наложу тогда, когда предстоящее батальону боевое задание будет выполнено.
…Совещание только что закончилось. Я вышел полюбоваться на снежные просторы. Солнце не спешило показаться. Вспомнилось предупреждение Денисова «не радоваться заранее»… Но что поделаешь, в жизни бывают мгновения, когда сердце сильнее рассудка. Но если сердце и разум действуют заодно, тогда, тогда…»
Глава тринадцатая
ПОЕДИНОК МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ
Снег толстым слоем покрывал шоссе. Автомобиль Денисова мчался по узорчатым колеям, проложенным идущими впереди машинами. Уже два дня перешедшие в наступление советские войска гнали перед собой фашистов. Понеся под Москвой большие потери, немцы отступали. Дивизия Денисова сосредоточивалась на исходных позициях, готовясь развивать наступление.
Сидя рядом с шофером, Денисов не отрывал глаз от ветрового стекла и то и дело протирал его перчаткой. Наступил день, которого он ждал с таким нетерпением… Справа и слева от шоссе валялись трупы немецких солдат, изуродованные фашистские танки, подбитые орудия и минометы. Некогда служившие орудиями смерти, они теперь представляли собой безвредную груду ржавеющего металла. Трупы примерзли к земле, и команде бойцов, расчищавшей шоссе, зачастую приходилось ломами разбивать пласты льда, чтобы оторвать трупы от земли и похоронить их.
Шоссе описало полукруг, и машина Денисова остановилась перед шлагбаумом. Собравшиеся у перекладины женщины и мужчины о чем-то спорили со старшиной заставы — румяным сержантом. Увидев в кабине полковника, сержант взял под козырек и подал знак поднять шлагбаум. Но кучка споривших окружила машину и обратилась к Денисову с просьбой выслушать их. Денисов толкнул дверцу и выбрался из кабины.
Старик в овчинном тулупе покрепче оперся руками на толстую палку и обратился к Денисову:
— Что ж ты без шубы разъезжаешь, сынок? Разве не холодно тебе в шинели?
— Спасибо за заботу дед, — приветливо отозвался Денисов. — Да ведь настоящие-то холода еще впереди… Ну что ж, вы только для этого и остановили меня?
— Да нет же, нет… — послышались восклицания, и жалобней всех звучал голос молоденькой женщины: ее видел Асканаз, когда накануне вошел в хату, занятую взводом Титова. Снова заговорил старик в овчинном тулупе.
— Видишь ли, в чем тут дело, родной, — начал он. — У всех у нас там родные имеются, беспокоимся мы за них, поскорее повидаться хочется… А вот эти молодцы, — он показал на бойцов заставы, — не разрешают нам пройти!
Издали донесся глухой гул. Высоко в небе на запад плыли самолеты.
— Правильно делают, что не пропускают, — возразил Денисов. — Чуть подальше — уже фронт, и гражданскому населению там пока нечего делать. Терпели столько — потерпите еще немного.
— Так ведь нам сказали, что вон то ближнее село уже освобождено… А у нас там родные!
Адъютант Денисова нетерпеливо поглядывал на комдива.
— Ну, прощайте пока, — обратился Денисов к собравшимся.
Он нагнулся, собираясь сесть в кабину, но молоденькая женщина ухватилась за рукав его шинели.
— Оставь, Нина, неудобно… — зашептал ей старик. — Ну, не сегодня, так завтра…
— Да, легко вам говорить завтра… Ваше-то село освобождено, а ведь мой Дима еще у немцев… Очень вас прошу, товарищ военный, скажите мне, когда будет освобожден населенный пункт В.?
Это и был тот населенный пункт, который предстояло занять полкам Денисова. Выяснилось, что Димой звали двухлетнего сынишку молодой женщины: он у бабушки в В. Лицо Нины выражало сильную тревогу. Не выпуская шинели Денисова, она настойчиво повторяла:
— Пожалуйста, скажите мне, когда будет занят этот населенный пункт?.. Я понимаю, что это — военная тайна; если мне нельзя знать, то хоть возьмите меня с собой! Я хочу первая, вместе с войсками, войти в город…
— А что будет с Димой, если его мать погибнет? Если вы любите сына, вы должны сохранить себя во имя любви к нему. А вступить в армию не так-то просто.
— А вы считаете, что я могу не подойти? — обиженно отозвалась Нина, выпуская из рук шинель Денисова.
Денисов уселся рядом с шофером. Машина помчалась по шоссе, навстречу нарастающему орудийному гулу.
На опушке придорожного леса Денисов встретил бойцов своей дивизии: они развели на привале небольшой костер и, собравшись вокруг, весело переговаривались, поглощая черствый хлеб с ломтиками сала.
Денисов приказал шоферу остановиться, но еще из машины внимательно оглядел своих солдат. Как изменилось их настроение, выражение их лиц! Старому воину, привыкшему читать в душе солдата, казалось, что он угадывает причину этого: может ли быть для человека что-либо радостнее сознания, что враг вынужден отступать!
Денисов вышел из кабины. Бойцы стали навытяжку, вперед выступил снайпер Зотов, лично известный комдиву. Денисов не дал ему закончить рапорт и, положив руку на плечо, спокойно спросил:
— Есть отставшие?
— Никак нет, товарищ комдив! А если и случается, что один-два отстанут, то догоняет нас уже девять-десять человек.
— Это каким образом?
— Да из других частей пристают, не хотят остаться в стороне от наступления!
— Значит, бывают отставшие? Предупреждаю, чтобы подобных вещей не было, да и перебежчиков из других частей не принимать, это прямое нарушение дисциплины. Каждый должен сражаться там, где ему положено!
Зотов поспешил заверить, что подобные случаи составляют исключение. Денисов поговорил с бойцами и дал понять, что на рассвете снова ожидается сражение. Он уже собирался сесть в машину, когда его кто-то остановил. Это была подбежавшая Марфуша.
— Асканаз Аракелович не позволил мне идти вместе с бойцами в обход! — пожаловалась она.
— Вот видишь! Не доверяет, считает тебя еще неопытной.
— Так они же в тыл заходят, а я только что из тыла — значит опыт есть!
Денисов, которому были известны все подробности появления Марфуши в дивизии, а также ее отношения с Остужко, лукаво спросил:
— А что тебя собственно огорчает: то, что комбат тебе не доверяет, или то, что рассталась с Остужко?
Марфуша смешалась и вдруг с детской непосредственностью стала на цыпочки и потянулась к лицу Денисова:
— Андрей Федорович, разрешите вас поцеловать, мне Алла Мартыновна велела!
— А почему ты с таким запозданием выполняешь ее просьбу? — покачал головой Денисов.
— Вы все эти дни были такой хмурый, Андрей Федорович, я не решалась к вам подойти… А как в первый раз меня увидели, даже словно рассердились за что-то! Дни были тяжелые, я понимаю… Теперь-то все по-другому!
Денисов улыбнулся, хотя в душе и почувствовал какой-то осадок. Значит, он так плохо владел собой, что даже эта молоденькая девушка сумела подметить!.. А ведь тяжелые испытания еще впереди. И Денисов расцеловал девушку в холодные раскрасневшиеся щеки.
С сияющим от радости лицом Марфуша вприпрыжку побежала к группе санбатовцев.
Денисов находился на своем КП. Уже два часа шел бой. Первой же атакой гитлеровцы были выбиты с передовой линии обороны, откатились к резервным окопам и укрепились там. Они прилагали огромные усилия для того, чтобы спасти от прорыва свои фланги, и постепенно стягивали свои силы в населенный пункт В., чтобы там организовать сопротивление наступающим частям.
Денисов слушал доклады начштаба и командиров частей, а в его памяти возникали лица крестьян, которых он встретил накануне у шлагбаума. В пункте В. оставались их родные, там оставался со своей бабушкой и двухлетний Дима… Открыть огонь по В. значило вызвать неизбежные жертвы среди населения. Денисов несколько раз просмотрел план города и лишь после этого дал указание командиру артиллерийского полка прямой наводкой бить по выявленным огневым точкам. Затем он приказал выдвинуть вперед хорошо замаскированных снайперов, чтобы выводить из строя офицеров.
— А как обстоит дело с батальоном Араратяна? Время бы ему приступить к действиям, — обратился Денисов к начштаба.
Орлов доложил, что соседние дивизии уже продвинулись вперед и кольцо вокруг засевших в населенном пункте гитлеровских частей постепенно стягивается. Значит, облегчалась и задача, поставленная перед батальоном Араратяна. Он должен был зайти в тыл противника с правого фланга. Араратян ждал возвращения засланных в населенный пункт разведчиков, после чего должен был немедленно начать наступление.
Вскоре сигнальная ракета дала знать о том, что батальон Араратяна уже нанес первый удар. По лицу Денисова скользнула довольная улыбка. Он приказал стоявшему в центре полку лобовой атакой вклиниться в позиции противника, а действовавшему на левом фланге — сорвать попытки противника к отходу.
…Бой перекинулся в населенный пункт. Оттесняемые из квартала в квартал гитлеровцы поливали наступавшие с двух сторон советские войска сплошным артиллерийским и минометным огнем. Снаряды разрушали кирпичные и деревянные строения, там и сям пылали пожары. Улицы были пропитаны кровью раненых и убитых, отступающие немецкие солдаты скользили в лужах крови, падая под ноги бегущих сзади. В узких улицах после отхода оставалось немало затоптанных насмерть своими же.
В одном из дальних кварталов частям Денисова сопротивлялся окруженный полк гитлеровцев. В центре города держалась еще одна из немецких рот. Пробившийся с частью своего батальона в центр, Асканаз громил остатки этой роты, засевшей на площади. В большом доме укрылись местные жители, и каждое попадание снаряда грозило им смертью. Оттуда доносился плач женщин и крики детей.
Советские бойцы постепенно сжимали кольцо, чтобы в последний момент пойти в штыки. Прицельный огонь вывел из строя еще с десяток гитлеровцев. Потеряв надежду выбраться из кольца, гитлеровцы били не только по противнику, но и по жилым зданиям, стремясь истребить мирное население и ускользнуть, пользуясь смятением. Несколько снарядов разрушили дом, откуда доносились голоса женщин и детей; загорелся и соседний с ним небольшой деревянный дом.
Действия противника вызвали ярость в душе Асканаза. Он видел, что такой же яростью охвачены и его бойцы, и отдал приказ перейти в рукопашный бой. Первым кинулся в атаку взвод Титова. Из подожженного дома с плачем выбежали женщины. Многие из них, вооружившись лопатами или ломами, вместе с бойцами исступленно бросились на фашистов.
Подоспевший на помощь солдатам Титова второй взвод сломил сопротивление гитлеровцев. Подняв руки, они сдавались в плен. Асканаз приказал своим бойцам помогать населению тушить пожар и спасать жителей, оставшихся в горящих зданиях.
Вдруг его внимание привлек пронзительный женский вопль. Он увидел молодую женщину, подбежавшую к деревянному дому. Приглядевшись, он узнал ту, которую видел в селе. Он не ошибся — это была Нина. После встречи с Денисовым она умолила бойцов позволить ей следовать за ними. Забыв об опасности, она под орудийным огнем пробралась в город.
— Помогите, бога ради, помогите! Димка сгорит!.. — выкрикивала Нина.
Она бросилась к дверям, ударом ноги распахнула их и, закрыв лицо руками, хотела вбежать внутрь. Асканаз видел, как Поленов, скинув автомат с плеча, кинулся к домику. Он оттолкнул Нину в сторону и, несмотря на удушливый дым, шагнул через порог. Пламя не охватило еще подвальной части дома. Пожар все разгорался, из окон повалили клубы густого дыма. Через минуту в окне показалась голова Поленова. Он тер ладонью слезящиеся глаза, держа в объятиях ребенка.
— Дима! — послышался пронзительный крик Нины.
Щелкнул одиночный выстрел, и Поленов упал, прикрыв собой ребенка. Несколько бойцов батальона кинулись к развалинам соседнего дома, где, оказывается, скрывался немецкий снайпер.
На глазах у Нины спасли ее ребенка — для того, чтобы она стала свидетельницей его гибели! С диким криком она метнулась к окну. Асканаз подоспел как раз тогда, когда Нина схватилась за раму окна и, отдернув обожженные руки, со стоном упала наземь. Не теряя времени, Асканаз вбежал в дом и увидел лежавшего под окном Поленова. Он подполз к нему. Кровь из головы бойца капала на лицо тяжело дышавшему ребенку. Подхватив ребенка под мышку, Асканаз приподнял Поленова за плечи и волоком потащил к двери. Подбежавшие бойцы вынесли Поленова. Рана за ухом у него кровоточила, он тяжело дышал. Один из бойцов побежал за санитарами.
Асканаз с ребенком на руках нагнулся над Ниной, которая лежала в обмороке.
— Дима, ты видишь, вот твоя мама, позови ее…
— Мама, мама! — с плачем крикнул ребенок.
Этот зов привел Нину в себя. Вскочив на ноги, она протянула руки к сыну с криком:
— Маленький мой… живой?!
Нина целовала его, гладила, щупала его ручки, ножки, лицо. Крепко прижав к себе ребенка, она опустилась прямо на снег.
После того, как пожары в городке были потушены, из домов начали выносить обожженные трупы людей. Из подвала деревянного дома вытащили обгоревшее тело старой женщины. Это была мать Нины. Она погибла, так и не узнав о спасении внука.
Уничтожив фашистского снайпера, Титов подбежал к Поленову, провел рукой по его лбу и, когда Поленов открыл глаза, с просьбой в голосе выговорил:
— Ну, Григорий, уж ты поправляйся поскорей, бога ради… Скучно будет без тебя ребятам!
Но Поленов молча, с глубоким вздохом закрыл глаза.
Титов хотел сказать товарищу какие-нибудь слова утешения, подбодрить его, но вокруг послышались ликующие возгласы:
— Москва… говорит Москва!
Советское Информбюро сообщало о том, что план гитлеровцев — окружить и захватить Москву — провалился. Врагу нанесен сокрушительный удар на подступах к столице. Наша доблестная армия гонит истекающего кровью врага на запад.
— Назад их, до самого Берлина! — восклицали ликующие бойцы и жители освобожденного городка. — В бинокль Москву рассматривали? Ну, а теперь?.. Восемьдесят пять тысяч только убитых и каждому по три аршина земли!..
— Да заходите к нам, заходите, родные! — приглашали бойцов хозяева уцелевших домов.
Титов нагнулся над Поленовым, и ему показалось, что бледные губы раненого дрогнули в улыбке.
Вытаскивая ребенка и Поленова из горящего дома, Асканаз сильно обжег себе левую руку. После перевязки, засунув забинтованную руку в карман шинели, Асканаз подошел к Нине. Казалось, она еще не совсем пришла в себя. Ребенок сидел у нее на коленях, удивленно разглядывая лицо матери с застывшими на нем слезинками.
Увидев Асканаза, Нина приподнялась.
— Вы мне вернули жизнь… — через силу шепнула она.
Асканаз помог ей встать и подвел к Поленову:
— Вот спаситель вашего ребенка!
Поленов смотрел на мать и ребенка таким ясным взглядом, словно он и не был ранен.
Нина переводила взгляд с Поленова на Асканаза. Она искала слова для того, чтобы выразить свои чувства, и не находила… Она нагнулась над Поленовым и погладила его по голове. Дима, ничего не понимавший, удивленно разглядывал лежавшего на земле Поленова.
— Кровь!.. — воскликнул он вдруг, показывая на лицо Поленова. Но в это время Нина заметила лежавшее неподалеку тело матери и кинулась к погибшей, с плачем целуя ее опаленные седые волосы.
Асканаз со вздохом потер лоб. Подойдя к Нине, он поднял ее. Санитары принесли носилки, чтобы положить на них Поленова, но Дима вцепился ручонками в его шинель.
Нина взяла ребенка на руки.
Молодая женщина и Поленов обменялись долгим взглядом. Что они прочли в душе друг друга, ни тот, ни другой в эту минуту не сумел разобраться. В глазах Нины сияла ласка и благодарность, и в этом взгляде, казалось, таяли мучения, которые ей пришлось испытать.
Часть третья
ЕРЕВАН
Глава первая
МАТЕРИ
ОТ УЕХАВШЕГО на фронт Зохраба уже долгое время не было вестей. Это сильно удручало Шогакат-майрик. Призванный в армию Ара вместе со своими ровесниками проходил военную подготовку неподалеку от Еревана. Шогакат-майрик казалось, что за время подготовки младший сын сумеет избавиться от удручавшего ее недостатка.
Вртанес упрашивал мать перейти к нему, но Шогакат-майрик ни за что не соглашалась расстаться с комнатой, в которой она прожила почти четверть века. «Здесь корень семьи, — говорила она, — отсюда наше фамильное дерево раскинуло свои ветви. Если я уйду, Ара затоскует. Нет, нет, не уговаривай, буду жить у себя, пока не закончится война, пока не вернется живым-здоровым мой Ара! Женю его, а уж потом пусть четверо сыновей предадут мой прах земле…»
Шогакат-майрик часто оставалась ночевать у Вртанеса, порою ночевала у Елены, а все остальное время проводила у себя, приглашая к себе обедать невесток с внуками и Вртанеса.
Стоял ясный майский день 1942 года. В это воскресное утро Шогакат-майрик прибирала комнату с особым усердием. На ее лице было довольное выражение: так выглядела она обычно в те дни, когда, увидев хороший сон, с нетерпением ждала возможности пересказать его кому-нибудь из близких.
Она подошла к постели Ара, которую каждый вечер раскрывала, старательно взбивая подушки в знак того, что младший сын вот-вот вернется и ляжет спать, как обычно. Шогакат-майрик присела на стул около постели и задумалась.
Она долго сидела неподвижно. «Словно все народное горе ты оплакиваешь!» — говорили соседки, видя ее удрученное лицо. А Шогакат-майрик было над чем задуматься. Елена все чаще жаловалась на то, что ей трудно живется, не удается сводить концы с концами; она тревожилась, не получая сведений о муже. Печалило Шогакат и здоровье Сатеник, таявшей на глазах от тревоги за Габриэла, несмотря на все старания Шогакат-майрик утешить и подбодрить ее.
Шогакат встала, подошла к карте, укрепленной на стене. С первых же дней войны Ара красными и черными флажками обозначал на ней передвижение Красной Армии и гитлеровских войск. А после того как Ара был призван, передвижение флажков на карте взяла на себя Цовинар. Но уже несколько дней Цовинар не появлялась; Шогакат-майрик было известно, что наши далеко отбросили немцев. Она поглядела на карту, и ей не понравилось, что черные флажки стоят слишком близко от Москвы. Она подумала и, вытащив булавки с черными флажками, отодвинула их подальше от Москвы, а красные флажки выдвинула вперед; с минуту полюбовалась и, словно успокоившись, пробормотала: «Ну, так-то лучше. Пускай утешатся тысячи тысяч матерей, пусть минет беда Асканаза и Зохраба!»
Открылась дверь, и в комнату без стука вошла соседка Парандзем. Шогакат-майрик старалась не выдавать своих забот и горестей, хотя ей это не всегда удавалось. Она и теперь весело и приветливо поздоровалась с Парандзем, но тут же спросила:
— Ну, что говорит Мхитар?
— Умереть мне за него… что он может сказать? Говорит то же, что и твой Вртанес: ты, мол, не печалься, мама-джан, вернусь целым и невредимым… Ах, сестрица Шогакат, боюсь я, что не дождется мой старик возвращения сына!..
Шогакат прервала ее:
— Ну, зачем тебе так думать?.. Ты лучше скажи Нерсесу, чтобы зашел ко мне сегодня. Чаю вместе напьемся, давно я его не видела.
— Да разве мы видимся с Нерсесом, Шогакат-джан?! С раннего утра ушел на работу…
— Это в воскресенье-то?
— Да-кто сейчас воскресенье от будних дней отличает?!
— Ну, молодые — это понятно. Но Нерсеса надо бы поберечь…
— Так он сам себя не бережет, Шогакат-джан! — подхватила Парандзем. — И слушать не хочет!.. Да, что я хотела тебе рассказать… — Парандзем с таинственным видом оглянулась, словно боясь, что ее подслушают. — Понимаешь, радуется мой Нерсес, что вот, мол, новую профессию освоил… Говорит, что это большой секрет: завод их перестроили, и теперь они военные заказы выполняют… Ты подумай, Шогакат-джан: то, что мой Нерсес изготовляет, прямо на фронт отправляется!
— Ну, дай бог силы и сноровки его рукам!
— Вот из-за этого и лишился сна и отдыха мой старик! — продолжала свой рассказ Парандзем. — Пускай, говорит, я буду здесь мучиться… лишь бы т а м дела шли хорошо!
— Знаю я, наш Нерсес честный работник. Ах, если бы все так повернулось на свете, чтобы люди не зарились на чужую землю, — тогда бы не плакало кровавыми слезами столько матерей!..
— Эх, Шогакат, живу я, как одинокая: Мхитар мой по целым дням глаз не кажет. Нерсес приходит измученный, сразу спать заваливается, а я все одна да одна… И тебя часто не бывает, так что не с кем душу отвести. Сижу и думаю и, как ни прикидываю, все получается, что труднее всего нам, матерям, приходится. Рожай сына, расти его, а потом сиди и жди, вернется он с войны или нет… Тот, кто войну затевает, — враг всем матерям на свете!
— Враг матерям и враг родной страны! — с ударением сказала Шогакат.
За окном раздался пронзительный писк и щебет. В нише карниза, наверху, ласточки свили себе гнездо и вывели птенцов. Мать-ласточка с тревожным щебетом налетала на кошку, подобравшуюся к гнезду, клевала ее и била крылом; на подоконнике пищал выпавший из гнезда желторотый птенчик. Шогакат гневно крикнула: «Брысь!» — и согнала кошку с карниза. Но ласточка долго не могла успокоиться: влетев в открытое окно, она с писком носилась вокруг Шогакат и билась о стены комнаты. Напрасно Шогакат показывала ей птенчика, — ласточка точно обезумела от испуга за своего детеныша.
— Эх, мать ведь… материнское сердце болит… — с жалостью заметила Парандзем.
— Что же делать? — озабоченно проговорила Шогакат. — Ведь пока не положим птенчика обратно в гнездо, она не успокоится… А какой маленький, весь дрожит… Эх, если б Цовинар зашла, — взобралась бы, положила в гнездо!
Парандзем подняла стул и поставила его на подоконник.
— Ты что это делаешь? — встревожилась Шогакат.
— Положу птенца.
— Ну, как же ты… Давай лучше я!
— Меня не пускаешь, а сама хочешь лезть! Нет, уж лучше я попробую, хоть на десяток лет да помоложе тебя!
Парандзем прикинула на глаз расстояние до карниза и озабоченно покачала головой. Рядом с первым стулом водрузили второй, на их сиденья поставили третий, и Парандзем с неожиданным для своих лет проворством вскарабкалась на него. Крепко держась одной рукой за оконную раму, она потянулась и нащупала выемку в карнизе. Шогакат придержала стул, приговаривая:
— Осторожней, Парандзем-джан, не накличь беды на себя и на меня! Играет что-то левый глаз у меня, нехороший это знак… Ну как, дотянулась?
— Чуточку не хватает… Подложи-ка мне под ноги подушку, может, дотянусь…
Шогакат осторожно подложила подушку.
— Ага, теперь дотянулась. Ну, давай птенчика!
— Ой, куда я его дела? А-а, вижу, на постель положила!
Мать-ласточка продолжала щебетать. Но щебет ее становился тише, в нем все явственнее слышались ласковые умиротворенные ноты, и наконец она выпорхнула из комнаты и юркнула в гнездо.
— В пот тебя бросило, Парандзем-джан? — заботливо спросила Шогакат, когда та наконец спустилась с окна. — Я тоже уморилась.
И две старые женщины с улыбкой посмотрели друг на друга.
В лагере, где проходил военную подготовку Ара, была назначена встреча бойцов с работниками искусства.
Вртанеса и сына Парандзем — Мхитара, направленных на эту встречу, сопровождали Ашхен и Маргарит и несколько певцов и артистов. Вртанес не стал возражать, когда Шогакат-майрик пожелала отправиться вместе с ним.
— Я не помешаю вам, хочу только увидеть моего Ара…
Шогакат уже больше месяца не видела Ара. И теперь, сидя во втором ряду, она не выпускала его руки из своих натруженных рук, не сводила глаз с лица сына. Хотя он сильно загорел от весеннего солнца и выглядел намного здоровее, выражение его лица оставалось по-прежнему юношески наивным.
Шогакат расспрашивала сына, чем он укрывается по ночам, не трудно ли ему подниматься на горы во время учений. В ответах Ара чувствовалась обычная самоуверенность юноши, который вышел из-под материнской опеки и все больше привыкает к самостоятельности. Успокоенная Шогакат-майрик внимательно смотрела на сцену.
Первыми выступили Вртанес и Мхитар Берберян. За ними — полковник и сержант, затем женщина-врач и боец. Шогакат-майрик больше всего интересовал вопрос о том, сколько еще продлится война и на сколько она сможет передвинуть на будущей неделе красные флажки на карте. В словах выступавших таилась тревога — летом ожидались крупные бои. Вртанес говорил о грядущих затруднениях, и Шогакат почувствовала себя слегка задетой. Дома он уверял, что все будет хорошо, говорил даже о близкой победе… Значит, он только хотел успокоить ее? Неужели сын не понимает, что такие утешения еще больше настораживают? Хорошо, она с ним еще поговорит!
На сцене пели, декламировали.
К роялю подошла Маргарит. Ара глубоко вздохнул и высвободил руку из рук матери. Впервые предстояло ему слышать публичное выступление любимой девушки. Шогакат любовно поглядывала то на сына, то на будущую невестку.
— Хорошая какая, правда, мама?.
— Очень хорошая, родной мой.
Шогакат подтверждала, что Маргарит играет хорошую вещь, — так она поняла вопрос сына. А для Ара хороши были и исполнение и прежде всего сама пианистка; хороша была клавиатура рояля, которой касались пальцы Маргарит, хорош был зрительный зал и хороши были зрители, так внимательно слушавшие любимую им девушку.
Шогакат выискивала удобную минутку, чтобы выспросить у сына, перестал ли он бояться темноты и одиночества. Но такой минуты не выдавалось. Собираясь с духом, Шогакат обводила взглядом молодых бойцов и командиров, медицинских сестер в военной одежде и думала: разве можно в их кругу задавать такой вопрос даже шепотом? Боязливость Ара могла быть простой пугливостью подростка, о которой он теперь, конечно, уже и сам позабыл. Так стоит ли задевать сына этим вопросом? Да и можно ли отвлекать Ара, когда он с таким вниманием слушает игру Маргарит? Шогакат с горечью вспоминала, что из-за войны она не смогла торжественно справить их обручение.
После концерта влюбленные уединились. Стоя в тени шелковицы, Ара любовался сияющим лицом Маргарит. Ему хотелось заглянуть глубоко-глубоко в глаза любимой, но каждый раз, не выдержав горячего взгляда Маргарит, он отводил свой взор.
— Маргарит, ты бываешь у матери Габриэла? — спросил Ара.
— Габриэла? — переспросила Маргарит, удивляясь тому, что Ара прежде всего интересует это. Но все же она охотно стала рассказывать: — Несколько раз я заходила к ней вместе с Ашхен. В письмах Габриэл почти исключительно обращается к матери. Все время пишет: «Мама-джан, будь спокойна, я себя чувствую прекрасно, подружился с хорошими парнями». Тетушка Сатеник по десять раз заставляет перечитывать его письма. Как-то раз она даже призналась, что, когда Михрдат читает ей письма сына, ей не верится: неужели Габриэл и вправду пишет ей такие хорошие слова? Когда же мы ей читаем и она слышит то же самое, она всякий раз плачет, но потом успокаивается и диктует нам ответ. Обычно вот так: «Бесценный мой сынок, знаю я, ты пишешь все это для того, чтобы меня успокоить. Знаю, что вам и без сна приходится ночи проводить, бывает, что и поесть некогда, а уж этих проклятых ружей и пушек у безбожных фашистов хоть отбавляй… Дожить бы твоей бедной матери до того дня, когда ты вернешься; пусть обниму тебя, а там хоть в могилу…» И все в таком духе. Но мы с Ашхен дали слово Габриэлу писать точь-в-точь, как скажет Сатеник, не меняя ни слова.
— Ничего, скоро нас отправят, встречусь там с Габриэлом.
— Да, Габриэл уже отличился на войне… — вырвалось у Маргарит, и она сейчас же пожалела о сказанном: а вдруг Ара подумает, что она считает его плохим солдатом?
Но Ара не обратил внимания на ее слова. Хотя Ара уже объяснился с Маргарит, но при каждой встрече Маргарит казалась ему еще прекрасней, еще милее и — с горечью думал Ара — еще более недосягаемой. С Маргарит Ара оставался все тем же несмелым юношей, каким был в вечер первого объяснения с нею.
К ним приближалась Ашхен.
Ара взял руку Маргарит и глухо спросил:
— Уже уходишь?
— А ты бы хотел, чтобы я осталась?
— Нет! — твердо ответил Ара, оглядываясь на Ашхен, которая уже подошла к ним и взяла обоих под руки.
— Вот как? Почему же? — улыбнулась Маргарит.
— Мы можем соединиться только после разлуки!
— Ты прав, мой Ара, — отозвалась Ашхен, — теперь расстаются все любящие. Это сделает вашу встречу еще более радостной.
В присутствии Ашхен Ара словно стал смелее и решился выговорить те слова, которые давно собирался сказать:
— Пусть Ашхен знает, что мы любим друг друга.
Глава вторая
АШХЕН
Встречая Ашхен в сером платье и белой косынке с красным крестом, Заргаров всякий раз говорил, покачивая головой: «У этой женщины жестокое обаяние».
Дойдя до улицы Абовяна, Шогакат-майрик и Маргарит вместе с Вртанесом свернули в переулок. Ашхен осталась с Берберяном. В последнее время многие из знакомых Ашхен замечали сурово-сосредоточенное выражение на ее лице и невольно придерживали язык, чтобы не задеть ее необдуманным словом.
Познакомившись с Берберяном, Ашхен несколько раз видела его после этого на собраниях. На встрече с бойцами Ашхен вначале слушала его рассеянно. Но постепенно речь Мхитара захватила ее. Она разрешила Берберяну проводить ее до дому; она давно заметила, что он ищет повода поговорить с ней.
— Итак, товарищ Ашхен, — заговорил Берберян, — вскоре и я должен буду проститься с вами.
— Разве? — дружески откликнулась Ашхен.
— Да. И в результате вам прибавится работы.
— Работы — мне?
— Вас это удивляет? Вртанес мне рассказывал, что вы и Маргарит часто бываете у матери Габриэла, пишете ему письма под ее диктовку. Моя мать была бы рада видеть у себя таких посетительниц.
— Ну что ж, если не я, то Маргарит всегда может зайти к ней.
— А почему не вы?
— Кто знает, может, и мне придется выехать в каком-либо направлении…
— Сейчас есть одно направление для всех.
— Вот в этом самом.
— Но разве мало работы в госпитале?
— Оставим это. Так вы действительно едете?
— Да. А какая именно будет работа и где — это решится в ближайшие дни.
— Наверное, возьмут на политработу: вы хороший оратор.
Ашхен заметила, что Берберян покраснел. После небольшой паузы она прибавила:
— Думаю, что и работать будете хорошо…
— Так, что слово у меня не будет расходиться с делом, — усмехнулся Берберян.
— А вы знаете, это свойство, которое встречается не у всех… — И Ашхен убежденно добавила. — Но без этого невозможно завоевать доверие бойцов.
— Вы говорите так, словно только что вернулись с фронта… — с невольным удивлением отозвался Берберян.
— На фронте я не была. Но раненые говорят со мной откровенно.
— Вот и хорошо, — может быть, вы ответите мне на такой вопрос. Я часто выступаю на собраниях и приблизительно знаю, как действует слово оратора на слушателей. Но как действует искусство? Мне интересно ваше мнение об этом.
— Если вы говорите о настоящем искусстве, в котором нет фальши, оно способно повести людей на подвиг.
— И вы не преувеличиваете?
— О, нет! У народа должно быть представление о прекрасном, и за это прекрасное он должен бороться. Вот как вы думаете, во имя чего боролись греки с троянцами?
— Вы задаете мне тот же вопрос, который задавал Цлик-Амрам Геворку Марзпетуни.
— О, нет! Он спрашивал о том, почему Ахилл не желал сражаться с троянцами, пока те не убили Патрокла. Я спрашиваю о другом и сама отвечу на свой вопрос. Елена была символом красоты, свободы и чести своей родины. И греки сражались во имя своей чести и свободы, то есть во имя того, что является самым возвышенным к прекрасным на свете. Иначе показалось бы просто смешным, что люди могли, хотя бы тысячи лет назад, затеять войну из-за похищения одной женщины.
— Любопытное объяснение!
— Мы все время говорим о том, что враг грозит уничтожить наши завоевания, заставить нас забыть о нашем славном прошлом, покрыть завесой мрака наше настоящее; мы вспоминаем имена Толстого и Репина, Вардана Мамиконяна и Хачатура Абовяна и все это связываем с защитой свободы нашей родины. Если эти мысли выразить средствами искусства, их влияние огромно!
— Вот как… А один из моих приятелей утверждал, что все эти концерты и здесь и на фронте — лишь потеря времени: мол, найдутся ли желающие слушать пение, перед тем как идти в бой?
— Надеюсь, вы сумели разубедить своего приятеля?
— Нет, представьте себе, мне это не удалось. Уверен, что вы сумели бы…
— Во всяком случае, постаралась бы, — улыбнулась Ашхен.
— Постарались бы? — переспросил Берберян, не отрывая взгляда от лица собеседницы.
— Непременно. Чувство возвышенного и прекрасного легче всего внушаются средствами искусства! — уверенно закончила Ашхен.
Они свернули на улицу Налбандяна. Переходя через улицу, Берберян взял Ашхен под руку и тихо промолвил:
— Говорите же…
Ашхен ускорила шаги и, дойдя до тротуара, высвободила руку.
Она поняла, что ее спутнику хотелось не столько вести разговор, сколько слышать голос собеседницы; безошибочное женское чутье говорило ей, что Берберян начинает увлекаться ею. Ашхен вскинула голову: пусть почувствует ее спутник, что Ашхен тотчас же откажется от дружеских отношений с человеком, который осмелится подойти к ней как искатель развлечений…
На этот раз Ашхен была не права. Мхитару нравилась Ашхен, нравился ее своеобразный разговор, но он никогда не позволил бы себе зайти слишком далеко.
Берберян чувствовал, что слова Ашхен являются как бы необходимым дополнением к его мыслям, и ему хотелось, чтобы эта привлекательная женщина в косынке с красным крестом продолжала говорить. Он выискивал в уме вопросы, которые могли бы заинтересовать Ашхен и заставить ее высказаться. Но не успел он открыть рот, как перед ними вырос Тартаренц и преградил дорогу.
Берберян нахмурился и собрался было оттолкнуть его, но по каким-то признакам уловил, что Ашхен этому незнакомцу не чужая.
С первого взгляда можно было сказать, что Тартаренц чем-то сильно обрадован. Широкая улыбка придавала его лицу глуповатое выражение. Эта улыбка была знакома Ашхен, и она со стесненным сердцем ждала какой-нибудь неприятности. Одно веко Тартаренца приспустилось, создавая впечатление, что левый глаз поврежден. Правый он сильно щурил, так что заглянуть ему в глаза было невозможно. И сам он не пытался глядеть прямо на собеседника, должно быть, из опасения, что окажется не в состоянии выдержать испытующий взгляд.
Тартаренцу давно хотелось завязать знакомство с Берберяном. До него дошло, что Берберяна раза два видели с Ашхен, и он мечтал как-нибудь встретить их вместе. И вот судьба улыбнулась ему.
— Товарищ Берберян, я знаю, что вы друг Вртанеса. Следовательно, вы друг нашей семьи… — и он сперва показал на Ашхен, а затем торжественно приложил пальцы к своей груди жестом, говорящим о том, что Ашхен является его собственностью, находится у него в подчинении.
Теперь Берберян догадался, кто стоит перед ним. С невольным сожалением перевел он взгляд с Тартаренца на Ашхен. Смысл этого взгляда не ускользнул от Ашхен, и ее охватил неясный гнев не то против мужа, не то против своего спутника. Закусив губу, она незаметно притопнула ногой, но, как обычно, сумела подавить раздражение и приняла равнодушный вид.
— Ашхен, — заговорил Тартаренц, — почему ты до сих пор ни разу не пригласила к нам товарища Берберяна? Пригласи же его, я сегодня купил хорошее мясо на шашлык.
Берберян видел, что Ашхен неприятна встреча с Тартаренцем и его настойчивость. Он вежливо отклонил предложение под предлогом, что его ждут дома.
Но Тартаренц решил не упускать удобного случая. Он в душе даже выругал Ашхен за безразличие. Обычно принимавший вид человека ревнивого, он на этот раз без стеснения готов был использовать явную симпатию Берберяна к его жене. С той же широкой улыбкой на лице он снова обратился к Берберяну:
— Ну, хорошо, на этот раз не буду настаивать. Но прошу вас обязательно пожаловать к нам на обед в ближайшие же дни! Очень сожалею о том, что моя Ашхен не проявляет самостоятельности и сама не приглашает к нам симпатичных людей из числа своих знакомых… Тем более, что одно важное обстоятельство…
В лице Ашхен что-то дрогнуло. Она закусила губу и сделала вид, что ничего не слышит. А Тартаренц настойчиво продолжал:
— Понимаете, я целый год проучился в медицинском институте… Это моя заветная мечта — стать санитарным врачом!.. Вы сами знаете, как это важно для нашей армии, для обеспечения нашей победы. И вот сегодня…
Он запнулся. С чего начать? С того, что какой-то клеветник написал в медицинский институт, будто он, Тартаренц, симулянт и никакая медицина его не интересует? Или с того, что срезавшие его на экзаменах преподаватели пристрастные люди, поддавшиеся влиянию клеветников и личных врагов Тартаренца?.. Но на долгие размышления времени не было, и он заторопился:
— Вы понимаете, оклеветали меня. А преподаватели испугались. Вот я и прошу вас дать мне записку к профессору… — он назвал имя декана. — Он все уладит, ведь слово ЦК для него закон!
Берберян понял, что перед ним находится заурядный блатмейстер. А Мхитар органически не выносил людей подобного рода.
— Прежде всего, вы напрасно предполагаете, что мое слово будет расцениваться, как распоряжение ЦК, тем более что я и сам никогда на это не претендовал… не говоря уж о том, что надо готовиться к экзаменам и сдавать их в общем порядке.
— Да что вы говорите, товарищ Берберян?! — воскликнул Тартаренц. — Прошли уже времена этого «общего порядка», сейчас многое зависит от знакомства. Если кто-нибудь не помешает этому, завтра будет отдан приказ и меня отчислят из института. А вы понимаете, чем это пахнет?! Не подумайте, пожалуйста, что я избегаю… Но мне хотелось бы пойти в армию врачом… А так… — Тартаренц замялся. — Извините, что я побеспокоил вас…
— Вы меня не побеспокоили.
Тартаренц был не из числа тех людей, на которых действует интонация собеседника. Ему нужно было добиться цели, и он готов был использовать для этого любой случай. А разве не было удачей, что он поймал Берберяна, дружески гуляющим с его, Тартаренца, женой?!
— Ну, вот и хорошо! — подхватил он. — Раз я не побеспокоил вас, раз вы относитесь дружески… нужно черкнуть всего две строчки на имя профессора! Я спрашивал, он знает вас и очень уважает…
Тартаренц точно не замечал пренебрежительного отношения собеседника.
Берберян бросил взгляд на Ашхен и, сдерживая возмущение, резко сказал:
— Прекратим этот разговор!
Тартаренц собирался что-то ответить, но тут вмешалась окончательно потерявшая терпение Ашхен.
— Довольно! — крикнула она и, повернувшись к Берберяну, глухо проговорила: — До свидания, товарищ Берберян.
Берберян, не глядя на Ашхен, пожал ей руку, молча кивнул головой Тартаренцу и удалился.
— Да ты жена мне или враг? — напустился Тартаренц. — Почему ты не сказала хотя бы слово?
— Я сказала одно слово в конце и теперь повторяю его: довольно! Неужели у тебя совсем нет чувства достоинства? Врача из тебя не выйдет, у тебя нет ни малейшего желания учиться. Ты ведешь себя постыдно… Опомнись же, у тебя есть сын! Если ты будешь идти по этому пути, нам нельзя будет смотреть людям в глаза!
— Не произноси, пожалуйста, речей! Постарайся встретиться с этим Берберяном. Он, видно, порядочный человек. Попроси его сама, чтобы он вмешался. Пойми: еще два-три дня — и конец. Нет у тебя мужа! Возьмут в армию, а там…
— Молчи и не смей при мне так говорить! Как для всех положено, так и с тобой будет!
— Ах, положено! Ладно. А скажи мне, пожалуйста, где положено, чтобы этот твой Берберян с чужой женой разгуливал? Как видно, это не для всех «положено», а лично и индивидуально для него!.. И я имею право поступить с тобою так, как найду нужным… ты понимаешь? — с угрозой произнес Тартаренц.
— Негодяй! — только и смогла вымолвить Ашхен.
Отвернувшись от мужа, она быстро направилась к госпиталю, находившемуся на улице Абовяна.
Глава третья
УТЕШЕНИЯ И СТРАДАНИЯ
Поднявшись по лестнице, Ашхен привела себя в порядок в комнате, отведенной для дежурных, заправила под косынку выбившиеся пряди волос и надела белый халат.
Она была взволнована. Ей ни с кем не хотелось говорить. Самолюбие ее было глубоко задето, — задето собственным мужем. Она горько жалела, что позволила Берберяну проводить себя. Тартаренц не решился бы обратиться с подобной просьбой, если б не встретил их вместе. Что подумает теперь о ней Берберян? Ведь он может отнести ее к числу тех женщин, которые прибегают к любым уловкам, лишь бы освободить мужей от призыва в армию. А может подумать и хуже — ей хочется освободиться от присутствия мужа, развязать себе руки… Любое из этих предположений оскорбительно. «Но какое право он имеет так думать?!» Ашхен с гримасой терла виски. «Ах, откуда же я знаю, кто о чем думает?..» Однако самым невыносимым было все же поведение Тартаренца, и Ашхен больше всего возмущало то, что она не могла повлиять на него. Еще на школьной скамье все подруги считались с ее мнением, редко случалось, чтобы она не могла убедить кого-либо в том, что находила правильным. А теперь она была бессильна в своих попытках повлиять на Тартаренца. Самым разумным было бы уйти от мужа, поведение которого она считала постыдным. Но гордость мешала ей сделать этот шаг.
Так и не придя ни к какому решению, Ашхен вышла в коридор и, лишь увидев перед собой Вртанеса, пришла в себя.
— Откуда вы здесь? — с принужденной улыбкой спросила она.
— Хочу побеседовать с ранеными, — обещал написать очерк для «Советакан Айастана». Сейчас приедут артисты, будет небольшой концерт.
— Вот и хорошо. А мне хотелось бы послушать вашу беседу. Я каждый день беседую с ранеными, но мне и в голову не приходило, что их рассказы можно записывать.
— Пойдемте со мной, думаю, что ваше присутствие будет очень кстати.
— Они привыкли ко мне.
Вртанес надел белый халат.
Ашхен взглянула на него и вдруг, неожиданно для себя, спросила:
— Вам часто приходится встречаться с Мхитаром Берберяном? Что он за человек, как вы думаете?
Вопрос Ашхен застал Вртанеса врасплох, но он уверенно ответил:
— Берберян — человек, с которым можно дружить, которому можно смело открыть сердце.
— Даже «открыть сердце»?.. — Ашхен почему-то почувствовала облегчение.
Они вошли в палату. Уже с первого взгляда можно было сказать, что здесь раненые разной национальности. Игнат Белозеров был кубанский казак, Шаяхмед Вагидов — башкир. Были раненые уроженцы районов Армении; Вахрам Арамян, например, был из Ленинакана. Состав раненых часто менялся.
Внимание Вртанеса привлекли Игнат Белозеров и лежавший рядом с ним юноша могучего сложения, по имени Грачик Саруханян. Из расспросов выяснилось, что Грачик родился в Хндзореске, но мать после смерти его отца перебралась к родственникам в Баку. Грачик был ранен в Керчи. Он с увлечением рассказывал о керченских событиях, с волнением описывал, как в ожесточенном бою погиб командир армянской дивизии полковник Закиян. Он задумался и медленно продолжал:
— Говорю я товарищу: «Вот убили полковника». — «Разве так можно оставить? — отвечает товарищ. — Позор нам, если не сумеем отомстить!» А тут, как назло, меня и ранило в ногу. Зарядил я автомат — рана была легкая — и давай поливать фашистов, руки-то у меня хорошо действовали. Как это получилось, я и сам не знаю, только, кажется, никогда я так хорошо не стрелял. И понял я, что у человека не только мускулы, а есть еще другая, скрытая сила… Трудно мне это все объяснить, вы, товарищ писатель, лучше поймете… Не знаю, сколько времени продолжался бой, только открыл я глаза и вижу, что нахожусь в санчасти. Пришел меня навестить комиссар, похвалил, сказал, что даже к ордену представили…
С улыбкой взглянув на Ашхен, раненый задумчиво сказал:
— Как взгляну я на тебя, Ашхен-джан, переворачивается сердце у меня: ведь суженая моя Рузан так на тебя похожа, словно вы сестры…
— Вы только поглядите на него! — отозвался со своей койки Вахрам. — Хочет сказать: у меня, мол, такая же красивая невеста, как Ашхен! Если у человека такая красавица жена, он «без оружия, без войска на шаха войной пойдет»! Это Туманян так говорил. А ты лежишь здесь на койке и стонешь.
Хотя Ашхен привыкла к балагурству раненых, но эти слова, сказанные в присутствии Вртанеса, заставили ее покраснеть. Она с упреком взглянула на Вахрама и обернулась к Грачику:
— Когда же приедет сюда Рузан?
Грачик чуть смущенно отвел свои большие черные глаза:
— Рузан одна приехать не может, ведь мы только слово дали друг другу. Письмо она мне написала, вместе с матерью моей приедет.
— Ну, еще лучше: увидишь вместе и мать и невесту!
— Хорошая у меня мать, очень хорошая! Только тревожится сильно. Уж не знал я, как написать, что ранен. Наконец собрался с духом, написал. На днях приедут вместе. Жду их.
Ашхен знала историю каждого раненого, за которым ухаживала. Грачик ей много рассказывал о матери Нвард, но о невесте его она впервые услышала. Ласково кивнув Грачику, Ашхен вместе с Вртанесом прошла в следующую палату.
— Этот Грачик, обратили внимание, как он говорил? — уже шагая рядом с Ашхен по улице, сказал Вртанес. — Да, вот тебе и нравственная сила… Говорит, не нахожу слов объяснить, но ведь более красноречиво не скажешь, чем он… Интересно также, что он находит сходство между тобой и своей невестой!
— И ведь не только Грачик, — улыбнулась Ашхен. — Один находит, что я похожа на его сестру, другой — на тетку, на дочь, а один выздоравливающий уверял, что женится только на той, которая будет похожа на меня…
— Это говорит о том, что вы очень нравитесь им.
Ашхен шла к Вртанесу, чтобы забрать Тиграника. Седа долго не отпускала ее, но Тиграник был совсем сонный, он со вздохом обнял мать ручонками и склонил голову ей на плечо. Отказавшись от ужина, Ашхен поспешила домой. Несмотря на ее отнекивания, Вртанес взял у нее ребенка и проводил Ашхен до дому. Ашхен не пригласила Вртанеса зайти, хотя это выглядело не очень вежливо.
В кругу раненых она совсем забыла о столкновении с мужем. Но сейчас ей предстояло снова встретиться с ним… Снова те же мелкие расчеты, то же невыносимое малодушие!
Ашхен вошла в комнату с омраченной душой. Она осторожно положила на кроватку сонного мальчика, машинально проверила, в порядке ли светомаскировка, и мельком взглянула на сидевшего за столом Тартаренца, который торопливо что-то писал и зачеркивал на листке бумаги. Не поворачивая головы, Тартаренц равнодушно спросил:
— Явилась?
— Как видишь.
— Кто тебя поймет, зачем ты уходишь, зачем приходишь?! Так вот, слушай мое последнее слово: никаких больше встреч с этим, как его, Берберяном! Слава богу, теперь я знаю вам цену… Но не торопись радоваться раньше времени: Заргарову (вот это человек, понимаю!) удалось найти способ повлиять на профессора, мы обошлись без твоей помощи. Небось хочется узнать как? Ну, дудки, ничего не узнаешь!
На лбу и у тонких ноздрей Ашхен выступили мелкие капельки пота, к лицу прилила кровь. Она вспоминала то Грачика с его Рузан, то раненого, запомнившего стихи Туманяна: «Если у человека такая красавица жена, он без оружия, без войска на шаха войной пойдет!» — и вдруг перед нею возникла фигура мужа, заискивающего перед Берберяном… А тут еще какая-то новая уловка Заргарова! Ашхен готова была заплакать, но разве слезы помогут? Она молча стала прибирать комнату. Тартаренц внимательно следил за женой. Вдруг, точно придя к какому-то заключению, он громко сказал:
— В последнее время ты что-то очень своевольничаешь… Уж не намерена ли ты разойтись со мной?
— Намерена сделать тебя человеком… Но вижу, что задача очень трудная.
Тиграник захныкал и повернулся на бочок. Ашхен успокоила ребенка и потом сказала:
— Как видно, правду говорят: «Горбатого могила исправит».
— Да как ты смеешь меня хоронить?! Кто это подучил тебя так непочтительно говорить с мужем?
— Не нуждаюсь в том, чтоб меня подучивали, — холодно отозвалась Ашхен.
Она с горечью все больше убеждалась в том, насколько они чужды друг другу, хотя и живут под одной кровлей. Тартаренц и сам давно понял, что Ашхен слишком самостоятельна. Он иногда притворялся, будто ревнует ее, или пытался навязать ей свою волю, считая, что именно так нужно действовать. И в этот день он решил показать, что является хозяином в семье. С деланной улыбкой на лице он подошел к Ашхен и обнял ее со словами:
— Ну ладно, чего скисла? Что было, то было! К черту этого Берберяна, нам поможет Заргаров… Знаешь, Ашхен, сердце у меня переворачивается, когда я вижу тебя с Тиграником на руках. Как же мне оставить вас, как уехать? Уж если придется идти, лучше по специальности…
Ашхен не слушала его, она рассматривала разорванную рубашонку Тиграника, прикидывая, как бы лучше зашить дырку. Тартаренц взял из ее рук рубашонку, отбросил ее в сторону и хотел поцеловать жену.
Ашхен порывисто встала со стула, но, сдержав себя, спокойно произнесла:
— Оставь меня в покое.
— Это еще что за новости? — вспылил Тартаренц. — Жена ты мне или нет? — И он хотел насильно обнять Ашхен.
— Ты же знаешь, что силой ничего не добьешься, отойди от меня! — резко произнесла Ашхен.
— Вот так женушка — врагу не пожелаю! — почувствовав свое бессилие, воскликнул Тартаренц. — Не воображаешь ли ты себя новой девой Марией непорочной? Ты забыла, что я твой муж!
Видя, что его слова не производят впечатления на Ашхен, он злобно усмехнулся:
— Ну, конечно, завела себе новых знакомых, теперь и муж тебе не нужен… Я вижу, ты на все способна…
Ашхен не дала ему продолжать. Она шагнула к нему и с негодованием проговорила:
— Низкий ты человек!
— Оскорбляй, оскорбляй! Ловко ты используешь обстоятельства! Смотри, плохо тебе придется, если я возьмусь за тебя…
— Да замолчишь ты или нет?!
Ашхен отвернулась от Тартаренца, присела к своему столику и тяжело вздохнула. Тартаренц несколько раз прошелся по комнате, тайком поглядывая на расстроенное лицо жены. «Терпи, Тартаренц, выкрутишься как-нибудь. Эти бабы всегда так: посердятся и перестанут… — успокаивал он себя. — Ашхен еще оценит твои способности и сноровку».
Время близилось к полночи. Ашхен собиралась уже лечь, когда в дверь постучали. Тартаренц съежился от страха и пробормотал:
— Погляди скорей, кто это… А вдруг повестка…
Скрипнув зубами, Ашхен пошла к двери. Через порог ступила улыбающаяся Маргарит.
— Ах, Маргарит, сердце так и подсказало мне, что это ты! Как хорошо, что ты пришла! — с облегчением вздохнул Тартаренц.
— Ашхен-джан! — обняла подругу Маргарит. — Я прямо от Шогакат-майрик к тебе прибежала!
— А что случилось? — с радостным предчувствием спросила Ашхен.
— Приехал он, приехал!
— Да кто, говори скорее!
— Асканаз приехал, Асканаз! Героем вернулся! Ах, как жаль, что уже поздно, неудобно к ним идти… Кланялся тебе…
Тартаренц насупился и резко спросил:
— Больше никому не кланялся?
— Ой, забыла, и тебе кланялся.
— Вот изволь, полюбуйся на своего Асканаза! — насмешливо обратился к Ашхен Тартаренц. — Все на фронт, а он в тыл!
Маргарит с возмущением взглянула на Тартаренца и сочла излишним объяснять, зачем приехал в Ереван Асканаз.
Лицо Ашхен сияло от радости. Она все забыла и даже Тартаренца готова была простить. Обняв Маргарит, она несколько раз крепко поцеловала ее.
Кровать Тартаренца задвинули в угол, а на другой кровати Ашхен и Маргарит улеглись вместе. Натянув одеяло на голову, Тартаренц прислушивался к шепоту подруг, раздражаясь каждый раз, как ему удавалось уловить имя Асканаза.
Глава четвертая
НЕЗАКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ
Уже свыше месяца дивизия Денисова в составе одной из армий преследовала противника, постепенно оттесняя его к западу от Москвы. Имя полковника Денисова упоминалось в сообщениях Совинформбюро: его отмечали как смелого и решительного полководца, освоившего новейшую тактику ведения войны. В середине января дивизия Денисова удачным маневром на Можайском направлении освободила город Дорохово. Пока Денисов намечал действия своих полков на новых направлениях, ему позвонил командир 625-го полка и доложил об имевших место потерях. В заключение командир сообщил, что в то время, когда первый батальон вытеснял фашистов из предместья, был ранен комбат майор Араратян.
— Куда ранен? — быстро спросил Денисов.
— В плечо.
— Кость задета?
— Нет. Немецкий снайпер метил в голову, но пуля пробила мякоть предплечья.
— Ну, легко отделался, — успокоился Денисов.
Асканаз был отправлен на лечение в один из московских госпиталей. К концу января он уже почти оправился. Желая отыскать кого-нибудь из московских знакомых, он начал перелистывать тетрадку с адресами, и вдруг взгляд его упал на полустертую карандашную запись: «Нина Михайловна Захарова». И рядом, в скобках, стояло имя: «Дима».
Асканаз сразу вспомнил бой за населенный пункт В., гибель матери Нины, спасение Димы… Потеряв мать, Нина решила вернуться в Москву вместе с сынишкой. Асканаз открыткой дал ей знать о том, что лежит в госпитале, и на следующее же утро Нина пришла навестить его.
Хотя Асканаз и Нина мало знали друг друга, но обоим казалось, что они старые знакомые. Нина сразу привлекла внимание всей палаты. Она была одета со вкусом, на ее раскрасневшемся от мороза лице сияли синие глаза. Но от Асканаза не ускользнуло, что под внешним оживлением Нины таится какая-то печаль.
Асканаз рассказал Нине о том, как он был ранен. От нее он узнал, что Дима находится на попечении ее старшей сестры Оли, а сама она работает где-то управделами, но работа ее не удовлетворяет.
Вскоре Асканазу разрешили ходить, и он много времени проводил в комнате отдыха. В следующее посещение Нины он обратил внимание на то, что она то и дело вспоминает сына. Видно было, что весь смысл жизни для нее сосредоточен в Диме. Когда Нина стала еще раз благодарить Асканаза за спасение сына, он с ударением повторил то, что и до этого говорил ей не раз:
— Вашего Диму спас Григорий Поленов!
— Григорий Поленов… Скажите, вы хорошо его знаете? — задумчиво спросила Нина.
— Не плохо! — тоном, в котором звучало одобрение, ответил Асканаз.
— Уже третье письмо мне пишет…
— Ну как, поправился?
— Его перевели в госпиталь в Орехово-Зуево. Сильно мучила его рана на голове. Теперь ему, наверное, лучше — видно по письму. Грустные вещи он пишет… но как-то своеобразно…
— Это похоже на него, — улыбнулся Асканаз.
— А-а, значит, вам знаком его стиль? Хотите, прочту?
И, не дожидаясь согласия Асканаза, Нина достала из маленькой сумочки письмо и начала читать вслух:
— «Здравствуйте, Нина Михайловна!
Видно, недаром записали вы свой адрес и положили мне в карман. Когда я пришел в себя и увидел этот листок, то сказал себе: «Это тебе, Григорий, не клочок бумажки, а путевка в жизнь! Если мозг мой не сыграет шуток со мной (а врачи, оказывается, первое время боялись, что у меня сотрясение мозга), — говорю я себе, — напишу-ка я хорошее письмо Нине, расскажу ей свои горести». Ведь жену мою, бедную Тоню, эти проклятые угнали в Германию… Сама ты мать, поймешь — ведь Тоня готовилась стать матерью. Хорошая она женщина была, не встречал другой такой!.. Думаю я и говорю сам себе: «Эй, проклятый фашист, всадил мне пулю за ухо и решил, что покончил все счеты со мной? Нет, брат, мои счеты с тобой еще не покончены. Погоди еще, встану на ноги и, чего бы мне это ни стоило, доберусь до тебя!» Вот какие дела, уважаемая Нина Михайловна. Диму поцелуйте за меня, скажите, что его целует раненый боец, и еще скажите… Ну, что бы ему такое сказать хорошее? Ведь я не знаю, как нужно обращаться с детьми. Ну, сами что-нибудь скажите подходящее, Нина Михайловна. Рана была бы вдвое мучительнее, если б я не вспоминал о том, что Дима сейчас находится в безопасности, у матери. Значит, стараюсь терпеливо переносить боль. Ну, вот и все. Примите мой привет. Хотел бы знать, где моя Тоня, — больно думать о ней…»
Нина сложила письмо и опять спрятала в сумочку.
— Дайте-ка мне адрес, напишу и я ему несколько строк… Прошу вас, не забудьте ответить ему. Получать письма — это большое утешение для раненых бойцов, знаю по себе.
— Ну, что вы, конечно, непременно напишу!
Частые посещения Нины навели кое-кого на подозрения. Но с течением времени для всех окружающих стало ясно, что отношения их носят иной характер. Нина вначале относилась к Асканазу слегка настороженно, но вскоре она убедилась, что имеет дело с человеком, который будет ей попросту другом, и другом хорошим.
В начале февраля, когда Асканаз уже совершенно поправился, он получил предписание явиться в отдел кадров Народного Комиссариата Обороны. В комиссариате Асканаз встретился с Денисовым. Асканаз узнал, что Денисова вызвали в Москву и что он передал командование дивизией командиру 625-го полка Синявскому. Асканаз сразу понял, что Денисов говорил о нем в отделе кадров комиссариата.
— Значит, так, товарищ майор: три месяца будете учиться на курсах при Военной академии имени Фрунзе. Военный опыт у вас уже есть, постарайтесь овладеть теорией. Вы же историк, не так ли?
— Снова учиться?… Ведь я уже успел приобрести известные знания на курсах.
— Да, у вас есть кое-какая подготовка и боевой опыт. Но этого мало…
…И Асканаз начал учиться в Военной академии. Каждый день у него был уплотнен до отказа, он занимался даже по воскресным дням, не оставляя себе времени ни для отдыха, ни для развлечений. Но как-то, в начале апреля, уступая настояниям Нины (которая иногда звонила ему), Асканаз отпросился вечером и поехал к ней. Нина жила в деревянном домике в одном из старых районов Москвы. Домик плохо отапливался, и Нине часто приходилось отвозить ребенка к сестре. «Конечно, Нина тоскует в одиночестве», — думал Асканаз. Но где же был отец ее ребенка? Нина никогда не упоминала о нем, а сам Асканаз считал неудобным расспрашивать. На стене висела увеличенная фотография Димы. Если бы муж Нины был в армии, его портрет висел бы рядом с карточкой сына.
Асканазу в этот вечер показалось, что Нина расположена говорить откровенно, и, сделав над собой усилие, он спросил:
— Знает ли отец Димы, как был спасен ребенок?
Нина отделалась неопределенным ответом:
— Не знаю.
Несколько минут длилось молчание.
Нина пальцем обводила узор скатерти, порой искоса поглядывая на Асканаза. Заметно было, что она борется с собой. До сих пор она никому не рассказывала об отце Димы, даже родной сестре. Теперь же Нина чувствовала, что именно Асканазу она может смело рассказать все, что ей пришлось пережить. Бросив взгляд на карточку сына, она решительно повернулась к нему.
— Вы спрашивали об отце Димы… Начнем с матери Димы. Все это произошло три года тому назад. Я только что кончила десятилетку, поступила в Сельскохозяйственный институт. И каких только планов я не строила насчет своего будущего! Хорошо сдала экзамены и перешла на второй курс. Решила, что поеду отдыхать в санаторий, хотя никакой болезни у меня не было. За два дня путешествия по железной дороге встретила много попутчиков, и все они казались мне хорошими людьми, заботливыми, добрыми. Доехала я до санатория… Нет, все это лишние подробности… — сама себя остановила Нина, налила себе и Асканазу по чашке чаю и продолжала, нервно помешивая ложечкой: — В поезде познакомилась с одним человеком. Держался он очень скромно. На второй день пребывания в санатории, после завтрака, он подошел ко мне и сказал: «Мы уже знакомы с вами, вместе ехали». Я была с ним приветлива. Звали его Анатолием. Мы часто встречались за обедом и за ужином, вместе ходили в кино и на танцы. Я жила в одной комнате с тремя девушками. Мы подружились. Иногда Анатолий стучался к нам, спрашивал, как мы себя чувствуем, и уходил. Девушкам он очень нравился. Они все дразнили меня: «Хороший у тебя поклонник, Ниночка!»
У Асканаза невольно вырвалось:
— А-а…
— Вы хотите сказать — знакомая история? — словно задетая этим восклицанием, отозвалась Нина. С минуту она молчала, опустив ложку и задумчиво глядя куда-то вдаль. Затем встряхнула головой и, сплетя пальцы обеих рук, продолжала: — Мы часто гуляли с Анатолием в роще. Вы понимаете — роща, благоухание цветов, светлячки, ласковые слова… А я впервые в жизни слышала слова любви и такие взволнованные! И до этого мы часто говорили с подругами о любви, судили-рядили о ней, но все это было попросту игрой воображения. А теперь я слышала слова, которые прежде читала только в книгах. Анатолий казался мне ожившим героем моих мечтаний. Я уже не представляла себе жизни без него, дрожала от радости, встречаясь с ним.
Нина вновь умолкла, широко раскрыв глаза.
— И вот как-то Анатолий решительно сказал мне: «Мы должны быть мужем и женой!» После его уверений в любви эти слова показались мне вполне естественными. Оля, моя сестра, всегда упрекала меня за то, что я слишком впечатлительная. Не знаю, что пережили бы другие на моем месте, но я целую ночь не могла заснуть. Мне казалось, что воплощается в жизнь моя самая светлая мечта! Такой культурный, такой чуткий и любящий человек будет моим мужем… К чему было мне узнавать, какая у него профессия, на какие средства он живет? Да он и сам мне как-то мельком сказал, что работает завотделом в одном крупном учреждении… А меня все это не интересовало: должность может перемениться, оклад может уменьшиться или увеличиться, главное — сам Анатолий, такой ласковый, такой внимательный. Мне казалось, что меня ждет счастье… Да…
Нина закрыла глаза, с минуту помолчала, потом, понизив голос, продолжала:
— Мы поженились. Анатолию удалось добиться отдельной комнаты в санатории. В этой комнате мы устроили маленькую пирушку для друзей. Я ничего не написала сестре, только открыткой сообщила о том, что хорошо себя чувствую и решила продлить путевку на пятнадцать дней. Хотела устроить Оле приятный сюрприз, тем более что так посоветовал Анатолий. Я чувствовала себя на седьмом небе, мне нравилось лишь то, что было по душе Анатолию. Кое-кто пытался предупредить меня насчет Анатолия, я сочла, что эти разговоры вызваны завистью, желанием посплетничать. Но были и люди, которые искренне поздравляли меня, приходили с цветами и подарками. Одним словом, по определению одного из санаторных врачей, наш брак стал общественным событием…
Асканаз молча слушал. Но Нина, чувствуя, что рассказ ее затягивается, с беспокойством спросила:
— Не надоело вам?
— Да нет, нисколько, с чего это вы взяли? Вы знаете, по вашему рассказу Анатолий мне нравится…
— Вы смеетесь надо мной?! — с нескрываемым гневом воскликнула Нина. — Я не скажу больше ни слова!
— Простите меня, Нина Михайловна… Но ведь вы сами не сказали ни одного слова, которое можно бы поставить в укор Анатолию!
Нина поняла, что Асканаз не хотел ее задеть, и продолжала:
— Да, к несчастью, он казался культурным и порядочным человеком, и я полностью доверяла ему. И вот за четыре дня до того, как истекал срок наших путевок, Анатолий отправился в город. Сказал, что хочет сделать какие-то закупки. Я была в комнате одна, переодевалась. В дверь тихонько постучали, и вошла какая-то молодая, скромно одетая женщина, на вид довольно приятная. Она долго смотрела на меня, так что мне даже стало неловко… Да, — покачав головой, сказала Нина, — я удивлялась, почему она ничего не говорит… И вдруг она расплакалась. И что же выяснилось, Асканаз Аракелович!.. Оказалось, что она… жена Анатолия и у них уже… двое детей!..
— Ну и история! — невольно вырвалось у Асканаза.
— И какая история!.. Я не осмеливалась смотреть в глаза этой женщине. Что могла она подумать обо мне? Ведь я была причиной несчастья для нее и для ее двух малюток!.. В этот момент меня больше мучило это, чем мысль о том, что я была обманута. Вернулся Анатолий. Вы, наверное, видели блестящие игрушки из мишуры: стоит им только попасть под дождь, и краска с них тут же линяет. Анатолий выглядел именно такой полинявшей игрушкой… Я не захотела слушать никаких объяснений, только сказала:«Объяснитесь сами с вашей женой. А я не хочу вас ни видеть, ни слышать». И сейчас же перешла в прежнюю комнату. Заболела, но не захотела больше оставаться в санатории и вернулась в Москву, к Оле. Очень не скоро я смогла трезво взвесить все случившееся и почувствовала глубокую ненависть к человеку, который разрушил мою веру в любовь. Конечно, вы скажете мне, что люди, подобные Анатолию, составляют исключение. Но почему, почему я была так слепа, что не смогла его разглядеть? Оля все спрашивала меня, что произошло, почему у меня такой подавленный вид, но я попросила ее не говорить со мной об этом. Время само ответило ей… У меня родился Дима. Очень я обрадовалась, узнав, что ребенок похож на меня: не хотела бы вспоминать о н е м, глядя на лицо моего ребенка…
Нина рассказала, с какими трудностями вырастила она Диму.
— В начале июня тысяча девятьсот сорок первого года моя мать увезла Диму с собой в В., где у нас был свой дом: мне нужно было серьезно заниматься перед экзаменами. У меня были поклонники, но я отвергала вез их попытки. Каждый раз вспоминала Анатолия и говорила себе: «Еще один Анатолий!»
— Ну, это уж слишком! — вырвалось у Асканаза. — Нельзя же подозревать всех окружающих из-за того, что вы имели несчастье встретиться с прохвостом.
— Не упрекайте меня! Моя вера в Анатолия была слишком глубокой… Вдруг — война. Я работала в лаборатории наркомата. Враг подходил все ближе. И вот выяснилось, что В. захвачен фашистами, что моя мать с Димой остались в плену. В опасности была и Москва…
— Опасность не миновала и теперь…
— Да, но в ноябрьские дни все было иначе. По первому же призыву я оставила лабораторию и вместе с другими пошла рыть окопы в Подмосковье, работала не покладая рук, уставала до смерти. Жизнь приобрела для меня новый смысл. Уже одно сознание, что я работаю во имя спасения родины, поднимало меня в собственных глазах. Я представляла себе полные слез глаза моего Димки, как будто слышала его голос, когда он с протянутыми ко мне ручонками звал: «Мама… мама…» Вспоминая Анатолия, я уже не чувствовала прежней ненависти к нему: если, думаю, в эти тяжелые дни и он приносит пользу родине, то господь с ним! Но одного я не выносила — когда мне пытались говорить комплименты, ухаживать за мной; я решительно просила оставить меня в покое.
— Решили всех отвергать, — улыбнулся Асканаз.
— Я несколько раз обращалась с просьбой послать меня на фронт, но мне почему-то отказывали. И вот фронт приблизился к В. Ну, а остальное вам известно. Жаль только, что бедняжка мама так и не дождалась победы!..
Нина вздохнула, словно освободилась от какой-то тяжести. Встав со стула, она пересела на маленький диван, крепко переплела пальцы и отсутствующим взглядом уставилась на прикрытую голубой материей лампочку.
Асканаз несколько минут молча глядел на Нину.
— Мне от всей души жалко вас, Нина Михайловна! — произнес он.
Нина с минуту продолжала молча смотреть в одну точку, а затем, как бы очнувшись, сумрачно взглянула на Асканаза.
— Вы жалеете меня? — обиженным тоном сказала она. — Неужели я дошла до того, что меня нужно жалеть!.. Нет, товарищ Араратян, я еще могу работать, я даже могу сражаться! Вот меня уже наградили медалью «За доблестный труд». Я еще многое могу сделать. Не надо жалеть меня. Меня надо понять!
Асканаз в душе сильно подосадовал на себя. Действительно, тут дело не в жалости.
Он подошел к Нине:
— Поверьте мне, Нина Михайловна, я вас понимаю.
Нина отняла платок от глаз, пристально взглянула в лицо Асканазу и промолчала.
Через несколько дней Асканаз снова посетил Нину. Нина рассказывала о Диме, но об Анатолии не было сказано ни слова. Когда Асканаз, прощаясь, поцеловал Нине руку, она с раскаянием шепнула:
— Вы уж извините меня! Ведь вы не обиделись в прошлый раз? Я знаю, вы человек великодушный.
Вместо ответа Асканаз снова поднес ее руку к губам.
Укладываясь спать, Нина долго думала об Асканазе. «Да, он понимает… Но и в его душе таится какое-то горе. Кто знает…» И, не придя ни к какому заключению, Нина уснула.
В конце апреля Асканаз уже окончил курсы. Денисов сердечно поздравил Асканаза и предложил ему готовиться к выезду на Кавказ. Денисову было поручено командование армией, действующей на Кавказском фронте. Асканаз же был направлен в Ереван как командир полка вновь формируемой армянской дивизии. Узнав, что Асканаз едет на фронт, Нина всполошилась.
— Я не могу больше оставаться в тылу, не могу! Попросите Денисова, чтобы и мне разрешили вступить в армию. Увидите, я пригожусь там! Не стану скрывать, мне хочется быть вместе с вами… Я не это хотела сказать, — хочу сказать, что вы меня понимаете…
И вот Нине разрешили выехать на фронт в качестве добровольца. Она должна была заведовать канцелярией штаба дивизии.
В первых числах мая Асканаз и Нина прибыли в Ереван.
Асканаз никого не известил о своем приезде. На станции он встретил одного из знакомых военных и в его машине поехал прямо к Шогакат-майрик. Когда машина уже подъехала к дому, Нина нерешительно спросила:
— А не лучше ли было бы поместить меня в части, Асканаз Аракелович?
— Успеем, а сегодня мы гости у моей названной матери.
Глава пятая
АСКАНАЗ АРАРАТЯН В МХУБЕ
Оторвавшись наконец от Асканаза, Шогакат-майрик увидела, что Маргарит приветливо говорит с вошедшей вместе с Асканазом красивой молодой женщиной. Ласково поздоровавшись с Ниной, она с доброй улыбкой спросила Асканаза:
— Поздравить тебя?
Асканаз поспешил объяснить, что Нина его сослуживица и только. Шогакат-майрик хорошо знала Асканаза. Она покачала головой, бормоча: «Горе мне, не может забыть Вардуи… А девушка хороша, словно роза». Она сокрушенно оглядела Нину и решила относиться к ней со всевозможной заботливостью.
Маргарит, держа руку Асканаза, расспрашивала его о военной жизни.
— Ну, скажи нам что-нибудь утешительное, сынок! — обратилась к Асканазу Шогакат-майрик. — Скоро ли кончится… война? Только не успокаивай меня, как Вртанес!
— Для того чтобы война скоро кончилась, надо, чтобы мы лучше сражались. Ну, об этом поговорим потом. Ты, наверное, уже хорошо играешь, дорогая Маргарит? Надеюсь, при случае поиграешь нам.
— Вот и славно, Асканаз-джан, что ты приехал! — снова вмешалась Шогакат-майрик. — Как раз и обручим Ара с Маргарит!
— О-о, вот это новость! Ну, давай, Маргарит, поцелую мою невестушку в лоб! — И, обернувшись к Нине, Асканаз объяснил: — Маргарит — невеста моего младшего брата Ара. Матери хочется поскорее обручить их.
— Хороший вкус у вашего брата! — улыбнулась Нина. Узнав, кто эта девушка, которая так приветливо говорила с нею, Нина почувствовала облегчение и сама удивилась этому чувству.
Маргарит понимала, что Асканазу и Нине нужно отдохнуть. К тому же ей самой не терпелось поскорее сообщить о приезде Асканаза всем родным и друзьям. Наскоро попрощавшись, она помчалась к Вртанесу, а оттуда поспешила к Ашхен. Сияющая Шогакат-майрик окликнула соседку:
— Парандзем-джан, поздравь меня с большой радостью, порадуйся вместе со мной: Асканаз мой приехал! Дай бог и Зохраба моего так же увидеть…
— Да что ты говоришь?! — удивилась Парандзем и, вскочив с тахты, побежала обнять Асканаза.
— Родной мой, дай полюбоваться на тебя! Ни разу еще не видела человека, чтоб с войны вернулся!.. — и она гладила Асканаза по лицу, ощупывала его гимнастерку и пуговицы. — Не так уж сильны, значит, эти безбожники, как о них говорят! Вот увидела тебя, успокоилось у меня сердце. А Мхитар мой все о тебе, говорит. Ты ведь не скоро еще уедешь, родной мой? Ах, если б вы были вместе!..
— А где Мхитар?
— В Мхубе он сейчас.
— Может быть, и будем вместе.
Приблизившись к Нине и ласково проведя рукой по ее пушистым кудрям, Парандзем с сожалением проговорила:
— Ой, как спутались волосы у бедняжки… Ну, Шогакат-джан, берясь поскорее за ужин! А я пойду воду согрею…
И старушки захлопотали. Парандзем затопила баньку во дворе и повела туда Нину.
Пока Асканаз купался, старушки уселись рядышком на тахте, любуясь своей гостьей, которая расчесывала и сушила мокрые волосы.
— И как позволила тебе мать уехать? — пригорюнившись, спрашивала Парандзем. — Ну, что ты будешь делать на войне?
Нина улыбкой и движением головы показывала, что не понимает по-армянски. Она чувствовала, что нравится обеим старушкам, что им хочется задушевно поговорить с нею, и это радовало ее.
Когда Асканаз вернулся в комнату, Нина попросила его узнать, о чем спрашивала ее Парандзем. Асканаз спросил у Парандзем и перевел Нине:
— Она удивляется, почему вы поступили на военную службу.
Нина улыбнулась и ответила:
— Время теперь такое. Если б вы были молоды, вы бы тоже пошли на войну.
— Э-э, нет! — отмахнулась Парандзем. — Не у всякой женщины смелости хватит.
Вскоре Шогакат и Парандзем накрыли стол для ужина. Асканаз и Нина с большим аппетитом ели все, что им предлагали, а Шогакат-майрик то и дело вскакивала с места, чтобы предложить им какой-либо аппетитный кусочек.
Асканаз уже по дороге рассказал Нине о своих отношениях с семьей Шогакат-майрик, и Нине хотелось всех повидать.
После ужина Асканаз при слабом свете затемненной лампочки оглядел комнату и подошел к карте, висевшей на стене. Став рядом с ним, Шогакат спросила, правильно ли расположены у нее на карте красные и черные флажки.
Асканаз улыбнулся, увидев красный флажок там, где стояла надпись «Киев», и мягко сказал:
— Ну что ж, если Цовинар хочется, чтобы мы дошли уже до Киева, пускай так и останется: мы все равно дойдем до него и пойдем дальше на запад!
— Три дня уже не приходила ко мне Цовинар, — объяснила Шогакат. — Это я передвинула флажки.
— Вот и хорошо! — воскликнул Асканаз и, повернувшись к Нине, сказал ей: — Вот видите, и моя Шогакат-майрик принимает участие в войне.
Нина засмеялась, бросив ласковый взгляд на Шогакат. Та объяснила:
— Родной мой, ведь вас четверо, а от Зохраба моего все нет и нет вестей… Вот и не терпится мне, хочется, чтобы скорей кончилась эта проклятая война!
С помощью Нины Шогакат-майрик разгородила комнату занавесью. На постели Ара улегся Асканаз. Свою кровать Шогакат уступила Нине, а сама улеглась на тахте. Решив, что Асканаз с завтрашнего дня перейдет в свою собственную комнату, Шогакат-майрик через него передала Нине, что не отпустит ее и, пока Нина в Ереване, она будет жить у Шогакат-майрик.
…К восьми часам утра все уже были на ногах. После легкого завтрака Асканаз и Нина стали прощаться.
— Вртанес и Седа, конечно, захотят, чтобы мы обедали у них, — сказала Шогакат-майрик, провожая их до лестницы. — Я сейчас же пойду к ним. Быть может, и Ара отпустят на часок-другой? Собрались бы опять всей семьей.
— Ладно, ладно, — улыбнулся Асканаз, — будет у нас еще время собраться вместе! Так, говоришь, у Вртанеса? Хорошо, посмотрим…
Шогакат сильно задел этот неопределенный ответ. Она присела на тахту и задумалась о том, когда же встретятся братья. А ведь Асканаз не сказал ей ничего толком насчет войны! Материнская горечь на миг одержала верх над обычной сдержанностью. Шогакат-майрик молча заплакала, но тотчас же вытерла слезы, услышав стук в дверь.
В комнату вошла Ашхен, крепко обняла Шогакат-майрик и, повторяя:
— С радостью тебя, с радостью, желаю тебе вскоре и Зохраба встретить! — расцеловала ее.
— Ашхен-джан, всего полчаса как ушли! — с сожалением сообщила Шогакат-майрик, не дожидаясь вопроса Ашхен.
— Ушли? Кто же был с Асканазом?
— А разве Маргарит не рассказала тебе? С ним приехала девушка, Ниной ее зовут.
Ашхен внешне спокойно отозвалась:
— Ему сейчас, наверное, не до знакомых…
Но ушла она очень взволнованная.
Оставив Нину в штабе дивизии (где ее приняли очень сердечно и тотчас же поручили всю переписку), Асканаз пошел представляться командиру дивизии. Дивизия только начинала формироваться, и полки ее каждый день получали новое пополнение. Полк Асканаза, расквартированный в Мхубе, был пока самым малочисленным по составу.
Обернувшись к адъютанту, командир дивизии отдал какое-то распоряжение. Минут через двадцать в комнату вошел молодой военный и, неумело отдав честь, доложил:
— Товарищ полковник, явился по вашему приказанию…
— А, вот и хорошо. Подойдите-ка, познакомьтесь! Вот командир вашего полка, а это, товарищ Араратян, комиссар вашего полка Берберян, работал в ЦК.
Быстро поднявшись, Асканаз обнял и расцеловал Берберяна.
— Так вы знакомы? Ну, тем лучше, — улыбнулся командир.
— Учились вместе. Только вчера у матери вспоминали о нем.
— Виделся уже с Шогакат? — обрадовался Мхитар.
— Ну, а как же!..
Командир дивизии был крупного сложения, лет сорока, с широким лицом и коротко подстриженными усами. Грудь его украшали ордена и медаль за двадцатилетнюю службу в армии. Он был участником гражданской войны в Армении и одним из воспитанников школы командиров имени Мясникяна. С самого начала войны Вардан Тиросян командовал стрелковой дивизией, и в ноябре 1941 года принимал участие в освобождении Ростова. Он не жалел усилий для того, чтобы поскорей сформировать дивизию. Асканазу Араратяну он обрадовался, зная о нем как о боевом командире.
— Надеюсь, что ваша дружба заставит вас быть еще требовательнее друг к другу! — произнес Тиросян, обращаясь к Асканазу и Мхитару. — Товарищ Араратян уже хорошо знает цену такой требовательности, и вам, товарищ Берберян, остается лишь перенять его опыт.
— Мы понимаем, чего требует от нас наш народ, — отозвался Асканаз.
Попрощавшись с комдивом, они вышли из штаба, сели в ожидающую их автомашину и поспешили в Мхуб.
Несмотря на давнишнюю дружбу, Мхитар Берберян сейчас с уважением поглядывал на своего командира: испытания войны наложили печать суровости на лицо Асканаза; он был постоянно сосредоточен, говорил сдержанно. Эту перемену раньше всего почувствовали его родные…
Приняв полк, Асканаз и Мхитар проехали полигон. Одна из рот проводила занятия у подножия холма. С рапортом вышел командир роты, лейтенант Аваг Гаспарян.
— Сколько времени занимаетесь? — спросил Асканаз одного из бойцов.
— Уже больше двух недель.
— А сегодня? — и Асканаз взглянул на часы, которые показывали двенадцать.
— Да еще солнце не вставало, когда начали заниматься.
— Ваше имя и фамилия? — резко спросил Асканаз.
— Левон Мирабян! — встрепенувшись, вытянулся боец.
— Красноармеец Левон Мирабян, в котором часу вы начали сегодня заниматься?
— В семь ноль ноль, товарищ командир полка!
— Так почему же сразу не отвечаете так, как положено?
— Виноват, товарищ командир полка…
— Не видно, что занимались пять часов. Вызовите командира!
Мирабян вышел из строя. Но не успел он сделать двух шагов, как Асканаз резко приказал:
— Назад, на место!
Мирабян стал на свое место в строю.
— Это еще что за шаг, на балу вы, что ли? Выходите из строя по уставу!
Чеканя шаг, Мирабян вышел вперед, повернулся через левое плечо и замаршировал к командиру роты.
…Уже по тону Асканаза Аваг Гаспарян почувствовал, что командир полка недоволен. Недовольство командира полка не уменьшилось от того, что командир роты не смог точно указать, какое задание получила рота.
— А ну, прикажите вашим бойцам занять эту высоту, — указывая на ближайшую гору, распорядился Асканаз.
Лейтенант Гаспарян отдал команду, и через минуту бойцы роты с криками «ура» уже карабкались по склону горы. Гаспарян то пристально следил за подъемом, то искоса поглядывал на командира полка. На лице Асканаза трудно было что-либо прочесть. Он лишь спросил:
— Участвовали в боях?
— Никак нет, товарищ командир полка! — слегка виновато ответил Гаспарян.
Наконец один из взводов добрался до вершины горы.
— Прикажите возвращаться.
Гаспарян приказал дать условленный сигнал. Когда рота вернулась и построилась, многие из бойцов дышали с трудом. Асканаз повернулся к командиру роты:
— Сколько раз делали восхождение на эту гору?
— На этой неделе — третий раз.
— И вы думаете, что такими темпами вам удастся закалить ваших бойцов? Нет выучки, бойцы у вас ведут себя по-домашнему. Научите их коротко и ясно отвечать на вопросы. Бережете вы их. Забыли суворовское правило: «Тяжело в учении — легко в бою».
Асканаз снова вызвал бойца Мирабяна.
— Отдышался?
— Нет еще.
— А называешься сыном гор!.. Да ты должен был бы козлом скакать по горам. Приходилось видеть танк?
— Только издали, товарищ командир.
Опросив еще нескольких бойцов, Асканаз обратился к Гаспаряну:
— Такие занятия результатов не дадут. Каждый день, попутно с изучением оружия и учениями, будете выполнять особое боевое задание. Восхождение на горы и преодоление препятствия не являются еще выполнением боевого задания. Необходимо создать — и мы создадим — настоящие военные условия. Боец должен узнать, что значит, когда перед ним враг. Он должен проявить находчивость, а он ее может проявить только тогда, когда увидит перед собой реальные трудности… Я требую, — сказал в заключение Асканаз, — строжайшей дисциплины, целесообразного использования времени! Боевые задания для вашей роты будете получать из батальона.
…Поздно вечером Асканаз выехал в Ереван для доклада и снова вернулся в Мхуб. Автомашина по затемненным улицам промчалась мимо дома Вртанеса, затем дома Ашхен. Был первый час ночи. Асканазу очень хотелось повидаться с близкими, но он не решился беспокоить их так поздно.
Когда добрались до Канакирского шоссе, полная луна уже плыла по небу. Асканаз велел шоферу остановиться и вышел из кабины, чтобы взглянуть на Ереван. До войны там мерцали и переливались тысячи огней, Араратская равнина казалась звездным небом. А теперь под бледным сиянием луны, в темной дали неясно рисовался совершенно черный силуэт города.
В три часа ночи была объявлена учебная тревога. Бойцы в полном снаряжении выступили побатальонно. Уже больше двух часов подразделения шагали по неровным каменистым дорогам. Короткая майская ночь близилась к рассвету.
Рота Гаспаряна добралась до подножия горы Хадис. Бойцы прилегли на отдых. Утренний ветерок обвевал их лица. Левон Мирабян обратился к товарищу:
— Ну и денечки ожидают нас, Лалазар!
Товарищ его, уроженец села Арамус, невысокий широкоплечий парень лет двадцати пяти, слушал его с усмешкой.
— Наконец-то добрались до наших гор… — отозвался Лалазар. — Ты знаешь, что это за места? Вон там, чуть подальше, сорок родников из земли бьют. Отсюда и получают студеную воду ереванцы. Да, с наших гор! Жаль, луна уже скрылась. Послушай, какую песню сложили про нее арамусцы:
И Лалазар несколько раз повторил этот куплет.
— Ну, сказал… — возмутился Мирабян. — Эту песню еще наши деды-прадеды пели!
— Придумаешь тоже, я ее от ашуга-арамусца слыхал.
— Мало чего! Ого, вот и походная кухня подоспела! Пойдем скорее, прямо живот подвело.
…К вечеру подразделения добрались до Гегамских гор. Блеснула синева Севанского озера. Волны с плеском ластились к скалистым берегам. Левон Мирабян повалился навзничь на прибрежный песок, положил винтовку между ног и блаженно закрыл глаза. Ему показалось, что он спал одну минуту, когда кто-то разбудил его, толкнув в бок.
— А ну, вставай!
— В чем дело? — приподнимаясь и протирая глаза, недовольно спросил Мирабян.
— Приказано купаться.
Над Мирабяном стоял Ара, попавший в одну роту с ним.
— Купаться? — недоверчиво переспросил Мирабян. — Так вода же холодная…
— Боишься простудиться или не умеешь плавать? Полюбуйся-ка, куда заплыл Лалазар!
Мирабян тотчас же скинул одежду и прямо с берега прыгнул в воду. Он уже отплыл довольно далеко, когда Ара заметил, что он беспомощно барахтается в воде. Ара поплыл ему на помощь, но опередивший его Лалазар подхватил Мирабяна, подплыл с ним к берегу и бесцеремонно вытащил на песок.
— Если не умеешь плавать, чего очки втираешь?! Поплескался бы себе около бережка и вылез на песочек!
Мирабян только фыркал и отплевывался. К счастью, он не успел наглотаться воды. Отдышавшись, он начал медленно одеваться.
— Очки втираешь. Мало я, что ли, в нашей реке купался?
— Сравнил реку с Севаном! — пренебрежительно отозвался Лалазар.
— Я о плавании специальную книжку прочел. Там все сто правил описаны!
— А тебе эти сто правил ни к чему.
— Хватит болтать, и без тебя тошно.
— Да ты послушай! Чтобы плавать, нужно зарубить себе на носу одно правило: уметь держаться на поверхности воды. А остальное — чепуха.
— Я держался, но взглянул нечаянно на дно, и такая пропасть под ногами открылась, что голова закружилась…
— Это на земле под ноги себе смотрят, чудак!
После завтрака был дан приказ готовиться к выступлению…
Преодолев несколько высот в самую жаркую пору дня, рота спустилась в болотистый овраг, затопленный весенними водами. Мирабян, Лалазар и Ара шагали бок о бок. Лалазар двигался еще сравнительно бодро, но Ара и Мирабян еле тащились.
— Ну, и повезло же нам… — бормотал Мирабян. — Этот командир свалился, как снег на голову, и уже два дня гоняет нас. Люди совсем обессилели.
— Посмотрим, что будет дальше, — отозвался Лалазар. — Если так будет продолжаться, не знаю, что и делать.
Ара молчал. Он перекладывал из руки в руку ремень винтовки, расстегнул ворот гимнастерки и думал об одном — как бы не отстать от товарищей. А оврагу конца не было.
— Слушай, Ара, — заговорил снова Лалазар. — Ты ведь в городе живешь, верно, знаешь, кто такой этот наш новый командир, Асканаз Араратян? Почему это все переполошились, как только он явился?
— Откуда мне знать? Говорят, академию кончил.
— Академию! Значит, по новой науке учит: заставил обойти шоссе и гонит людей прямиком через болото! — с возмущением воскликнул Мирабян.
— Что вы тут разговорчики затеяли? Не отставать! Хотите, чтобы командир опять нам сделал замечание? — одернул бойцов подошедший комроты.
— А разве он тут? — с удивлением спросил Мирабян.
— А то как? Вышагивает вместе с частью, роты проверяет. Вот-вот и сюда нагрянет.
— Ах, так!.. — протянул Мирабян. Он вздохнул, потуже затянул пояс и, взглянув на Ара, произнес: — Ничего не поделаешь, придется подтягиваться!
Части выбрались из болота на пустырь, покрытый каменной осыпью. После недолгого отдыха Асканаз приказал начать учения, которые длились до позднего вечера.
Уже за полночь Асканаз пошел в обход по палаткам, чтобы проверить, как отдыхают бойцы. Переходя от палатки к палатке, Асканаз услышал шаги. Кто-то тихо коснулся его руки, и несмелый голос окликнул его. Асканаз остановился, осветил лицо бойца карманным фонариком.
— Ах, это ты Ара! Здравствуй. — Он спокойно пожал ему руку.
Ара ждал большего, но не обиделся. В этой обстановке, пожалуй, больше и ждать нечего. О требовательности нового командира он сам мог бы многое рассказать товарищам. Ара вернулся в палатку и почти мгновенно уснул. Асканаз прилег, когда уже светало.
В Ереване Асканаз появился лишь пять дней спустя — ожидалось новое пополнение. Он уже выяснил, какие люди ему нужны для того, чтобы полк мог стать полноценной боевой единицей. Сидя за столом в штабе дивизии с представителями различных учреждений, он принимал и расспрашивал призывников. В приемный пункт являлись и бойцы, находившиеся на излечении в госпиталях, и командиры, прибывшие из других частей.
Когда Асканаз закончил прием, в комнату вошла Нина. Асканаз поднялся и пожал ей руку.
— Куда вы пропали Асканаз Аракелович? Эти пять дней все время ждала вас, думала, хоть по ночам будете приезжать.
— Не было возможности. Ну как, хорошо вам у Шогакат-майрик?
— Вы знаете, — засмеялась Нина, — я ночую здесь, в штабе. Не хотела беспокоить ваших, да и как-то неловко быть там одной.
— Вот так история!.. Вы не знаете, какое огорчение причинили бедной старушке. А я-то надеялся, что вы там друг друга развлекаете.
— Мне было неловко без вас… Да, вы знаете, тут какая-то женщина уже несколько раз спрашивала о вас…
— А вы не узнали, кто она?
— Обещала снова зайти. Асканаз Аракелович, я не хочу оставаться в штабе, — понизив голос, продолжала Нина, — я на второй же день записалась в кружок связи. Ведь после окончания десятилетки я почти четыре месяца работала телефонисткой.
— Но ведь в военных условиях работа связистов не ограничивается телефонными разговорами. Иногда приходится восстанавливать связь под огнем противника…
— На войне опасность повсюду, Асканаз Аракелович. Разве не может случиться, что и работникам штаба дивизии придется взять в руки оружие и бороться с врагом?
— Хорошо, подумаем об этом.
Вошедший в комнату часовой доложил, что какая-то женщина хочет видеть Асканаза.
— Проводите ее.
Дверь медленно приоткрылась. Радостная догадка заставила Асканаза шагнуть навстречу. В комнату вошла Ашхен. Она склонила голову к плечу и улыбнулась, глядя на Асканаза. Увидя на его лице выражение искренней радости, она протянула руки, обняла и крепко поцеловала Асканаза.
— О, как ты изменился!.. — с изумлением воскликнула она.
— Правда?
— Ну да! Никто и не скажет, что ты был когда-то преподавателем. Можно подумать, что так и родился военным… Погоди-ка, неудобно получилось, — и Ашхен, достав платок, вытерла щеку Асканаза, на которой остался след от губной помады.
Асканаз познакомил Нину с Ашхен. Нина сказала Асканазу, что именно Ашхен спрашивала о нем. Две молодые женщины приветливо разговаривали между собой. Возможно, каждой из них хотелось побольше узнать о собеседнице. Ашхен занимала мысль о том, удастся ли ей по душам поговорить с Асканазом. Храня в душе память о погибшей подруге, она никогда не позволяла себе думать о ее женихе иначе как о близком друге, но теперь, при виде Нины, она впервые подумала: «Как было бы хорошо, если б и у меня был такой муж, как Асканаз…» Вся вспыхнув и сама на себя рассердившись за невольно мелькнувшую мысль, она решительно произнесла:
— Ну, собирайтесь, Нина Михайловна, Асканаз Аракелович, скорей! Шогакат-майрик, Седа, Вртанес и Елена поручили мне найти вас и немедленно доставить домой. Все эти дни они ждали вас и очень беспокоились.
— Подчиняюсь с радостью! — шутливо вытянулся Асканаз.
Та же комната, тот же стол, те же люди вокруг него, что и год тому назад. Но изменилась жизнь, изменилось выражение лиц. Асканаз чувствовал эту перемену даже в объятиях и поцелуях, которыми его встретили.
Едва он уселся, как его окружили дети. Он усадил Зефюр на одно колено, Тиграника — на другое, в то время, как Давид без устали бегал вокруг него, щупая его «шпалы», пряжку на поясе и поглаживая кобуру, содержимое которой сильно занимало его воображение.
— Стреляет, а?.. — тихо спрашивал он Асканаза.
Асканаз больше целовал детей, чем отвечал на град вопросов, которыми они его осыпали. Когда же ему предложили умыться перед обедом, Зефюр схватила полотенце и побежала за ним, поддразнивая на бегу Давида:
— Вот видишь, а полотенце-то у меня!
— Посмотрим еще… — И Давид ловким движением вырвал полотенце из ее рук и протянул его Асканазу.
— Отдай, отдай! — подняла крик Зефюр. — Тетя Седа мне дала полотенце! — и она потянула полотенце к себе.
Асканаз стоял с мокрым лицом и от души хохотал. Подоспевшая Седа стала стыдить Давида:
— Ну, как тебе не стыдно, ты же вдвое старше, она же твоя сестричка!.. — И добилась того, что Давид уступил и позволил девочке вручить полотенце Асканазу.
Но тут поднял вопль Тиграник, обиженный тем, что ничем «не помог» дяде Асканазу:
— Пусть снова умоется, я хочу ему дать полотенце!
Седа и здесь пришла на помощь. Принеся чистый платок, она подала Тигранику:
— А ты этот платочек дашь дяде. Посмотри, какой красивый!
Тиграник развернул платок, деловито осмотрел его и лишь после этого протянул Асканазу:
— На тебе, это для твоего носа.
— Ах, глупышка! — со смехом воскликнула Маргарит.
— А полотенце все-таки я дала! — продолжала поддразнивать Давида Зефюр.
— Подожди еще, попадешься ты мне во дворе, тогда посмотрим, — нахмурившись пригрозил Давид.
Нину перезнакомили со всеми, но она свободнее всего чувствовала себя с Ашхен.
Маргарит наконец удалось отвлечь детей от Асканаза и собрать их вокруг себя, у пианино. Асканаз подошел к Елене. Елена изменилась больше всех. Она была по-прежнему нарядно одета, тщательно причесана, но на ее миловидном лице уже не было обычного жизнерадостного выражения. Асканаз понял, что ей живется нелегко, и решил непременно помочь ей. Елена со слезами на глазах рассказала ему, что от Зохраба уже девятый месяц нет никаких известий, пришло только два письма. Асканаз обещал немедленно навести справки.
Сели за стол, но никто не принимался за еду. Все глядели на Асканаза, нетерпеливо ждали от него какого-то нового слова о войне. Но Асканаз рассказывал лишь отдельные эпизоды. Вртанес поднял бокал за Асканаза.
— Асканаз стал гордостью нашей семьи. Пожелаем ему здоровья и успеха!
Шогакат-майрик сидела печальная, ее огорчало, что Ара нет с ними. Асканаз обещал, что в воскресенье Ара позволят наведаться домой, но и это не утешало истосковавшуюся мать.
К середине обеда подоспел Михрдат. Ни на кого не обращая внимания, он прямо направился к Асканазу и загреб его могучими руками, приговаривая:
— Эге, братец, а ведь по-моему вышло, полководцем стал! Слов нет, заслужил… Ну, дай поцелую спарапета[10] новой эпохи!
Сев за стол, выпив залпом два стакана вина и похлебав немного бозбаша, он обратился к Асканазу:
— Ну, на что нацеливаются эти проклятые? Бои идут уже в восточной части Керчи. Объяснил бы ты нам положение, Асканаз!
— Трудное ожидается лето, — сказал Асканаз и, заметив, что все напряженно слушают его, продолжал: — Да, они взяли Керчь и могут продвинуться еще дальше.
— Ты так спокойно говоришь… — возмутился Михрдат.
— Нет, если я говорю спокойно, это еще не значит, что я спокоен в душе. Враг воспользовался нашими просчетами… это так, но миллионы советских людей полны волей к победе, и весь мир сочувствует нам… За нас история. Мы не имеем права не побеждать. — И обратился к Михрдату. — Какие вести у вас от Габриэла?
— Так он же в Керчи! Вчера получили письмо от него.
— Ну, вот и хорошо!
— Хорошо-то хорошо, но вот Сатеник я успокоить никак не могу, все плачет…
Отвечая на расспросы Асканаза, он не без удовлетворения рассказал, что ему уже два раза объявляли благодарность приказом и премировали за досрочную сдачу и высокое качество пошитого в его цехе обмундирования.
— Вот такая-то работа и ускоряет победу, — одобрительно отозвался Асканаз.
За обедом Нина и Ашхен оживленно переговаривались. Могло показаться, что они давно знают друг друга. Ашхен уже с лаской в голосе произносила имя Димы, Нина не хотела выпускать из объятий Тиграника. Встав из-за стола, они подошли к окну, и Нина обратила внимание на фотографию в рамке.
— Вот этих двоих я уже знаю, — сказала она, показывая на Ашхен и Маргарит, снятых рядом с Вардуи. — А кто же эта третья? Какие удивительные глаза…
Ашхен в нескольких словах рассказала о трагической гибели невесты Асканаза.
— А-а, теперь мне многое понятно… — невольно произнесла Нина. Она взглянула на Асканаза так, словно впервые видела его: в эту минуту Асканаз еще больше вырос в ее глазах.
Ашхен радостно было видеть, с какой любовью и уважением относятся все к Асканазу. У нее снова мелькнула мысль: «Как было бы хорошо, если бы…» Но взгляд ее упал на снимок Вардуи, и сердце у нее сжалось. «Что бы сказала Вардуи?.. Но разве не радовалась бы она счастью своих друзей?..» Ашхен старалась отогнать эти думы, но они все возвращались. Мысль о том, что, вернувшись домой, она встретит Тартаренца, была ей сейчас особенно невыносима.
Шогакат-майрик и Седа уже убирали со стола, когда в дверь громко постучали. Седа выбежала в коридор.
В комнату вошел Тартаренц. Ашхен с трудом перевела дыхание, в глазах у нее потемнело. Хорошо, что никто не заметил ее состояния. Внимание всех было обращено на Тартаренца, который широкими шагами подошел к Асканазу, обнял его и торжественно воскликнул:
— Добро пожаловать, товарищ командир!
Раздался громкий смех. Всем показалось забавным такое обращение. Ашхен, не ждавшая ничего хорошего от мужа, с трепетом следила за ним. Не давая Асканазу вставить слово, Тартаренц достал из кармана какой-то листок и, показывая всем, торжественно провозгласил:
— Только что был в военкомате, получил назначение в формируемую дивизию! Так что, товарищ командир…
— Ладно, ладно, — улыбаясь, сказал Асканаз. — Об этом поговорим в штабе! А пока ты еще лицо гражданское… Садись же, садись. Шогакат-майрик, угости воина.
— Ашхен! — окликнул Тартаренц. — Смотри не грусти!
Ашхен еще не могла сообразить, в чем дело. Неужели он говорит правду? Она чувствовала на себе пристальный, удивленный взгляд Нины. Узнав, что вошедший — муж Ашхен, Нина со свойственной ей непосредственностью тотчас же решила в душе, что брак Ашхен с Тартаренцем какое-то недоразумение.
Ашхен подошла к Тартаренцу и тревожно переспросила:
— Ты идешь из комиссариата? Значит…
— Ну да. Не веришь, что ли? Почему я должен отставать от других?!
— Ну, поздравляю… — улыбнулась Ашхен.
«Ах, вот ты как!..» — злобно подумал Тартаренц. Обернувшись к Асканазу, он чокнулся с ним, приговаривая:
— Ну вот, значит и в армии будем побратимами! Ничего, еще пригодимся друг другу!
— Ага… — неопределенно отозвался Асканаз и, опустив свой бокал, прибавил: — Ну, вы извините, мне пора…
Глава шестая
ТО, ЧТО УТЕШИЛО АШХЕН
Да, Ашхен не ослышалась. Тартаренц на следующее утро должен был отправиться в часть, он был уже бойцом армянской дивизии.
Гости разошлись еще не скоро. Ашхен порадовалась, что Тартаренц весь вечер не позволил себе никакой выходки. Она чувствовала себя почти счастливой, хотя не могла забыть удивление, подмеченное во взгляде Нины. Впервые за год она испытывала желание поговорить с мужем, подробно расспросить его обо всем.
Но что же произошло с Тартаренцем?
После столкновения с Ашхен Тартаренц на следующий же день подробно описал Заргарову свою встречу с Берберяном и последовавшую затем домашнюю сцену. Заргаров насторожился. Дело осложнялось: Ашхен могла навредить ему, выставив его в роли какого-то покровителя дезертиров. Он совершенно не собирался бескорыстно оказывать услуги Тартаренцу и не был заинтересован в том, чтобы тот непременно оставался в тылу. Заргарову пришлось убедиться и в том, что он никогда не завоюет симпатии Ашхен, если будет помогать ее мужу увиливать от военной службы. А Заргаров не отказался еще от надежды сблизиться с Ашхен…
Терпеливо слушая жалобы Тартаренца, Заргаров обдумывал свою линию поведения. Тартаренц обычно принимал за чистую монету все советы приятеля, поэтому Заргарову нетрудно было заставить его поступить так, как он считал для себя выгодным. Теперь Заргаров круто изменил тактику.
— Ты знаешь, Тартаренц, — внушительно заявил он, — ведь материалы в институт прислали, оказывается, не только на тебя, но и на меня! Якобы я… ну, сам понимаешь! Так что нас обоих могут окончательно скомпрометировать, нехорошо получится… Уж придется тебе махнуть рукой на институт.
Но Тартаренцу не так-то легко было «махнуть рукой». Он сделал последнюю попытку — заявил о своей готовности отправиться на практику даже в самый отдаленный район республики, рассчитывая, что она протянется месяц-два, а там видно будет. Но не помогло и это: в конце того же дня он собственными глазами прочитал на доске объявлений, висевшей перед канцелярией, что исключается из института, как принятый по недосмотру и не оправдавший себя в учебе.
— Придется тебе примириться с мыслью о том, что нельзя избежать военной службы… — внушал ему Заргаров. — Тем более что это поднимает твой авторитет…
— Все это так, но ведь в армии… трудности всякие… и убить могут! — колебался Тартаренц.
— Ну, трудности само собой, а убить… это уж от тебя зависит! — и Заргаров преподал приятелю несколько советов.
По-видимому, эти советы оказались достаточно убедительными для Тартаренца. За день до встречи с Асканазом он побывал в военкомате. Сейчас у него в кармане был документ о том, что он призван в армию в качестве рядового бойца.
С Тиграником на руках он шагал по улице рядом с Ашхен.
Душа у Ашхен была доверчивая. Она радовалась тому, что не поддалась малодушию и помогла мужу прийти к верному решению. Ей вспомнились мысли, мелькнувшие у нее при последней встрече с Асканазом… Ну что ж, она думала только о том, как хорошо было бы, если б отец ее ребенка в эти тяжелые дни проявил такие же качества, какими несомненно обладал Асканаз, или тот же Берберян, или даже юноша Ара…
Войдя в комнату, Тартаренц осторожно посадил Тиграника на тахту. Утомленный ребенок задремал на руках у отца. Сейчас он тихо посапывал. Ашхен быстро раздела его и уложила.
Она подошла к столу, над которым горела затененная лампочка, и пристально взглянула на мужа. Тартаренц молча следил за ней испытующим взглядом.
Первой заговорила Ашхен:
— Ты знаешь, в госпитале у нас есть раненый, Грачиком его зовут. Каждый раз, как увидит меня, твердит, что его невеста похожа на меня. «Просто сердце у меня радуется, на тебя глядя», — говорит. И вот сегодня приехала эта невеста и его мать. Мать — Нвард ее зовут — видимо обожает сына, единственный он у нее. Мать говорит мне: пусть, мол, Рузан (так зовут невесту Грачика) первая войдет — молодые они, стосковались… А о себе ни слова! Вошла Рузан в палату, и представь себе, я думала, они с ума сойдут от радости… Ничего подобного! Просто удивительно, как они сдержанно вели себя, хотя можно было догадаться, что все у них внутри пылает. А один из раненых говорит: «Подвезло тебе, сестрица Рузан, рана-то у него легкая, скоро можно и свадебку сыграть!» Покраснела моя Рузан, глаза слезами наполнились, потупилась. Хорошо, тут мать Грачика вошла в палату. Обняла сына, твердит: «Сынок мой, родной…» — и плачет. Потом взяла себя в руки, стала разговаривать с ранеными и гордо сказала так: «Вот воспитываем сыновей, чтоб мать с суженой радовались, а у врага глаза на лоб вылезали!» И вижу я, как ей и Рузан приятно, что все их Грачика хвалят. Всем матерям сейчас тяжело, но каждой, наверное, хочется, чтобы ее сын был не хуже других… Ну, а Рузан… Мне казалось, что для нее не может быть большего счастья, чем сознание, что она обручена с таким храбрецом!
Тартаренц терпеливо слушал рассказ жены. Он догадывался о том, что Ашхен испытывает его. Он притворялся, что слушает ее с интересом, и даже задал вопрос:
— И что ж, эта Рузан действительно так хороша собой?
— О-о, настоящая горная лань! И при этом такая скромная, толковая… На эту ночь я устроила ее и мать Грачика в госпитале, а завтра они придут ко мне — я пригласила.
— Так значит, не похожа на тебя? — с улыбкой спросил Тартаренц.
— Э-э, куда мне до нее! — засмеялась Ашхен. — Я дурнушка по сравнению с ней…
— Ладно уж, не скромничай! Ты ко всем бесконечно добра, лишь со мной… Ну, вот видишь, Ашхен-джан, — перешел он к волновавшему его вопросу, — хотелось тебе, чтобы я пошел на фронт, я сделал это. Только обидно мне, что не по специальности. Ты не хотела понять меня…
— Чего я хотела или не хотела — сейчас уже не важно. Важно то, что не только ты, но и я с Тиграником будем чувствовать себя совсем иначе.
— Ты о себе говори! Что Тиграник понимает?
— Если сегодня не понимает, то завтра-послезавтра, через десять — двадцать лет поймет же?.. Об этой войне не скоро забудут. И каково было бы Тигранику, если бы он узнал, что в эти решающие дни отец его… Пойми же, сын должен гордиться отцом.
— Как далеко ты загадываешь Ашхен: десять, двадцать лет, даже вечность…
— Да, да, именно так! Когда ты очутишься в иной среде, ты тоже будешь думать по-моему. А то твой Заргаров…
— О нем — ни слова! — прервал ее Тартаренц. — Ты его совершенно не знаешь. Он благородный человек, ему насильно навязали броню. К тому же он обещал всячески помогать тебе во время моего отсутствия.
— Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Но если ты так уверен в нем… Что ж, поживем — увидим… Я буду очень рада, если окажется, что ошибалась.
Тартаренц промолчал. Сытный обед у Седы не помешал Тартаренцу основательно поужинать, но вид у него был озабоченный. Он сознавал, что в течение последних месяцев вызвал чувство глубокого отчуждения у Ашхен, и это не позволяло ему говорить с ней с прежней непринужденностью. Сощурив глаза, он спросил, неловко улыбаясь:
— Скажи правду, Ашхен, очень тебе хотелось, чтобы я пошел… да?
— Очень! — искренне вырвалось у Ашхен. — Тот, кто сейчас может пойти на фронт и избегает этого, настоящий дезертир! Какими отвратительными казались и тебе и мне дезертиры, когда мы их встречали в романах и пьесах!.. А в жизни они, конечно, стократ хуже!
— Это ты говоришь о настоящих дезертирах. Но есть люди, которых подозревают без всякого основания…
— Ты прав, только нечистые душой подозревают людей по каждому поводу!
Тартаренц решил идти напролом.
— Но, Ашхен-джан, моя любовь к тебе… Что мне делать, если она сводит меня с ума? Я ведь подозревал, что ты и Асканаз… а потом, что ты с Берберяном… Вот это меня и вынуждало…
Он смутился или притворился смущенным — Ашхен так и не поняла. Сердце у нее сжалось.
— Все горе в том, что ты не умеешь распознавать чистые, честные отношения между людьми! И это страшно вредит тебе, заставляет искать во всем какие-то грязные мотивы… Асканаз… Берберян… Но это же прекрасные люди!
— Ну ладно, прости меня, Ашхен-джан… Я знаю, что они — прекрасные люди и готовы душу отдать, только бы ты бросила на них ласковый взгляд… А ведь я у них под рукой буду. Ты бы поговорила с ними… Сама понимаешь, я — простой солдат, они — начальники…
Убедившись в том, что избежать призыва в армию невозможно, Тартаренц думал теперь об одном — как бы облегчить свою службу в армии. Он был убежден, что лесть и связи помогают во всех случаях жизни.
— Неужели ты не понимаешь, что я никогда и ничего не скажу об этом ни Асканазу, ни Берберяну?! — возмутилась Ашхен. — Самое большее, что я могу сказать, провожая вас на фронт, — это то, что я желаю всем, всем вам живыми и здоровыми вернуться домой.
— Ну, хотя бы упомяни мое имя в их присутствии…
— Если придется к слову.
— Скажи мне по совести, Ашхен-джан, любишь ты меня или же я для тебя ничто?..
— Зачем говорить об этом? Я всегда и от всей души стремилась к тому, чтобы ты был достойным человеком и достойным отцом для моего ребенка.
— Ах, бесценная моя!.. — воскликнул Тартаренц, обнимая ее.
Ашхен не отталкивала его, а он бессвязно твердил:
— Больше года уже, Ашхен-джан… словно и впрямь на фронте был… сжигает меня тоска по тебе!..
…Ашхен проснулась на рассвете, почувствовав дыхание мужа на своей щеке. Она открыла глаза, взглянула на спящего мужа и задумалась. Да, ей не в чем упрекнуть себя, она поступила правильно: пускай он чувствует, что Ашхен способна и ненавидеть и любить с одинаковой силой! Она тихонько встала, натянула одеяло на Тартаренца и, быстро одевшись, принялась хлопотать о завтраке.
Возвращаясь из кухни, она услышала звонкий смех ребенка. Проснувшийся мальчик перебрался в постель к отцу. Тартаренц подбрасывал его вверх, щекотал босые ножки, и Тиграник заливался смехом, требуя, чтобы отец еще и еще играл с ним.
Ашхен напомнила мужу, что не время медлить. Пока она одевала Тиграника, Тартаренц горестно глядел то на кровать с двумя подушками в изголовье, то на освещенную лучами утреннего солнца Ашхен, которая казалась ему сейчас бесконечно прекрасной. Прощай теперь мягкая постель, прощай жена и мирная жизнь!.. Он молча умылся и сел завтракать.
Усадив Тиграника к себе на колени, Ашхен поила его чаем.
Тартаренц поспешно доел яичницу и взял Тиграника на руки. Мальчуган как будто почувствовал, что ему предстоит разлука с отцом: закинув ручонки за шею Тартаренцу, он покрывал поцелуями его лицо.
— А ну покажи, как ты любишь папу, сынок?
Широко раскинув ручонки, Тиграник со смехом приговаривал:
— Вот столько, папа, во-от столько!
— Ну, теперь иди к маме, Тиграник. Я ухожу, больше не увидишь своего папу…
— Ну, зачем говорить об этом ребенку?! — остановила его Ашхен.
— Да разве он понимает что-нибудь?
— Дети в этом возрасте очень чутки и впечатлительны. Он запомнит твои слова и будет их все время повторять… Нет, Тиграник, милый, папа шутит: он скоро вернется и привезет тебе игрушек и конфет, — обратилась к ребенку Ашхен.
Она хотела взять Тиграника, но тот обвил ручонками шею отца и захныкал:
— Не-е, не хочу… Не уходи, папа…
— Вот видишь, Ашхен-джан?.. Я же не из-за себя…
— Хорошо, хорошо… К чему говорить об этом?..
— Я к тому говорю, что я из-за ребенка не хотел… Вот видишь, не хочет оторваться от меня!
У Ашхен сжалось сердце, когда она увидела, как ребенок прижимается к отцу, поднимая плач, когда она пытается взять его на руки.
Был уже восьмой час, Тартаренц мог опоздать. Ашхен шепнула какое-то обещание ребенку и быстро взяла его из рук отца.
— Не-е, не хочу, не хочу! — забился в ее руках Тиграник.
— Ну, хватит! — прикрикнула наконец Ашхен.
— Не надо, Ашхен… не могу я слышать, когда ты сердишься на ребенка… — пробормотал Тартаренц.
Ашхен кое-как отвлекла внимание ребенка. Тартаренц перекинул на спину свой небольшой рюкзак и с минуту неподвижно стоял посреди комнаты.
— Ну, Ашхен… На тебя оставляю…
Ашхен поцеловала мужа и с ребенком на руках долго стояла на улице, глядя ему вслед. «Больше не увидишь папу…» Зачем было говорить это? Она вернулась в комнату и, старательно прибрав вещи мужа, приготовилась пойти в госпиталь.
Глава седьмая
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Гарсеван с тревогой ждал рассвета. Холодный предутренний ветер нес с моря вместе с шелестом волн какие-то странные звуки, похожие не то на человеческий стон, не то на жалобный птичий клекот.
Уж свыше двух недель Советское Информбюро оповещало весь мир о боях на Керченском полуострове. С 11 мая фашистские войска предпринимали на этом фронте ожесточенные атаки, встречая упорное сопротивление советских войск.
Стояли уже последние дни мая. Ночью Остужко сообщил командирам взводов и отделений, что получен приказ оставить полуостров и занять новые позиции на другом берегу. Для того чтобы обеспечить планомерную эвакуацию, арьергард должен был любой ценой сдержать противника, пока не получит приказа отойти.
Рота Остужко включена была в состав арьергардных частей. Она должна была удержать участок фронта приблизительно на расстоянии километра от пролива. Эвакуация началась в полночь. На рассвете роту ждали тяжелые бои.
Армию, которая в течение двух недель сдерживала противника, возглавлял Денисов. Простившись в Тбилиси с Асканазом, он оттуда же отправился принимать свою новую часть. Залечив раны, полученные в боях под Москвой, Остужко по совету Марфуши добился перевода в армию, которой командовал Денисов. Он был назначен командиром роты; Марфуша работала санитаркой в полку. Рота Остужко состояла большей частью из русских бойцов, но получила пополнение в Керчи; в ней были и украинцы, и армяне, и азербайджанцы, и грузины.
В роте Остужко оказались и Гарсеван с Аракелом и два сына Ханум — Унан с Айказом.
Знакомясь с бойцами своей роты, Остужко тотчас же обратил внимание на Гарсевана. Командиру роты пришлись по душе мужественная осанка уроженца Двина, его дисциплинированность и смекалка. Через несколько дней он представил Гарсевана к утверждению в звании сержанта и назначил командиром отделения.
— Когда мы дрались под Москвой, у нас был чудесный комиссар армянин, Асканаз Араратян. Знаешь такого?
— Ой, умереть мне за тебя, так он, значит, жив-здоров? — радостно воскликнул Гарсеван. — Я же его провожал, когда он самолетом летел, даже абрикосов ему на дорогу привез!..
— Все в нашей части считали, что Араратян талантливый командир. Помню, он мне все о Давиде Сасунском рассказывал. Вот ты и напоминаешь мне Давида, Гарсеван.
— Ну куда мне до него, товарищ старший лейтенант! Буду выполнять приказы, не жалея головы.
Рота сражалась отважно, но Гарсеван был недоволен. «Сердце подвига просит, — с горечью думал он, — а мы все отступаем… Куда это нас приведет?!» Слово «подвиг» он произносил по-русски, потому что оно было легче длинного армянского слова «схрагорцутюн».
Устремив покрасневшие от бессонницы глаза на восток, Гарсеван ждал рассвета. «Вот сейчас расколется небо и выскользнет краешек солнца», — думал он. Этот миг был ему хорошо знаком; еще год назад он каждый день на рассвете спешил к себе в садоводческую бригаду. А теперь по обе стороны от него, лежа на дне окопа, боролись со сном бойцы его отделения. Гарсеван прошел вдоль окопа, всех разбудил и вернулся на прежнее место.
К нему подошел Остужко, проверявший боевую готовность роты.
— Ну, братец, могу тебя порадовать…
— А что, не отступаем больше?! — радостно прервал его Гарсеван.
— Э-э, видно не то слово я выбрал. Хотел сказать, что большая часть наших удачно переправилась через пролив и укрепилась на том берегу. Продолжается посадка остальных на корабли. До последнего момента нашей роте придется прикрывать переправу, а потом — отходить с боем. Нас будет ждать особый транспорт.
— Ну что ж, товарищ командир, какие силы и таланты имеем, все в дело положим, — отозвался Гарсеван. В минуты волнения он думал по-армянски и перекладывал свои мысли на русский язык, полагая, что не допускает погрешностей против русского языка. Как бы то ни было, Остужко всегда понимал его.
Прошло немного времени, и начался тот страшный грохот, который стал уже привычным для Гарсевана. На расстоянии нескольких шагов от него орудовал ручным пулеметом Унан вместе со своим братом Айказом. На правом фланге отделения трещал автомат Аракела. Накануне Аракел жаловался на сильную головную боль и ломоту в ногах. Встревоженный Гарсеван раздобыл для него порошков у санитаров, достал охапку сена и позволил ему часа два поспать.
Лавина вражеского огня — винтовочного, минометного и орудийного — обрушилась на окоп. По приказу Остужко все взводы и отделения роты отвечали противнику сплошным огнем. Через час Гарсеван заметил, что к позициям роты приближаются танки, а за ними катятся бесконечные цепи фашистской мотопехоты.
— Отходить с боем! — передали по окопам приказ Остужко.
Малейшее промедление грозило гибелью роте: на правом и левом флангах фашисты уже докатились до берега.
Гарсеван поручил Унану с братом остановить группу фашистов, пока отделение выберется из окопа. После первой же пулеметной очереди несколько фашистов упало наземь. Унан выскочил из окопа и бегом нагнал отделение. Но бежавшего за ним Айказа подкосила вражеская пуля.
— Ползи, догоняй!.. — в ужасе крикнул Унан.
Заметив, что пулеметные диски остались у Айказа, один из бойцов отделения, Абдул, уроженец Мугани, кинулся обратно, взял у Айказа два диска и бегом доставил Унану.
— Давай, ребята, залпом по этой кучке, а то плохо придется Айказу! — крикнул Гарсеван.
Дружный залп скосил ближайшую цепь противника, но справа и слева выскочили новые группы. Они вплотную подступили к Айказу, один из них что-то кричал раненому бойцу. Айказ рывком выхватил из-за пояса гранату и бросил ее перед собой…
— Унан, — послышался голос Абдула, — брат твой дорого продал свою жизнь!.. Считай меня названным братом!
Прижимая пулемет к груди, Унан все оборачивался на бегу туда, где остался лежать Айказ. Нет уже брата, а он еще вчера писал матери, что по счастливой случайности встретился с братом и находится с ним в одной роте! Провожая их на фронт, мать благословляла своих сыновей. А сколько погибло и вчера, и сегодня!.. Унан скрипнул зубами и взялся за пулемет.
В отделении Гарсевана выбыло еще двое. Увидев рядом с собой Унана, Гарсеван с минуту смотрел на его воспаленное лицо и, вместо слов утешения, лишь глубоко втянул воздух и деловито перезарядил автомат. Расставив бойцов по местам, он приказал прицельным огнем уничтожать подползавших фашистов.
«Молодец Москвин, так, так, Шалва милый!» — мысленно одобрял бойцов Гарсеван, замечая, как от их метких выстрелов редеет подползавшая цепь.
— Моторная лодка ждет! — доложил посланный к Гарсевану связной.
«Остужко!.. Конечно, это он позаботился…» — подумал приободренный Гарсеван.
Перед пулеметом Шалвы взметнулся столб пыли. Не прекращая огня, Гарсеван с бьющимся сердцем следил за бугром, позади которого залег Шалва. Гитлеровцы были совсем близко, но трещал лишь пулемет Москвина. Шалва молчал. Неужели?.. Но нет, он шевельнулся, отполз назад, стреляет из автомата.
— Ракета, товарищ Даниэлян! — послышался голос связного.
— Вижу. Ну, ребята, давайте залпами, без остановки!
Поднявшиеся в атаку гитлеровцы залегли вновь. Пока они спешно производили перегруппировку, напарник Москвина перетащил пулемет в моторную лодку. Гарсеван, Унан и Абдул отползли к воде и бегом добрались до лодки. Фашисты открыли по ним беглый огонь. Шалва, Аракел и двое бойцов залегли за скалой и били в упор по врагу, выжидая удобную минуту, чтобы броситься в море, где для них были выброшены спасательные пояса.
Моторная лодка двигалась на малом ходу, поджидая последних четырех бойцов. Москвин пулеметным огнем отжимал фашистов от берега. Наконец Шалва, Аракел и их товарищи уже плывут на волнах. Вот один из бойцов ранен в голову… Шалва без спасательного пояса, но плывет быстро. Барахтается Аракел. Вода вокруг бойцов вскипает от града пуль. Аракел и один из бойцов уже отплыли довольно далеко. Голова Аракела то погружается, то снова показывается над водой.
— Да плыви же скорей! — изо всех сил кричит ему Гарсеван и сам не слышит своего голоса в гуле выстрелов.
Обернувшись, Шалва заметил отставшего Аракела и повернул обратно, чтобы помочь ему. Но в эту минуту несколько пуль пробили камеру спасательного пояса, Аракел исчез под водой. Шалва нырнул, выплыл вместе с Аракелом и несколько метров проплыл с ним. Вражеская пуля ранила Шалву в правое плечо. С трудом удерживаясь на воде, он неловко греб одной левой рукой… Аракел отстал от него. «Неужели утонет?..» — мелькнула тревожная мысль у Гарсевана.
Еще минута — и все побережье в руках фашистов. Большая часть советских бойцов уже на лодках.
— Что это, подбили Аракела? — машинально спрашивает Абдула у Гарсевана.
— Да нет, он то погружается, то выплывает…
В эту минуту моторную лодку сильно тряхнуло, она перевернулась, и все сидевшие в ней попадали в море. До другого берега пролива было не близко. Охваченный тревогой за отделение. Гарсеван на минуту забыл о брате.
— Давай, давай, ребята, метров через пятьдесят будет мелкая вода!
Пули с шипением впивались в воду. Снаряды поднимали водяные валы, которые накрывали плывущих и тянули их ко дну. Крайним напряжением всех сил пловцы боролись с двумя беспощадными стихиями.
Лишь трое бойцов из потопленной лодки не достигли берега.
После двух часов передышки бой разгорелся с новой силой. Рота Остужко вместе с другими, перебравшимися через пролив, получила задание не допускать фашистов к нашему берегу. Но противник все усиливал огонь, пытаясь прорваться под его прикрытием. На море уже показались немецкие транспорты.
Пока бойцы сосредоточенным огнем сдерживали противника, санитары спешно перебрасывали раненых в тыл. Обходя взводы, Остужко проверял позиции. Дойдя до отделения Гарсевана, он справился о потерях. Гарсеван только собирался поделиться своими опасениями за судьбу Аракела («Убит он или захвачен в плен?»), как неподалеку разорвался снаряд. Взрывная волна бросила Остужко наземь. Вскочив на ноги, он увидел, что Гарсеван, также лежавший на земле, привстал со стоном.
— Ранен, Гарсеван? Куда?
Гарсеван не отвечал.
— Что ж ты молчишь, Гарсеван? Отвечай! — крикнул Остужко, но в эту минуту заметил, что нога бойца в крови. Кивком он подозвал санитаров и обратился к Марфуше: — Вдвоем перебросьте в тыл: с таким богатырем в одиночку не справиться!
Марфуша быстро стянула сапог с ноги Гарсевана, старательно перевязала ему рану и обхватила его за плечи, чтобы помочь ему встать на ноги. Гарсеван мягко отвел ее руки, лег наземь, загнал диск в автомат и направил дуло в сторону врага. В эту минуту Остужко переспрашивал связного:
— Так, говоришь, утопили еще одну ихнюю лодку? Вот это хорошо!
— Снаряды кончились. Что делать?
— Пусть артиллеристы возьмут оружие убитых, продержатся, пока подбросим снаряды… Это еще что такое, Марфуша? Почему не выполняешь приказ?
— Разрешите остаться, товарищ Остужко, — вмешался Гарсеван. — Нога уже не болит, а руки целы. Не хочу уходить в тыл…
Командир одобрительно посмотрел на бойца.
Гарсеван прицельным огнем свалил в море еще нескольких фашистов. Разряжая очередную обойму, он поглядывал на Унана и думал: «Теперь я за двоих должен сражаться… Эх, Аракел…» И казалось Гарсевану, что Унан понимает его.
Бой все усиливался. Рядом с Гарсеваном разорвался еще один снаряд. Вихрем взметнулся песок. Гарсеван лежал на боку, голова и лицо его были покрыты песком.
— Гарсеван! — с тревогой окликнул Остужко.
Гарсеван чуть заметно шевельнул головой, открыл глаза. Остужко показалось, что Гарсеван не узнал его.
— Придется тебе пойти в тыл…
Гарсеван открыл рот, но язык не повиновался ему, и он безнадежно махнул рукой.
Он пытался приподняться, но не смог. Пришлось положить его на носилки, чтобы доставить в санбат. Расставаясь с ним, Остужко обнял и поцеловал его в лоб.
Обернувшись к стоявшему рядом с ним корреспонденту Совинформбюро, Остужко вкратце рассказал ему, как вел себя раненый боец.
По словам командира взвода, уже раненый, он уничтожил восемь гитлеровцев. Среди бойцов роты он известен под кличкой «младший брат Давида Сасунского».
Корреспондент посмотрел на лежавшего на носилках Гарсевана и задал ему несколько вопросов, но, не получив ответа, написал что-то на клочке бумаги и вложил в карман Гарсевану.
Над носилками Гарсевана склонился Унан:
— Поправляйся скорее, брат, трудно будет нам без тебя! Если приведется увидеть мать, ничего не говори ей об Айказе, пускай верит, что он жив…
Гарсеван легким кивком головы дал понять, что исполнит просьбу Унана, и с тоской посмотрел на него. Тот понял, о чем думает Гарсеван.
— Быть может, он и спасся. Ты уж скорей поправляйся!..
Гарсеван с горечью покачал головой.
Глава восьмая
ГАРСЕВАН ДАНИЭЛЯН
Весть о подвиге Гарсевана прошла по всему фронту. Корреспондент Совинформбюро послал статью о Гарсеване и в московские и в ереванские газеты. Этот рассказ наполнил сердца его родных и друзей гордостью и одновременно тревогой: вернется ли к Гарсевану речь?
Тем временем армейский госпиталь посетил генерал Денисов. Накануне он получил письмо от Асканаза. Сообщая о действиях своего полка и дивизии, Асканаз со своей стороны просил написать ему об Алле Мартыновне и Оксане.
Когда Денисов беседовал с ранеными в госпитале, ему рассказали о Гарсеване.
— Что нужно для того, чтобы вернуть ему дар речи? — осведомился у главврача Денисов.
— Полный покой и перемена обстановки.
— Близость родных окажет положительное влияние?
— Несомненно.
В эту ночь большую группу раненых отправляли на самолетах в Баку, Тбилиси и Ереван. Денисов приказал отправить Гарсевана в Ереван.
— Будешь проходить лечение в Ереване, чтобы скорее вернуться и снова наводить страх на фашистов! — ласково сказал он, наклоняясь над койкой Гарсевана.
Гарсеван лишь пошевелил губами. На его глазах показались слезы.
— Ну, будь мужчиной, разве тебе подобает плакать? — подбодрил его Денисов.
Уже два дня Гарсеван лежал в отдельной палате одного из ереванских госпиталей. Раненая нога не внушала особого беспокойства врачам: рана должна была скоро затянуться. Заботила их потеря речи, никакого улучшения не было.
В первый же день Гарсеван с большим трудом написал записку главному врачу госпиталя:
«Никого из родных ко мне не допускайте, пока сам не смогу вслух сказать, что хочу их видеть».
Принимавшие участие в консилиуме хирург, невропатолог и терапевт пришли к заключению, что нужно выполнить желание раненого.
Ашхен попросила, чтобы уход за Гарсеваном поручили ей, не сказав, что она его знает.
Прошло еще два дня. Ашхен заметила, что Гарсеван сильно нервничает, когда его понимают не сразу. А писать ему было трудно. Ашхен решила в этот вечер позднее уйти из госпиталя, потому что Гарсеван чувствовал себя спокойнее в ее присутствии. Ему казалось, что Ашхен каким-то волшебством по малейшему изменению лица угадывает его желания. Гарсеван не был капризным больным. Иногда он просил дать газету. Когда же Гарсеван испытующе смотрел на Ашхен, она понимала: он хочет знать, не очень ли волнуются за него родные, удалось ли уверить их, что лечение идет хорошо.
Был уже поздний час, давно разнесли ужин. Часть больных спала, часть еще бодрствовала. Сидя на низеньком табурете у изголовья Гарсевана, Ашхен молча смотрела на его мрачное лицо. Тускло светила с потолка затемненная лампочка. Лицо Ашхен было в тени и от этого казалось каким-то таинственным. Гарсеван смотрел на ее неподвижные губы и думал о том, остался ли в памяти этой ласковой заботливой женщины звук его голоса. Ведь всего год тому назад он говорил с нею здесь, в Ереване…
— Гарсеван! — тихо окликнула Ашхен.
Раненый повернул голову и выжидательно посмотрел ей в глаза.
— Нет, нет, не пытайся говорить, покажи рукой, что тебе подать: тут простокваша, фрукты…
Гарсеван отрицательно мотнул головой.
— Не надо так нервничать, милый, не думай об этом! Ты хочешь спросить, откуда я знаю, что ты нервничаешь?.. У нас, женщин, есть кое-что от сатаны, мы умеем проникать в мысли мужчин даже тогда, когда они молчат!
Ашхен заметила, что при последних ее словах Гарсеван с легкой улыбкой покачал головой. Ашхен продолжала:
— Ладно, скажем, что я не обладаю сатанинским даром: это уже устарело. Ну, подумаем вместе, может, придумаем что-нибудь поумнее… Я знаю, о чем ты думаешь: «Имя мое упоминается в газетах, журналисты написали статьи… Но главное вот в чем: сумею ли я вернуть дар речи и вернуться в строй, быть настоящим бойцом…»
Гарсеван чуть приподнялся на локте, затем снова опустил голову на подушку и стиснул руку Ашхен. Ашхен продолжала:
— Потом ты мысленно уносишься домой, где тебя ждет Пеброне. Она — живая, веселая женщина, любит и сама поговорить и других послушать. И вот ты думаешь: «Уже четыре дня я лежу здесь и запрещаю пускать к себе жену, чтобы она не увидела меня вот таким! Предположим, пролежу еще четыре-пять дней. Но ведь в конце концов она все же придет! Залечат мне ногу, и я поеду домой. Начнут ходить родные и соседи, поздравлять меня, а вместо меня придется отвечать Пеброне… Вот она подойдет ко мне с дочуркой, скажет: «Смотри, твой папа». А отец не сможет сказать ласкового слова ребенку!.. А тут еще горе Ребеки — ведь об Аракеле ничего не известно…»
Гарсеван вздохнул и свободной рукой вытер пот со лба.
— Вот о чем ты думаешь! — воскликнула Ашхен.
И на этот раз Гарсеван различил в ее голосе сердитые ноты, увидел на лице выражение упрека. Взгляд Гарсевана словно умолял: «Говори, говори, что же дальше? Ты правильно читаешь мои мысли».
— Не думай больше об этом. Ты же воин, даже раненый — ты воин душой. Значит, должен хорошо понимать меня. Ты знаешь, что такое воля? Ты понимаешь, сколько заключено в этом маленьком слове? Знаешь? Должен знать! В моем понимании воля — это умение сосредоточить все силы на самом важном. Что же случилось с тобой? Да ничего! Да, да, именно ничего! Ты совершенно здоровый человек. Ты думаешь о чем угодно, а не думаешь о самом главном. Сейчас для тебя самое важное перебороть себя и думать, что ты можешь говорить, можешь и будешь говорить еще лучше прежнего. За две тысячи триста лет до нас в Греции жил знаменитый оратор Демосфен. У него был врожденный недостаток — он заикался. Однако силой воли и упражнениями он избавился от этого недостатка и стал знаменитым оратором. Но оставим древние времена. Вспомни нашего современника Островского. Ты же знаешь, что он был парализован, потерял зрение, вынужден был неподвижно лежать на спине — и силой воли спас себя. Его роман продиктован не только чувством и умом, но и волей, и прежде всего именно волей! А ты… Руки и ноги в порядке, сам — точно кряжистый дуб… Кстати, выпустил бы ты мою руку чуточку, — так сжал, что едва не расплющил пальцы!..
Гарсеван выпустил руку Ашхен. Она потрясла рукой в воздухе перед его глазами и потихоньку отвела слипшиеся пальцы.
— Ладно, оставим это. А спина? Словно у Давида Сасунского! Что ж тебе еще нужно? Воля!.. И я требую… сам знаешь, чего я от тебя требую! Да, я не ученица сатаны, но признаюсь тебе: не люблю слабодушных людей! Ну, а теперь съешь эту миску простокваши и усни, и чтоб тебе снились хорошие сны!..
В кабинете дежурного врача за столом спала сестра, опустив голову на сложенные руки. Ашхен посмотрела на стенные часы: второй час. «Да, задержалась я у Гарсевана», — подумала она, и невольная улыбка тронула ее губы.
Она хотела было прилечь на диван, но передумала и подошла к телефону: надо бы поговорить с Вртанесом. Но не побеспокоит ли она его в такой поздний час? Впрочем, он всегда обижается, когда к нему применяют слово «беспокоить».
— Алло, это вы, Вртанес?.. Позвонила потому, что знаю, вы обычно засиживаетесь поздно… Хорошо, послушаю… Значит, здоров Тиграник? Большое спасибо. Спит с Давидиком, говорите?.. Да, дети любят это. А относительно Тартаренца у вас нет известий?..
По ответу Вртанеса Ашхен поняла, что ему хотелось бы обойти этот вопрос.
Полк Асканаза выступил в учебный поход в отдаленные районы республики, и Ашхен так и не видела Тартаренца.
— Ладно, — продолжала она, — я, может быть, вырвусь из госпиталя завтра утром, тогда узнаю у Нины Михайловны… Относительно Гарсевана?.. Не знаю, что и сказать, врачи обнадеживают… Говорите, приехала Пеброне с ребенком?.. Наапет-айрик тоже?.. Ах, остановились у Михрдата?.. Да, да, пусть завтра утром часам к десяти Пеброне придет в госпиталь… Свидание?.. Не знаю уж, Гарсеван решительно отказывается пока… Седа еще не спит?.. Попросите ее за меня поцеловать Тиграника…
Ашхен опустила трубку в ту самую минуту, когда вошедшая санитарка сообщила, что ее просят к больному. Это оказался Грачик.
— Ашхен-джан, прости, что беспокою тебя… Плохо, что ли, перевязали мне рану, так колет, что мочи нет. Уснуть не могу… Сделай что-нибудь, прошу тебя.
Ашхен быстро ощупала забинтованную ногу и, глядя на Грачика, спросила:
— А ну, признайся, колет или зудит?
— Да, сестрица Ашхен, уж сделай ты что-нибудь! — подхватил лежавший рядом раненый по имени Вахрам. — Сделай хотя бы ради нас, а то покоя от него нет. Невеста у него вчера уехала в Баку, вот он и разохался!
— Бессовестный, что это ты выдумываешь? — смущенно возразил Грачик.
— Ничего я не выдумываю, а чего ты сестрицу Ашхен изводишь? Дай человеку поспать, ведь ей завтра опять работать.
— Ладно, ладно, бросьте спорить! — остановила их Ашхен, продолжая массировать раненую ногу. — Ну как, полегчало?
— Ну, раз говоришь, что зудит, — потерплю.
— Пойми, что это признак заживления раны. Смотри, чтобы ты и голоса не подал до утра! Все равно без хирурга нельзя снять повязку.
Ашхен весь день провела на ногах. Вернувшись в кабинет, она без сил упала на диван, но уснула не скоро. Она не знала, сколько проспала, потому что какой-то непривычный шум заставил ее вскочить, и она спросонок вместе с дежурным врачом и сестрой выбежала в коридор. Прислушавшись, она поняла: гомон доносился из крайней палаты в конце коридора, где помещались восемь раненых. Она приоткрыла дверь в одиночную палату Гарсевана и остановилась, пораженная: Гарсевана в палате не было. Охваченная тревогой, она добежала до крайней палаты, распахнула дверь и остолбенела: спиной к ней стоял богатырского сложения человек в одном белье, опиравшийся на палку. Полусидя на кроватях, его слушали удивленные раненые. До слуха Ашхен донеслись слова:
— Разрешите обратиться, товарищ командир… Так что вернулся в строй… Так точно, Гарсеван Даниэлян вернулся принять свое отделение, ждет вашего приказа и боевого задания!.. Ну как, понятно? Говорите же, бессовестные, не томите меня!
Ашхен кинулась к говорившему. Это был Гарсеван, и он говорил! Ашхен подбежала, обняла его.
— Значит, все хорошо, родной мой?
— Да, Ашхен-джан, бесценная ты моя… Это ты меня исцелила! Дай-ка, дай…
Он крепко поцеловал ее в лоб.
— Ну, говори же, говори… Если завтра придет ко мне Пеброне, она поймет меня, ведь поймет?
— Да еще как! — весело воскликнула Ашхен и объяснила недоумевающим больным, в чем дело. Вместе с врачом и сестрой она отвела Гарсевана в его палату. Врач с упреком сказал ему:
— Ведь рана на ноге еще не зажила, нельзя было вам ходить!
— Доктор, дорогой, да ведь со мной чудо случилось… Это не женщина, а прямо волшебница! Понимаешь, говорила она со мной вчера вечером и зацепила меня словом… Сказала, значит, и ушла. Закрыл я глаза, видно, уснул. Вижу, как будто я на фронте, и вдруг окружают меня четверо фашистов, хватают… Один кричит: «Вот хороший «язык»! А другой ему: «Какой там «язык», когда у него нет языка! Прихлопните его тут же, на месте!..» — «Ах вы, — я говорю, — мерзавцы этакие, у меня и язык есть, и кулак имеется!..» И как дам одному!.. Тут проснулся я, оглядываюсь, весь в поту. И слышу, сам говорю: «У меня и язык есть, и кулак имеется». Понял я, что опять говорить умею, начал я звать Ашхен — никто не откликается. А я все зову то Ашхен, то Пеброне. Вижу, что с ума сойду, если один останусь. Кое-как встал с кровати, взял костыль и потащился в соседнюю палату… Очень хотелось мне проверить, поймут ли меня, если буду говорить! Так что вы уж простите меня…
— Хорошо, успокойся, — повторяла не менее его взволнованная Ашхен. — Молодец наш Гарсеван, прямо молодец!
Врач и сестра ушли. Ашхен снова села на маленький табурет рядом с кроватью Гарсевана. Он ласково смотрел на эту ставшую ему родной женщину, и чем дальше, тем милей она ему казалась.
— Эх, счастлив тот, кому ты досталась! — промолвил он.
Ашхен лишь улыбнулась в ответ.
Несколько дней подряд в определенные часы к Гарсевану приходили на свидание родные и знакомые. С огромной радостью он говорил с женой, ласкал свою маленькую дочку. На расспросы Ребеки сдержанно отвечал, что ничего не знает о брате. Оставаясь один, он тяжело задумывался о все более тревожных вестях, поступавших с фронта.
После того, как к Гарсевану вернулась речь, его уложили в общую палату. Он лежал между Грачиком и Вахрамом (это был парикмахер, уроженец Ленинакана, и его ранило в то время, когда он брил бойцов в окопах). В палате было еще двое кубанцев и один казанский татарин. Гарсеван говорил без умолку: он не представлял себе большего счастья, чем то, что он может говорить. Родные и друзья принесли ему всякой всячины, и он с детской радостью раздавал товарищам по палате фрукты, лаваш, жареных и вареных кур.
Как только Гарсеван почувствовал себя немного лучше, он в первую очередь решил написать ответ фронтовому корреспонденту, записку которого комиссар госпиталя нашел среди документов Гарсевана.
«Когда вы снова начнете говорить (а я не сомневаюсь, что дар речи вернется к вам очень быстро), прошу вас немедленно сообщить об этом: вы мне понравились. Вы прочтете кое-что о себе в газетах…»
Внизу был приписан номер полевой почты. Гарсеван продиктовал Ашхен ответ:
«Здравствуйте, товарищ Морозов. Благодаря сестре госпиталя, которая пишет вам за меня, я снова начал говорить, как подобает человеку. Конечно, я рад. Но душа у меня болит, — немцы опять продвигаются вперед. Говоря по-нашему, по-фронтовому, нажимают… Хочу поскорее, как можно скорее поправиться. Душа подвига просит настоящего… Надеюсь, встретимся живы-здоровы на фронте. Привет. Гарсеван Даниэлян».
…Стояло жаркое июльское утро. Гарсеван уже кончал свой завтрак, когда ему сообщили, что к нему приехали из колхоза. Гарсеван присел на кровати и положил подушку повыше. В палату вошел высокий старик.
— Наапет-айрик! — привстав, воскликнул Гарсеван. — Ну, зачем беспокоился в такую жару? Оставил прохладу и тень садов и приехал жариться!.. Ну, иди, иди ко мне!
Они крепко обнялись.
— Не вытерпел я, Гарсеван-джан! Говорю себе: поеду-ка своими глазами увижу его, своими ушами послушаю… Да погоди, поздороваюсь с твоими товарищами… — И Наапет по очереди подошел ко всем и поздоровался за руку. Когда очередь дошла до Игната, Наапет вгляделся в кубанца и, словно припоминая что-то, медленно произнес: — Казак… знай-знай… балшой… — и, погладив бороду, добавил: — балшой барада!
Обернувшись к Гарсевану, он объяснил:
— Вы, желторотые, не любите бороды, а у тех казаков, которых я знавал, борода была — во!
— Дедко-то, видать, бывалый! — засмеялся Игнат.
— Это наш-то дед? Да ты знаешь, какой он у нас? — подхватил Гарсеван. — Мне наши рассказывали: все село на ноги поднял, сам, словно молодой, без отдыха работает и вагон за вагоном на фронт продовольствие шлет. Все село им гордится!
Наапет махнул рукой, внимательно оглядел всех лежавших в палате и сел на стул рядом с кроватью Гарсевана. Отдуваясь, он расстегнул ворот тонкого архалука. Показалась покрытая седыми волосами грудь. Большим цветным платком он вытер вспотевшее лицо и медленно заговорил, словно подбирая слова:
— Не хотел бы с первого слова тебя обижать, Гарсеван-джан… Только что это за сказки ты тут рассказываешь, дескать, Наапет-айрик такой да сякой? К чему это, зачем захваливаешь? Слава тебе, господи, честный труд дороже всего!
— Так я ж ничего плохого не сказал, Наапет-айрик, зачем ты на меня сердишься?
— Ты в споры со мной не вступай, — нахмурился Наапет. — А то ведь и я могу перед твоими товарищами расписать: такой он, мол, да сякой… Это дешево стоит!..
По просьбе Игната Грачик пересказал ему слова Наапета по-русски. Игнат хитро подмигнул левым глазом.
— Кумекаю я как будто, из-за чего наш дедко рассердился-то…
— Меня-то хвалить, конечно, не за что, — замялся Гарсеван. — Но вот эти ребята, что со мною лежат… Вот хотя бы Игнат: ведь он целый штаб немецкой дивизии взорвал! Так что…
— Молод ты еще, Гарсеван, молод! Чему радоваться, когда фашист вперед прет… Ты подумай — Ворошиловград, Ростов, Миллерово… Да ведь в этих местах я сам в молодые годы бывал! Уже куда эти проклятые добрались, и дальше лезут! Краснодар, Армавир — это же прямо под носом у нас! За что ж вас хвалить-то? Когда придет время хвалить, я и сам сумею и слова для этого найду!
Гарсевану хотелось сказать, что его донимают такие же мысли, но он понимал, что этим не утешит старика.
— Правда твоя, Наапет-айрик. Хвалиться-то пока еще нечем.
— Вот это другое дело, это правильно! Цену слову нужно крепко знать. Вот как говорили в старину: «Сказанное вовремя слово — это золото, а не ко времени — по ветру пущено».
— Правильно дед говорит, — откликнулся с места Игнат. — Какие уж там похвалы! Похвала тогда к месту будет, когда враг нам спину покажет! Народ теперь одного от нас требует — чтобы мы гнали захватчиков с нашей земли… И знаете, братцы, как проезжал я по Кубани, головы не смел поднять…
— Эх, Кубань, Кубань! — воскликнул Наапет. — Ну как же оставить золотой кубанский хлеб фашисту?
— Это уж, дедко, прошу прощения! — оскорбленно прервал Игнат. — Этого фашистам не видать! Наши кубанцы то, что могут, прячут, а остальное скорее сожгут, чем фашисту отдадут.
— Это хорошо придумано! — одобрил Наапет. — Не станем же мы фашистского зверя нашим хлебом откармливать!
Он снова вытер лоб и обратился ко всем:
— Скажите мне вот что: какое у н и х оружие? Я сам только наш «Мосин»[11] видел, а наши пушки ничьим не уступали. Да только слышал я, что у фашистов такое вооружение, что и пером описать нельзя, и будто таким огнем они наших закидывают, что мы не в силах устоять. Поэтому и прут вперед. Вы мне объясните, так ли это и почему?
Гарсеван и Игнат переглянулись, как бы говоря один другому: «Говори ты». Но в это время слово взял Вахрам из Ленинакана:
— Оружие-то своим порядком, а ведь, кроме того, у них и умение сатанинское: то видишь их перед собой, то вдруг в тыл тебе зашли, а то сразу со всех сторон словно из-под земли вырастут, навалятся и давай бить… А ты не знаешь, куда и стрелять, чтобы в него твоя пуля попала!
— Что, что такое? — подскочил на месте Гарсеван.
Пока Игнату объясняли сказанное Вахрамом, заговорил нахмурившийся Гарсеван.
— Слушай, ты… — начал он и едва сдержал желание крепко выругать парикмахера. — Это что за такое сатанинское умение у фашистов, что ты не успеваешь даже выстрелить в них? Мы тут говорим, что стыдно нам отступать, но не говорим же, что потеряли голову от страха! Вот возьмем хотя бы нашего Унана: сражался рядом со мной, и сам я видел, что он четверых зараз уложил, а незадолго до этого — еще троих. А всего сколько уложил — мы и это узнаем. А ты что тут какие-то сатанинские сказки рассказываешь? Лучше расспросил бы хоть раненых в нашей палате, скольких каждый из них на тот свет отправил! Жаль только, что скромничают они, других приходится расспрашивать о том, что они сделали…
Раненые наперебой стали допытываться, кто такой Унан, о котором упомянул Гарсеван. Наапет же с улыбкой обратился к парикмахеру:
— Порадуй нас своим именем, сынок… Как — Вахрам? Так говоришь, что фашист сатане подобен? Ну, тогда не трудно и расправиться с ним! В старые времена достаточно было перекреститься, и сатана спешил улизнуть, задрав хвост, через дымовую трубу!.. Или же говорят, что старухи умудрялись пришить его хвост к платью, и после этого сатана становился ручным, как кошка, падал в ноги, выполнял все желания… Так что, видишь ли, сатаны-то боялись, но с ним и справлялись!
Парикмахер только глазами хлопал. По-видимому, своим рассказом он надеялся заинтересовать всех, но, встретив отпор, растерялся и не знал, что сказать.
Игнат, заметив, что Гарсеван рассердился, а дед Наапет не получил ответа, решил объяснить старику:
— Уж будь уверен, дедко, что нет у фашиста ничего такого, против чего не могли бы мы выстоять. Возьмем танк: так ведь одному смелому бойцу со связкой гранат в подходящую минуту не растеряться — и капут, нет тебе танка! Или возьмем бомбардировщик: из того же «Мосина», о котором ты говорил, его подстреливают. А танки и самолеты у нас имеются и получше немецких. Фашисты всю Европу разграбили и оружие поднакопили! Вот накопим и мы, и скоро фашисты света невзвидят!
— Так-то оно понятнее. А тебе, Вахрам-джан, советую забыть сказки о сатане, не к лицу они теперешней молодежи. Конечно, война идет, найдутся такие, что и к правде вранье примешают. Говорят же: «Мышь в кувшин попала — все масло опоганила».
— Спасибо тебе за совет, Наапет-айрик, — отозвался подавленный Вахрам. — Честное слово, меня не так поняли, я не то хотел сказать…
— А ты и говорил бы сразу так, как хотел сказать, чтобы тебя правильно поняли! Вот поправишься ты завтра, со своими встретишься, расспрашивать тебя будут — ведь в бою ты побывал… Ты и должен так рассказывать, чтобы каждый тебе сказал: «Ну, вот, теперь я понял, трудное у нас положение, но отчаиваться нельзя».
Раненые внимательно слушали старого Наапета.
Наапет попрощался со всеми, поцеловал каждого в лоб; долгое время после его ухода в палате царило молчание.
По проселочной дороге, извивающейся между садами, шагал Гарсеван. Закончив лечение, он получил трехдневный отпуск и отправился в родное село. Сойдя с автобуса в районном центре, он решил добраться до Двина пешком, чтобы налюбоваться на родную природу и повидать знакомых.
Вдали виднелись опаленные солнцем утесы — прибежища горных коз. Внизу — сады и поля, где им были исхожены все тропинки.
Но вот все ближе очертания родного села. Он оглядывал отягченные крупными абрикосами ветки, усыпанные еще незрелыми персиками и яблоками деревья, наливающиеся соком гроздья винограда, и все это, знакомое и близкое с детства, сейчас представлялось ему особенно дорогим.
На околице села, у родника, Гарсевана встретили деревенские ребятишки. Он всех приласкал и расцеловал, перед тем как свернуть к своему дому — двухэтажному, обращенному окнами во двор, с широкой верандой. Под верандой тянулся обширный погреб, во дворе стоял небольшой хлев. Сидя на каменных ступеньках лестницы, Пеброне вынимала косточки из абрикосов и раскладывала половинки плодов на дощечки для сушки. Гарсеван незаметно подошел, обнял ее сзади. Пеброне громко вскрикнула и обернулась. Увидев мужа, она с плачем припала к его плечу, приговаривая сквозь слезы:
— Ну, почему не дал знать, не написал, телеграммы не прислал?! Приехала бы встречать!
— Ничего, и так хорошо, Пеброне-джан! — успокоил ее Гарсеван. — А где же дети?
— Они в летних яслях. Ребека со своей бригадой в садах работает. Ты на сколько времени приехал? Только на три дня? И один день уже прошел!.. Стосковались мы по тебе, надо же детям побыть с отцом!
Пеброне закрыла глаза, прижалась к широкой груди мужа, забыв все лишения и горести разлуки. Но, несмотря на радость встречи, Пеброне чувствовала, что Гарсеван встревожен, что он делает над собой усилие для того, чтобы выглядеть спокойным и радостным.
На балкон выбежали дети в сопровождении старшего сына Аракела — Ашота. Гарсеван словно забыл обо всем на свете: схватив маленького Пайцика и сына Михрана, детей Аракела — Сирану и Гагика, он целовал их по очереди, не забывая потрепать голову стоявшего рядом Ашота.
— Как ты вытянулся за этот год, Ашот-джан! — с любовью сказал Гарсеван. — Да это и понятно, ты сейчас в доме единственный мужчина!
— Дай бог ему здоровья, помогает, как взрослый, — подтвердила Пеброне.
Ашот смущенно улыбался, не отводя глаз от дяди. Гарсеван понимал, что мальчику не терпится узнать об отце. Но что мог ему сказать Гарсеван?
— Пойдем к Ребеке, — сказал Гарсеван жене, и они, пройдя по улицам села через сады, вышли к полю, засеянному пшеницей.
Несколько мужчин и женщин во главе с Наапетом докашивали созревшую пшеницу на косогоре.
— Добро пожаловать, родной наш! — послышались восклицания, и косари окружили Гарсевана.
— Хорошие вести о тебе мы слышим, радостно нам, — заговорил белобородый старик. — По сердцу нам, что наш односельчанин высоко держит славу родного колхоза! Наапет нам рассказывал и о тебе и о твоих товарищах. Ну, как они, поправились?
— Поправились, дед Енок.
Гарсеван слушал и оглядывал жнивье и оставшиеся еще не скошенными поля. Когда же косари снова принялись за работу, он решительным движением отобрал косу у Наапета.
— Да брось, парень, ведь всего на два-три дня приехал на побывку… Отдохни, с женой побудь, и дети ждут тебя! Иди, иди себе, вечером зайдем — наговоримся вволю.
— Давай, давай! — Не слушая старика, Гарсеван стал в ряд.
Коса мерно задвигалась в его руках, колосья ровными рядами ложились на землю. Чем дальше, тем больше спорилась у него работа, тело приноравливалось к равномерным взмахам рук, лицо разгорелось. Родное солнце словно налило его огнем, и Гарсеван все косил и косил, и золотые колосья покорно склонялись перед ним. Гарсеван слышал восклицания старших косарей, но, разгоряченный, не разбирал слов, лишь чувствовал одобрение в их голосах.
С восхищением следил за Гарсеваном Наапет, неотступно следовавший за ним. Старик уже не настаивал на том, чтобы Гарсеван вернул ему косу.
«Пусть поработает парень, — стосковались, видно, руки у него… Пускай вдохнет запах родной земли. Эта работа хорошего отдыха стоит!» — размышлял умудренный жизнью старик.
Взмахивая косой, словно в забытьи шагал по полю Гарсеван. Рывком сорвав с себя гимнастерку, он бросил ее в сторону и остался в одной рубашке. Нет, не ослабели у него руки, не устают ноги…
Увлеченный Гарсеван вздрогнул, когда кто-то крепко обнял его. Он глубоко перевел дух, обернулся и увидел Ребеку.
— Сказали мне, что приехал!.. С чего это ты вдруг?
— Стосковался по работе, душа моя, иди, обниму тебя!.. — И, отложив косу, Гарсеван обнял Ребеку, прижал ее голову к груди и несколько раз поцеловал в лоб. — Вижу я, Ребека-джан, что ты всех нас, ушедших на фронт, сумела заменить! Знаю, — Наапет-айрик говорил, — что твоя бригада самая передовая в колхозе!
Но заметно было — не тем заняты мысли Ребеки. Лицо Гарсевана омрачилось. Распрощавшись с косарями, он вместе с Ребекой и Пеброне отправился домой. После ужина, ответив на все расспросы односельчан, пришедших повидаться с гостем-фронтовиком, узнав о всех новостях, Гарсеван, наконец, смог поговорить наедине с Ребекой. Может быть, только сейчас почувствовал он, как тяжела его задача. Он смотрел на опаленное солнцем, усталое лицо, на воспаленные веки Ребеки, на руки со вздувшимися венами, с мозолями на ладонях, смотрел и колебался: как ей сказать, с чего начать?
— Гарсеван, дорогой, скажи мне только: да или нет? В госпитале не хотела тебя расспрашивать. Теперь, слава богу, ты здоров. Ведь всегда вместе письма писали, что же случилось? Ну, ты ранен был, а он?..
— Да, вместе писали, — неопределенно повторил Гарсеван.
— Я все вынесу, Гарсеван, только говори правду! Знаю, не песни петь вы т у д а пошли. Ну… Не хочешь, да? Говори же… Не поворачивается язык у меня самой сказать… Он убит?..
— Нет, нет!
— Вот эта неизвестность для меня тяжелее всего!
Гарсеван с трудом переборол волнение, подумал и решительно повернулся к Ребеке:
— Ну, раз ты так настаиваешь, Ребека-джан…
Ребека вздрогнула, по спине у нее пробежал холодок. Гарсеван продолжал:
— Не знаю уж, как сказать… Не то ранен был, не то в плену остался…
Несколько минут не нарушалось тяжелое молчание. Загрубелым узловатым пальцем Ребека отерла слезы и еле слышно произнесла:
— Остаться в плену не лучше, чем быть убитым… и позор какой!..
— Не хотел я тебе говорить, хоть и знаю я, что ты душой крепче всех нас. А теперь уверять не стану, ты меня знаешь. Сколько сил есть — не пожалею. Тут ведь вопрос нашей чести — народа, села, дома нашего!
— Ах, Гарсеван, сна-отдыха я лишилась. Пускай убили, что тут поделаешь? Но в плену… И как мой Аракел не смог выскользнуть, как это случилось?!
— Всякое бывает, Ребека, не будем терять надежды! Может, сумеет к партизанам уйти, снимет пятно с себя.
— Говори, говори! — не выдержав, разрыдалась Ребека. — Надежда тоже утешение.
…На третий день Гарсеван стал готовиться в путь.
— Но ведь тебе же завтра утром являться, Гарсеван-джан! Теперь и авто есть, слава богу, и поездом можно доехать. Зачем тебе сегодня?.. — упрашивала мужа Пеброне.
— Долг у меня на душе, Пеброне-джан. Еще в Октемберянский район надо заехать, в совхоз — повидаться с матерью Унана Аветисяна: дал слово Унану. Пятеро детей у нее в армии, не шутка это! Один из сыновей — Айказ — погиб, в нашей роте был.
Пеброне помолчала.
— Ну, так я тоже поеду с тобой к матери Унана.
Гарсеван распрощался с односельчанами, крепко обнял Ребеку, детей и вместе с Пеброне отправился в районный центр, а оттуда на попутном грузовике в совхоз.
…Ханум только что вернулась с полевых работ. Сидя под большой яблоней, она кормила внуков. Увидя Гарсевана, Ханум привстала а вгляделась в него.
— От Унана моего?! — вскрикнула она и, поспешно поставив миску с молочной похлебкой на стол, кинулась к Гарсевану.
— Да, майрик-джан, как ты угадала? — удивился Гарсеван.
— Увидела, что ты в военной одежде, и вспомнила: ведь Унан писал, что, мол, товарищ мой раненый в госпитале лежит, как поправится, зайдет. Ах, смерть не берет меня, ведь до Унана старшенький мой писал… Айказ мой…
Гарсеван помнил предупреждение Унана не говорить матери о гибели Айказа. Известно ли ей что-нибудь? По выражению сдержанной скорби на ее лице он понял, что она затаила в глубине души материнское горе. Шепнув Пеброне, чтобы она занялась детьми, Гарсеван прошел с Ханум вглубь сада.
— Но Айказ дорогой ценой, майрик-джан… В самый трудный момент он одной очередью шестерых…
— Знаю, писал мне его командир. Так говоришь, жив-здоров мой Унан? А вот Айказ мой… Что делать, слезами горю не поможешь! Невестки у меня есть, внуков целый табунок. Нужно о них позаботиться, вырастить нужно! Дай бог, чтоб другие сыновья мои, чтоб вы все уцелели! Эх, кто знает…
— Война, майрик-джан, что поделаешь!
— Ну да, — Ханум протянула ему руку, показала на раскинувшиеся вдали поля. — Вот бросаешь в землю зерно, ухаживаешь за ним, и становится оно колосом, приносит богатый урожай. А зерно умирает, то самое, что урожай принесло!..
— Майрик-джан, что мне на это ответить… — Гарсеван нагнулся, поцеловал руку Ханум. — Ты такое сказала, что я и слов не нахожу!
— Что же делать, сынок, боли и мучений в жизни не миновать, и больше всего это к матерям относится. Живу надеждой, что хоть остальные мои вернуться. А надежда для человека то же, что солнечный свет для земли…
Они поговорили о невестках и внуках Ханум, о том, какой урожай и доход ожидается в этом году, но она все возвращалась к разговору о сыновьях, расспрашивала об их житье-бытье. Она с любовью показала ровные ряды вишневых, персиковых и абрикосовых деревьев, которые были высажены Унаном.
Арарат кутался уже в вечернюю мглу, когда Гарсеван и Пеброне попрощались с Ханум.
Глава девятая
ПРОЩАНИЕ С ЕРЕВАНОМ И РОДНЫМИ
В один из первых дней августа Асканаз отдыхал у себя в комнате. Солнце уже зашло. Асканазу не хотелось зажигать свет, приятно было вдыхать вливающийся в открытое окно свежий воздух.
Свыше двух месяцев он неустанно обучал свой полк, водил его в походы в дальние районы, заставлял преодолевать труднейшие горные дороги. За это время его бойцы основательно изучили все виды современного вооружения. После проверки командование Кавказского фронта пришло к заключению, что дивизия вполне подготовлена к боевым действиям на фронте. Полк Асканаза Араратяна вышел на первое место по боевой подготовке: настойчивый командир полка сумел весь свой боевой опыт передать командирам и бойцам, с которыми не расставался ни на учебном плацу, ни на маршах. Сегодня он впервые провел ночь в своей комнате, которую Шогакат-майрик содержала в образцовой чистоте.
Рано утром на следующий день, в торжественной обстановке, полки должны были получить на площади имени Ленина свои боевые знамена и принести присягу в том, что честно и самоотверженно выполнят свой долг перед отчизной.
Асканаз был не один. С ним была Нина, одетая в военную форму. Облокотившись на подоконник, они смотрели вниз на тускло освещенную улицу.
Они только что выслушали очередное сообщение Совинформбюро: враг упорно продвигался вперед и на юге и на востоке. Одно было утешительно — то, что вести сообщались из Москвы, а голос Москвы вливал надежду и веру.
Асканаз закрыл окно, затемнил его и зажег свет. Нина подошла к столу, пробежала глазами одну из газет.
— О чем только думают наши союзники? Собираются они открывать второй фронт или?..
Асканаз махнул рукой.
— Время покажет. А пока что нам нужно надеяться больше всего на мощь нашей собственной армии.
— Асканаз Аракелович, ведь мы будем в составе армии Денисова, не правда ли? — спросила Нина, продолжая просматривать газеты.
— Ну и что же?
— Вы знаете, я очень рада этому! — Нина помолчала с минутку и живо добавила: — Имейте в виду, Асканаз Аракелович, что я теперь могу работать связисткой, окончила курсы!
Снова наступило молчание. С сильно бьющимся сердцем Нина взяла в руки рамку, в которой была вставлена карточка трех подруг. Той, которая стояла посредине, уже не было в живых. Какими обещаниями был связан Асканаз с погибшей девушкой? Ведь Нина сама рассказала Асканазу историю своей жизни. Почему же он ничего не говорит ей о своей личной жизни, о своих переживаниях? Но, собственно, к чему? Разве Нине и без того не ясен жизненный путь Асканаза? Война, война, ее тяготы и подвиги! Нина не решалась признаться даже самой себе, что с каждым днем Асканаз все больше значит в ее жизни. Ей хотелось бы слышать от него сердечное слово… Но, вероятно, она оттолкнула его своей резкостью тогда, во время московского разговора… Хотя нет, нет, Асканаз был великодушен, и, конечно, он понял причину тогдашней ее вспышки. Так в чем же дело? Да, видимо, единственной причиной является то, что не она та избранница, которая может заменить ему Вардуи. «Не Ашхен ли?.. — промелькнуло у Нины. — Да, да, разве я не вижу: Асканаз — вот к кому стремится душой Ашхен! Такая женщина — в руках какого-то Тартаренца, что за насмешка судьбы! Но Ашхен слишком скромна, а Асканаз так щепетилен!.. Нет, он не способен быть помехой чужому счастью. Значит, Ашхен тоже не в счет. — Нина словно успокоилась. — Сейчас, конечно, не этим заняты его мысли».
Она достала из сумочки письмо сестры и вновь перечитала те строчки, в которых та писала, что Дима чувствует себя хорошо, каждый день у него прибавляются новые слова, а недавно он заявил, что «Дима скоро вырастет, поедет за мамой и привезет ее». На глаза Нины навернулись слезы. Она обернулась и встретила взгляд Асканаза. Он встал, подошел к Нине, своим платком вытер ей глаза и сказал:
— Я сам отвезу вас в Москву, к Диме, когда наступит время.
— Но почему вы вспомнили о Диме?
— Вспомнилось как-то… — отозвался Асканаз, не желая показывать, что угадал причину ее слез.
Лучше было ей не спрашивать! Она не может вызвать его на откровенность, но заботливость Асканаза утешила Нину…
В дверь постучали.
Асканаз открыл дверь. В комнату вошел стройный юноша лет восемнадцати, в серых брюках и вышитой украинской сорочке. Он выглядел слегка смущенным, но молодцевато вытянулся и отрапортовал:
— Разрешите обратиться, товарищ командир! Сегодня наконец военный комиссариат удовлетворил мое ходатайство, и мне разрешили вступить в армию. В комиссариате сказали, чтобы я явился в ваш полк. Я никогда не решился бы беспокоить вас в такое позднее время, но завтра вручают знамена и будут принимать присягу. Зовут меня Юрий Мартиросян.
Юноша говорил быстро, взволнованно. Последнюю фразу он проговорил медленно, отчетливо произнося каждое слово и не отводя открытого, напряженного взгляда от лица Асканаза Асканаз посмотрел на Нину, затем подошел к юноше и приветливо предложил ему сесть. Но Юрий продолжал стоять и мял фуражку в руках.
— Значит, на фронт хочешь, Юрик?
— Да, да, — радостно отозвался Юрик, обнадеженный приветливым тоном Асканаза.
— А ну-ка, расскажи о себе.
— Этой весной я окончил десятилетку. Комсомолец с тысяча девятьсот тридцать девятого года. В Осоавиахиме научился стрелять по-снайперски. По русскому и по немецкому в школе были пятерки.
— Если придется допрашивать пленного немца, какие ему вопросы будешь задавать? — по-немецки спросил его Асканаз.
Юрик вспыхнул.
— Спрошу, в каком он чине и в какой части, потом — состав части, где дислоцирована, где сосредоточены главные силы, каким вооружением оснащена, — по-немецки ответил юноша.
— А где ты научился всему этому? — снова переходя на русский, спросил Асканаз.
— Это один майор занимался с нами в Осоавиахиме.
— Кто твои родители?
— Мама у меня учительница, — быстро ответил Юрик, затем с видимым усилием добавил: — а папа служащий.
— Я сейчас дам тебе отношение. Явишься в батальон, оттуда тебя отправят в роту, к Гарсевану Даниэляну. Слыхал о таком?
— Читал о нем в газетах. Это тот самый, который, будучи раненым, уничтожил восемь фашистов?
— Да, — подтвердил Асканаз.
Послышался телефонный звонок. Асканаз отложил ручку и взял трубку. Говорил командир дивизии Вардан Тиросян.
— Точно так, товарищ комдив… Да, да, — тут Асканаз улыбнулся: — Согласно вашему приказу, отдыхаю и никакими посторонними делами не занимаюсь. Прошу прощения, одно лишь маленькое дельце… Новое пополнение: даю направление добровольцу… Совсем молодой, лет восемнадцати… Юрий Мартиросян… Как?.. Ну да, не могу отказать. Куда? Посылаю в роту Даниэляна… Будьте здоровы.
Повесив трубку, Асканаз написал записку и, вручая ее Юрику, с улыбкой сказал:
— Видишь, Юрик, о тебе знает уже и командир дивизии!
На лице Юрика было написано смущение. Он подтянулся и, отдав честь, спросил:
— Разрешите идти, товарищ командир?
Асканаз приветливо кивнул и проводил молодого добровольца до выхода.
— Чудесный мальчик! — вырвалось у Нины. — И развитой какой!
Снова раздался телефонный звонок.
— Ты это откуда звонишь, товарищ комиссар? Прекрасно. Сейчас же ко мне! У меня? Только Нина Михайловна.
Мхитар Берберян, которому также «приказано было отдыхать», сообщил, что встретил у подъезда госпиталя Ашхен и они решили вдвоем навестить Асканаза. Не возражает ли товарищ командир?
— Вот и славно! Не так ли, Нина Михайловна? — засмеялся Асканаз, одновременно отвечая Берберяну и обращаясь за подтверждением к Нине, которая только молча улыбнулась в ответ.
Через несколько минут в комнату вошли Ашхен и Берберян.
На Ашхен было легкое летнее платье. Лицо ее сияло радостью, она выглядела еще красивей, чем обычно. Поцеловав Нину, она весело протянула руку Асканазу. Не выдержав ее пристального взгляда, Асканаз отвел взор и молча поцеловал ее руку.
В военной форме Берберян выглядел статным и подтянутым. Ему уже было присвоено звание батальонного комиссара. Хотя ему теперь приходилось часто и подолгу встречаться с Асканазом и они дружески сблизились, но батальонный комиссар всегда держался с командиром полка без излишней фамильярности.
Ашхен что-то нашептывала на ухо Нине. Видно было, что вначале Нина отказывалась, но в конце концов уступила настояниям новой приятельницу. Ашхен весело обратилась к мужчинам:
— Отправляем вас на пятнадцать минут в ссылку на кухню. Ну!..
Асканаз и Берберян со смехом вышли. Нина быстро сбросила военную форму, переоделась в легкое платье и туфли на высоких каблуках (ее маленький чемодан был с нею: она собиралась к Шогакат-майрик). Ашхен с восхищением оглядывала Нину в ее легком и тесно облегающем платье.
— Вот и хорошо, — сказала Ашхен с удовлетворением. — А то я чувствовала бы себя совсем неловко в обществе трех военных.
— А теперь за стол, — заявил Асканаз, когда мужчинам разрешено было вернуться в комнату. На кухне они успели посовещаться.
Стол выдвинули на середину комнаты. Нина с Ашхен разложили на блюда фрукты, присланные Асканазу из Двина. Через несколько минут явилась соседка; она несла двух жареных цыплят со всеми приправами, две бутылки белого вина и пиво.
«Получилось что-то вроде тайного сборища… — подумал Асканаз. — Что скажут, если узнают, Шогакат-майрик и Вртанес?.. Но он решил промолчать, чтобы не испортить настроение товарищам. Войдя в роль хозяина, он начал угощать и развлекать гостей.
— Погодите, Асканаз Аракелович! — не дала ему развернуть свои таланты Нина. — Хоть мы и в вашем доме, но позвольте уж хозяйничать нам… Я принимаю шефство над вами, Ашхен — над Мхитаром Нерсесовичем. Согласны?
— Согласны! — воскликнули Ашхен и Мхитар в один голос.
Скромный ужин показался всем на редкость вкусным, может быть, потому, что все понимали — едва ли вскоре представится второй подобный случай.
Ашхен разлила по стаканам золотистый «Воскеваз» и взяла в руки свой стакан. Откинув упавшие на лоб каштановые пряди, она сияющими глазами обвела друзей:
— Пью за здоровье всех троих! Дорога у вас одна: фронт, лишения, подвиги… Желаю вам победоносного возвращения, мои дорогие! — И, наклонившись, она чокнулась со всеми.
— Спасибо! — отозвалась Нина. — Но не отделяй себя от нас: ведь то, что ты делаешь в госпитале для бойцов, уже превратилось в легенду. Итак, и за твое здоровье вместе с нами!
— Ну, нет, я все же сижу в тылу, — улыбнулась Ашхен и, чувствуя, что сейчас можно выполнить просьбу мужа, прибавила: — С вами будет Тартаренц. Крепко надеюсь, что в новой обстановке он сумеет оправдать себя.
Ашхен произнесла эту фразу одним духом: она не хотела подчеркивать свои слова, опасаясь, что командир и комиссар могут придать им какое-то особое значение. Боже сохрани, Ашхен ни о чем не просит, она лишь хочет дать понять, что и в ее семье есть защитник родины…
Асканаз, поднявший бокал с вином, взглянул на Ашхен. Этот взгляд, казалось, проник в ее душу: ведь он-то знал, сколько пережила она из-за Тартаренца!..
— Пью и за твое здоровье, Ашхен, от души желаю, чтобы побольше было таких женщин, как ты! Ведь Гарсеван Даниэлян считает, что подобного тебе врачевателя больных не рождала еще армянская земля!..
— Ну, он просто пристрастен ко мне, как и всякий выздоравливающий больной! — с улыбкой отозвалась Ашхен; она еще не решила, хорошо ли сделала, упомянув про Тартаренца, или это вышло некстати.
Ели и пили, говорили о важных вещах и о пустяках. Берберян так воодушевился, что наговорил комплиментов и Ашхен и Нине.
Было уже близко к полуночи, и Ашхен забеспокоилась; у нее не было ночного пропуска. Нина с радостью согласилась на предложение Ашхен переночевать у нее. Они распрощались с Асканазом и вместе с Берберяном вышли на улицу. Перед дверью квартиры Ашхен Берберян задержался, попрощался с приятельницами и поспешил домой, размышляя по дороге: «Завтра… присяга, прощание, фронт… Разлука со своими стариками». Он у них единственный! Мать целыми днями одна. Кто будет утешать ее? Отец? Он так мало бывает дома. Если б нашелся кто-то близкий, чтобы в некоторой степени заменял его… Близкий и родной. Если бы Ашхен!.. Мхитар Берберян впервые в жизни был так взволнован и сам сознавал это. Но дома он постарался ничем не выдать своих чувств перед матерью, с которой ему предстояло расстаться впервые в жизни.
Асканаз проснулся очень рано. Ему хотелось часом раньше добраться до части, лишний раз проверить ее подготовленность к предстоящему параду. Быстро собравшись, он хотел сесть за завтрак, когда в дверь постучали. В комнату вошла Шогакат-майрик и опустилась на стул, с трудом переводя дыхание. Лицо у нее было измученное, под глазами яснее наметились мешочки, веки были воспалены. К Асканазу вернулось чувство, которое он испытал накануне вечером при виде собравшихся за столом друзей: он не должен был так отдаляться от матери в эти последние дни!.. Должно быть, ее привело к нему что-то чрезвычайное. Асканаз почувствовал это. Он присел рядом с Шогакат-майрик, терпеливо выжидая, пока она отдышится.
— Асканаз… — со сдержанным волнением заговорила наконец Шогакат-майрик, — не смотри на меня так, ничего со мной не случилось. Как скала, все вынесу… Но скажи мне, научи, ведь… от Зохраба нет писем… завтра ты уезжаешь, уезжает и Ара… трое сыновей!.. Скажи, нельзя ли, чтобы хоть четвертого, Вртанеса мне оставили?
— Вртанеса? А что случилось? — спросил Асканаз.
— Ночью Вртанес сказал мне, что он тоже едет с вами на фронт… будет работать в армейской газете.
— Ну что ж, работа для него подходящая.
— Говоришь, подходящая? Но я хотела бы, Асканаз-джан, чтобы он… — Голос ее оборвался. Помолчав немного, она тихо добавила: — Ни одного мужчины в доме не останется!.. Так нельзя ли, чтобы из четырех сыновей хотя бы одного, старшего, мне оставили? Ну, что ты мне скажешь, не подать ли мне такую просьбу?.. Напишу, мол, так и так…
Она замолчала, желая, чтобы Асканаз сам понял ее мысль.
— Нет, майрик-джан, — мягко отозвался Асканаз, — никакой такой просьбы писать не надо, ведь этим ты оскорбишь прежде всего Вртанеса. Я даже думаю, что все это ты говорила потому, что расстроена. Пойми, ты должна гордиться тем, что все четыре сына уходят защищать родину! Враг дошел уже до Кавказского хребта. Если придет о н… конец всей нашей жизни!
— Ну, раз так… Хотелось твоего совета спросить, сынок… Сердце у меня сжимается, — чтобы петля сжалась также вокруг шеи безбожного фашиста!
Шогакат-майрик вытерла глаза, встала, подошла к Асканазу, поцеловала его, погладила по спине. Видно было, что ей хочется еще что-то сказать. Но Асканаз не спрашивал, а сама она не решалась рассказать ему, рассказать о недуге Ара. С чего начать? Да и нужно ли Асканазу знать об этом? Это может унизить младшего брата в его глазах! Так и не решившись открыть сердце Асканазу, Шогакат-майрик сказала:
— Радует меня, Асканаз-джан, что ты так хорошо военное дело знаешь и передашь свой опыт брату, если ему трудно будет!
Асканаз ласково поговорил с ней, успокоил ее и, пообещав зайти вечером, поспешил в часть.
Настало ясное августовское утро. Малый Арарат, отогнав тучи, сиял на фоне чистого неба. Большой Арарат, надвинув на лоб огромную снежную папаху, закутался в облака.
В Ереване сегодня чувствовалась необычная торжественность.
На площади Ленина громкоговорители сообщали вести с фронта; наши войска вели бои с противником в районе Клетской, Котельникова, Минеральных Вод, Черкасска, Майкопа, Краснодара… Лица слушающих омрачались, они мысленно измеряли расстояние от районов военных действий до Москвы, до Еревана, до Тбилиси, до Баку. «Ах, чтоб тебе неладно было, фашист проклятый!..»
Не в это же время в городе царило какое-то приподнятое настроение, все словно ждали чего-то обнадеживающего. И вот, под звуки военного марша, чеканя шаг, на площадь Ленина один за другим вышли батальоны вновь сформированной армянской дивизии.
На трибуну поднялись руководители партии и правительства, представители военных организаций. На площади четко вырисовывающимися квадратами расположились полки во главе со своими командирами. Справа и слева от трибуны плотной массой стояли рабочие с фабрик и заводов, служащие и научные работники, педагоги и учащиеся, колхозники из ближайших сел. Особое, почетное место было отведено для семей бойцов дивизии. Когда Шогакат-майрик в сопровождении Маргарит и Ашхен добралась до площади, люди почтительно расступились и пропустили их в первый ряд.
— Троих сыновей отправляет на фронт! — сказал кто-то в толпе.
— Четверых отправляю на фронт, сынок, четверых, — поправила его Шогакат и тотчас же добавила, покачав головой: — Не только четверых… Все солдаты точно сыновья мне, за каждого болит материнское сердце!
— С одним-то я знаком, — подхватил говоривший. — Вместе с ним летел в Тбилиси за несколько дней до начала войны.
— Не об Асканазе ли ты говоришь, Умршат? — переспросил стоявший рядом. — Нашел чем хвалиться — в одном самолете летел!..
Умршат собирался возразить, но вдруг на площади все затихло: подали знак к началу парада.
С трибуны слышались взволнованные слова: «Враг у ворот Кавказа… Опасность велика… Отдадим все силы, чтоб приблизить день победы…»
И, слушая эти простые слова, каждый сам себе задавал вопрос: а что он делает и что намерен делать в эти роковые дни?..
Шогакат-майрик отыскала глазами Асканаза и, видя его перед полком, на миг испытала чувство материнской гордости за него. Затем Шогакат отыскала в строю Ара. Мысленно она представила себе Ара маленьким: вот он впервые начал ходить; вот он уже школьник, увлекается рисованием, влюблен в Маргарит… Сумеет ли он преодолеть свой страх перед одиночеством, перед темнотой? Но ведь нужно, чтобы кто-нибудь знал об этом, чтобы помог ему!.. Шогакат-майрик пристально оглядела ряды бойцов и невольно остановилась взором на Гарсеване Даниэляне. Он ближайший начальник Ара. Да, да, вот с кем ей нужно поговорить!.. Шогакат перевела взгляд и заметила приближавшуюся к ней Парандзем. Утро она провела у Вртанеса и теперь обрадовалась, увидя соседку. Парандзем подошла и молча стала рядом с нею, стараясь скрыть свое волнение.
Умолкли последние звуки военного марша, и на площади вновь воцарилось молчание. С группой военных на трибуну поднялся командир дивизии Вардан Тиросян. Он принял торжественно врученное ему знамя дивизии.
После этого, чеканя шаг, к трибуне подошел полк Асканаза Араратяна. Перед полком шагал Асканаз. Бойцы отбивали шаг так мерно, что могло показаться — это шагает один человек. Когда прозвучал приказ: «Смирно!», весь полк в одну и ту же секунду словно окаменел на месте. Лицо Асканаза было сурово и сосредоточенно. В руках сверкала обнаженная шашка. Представитель правительства протянул знамя Асканазу. Алое знамя с вышитой золотой звездой колыхнулось над головой Араратяна. Асканаз поднял взор на Арарат — величественный свидетель вековых судеб армянского народа откинул облачную завесу, словно показывая себя во всем своем величии уходящим на фронт бойцам. Асканаз оглядел четкие ряды бойцов, обвел глазами собравшихся на площади людей и, словно чувствуя, с какой надеждой смотрят они на него, с силой вогнал в ножны шашку и заговорил:
— Товарищи, наша страна, полная веры в свое правое дело, уже свыше года противостоит вторгшимся в наши пределы фашистским ордам. В декабре прошлого года враг дорвался до стен Москвы. Но Москву своей грудью защищал великий русский народ. Вместе с русскими столицу нашей родины защищали казахи и узбеки, украинцы и белорусы, армяне, грузины и азербайджанцы. Враг был отброшен. Теперь фашисты рвутся к Сталинграду, подобрались к Кавказу, стоят в преддверии наших гор. Опасность велика. Но непоколебима решимость советского народа сражаться с врагом и победить его! Родина повелевает: ни шагу назад! Остановить врага и отшвырнуть его назад! И мы выполним священный наказ родины.
Асканаз чувствовал, что его слушают напряженно, что люди ему верят: ведь в нем видят человека, который уже побывал на войне, подвергался ее опасностям и испытаниям, и вот снова идет туда, ведя за собой тысячи воинов.
Асканаз повысил голос:
— Воины родины, поклянемся верно служить ей, увенчать славой доверенное нам знамя!
— Клянемся!.. — волной прокатился по площади могучий отклик.
Наступило торжественное молчание. Асканаз опустился на колено, бережно взял край знамени и поцеловал его.
Шогакат-майрик была потрясена до глубины души словами сына и обрядом присяги. Она подумала о том, что ее сына слушает весь город, вся страна. Ей вспомнилась утренняя беседа с Асканазом, ее жалобы, что она лишается всех своих сыновей. Нет, конечно, она не то хотела сказать! Но Асканаз поймет материнское сердце… Да, она счастлива, что у нее такой сын!
Асканаз принял знамя и передал его под охрану вооруженному караулу. Опять зазвучал военный марш, и бойцы таким же мерным шагом покинули площадь.
Подробно разработав вместе с другими командирами план погрузки военной техники и отправки эшелонов, Асканаз возвращался домой. Он шел медленно, стараясь запечатлеть в памяти каждый уголок родного города.
Завтра он будет уже далеко, но разве он успел проститься со всеми и со всем?.. Наступила вторая годовщина трагической гибели Вардуи. В прошлом году он не смог посетить ее могилу. Даже сейчас, через два года, Асканазу казалось, что ни в ком он не найдет того обаяния, той душевной чуткости, какая отличала Вардуи. Не поэтому ли он так сдержан с другими женщинами?.. Ему не захотелось останавливаться на этой мысли. Договорившись по телефону с Ашхен, Асканаз вызвал авто, чтобы заехать за нею в госпиталь. У госпиталя пришлось немного задержаться. Асканаз попросил шофера поторопить Ашхен, а сам остался ждать внизу. Услышав, что его окликают по имени, он приоткрыл дверцу машины. На тротуаре стоял Заргаров.
— Здравствуйте, — с нескрываемым безразличием бросил Асканаз, едва кивнув головой.
— Уезжаешь уже? Жаль, не успели как следует покутить с тобой! — громко заговорил Заргаров, стараясь привлечь внимание прохожих: смотрите, мол, как я близок с этим командиром!
У Асканаза не было никакого желания беседовать с Заргаровым, но Заргаров не унимался. Заметив новую группу прохожих, он так же громко продолжал:
— Наш Тартаренц у тебя в полку! Надеюсь, ты создашь ему условия. Я тоже всей душой стремился на фронт, да не пустили меня, говорят — нужен в тылу… Скажи мне, пожалуйста, когда кончится эта проклятая война?!
Терпение Асканаза иссякло.
— Вам-то от нее какое беспокойство? — довольно резко сказал он.
— Ну как же, товарищ Асканаз Аракелович, я же патриот…
— Не злоупотребляйте этим словом! Впрочем, вы можете опоздать, вероятно, вас ждут дела.
— Ну, дела-то всегда найдутся! Душа неспокойна, все прут и прут эти проклятые… Надо же знать, когда их остановят!
Асканаз захлопнул дверцу авто с той стороны, где стоял Заргаров, и вышел с другой стороны, навстречу Ашхен, которая спускалась по лестнице в сопровождении шофера.
— Ашхен-джан, я рано утром заеду, помогу тебе… — словно из желания досадить Асканазу, громко обратился к Ашхен Заргаров. — Отвезу тебя с ребенком на станцию, пускай простится с отцом.
— Нет, нет, не надо заезжать, — сердито ответила Ашхен.
Усевшись рядом с Асканазом, Ашхен взглянула на него, но ни один из них ни словом не обмолвился о Заргарове. По дороге машина остановилась перед цветочным магазином, и Ашхен зашла, чтобы взять заказанные накануне цветы. На кладбище они застали Нину с Берберяном, родителей и родственников Вардуи. Могильная плита почти скрылась под ворохом цветов, и в их обрамлении с чуть поблекшей карточки улыбалось лицо Вардуи. Столько жизнерадостности было в этом лице, что чудилось: вот-вот ее смех прозвенит в воздухе! Мать Вардуи, преждевременно поседевшая от горя, не находя слов, любовно и печально глядела на Асканаза. И никому не хотелось говорить…
Нину познакомили с родителями Вардуи. Отойдя в сторону, она пристально взглянула на Асканаза, точно впервые увидела его. Для нее словно открылась новая черта в характере Асканаза, новая страница его жизни. Ей казалось, что чем дальше, тем лучше она понимает Асканаза, тем больше уважает его. Все слышанное от Асканаза и во время личных бесед и там, на площади, во время торжественной присяги, словно получало новый, более глубокий смысл.
Один из родственников вылил в ямку, выдолбленную на могильной плите, красного вина из большого сосуда, затем наполнил стаканы и предложил присутствующим почтить память Вардуи. Пока все молча выполняли старинный обряд, издали донеслись печальные звуки. У могилы похороненного два дня назад бойца, скончавшегося от тяжелой раны, молодой ашуг, приглашенный родными, пел любимую народом песню.
Ашуг умолк, громче заплакали мать и невеста умершего бойца. С их скорбным плачем слился печальный голос певца:
Голос молодого ашуга звучал так печально и задушевно, что слезы показались на глазах у всех, стоявших около могилы Вардуи. Нина вопросительно посмотрела на Ашхен, и та пересказала ей содержание песни.
Мать Вардуи подошла к Асканазу, поцеловала его в лоб и тихо вымолвила:
— Бесценный мой, ты и Вардуи дали друг другу слово!.. Моя бедная дочь любила тебя… Что ж делать, если не пришлось… Родной мой, жизнь твоя сейчас принадлежит родине. Но кончится война — найди себе подругу жизни, а если есть девушка по душе, то женись сейчас. Таков закон жизни — нехорошо быть одному!
Ашхен шепотом перевела Нине слова матери Вардуи. Взоры всех невольно обратились к Асканазу, который мрачно и сосредоточенно смотрел на покрывавший могилу ворох цветов. Выслушав мать Вардуи, он наклонился, поцеловал ей руку и медленными шагами направился к выходу.
Казалось, весь город стал на ноги в это утро, чтобы проводить дивизию на фронт. Со всех районов стекались в Ереван родные и друзья уезжающих. Вместе с жителями Еревана они окружили подразделения дивизии, которые шли по проспекту Микояна к железнодорожной станции. Напрасно командиры рот уговаривали провожающих держаться подальше от рядов: невозможно было помешать неудержимому стремлению женщин в последний раз побыть с дорогими сердцу людьми.
Шогакат-майрик уже от казармы шагала рядом с Ара. Гарсеван, назначенный командиром роты, уговаривал ее поехать на станцию, так как пешком ей трудно будет поспевать за ротой, доказывал ей, что до отхода эшелона у нее будет достаточно времени поговорить с сыном.
— Не могу, родной, не заставляй меня! Вот и Вртанес уже выехал вчера. Ненасытен материнский глаз, хочу хоть по дороге наглядеться на моего Ара, на Асканаза…
«Ну, если мать командира полка не смог убедить, с другими и подавно ничего не выйдет!..» — подумал Гарсеван и, не теряя времени, зашагал впереди роты.
Шогакат запыхалась. Встревоженный Ара пытался взять ее под руку, поддержать ее, но сбивался с ноги. Заметив, что нарушает строй, он выпускал руку матери, одергивал амуницию и снова старался попасть в ногу с шагавшим рядом бойцом.
Рядом с Шогакат шла Маргарит. Влюбленные часто обменивались взглядами, но Маргарит стеснялась слишком близко подходить к рядам. Стараясь незаметно вытереть вспотевший лоб, Ара поворачивал голову и через плечо матери пристально глядел на печальное лицо Маргарит.
Шогакат пыталась говорить с сыном на ходу. Но говорить нужно было громко, иначе за шумом шагов и гомоном голосов трудно было что-нибудь расслышать. А у Шогакат-майрик было что сказать сыну. И вот наконец она решилась:
— Ара-джан, смотри, сколько у тебя товарищей, ты не будешь чувствовать себя одиноким? А в летние ночи светло, как днем!..
Она умышленно говорила так, чтобы посторонний не мог понять. Она лишь позволила себе подчеркнуть слово «одиноким» и «светло». Ара понял, но, также опасаясь, что его могут услышать, отозвался неопределенно:
— Товарищи у меня очень хорошие. А уж в армии — какое там одиночество?..
— Дай бог вам всем благополучно вернуться… — прошептала Шогакат.
Но ответ сына-не успокоил ее. С трудом переводя дыхание, она старалась не отставать от Ара и, бросая взгляд на Гарсевана, мысленно повторяла: «Начальник моего Ара!»
Подразделения добрались до вокзальной площади и вышли на перрон. Раздалась команда «вольно», бойцы разбрелись по перрону, чтобы на прощание обменяться последними словами с родными и близкими. Образовались маленькие группы: в середине — один или двое бойцов, окруженные родными. Люди говорили, улыбались, тайком вытирали слезы и все не могли нацеловаться.
Шогакат-майрик закинула руки на плечи Ара, прижалась к нему заплаканным морщинистым лицом и неохотно уступила место Маргарит. Вложив руку в руку Ара, девушка молча и пристально смотрела на него. Словно вспомнив что-то, Шогакат-майрик обернулась и остановила взгляд на Гарсеване. Пеброне то целовала мужа, то наказывала:
— Гарсеван-джан, родной мой, знаю я, что горячая у тебя душа. Только смотри, нас не забывай! Кто знает, как обернется дело с Аракелом… Так ты помни, что две семьи у тебя на руках! Знаю, ты себя не будешь жалеть в бою, так же как не жалел в работе. Но помни, что без тебя нам жизни нет!
Шогакат подошла к Гарсевану. Пеброне косо глянула на нее: что еще за старуха отвлекает ее мужа. Взяв Гарсевана за рукав гимнастерки, Шогакат-майрик отвела его в сторону. Гарсеван почтительно наклонился и на мгновение почувствовал прикосновение пряди ее седых волос.
— Сынок, ты ведь начальник моего Ара, не так ли?
— Да, матушка.
Шогакат оглянулась, затем снова пристально поглядела на Гарсевана и уже с полным доверием сказала ему:
— Поручаю тебе моего Ара, Гарсеван-джан! Не сказала бы тебе этого, если б у моего сына не было одного недостатка. Трудно мне, но приходится сказать: он боится, когда остается один, темноты боится… Четверо сыновей у меня, и все четверо теперь в армии. Мать я, хочется мне, чтобы все четверо с честью выполнили свой долг. Верю я, избавится мой Ара от этого недостатка! Но нужно, чтобы кто-нибудь знал об этом и помогал ему.
Гарсеван серьезным кивком головы дал понять, что обещает позаботиться об Ара. Шогакат-майрик с облегченным сердцем продолжала:
— До сих пор об этом знала я одна, теперь и ты будешь знать. Другим сыновьям я не говорила! Ты будешь с ним, ты отвечаешь за то, чтоб он не уронил свою честь. Только чтоб он не знал, что я тебе рассказала.
— Не беспокойся, майрик-джан. Считай, что доверила мне военную тайну, — никто не узнает. А то, что ты рассказала, совсем не страшно: вот и в прошлом году один такой был у нас, и все у него прошло!
— Ой, умереть мне за тебя, родной мой… Сразу отлегло от сердца! Значит, обещаешь?
Гарсеван опять кивнул головой. У Шогакат словно камень свалился с плеч. Она поспешила проститься с Гарсеваном, тем более что Пеброне уже с возмущением смотрела на нее. Вернувшись к Ара, она ласково сказала Маргарит:
— Пойди, родимая, возьми у Ашхен ребенка, я скоро тебя сменю! Жалко Ашхен, пусть без помехи поговорит с мужем…
Как только Маргарит отошла, Шогакат-майрик поспешно сунула за пазуху Ара треугольный лоскуток атласа и таинственно шепнула:
— Ради меня никогда не снимай с шеи! Это материнский талисман. Знаю, ты не веришь, но вот тебе мой наказ: храни и не снимай! Только дотронешься — сразу вспомнишь о матери.
— Мама-джан, я и без этого буду помнить о тебе!
— Знаю, сыночек. Но каждый раз, как тронешь, вспоминай мои советы: заботься о товарищах, будь смелым и решительным. Начальник у тебя — хороший человек, у него большой опыт. Знаю, что поможет тебе Гарсеван, если что… Ну, родимый, дай поцелую тебя, пойду пришлю Маргарит.
В эту минуту на перроне появилась Цовинар. С несколькими подругами (братья и отцы которых также уезжали на фронт) она приехала на проводы бойцов армянской дивизии. Промчавшись мимо бабушки и Маргарит, она вихрем налетела на Ара и повисла у него на шее, смеясь и целуя его. Цовинар не представляла себе, что ожидает Ара на войне, ей лишь казалось странным, что в руке Ара она видит винтовку, а не кисть.
Словно вспомнив свою незаконченную картину «Бабушка и внучка», Ара пристально взглянул на мать и шаловливую хохотунью племянницу. Он почувствовал, что прежний замысел как-то уже не волнует его.
Шогакат-майрик не поняла, почему так пристально разглядывает ее и Цовинар задумавшийся Ара. Но, почуяв волнение Маргарит, она подозвала Цовинар и шепнула ей:
— Иди поскорей найди Парандзем.
Цовинар полетела выполнять ее поручение.
Парандзем страстно хотелось побыть с сыном перед отъездом, но Мхитар был занят; вместе с Асканазом они размещали подразделения по вагонам. Парандзем выглядела сегодня много старше своего возраста. Ее удручало то, что муж, болевший уже несколько дней, не смог приехать на вокзал. Она подошла к группе бойцов, которых никто не провожал. Среди них были и выписавшиеся из госпиталя бойцы — Игнат, Грачик, Вахрам и другие. К этой группе присоединилась позднее и Нина. Чутье подсказывало Парандзем, что она должна хоть чем-то заменить этим людям отсутствовавших родных. Она решила даже сказать им несколько слов на прощанье.
— Обыкновенно-то говорите вы, молодые. Вот послушайте теперь меня старуху: родина да сын — одно от другого не оторвешь. Без честных и смелых сыновей не будет у нас и родины. А не будет родины, не будет и сыновей. Вот, родные, как думает старая мать!.. — Она повернулась к Нине и продолжала, поглаживая ее по руке: — А вот эта девушка в сердце мне вошла. Нина-джан, будь нашим парням как родная сестра, позаботься о них!
Нине перевели слова Парандзем.
— Дорогая майрик (Нина сказала это слово по-армянски), они более опытные, чем я. Это они скорее будут заботиться обо мне, а не я о них!
— Ну, это-то конечно… Да я о другом говорю! Заболеет ли кто, лекарство дать…
— Уж насчет этого будь спокойна, дорогая майрик! — заверила Нина и, поцеловав Парандзем, направилась к Ашхен.
Вахрам, с восхищением глядевший на вершины далеких гор, воскликнул:
— Ребята, да вы поглядите на эту гору! Вершина-то у нее четырехглавая… Знать бы, как она называется.
— Ну и чудак же наш гюмриец[13], — засмеялся Грачик. — Неужели никогда не видел Алагяза?
— Ой, значит это и есть Алагяз?! Вот хорошо-то, что довелось мне его увидеть! Слушайте, да ведь об этой горе сколько песен сложено!
— Счастливый человек! — неожиданно вмешался в беседу бойцов проходивший мимо Михрдат. — Столько лет прожил и не видел Алагяза.
Пока группа бойцов подшучивала над Вахрамом, а Юрик переводил Игнату слова Михрдата, Грачик не сводил глаз с Ашхен, выискивая случай подойти к ней.
Передав Тиграника Шогакат-майрик, Ашхен отвела Тартаренца в сторону и что-то вполголоса говорила ему. Чуть поодаль стоял Заргаров, внимательно наблюдавший за ними. Накануне Тартаренцу разрешили на несколько часов отлучиться из казармы и побывать дома. Ашхен дружелюбно и ласково встретила мужа. Казалось бы, они могли обо все уже переговорить, но у Тартаренца было что сказать жене на прощание.
— Ашхен-джан… — бормотал он, — вот видишь, все вышло, как ты хотела, но… скажи правду, ты… ведь не забудешь меня, не оставишь… кто знает, ты так чертовски хороша!..
По губам Ашхен скользнула снисходительная улыбка. Чуть склонив голову, она мягко сказала:
— Ты что, ждешь от меня клятв? Не знаешь разве, что я не люблю клясться? Мне просто больно, что в такую минуту ты можешь думать о всяких пустяках! Иди смело, мою верность ничто не может поколебать, несмотря на все, что произошло между нами за последнее время!
— Вот об этом я и хотел сказать, Ашхен-джан! Последний год ты была так сурова со мной… Но все же ты любишь меня, да?
Тут-то и нужно было Ашхен сказать: «Последний год ты очень недостойно вел себя», но она сдержалась и сказала лишь:
— Забудем о том, что было. И я, и ты должны жить мыслью о новых обязанностях, которые ты будешь выполнять там, а я — здесь.
Тартаренц махнул рукой Заргарову, тот подошел.
— Слушай, Артем дорогой, оставляю на тебя мою Ашхен и моего Тиграника! Ашхен-джан… Он хороший друг, пригодится тебе.
Ашхен отвернулась.
Прозвучал первый звонок. К Ашхен подошел Мхитар Берберян с матерью. Парандзем, держа сына за пояс, шагала, не сводя глаз с его лица. До отхода поезда оставались считанные минуты. Мхитар заглянул в глаза Ашхен и, показывая на мать, негромко сказал:
— Ашхен, оставляю мою мать на ваше попечение.
Парандзем подняла на Ашхен полные слез глаза.
— Единственный мой, радость моя, тяжело мне будет без тебя. Спасибо скажу, если эта милая девушка будет хоть изредка приходить ко мне: руки у меня дрожат, пошлю через нее хоть весточку тебе.
— Крепись, мать, все будет хорошо… Дай поцелую тебя, мне уже надо идти, — сказал Мхитар. Он крепко обнял мать, прижался лицом к ее лицу, и с минуту слышались лишь подавленные рыдания матери.
Берберян повернулся к Ашхен и хотел пожать ей руку; она потянулась к нему, и они расцеловались, доставив этим удовольствие Парандзем. Едва успел Мхитар отойти, как к Ашхен подошел Грачик и скороговоркой сказал:
— Ашхен-джан, мы с твоим мужем будем вместе, я о нем позабочусь, не беспокойся!.. Ты меня спрашивала о матери и Рузан?.. Телеграфировал уже, они меня встретят на станции Баку… Здоровы они, здоровы, мать хотела приехать сюда, чтоб проводить меня… Я написал, что не надо… Поезд сейчас отойдет, Ашхен-джан… Ребята из госпиталя хотели попрощаться с тобой!
— Идем, идем, — охотно согласилась Ашхен. Подойдя к бойцам, она расцеловалась сперва с Вахрамом, потом с Игнатом и с Грачиком.
— Боевая ты у нас сестра! — сказал ей Игнат. — Такая же стойкая и выносливая, как кубанские казачки. Душевное тебе за все спасибо.
Ашхен покраснела и крепко пожала руку Игнату.
Последним подошел к Ашхен Гарсеван.
— Не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя, Ашхен! Ну как не упрекнуть твою мать, что она не родила еще таких десять дочерей! Ты мне вернула самое дорогое, что есть у человека, — речь. Спасибо тебе за это и за все, все! Ты нам ничего не сказала, но твои глаза говорят многое… Умереть мне за твои ясные глаза! — и Гарсеван поцеловал Ашхен в глаза.
Пеброне с беспокойством следила за мужем, с сомнением поглядывая на Ашхен, и успокоилась только тогда, когда Гарсеван снова подошел к ней.
Послышался сигнал горниста: «По вагонам!» Последнее объятие, последние поцелуи, и все бойцы поспешили к вагонам. Ара, в смятении чувств безотчетно что-то говоривший Маргарит, в последнюю минуту осмелел и в присутствии всех поцеловался с любимой девушкой. Самым священным воспоминанием для него осталась память об этом объятии, о дыхании Маргарит, о прикосновении ее нежных губ. Он неохотно выпустил Маргарит из объятий, еще раз крепко обнял и поцеловал мать, на ходу чмокнул Цовинар и побежал к своему вагону.
Появился Асканаз. Его тотчас же окружили Шогакат-майрик, Ашхен, Маргарит. Все молча глядели на него: слов не было, говорили взгляды, улыбки, слезы. Асканаз горячо обнял мать и шепнул ей: «Спасибо тебе за все, бодрись, мама-джан!» Затем, обняв Маргарит, сказал ей: «Ну, невестушка, пиши почаще Ара, помни, что это очень важно для него!» Покрасневшая Маргарит молча кивнула головой.
Асканаз и Ашхен стояли друг против друга. В памяти Асканаза пронеслись все его встречи с этой женщиной. Да, она прекрасна не только на вид!.. Ашхен взглянула на него — и в неудержимом порыве обняла Асканаза, поцеловала раз, другой… Оба не могли сказать ни слова от волнения.
Крупными шагами подошел Михрдат и, заслонив Ашхен, обнял Асканаза своими могучими руками.
— Бедняжка Сатеник очень хотела повидаться с тобой! — воскликнул он. — Так и не сумел убедить ее, что у Асканаза ни минуты свободной нет… Габриэл нам пишет такие хорошие письма, учится воевать наш сынок…
Потом он по очереди обнял и расцеловал знакомых бойцов, приговаривая:
— Да не тупятся ваши мечи, не знают промаха ваши пули!
Когда поезд уже тронулся и в воздух взлетели фуражки и затрепетали высоко поднятые платки, Михрдат невольно оглянулся на Шогакат-майрик. Заметив, что ноги ее уже не держат, он подхватил ее и довел до ближайшего столба, чтобы она могла проводить взглядом поезд, ускорявший ход. Из окна вагона смотрел Ара — смотрел на мать, на Маргарит; но вот они совсем скрылись из виду, и Ара с тоской оглянулся на родной город. Там остался дом, осталась незаконченная картина, к которой он теперь не мог бы прикоснуться кистью, — так изменился его прежний замысел! Ара казалось, что он уже не прежний юноша, беспечно наблюдавший жизнь со стороны, что в новой обстановке, среди новых товарищей, он сразу возмужал…
Шогакат, точно вся обратившись в зрение, глядела вслед поезду, и когда он скрылся за поворотом, почувствовала, что силы окончательно оставили ее. С помощью Михрдата она кое-как добралась до трамвая и всю дорогу до дома шептала: «Четверо…», по очереди называя заветные имена сыновей.
Глава десятая
МИХРДАТ СНОВА ОСТАЕТСЯ ОДИН
Михрдат довез Шогакат-майрик и Цовинар домой. Седа, оставшаяся дома из-за болезни сына, тревожно захлопотала вокруг свекрови.
— Да снизойдет покой на твою душу! — по-старинному простился Михрдат с Шогакат-майрик.
Войдя в садик перед своим домом, Михрдат помедлил перед ягодными кустами, посмотрел на зреющие плоды на яблоньках, начал полоть грядки, но вскоре почувствовал, что не может всей душой отдаться работе. Ему невольно вспомнился прошлый год, когда он с Наапетом и Асканазом мирно беседовал о красоте и величии Арарата, вспомнились его мечты о будущем Габриэла. Сердце сжалось. Самой тяжелой его заботой было сейчас состояние Сатеник. С того дня, как Габриэл выехал на фронт, Сатеник не знала покоя, постоянно болела, день и ночь говорила о сыне. Даже письма Габриэла не успокаивали ее. Михрдат всегда с тревогой входил в дом. Он постоянно внушал Сатеник, что она должна гордиться сыном, гордиться доброй славой, которую он завоевал в армии. Но Сатеник интересовало одно — когда она снова увидит сына…
— Увидеть бы только один раз, прижаться к его груди и так, на его груди, и умереть… — с плачем повторяла она.
Войдя в комнату, Михрдат увидел жену на коленях перед маленьким сундуком: она что-то перекладывала в нем. Михрдат услышал, как она приговаривает вполголоса:
— Умереть мне за вышитую твою блузу… ведь так любил надевать ее летом, заворачивая рукава выше локтя… умереть мне за сыночка… Неужели не было в городе девушки тебе по сердцу?! Хотя бы внучонка оставил мне в утешение!.. Вот и галстучек твой… вот и гребешок… Хоть бы прядку мне оставил, приложила бы к сердцу, чтоб не болело оно… Ах, пусть все беды твои на меня перекинутся, пусть я высохну, сгину!.. Габриэл-джан, сердце мое, жизнь моя, бесценный мой…
Когда она умолкла, Михрдат подошел к ней и сказал:
— Ну, вставай же, Сатеник, давай хоть сегодня пообедаем вместе. Ты Габриэла добрым и хорошим сыном вырастила — разве это малое утешение? Вот и сегодня опять на фронт сколько людей уехало! А если уж отсюда столько народу отправили, ты подумай, из других городов сколько приедут! Ведь есть еще Тбилиси, Баку, Москва, Саратов и я уж не знаю сколько… А ведь чем больше поедут, тем скорее избавимся мы от этих безбожников, и парни наши все живы-здоровы скоро домой вернутся… Ну, вставай же, садись со мной за стол!
Михрдат уговаривал жену и в то же время накрывал на стол. Сатеник с трудом поднялась с пола но, не удержавшись на ногах, опустилась на стул и чуть слышно сказала:
— Поставила я обед… Погляди-ка в кухне…
Михрдат никогда еще не видел жену такой подавленной. Он взглянул на варившийся на керосинке суп, приправил зеленью и пряностями. Немного погодя он принес из кухни кастрюлю, разлил суп в две мисочки и пододвинул одну Сатеник. Желая подбодрить и отвлечь жену, Михрдат налил вина в два стакана, поставил один перед женой и, чокаясь с нею, веселым голосом сказал:
— Ну, выпьем, Сатеник-джан, держись крепко, женушка!..
Однако Сатеник, казалось, ничто уж не привязывало к жизни. После отъезда Габриэла состояние ее начинало внушать серьезные опасения. Михрдат садился рядом с ней, внимательно выслушивал ее рассказы, сам рассказывал ей все новости, и Сатеник словно оживала. К Михрдату она по-прежнему относилась с чувством бесконечной признательности, в душе считая себя бременем для мужа.
Сатеник отодвинула от себя миску с едой, платком вытерла глаза и, словно размышляя вслух, сказала:
— Ты сам говоришь, что много людей уехало… Где же конец этому? До тебя и соседка забегала, рассказала. Ах, Михрдат, другое мне на ум приходит: если уж столько народу туда едет, значит положение тяжелое! А вдруг мой Габриэл… Ах, отсохни язык… Что это мне в голову пришло!..
— Нет, нет, Сатеник, ты не думай об этом! Если Габриэл узнает, что ты так терзаешь себя, ему будет тяжело. Воин должен чувствовать за собой родительскую поддержку, он должен быть спокоен за мать. А ты?..
— Но что мне делать, Михрдат-джан, если сердце не хочет успокоиться…
Михрдат наскоро пообедал, прибрал все со стола, затем подошел и осторожно пощупал лоб Сатеник. Заботливо обняв ее за плечи, он помог ей подняться и повел в спальню, уложил и укрыл ее.
— Тебе покой нужен, Сатеник. Вот выпей лекарства, это успокоительное, для сердца. А это вот компот. Хорошо было бы, чтобы ты немного поела и постаралась уснуть. Завтра, наверное, опять придет письмо от Габриэла. Подумай только, какой у нас заботливый сын, обязательно присылает по письму в неделю! Я вернусь к утру, и мы вместе напишем ответ. Я и Асканазу с Ара наказал, чтобы они нам подробно написали, если встретятся с Габриэлом.
— Хорошо, хорошо, ты не беспокойся, — отозвалась Сатеник, желая успокоить мужа. Повернувшись на бок, она взяла карточку сына и долго держала ее перед глазами, неотрывно глядя на лицо Габриэла.
Михрдат взглянул на часы и заторопился: он заведовал цехом на швейной фабрике и эту неделю работал в ночной смене.
Войдя в помещение цеха, Михрдат прежде всего проверил состояние машин, привел в порядок рабочий стол и только после этого, став на свое место, включил электрические ножницы и с увлечением принялся за работу. В мастерскую вошла женщина лет пятидесяти.
— А-а, ты уже здесь? — заметив Михрдата, улыбнулась она.
— Да, сестрица Заруи. Каких молодцов мы сегодня на фронт проводили!..
— Что и говорить! Да, я все хотела спросить: почему это шьется столько зимней одежды?..
— А ты вспомни старинную поговорку, — многозначительно отозвался Михрдат. — «К зиме летом готовятся!»
— Пословица пословицей, Михрдат, но выходит, что эта проклятая война и до зимы не кончится!
— Нужно полагать, что так.
— Когда же их выгонят наши?
— Потерпи, выгоним, время на это нужно.
— А что же стало с обещаниями этих инглизов и американцев? — поинтересовалась Заруи.
— Все еще обещают.
— Ты знаешь, сколько раз я иголкой материю протыкаю, столько и приговариваю: «Вот так чтоб игла вонзилась в глаз того, кто эту войну затеял». Давай уж материю.
— Возьми, сестрица, на. А эти твои слова передам моему Габриэлу, пусть порадуется и товарищам расскажет: вот, мол, как в тылу работают и думают наши советские люди!
— Пиши, душа моя, пиши! — согласилась Заруи, забирая охапку выкроенного обмундирования.
Мастерская наполнилась рабочими и работницами. Закипела работа ночной смены. Дело спорилось в руках Михрдата, он охотно помогал товарищам и время от времени умел подбодрить их шуткой и похвалой. Радуясь воодушевлению старой работницы, он решил обязательно рассказать о ней Сатеник. Может быть, рассказ этот хоть немного ободрит его болезненную жену, подавленную горем и разлукой с сыном. Ему казалось, что если бы Сатеник не была такой слабосильной, если бы она работала на фабрике или хотя бы на дому, эта работа отвлекала бы ее от тяжелых мыслей. Михрдат всегда остерегался малейшим словом или взглядом причинить лишнее огорчение Сатеник или навести ее на мысль, что ее болезненное состояние удручает его. Он делал так не только по своей доброте. Михрдату казалось, что этим он выполняет безмолвный наказ сына. Недаром же Габриэл в письмах больше всего говорил о матери… «Отец, не позволяй маме плакать. Она любит, когда ей читают или пересказывают книги. Я знаю, что ты очень занят, но все-таки постарайся хоть изредка читать ей какую-нибудь из моих книг…» А то Габриэл прямо обращался к матери: «Бесценная моя мама, родная моя кормилица! (Габриэл знал, что это слово очень нравится матери.) За меня не беспокойся, мне здесь очень хорошо, и товарищи у меня чудесные. Тот, кто сражается за высокое и хорошее, с тем ничего плохого не может случиться, так что будь совершенно спокойна!»
Вспоминая подобные письма, Михрдат то пересказывал их на память, то снова читал вслух, чтоб подбодрить жену, но чувствовал, что Сатеник не надеется на свидание с сыном и ничто уже не привязывает ее к жизни.
По окончании смены Михрдат, не дожидаясь первого утреннего трамвая, заторопился домой пешком. Он с минуту постоял в садике, полюбовался восходящим солнцем, пышно распустившимися деревьями и кустами, своим ключом открыл дверь и вошел в дом. Несмотря на усталость, он по привычке сперва умылся и уж потом вошел в спальню. Обычно при его появлении Сатеник приоткрывала лицо, слабым голосом окликала: «Михрдат, вернулся, да?» Затем она снова натягивала одеяло на голову (она спала так и зимой и летом) и умолкала, даже не дождавшись его ответа.
Но сегодня Сатеник не сказала своих привычных слов, не шелохнулась под пикейным одеялом. Михрдат мысленно порадовался: «Ну, слава богу, наконец-то крепко уснула! Это хороший знак, может, сон хоть немного подкрепит ее…» Он осторожно разделся и улегся на свою кровать. После трех-четырех часов сна Михрдат обычно вставал хорошо отдохнувшим, работал в саду, ходил на рынок а выполнял все работы по дому. Он не позволял Сатеник заниматься хозяйством. За последний месяц болезнь сердца совсем подкосила ее здоровье.
Улегшись, Михрдат думал о своей беседе с Заруи, о письме, которое должно было прибыть в тот день от Габриэла, о том, как он постарается подбодрить и развлечь Сатеник. Он закрыл глаза, но почувствовал, что ему не уснуть. Осторожно протянул руку, чтоб откинуть одеяло с лица жены, но на полдороге отдернул руку: «Нет, пускай выспится, сон под утро сладок!» Он повернулся на другой бок. «А Габриэлу напишу, что мать, мол, понемногу свыкается с твоим отсутствием».
Несмотря на усталость, сон не приходил. Он снова повернулся лицом к жене и решил на этот раз непременно откинуть одеяло с лица Сатеник и обменяться с нею хотя бы одним словом.
— Сатеник, — тихо окликнул он, осторожно откидывая одеяло с лица жены, — как ты крепко… — и застыл с протянутой рукой.
Сатеник лежала, скрестив руки на груди и поддерживая ими карточку Габриэла. Лицо ее было спокойно. Михрдат долго плакал, обнимая бездыханное тело жены.
— Снова один!.. — вырвалось у него с болью.
Глядя на застывшее лицо жены, он чувствовал, как тяжело будет ему написать Габриэлу. Что сказать сыну? Наклонившись над Сатеник, он несколько раз поцеловал ее, тихо повторяя:
— Это — за меня, это — за Габриэла…
Глава одиннадцатая
АШХЕН ДАЕТ ПОЩЕЧИНУ
В обеденный перерыв Ашхен забежала домой из госпиталя перекусить и отдохнуть. Она была спокойна за Тиграника — он теперь до вечера оставался в детских яслях.
Почтальон принес ей сразу восемь писем, и Ашхен, с забившимся сердцем, нетерпеливо вскрывала одно за другим: два от Тартаренца, одно от Берберяна, одно от Нины, одно от Гарсевана и по одному от тех бойцов, за которыми она ухаживала: Грачика, Игната и Вахрама. Во всех письмах по-разному говорилось одно и то же — что все благополучно добрались до места назначения и рвутся в бой. Письма мужа Ашхен перечитывала несколько раз: ей хотелось уяснить себе, насколько он свыкся с новой обстановкой. Но из посланий Тартаренца трудно было что-либо понять, настолько неопределенно были они написаны. Отчетливо повторялось одно — опасения за то, как Ашхен будет вести себя без него. Читать это было неприятно, но она пересилила себя, тут же присела за стол и написала ему приветливое письмо. Лишь после этого она взяла в руки письмо Берберяна.
«Дорогой друг, — писал Мхитар, — мои бойцы, за которыми вы ухаживали в госпитале, рассказывают прямо легенды о вас. Мысль о вас воодушевляет их. Буду очень признателен, если вы найдете время и возможность ответить им. Вы все время представляетесь мне в вашем белом халате, повязанная косынкой с красным крестом, с задумчивым, а иногда и сердитым лицом…»
Ашхен чувствовала, что Берберян старался писать сдержанно и что это давалось ему не легко. В заключение Мхитар повторял свою просьбу иногда навещать его мать, чтобы она не так чувствовала свое одиночество.
Наскоро поев, Ашхен села писать письма. В дверь постучали, и в комнату вошел Заргаров.
— Здравствуй, Ашхен-джан! — провозгласил он.
Ашхен покоробило от его фамильярности. Она очень сдержанно поздоровалась с ним и предложила присесть. Она помнила свое обещание: если окажется, что Заргаров действительно порядочный человек, как полагает Тартаренц, изменить к нему отношение.
— Да, чтоб не забыть, Ашхен-джан: я получил письмо от Тартаренца! Ах, и ты получила?.. — слегка разочарованно продолжал Заргаров. — Ну, дела его идут хорошо, много знакомых… Да, месяц кончается, Ашхен-джан, дай твои карточки — отоварю в нашем распределителе.
— Спасибо, я уже получила большую часть продуктов.
— Э-э, за что благодарить! Я знаю, ты сильно занята. А я — сама знаешь, связи у меня большие — получу все лучшее и без очереди.
Чтобы положить конец этому разговору, Ашхен сказала, что, может быть, даст ему карточки в следующем месяце, а сейчас надобности нет. Заргаров тревожно шаркал ногами: нет, не хочет понять его эта женщина!.. С минуту помолчав, он продолжал:
— Вот снова осложняется положение — слыхала о новом направлении?.. Они уже у Сталинграда, а на Кавказском направлении — около Краснодара… А еще только август, вся зима впереди!.. Невесело на душе… А тут еще навязали мне на голову броню! Честное слово, Ашхен, Тартаренц не так объяснил все тебе, а я не захотел вмешиваться… Ведь сколько раз обращался, чтобы взяли обратно броню, объяснял, что не могу оставаться в тылу, когда там нужны люди… Чем я не политработник? А все отказывают!..
Ашхен в душе не очень верила этим словам. Но Заргарова подбодрило то, что Ашхен по крайней мере слушала его; наскоро пригладив напомаженные редкие волосы, он продолжал с жаром:
— Но раз говорят «оставайся», — я подчиняюсь: вероятно, так нужно. А злые люди начинают сплетничать. И ведь другие, что расшибались в лепешку, лишь бы заполучить броню, живут себе спокойно, и никто о них не говорит. Вот хотя бы этот товарищ Асканаза… Может быть, слыхали о нем? Гаспар Гаспарович. Хорохорится так, словно без него весь тыл развалится!
Видя, что Ашхен остается равнодушной к его словам, Заргаров помолчал и, вздохнув, продолжал:
— Ну, конечно, иное дело военный подвиг. Вот какую известность приобрел Асканаз Араратян! Если и в этой дивизии проявит себя, — конец, уже не дотянешься до него.
— А почему бы ему не проявить себя и здесь? — спокойно возразила Ашхен.
— Ну да, об этом я и говорю. Да, Ашхен-джан, не забыть бы: завтра еду в сад. В котором часу можно застать тебя дома? Хочу завезти тебе и ребенку немного винограда.
— Пожалуйста, не беспокойтесь: я всегда покупаю на рынке.
— Ну, что за отговорки! Тут уж тебя не послушаю. Тартаренц просил меня, и я обязан выполнить его просьбу…
Раз Тартаренц просил, Ашхен не стала отнекиваться. На следующий день Заргаров привез виноград. Он снова завел речь о затруднениях на фронте, о своих обязанностях. Ашхен подкупило то, что Заргаров обещал и выполнил свое обещание — снабжать раненых госпиталя свежими фруктами. Через некоторое время Заргаров заметил, что Ашхен встречает его без прежней неприязни.
Как-то вечером Ашхен собиралась в ясли за Тиграником. В комнату вошел Заргаров. Видно было, что он только что побрился: лицо его лоснилось, от него шел резкий запах одеколона.
— Ашхен-джан, завтра воскресенье, поедем вместе в сад, отдохни немного.
— Не могу, я работаю завтра. Ожидается новый эшелон с ранеными.
— Ну, это не дело!.. Хотя ничего не скажешь, времена такие! А ведь такая газель, как ты, должна бы жить где-нибудь на прекрасной даче…
— Что ж, доживем и до этого!
— Ашхен-джан, неужели ты не замечаешь, что я… — замялся Заргаров, нервно потирая подбородок.
— А что такое? — с насмешкой спросила Ашхен.
— Ашхен, не бери греха на душу! — шагнув к Ашхен, воскликнул Заргаров. — Ведь уже больше года я знаком с тобой, и все это время сна и отдыха не знаю! Ашхен-джан… — и Заргаров обнял Ашхен.
Ашхен, которая слушала его, нетерпеливо выглядывая в окно, так резко повернулась, что руки Заргарова разжались, и левой рукой наотмашь ударила его по лицу.
Заргаров обомлел. Схватившись рукой за побагровевшую щеку, он испуганно моргал, как бы не веря в реальность происшедшего. Опомнившись, он попытался превратить все в шутку. Но раскрасневшаяся от гнева Ашхен яростно воскликнула:
— Негодяй, если б я не презирала тебя, то сообщила бы кому следует о твоем низком поступке! Пока же хватит с тебя и этой пощечины.
Заргаров смиренно молчал: может быть, его смирение заставит Ашхен пожалеть о своей суровости…
— Пока хватит и этого! — с гневом повторила Ашхен. — А теперь убирайся!
— О, в каждом слове — жало змеи… — пробормотал Заргаров. — Так прекрасна лицом и так злобна душой!
— И ты еще говоришь о злобе? — с пренебрежением отозвалась Ашхен, вытирая руку платком. — Но мы, женщины, слишком снисходительны, Так-то ты заботишься о семье своего друга, ушедшего на фронт, да? Негодяй!
— Довольно! Как вы смеете оскорблять меня?
— Ах, так? Вот теперь будет довольно… — и лицо Заргарова обожгла вторая пощечина. — А это от имени всех женщин-армянок одному из тех презренных мужчин, которые в трудные для родины дни думают лишь о собственной шкуре!
— Кто дал вам право оскорблять?! — возмутился Заргаров.
— А что такое оскорбление для таких толстокожих, как вы? Убирайтесь вон и не смейте показываться мне на глаза!
— Ну еще бы! Жена героя!.. — сказал Заргаров.
— Вы не имеете права говорить о нем!
Заргаров продолжал стоять посреди комнаты, не двигаясь с места. Ашхен быстро подошла к двери, распахнула ее и сделала пренебрежительный жест в сторону Заргарова.
Ощупывая лицо, Заргаров вышел из комнаты.
Ашхен перевела дыхание. Долго еще она с удовлетворением вспоминала о пощечинах, отпечатавшихся на его лице.
Часть четвертая
РАЗГРОМ
Глава первая
ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ
АСКАНАЗ долгое время не мог оторвать взгляд от вершин Кавказского хребта, которые то пропадали за облаками, то поднимали головы, словно стремясь получше разглядеть то, что происходило у их подножия. Лишь одна гора, в которой чудилось нечто похожее на человеческую фигуру, как бы не позволяла тучам закрывать от нее горизонт, и вершина ее была всегда видна взору. Орудийная перестрелка, грохот минометов, рокот самолетов бесконечным эхом отдавались в горах и ущельях, нарушая величавый покой нагорья.
Внизу, в долине, рычал и бился Терек, — на обоих его берегах не на жизнь, а на смерть бились с фашистскими полчищами защитники Кавказа. «Куда добрались, а?..» — хмуро думал Асканаз, окидывая взглядом очертания далеких гор.
Прохладный сентябрьский ветерок освежал его разгоряченное лицо. Асканаз вместе с командиром дивизии, комиссаром и другими офицерами должен был явиться к командующему армией. Имя Андрея Федоровича Денисова пробуждало в душе Асканаза дорогие воспоминания. Асканаз знал, что у командующего таится в душе тяжелая забота — Алла Мартыновна и Оксана… Как далеко они сейчас! Но Денисов… «Хорошо работать с человеком, которого знаешь, которому веришь!» Асканаз вспомнил Денисова — его непреклонную волю, умение быстро ориентироваться, открытое сердце…
Штаб армии помещался в здании колхозного клуба-новостройки. После майских боев у Керчи Денисов принял на себя командование армией, в составе которой, вместе с русскими и украинцами, действовали армяне, грузины и азербайджанцы, нередко особыми воинскими подразделениями.
Командующий армией вместе с двумя членами военного совета, стоял перед раскинутой на стене большой картой. Услышав донесения адъютанта о явившихся на прием командирах новой дивизии, Денисов кивнул головой и обернулся к членам военного совета:
— Новые силы… Надо подбодрить их!
Вслед за Варданом Тиросяном в кабинет командующего вошли остальные командиры.
Денисов, который был знаком с Варданом Тиросяном, весело обратился к командиру армянской дивизии:
— Хороших молодцов собрал ты у себя, Вардан Андриасович! Ты помнишь, как в прошлом году под Ростовом немцы удирали от твоей части?! Вот и у Асканаза Аракеловича есть о чем рассказать новичкам! — Он заглянул в разложенные перед ним списки и продолжал: — Так, значит, Гарсеван Даниэлян командует уже ротой? Что ж, хорошо. У вас, говорят, уже были потери во время стычек? Ничего, придам пополнение из резерва армии. Кстати, думаю, вам подойдет Остужко, а? — и Денисов с улыбкой посмотрел сперва на Тиросяна, потом на Асканаза.
Тиросян от души поблагодарил и прибавил:
— Кто же откажется от опытных, закаленных бойцов!
Денисов поднялся с места, подозвал Тиросяна и показал на карте район действия дивизии. Затем он обратился к присутствующим:
— Немцы бросили на Кавказ свыше тридцати дивизий. Сейчас их кавказской группировкой командует генерал Клейст. Это старый волк… Но ничего, мы вскоре сможем выставить против его тридцати дивизий еще большую силу! Однако не надо упускать из виду суворовского правила, что воюют не только числом, но и уменьем. Вам отводится на фронте отдельный участок, но самое главное, чтобы вы не считали вашей задачи чем-то незначительным.
И по военному уставу и по основному закону войны надо равняться на передовых. Хорошенько внушите это бойцам! Если один взвод вырвался вперед, остальные взводы обязательно должны догнать его; к продвинувшейся вперед дивизии мы обязательно подтянем остальные. Лишь действуя по этому правилу, можно добиться победы.
Денисов умолк, потер лоб, затем медленно продолжал:
— Враг подобрался к Сталинграду. А здесь… вы видите, куда он уже зашел? Наш ответный удар должен быть обдуманным и сокрушительным. Мы защищаем Кавказ, но тем самым мы помогаем героям Сталинграда. Мы ведем борьбу за свободу народов Кавказа, но одновременно мы, вместе со сталинградцами, решаем судьбу всей нашей отчизны. Необходима беспощадная борьба с людьми малодушными и паникерами. Постарайтесь получше узнать людей, чтобы быть в состоянии правильно использовать их: если боец находится не на своем месте во время сражения, то и польза от него сомнительная.
Подав еще несколько советов, Денисов с особой торжественностью произнес:
— Посылая вас на фронт, армянский народ доверил вам свою честь. Вы делом должны оправдать это большое доверие… Итак, ждем ваших действий, ваших подвигов!..
— Постараемся хотя бы ценой жизни оправдать доверие родного народа и командования! — торжественно заверил Тиросян.
— Ну, желаю успеха!
Получив из штаба дивизии задание для своего полка, Асканаз Араратян вместе с Мхитаром Берберяном разрабатывал план боевых действий для каждого из батальонов.
Асканаза порадовало то, что его полк усилился за счет обещанного Денисовым пополнения. Он назначил Остужко командиром первого батальона. Марфуша работала в санбате. Унан, крепко побратавшийся с Абдулом, вместе с Габриэлом попал в роту Гарсевана Даниэляна.
— Итак, товарищ комиссар, сейчас вы находитесь в таком же положении, в каком я был в прошлом году: только-только принимал боевое крещение. А у новичков — хороший обычай: прослыть храбрецом и быть всегда впереди!
Берберяна передернуло. Они сидели вдвоем в КП — землянке, в крохотное оконце которой залетали иногда капли дождя. Маленькая струйка попала за воротник Мхитару, и по его спине пробежала дрожь. Но эта дрожь была вызвана не ощущением холода, а от того насмешливого оттенка, который ему почудился в словах Асканаза.
— Вы знаете, — продолжал Асканаз, — ведь и я не раз подвергался этому соблазну — вырваться вперед, взять непосредственно на себя обязанности командира подразделения. Смотрите, не поддавайтесь этому соблазну, если не будет крайней, повелительной — вы слышите? — повелительной необходимости. Ваша обязанность — заботиться о том, чтобы боец был стоек душевно, морально!
— Благодарю за предупреждение, товарищ комполка.
Адъютант доложил, что прибыл Остужко, и Асканаз распорядился ввести комбата.
Ничто так не радует на войне, как встреча со старыми друзьями. Хотя Асканаз уже виделся с Остужко, но встретил его очень радушно и тотчас же познакомил с Берберяном.
— Закаленный воин! Первый батальон в руках верного человека! — убежденно сказал он и повернулся к Остужко. — Вместе перенесли все трудности в прошлом году, — перенесем и в этом. Твой батальон должен служить примером для всех остальных батальонов дивизии.
— Не пожалею усилий, товарищ комполка, и надеюсь на успех, тем более что у меня в батальоне такие бойцы, как Даниэлян, Унан, Игнат и Абдул, — отозвался Остужко, откидывая непослушную прядь волос, и хмуро добавил: — Очень уж обнаглели, проклятые… Нужен, ох, нужен сокрушительный удар!
— Ну, а как поживает Марфуша? — спросил Асканаз.
— Просила передать вам поклон. Она очень тревожится об Алле Мартыновне и Оксане…
— Есть ли какие-нибудь вести от них? Не довелось мне поговорить с Денисовым.
— Марфуша иногда видается с Денисовым. Несколько дней назад он вызвал ее к себе, рассказал, что Шульцу удалось схватить нескольких краснопольских подпольщиков. Алла Мартыновна ушла в лес. Андрей Федорович очень волнуется за нее.
— Да… — протянул Асканаз: ему вспомнились встречи с Аллой Мартыновной, Оксаной и ее детьми.
Получив от Остужко краткие характеристики его рот и дав ему задание для батальона, Асканаз отпустил комбата.
— Мхитар-джан, — перейдя на дружеский тон, обратился он к Берберяну, — иди отдохни немного, пока еще есть возможность. Помни: мы вступаем в период тяжелых испытаний.
На рассвете полк получил боевое крещение. Асканаз поручил защиту центральной части участка батальону Остужко, а на правом и на левом флангах расставил другие батальоны.
Гарсеван Даниэлян (уже получивший звание лейтенанта) занял указанные его роте позиции. По совету Асканаза, Остужко отвел Гарсевану самый трудный участок, где ожидалось нападение большой группы танков, так как местность здесь была наиболее подходящей для их продвижения.
С самой полуночи бойцы роты Гарсевана, обливаясь потом, приводили в порядок окопы и рыли индивидуальные ячейки для бронебойщиков. Гарсеван расставил своих бойцов так, чтобы обстрелянные бойцы оказались рядом с новичками. Сам же, оставив на своем КП политрука роты, то и дело обходил окопы, чтобы лично наблюдать за подготовкой к бою. Войдя в один из окопов переднего края, он заметил двух бойцов, которые о чем-то шептались, склонившись друг к другу и почти касаясь головами. Гарсеван подождал минуту, другую, но бойцы продолжали шептаться. Гарсеван подошел к ним вплотную.
— Что это вы, сказки друг другу рассказываете?
— Никак нет, товарищ лейтенант… — запнувшись, отозвался один. Гарсеван по голосу признал Ара.
— Так где же ваша бдительность? А если бы тайком подобрался какой-нибудь фашист?
— Простите, товарищ лейтенант, это я виноват, — отозвался второй боец (Гарсеван узнал по голосу Габриэла). — Я, как более опытный, не должен был забывать… О матери моей он рассказывал, об отце…
— А ты ему рассказывал, как надо бить врага? Твой отец на фронт нас провожал и говорил, что твои письма радуют мать.
— Вот и Ара об этом говорит.
Гарсеван проверил их автоматы и на прощание приказал:
— Ну, будьте же бдительными! А огонь без приказа не открывайте.
Гарсеван направился к отделениям, которым поручено было отразить предполагаемую атаку танков. Навстречу ему с рапортом вышел Грачик Саруханян, назначенный командиром петеэровцев. Гарсеван одну за другой проверил позиции бойцов его подразделения. В открытых щелях лежали Вахрам, Левон Мирабян и Тартаренц; Унан Аветисян и Абдул с радостью поглядывали на хорошо знакомое лицо комроты. Несколько дней назад Гарсеван рассказал Унану о своей встрече с его матерью, и теперь Унан с особой любовью глядел на Гарсевана.
Бойцы этого подразделения вооружены были противотанковыми ружьями и бутылками с зажигательной смесью. Соседнее подразделение возглавлял Игнат. Рядом с ним лежали Юрик Мартиросян, который с первого же знакомства пришелся по душе Игнату, и боец Лалазар — уроженец Арамуса.
— Ну, Саруханян, гляди во все глаза! — распорядился Гарсеван. — Надеюсь, что твои новички — Тартаренц, Мирабян, — он назвал еще несколько фамилий, — хорошо выдержат первое испытание огнем. А потом свыкнутся. Ты вспомни собственное боевое крещение… Все мы в первый раз невольно чувствовали тревогу, и ее пришлось преодолевать усилием воли.
— Все будет в порядке, товарищ комроты! — заверил Саруханян.
Мрак постепенно рассеивался. Подразделения были проверены, и Гарсеван направился к своему КП. Едва он вошел в землянку, как его вызвали к телефону:
— Фиалка, Фиалка… Отвечайте Сороковому!
«Фиалка» были условные позывные роты Гарсевана, «Сороковой» — командира полка. Связным у телефона была Нина.
Мягкий голос Нины успокаивающе подействовал на Гарсевана, но он невольно подумал: «Фиалка? Какая я к черту фиалка? — И он с усмешкой оглядел свою огромную фигуру. — Уж лучше б назвали меня бревно».
Послышался голос Асканаза Араратяна:
— Какие новости на участке, как настроение у бойцов?
— Пока на участке спокойно. Бойцы — на своих местах. Техника готова к действию. Новички вспоминают о своих матерях.
— Поэзию пока оставим. Чем вы гарантируете, что новички не дрогнут в критическую минуту?
— Рядом с каждым — по испытанному бойцу, да и сами они — честные парни. Командиры подразделений не подведут, уж будьте спокойны, товарищ командир!
— В шесть ноль ноль доложите положение!
На востоке серые тучи плотно закрывали небо, но раннее утро уже давало знать о себе.
— Товарищ Саруханян… — заговорил Тартаренц. — Что же будет с нами, если эти проклятые танки бросятся на нас?
— А мы тоже бросимся на них. Да ты только погляди, какое у тебя ружье в руках: если хорошо нацелишься и метко попадешь, с таким грохотом опрокинется танк, что тебе покажется — скалу подорвали динамитом!
— Ишь, как легко вы говорите… Так почему ж не подрывали до сих пор? Допустили германца до самого порога дома и приказывают Тартаренцу: вставай, мол, отбрось врага назад!
Саруханяну не терпелось одернуть болтуна, но он не решился перед самым боем обижать бойца. И он ограничился тем, что наставительно сказал:
— Ну, кто в первый раз в бою, всегда считает, что только он и есть на свете… Все образуется, только не падай духом!
Последние слова Грачик сказал с особым ударением. Тартаренц не придал им значения, хотя он стремился к одному — установить по возможности близкие отношения с начальством и в первую очередь с Саруханяном.
Залегший чуть поодаль Ара, стискивая винтовку в руках, поглядывал на Габриэла, стараясь во всем походить на него.
— Габриэл-джан, ты мне скажешь, когда стрелять, ладно?.. До чего же мне хочется уложить хоть одного из этих проклятых! А то, знаешь, все же неловко: брат у меня — человек известный, это меня обязывает…
— Ты не горячись, Ара-джан! Главное — постарайся сохранить хладнокровие!
Страшный грохот заглушил его слова…
— Перемешались небо и земля! — завопил Тартаренц.
Лежавший рядом с ним Вахрам, по-видимому, вспомнил его разговор с Саруханяном и сердито крикнул:
— Что ты вопишь?! Вперед смотри, балда! — и прибавил пару нелестных слов по адресу Тартаренца.
Артиллерийская дуэль продолжалась довольно долго. Но постепенно к реву орудий примешался отдаленный рокот танков. Унан и Абдул особенно внимательно прислушивались к этому звуку, помня предупреждение Саруханяна. Уже можно было различить контуры танков.
Вражеские орудия и минометы усилили огонь, чтобы создать смятение в окопах переднего края. Возмущение на миг приковало Гарсевана к месту, когда он заметил, что некоторые из его бойцов открыли пальбу из противотанковых ружей. Танки были еще настолько далеко, что пули ПТР не могли причинить им никакого вреда, а противник, обнаружив, где расположены огневые точки переднего края, начал сильный ураганный обстрел; в облаках пыли и клубах дыма пропали из виду участки подразделений Саруханяна и Игната.
Тартаренц, услыхав приближавшийся грохот танков, начал палить, не высовывая голову из окопа, и его примеру последовал еще один боец. Кусая губы от гнева, Саруханян поспешил прекратить стрельбу, но противник уже использовал этот промах.
— Фиалка… — прозвучал в телефонной трубке укоризненный голос Остужко, — командир крепко сердится: твоя рота срывает выполнение задания! Тебе поручается любой ценой приостановить продвижение танков!
Оставив в КП помощника, Гарсеван, пригнувшись, побежал на участок отделения и, узнав, что огонь открыл Тартаренц, подошел к нему.
— Если не будешь подчиняться приказу, пристрелю на месте!
Тартаренц почувствовал, что Гарсеван способен привести в исполнение свою угрозу. Стараясь удержать судорожные подергивания побелевшего лица, он поспешил заявить, что готов в точности выполнить любое распоряжение начальства.
Немецкие танки приближались. Запыхавшийся Гарсеван забрался в щель и внимательно следил за их приближением. Да, хорошенькое положение… Значит, командир может счесть его виновным в срыве боевого задания… Он испытующе оглядел Саруханяна и Вахрама, Унана и Абдула, бросил хмурый взгляд в сторону Тартаренца. Грохот все нарастал.
— Огонь!.. Вот теперь огонь! — выкрикнул он во весь голос. На миг ему захотелось вырвать из рук Тартаренца противотанковое ружье и стрелять самому, но он сдержался.
Последовавший вслед за этим залп не остановил продвижения противника. Непрерывно стреляя из пушек и пулеметов, немецкие танки упрямо ползли вперед. Вновь прогремел залп бронебойщиков.
— Наконец-то! — свободно перевел дыхание Гарсеван. — Пригвоздили-таки один из танков!
Вслед за этим Унан меткой очередью подбил еще один танк.
На мгновенье танки остановились. Ливень пуль и мин обрушился на позиции. Игнат доложил, что выбыло из строя трое бойцов его отделения. Умолкла и одна из артиллерийских батарей.
Гарсеван с тревогой обнаружил, что иссякает запас патронов бронебойных ружей. Четыре танка, развивая скорость, катились прямо на них.
— Никому не оставлять позиций! — раздался приказ Гарсевана. — Весь огонь винтовок и автоматов направить на пехоту противника!
Танки были уже совсем близко Гарсеван связался со своим помощником, приказал бросить против танков отделение резерва, одновременно сообщив Остужко о создавшемся положении.
Лишь небольшое пространство отделяло Гарсевана с бойцами от надвигавшихся танков.
Абдул швырнул гранату под ближайший танк, но она не разорвалась. Наступило мгновенье, когда трудно было определить, что происходит. Гарсеван приказал бойцам укрыться в щелях. Словно черные чудовища, танки с лязгом и грохотом перекатили через окопы. Видимо, немцы решили, что раздавили всех под гусеницами. Гарсеван, Унан и Абдул первыми приподняли головы — в соседнем окопе разгорелся рукопашный бой с немецкими автоматчиками. Гарсеван глянул назад: не прекращая огня, танки ползли ко второй линии окопов. Унан и Абдул одновременно швырнули связки гранат, и еще один танк замер на месте.
Саруханян выкарабкался из-под земляной глыбы, отряхнулся и стал ощупывать лежавшего рядом бойца.
— Левон… слышишь, Левон… Похолодел уже… Эх, жаль!
Он обернулся в другую сторону:
— Вахрам… Это ты, Вахрам?
Услышав слабый отклик, он радостно воскликнул:
— Вахрам, ты жив?
— Что-о?… — едва донесся голос.
— Говорю, жив ты?!
— Жив-то жив, да чуть дышу.
Вахрам с глухим стоном приподнялся и, выбравшись из щели, обернулся лицом к подбегающей цепи немецких автоматчиков.
У Тартаренца оставался один противотанковый патрон. Он прицелился и выстрелил, но пуля лишь оцарапала боковую броню танка. В эту минуту перед ним вырос немецкий солдат со штыком наперевес. Тартаренц от страха отпрянул назад, и немца свалил наземь стоявший рядом Вахрам.
Остужко, внимательно следивший за действиями роты Гарсевана, выслал на помощь ей взвод. Продвижение танков было остановлено. Бойцы Гарсевана или прикончили ворвавшихся в окопы фашистов, или отшвырнули их и принудили отойти на исходные позиции.
Во время передышки, когда Гарсеван собрал роту, Вахрам философски заметил:
— Ну, вот и прошел экзамен: даже танк на собственных головах прокатили! Вот теперь будем как следует сражаться.
— Молодец, Вахрам! — одобрил его Саруханян. — Недаром твой Гюмри переименован в Ленинакан: таких, как ты, молодцов, на фронт посылает!
Гарсеван сказал несколько похвальных слов отличившимся бойцам. На Тартаренца он поглядывал с раздражением, а тот с горечью думал: «Нет, так не годится. Хорошо еще, чудом спаслись сегодня, но ведь не каждый день бабка пироги печет!.. Еще один такой денек и не выбраться тебе живым, Тартаренц!.. А этот Гарсеван все про Ашхен поет, что чуть не жизнью ей обязан. А как на меня орал! «Уложу на месте!» Словно я собака».
Гарсеван по телефону доложил Араратяну о результатах атаки, но по тону командира полка понял, что радоваться пока нечему, и положил трубку с омрачившимся лицом.
Глава вторая
ИСПЫТАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Лицо Вардана Тиросяна было сумрачно. Несмотря на отдельные мелкие удачи, результаты дня не удовлетворяли его. Только что кончилось совещание; командиры и комиссары полков вернулись в части. Асканаза Араратяна комдив удержал у себя. Приподняв голову от карты, он сосредоточенно оглядел комполка.
— Так не может продолжаться. Командование фронта возлагает на нас большие надежды… А мы — вон, полюбуйтесь! — уже оставили населенный пункт на правом фланге! В батальонах — огромные потери… И Гарсеван Даниэлян и Остужко могли бы действовать лучше… Ты, конечно, подбодри их, но нужно поднять боеспособность. Видно, у нас еще не изжита семейственность…
— Это уже учтено, товарищ комдив.
— Герр генерал, — пренебрежительно выговорил Тиросян, — как видно, предполагает, что нащупал слабое звено. На свой аршин мерит! Рассчитывают поколебать нашу решимость… Разбрасывают листовки… сыплют обещаниями!..
— На моем участке им не удалось забросить листовки.
— Они постараются забросить, конечно… Наша ошибка в том, что у нас слабо поставлена разведка. Из посланных в разведку людей многие вышли из строя, не вернулись… Как видно, противник получил новое пополнение. Нужен «язык»! — Комдив взглянул на часы и решительно заявил: — Сейчас двадцать три пятьдесят. Этой же ночью обеспечьте «языка»: необходимо заручиться точными данными о расположении огневых точек противника.
— Есть обеспечить «языка»! — отозвался Асканаз.
— Кто идет в разведку? Вы их хорошо знаете?
Асканаз справился с записной книжкой.
— Отобраны надежные. Руководить разведкой будет Игнат Белозеров, испытанный разведчик. Это парень решительный и уроженец здешних мест. С ним пойдут два бойца — Габриэл Варабян и Ара Пахлеванян. Габриэл — отважный и находчивый боец.
— Дальше?
— Четвертым пойдет Абдул, пятым — доброволец Юрик Мартиросян.
При этом имени комдив вздрогнул и словно хотел что-то сказать, но сдержался и выжидательно взглянул на Асканаза.
— Этот молод, — продолжал Асканаз, — но хорошо знает немецкий. Может пригодиться.
— Да, знает немецкий, — кивнул головой комдив. — Подготовьте парней, задание не из легких.
«Откуда ему известно это?» Какая-то смутная догадка мелькнула в голове Асканаза, он вызвал в памяти черты лица Юрика Мартиросяна, однако считал неудобным задавать вопросы.
Простившись с комдивом, Асканаз вместе со своим новым адъютантом, молоденьким младшим лейтенантом, вернулся в штаб полка и, пока Берберян разъяснял новые задания комиссарам батальонов и политрукам рот, подошел к телефону.
— Слушаю, товарищ командир! — послышался голос Нины.
Этот знакомый голос вызвал у Асканаза радостное чувство. Он приветливо спросил:
— Что ж это, Нина Михайловна, вы все время у телефона. Когда же вы отдыхаете?!
— Да я всего пять минут как заступила.
Асканазу хотелось сказать ей несколько задушевных слов, но он как-то сразу не нашелся и лишь коротко распорядился, чтобы Остужко и Гарсевану Даниэляну передали приказ явиться к нему.
«Итак, противник считает нас слабым звеном… — чувствуя себя задетым, повторял Асканаз слова командующего дивизией. — Ладно, посмотрим еще!»
В землянку вошли Остужко и Гарсеван. Заметив хмурое лицо Асканаза, Гарсеван незаметно опустил на пол какой-то маленький сверток. Но от глаз Асканаза не укрылось его движение.
— Что это? — бросил он.
— Простите, товарищ командир… Батарейцы собрали в ближайшем лесу диких груш, угостили нас… я вам немного принес…
— Садитесь.
Остужко и Гарсеван молча уселись на длинную скамью, прямо как сваты с подарками, против столика Асканаза.
— Нельзя действовать вслепую. Надо узнать как можно больше о противнике и потом уж действовать сообразно с этим. Готова у вас группа разведчиков?
— Ждут вашего приказа, — отозвался Остужко.
— Ладно. А ну, давайте еще раз проверим состав группы! Игнат… Говорите, опыт есть и выносливость?..
— Как-то раз, еще до ранения, фашист заупрямился, так он его два километра на спине волок! — улыбаясь, рассказывал Остужко.
— «Язык» нам нужен до зарезу, но тащить его на себе не стоит. Надо заставить его своим ходом идти, а энергия на другое пригодится. Габриэл… Знаю, смелый парень. Ара — тоже.
Гарсеван тревожно шевельнулся — ему вспомнился наказ Шогакат-майрик. Но он промолчал: ведь если бы он возразил против участия Ара в разведке, Асканаз мог подумать, что Гарсеван хочет подольститься к нему (а эта мысль была нестерпима для Гарсевана); да кроме того, Остужко вновь повторил, что Габриэл очень привязан к Ара, а тот может быть полезен ему.
— Я уже несколько раз беседовал с ним и разъяснял ему правила разведки, — добавил Остужко.
Асканаз одобрил и кандидатуру Абдула. Дойдя до Юрика Мартиросяна, он вкратце рассказал, как тот пришел к ним добровольцем, и спросил:
— А с кем дружит этот Юрик?
— Да вся четверка к нему хорошо относится, а Игнат заботится о нем, как старший брат.
— Вот это хорошо… Ну, приступайте к делу! Учти, Гарсеван Даниэлян, чтобы не было больше несвоевременной пальбы! За это самое строгое наказание! Вы только выдаете себя врагу.
— Я уже назначил Тартаренца подносчиком боеприпасов. Пускай освоится, а там посмотрим.
— Поставить над ним старшего построже! — добавил Асканаз, не вдаваясь в подробности.
Затем, выслушав рапорт Остужко о состоянии батальона и сделав свои замечания, он обернулся к Гарсевану:
— Ну, а теперь давай сюда свой узелок…
Гарсеван вызвал Ара к себе на КП роты и сказал ему:
— Ара, тебе предстоит серьезное задание. Товарищи у тебя верные, надежные и опытные. Кто его знает, ночь темная, может, и встретится какая-нибудь опасность. Быстро и точно выполняй все распоряжения Игната — он будет у вас за старшего. И тут очень важна воля: скажи себе, что ты можешь сделать то-то и то-то, — и сделаешь!
Кто знает, что вспоминал Гарсеван из своего прошлого, подбадривая воина-новичка… Он сказал Ара еще несколько теплых слов и заключил:
— Ни опасности, ни одиночество, ни темнота не должны помешать вам добиться цели. Если ты будешь думать только о задании, о том, чтобы добыть «языка», — исчезнут все сомнения!
Ара во все глаза глядел на Гарсевана: неужели тот что-либо знает о нем? Но нет, откуда бы… Залившись краской смущения, он отвечал:
— Готов выполнить приказ командования.
Гарсеван от души пожелал ему и всем разведчикам доброго пути и удачи.
Самым младшим по возрасту в группе разведчиков был Юрик Мартиросян. Он шагал рядом с Ара. Впереди шли Игнат и Абдул; этот несколько раз ходил уже в разведку и хорошо был знаком с местностью. Позади шагал Габриэл.
Гористая местность, пересеченная глубокими ущельями, позволяла разведчикам продвигаться незаметно для врага, но зато передвижение по ней было очень утомительным.
— Пройдем это ущелье — и позиции врага совсем близко… — шепотом объяснил Абдул.
По телу Ара пробежала дрожь. До этой минуты причудливые скалы, набегающие на полумесяц тучи — все было обычным и естественным. А теперь как будто сразу все преобразилось: скалы и даже невысокие холмы казались притаившимися убийцами, которые вот-вот выскочат из засады и набросятся на Ара; тучи словно намеренно закрыли месяц, чтобы мрак стал еще гуще. Ара прижал к груди автомат, а другой рукой схватился за рукав соседа.
Юрик обернулся, но в темноте не разглядел выражения его лица. Ара ощутил близость товарища, и по спине его снова пробежали мурашки, на этот раз от совершенно противоположного чувства. Неужели он один среди всех такое ничтожество? И Ара неожиданно, сам не зная зачем, начал чуть слышно нашептывать Юрику:
— Юрик, держись крепко! И ничего, что сейчас темно, ты не бойся!
— Честное слово, Ара, я совсем не боюсь! Ты знаешь, я все время помню о том, что говорил насчет страха мой отец.
— Насчет страха? Что, что? — жадно допытывался Ара.
— Он говорил, что если воин стремится продать свою жизнь подороже, если не хочет зря подвергать себя опасности, то это не страх, а осмотрительность. А если человек малодушно бежит от трудностей и опасностей, думает только о спасении своей шкуры, то он трус. Осмотрительность и трусость — разные вещи. Вот Игнат осматривается, оглядывается, прежде чем свернуть направо или налево. Но в этом-то и героизм! Отец говорил, что, если нужно, командир должен возглавить часть и повести ее на врага. Но вообще-то командир должен руководить своими бойцами и не рисковать зря жизнью.
— Видно, у тебя славный отец, Юрик! Где он сейчас?
— Так что, Ара, я не раз думал об этом еще до того, как выехал на фронт, — закончил Юрик, не отвечая на вопрос Ара.
— Да, да, Юрик. Конечно, нужно стараться подороже продать жизнь!
Словно не сам Ара говорил эти слова, а кто-то подсказывал их ему… Кто? Мать, Гарсеван, Асканаз… а может быть, и Маргарит?.. Ара не мог бы объяснить.
— Ну теперь молчок… — на этот раз шепот Абдула звучал приказом. — Ни звука — мы в расположении врага…
Игнат подозвал товарищей. При слабом свете месяца и звезд острые глаза Абдула подметили, что они уже добрались до заранее намеченного пункта. Нужно было действовать. Игнат подозвал Юрика, приказал Ара оставаться на месте и вести наблюдение.
— Заметишь что-нибудь подозрительное, сейчас же дашь знать Габриэлу: он будет от тебя за пятьдесят шагов. На этот раз задание у тебя не очень трудное, нужно только внимание. С места не сходи, а то провалишь все задание.
Игнат вместе с Абдулом и Юриком, где согнувшись, а где и ползком, стал пробираться вперед, прямо в расположение фашистских войск.
Наступили самые тяжелые минуты для Ара: он остался один в полумраке… Он притаился в тени небольшого холма, покрытого сухой травой. Он было присел, но тотчас же поднялся на ноги, словно кто-то еще сел рядом с ним… Прошла минута, другая. Никакого движения. Значит, показалось… Но если действительно кто-то залег поблизости, он не имеет права ждать! Ара лег и, приподняв голову, внимательно огляделся: те же причудливые очертания, те же мрачные облака… какие-то руки, глаза… Но нет, там ничего нет. Ара привстал на колени, судорожно сжав в руках приклад. Он инстинктивно нащупал в кармане мягкий лоскуток — талисман, который в последнюю минуту сунула ему мать. «Бедная моя мама!.. Да нет же, ничего тут нет! Вот я, вот мое ружье, а там — гора, наверху — месяц… А ну, пусть попробует подойти! — Ара показалось, что кровь быстрее побежала по жилам. — Да, мама… что она делает сейчас? И Маргарит, моя Маргарит?.. Как она сказала однажды? Мужчина должен быть смелым! Что сказала бы моя храбрая, моя чудная Маргарит, если бы узнала… Но нет, я солдат, да еще в разведке, а разведчик обязан быть бесстрашным!»
Ара встряхнулся, еще крепче сжал в руках приклад и, напрягая зрение, начал пристально вглядываться в темноту. Вон там, вдали — укрепления врага… Но что это — выстрел? «А ну, готовься!» — сам себе приказал Ара, и все чувства уступили одному: стремлению встретить и отразить любую опасность.
До рассвета оставался почти целый час. К Ара бесшумно приблизился Габриэл.
— Ничего подозрительного не заметил?
— Нет! — уверенно ответил Ара. — Но что это был за выстрел?
— Это на другом участке… Идем! — И Габриэл радостно шепнул Ара: — А какую рыбку выудили — германский лейтенант! Заткнули рот платком и ведут…
— Как это?
— Потом, потом… Юрик у нас в тяжелом положении: пока Игнат запихивал лейтенанту платок в рот, а Абдул расправлялся с другим фашистом, лейтенант вывернулся и тяжело ранил Юрика ножом в бок.
— И что же… — Ара не смог договорить.
— Ну, ребята, придется тащить этого мерзавца, — сказал Игнат, когда Ара и Габриэл подошли к ним. — Мы с Абдулом займемся «языком», а вы должны позаботиться об Юрике! Несите его осторожно: сильное кровотечение. И побыстрее, скоро догадаются, что произошло, и пустятся вслед за нами!
Пока Игнат и Абдул, подталкивая, тащили лейтенанта, Ара нагнулся над Юриком.
— Все равно не дойду… — с трудом выговорил Юрик. — Ох, мама-джан, как больно! Не трогайте меня, оставьте здесь… не надо!..
— Мы донесем тебя, Юрик-джан, вылечат тебя! Терпи, скоро доберемся. Нельзя оставаться здесь, не то попадешь к врагу… — уговаривал его Габриэл.
— Мама… — еле слышно шептал Юрик.
Габриэл и Ара переплели руки и, кое-как подняв Юрика, зашагали рядом, стараясь не трясти его. Они видели, что с каждой минутой ему делалось все хуже. Рана сильно кровоточила.
Близился рассвет. Игната охватила тревога. Пленник, вероятно, знал многое, его показания были очень важны для предстоящего боя. Но если рассветет, а они еще не доберутся до своих? Плохо дело!.. И Игнат решил обратиться к уже испытанному способу — взвалить пленного себе на спину. Он приказал Абдулу побежать вперед, дать знать, чтобы наши поспешили навстречу. Нужно было поскорее доставить пленного в штаб, а Юрика на носилках в санбат. Дав тумака в спину упиравшемуся лейтенанту, Игнат пробормотал: «Дал бы я тебе по голове, жаль только, что она нам нужна… Ишь обложился жиром, словно кабан какой, видно, только что прибыл из Франции…» И, немного погодя, лейтенант с закрученными назад руками и с кляпом во рту покачивался на спине Игната.
Бой разгорался все сильнее.
— Так… так… — приговаривал Асканаз, замечая со своего КП, как одна за другой умолкают огневые точки противника.
Несколько атак фашистов в этот день были отбиты с большими потерями для противника. Пленный лейтенант оказался ответственным сотрудником штаба полка и дал очень важные показания. Видимо, ему было многое известно: его еще продолжали допрашивать в штабе дивизии.
Командир дивизии передал по телефону, что доволен действиями полка за этот день. Доложив обстановку, Асканаз в заключение сообщил, что разведчики чувствуют себя хорошо, но положение Юрия Мартиросяна внушает серьезные опасения.
Ответ полковника Тиросяна Асканаз не расслышал.
…Вечером у изголовья Юрика вместе с главврачом санбата стояли Вардан Тиросян и Асканаз Араратян.
— Надежды нет… — тихо сказал главврач.
Командир дивизии шагнул вперед и стал так, чтобы раненый мог увидеть его. Юрик открыл лихорадочно блестевшие глаза, взглянул на комдива, и губы его дрогнули.
— Юрик… хороший мой… — еле слышно выговорил комдив; на глазах его стояли слезы.
— Папа! — удивленно и радостно отозвался Юрик.
Асканазу все стало ясно. Много позднее он узнал, что в тот день, когда Юрик в Ереване явился к нему, между отцом и сыном произошел следующий разговор:
— Значит, ты решил ехать на фронт, Юрик? — задал вопрос отец.
— Да, папа. Я был уже в военкомате и получил назначение.
— Хорошо. Но выслушай мои условия.
— Говори, папа.
— Так вот, никому не хвались тем, что ты — сын командира дивизии! Будешь держаться так, как подобает рядовому бойцу.
— Можешь быть совершенно спокоен, папа. Я даже переменил фамилию, прибавил впереди «Мар».
— Ах, вот как?.. Ну, иди, поцелую тебя, боец Мартиросян!
…И вот командир дивизии полковник Тиросян, присев на койку сына, смотрел в его постепенно угасавшие глаза. Сердце комдива обливалось кровью. Он не двигался с места, не выпускал руки сына, пока она не похолодела…
Глава третья
ТАРТАРЕНЦ
Тяжело было на душе у Асканаза, когда он расстался с полковником Тиросяном. Застывшее лицо Юрика все время стояло перед его глазами, в памяти проходил весь короткий воинский путь юноши, начиная с той минуты, когда Юрик в Ереване явился к нему, и вплоть до роковой ночи. Юноша ни словом не обмолвился, что он сын командира, он пошел служить бойцом, положившись только на собственные способности… Да, это приметы нашего молодого поколения! На примере Юрика многих можно воспитать!
Начинались дождливые октябрьские дни. Врагу удалось закрепиться на берегу Терека и вплотную подойти к Малгобеку. Не останавливаясь перед потерями, генерал Клейст бросал в бой одну за другой свежие мотомеханизированные части. Шли ожесточенные сражения. Дивизии Денисова оказывали упорное сопротивление врагу. Малгобек несколько раз переходил из рук в руки. Но в начале октября под давлением превосходящих сил противника наши войска оставили город. Клейст надеялся, превратив Малгобек в опорный пункт, быстро захватить Грозный с его нефтяными промыслами и пойти на Баку. Денисову вновь пришлось вкусить всю горечь отступления. Он лично побывал в дивизиях, снова проверил позиции и расположил свои части неподалеку от Малгобека, усилив их техникой и держа под постоянной угрозой фашистские войска, захватившие город.
Асканаз тяжело переживал новое отступление. Он переходил от одного окопавшегося взвода к другому, от роты к роте, проверяя новые позиции. Унана Аветисяна он назначил командиром отделения, а Грачика Саруханяна взял в штаб полка. Во время последних боев Грачик проявил отвагу и находчивость и вывел из строя два фашистских танка. В дни отхода Асканаз отметил, с какой быстротой и точностью Грачик выполнял приказы командования.
Составив рапорт о положении полка, Асканаз приказал Саруханяну лично доставить пакет в штаб дивизии и дал ему еще несколько поручений. Сопровождающим Грачик взял Тартаренца, которого это очень обрадовало: ему ужасно хотелось потолковать о тревожащих его вопросах, а повода все не представлялось. Однако, от полка до штаба дивизии их подвезли на попутном грузовике, так что Тартаренцу так и не удалось поговорить по душам с Грачиком.
Время близилось к полудню, когда Грачик, выполнив поручения командира полка, возвращался с Тартаренцем. Они шли пешком. Тартаренц искоса поглядывал на новые нашивки Саруханяна, негодуя в душе: «И этот вперед вылез, новый начальник на мою голову объявился! В Ереване небось болтал об Ашхен, обещал мне быть хорошим другом… Посмотрим, сдержит ли он свое обещание…»
— Шагай быстрее, Тартаренц! — вдруг воскликнул Саруханян, ускоряя шаги. — Не слышишь, что ли, на нашем участке усилился огонь.
— Уф… — пропыхтел Тартаренц и мысленно добавил: «Как будто нельзя было придумать что-нибудь и не являться сегодня в часть… И как официально разговаривает, сказать ничего нельзя… Беги, миленький, беги, как бы не опоздать в гости на плов!.. Вон, приготовили тебе, угощайся на здоровье!»
Повинуясь окрику, он ускорил шаги, но сделал попытку перейти на фамильярный тон:
— Да не спеши ты так, товарищ Грачик, ногу подвернешь! Как попал я на фронт, дня без пальбы не было. И откуда ты знаешь, что на нашем участке? Да вот и перестали!
— Перестали — снова начнут… А ты или отстаешь, или выскакиваешь вперед, где не нужно. Вот и в тот день начал палить некстати. Если бы не Гарсеван, окончательно осрамил бы роту!
— Эх, не говори ты мне про Гарсевана… Заел он меня совсем, Грачик-джан…
— Гарсеван — чудесный человек, им вся Армения гордится!
— Ладно уж! Благодаря моей Ашхен из бессловесного чурбана человеком стал, а теперь меня ни во что не ставит!
— Не правильно ты говоришь, Тартаренц! Гарсеван суров и требователен, но он не дает никакой поблажки и себе. По-твоему, дружба в том, чтобы он каждому говорил: береги, мол, шкуру, или чтобы прощал ошибку? Пойми, Тартаренц, ты же на фронте, перед тобой враг стоит! Нельзя же по-домашнему себя вести. Если тебя не подтянуть, весь полк пострадает… Люди жизнью жертвуют ради своего полка! Вот узнал историю нашего Юрика? Такой молодой — и какая душа!..
— Ну что ж, разные бывают люди.
— Я о том говорю, что с чистой душой воевать надо! Вот как Юрик! И вообще хорошие у нас парни — и Игнат, и Унан, и Абдул…
— Ты от Рузан своей письма получаешь? — решил переменить тему Тартаренц. — Ашхен просто в восторге была от нее! Эх, узнать бы, вспоминают ли они о нас или уже забыли?
— И как у тебя поворачивается язык! Забыли!.. Да Рузан моя меня, наверно, и во сне и наяву видит. И она и мать все время мне пишут. И такие хорошие письма! А мать недавно написала: сообщи, говорит, подробный адрес, приеду повидаться с тобой, стосковалась очень!..
— Ну, это мать, а жене такая вещь и не придет в голову.
— Уж тебе-то жаловаться стыдно. У кого такая жена, как Ашхен, должен себя самым счастливым человеком считать! Когда мы про нее заговорим — и я, и Гарсеван, и все, кто в госпитале лежал, — чуть ли не фуражки с головы снимаем.
— А на кой мне это черт, если она будет там бог знает с кем путаться.
— Эй ты, брось гадости о ней говорить! — гневно воскликнул Грачик.
— Ого, этого еще не хватало! О собственной жене не смей говорить! Во-первых, ничего особенного я не сказал, а во-вторых, если она с вами хорошо обращалась, это я ее воспитал! Вот иди после этого, воспитывай жену, чтобы она другим добро делала, а какие-то Гарсеваны будут грозить на месте укокошить… Нечего сказать, хорошенькая история!
До расположения полка оставалось еще пройти около двух километров по холмистой равнине. Услышав гудение моторов, Грачик насторожился.
— Это немецкие бомбардировщики… серьезное дело затевается. И летят под охраной истребителей!.. — обернувшись, Грачик с тревогой сказал: — А где же наши летчики — Мкртумян, Алексеев?..
Он еще не успел закончить, как в небе показалась эскадрилья самолетов с красными звездами на крыльях: первая тройка истребителей, вторая, третья… Как жаль, что Грачик не знает, кто эти летчики! Он с восторгом следил за тем, как они вклинились в строй немецких бомбовозов и смело вступили в бой с самолетами сопровождения. Один из советских истребителей завязал бой почти над головами Грачика и Тартаренца. Испуганный Тартаренц отбежал и упал плашмя на землю за ближайшим холмиком.
— Ложись, Саруханян!.. Ложись, говорю тебе, не торчи на виду! — вопил он.
— Брось, пожалуйста, когда еще доведется такое увидеть?.. Вот так, поливай его огнем, умереть мне за тебя!.. Ой, жаль, выскользнул проклятый…
— Убьют тебя, ложись, говорю тебе! — продолжал кричать Тартаренц.
— Какое там убьют! Фашист сейчас за свою шкуру дрожит, ему не до нас!
— Так ведь пуле все равно, в кого ей попасть, — прошьет тебя, тогда иди разбирайся… Ну что за упрямая башка! Не боишься, что ли, что убьют — и конец тебе? А что я начальству буду отвечать? Оно же ни с чем не считается! Скажут: а ты где был, почему его не спас? С меня ведь ответ за твою шкуру спросят, пойми ты это!
Грачик слышал, но уже не обращал внимания на выкрики Тартаренца. Он весь был поглощен воздушным боем, то ликовал, то огорчался, смотря по тому, какая из сторон брала верх. Уже заметно было, что фашисты не прочь повернуть оглобли.
— Ага, оседлали тебя сверху!.. А ну, еще… дай ему, дай!
В тот самый момент фашистский истребитель, потеряв управление, метнулся вперед, затем, окутавшись черным дымом, перевернулся через крыло и грохнулся наземь. Послышался взрыв, и к небу взметнулся огненный столб. Остальные самолеты противника, вышли из боя и скрылись.
— Эй ты, дурной! — пренебрежительно прикрикнул Грачик, рывком поднимая с земли побледневшего Тартаренца. — Да как же ты такой картины не посмотрел?
— Влепили бы тебе парочку пуль, вот тогда спросил бы я тебя, какой ты картиной любовался!
— Ладно, ладно, оторвись ты от холма, идем уж!
Добравшись до штаба полка, Саруханян отправился к командиру на доклад. Тартаренц уже собирался вернуться в батальон, когда ему велели зайти к комиссару за газетами для подразделения. Тартаренц рад был случаю поговорить с Берберяном, узнать, как он настроен. Обрадовало его и то, что слова Саруханяна не оправдались — в этот день на участке полка никаких столкновений не происходило. Занявшие новые позиции противники лишь прощупывали друг друга.
В землянке комиссара дежурный боец вручил Тартаренцу газеты и сказал, что он может отправляться в батальон.
— Я хочу видеть комиссара.
— А зачем он тебе? Передай газеты, тебе это поручили. А комиссар занят сейчас.
— Да я же из дивизии… — замялся Тартаренц. Ему хотелось сказать, что он пришел из штаба дивизии, у него есть важные сведения для комиссара. Но боец мог передать его слова комиссару, а Тартаренцу сообщить было нечего. — Ну ладно, в другой раз! — пробормотал он и, взяв подмышку пачку газет, вышел из землянки.
Вдруг он вспомнил, что так и не успел поговорить с Саруханяном. Нужно отыскать его и попытаться вызвать его сочувствие.
— Слушай, Грачик-джан, — заговорил Тартаренц, — ты так и не посоветовал, что же мне делать с этим Гарсеваном. Увлекся воздушным боем и даже не дослушал меня… А ведь он мне грозит… и знаешь чем? Грозит расстрелять меня! К кому же мне обратиться с жалобой?
Саруханян уже не стал церемониться с Тартаренцем.
— На строгость командира нельзя жаловаться. Вместо того чтобы задуматься над тем, почему так строго относится к тебе Даниэлян, ты бегаешь и расспрашиваешь, кому пожаловаться на него! Жалуйся сам на себя, если уж хочешь непременно жаловаться, и постарайся быть хорошим бойцом. Приказ начальника — это закон! Ты должен хорошенько усвоить это, понял?
— Есть такое дело: приказ начальника — закон! — поспешил повторить Тартаренц, понимая, что ему нет смысла вступать в пререкания с Саруханяном.
Зажав подмышкой пачку газет, Тартаренц брел по полю, недовольно бормоча: «Нет, хорошее отношение здесь как-то странно выражается: все почему-то хотят, чтобы ты смерти не боялся!.. И почему у всех создалось такое плохое мнение обо мне? Ах ты, бесценный мой Артем Арзасович, верный мой друг и товарищ, где ты, где? Вот кто подал бы мне дельный совет! Интересно знать, чем он сейчас занят… И жулик же он, — как ловко добился того, чтобы его оставили в тылу! И все твердил, что очень уважает Ашхен… а та и смотреть на него не хотела. Хотя… это при мне, а теперь?..»
Так и не придя ни к какому заключению, Тартаренц добрался до батальона.
За последние дни в результате многочисленных мелких стычек Асканаз Араратян и командир действовавшей против его полка новой германской части успели составить мнение о силах друг друга. На правом фланге гитлеровцы сумели закрепиться на небольшой высоте, откуда могли серьезно вредить полку. Асканаз решил во что бы то ни стало овладеть высотой, которая была известна под условным наименованием «Лысой»: с четырех сторон поросшая кустарником и деревьями, она и впрямь была увенчана на вершине гладкой каменистой площадкой.
Артиллерия метким навесным огнем обеспечивала продвижение роты Гарсевана Даниэляна к высоте. Хотя две огневые точки неприятеля были выведены из строя, остальные продолжали поливать огнем наступающих. Впереди штурмующей роты, бойцы которой вооружены были автоматами и гранатами, полз со своим отделением Унан Аветисян. Отделение Игната ползком продвигалось с другой стороны. Для того чтобы облегчить захват высоты, Остужко бросил другие роты в обход врагу. Этот неожиданный маневр привел в такое смятение гитлеровцев, что их командование вынуждено было бросить для защиты окопов на этом участке свежий батальон. Но к тому времени Унан со своим неразлучным побратимом Абдулом, Вахрамом и другими бойцами своего отделения уже добрался ползком до площадки на Лысой. Вслед за ними бойцы пулеметного расчета, во главе с Габриэлом и Ара, подтаскивали замаскированный станковый пулемет.
Унан подбирался все ближе к площадке. Он с удовлетворением прислушивался к усиливавшейся справа и слева стрельбе, различая в шуме боя звуки родного оружия.
— Ну, ну, ребята, еще немного! — подбадривал он бойцов. — Смотрите, несколько точек уже уничтожено нашей артиллерией! Готовьте гранаты! — И когда они проползли еще несколько метров, Унан скомандовал: — Кидай гранаты!
Несколько связок гранат разорвались на площадке. Две-три минуты ничего нельзя было различить из-за нависшей над ней густой пыли.
— Подносите гранаты! — крикнул Унан, оборачиваясь назад к подносчикам боеприпасов. Выхватив несколько связок у подбежавшего бойца, Унан распорядился: — Быстрей, поднеси и всем остальным! — и, словно припомнив что-то, с раздражением спросил: — А где же твой напарник Тартаренц, почему ты все время один?
Озабоченный исходом штурма, Унан не расслышал ответа бойца, который поспешил назад за дисками для пулемета и автоматов.
Унан приказал бойцам подползти еще на несколько метров к площадке, опутанной в несколько рядов колючей проволокой, и каждому кинуть по две связки гранат: одну — на площадку, другую — на противоположный склон высоты. Снова оглушающий грохот, снова непроницаемая завеса пыли.
— Станковый пулемет вперед!
Габриэл с бойцами своего расчета быстро подтащил пулемет и вслед за Унаном пробрался к колючему ограждению. Под прикрытием густой пыли Габриэл удобно расположился с пулеметом в каменистой впадине. Едва улеглась пыль и появилась возможность разглядеть противника, заговорил пулемет Габриэла. Взвод гитлеровцев, вооруженных гранатами и поспешно карабкавшихся на высоту, откатился назад. Отделение Унана стало полным хозяином Лысой. Узнав об этом, Остужко приказал роте Гарсевана подняться на высоту и занять на ней удобные позиции.
Когда Остужко доложил о занятии высоты, Асканаз сказал ему по телефону:
— Объявите благодарность бойцам. Сообщите также, что действующая от нас справа дивизия полковника Иванова не только отбила все атаки неприятеля, но и заняла несколько населенных пунктов. В одной только стычке они уничтожили триста пятьдесят гитлеровцев. Сейчас сообщу соседу о вашем успехе.
Остужко передал Гарсевану благодарность командования и известие об успехе соседней дивизии. Гарсеван был очень обрадован, но с огорчением доложил, что осколком фашистской мины ранен Унан Аветисян.
— Немедленно доставить в санчасть! — распорядился Остужко. — Укрепите позиции, помните — противник взбешен взятием Лысой. Он сегодня же может предпринять попытку вновь захватить высоту.
Склоны высоты и площадка наверху были усеяны изуродованными трупами фашистских солдат. В отделении Унана были убиты двое. Сам Унан был ранен уже тогда, когда не только его отделение, но и вся рота успела укрепиться на высоте. Заметив упавшего Унана, Абдул подбежал к нему и увидел, что левое предплечье и левый бок его залиты кровью, но раненый выглядел бодро. Успокоенный этим Абдул выхватил бинт и наскоро перевязал Унану раны.
Грохот боя не умолкал. Нахмурившийся Унан обернулся к Абдулу:
— Хватит тебе возиться со мной! Иди возьми на себя командование отделением, а я и сам доберусь до санитаров.
Возражать не приходилось. Абдул, получив указание, побежал выполнять его. Унан, сжимая автомат в здоровой руке, ползком направился в тыл. Вскоре он наткнулся на бездыханное тело одного из бойцов своего отделения, широкоплечего колхозника, уроженца Узунлара: Мацак лежал на спине, глядя широко открытыми глазами в небо. Опустив автомат на землю, Унан ощупал лицо Мацака: оно остывало под его рукой. Унан благоговейно закрыл глаза убитому товарищу и вновь пополз по направлению к тылу.
Сновавшие по склону высоты санитары в первую очередь укладывали на носилки и доставляли в санчасть тяжело раненных. Унан чувствовал, что силы его убывают. Кровь из бока и плеча текла не переставая.
Мимо раненых, пригнувшись к земле или ползком, пробирались на передовую линию подносчики боеприпасов.
— Что это, товарищ Унан, вас ранило?
Унан обернулся: говорил Тартаренц.
— Да, но это неважно! Побыстрее доставьте Абдулу и ребятам патроны.
— Так нужно ж вам помочь, вы ведь истекаете кровью!..
— Делайте то, что приказано. Ну, бегом!
Скрипнув зубами, Тартаренц прошел немного вперед, согнувшись чуть не вдвое под тяжестью патронов. Всюду перед глазами — раненые и убитые… Но ведь то же может случиться и с ним!
Тартаренц съежился. Еще несколько десятков шагов — и он будет уже на передовой линии. До сих пор ему удавалось ускользать от обязанности подносить патроны на передний край. Но теперь он не видел выхода. Тартаренц оглянулся назад. Унан медленно брел, направляясь в тыл. Тартаренц решительно повернулся. Неподалеку разорвалась мина. Тартаренца заволокло пылью, он упал; Когда пыль рассеялась, он поискал взглядом и заметал на земле торчащий осколок. Тартаренц взмахнул рукой — из разорванной ладони потекла кровь. Он глубоко вздохнул: «Наконец-то и у меня есть рана…» — и через несколько минут нагнал Унана. Заметив возвращавшегося с передовой линии подносчика, Тартаренц сердито крикнул ему:
— Эй, ты, беги сюда, что ты ползешь, как черепаха!
Унан обернулся и что-то проговорил, увидя Тартаренца.
— Не слышишь? Как тебя там, Мкртыч, что ли? — повысил голос Тартаренц. — Бери патроны, видишь, я… ранен… кровью истекаю… Доставь поскорее нашим товарищам. Эх, если б не эта рана!..
Боец схватил патроны и диски и побежал обратно к высоте. Тартаренц уже смело подошел к Унану.
— Вот видите, совсем ослабели, товарищ Унан! Разрешите мне помочь вам, передайте мне автомат. Рана у меня не такая уж тяжелая. Немного проползем, а там можно подняться — впадина в почве…
— Не надо мне никакой помощи! — резко ответил Унан. — Ни разу я тебя не видел на передовой линии, что это у тебя случилось?..
— Вот и оказывай добро после этого… — пробормотал Тартаренц. «Но уходить от него не стоит…», — подумал он.
— Столько патронов и дисков подбросили туда, хватит до самого вечера. Пусть только перевяжут рану, — если буду в силах, никто меня в санчасти не удержит, уйду на передовую! Но вас оставить я не могу! Где это слыхано, чтоб не помочь товарищу в беде?
— Эх ты! — вспылил Унан. — Думаешь, не понимаю, что ты трясешься от страха? Оставь меня в покое! Вон Марфуша недалеко: освободится — и подойдет ко мне.
— Что хотите говорите, товарищ Унан, я не оставлю вас в таком положении. Оставить раненого, не оказав ему помощи, — это бесчеловечно!
— А оставить сражающихся товарищей без боеприпасов — это человечно? Да ты погляди, погляди, — вон новые фашисты идут в бой, отразить же их надо!..
— Ну и что ж, пусть себе идут, найдется, кому их отразить! Уж если тебя ранило, веди себя как раненый!.. — невозмутимо отозвался Тартаренц.
Пока он пререкался с Унаном, почти рядом разорвалась новая мина. Взметнулась земля, и рыхлый пласт накрыл обоих. Тартаренц встряхнулся и, показывая на руку, так же залитую кровью, как и у Унана, с упреком проговорил:
— Ну вот, меня опять ранило! Теперь неизвестно, выживу или нет! О-ох! — и он тяжело застонал.
Но Унану было не до разговоров: удар земляной глыбы ошеломил его, он лишь смутно слышал Тартаренца, передвигаться он уже не мог и позволил Тартаренцу отвести себя в санчасть.
Глава четвертая
ШОГАКАТ-МАЙРИК ЗАЩИЩАЕТ ЧЕСТЬ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Заргаров долгое время не мог забыть оскорбления, нанесенного ему Ашхен. При воспоминании о пощечинах лицо у него начинало гореть. В бессильном возмущении он несколько раз подходил к госпиталю в надежде встретить Ашхен и поговорить с ней. Но Ашхен упорно избегала его, Заргаров нигде и никому из знакомых и словом не обмолвился о том, как оскорбительно отнеслась к нему Ашхен. Хотя после знакомства с ней он по-прежнему был приветлив с Еленой, но та видела, что Заргаров уже не так настойчиво стремится к встречам с нею. Они работали в одном учреждении, и при встречах с ней Заргаров принимал страшно озабоченный вид и притворялся занятым. Елена ничем не выдавала, что ее задевает невнимание Заргарова.
От Зохраба по-прежнему не было никаких вестей, но тревога Елены значительно уменьшилась после того, как она начала регулярно получать от Асканаза дружеские письма, не говоря уже о том, что деверь сопровождал их довольно значительными денежными переводами.
Неожиданно для Елены Заргаров появился у нее в один из сентябрьских вечеров.
Закончив работу по дому и уложив Зефиру, Елена внимательно оглядывала себя перед зеркалом, любуясь своей стройной фигурой в новом облегающем темном платье. Но чего-то ей не хватало. Ее томило чувство одиночества, однако Елена и сама не смогла бы в эту минуту сказать, чего ей хочется.
Поздоровавшись с Заргаровым, Елена быстро проверила светомаскировку, зажгла лампочку и уселась за стол почти рядом с гостем. Разговор перескакивал с одной темы на другую. После нескольких неопределенных слов о ходе военных действий хозяйка и гость поговорили о видах на новый урожай, о хлебных карточках и других житейских вопросах.
— А ты зачем явился ко мне с забинтованным пальцем? — с улыбкой спросила Елена.
— Да так, в привычку вошло.
— Ты помнишь, как я тебя защищала на обеде у Вртанеса, выдумала, будто ты трактористу помогал. А ты взял и сам себя выдал!
— Как это?
— Оказывается, Ашхен заметила, что у тебя шесть пальцев на одной руке, и сказала об этом своим знакомым…
— Прошу тебя, не упоминай при мне ее имени!
— Но ты, кажется, ею увлекался?..
— Дорогая Елена, я просто хотел оказать услугу жене товарища. Уезжая, Тартаренц просил меня не забывать ее, помогать чем могу. А ты же знаешь, что я готов душу отдать за товарища… Но ты как будто намекаешь на что-то?.. — и Заргаров невольно провел рукой по лицу, как бы стараясь стереть следы, которые могли остаться от пощечины Ашхен.
— Ну хорошо, не будем говорить об Ашхен, — равнодушно произнесла Елена.
— Конечно, Елена-джан. Разве я могу думать о ком-либо другом, после того как познакомился с тобой?
— Ого!.. — недоверчиво протянула Елена, хотя заметно было, что слова Заргарова польстили ей. — Если это действительно так, сделай себе операцию, пускай тебе снимут лишний палец!
— Боюсь, Елена-джан, как бы не было заражения крови…
— Нашел чего бояться! Люди не боятся, когда им руку или ногу оперируют на фронте, что же может случиться с тобой здесь, в мирных условиях?
— Твое слово — закон для меня, Елена-джан.
Заргаров понял, что Елена ничего не имеет против его посещений. Через несколько дней он снова зашел к Елене и на этот раз заговорил уже более определенно:
— Эх, Елена, кто знает, когда кончится война… Уже больше года я не знаю ни сна, ни отдыха. Конечно, работа своим чередом, но ведь нужно и развлечься иногда. Сколько раз хотел зайти к тебе, но все как-то не решался…
— Вот и я — иногда просто места себе не нахожу! Придешь домой, присмотришь за ребенком, похозяйничаешь, — смотришь, и день пролетел! Ох, хоть бы скорей кончилась война! Уходит ведь жизнь…
— Да, да, ты это правильно сказала, Елена-джан; жизнь-то всего одна. Вот я тоже. Прихожу усталый домой. Не успеешь войти, уже по телефону трезвонят: скорей, мол Артем Арзасович, подкинь продукты в столовую такого-то завода или немедленно доставь госпиталю масло и фрукты… Целый день на службе только этим и занят, и дома ни минутки отдыха не дают. А то ошарашат тебя: отправляйся в такой-то колхоз с докладом!..
— Да уж этими поручениями замучили вас… — с сочувствием отозвалась Елена.
— А кого это заботит? Хоть умри, а выполняй!
В следующий раз Заргаров пришел с пакетами и вручил их Елене, распространяясь о том, что давно интересуется ею, но дела не позволяли думать о личном. Однако теперь он чувствует, что дружеская близость с Еленой ему необходима как воздух.
— Елена… — продолжал он горестно, — нет у меня личного счастья! Если б ты только знала, как мне тяжело… Моя жена… — Но тут Заргаров заметил, что Елена нахмурилась, и торопливо продолжал: — Долгое время не решался я заговорить с тобой, но больше не могу! Знай же, знай: моя избранница — это ты! Каждый раз при виде тебя я проклинал свою судьбу, которая не дала мне встретиться с тобой хотя бы десять лет назад!
— Ну ладно, перестань! — засмеялась Елена, хотя в душе была польщена. Преодолевая какую-то неловкость, она спросила: — Говоришь, что ты несчастлив, а почему? Ведь жена у тебя хорошая и, говорят, ответственный работник!
— Так-то так, но…
— А я слышала, что вы очень дружно живете.
— Не будем говорить об этом.
— Точно так же могу и я тебе надоесть.
— Ну, как у тебя поворачивается язык, Елена! — с укором произнес Заргаров. Он видел, что дело складывается в его пользу, Елена держала себя не так, как Ашхен. И он с жаром продолжал: — Как ты решаешься сравнивать ее с собой! Да она… малокультурная женщина, не понимает моих запросов… Елена, бесценная моя, когда я бываю с тобой, весь мир мне кажется иным!..
После нескольких минут восторженных излияний Заргаров принял подавленный и угнетенный вид.
— У нас все же не умеют ценить людей. Вот прошлый раз прочел я доклад в Канакире… Доклад не плохой. Недаром же занимался одно время историей… И вот, представь, вчера мне говорят, что какой-то молокосос на меня заявление написал: не понравилось ему, что я рассказывал, как армянский народ боролся против иноземных захватчиков под руководством уроженца Канакира Агаси!
— Но почему? — удивилась Елена. — Это герой романа «Раны Армении», не правда ли? Агаси боролся ведь против персидских поработителей?
— Вот, вот, видишь, ты правильно меня поняла! А этот молокосос пишет в своем заявлении, что, мол, докладчик не отличает исторических деятелей от героев романа… Пошел я к своему приятелю Гаспару Гаспаровичу, говорю: «Вот что, братец, я же делал доклад по твоим тезисам; если в них есть ошибка, грех пополам». А он взбесился! Говорит: «Ты всегда перепутаешь, я, мол, указывал тебе на Агаси как на пример из художественной литературы, а не историческое лицо…» И еще что-то плел, словно я ему первоклассник какой-то. Этот Гаспар Гаспарович страшно зазнался с тех пор, как большой пост получил, никаких возражений не терпит! Досада меня взяла, я и заявил ему: отказываюсь, мол, впредь от всяких докладов, с меня хватит! Ну, а в нашем учреждении — сама знаешь, — как со мной считаются. Если бы не я…
— Ну, как же! И что тебе до этих докладов? Пускай другие мучаются.
— Но оставим все это к черту! Елена, пойми же, не могу я без тебя, душу готов отдать за тебя!..
И у Елены не хватило силы воли устоять перед напором Заргарова. Она устала от одиночества, ей надоели лишения, и она уступила человеку, который клялся ей в своей любви.
Заргаров стал постоянным посетителем в ее доме.
…Через некоторое время до слуха Шогакат-майрик дошло, что какой-то Заргаров находится в близких отношениях с ее невесткой. Шогакат-майрик узнала об этом днем. Она тотчас же ушла от Седы и побежала к себе домой. Вошла в комнату: все было в ней как обычно. Она хотела успокоиться, села вязать носок, но клубок куда-то закатился, затерялась одна из спиц. Решила приготовить себе что-нибудь на обед — не нашла спичек. Хотела прилечь на тахте, чтобы успокоиться, но что-то душило ее, казалось, что не хватает воздуха, и она непрестанно то распахивала окно и дверь, то снова закрывала их. Тянулись тяжелые часы ожидания, пока наконец наступил вечер. Шогакат-майрик достала какой-то сверток из сундука, положила в карман и, прочив обыкновения никому ничего не сказав, поспешила к Елене.
Она постучала в дверь, назвала себя. Ей тотчас открыли, но Шогакат-майрик показалось, что невестка встретила ее без особой радости. Шогакат взглянула невестке в лицо и без обычного поцелуя прошла из коридора в комнату. Она вздрогнула, увидев Заргарова, стоявшего около окна. Он внимательно рассматривал вышитые занавески, потерявшие нарядный вид оттого, что за ними прямо на стекла были наклеены плотные листы черной маскировочной бумаги. Услышав шаги Шогакат-майрик, он повернул голову, слегка кивнул и продолжал с тем же вниманием рассматривать вышивку на занавеси. Шогакат-майрик не спросила о здоровье Зефиры, которая уже лежала в своей кроватке, не спросила о самочувствии Елены. Как могла думать или говорить о чем-нибудь Шогакат-майрик, когда перед ее глазами стоял Заргаров?
По измученному лицу Шогакат-майрик было видно, что она с трудом сдерживает гнев. Никто не решался заговорить. Елена тревожно ходила по комнате, не зная, как выйти из неловкого положения. Она не смела предложить Заргарову сесть, встревоженная странным поведением и гневным выражением лица свекрови. Может быть, та хочет сообщить ей что-нибудь необычное и не решается в присутствии постороннего человека? Елене и в голову не приходило, что вынудило Шогакат-майрик зайти к ней так неожиданно. Ей было неприятно, что свекровь застала у нее Заргарова. Заргаров почувствовал себя лишним и самым официальным тоном обратился к Елене:
— Значит, так: вы составите мне эти отношения. Утром я приду на работу раньше обычного, посмотрю, подпишу, и вы тотчас же отправите. Вы уж простите меня за то, что потревожил вас, но дело очень срочное…
Шогакат повяла, что все это выдумано для того, чтобы отвлечь ее подозрения. Тотчас же после ухода Заргарова она достала из кармана платок, развязала его и вынула несколько сторублевок. Выложив их на стол, она холодно проговорила:
— Вот возьми. Прятала на черный день, но теперь мне ничего не надо: и Асканаз мне посылает, и Седа каждый кусок со мной делит.
— Но, майрик-джан… — замялась Елена, — теперь и я на нуждаюсь: получаю зарплату, и Асканаз мне помогает.
— Я знаю, но, может, не хватает тебе? Я и подумала: женщина молодая, да и ребенок у нее…
— Спасибо тебе, майрик-джан.
— За что ты меня благодаришь и на что мне твоя благодарность?! — резко остановила ее Шогакат. — Ты бы меня спросила: а я-то тебе благодарна?
Елена глубоко уважала Шогакат-майрик, которая никогда не пыталась вмешиваться в семейную жизнь сыновей и ограничивать самостоятельность невесток. Со смущением поняв смысл ее слов, она сдержала себя, мягко ответила:
— Да успокойся, мама-джан. Ты лучше скажи, есть ли у тебя новая весточка от Ара? Вот и Асканаз ни слова не написал о Зохрабе. Мучаешься ты за всех…
— Лишние слова, Елена. Я тебе прямо скажу: мне причинила бы меньшее мучение плохая весть с фронта, чем причиняет та позорная весть, которая гуляет в городе относительно твоего поведения… Как ты решаешься принимать у себя этого негодяя?
— Мать!..
— Да какая я тебе мать?!
Елена закрыла лицо руками и разрыдалась.
Шогакат склонилась над кроваткой Зефиры, несколько мгновений с нежностью смотрела на лицо спящей внучки, поцеловала выпроставшуюся из-под одеяла ручку и молча подошла к Елене. Переборов волнение, она снова заговорила:
— В тот день, когда я услышала голос Асканаза, приносившего присягу, мне казалось, что я самая счастливая из матерей… Знала, что все мои четыре сына защищают честь родного очага. Волновалась за Ара, а он мне недавно написал: «Не беспокойся, мама-джан, не отстаю я от товарищей, и днем и ночью сражаюсь с врагом». Понимаю я, что хотел сказать мой мальчик… Вот и в газете написали о них, Седа мне показала, считают их «гордостью родного края». Конечно, молодость — хорошая вещь, но честь выше всего, поверь мне, Елена! Веди себя так, чтобы никто не мог сказать худого слова о тебе, о нашей семье!
Елена вытерла слезы, с трудом произнесла:
— Майрик-джан, неужели ты думаешь, что я не горжусь Асканазом, Вртанесом, Ара?.. Я уверена, что и мои Зохраб отличился на войне и что я могу гордиться им.
— Вот и веди себя так, чтобы быть достойной его!
Елена пристально взглянула на Шогакат-майрик, вгляделась, и ей показалось, что она до сих пор не знала этой женщины, сидевшей рядом. В ней как бы воплотились те священные чувства, которые владели людьми в дни войны. В ее взгляде Елена читала и любовь, и тоску, и справедливый гнев.
Шогакат-майрик поняла, что происходит в душе невестки. Она долго и задушевно говорила с ней и, лишь убедившись, что невестка одумалась, сдалась на просьбы Елены остаться, ночевать у нее. «Страдания послужат ей на пользу…» — решила умудренная годами женщина.
Глава пятая
АШХЕН
Ашхен только что вернулась домой из госпиталя. Настроение у нее было подавленное. По дороге она забегала к Шогакат-майрик, и та откровенно рассказала ей о своей беседе с Еленой и о том, как она возмущена поведением Заргарова. Ашхен старалась уверить ее, что Елена примет во внимание советы свекрови. Она обещала при первом удобном случае поговорить с Еленой.
Но в этот день Ашхен сама была сильно взволнована и не могла долго оставаться у Шогакат-майрик. Приведя ребенка из яслей, она накормила его и уложила спать раньше обычного: ей хотелось еще раз внимательно перечитать письмо Тартаренца, которое ей вручили перед уходом из госпиталя. Лампочка под голубым абажуром освещала Ашхен, лицо ее выражало удивление и недоверие. Губы чуть слышно шептали: «Если это действительно так, то, значит, произошло чудо…» Удивление ее было вызвано письмом мужа. Вот что писал Тартаренц:
«Бесценная моя Ашхен, хочу тебе сообщить, что твое имя так же известно в нашей части, как имя героя. И это заставило меня совершать подвиги. Я помню твой наказ — так сражаться, чтобы ты имела право гордиться мной. Так вот расскажу тебе несколько случаев, а ты уж суди сама… Идет бой… Враг осыпает нас огненным градом. Подступают танки (ах, если б ты знала, что это за ужас!), но у меня в руке петеэр, я спокоен. Даю танку подойти совсем близко и открываю огонь! Танк остается на месте. Если б мои товарищи действовали так же хладнокровно, все было б прекрасно! Но не каждый же умеет владеть собой… А после сражения Гарсеван похлопал меня по плечу и говорит: «Вот боец так боец, понимаю!..» Ну, сама знаешь, что он за человек, — так расхвалил, что просто неловко. В последнем бою ранен был Унан. Я вынес его из огня и доставил в госпиталь… Но… ты только не огорчайся и не пугайся!.. На этот раз и меня ранило. Если останусь жив и мне выпадет счастье увидеться с тобой, буду считать, что исполнились мои заветные желания…»
После нежных излияний следовала подпись Тартаренца.
— Если бы хоть половина этого была правдой!.. — невольно вырвалось у Ашхен. Она встала с места, несколько раз беспокойно прошлась по комнате. «А если все это не правда, а только фантазия? Что ж, пусть это будет хотя бы мечтой, лишь бы он нашел в себе силы осуществить ее!»
Эти мысли целую неделю тревожили Ашхен. Получив письмо от Гарсевана и Берберяна, она внимательно вчитывалась в каждую строчку, желая найти в них хотя бы намек на упоминаемые Тартаренцем события. Но в их письмах не было ни одного слова о них.
Ашхен никому не показала письмо мужа, так как вообще не имела привычки читать другим его письма, хотя часто корреспонденты газет просили у нее письма фронтовиков (всем было известно, что покинувшие госпиталь бойцы переписывались с ней).
В воскресный вечер Ашхен лежала на кровати, уложив Тиграника рядом с собой. Она рассказывала ему об отце, который сражается со злыми фашистами, сказки о воробушках и котятах, и под ее рассказы Тиграник незаметно уснул. Ашхен взяла со столика газету и стала просматривать сообщения Совинформбюро. В газете писали об «упорных оборонительных боях на Кавказском фронте…» Стоял конец октября.
Ашхен прочитала о том, как снайперы на одном из участков фронта прицельным огнем уничтожили 126 гитлеровских солдат и офицеров; о том, что «их пример воодушевляет других бойцов…» А как же Тартаренц? Ашхен еще не решила, что она ответит мужу. Он сообщает, что был ранен. По какому же адресу писать ему, почему он не указал? Тревога Ашхен росла. Когда она еще получит новое письмо?.. Отложив газету, она потушила лампу и натянула одеяло повыше.
Через час Ашхен уже крепко спала. Под утро в дверь постучали. Но Ашхен снилось, будто она стоит на какой-то высоте и ей надо спрыгнуть вниз. И вдруг сквозь сон она услышала стук. Она присела, прислушалась. Уже рассветало. Кто бы это мог быть? Стук повторился. Она встала, остановилась на пороге комнаты и спросила: «Кто там?», но неизвестный ничего не ответил, он продолжал настойчиво стучать. Ашхен громко крикнула:
— Все равно не открою, пока не назовете себя!
Из-за двери донесся слабый голос: «Ашхен…»
Это был голос Тартаренца! «Неужели его уже выписали из госпиталя?» — подумала она с неясной тревогой в душе. Ашхен накинула на себя платье.
— Ашхен… — снова окликнул из-за двери Тартаренц на этот раз уже заметно встревоженным голосом.
Выйдя в коридор, Ашхен открыла дверь. Тартаренц быстро вошел. Ашхен повернула выключатель и внимательным взглядом окинула его. Шинель на нем была изрядно потрепана. Топая сапогами, он сделал несколько шагов и остановился. Пилотка сползла назад, он, видно, давно не брился, левый глаз припух. По его нерешительным движениям она поняла, что он чем-то сильно озабочен. Когда Тартаренц, сделав над собой усилие, обнял ее, она с трудом сдержала желание оттолкнуть его.
Он, по-видимому, заранее обдумал, как себя вести: тяжело вздохнув, он притянул ее к себе и прижал ее голову к груди.
— Эх, бессердечная, не понимаешь, что тоска по тебе убивает меня! — пробормотал он, целуя Ашхен в губы и чувствуя, что она не отвечает ему.
Проснулся Тиграник. Тартаренц кинулся к сыну, взял его на руки и начал целовать, нашептывая какие-то ласковые слова. Все еще ошеломленная, Ашхен подошла к нему и спросила:
— Уже вылечился?
— Да, Ашхен-джан, хотел уже здоровым приехать к тебе, я взял отпуск.
— Да?
Это было произнесено с таким недоверием, что Тартаренц обиженно пробормотал:
— Что это, ты как будто не рада мне?
— Не говори глупостей, конечно, рада. Что бы тебе дать поесть?
Тревога Тартаренца как будто улеглась.
— Что же там привередничать? Давай что есть! Думаешь, я не знаю, что сейчас не легко все достается?
Накормив мужа, Ашхен подошла к сидевшему на коленях отца Тигранику, чтобы одеть его.
— Зачем берешь ребенка? — удивился Тартаренц.
— Хочу отвести к Седе. Ты же уйдешь из дому?
— Нет, моя бесценная, я хочу побыть с Тиграником, я так соскучился о нем. А ты возвращайся домой поскорее.
— На сколько дней тебе дали отпуск?
— Ого, уже надоел? Приходи вечером, поговорим.
Ашхен с тревогой в душе ушла в госпиталь.
…Проводив Унана до санбата, Тартаренц сам явился к военврачу. Осмотр показал, что осколок снаряда рикошетом слегка задел правое плечо.
— Ну ладно, нечего стонать! — пристыдила Тартаренца сестра, перевязывавшая ему рану. — Погляди кругом: другие ранены посерьезнее и то не хнычут так…
В санитарном поезде, перебрасывавшем раненых в тыл, каким-то образом оказался и Тартаренц. Он старательно избегал встреч с Унаном. В Тбилиси Тартаренца приняли в один из госпиталей и через несколько дней, как выздоровевшего, выписали, оформив документы для возвращения на фронт. Отстав от группы направлявшихся на фронт бойцов, Тартаренц пробрался в поезд Тбилиси — Ереван. Он надеялся, что Ашхен смягчится при виде раненого мужа-фронтовика и достанет ему какие-нибудь документы, которые избавили бы его от возвращения в полк.
Прием, оказанный ему Ашхен, расхолодил его и вызвал сильное раздражение. И он стал обдумывать, какой бы найти выход.
К вечеру вернулась Ашхен, так и не успевшая принять какое-нибудь решение. Она наскоро приготовила обед, прибрала комнату и раньше времени уложила Тиграника спать. Затем она принялась стирать и штопать. Она невольно обратила внимание на то, что, прежде чем отдать ей гимнастерку, Тартаренц украдкой вынул из кармана какие-то бумаги и переложил их в карман домашней куртки.
Ашхен заговорила с ним о его последнем письме.
— Получила твое письмо. Ты писал о своих подвигах…
— Ну и что же? Кто их ценит? — безнадежно покачал головой Тартаренц.
— Подвиги, совершенные на фронте, всегда отмечаются.
— Эх, Ашхен, не всегда так бывает!
Эти уклончивые ответы вызывали в Ашхен все бо́льшую тревогу. Она долго возилась на кухне, очень устала и, вернувшись в комнату, прилегла на постель. По дыханию мужа она почувствовала, что он не спит. Но о чем ей было говорить с ним? Она догадывалась, что Тартаренц не сказал ей самого главного, что он старается отвлечь ее от расспросов.
Ашхен никому из знакомых не сказала о приезде Тартаренца. Весь следующий день ей нездоровилось, и она раньше обычного вернулась домой из госпиталя. Она видела, что Тартаренц избегает смотреть ей в глаза. Ашхен решила положить конец неопределенности.
— Уже второй день, — начала она, — как ты в городе и ни разу не вышел из дому. Таким легко раненным, как ты, обычно или вовсе не дают отпуск, или, в лучшем случае, дают на два-три дня. Тебе же надо завтра оформить свои документы. Нужно явиться хотя бы для того, чтобы получить паек на дорогу…
Тартаренц почувствовал, что наступила решительная минута, и жалобно взглянул на Ашхен.
— Ашхен-джан, ты захотела, чтобы я пошел на фронт, и я пошел, не правда ли?.. Пойми, ведь я болен!.. Сделай так, чтоб меня приняли в госпиталь… Ведь тебя там любят и ценят…
— Ах, вот что… — с горечью произнесла Ашхен. — Значит… — она страшилась произнести слово, которое вертелось у нее на языке: «Значит, ты дезертир?!»
Всеми силами стараясь сохранить спокойствие, она спросила:
— Покажи, какие у тебя документы?
— Ты считаешь меня настолько чужим, что веришь только документам?
— Ты же хочешь, чтобы тебя снова приняли в госпиталь, а для этого нужны документы. Да и вообще, куда б ты ни пошел, от тебя потребуют документы.
— Возьми, Ашхен-джан, посмотри, сам я ничего в этих бумажках не понимаю, — смиренно согласился Тартаренц.
Ашхен взяла из его рук документы, взглянула на них и бросила такой уничтожающий взгляд на Тартаренца, что он невольно вздрогнул.
— Да, оправдались самые худшие мои опасения… — с горечью сказала Ашхен. — Я тебя проводила на фронт с верой и любовью, простив тебе все, а ты… жалкий дезертир!
— Как ты так выражаешься?!
— Я вижу по этим документам, что ты уже должен находиться в части. Что же ты делаешь здесь? Прикидываешься больным… хочешь, чтобы тебя снова приняли в госпиталь?! Ах ты, ничтожество!
— Почему ты оскорбляешь меня, Ашхен-джан? Ведь я отец твоего ребенка!..
— Я не оскорбляю, а возмущаюсь! Ну, идем… — после недолгого молчания резко и повелительно сказала Ашхен.
— Куда? — испугался Тартаренц.
— В военкомат.
— Что ты! К чему это?
— Хватит! По глупости и доверчивости я два дня фактически скрывала дезертира… Понимаешь ты или нет?! Выходит, я твоя пособница.
— Да что там… Сердца у тебя, что ли, нет? Что же я должен был уехать, не повидав тебя?
— Написал бы — я приехала бы повидаться с тобой!
— Ашхен, душа моя, успокойся же, брось ты этот прокурорский тон, — умолял ее Тартаренц. — Ведь я у тебя совета спрашиваю, — при чем тут дезертирство? Если уж ты употребляешь это слово, что же скажут другие?!. Сегодня же, сейчас же выеду на фронт, лишь бы ты…
— Я?.. — задумалась Ашхен.
Осмелев от минутной нерешительности Ашхен, Тартаренц уже уверенно продолжал:
— И что я сделал такого?.. Честное слово, прямо удивляюсь! Подумать только — спас тяжело раненного, сам был при этом ранен… А ты, моя собственная жена, теперь бросаешь в меня камнем, обзываешь дезертиром!..
— Ты хочешь сказать, что и не думал дезертировать? — с недоверием спросила Ашхен.
— И в мыслях такого не было!.. Посмотрела бы ты на других…
— Оставь эти разговоры о других. Настоящий человек побеждает дурное в себе и поступает так, как велит ему долг.
— Ты говоришь прямо как адвокат… но, к сожалению, всегда во вред мне!
— Во вред тебе?.. О, нет, это ты всегда действуешь во вред себе, ты лишен воли и представления о чести!
— Ну, произнесла приговор, успокоилась теперь? — заискивающе засмеялся Тартаренц.
— Не могу я успокоиться, не могу! Ты лишаешь меня возможности смотреть людям в глаза!
— Ах, Ашхен-джан, ведь все это я делал из любви к тебе, к нашему мальчику…
— Ложь! Ты говорил это и тогда, когда уезжал!
В эту минуту послышался топот детских ног, и Тиграник с криком «мама» вбежал в комнату, очевидно спеша сообщить родителям что-то поразившее его воображение.
Тартаренц обрадовался приходу ребенка. Он схватил Тиграника на руки, начал целовать, повторяя как бы про себя, но достаточно ясно:
— Как же я мог не повидать моего сыночка!
Ашхен молча взяла ребенка, снова отвела его к соседке, о чем-то попросила и тут же вернулась.
Тартаренц, который за это время успел взвесить положение, заискивающе обратился к ней:
— Ашхен-джан, значит, я сейчас же отправляюсь на вокзал и выеду в свою часть…
— Как же ты можешь выехать, не явившись в военкомат?
— Ты заронила во мне сомнение… Ашхен-джан, посмотри еще раз хорошенько мои документы! Ведь я выписан из госпиталя, не так ли? А если и не уехал тотчас же, хотел повидать тебя и Тиграника… Может, ты могла бы… — Тартаренц не докончил свою мысль.
— Если ты уже сознаешь, что твой долг — немедленно выехать на фронт, то вопрос ясен: тебе сделают замечание, но, поскольку у тебя имеется справка из госпиталя…
— Да, да, моя бесценная, так бы и говорила с самого начала! Вот теперь я верю, что ты меня любишь! Ведь я только ради любви к тебе…
Тартаренц явился в военный комиссариат для отметки на документах. Комиссар сурово распек его и включил в группу выписавшихся из госпиталей бойцов, выезжавших на фронт.
В тот же день Ашхен с Тиграником на руках провожала мужа. Ашхен была не одна, — на вокзал приехали Михрдат и Маргарит. Михрдат внимательным взглядом окинул Ашхен и Тартаренца. Под гордой осанкой Ашхен угадывалось скрытое недовольство, у Тартаренца был подавленный и растерянный вид. Михрдат бросил пренебрежительный взгляд на Тартаренца и с досадой пробормотал:
— Попала лань в пасть волку!
Тартаренц и виду не подал, что расслышал эти оскорбительные слова. А Михрдат уже прямо обратился к нему:
— Послушай, дорогой, — серьезно проговорил он. — Ты должен в день по двадцать раз благодарить судьбу за то, что она даровала тебе такого друга жизни. Кто хочет любить, тот прежде всего должен быть отважным. Не слыхал ты, что ли, старой песни: «Эй, юноша, любить ты умеешь, а победить врага сумеешь?..» Нас привела сюда любовь к Ашхен. Узнал я от Маргарит, что Ашхен тебя провожает. Говорю: поедем, пусть не будет одна. Помни, что Ашхен все гордятся, не урони ее чести там!
Ашхен думала, что Маргарит скажет что-нибудь на прощание Тартаренцу, но Маргарит смущенно молчала, едва сдерживая слезы, причину которых не могла бы объяснить и сама.
Ашхен смотрела на Тартаренца, но тот упорно отводил свой взгляд. Все переворачивалось у нее в душе, когда она вспоминала лживое письмо мужа, его неосуществившийся, но вполне обдуманный замысел. Но ведь Тартаренц снова уезжает на фронт! Она сдержалась и сказала только:
— Хочу надеяться, что хоть теперь услышу о тебе утешительные вести… Я буду ждать, но я требую, — слышишь, требую, — чтобы ты выполнил свое обещание!
Тартаренц косо взглянул на жену, твердя в уме: «Знаю я, чего тебе хочется, — чтобы я уехал и не вернулся больше! Ну что ж, радуйся, пока твоя взяла…» Но вслух он ничего не сказал и даже постарался принять внушительный и признательный вид.
— Ну, доброго пути тебе! Желаю тебе возвращения с честью!..
Простившись с Михрдатом, Ашхен попросила Маргарит поехать к ней. Она чувствовала, что ей на этот раз тяжело будет оставаться одной. Сумеет ли он достойно держать себя т а м? А вдруг… Горькие предчувствия сломили ее обычную сдержанность, и, войдя в комнату, она расплакалась.
Маргарит, которая никогда не видела Ашхен плачущей смутилась и испугалась. Но она догадывалась, что эти слезы облегчают душевное состояние Ашхен, что та дает исход своему волнению перед тем, как принять какое-то важное решение.
Глава шестая
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
По дороге на фабрику Михрдат встретил Наапета и узнал от него, что тот приехал в город с Ребекой, чтобы получить полагающиеся колхозу промтовары.
Михрдат в нескольких словах рассказал Наапету о Тартаренце и Ашхен, передал ему ключ от входной двери, а сам отправился принимать смену.
Уже вечерело, когда он возвращался домой по улицам, блестевшим от дождя. Войдя в садик, он равнодушным взглядом окинул фруктовые деревья, ветви которых клонились к земле под тяжестью созревших плодов, словно ожидая, чтобы заботливая рука хозяина собрала урожай.
На пороге дома показался Наапет.
— И глаз уже не радуется… — невесело сказал Михрдат, обращаясь к нему.
— Когда человек остается один, ничто его не радует, — со вздохом отозвался старик.
Они вошли в дом, где их ждала Ребека. Она стала накрывать на стол, попутно расспрашивая Михрдата:
— Как разрешился вопрос с мужем Ашхен?
— Эх, жаль, что она носит имя такого никчемного человеку! — покачал головой Наапет.
Михрдат вкратце рассказал Ребеке обстоятельства приезда и отъезда Тартаренца. Ребека вздохнула — она молча вспоминала своего Аракела. Единственное утешение — весть о муже — ей могло принести письмо Гарсевана. А Гарсеван был далеко, очень далеко от Аракела. Она лишь с сожалением напомнила:
— А как восхищался ею Гарсеван!.. Бедняжка Ашхен попала в руки недостойного человека!
— У Ашхен столько энергии и ума, что она не потеряет головы и с пути не собьется! — подхватил Михрдат, одобрительно поглядывая на Ребеку, которая не только приготовила обед, но и в комнатах успела прибрать.
За обедом Михрдат рассказал о том, что утром к нему приходила Маргарит, которая и после смерти Сатеник иногда навещала его. Она сообщила Михрдату, что отослала уже третье письмо Габриэлу от своего имени (ни она, ни Михрдат не подумали о том, что это может вызвать тревогу у Габриэла). Рассказал он и о том, как узнав о поступке Тартаренца, решил поехать вместе с Маргарит на вокзал, чтобы Ашхен не чувствовала себя одинокой. Выслушав его рассказ, Наапет решил было посетить Ашхен, но потом передумал, заявив, что Ашхен принадлежит к числу женщин, которые не падают духом и в утешениях не нуждаются.
— Ясно — шкуру хотел спасти! — с презрением бросил Наапет, подразумевая Тартаренца.
— Черт побери, а может, из-за раны он так? — предположил Михрдат.
— Э-э, Михрдат, одно дело, когда человек ранен, другое дело, когда он за шкуру свою дрожит.
— Да, сравнить его и Гарсевана, например!
Наапет покачал головой и, словно про себя, задумчиво сказал:
— Как-то раз спросили вашего Давида Сасунского, почему он из каждого боя выходит победителем? А он отвечает: «Да потому, что прежде всего я на силу своей десницы полагаюсь!» Сильна десница у тебя — тогда и враг другом обернется. Так пожелаем же нашим защитникам сил и здоровья!
И долго еще говорил умудренный жизненным опытом старик…
На следующее утро Наапет и Ребека вернулись в село, и Михрдат снова остался один. Почтальон принес письмо от Габриэла. Вначале Михрдат читал с радостью, но потом радость сменилась смущением; сын опять возвращался к тому, о чем писал в двух предыдущих письмах.
«Дорогой отец, — писал Габриэл, — почему ни Маргарит, ни Ашхен уже не пишут мне под диктовку мамы? Не ожидал я этого от них! Ведь я тревожусь! Особенно странное впечатление произвело на меня последнее письмо Маргарит. Она пишет о садах Еревана, о том, что созрел виноград… Все это очень хорошо, но ни слова о маме. За твои советы большое спасибо тебе, отец, но и ты пишешь только: «Помни, что для твоей матери самое главное — чтобы ты был жив-здоров». Это я и сам знаю. Но ведь сколько раз я писал, что хочу читать ее подлинные слова, и до последнего времени Маргарит исполняла мою просьбу. Если же ни Ашхен, ни Маргарит почему-либо под ее диктовку не могут писать, то очень прошу тебя, айрик-джан, сделай это ты».
Письмо заканчивалось словами, которые сильно взволновали Михрдата:
«Я уже начинаю думать, не случилось ли чего-нибудь с мамой и вы все хотите скрыть это от меня. Очень прошу и даже настаиваю, чтобы ты написал мне откровенно. А мы тут… что ж, держимся мы, не даем этим гадам продвинуться вперед…»
Михрдат не помнил себя от волнения. Как, какими словами сообщить Габриэлу о смерти матери? Он понимал, каким ударом это будет для сына. Но ведь еще мучительнее неопределенность!.. Что же делать, кому поручить тягостную миссию? В эти тяжелые для родины дни Габриэл должен был бы получать из дому только, радостные вести. Но какую же радостную весть можно послать теперь?
Михрдату не сиделось на месте. Он вышел из дому, обошел сад, вернулся, обошел все комнаты, заглядывая во все углы. Но затем постарался взять себя в руки и, недовольный своим малодушием, решил: «Довольно колебаться, я должен сам поехать к сыну…»
С этими мыслями Михрдат пошел на фабрику, поработал в ночной смене до рассвета, вернулся домой, попытался заснуть, во не мог. Принятое решение не давало ему покоя. Он встал, оделся и направился в военкомат. Долгое время он в нерешительности бродил перед зданием. Каждый раз, когда он уже собирался войти, что-то останавливало его, и он снова принимался бесцельно бродить по улице.
«Как и какими словами сказать, чтобы не подумали, что я лицемерю, что я просто хочу быть рядом с сыном? Что мне сказать им, если они укажут на мой возраст? Хотя не так уж много пятьдесят три года. Слава богу и зрение у меня в порядке и сила в руках сохранилась… В свое время и в разведку ходил… Э, нет, теперешние люди быстрей и лучше разбираются! Поймут, что я хочу по мере сил послужить родине. А на швейной фабрике обойдутся и без меня… Вот хотя бы Заруи или Газар легко заменят меня…»
Подбодрив себя этими рассуждениями, Михрдат наконец решился и вошел в кабинет военкома. Комиссар покрасневшими от бессонницы глазами устало взглянул на Михрдата и спросил, чем может служить ему.
— Благодарю вас, я ни в чем не нуждаюсь.
— Вот это приятное предисловие! — улыбнулся комиссар. — А то только и слышишь: этому — ордер, тому — продукты, третьему — дрова…
Улыбка комиссара подбодрила Михрдата, и он уже уверенней продолжал:
— Хочу попросить вас, чтобы отправили меня на фронт. Пригожусь. Сын уже сражается и даже получил орден.
Комиссар с минуту молча смотрел на Михрдата, затем начал внимательно расспрашивать о здоровье, о семейном положении. Михрдат видел, что его ответы удовлетворяют комиссара, и это придало ему храбрости.
— Если б я не был уверен, что и т а м буду приносить пользу так же, как приношу здесь, на фабрике, не стал бы беспокоить вас. Только об одном хотел особо попросить: в газетах я часто читал о том, что такие-то братья или такой-то отец и сын служат вместе, в одной и той же части… Так вот и я бы хотел служить в одной части с моим Габриэлом. Даю слово, что ни вы, ни тамошние начальники не будете иметь повода жаловаться на меня!
Комиссар записал все сведения и обещал дать Михрдату ответ завтра же.
— Значит, ответ будет положительный? — с мольбой в голосе спросил Михрдат.
— Надеюсь, — снова улыбнулся комиссар.
Еще один тревожный день! На фабрике заметили, что Михрдат работает с большей энергией, чем обычно, и с еще большим усердием учит своему делу молодых мастеров. На другой день Михрдат не отправился домой после ночной смены, походил по улицам, дожидаясь начала занятий, и с бьющимся сердцем вошел в военкомат. Трудно описать его радость, когда он узнал, что его ходатайство уважено: с первым же отбывающим на фронт пополнением его отправляли бойцом в дивизию Тиросяна.
Михрдат поспешил домой. Походил по комнатам, проверил все. Словно заветную святыню, перенес сундучок Сатеник с вещами Габриэла в самое надежное место. На следующий день он съездил в колхоз и попросил Наапета и Ребеку на денек приехать в город: он решил оставить на их попечение весь дом, за исключением одной комнаты, которую предоставил семье эвакуированных с Кубани.
Решение Михрдата не было неожиданностью для Наапета. Он обнял Михрдата и одобряюще сказал:
— Правильно решил, Михрдат-джан! Вернешься благополучно с сыном, и все будет в порядке! Вы там, а мы здесь будем стараться изо всех сил.
А Ребека просила Михрдата тотчас же сообщить ей письмом, если что-либо выяснится о судьбе Аракела.
На сборном пункте Михрдат познакомился с бойцами, с которыми должен был выехать на фронт. Старшим в группе был молодой сержант. Михрдат очень обрадовался, узнав, что его зовут Унан Аветисян: он много слышал о нем от Наапета и Гарсевана, да и Габриэл часто упоминал о нем в своих письмах. Унан проходил лечение в одном из тбилисских госпиталей и после выписки, получив пятидневный отпуск, приехал на побывку в родное село. Михрдат от души обнял его и стал расспрашивать о фронтовой жизни, о своем сыне к других знакомых бойцах. Когда уже готовились садиться в поезд, подоспела мать Унана. Она долгое время стояла рядом с сыном, что-то говоря ему вполголоса.
Михрдат смотрел то на Ханум, то на Унана и представлял себе то счастливое мгновение, когда он встретится со своим сыном.
Глава седьмая
ЭПОПЕЯ
Асканаз Араратян задумчиво рассматривал карту: он обдумывал план боевых действий полка. Он ходил по землянке, которая была похожа на деревянный шатер. Она была довольно удобной, хотя оконце приходилось очень низко.
После нескольких стычек, во время которых полк Араратяна неизменно отбивал ожесточенные атаки врага, прочно удерживая в своих руках высоту Лысую, вес полка и всей дивизии в целом значительно поднялся в глазах командования. Но самолюбие Асканаза втайне было задето тем, что фашисты по-прежнему считали его участок слабым звеном обороны: не прекращая своих атак, они настойчиво засыпали батальоны листовками. Несколько таких листовок, напечатанных и на русском и на армянском языке, лежало на столе у Асканаза. Те же хвастливые заверения, что Сталинград вскоре падет, те же посулы и обещания, что с добровольно сдавшимися будут обращаться хорошо.
Асканаз гневно смял листовку.
— «Сдавайтесь в плен — и вы будете спасены!» — с насмешкой повторил он вслух и, взяв в руки красный карандаш, сделал несколько пометок на карте. — Пишите себе, пишите, — бумага все стерпит! — Он положил карандаш и вытащил из планшета пачку писем. — Ого, это от Поленова?! — воскликнул он и поспешно вскрыл письмо.
«Здравствуйте, Асканаз Аракелович! Еще в госпитале получил Ваше письмо. Спасибо за память. Сейчас уже здоров. Наш Сталинград — в огне. Днем и ночью в небе вой фашистских стервятников. Мне уже доверили роту. И мы бьем, и нас бьют. Фашисты — в доме номер тринадцать, а я по соседству. Говорят, что тринадцать несчастливая цифра, правда ли это, не знаю. Но во всяком случае мы всей ротой поклялись принести фашистам несчастье, — вот это правда. И принесем! Ну, пока до свидания, примите привет от Вашего Григория Поленова».
Асканаз подумал: «Всего одна стена отделяет их от врага…» Он достал открытку, хотел приняться за ответ, но телефонистка (это была Нина) сообщила, что его вызывает Остужко. Может быть, под впечатлением письма Поленова Асканазу было особенно приятно услышать голос Нины.
Голос командира батальона звучал на этот раз весело. Остужко сообщал, что удалось захватить «длинный язык» (он говорил о захваченном в плен немецком подполковнике). Асканаз приказал немедленно доставить к нему пленного. Он уже положил трубку, когда в землянку вошел Берберян.
Двое бойцов ввели в землянку гитлеровского подполковника. Одежда фашиста, длинный плащ с капюшоном, все было вываляно в грязи. Во время схватки подполковник заупрямился, и Игнату пришлось повозиться с ним.
Пленник откинул плащ, открыв китель, украшенный несколькими фашистскими орденами. Он недобрым взглядом оглядел Асканаза и как будто немного успокоился, заметив, что перед ним стоит равный ему по званию советский командир. По-видимому, фашиста сильно задевало то, что его захватили в плен рядовые бойцы во главе с простым сержантом.
Бросив мимолетный взгляд на Берберяна, он повернулся к Асканазу, поднял два пальца правой руки, поднес их к фуражке и также быстро опустил. То, что Асканаз не предложил ему тотчас сесть, заметно смутило пленного. Асканаз пристально, с головы до ног, оглядел подполковника, медленно взял со стола измятые листовки и перевел с них взгляд на пленного, который, возможно, был одним из авторов формулы о «слабом звене сопротивления», и пренебрежительно бросил листовки на стол.
— Ну, рассказывайте, — приказал Асканаз через переводчика. — Расскажите все, что вы знаете о планах штаба ваших мото-мехчастей, герр Отто Кейслер. Вы знаете, какие данные нам требуются.
Глаза у Кейслера расширились от изумления: он еще не успел назвать себя. До этого он со страхом поглядывал на советских бойцов. Теперь, поняв по тону Асканаза, что его жизни непосредственная опасность не угрожает, он принял надменный вид. Особенно приободрился он после того, как Асканаз предложил ему сесть. Бросив взгляд на переводчика, он заговорил, обдумывая каждое слово:
— Герр подполковник хочет, чтобы я говорил… Пожалуйста! Еще несколько наших ударов — и Сталинград падет. Ну, а насчет Кавказа… уверяю вас, совершенно напрасное упорство… Вам, армянам, в германском рейхе будет обеспечено место, если вы своевременно опомнитесь. Ведь от вашей дивизии скоро и следа не останется!.. И я вам искренне советую…
Асканаз взглянул на часы. Резко, не ожидая, пока переводчик сообщит пленному сказанное им, он прервал Кейслера и решительным тоном сказал по-немецки:
— Прекратите эту болтовню! Требую немедленного ответа о военной технике и плане предстоящих действий. Жду пять минут.
На Отто Кейслера произвело большое впечатление то, что советский командир, армянин, так чисто говорит по-немецки. Решительный тон Асканаза вызвал у него явный страх. Понимая, что упорствовать опасно, он быстро заговорил:
— Две мото-механизированные дивизии из Франции…
— Это старая история. Эти дивизии давно уже разгромлены под Малгобеком. Что-нибудь поновее — и правду, понимаете?!
Кейслер видел, что изворачиваться бесполезно. «Слабое звено сопротивления» оказалось таким же организованным и осведомленным, как и остальные. Он кашлянул, попросил папиросу у Берберяна и, запинаясь, подробно рассказал обо всем, о чем его спрашивал Асканаз.
Асканаз терпеливо слушал пленного, поглядывая на часы. Подходил к концу короткий осенний день. Асканаз велел вызвать Саруханяна и распорядился:
— Отправить пленного под сильным конвоем в штаб армии!
С КП полка Асканаз Араратян уже свыше двух часов руководил разгорающимся сражением. Из батальонов поступали тревожные донесения. Не останавливаясь перед огромными потерями, фашисты бросали в бой все новые и новые части. Высота Лысая уже дважды переходила из рук в руки, и теперь ею снова завладела рота Гарсевана. Особую тревогу внушал Асканазу центральный участок, на котором действовал батальон под командованием совсем недавно назначенного майора Суреняна. В этом батальоне было много новичков, впервые участвовавших в бою. Врагу удалось вытеснить его из передовых окопов. Асканазу пришлось сосредоточить огонь артиллерии на тылах противника, чтобы, подавив большинство его огневых точек, восстановить обороноспособность батальона.
Асканаз сообщил по телефону в дивизию о создавшемся положении и на требование начальника штаба любой ценой удержать в своих руках высоту заверил, что его полк ни на пядь не отступит от занятых позиций. Две роты он держал в резерве: характер боя подсказывал, что в течение дня можно ожидать еще много неприятных сюрпризов.
Асканазу стало известно, что на правом фланге, в окрестностях города Орджоникидзе, противник предпринимает новые и новые атаки, но сопротивление советских войск не позволяет ему завладеть городом, представляющим собой ключ к Закавказью. Асканаз понимал, что прорыв на участке его полка означал бы для противника возможность зайти в тыл защитникам города Орджоникидзе.
С утра моросил мелкий дождик, не прекратившийся и к полудню. Не опуская бинокля, Асканаз осматривал поле боя. Столбы пыли и размельченной земли, вздымаемые снарядами и минами, временами закрывали все поле зрения.
Раздался телефонный звонок, и связной со встревоженным лицом передал трубку Асканазу. Говорил майор Суренян.
— Противник предпринимает новую танковую атаку. У нас вышло из строя шесть бронебойных ружей. В ротах большие потери…
Он перечислил потери в составе и технике и добавил:
— Прошу подкрепления свежей ротой и противотанковым оружием.
Асканаз хотел ему ответить, но заметил, что телефон уже не действует. Не теряя ни минуты, он вызвал Саруханяна и приказал передать командиру резервной роты распоряжение — немедленно отправиться на помощь батальону Суреняна. Группе петеэровцев также было приказано сразу же отправиться на угрожаемый участок. Командиру роту связи Асканаз приказал любой ценой восстановить связь и отправил по батальонам необходимые распоряжения через связных.
Разгорелся один из тех жестоких боев, во время которых нередко теряется различие между передовыми и резервными позициями. Сплошь и рядом бойцы отдельными группами доходили до тылов противника, точно так же как отрядам противника удавалось пробиться в тыл советских войск. Одной такой прорвавшейся группе фашистов удалось перерезать провода, соединяющие КП полка с КП его подразделений. Пока взвод боролся с проникнувшим в тыл противником, несколько отважных связных нащупывали обрывы провода и восстанавливали связь.
Нина, охваченная тревогой, выбежала из блиндажа и присоединилась к группе связных, искавших места повреждения. Заметив среди связных Вахрама, Нина удивилась:
— А ты каким образом очутился здесь? Ведь ночью ты был в батальоне…
— Ого… — отозвался Вахрам, пораженный ее осведомленностью. — А ты откуда знаешь?
— А я многое знаю… да и вижу многое!
Накануне осколком снаряда повредило три пальца на левой руке Вахрама. Но как только сестра перевязала рану и боль немного утихла, Вахрам попросил, чтобы его оставили в части. Он по-прежнему ловко брил бойцов, орудуя правой рукой, а также неповрежденными большим пальцем и мизинцем левой. Сейчас, с катушкой провода на спине и кусачками в руках, он помогал Нине.
— Понимаешь, не хотелось в такой день бездельничать… Ведь Наапет-айрик в госпитале нам рассказывал, что с дьяволом можно отлично справиться… А если эти гады из-под земли выросли, то найдется способ вогнать их в землю!
Часть проникших в тыл фашистских солдат была уничтожена. Но другая группа закрепилась и упорно мешала восстановлению связи. Забрав у Вахрама последний моток, Нина увидела, что провода не хватит.
— Беги принеси!… — крикнула она Вахраму.
Но Вахрам, с сочувствием глядевший на залитое по́том лицо Нины и на ее воспаленные веки, не расслышал ее. Нина повторила свое распоряжение более резким тоном.
— Так это последний моток, больше нет! — с сожалением развел руками Вахрам. Нина нахмурилась, бросила испытующий взгляд вокруг. Справа от нее тянулся ряд столбов с оставшимися проводами. Быстро приняв решение, Нина крепко затянула ремень пояса (она была одета в ватные брюки и гимнастерку) и, попросив у Вахрама нож, начала карабкаться вверх по столбу. Сапоги мешали ей. Кое-как, зацепившись каблуками за столб, она выпростала ноги из широких голенищ и уже быстрее начала подниматься по столбу.
— Ой, умереть мне за тебя! — воскликнул Вахрам. — Как белка карабкается!.. И силы нет у меня в этих раненых пальцах, чтобы на другой столб самому подняться.
В эту минуту в воздухе просвистело несколько одиночных пуль — знак, что стрелял один человек и стрелял прицельно. Но пули отправились «по ягоды», как выразился Вахрам. Однако у него мелькнула тревожная мысль: «А вдруг… подстрелят Нину!.. И я не смогу наладить связь…» Нина словно не понимала, что она является мишенью для вражеского стрелка.
— Обогни столб! — во весь голос крикнул Вахрам. — Ты же вся на виду… Скорей, повернись, столб будет закрывать тебя!
Нина послушалась, но столб все же не полностью прикрывал ее: ноги и руки были видны снайперу. Раздался еще выстрел. Нина была уже наверху — она подсекала и рубила телеграфный провод. Внизу от нетерпения плясал на месте Вахрам. Упал перерубленный конец провода, Вахрам схватился за него и кинулся было бежать к другому столбу, но вдруг остановился: мимо скользившей со столба Нины просвистела еще одна пуля. Нина спрыгнула наземь и побежала к соседнему столбу. Надо было оборвать провод еще с одного-двух столбов, чтобы его хватило. Вахрам обхватил столб руками, попробовал подняться, но боль в раненых пальцах заставила его разжать руки. Глаза наполнились слезами — то ли от боли, то ли от сознания своего бессилия. Нина стала карабкаться на второй столб. На этот раз пуля фашистского стрелка пробила полу ее гимнастерки.
— Ох!.. — вырвалось у Вахрама.
Видя, что Нина упрямо продолжает подниматься, Вахрам в восторге пробормотал: «Ну, можно ли было ждать такой храбрости от женщины?! Вернешься жив-здоров домой, так не сможешь и похвастать перед женщинами… Такой девушке сразу два ордена полагается!» Тут Вахрам вздрогнул: две пули со злобным свистом впились в столб. Вахрам сжал кулаки и воскликнул:
— Хоть бы у этого стрелка сразу оба глаза вылезли!
Нина уже вскарабкалась до верхушки второго столба и, изо всей силы налегая на нож, резала провод. Через несколько минут конец провода упал вниз.
— Отвела, что ли, фашистам глаза эта девушка? Сколько раз стреляли, и все мимо или в столб попадают! — в восхищении приговаривал Вахрам, видя, что Нина скользит уже вниз.
Дело было, конечно, не в мнимом умении Нины «отводить глаза» врагу: чуть подальше большая группа связных восстанавливала связь, одновременно очищая участок от проникнувших туда фашистов. Их присутствие и спасало Нину.
Она спрыгнула вниз. С ее лба катились капли пота, щеки горели, она дышала прерывисто. Перестал моросить мелкий дождь, и холодный ветер, предвестник близкого снегопада, вздувал полы ее гимнастерки.
— Ну, Вахрам! — отдышавшись воскликнула Нина. — Закрепим эти провода, и я побегу к аппарату!
Они успели отойти довольно далеко от КП полка. Бросив взгляд в сторону участка, занятого батальоном Суреняна, Нина вдруг заметила какое-то непривычное движение. Усилилась стрельба. Взрывная волна несколько раз бросала Нину и Вахрама наземь.
Восстановив связь, они бегом кинулись обратно к КП. Нина подхватила трубку и соединилась с Араратяном. Ей ответил раздраженный голос дежурного телефониста:
— Так задержались с восстановлением связи, что…
— Ну, что там, что? — с тревогой выспрашивала Нина.
— Положение осложнилось, командир полка оставил свой КП.
Нина вздрогнула так сильно, что телефонная трубка чуть не выпала у нее из рук.
— Неужели опять оборвалась связь? — встревожился Вахрам. — Ну, на этот раз ты оставайся здесь, пойдем я и Кимик, — он показал на дежурного бойца, — а то…
— Нет, нет, линия действует, только… — Нина в отчаянии махнула рукой и закусила губу. «Араратян… казался таким бесстрашным, неужели он оставил КП, не отдав никаких распоряжений?!»
— Все равно, мы должны оставаться на своем посту! — словно сама себе приказала она, бросив мельком взгляд на Вахрама.
Раздался телефонный звонок, и Нина схватила трубку. Она почувствовала бы себя на седьмом небе, если б услышала голос Араратяна, его короткий, четкий приказ. Но говорил секретарь партбюро полка. Он хотел удостовериться, что линия действительно восстановлена; получив утвердительный ответ, он повесил трубку.
Тревога все сильнее сжимала сердце Нины.
Нина быстро поднялась на ноги, стукнулась головой о низкий потолок землянки, и горсть земли осыпала ее гимнастерку. Чуть пригнувшись, она счищала с себя липкие комочки и вдруг почувствовала, что в нагрудном кармане что-то шелестит. Она отстегнула пуговку, достала измятые обрывки бумаги и с изумлением взглянула на них. Это было последнее полученное от Поленова письмо. Она совсем забыла о нем. Карабкаясь по столбу, она его измяла и местами надорвала. Нина с сожалением начала прилаживать обрывки; карандаш почти стерся. Напрягая зрение, она перечитала письмо, и тревога на ее лице постепенно уступила место улыбке.
«Дорогая Нина Михайловна, смотрю я наверх — небо в самолетах, смотрю вниз — развалины, напротив, на расстоянии нескольких метров — фашисты. Как видишь, нечему радоваться. И далека, о, далека моя бедная Тоня! Не везет мне, — ребята от родных и друзей письма получают, радуются. Я, конечно, стараюсь радоваться за них. Ну, что бы тебе, Димка, каким-либо чудом выучиться грамоте и мне письмецо накатать! Местечко наше, конечно, не сравнится с каким-нибудь курортом, но ребята дружные. Вот только девушки у нас, словно Золушки, и характером чудесные, и личиком миловидные, да только в саже измазанные, измученные. И все мне приходит на ум, Нина Михайловна: настроить бы после войны бань и швейных мастерских, чтобы обмылись и приоделись по-хорошему наши славные девушки. Вот тогда ходи, смотри на них и радуйся! Даю слово, Нина Михайловна, живы будем — встретимся. Будет и на нашей улице праздник, не все же фашисту по ней коваными сапожищами топать… Ну, желаю здоровья, до доброй встречи. Привет вам от Григория Дмитриевича Поленова (он же Гриша)».
Нина с просветлевшим лицом бережно сложила клочки письма и спрятала в карман. «Нет, нет, там, у Гриши, положение во сто раз тяжелее, а он вот какие письма пишет! А что ж у нас… ах, лишь бы Асканаз Аракелович…» Тянуло выбежать из землянки, узнать, что творится кругом, где командир полка. Она только-только вышла за порог, когда раздался звонок. Нина схватила трубку, приложила к уху — и в первую минуту могла лишь повторять задыхаясь:
— Да, да!
Асканаз Араратян выслал в помощь батальону Суреняна резервную роту; одновременно он держал под особым наблюдением и третий батальон и батальон Остужко, которые отражали ожесточенные атаки противника. Судя по всему, враг решил вклиниться в позицию Суреняна и добиться на этом участке прорыва обороны. С помощью новой роты Суреняну удалось отразить последнюю атаку, но через некоторое время Асканаз заметил, что к позициям Суреняна ползут несколько танков, а за ними движутся цепи автоматчиков. Взвесив положение, Араратян решил ввести в бой резервные огневые точки. Вскоре два танка остановились, словно споткнувшись; из люков повалил дым. Не отрывая глаз от поля боя, Асканаз бросил сопровождавшему его Саруханяну:
— Восстановлена связь?
— Нет еще, товарищ комполка.
Асканаз гневно махнул рукой. Положение делалось все напряженнее, вражеские автоматчики кое-где проникли уже в окопы. Асканаз вздрогнул, заметив, что несколько бойцов выскочили из окопов и бросились бежать в тыл. Он подозвал к себе секретаря партбюро (все работники штаба находились уже в батальонах) и коротко приказал:
— По первому сигналу прикажешь перебросить телефонную станцию ко мне. По второму — пошлешь вторую резервную роту на участок Суреняна.
Он быстро зашагал, не оборачиваясь. Саруханян бросился за ним. Чем дальше, тем больше росла тревога Саруханяна: пули свистели вокруг Асканаза, а он, казалось, не замечал их, стремясь пресечь путь отступающим бойцам.
— Да что ж вы это делаете, ребята? — кричал Саруханян, стараясь опередить Асканаза на бегу, чтобы защитить его от пуль.
Асканаз ускорил шаги и наконец нагнал отступавших. Одним взглядом он окинул всех — Грикор и Миран, Алексан и Мурад… А вот и Ваагн!.. Все новички, всего несколько дней как прибыли на фронт…
Асканаз, который на ходу обдумал, как остановить отступавших, громко крикнул:
— Что, ребята, испугались фашистских автоматчиков? А ну-ка ко мне, кто больше всех боится!
Глаза Асканаза блестели веселым огнем. Фуражка сползла назад, и густая прядь волос упала на лоб. Бойцы с минуту оторопело смотрели на командира полка. Кругом свистели пули, но комполка стоял твердо и спокойно, его голос звучал властно и весело:
— А ну, давай, давай, ко мне!
Бойцы медленно и неохотно, отводя в сторону смущенные взоры, подходили к нему. Асканаз сделал несколько шагов вперед и взял из рук Ваагна его винтовку.
— Винтовка у тебя заряжена, да еще зовут тебя Ваагн… Наш прародитель Ваагн драконов истреблял, а ведь винтовки-то у него не было!.. Смотри, какое сильное у тебя оружие! — И, прицелившись, он уложил одного из немецких автоматчиков, пробравшегося вслед за отступающими.
Хладнокровие и решительность Асканаза словно встряхнули всех. Саруханян снова стал так, чтобы заслонить Асканаза от вражеских пуль; в эту минуту командир казался ему подлинным героем. Показывая на только что подбитых немецких автоматчиков, Асканаз обратился к бойцам:
— Видите, не так-то они страшны, правда? Вот пули из ваших винтовок уложили фашистов насмерть, но стоит только показать, что боишься их, и они уже лезут вперед, стреляют, даже не целясь!.. Убедились теперь, что не враг страшен, а вы страшны врагу?!
Асканаз передал винтовку Ваагну и приказал:
— Вперед, за мной! Во имя Советской Родины, во имя чести армянского народа, вперед! — и, не оглядываясь, побежал к окопам.
Но и не оглядываясь, он знал, что бойцы бегут за ним. Теперь каждый из них старался опередить Асканаза, каждый победил в душе то, что ужасней и унизительней всего, — чувство страха. Троих фашистских автоматчиков уложили Ваагн и Мурад. Саруханян, подхвативший на бегу автомат убитого бойца, вывел еще двоих из строя. Это особенно воодушевило новичков. Но Саруханян не сводил глаз с Асканаза, готовый в любую минуту хотя бы ценой жизни защитить его.
Возвращение отступивших бойцов и появление командира полка в окопах воодушевило и тех, кто оставался на своих местах. Они яростно кинулись вперед и в ожесточенном рукопашном бою уничтожали немецких автоматчиков, прорвавших переднюю линию обороны. Вскоре фашистская часть, пытавшаяся выйти в тыл батальона, перестала существовать как боевая единица: одни ее солдаты были уничтожены, другие отошли назад.
Асканаз приказал командиру батальона продолжать преследование неприятеля. Артиллерийские батареи полка продолжали поливать огнем неприятельские позиции и огневые точки. По условному сигналу Асканаза телефонная станция была переброшена к новому командному пункту.
Нина, узнавшая от Вахрама о происшедшем, не находила себе места. В то время как в душе ее шевелились подозрения, Асканаз был в самом пекле!.. Она радостно откликнулась на его звонок, едва удержавшись от желания крикнуть в трубку: «Как самочувствие, Асканаз Аракелович?» Но, взяв себя в руки, официальным тоном сообщила, что связала его с Остужко. Узнав, что его батальон только что отбил четвертую атаку, Асканаз сказал несколько одобрительных слов и приказал передать трубку Берберяну.
Но тут кто-то отключил телефон, и голос Нины тревожно сообщил:
— Простите, товарищ командир, вызывают из штаба дивизии. Я отъединила по их требованию.
Асканазу хотелось связаться и с другими батальонами, чтобы доложить об обстановке в штаб дивизии. Но, по-видимому, ему должны были сообщить что-то неотложное.
— Слушай, друг, — в голосе начальника штаба слышалась нескрываемая тревога, — у твоего правого соседа создалось тяжелое положение… Вардан Тиросян лично отправился туда, чтобы своим присутствием подбодрить бойцов. Но без помощи не обойтись. Противник угрожает штабу дивизии. А каково положение у тебя?
Асканаз доложил обстановку, добавив, что готов выполнить любой приказ.
— Оставь на участке достаточное количество силы для эффективной обороны. Остальных надо перебросить на помощь угрожаемому полку.
Асканаз снова связался с Остужко и с командиром третьего батальона, потребовал, чтобы они выделили по одной роте. Затем вызвал последние резервы и, оставив вместо себя Берберяна, быстро двинулся к позициям соседнего полка.
Пробегая мимо участка, занятого батальоном Остужко, Асканаз заметил, что санитары несут раненых, не пригибаясь к земле. А неприятельские пули залетали и сюда. Асканаз прикрикнул на санитаров и приказал им использовать неровности почвы как прикрытие. Взгляд его упал на Марфушу: она вдвоем с другим санитаром осторожно несла носилки с тяжело раненным. Вдруг Марфуша пронзительно вскрикнула и упала на землю. Носилки выпали из ее рук, Асканаз подбежал.
— Я — умираю, товарищ командир… — простонала Марфуша.
Быстрый осмотр убедил Асканаза, что рана поверхностная: оцарапана кожа пониже плеча.
— Э, нет, Марфуша, — серьезно ответил он, — ты умрешь не раньше, чем через пятьдесят лет, да и то естественной смертью! А это маленькая памятка о сегодняшнем бое!
Покрасневшая Марфуша широко раскрытыми глазами смотрела вслед бегущему Асканазу, смущенно слушая упреки своего напарника-санитара:
— Ты что это голосишь! Целый год на фронте, да чтоб ни разу тебя и пуля не задела?!. Вставай, вставай, берись за носилки, — знаешь, какого бойца несем? Скорее нужно доставить в госпиталь, как бы кровью не истек! Он двадцати таких, как мы с тобой, стоит.
Это был Абдул, потерявший сознание от сильной боли.
С помощью напарника Марфуша быстро перевязала свою ранку и попробовала взяться за ручки носилок, но вдруг почувствовала, что раненая рука онемела. Одной рукой нести носилки нельзя было, а другие санитары отошли уже довольно далеко. Пока Марфуша растерянно оглядывалась, Абдул протяжно вздохнул, открыл глаза, оперся здоровой рукой о носилки и встал на ноги.
— Ой, как хорошо, я пришел в себя…
— Совсем нехорошо, вы же сильно ранены! — растерялась Марфуша. — Кровь потечет, не остановим…
— Так ведь я ранен в плечо, а не в ноги, — попытался улыбнуться Абдул. — Давай буду держаться за тебя, так и доберусь… Недалеко ведь идти, правда?
Санитар с тревогой осмотрел повязку на плече Абдула и, волоча носилки, двинулся за Марфушей, которая вела Абдула, обняв его одной рукой за плечи.
От нескольких раненых, встреченных по дороге, Асканаз узнал, что после ряда неудачных вооруженных атак неприятель предпринял психическую атаку. Это вначале внесло смятение в некоторые подразделения, и лишь прибытие командира дивизии помогло восстановить положение.
— Сейчас опять атакуют танками… Но дело не в том, товарищ подполковник, — сказал Асканазу один из раненых, лицо которого было сплошь залито кровью, — а их автоматчики уже близко, — раненый показал рукой. — Если их не отгонят, они могут обойти полк с тыла…
Обстановка Асканазу была уже ясна. Танки и в самом деле подходили к позициям; возможно, что в окопах одного из батальонов уже начался рукопашный бой. Вскоре стало очевидно, что неприятельские силы численностью до батальона двигаются в обход полка. Противник прикрывал их продвижение артиллерийским огнем. Нащупав слабое место на стыке расположения двух полков, автоматчики сумели прорваться в тыл.
Асканаз расположил свои роты, обеспечив их фланги станковыми пулеметами. Потянулись минуты ожидания. Одна из пробившихся в тыл неприятельских рот взяла направление на штаб дивизии. Остальные собирались, очевидно, зайти в тыл Тиросяну. Но тут заговорили станковые пулеметы Асканаза. Растерявшиеся гитлеровцы разбили свой боевой строй: они предполагали нанести удар по тылам врага, но сами были вынуждены теперь защищаться от неожиданного удара по их тылу. Тем временем Асканаз приказал командиру одной из своих рот спешно перерезать дорогу отряду гитлеровских автоматчиков, двигавшихся к штабу дивизии.
И на передовой и в тылах поднялся такой грохот, все так смешалось, что только боевой опыт комдива и Асканаза Араратяна помогал им разобраться в происходящем. Получасовой бой подсобных рот Асканаза с пробившимися в тыл гитлеровцами завершился успехом. Вражеские ряды сильно поредели. Оставив маленький отряд для преследования недобитого противника, Асканаз образовал из своих рот как бы ударный кулак. Вернулся связной с сообщением о том, что убит командир полка. Тиросян назначил на его место командира одного из батальонов, а Асканазу приказал двинуться к окопам центрального участка, защитники которого уже выбивались из сил. Но помощь опоздала: Асканаз увидел, что фашисты уже вытеснили из окопов расположенные там роты и прорвались к штабу. Создавалась угроза, что превосходящие силы противника сломят сопротивление полка и уничтожат штаб дивизии.
Асканаз выступил вперед, пристальным взглядом окинул свои роты и сказал несколько слов:
— Товарищи, сейчас решается вопрос жизни или смерти всей нашей армянской дивизии. Мы должны спасти ее честь во что бы то ни стало! Забудьте о смерти, помните лишь о присяге, которую мы принесли, когда нам вручали знамя. Вперед! Исполним нашу клятву!
И бойцы ринулись вперед. Казалось, все соединенна превратилось в монолитное целое. Один подбивал танк, другой валил ударом штыка гитлеровского офицера, кто-то связкой гранат разнес пулеметное гнездо врага, другие винтовкой, руками, зубами расправлялись с врагом, стремившимся прорвать «слабое звено».
Летели минуты, текли часы. Постепенно утихали грохот и рев. Спотыкаясь о тела убитых, еще сшибались кое-где отдельные группы противников, но хозяином участка фронта снова была армянская дивизия.
— Товарищ Араратян, комдив вызывает вас! — подбежал к Асканазу молоденький лейтенант с побледневшим от волнения лицом.
Асканаза словно схватило за сердце. Он бегом последовал за лейтенантом. На расстоянии нескольких десятков шагов бойцы расправлялись с остатками фашистской колонны. А на носилках лежал командир дивизии. Помутневшие глаза Тиросяна глядели на окружающих невидящим взглядом; кровь заливала щеку и шею. Несмотря на все усилия, врачу не удавалось остановить кровотечение.
— Явился по вашему приказу, товарищ комдив! — четко произнес Асканаз, наклонившись к лицу Тиросяна. — Все кончилось благополучно… Честь дивизии спасена!
— Выделите батальон… обеспечьте левый фланг… Оттуда возможна новая атака… Закрепите успех!..
— Есть обеспечить левый фланг, закрепить успех, товарищ комдив!
— Напишите в Армению… что сыны армянского народа… высоко держа… — Тиросян не смог закончить, взгляд его тускнел.
Асканаз опустил голову. Он тихо приказал принести знамя дивизии. Как бы услышав шелест складок над своей головой, Тиросян медленно поднял глаза, и по его лицу скользнуло подобие улыбки. Не отводя глаз от знамени, Тиросян приоткрыл губы, но не мог произнести ни слова. Началась агония. Холодный предвечерний ветер шевелил волосы на его непокрытой голове и прядью прикрыл рану на лбу. Тиросян последним взглядом обвел стоявших вокруг него воинов, как бы молча давая им наказ, и навеки закрыл глаза.
В штабе армии с напряженным вниманием следили за действиями дивизии Тиросяна, измотанной ожесточенными боями с неприятелем. Денисов немедленно распорядился усилить ее новыми пополнениями. В ночь гибели Тиросяна он вызвал к себе Асканаза.
— Я пристально следил за течением боя. И командиры, и бойцы уже приобрели опыт. Враг остановлен на всем фронте; это очень важно, но все же это только первый шаг. Начинается период новых, еще более ответственных боев. Командование дивизией поручается вам.
Асканаз поднялся с места. Его лицо вспыхнуло от волнения.
— С новым назначением справитесь, об этом говорят проявленные вами сегодня инициатива и хладнокровие. Жаль, мы потеряли Тиросяна… Он оставил по себе светлую память. Я распорядился торжественно похоронить его…
Асканаз стоял молча, стараясь освоиться с мыслью о том, что ему придется руководить боевыми действиями всей дивизии.
Поднявшись с места, Денисов положил на плечо Асканаза руку и мягко сказал:
— Готовь свою дивизию, друг: скоро получишь новое задание. Предстоящие бои многое решат…
Глава восьмая
КОНЕЦ ОДНОЙ ИСТОРИИ
Следующий день на участке дивизии прошел несравненно спокойнее. Противнику не удалось подбросить свежие силы и повторить ожесточенные атаки предыдущего дня. Асканаз Араратян воспользовался этим, чтобы усилить пополнениями и привести в порядок роты и батальоны, а также подробно ознакомиться с расположением дивизии, вникая во все подробности.
На участке Гарсевана недружный огонь противника длился до полудня, а затем наступило затишье. Передышка, судя по всем признакам, могла продлиться до следующего дня. Рота Гарсевана расположилась на отдых и с аппетитом расправлялась с горячей пшенной кашей, заправленной жирными кусочками мяса. День был сырой и туманный. Большие мягкие хлопья снега липли к лицам. Не обращая на это внимания, бойцы расселись на охапках сена, разостланных по дну окопа, и, достав из-за голенищ алюминиевые и деревянные ложки, ели жидкую кашу.
Гарсеван с одним из взводов только что вернулся с торжественных похорон командира дивизии. Он проходил по окопам, порой отряхивая снег со шлема. В одном из окопов над его головой разорвалось несколько неприятельских мин.
— Верно, считают, что не выполнили сегодняшнюю норму? — с пренебрежением сказал Гарсеван и, подойдя к телефону, связался с командиром батареи. — А ну-ка, трахни по их блиндажам несколькими снарядами подряд!
После артналета снова воцарилась тишина. Вокруг Гарсевана собрались и бывалые воины и новички, среди них Мурад и Ваагн. Прибывшие с ними в одном пополнении Грикор, Миран и Алексан были убиты накануне, ценой жизни искупив минутную панику. Мурад с Ваагном неплохо воевали и теперь состояли в роте Гарсевана.
Гарсеван вновь стряхнул снег со шлема, удобно уселся в нише, сделанной в стенке окопа, и заговорил:
— Командир нашей дивизии оставил такую хорошую память, что каждый боец может гордиться им. Помните, ребята, его наказ Юрику — заслужить хорошее имя доблестью. А теперь он жизнь отдал, но спас честь нашей дивизии.
— И новый наш командир, подполковник Араратян, такой же, — вмешался Ваагн. Ободренный общим сочувственным молчанием, он доверчиво продолжал: — Если б вы знали, как нам было стыдно, когда он нас задержал!..
— Да, он так же рисковал жизнью, но все же спас положение, потому что победил в себе страх смерти, — кивнул головой Гарсеван. — С таким комдивом мы еще многое совершим! Своим примером он помог вам преодолеть страх. Пусть же никто не ведет себя так, чтобы потом ему было стыдно!
— Если человек еще способен стыдиться, значит он может победить свое малодушие, — вмешался Михрдат, которого брил Вахрам в соседней нише окопа. — Э-э, Вахрам, нечем тебе точить бритву, что ли? Всю щеку мне ободрал!
— Есть у меня оселок, товарищ Михрдат, как не быть, но сегодня я ведь двадцать пятого брею! Другой раз с тебя начну, пока еще бритва не успела притупиться.
Гарсеван взглянул на сидевших рядом и, что-то припомнив, окликнул Ара:
— Ну как, здорово переволновался вчера у пулемета, Ара?
— Еще бы! В особенности, когда увидел, как фашист размахнулся и швырнул в нас гранату…
— Как так швырнул гранату? — Вахрам отвел бритву от лица Михрдата и оторопело взглянул на Ара. — Бросил — и вы…
— Хочешь сказать, как же они уцелели? — засмеялся Гарсеван.
— Вот именно, товарищ командир роты. Не пойму…
— А ну, расскажи, Ара, как это случилось?
— Габриэл перехватил гранату в воздухе и швырнул ее обратно в того же самого немца, а другой еще рядом стоял. Обоих фашистов в клочки разнесло.
— Эх, умереть мне за вас! — вырвалось у Вахрама.
— Но вот Нина рассказывала, что и ты с ней неплохо восстанавливал связь, — сказал Гарсеван, чтобы поощрить Вахрама.
— Человек своих дел не видит и радуется успеху товарища, — отозвался Вахрам.
— Что ты чувствовал, — задумчиво спросил Гарсеван, — когда граната летела на вас?
— Страшно было, да? Ведь это верная смерть!.. — добавил Вахрам.
— Конечно, страшно, но, понимаешь… в такие минуты как-то не думаешь о смерти.
— Вот это хорошо! Если боец думает не о смерти, а о том, как бы получше выполнить дело, и ему легче и победа вернее, — заключил Гарсеван. Он понял, что Ара не только сумел перебороть то, на что намекала Гарсевану Шогакат-майрик, но даже воодушевляет своих товарищей.
Гарсевану нравилось, что Ара, по примеру Юрика, ничем не выдавал своего близкого родства с командиром дивизии, хотя это ни для кого не было тайной.
Ваагн больше не принимал участия в беседе. Мурад все время молчал, — воспоминание об их проступке все еще продолжало удручать молодых бойцов.
Гарсеван приказал Вахраму пройти на передовую, а сам отправился на свой КП. Помогая себе уцелевшими двумя пальцами левой руки, Вахрам кое-как выправил бритву на кожаном поясе и отправился брить бойцов на передовой.
До сумерек оставалось еще больше часа. Одиночные выстрелы не смущали уже привыкшего к фронтовой жизни Вахрама. Глядя вдаль, он заметил за небольшим холмиком Тартаренца в паре с другим бойцом, рывших площадку для миномета. Чуть поодаль такие же площадки рыли и другие бойцы.
«Вот это я считаю хорошим знаком! Уж если минометы сюда подтаскивают, значит наши наступать собираются. Вот если б еще хорошую весточку из Сталинграда!» — подумал Вахрам, спрыгивая в окоп и созывая к себе желающих побриться.
Тартаренц лениво и вяло тыкал лопатой в землю, разговаривая с Лалазаром, бойцом соседнего батальона, совершившим какой-то мелкий проступок. Оба только что пообедали.
— Осточертела эта паршивая каша! — проворчал Тартаренц, поглядывая искоса на напарника и желая узнать, как отзовется на его слова Лалазар.
— А чем она тебе не по нутру пришлась? И навариста и питательна. Совсем не плохая каша.
— Я ничего плохого и не говорю, да только надоело все одно и то же.
— Это другое дело. Конечно, лучше было бы, если б нам плов с курицей поднесли.
— Уж не говори — слюнки текут, как вспомню! А тут еще заставляют камень долбить: ведь стоит немцам подслушать, трахнут мину — и поминай, как звали…
— Что ж, может и это случиться, — хладнокровно согласился Лалазар.
Тартаренц решил нащупать слабую сторону товарища, но начал издалека:
— Да, ты знаешь, несколько дней тому назад вызвал меня… ну, сам наш полковой комиссар. До войны за версту шляпу снимал… Ну что ж, дело случая. «Ничего, говорит, мы тебя уже узнали, ценим твою работу, скоро к награде представим… только будь немного активней…» А легко ли быть активным?
Он на минуту прислонил лопату к камню и, шаря в кармане, не сводил испытующего взгляда с Лалазара.
— Ну и будь поактивнее, не укусит же тебя орденок! Это у меня никаких друзей-приятелей нет, никто не уговаривает меня согласиться принять орденок… — И Лалазар сильными ударами старался раздробить камень.
— Друзьями не сразу делаются. Это я всего четыре дня знаком с тобой и уже другом тебя считаю. А ты вот этого не ценишь.
— Сказал тоже! Пойди спроси у наших арамусцев в Котайске: плюнь мне в лицо, если тебе скажут, что я дружбы водить не умею… Эх, промахнулся я — выпустил этого собачьего сына, гитлеровца, из рук…
— Почему же выпустил? Ушел бы с ним вместе…
— Куда это ушел, о чем ты говоришь?
— Говорю, пошел бы за ним, убил…
Лалазар с сомнением поглядел на Тартаренца и продолжал свой рассказ:
— Как-то было — тоже не смог доставить пленного. Он бросился бежать, а я и выстрелил вслед, уложил его на месте. В этот раз не решился стрелять, думаю, может, догоню… А он, подлец, такой быстроногий оказался, любому зайцу впору… Влетело, что пленного упустил. До сих пор не могу себе этого простить.
Тартаренцу никак не удавалось высказать свою тайную мысль: Лалазар, увлеченный рассказом, не оборачивался в его сторону, но, случайно оглянувшись, увидел бездельничающего Тартаренца и с возмущением воскликнул:
— А ты чего расселся, в садах Норка себя вообразил, что ли? А ну, работай! Тоже нашел себе поденщика!
— Так я ж с тобой хочу серьезно поговорить…
— Ты все что-то привираешь! То комиссар тебе в ножки кланяется, то собираются тебе на золотом подносе орден поднести… Да ну тебя! А еще попрекаешь, что с тобой дружбу не водят, не ценят, как надо! А насчет пленного что ты говорил, ну-ка повтори!
— Говорил, что не надо было растяпой быть, фашиста из рук выпускать!
— Вывернулся ловко. Бери свой заступ, нечего языком молоть!
— Говорю же, что ты плохой друг… — пробормотал Тартаренц, поняв, что чуть было не выдал себя.
Побрив нескольких бойцов, Вахрам подошел к Тартаренцу и Лалазару.
— Не хотите побриться?
— Темнеет уже, перережешь, чего доброго, какую-нибудь вену, — нехотя отозвался Тартаренц.
— Я и с закрытыми глазами побрею! — самоуверенно отозвался Вахрам.
— Ну, а где?
— А яма на что? Расстелем плащ-палатку, вот и будет хорошо.
Лалазар довольно удобно пристроился в глубокой яме, и Вахрам принялся брить его. То ли предавшись воспоминаниям, то ли придя в хорошее настроение, Лалазар вполголоса напевал, в то время как Вахрам точил бритву.
— Это покрывало дрожит или сердце у тебя дрожит? — насмешливо спросил Тартаренц.
— А ну, помолчи!
Но Тартаренц с издевкой пропел:
— Да молчи ты! — прервал его Вахрам.
— Вот навязался мне на голову! Кончай и проваливай.
— Ладно, ладно, иди, побрею и тебя, — сказал Вахрам примирительным тоном.
Но Тартаренц не согласился, чтобы его брили в сумерках.
Подошедший сержант проверил работу, показал, до каких пор еще копать, и отметил место для второй площадки. Чтобы ускорить работу, сюда наряжены были еще два бойца.
Выбрав удобную минуту, Тартаренц тихо сказал Вахраму:
— И долго ты будешь оставаться под огнем на передовой с пораненными пальцами?
— Не болтай лишнего! Где ты видел у меня пораненные пальцы? Ногти содрало — это так, ну и пускай: вырастут новые! Здоровая рука может заменить больную.
— Так я ж ничего не говорю, брей себе на здоровье, — отозвался Тартаренц, шелестя листком в кармане. — Только по закону тебя должны были бы перевести во второй эшелон.
Воздух дрогнул от сильного разрыва — где-то вдалеке упал неприятельский снаряд. Тартаренц выдернул руку из кармана, и при этом у него выпал какой-то листок бумаги. Ветерок подхватил бумажку и понес. Тартаренцу с трудом удалось перехватить катившийся по земле листок, он сунул его обратно в карман.
— Это у тебя письмо? — с легкой завистью проговорил Вахрам. — Наверное, от Ашхен!.. Почему бы тебе не почитать нам когда-нибудь ее письмо?
— Какое тебе дело до писем моей жены?
— Ну, что ты Тартаренц!.. Ведь если Ашхен тебе жена, то нам всем она — дорогая сестра.
— Ага… — равнодушно отозвался Тартаренц. — Что ж, пожалуй, прочту, но это — секретное письмо.
Ему не верилось, что Вахрам не видел листка; он колебался, не зная, как поступить, и решил перевести разговор на другую тему:
— Завтра жаркий день будет, по всему видно, — обратился он к Вахраму.
— Поживем — увидим, — спокойно отозвался Вахрам.
Теперь Тартаренц решил, что он не может довериться и Вахраму. Вместе с другими бойцами он принялся за расширение и углубление минометных площадок и уже за полночь, закончив работу, запыхавшись, обратился к Лалазару:
— Ну, теперь ты мной доволен?.. Уморились тут, работая, а никому и в голову не придет позаботиться, чтобы нам доставили веду!
Снегопад прекратился. Утихла стрельба. Тартаренцу удалось добиться, чтобы его послали за водой.
После возвращения в часть из тбилисского госпиталя Тартаренцу впервые приходилось идти одному в тыл. Наблюдение за тем, чтобы ночью никто не отлучался из части, было поручено Габриэлу. Полученное от него разрешение Тартаренц объяснял тем, что они земляки, и Габриэл, мол, поэтому не решился отказать ему. Достав листок из кармана, Тартаренц переложил его в нагрудный карман и сделал несколько десятков шагов туда, где расположены были тыловые хозяйства. Днем он внимательно изучил участок своей части. Еще раз осторожно осмотревшись, он сделал несколько шагов в прежнем направлении, а затем резко свернул направо и пошел в обратную сторону. Но сердце у него так сильно забилось, что он покачнулся и присел: ну, если кто-нибудь встретит его и спросит, куда он идет, что он ответит? Что ж, ответ у него готов: пошел, мол, за водой и заблудился.
В течение последних дней он пытался поговорить не только с Лалазаром и Вахрамом, но и с другими бойцами и никому не посмел открыться. Тартаренц чувствовал, что он одинок со своими недобрыми мыслями. Все эти люди — с различными характерами и разными способностями — так же способны были ошибаться, как ошибся Лалазар или же этот новичок Ваагн. Но потом они с новой энергией служили, выполняли свой долг. Вот, например, Лалазар — в таком состоянии даже способен был петь!.. А Тартаренц после вчерашнего тяжелого боя испытывал еще больший страх при мысли о предстоящих испытаниях: а если повторится такой же день, если такое же страшное сражение произойдет завтра, послезавтра, то как избежать гибели?! Он снова нащупал листок, который за два дня до этого ему удалось незаметно припрятать от товарищей. Гитлеровцы разбрасывали листовки; в то время, как остальные бойцы или рвали эти листовки на клочки, или собирали для сдачи командованию, Тартаренц выбрал удобный момент и прочел листовку, на одной стороне которой был напечатан русский текст, на другой — армянский. В конце крупными буквами было написано, что эта листовка является пропуском для перехода на сторону немцев любого количества бойцов.
Тартаренц с особым вниманием перечитывал последние строчки листовки, в душе горько сожалея, что не нашел не только группы солдат, готовых сдаться в плен врагу, но и одного-единственного бойца, с кем можно было бы откровенно поговорить. Он яростно ругал в душе Ашхен, которую считал причиной своих теперешних бед, ругал и товарищей, которым не мог довериться.
Тартаренц прошел уже довольно большое расстояние. Вот еще немного — и он будет у немецких позиций. Он уже представлял себе, как покажет и м листовку-пропуск, что будет при этом говорить. «Как хорошо, — думал он, — что дежурным был Габриэл. Я ловко провел его… Вот теперь пусть Михрдат читает наставления своему сынку!»
Он уже достал из кармана листовку и на всякий случай вытащил белый платок. Еще несколько шагов…
Но радость Тартаренца была преждевременна.
Габриэлу показалась подозрительной та настойчивость, с которой Тартаренц добивался разрешения пойти за водой. Выдав ему разрешение, он тотчас же сдал свой пост напарнику и незаметно последовал за Тартаренцем.
Сильный удар по спине заставил Тартаренца пошатнуться. Кто-то крепко схватил его за шиворот и рывком повернул к себе.
— Да это я, товарищ Габриэл…
— Какой я тебе товарищ! А ну, шагай!..
— Так я же объясню…
— Шагай, говорят тебе! Объяснения будешь давать командованию!
Габриэл привел Тартаренца к минометным площадкам. Вахрам уже доставил воду для товарищей. Одного взгляда было достаточно, чтобы он понял все.
— Ах ты, ишачий сын, значит, вот почему ты о моих порезанных пальцах беспокоился?! — крикнул он, подбегая к Тартаренцу. — Ах, дали бы мне этой порезанной рукой шею твою перерезать!
Лалазар презрительно щелкнул пальцем по голове Тартаренца.
— Да разве это голова? Это же прогнившая тыква! Дали бы мне выдолбить ее, сделать из нее черепок для отбросов! Теперь-то я понимаю, какую он мне удочку закидывал!..
Габриэл с трудом успокоил бойцов и под усиленным конвоем доставил Тартаренца к Гарсевану Даниэляну. Ошеломленный и возмущенный Гарсеван сам отвел арестованного к Остужко.
— Нашу честь запятнал, собака!
Остужко проявил больше хладнокровия: он допросил Тартаренца и, молча хмурясь, взял трубку телефона.
…Выслушав Остужко, Асканаз Араратян несколько раз прошелся по своему блиндажу. Враг просчитался — никто не поддался на его провокацию, кроме этой гадины. Но и один этот случай накладывал пятно на всю воинскую часть!
В тот же день, на рассвете, военный трибунал судил Тартаренца и вынес решение: расстрел перед строем.
…К пяти часам следующего дня, после того как дивизия успешно отразила все атаки фашистов и заняла более удобные позиции, бойцы роты Гарсевана Даниэляна выстроились неподалеку от штаба. Здесь были среди других Гарсеван, Саруханян, Габриэл, Ара, Унан, раненый Абдул, Лалазар, Вахрам. Бойцы выстроились наподобие большой буквы пе, в открытые ворота которой ввели под конвоем Тартаренца.
Лица бойцов выражали нескрываемый гнев. Особенно оскорбленными чувствовали себя Гарсеван и Саруханян: ведь этот презренный изменник оскорбил их самые заветные чувства, осквернил присягу, данную перед лицом народа, бросил пятно бесчестия на своих товарищей, жену, маленького сына!
— Подумаешь, за человека еще считают, приговор ему выносят, когда нужно было укокошить на месте, как собаку паршивую!.. — гневно шептал Вахрам.
Гарсеван выступил вперед и громко прочел зловещие строки приговора:
— «…за измену Советской Родине, за нарушение воинской присяги, за гнусный обман товарищей по оружию и командования…»
Тартаренц стоял понурившись, уставив в землю бессмысленный взгляд.
Гарсеван закончил чтение приговора.
— Снимай обмундирование! — громко приказал Саруханян.
Через несколько минут приговор над изменником родины был приведен в исполнение.
На обратном пути Саруханян сказал шагавшему рядом с ним Гарсевану:
— Нет, ты мне скажи, как мы об этом сообщим Ашхен? — и он скрипнул зубами.
— Ашхен обладает такой стойкостью, что мы можем к должны написать ей всю правду. Приходи, подумаем, обсудим вместе, как написать.
В это самое время Нина зашла к Асканазу — передать ему поручение. Лицо командира дивизии было так сурово, что Нина едва осмелилась спросить вполголоса:
— К расстрелу присудили мужа Ашхен?
— Нет, не мужа Ашхен — к расстрелу приговорили изменника родины.
Глава девятая
АРАРАТ
Усадив рядом с собою внуков, Шогакат-майрик слушала Седу, которая читала ей только что полученное от Вртанеса письмо.
— «Дорогая мама, любимая Седа, бесценные мои детки Цовинар и Давид, много-много раз обнимаю вас и целую.
Сегодня для меня был необычный день — я в первый раз побывал на линии огня и увидел сражение воочию. Огонь, огонь кругом… Окопы и в них за брустверами или в земляных нишах — бойцы. Меня познакомили с Арсеном из Хндзореска, о котором мне много рассказывали в штабе. Он все наставлял меня: ходите, мол, пригнувшись, а сам-то ходит с высоко закинутой головой. Он стреляет стоя перед щелью, затем поворачивается и громко говорит: «Подкиньте патронов, ребята». Согнувшись, подбегает боец, передает ему патроны. Смотрю я на бойца — в такой момент выражение лица очень трудно описать. Радостно оно или печально, задумчиво или гневно, выражает ли хладнокровие или воодушевление? Невозможно определить одним коротким словом. Лишь одно можно сказать твердо: это лицо победителя! Дорогие мои, мужайтесь! Уже наблюдаются все признаки того, что скоро, очень скоро сбудется то, о чем мечтаем мы все!
По возвращении в штаб я узнал замечательные новости: нашему Асканазу поручили командование дивизией…»
Вртанес сообщал все, что узнал об Асканазе, просил не беспокоиться за него и писать на фронт обо всех домашних новостях.
— Умереть мне за солнце, светящее вам обоим… за солнце, светящее всем нашим… — целуя Давида и Цовинар, со слезами на глазах произнесла Шогакат-майрик. — Напиши, напиши моему Вртанесу, чтобы не беспокоился за нас. Вот только эта передовая…
Шогакат-майрик не договорила. Седа молча прибирала комнату, потом задумчиво подошла к книжному шкафу, взяла том сочинений Шекспира. На полях были карандашные пометки Вртанеса. Против строчки «Совесть у нас чиста и плечи у нас крепкие…» написано было на полях карандашом: «Да!» В связи с чем, по какому поводу написал Вртанес — этого Седа не знала. Она подошла к письменному столу, достала из ящика оставшуюся незаконченной рукопись, и глаза ее наполнились слезами. Прошло несколько минут.
Какой-то звук заставил Седу очнуться. Она бережно сложила рукопись, положила обратно в ящик и, обернувшись, ахнула:
— Что ты делаешь, Давид?! Это ведь доля Цовик!..
Давид запихал в рот несколько кусочков сахара, оставленных для Цовинар, и с хрустом жевал их. Услышав упрек матери, он покраснел и опустил голову. Шогакат-майрик вздохнула, и ей невольно вспомнился Ара: «Как-то теперь т а м мой сынок, как переносит военную жизнь? Ведь каждый день на передовой!..»
В дверь постучали, в комнату вошли Парандзем и Маргарит.
— Сестрица Шогакат, не вытерпела я — только что принесли письмо, решила забежать…
Видно было, что и Маргарит хочется что-то сказать, но она не успела, потому что Шогакат радостно выхватила письмо, прижала к лицу и, протягивая Маргарит, нетерпеливо проговорила:
— Читай-ка, милая… но скажи сперва — от кого?
— От Гарсевана, Шогакат-майрик.
— Ах, умереть мне за него! Читай, читай…
Маргарит, которая предполагала, что это письмо от Ара (хотя сама очень часто получала от него письма), с легким чувством разочарования вскрыла конверт, но, заметив, что лицо Шогакат-майрик горит нетерпением, начала читать вслух.
Гарсеван также сообщал о том, что Асканаз назначен командиром дивизии. Но особую радость доставили Шогакат-майрик те строки письма, тайный смысл которых был понятен ей одной:
«Майрик-джан, не забыл я того, что ты мне наказывала на станции Ереван. Все парни хорошо дерутся, а твой Ара стал бесстрашным бойцом, ты можешь гордиться обоими сыновьями — и командиром дивизии и бойцом».
Когда Маргарит прочла письмо до конца, Шогакат-майрик попросила:
— Еще раз прочти про Ара, Маргарит-джан!
Маргарит читала, испытывая безграничную радость при словах «бесстрашный боец». Она задумалась, забыв об окружающих.
В эту минуту Парандзем, заметив опечаленное и смущенное лицо Давида, достала из кармана горсть изюма и высыпала на блюдечко перед ним.
— Кушай, родной мой!
— Пусть останется для Цовик, не надо мне…
— Ой, хороший мой, как он любит сестричку!
Давид испуганно взглянул на мать: а вдруг она скажет?..
Седа подтвердила:
— Конечно, мой сынок очень любит сестричку.
Давид аккуратно разделил изюм на две равные кучки, взял свою горсточку и выбежал из комнаты. Шогакат с гордостью рассказала Парандзем, что и Вртанес в своем письме сообщает о новом назначении Асканаза.
— Какие времена мы переживаем, сестрица Шогакат, — задумчиво покачала головой Парандзем. — Помнишь, как мы воду грели, чтобы он голову себе вымыл? А ты еще сердилась на него, когда он по ночам долго засиживался. И ведь никогда-то из твоей воли не выходил! Ах, и мой Мхитар такой же хороший сын…
Маргарит очнулась от задумчивости и вспомнила, что привело ее в этот день к Седе.
— Ходила я сегодня на рынок, — заговорила она, — и заглянула в ларек Двинского колхоза. Увидела там знакомого колхозника, спросила, как поживает Наапет-айрик. А он мне говорит: «Вот хорошо, что встретил тебя. Ведь Наапет-айрик живет теперь у Гарсевана. Заболел он, больной лежит, и районный доктор ему новое лекарство прописал — сульфидин называется. Если можешь, достань, нехорошо ему». Я взяла рецепт, обещала занести завтра.
— Вот умница, хорошо сделала, доченька. Стыдно ведь, забыли мы их. А насчет лекарства этого скажи Ашхен, она достанет. А завтра давай поедем в село: навестим Наапета и Пеброне — жену Гарсевана. Что ж это получается — Гарсеван так заботится о нашем Ара, а мы даже не заглядываем к ним! Поедем, посмотрим, что там у них, а потом вернемся. Маргарит-джан, ты напишешь письма и Гарсевану, и Ара, и Вртанесу. Ах, если б и от Зохраба моего добрую весточку получить!
Шогакат-майрик и Маргарит сошли на станции Арташат. Оттуда грузовая машина ходила в село. Немолодой шофер, прихрамывавший на левую ногу, усадил Шогакат-майрик с собой в кабинке. Маргарит с несколькими колхозницами устроилась в кузове. Погода была облачная, чуть накрапывал дождь.
— Что ж, майрик, ты едешь в такую холодную погоду…
— Когда человек твердо решил что-либо, он уже не смотрит на дождь и холод, — ответила, улыбаясь, Шогакат-майрик.
— У тебя сын на фронте?
— А как же иначе?
— Вот так и отвечают все, кого ни спросишь. Эх, не оставили меня в армии, когда ранило в ногу, теперь в колхозе работаю. А в армии сейчас старший сын.
— Письма получаешь?
— Да, только далеко он у меня, на Финляндском фронте.
— Да, далеконько.
— А твой?
— И далеко, и близко. Да все равно, все одной дорогой домой должны вернуться!
— Вот это слово мне по душе пришлось, майрик-джан! Верно, одной дорогой…
— Скажи, а Наапета ты знаешь, он у вас в селе живет?
— Ну как же не знать Наапета-айрика! Уважаемый у нас человек в селе.
— Говорят, болен он?
— Три дня назад был у них, он лежал.
— Повези нас к нему.
— А что ж, повезу, такого человека повидать стоит. Так рассуждает о фронтовых делах, словно с генералами в совете заседал. Вот на днях от Асканаза Араратяна письмо получил. Слыхала о нем?
— Да, слыхала, — улыбнулась Шогакат-майрик.
— А видала его? Он в нашем селе прежде жил.
— И крестьяне Двина его знают?
— Все знают. Значит, знакома с ним?
— Знаю, как родного сына.
— Вот это хорошо. Говорят, ребенком еще родителей потерял, бедняга.
— Нет, мать у него есть.
— А как же в бытность в селе говорил он, что у него мать умерла?
— Асканаз — мой приемный сын.
— А-а, так значит вы — Шогакат-майрик? Наапет и про вас рассказывал. Очень рад, что довелось с вами встретиться!
…Шогакат поднималась по ступенькам дома Гарсевана с тревогой: не очень ли плохо Наапету, вовремя ли доставили они лекарство? Маргарит бережно поддерживала ее под руку, Едва поднялись они на балкон, как дверь комнаты распахнулась и навстречу им выбежала Пеброне.
— Майрик-джан, ты ли это?! Если б я знала, сама бы за тобой приехала, привезла бы к нам… — С этими словами Пеброне нагнулась, поцеловала руку Шогакат, а затем ласково обняла Маргарит.
— Как обрадуется Гарсеван, когда узнает, что вы побывали у нас!
— Да не увидит плохого дня наш Гарсеван, Пеброне-джан! Письмо вчера от него получила, очень он меня порадовал. Я ведь с ним долго говорила на вокзале перед отъездом.
— Да, да, помню я… Ах, когда же настанет день, чтобы так же торжественно встречать их! — с волнением воскликнула Пеброне.
Они вошли в комнату. Пеброне подвела Шогакат-майрик к тахте, усадила ее, подсунув подушки за спину и под локоть.
— А Наапет? — с тревогой произнесла Шогакат, вопросительно глядя на Пеброне.
— Еще вчера болен был, — неопределенно ответила Пеброне.
— Значит, лучше ему? Где же он? Ведь мы к нему… Маргарит-джан, где лекарство?
Маргарит достала пакетик с сульфидином из своей сумки.
— Да, да, мы ведь просили продавца ларька обратиться к вам, если он сам не найдет лекарства. Да разве может кто-нибудь удержать Наапета-айрика? Утром встал и пошел обходить сады…
— Значит, совсем хорошо ему? — уже спокойно спросила Шогакат.
— Доктор еще не позволил ему вставать. А Наапет-айрик все твердит: «Неспокойно у меня на сердце, пойду посмотрю, как закапывают на зиму виноградные кусты». И что мы ни говорили, как ни убеждали — встал, оделся и пошел…
— Ну, раз так, пойду и я, погляжу, как он там… — встала с тахты Шогакат.
— Да что ты говоришь, майрик-джан? Как ты пройдешь три километра пешком в такой холод, под дождем? Еще сама свалишься! Не могу я этого позволить! — решительно заявила Пеброне, усаживая Шогакат-майрик обратно на тахту.
— Так ведь он снова может заболеть. А если повторится болезнь, в его возрасте нехорошо это… — слабо возражала Шогакат.
В комнату вошел шестнадцатилетний Ашот — старший сын Ребеки, учившийся в девятом классе сельской школы.
— А вот и мужчина, старший в нашем доме! — с гордостью представила его Пеброне.
Ашот поцеловал руку Шогакат-майрик и отошел в сторонку.
— Поздоровайся и с Маргарит! — покачала головой Пеброне. — И не смущайся так, она ведь только-только стала студенткой, вчера еще была такой же школьницей.
Ашот несмело протянул руку Маргарит.
— Беги в сад второй бригады, Ашот-джан! — распорядилась Пеброне. — Найди Наапет-айрика и скажи ему, что к нам приехала Шогакат-майрик. Пусть сейчас же возвращается! Ведь еще утром у него температура была…
— Я тоже пойду с Ашотом, — попросила Маргарит.
Шогакат-майрик разрешила ей пойти.
Когда Ашот и Маргарит ушли, Пеброне рассказала гостье домашние новости, показала дом, разделенный коридором на две части. В одной жила семья Аракела, в другой — семья Гарсевана. Пеброне объяснила, что она убедила Наапета переселиться к ним: старик нуждался в уходе.
— Так и будем жить и трудиться, пока наши мужчины благополучно вернутся домой. Ребека работает в колхозе, и Ашот иногда помогает, когда спешная работа. А я слежу и за детьми Ребеки и за своими ребятишками. Но успела и в колхозе поработать — накопила восемьдесят пять трудодней. На этой неделе отпросилась, хочу немного хаурмы[14] на зиму приготовить, виноградных листьев засолить, овощей замариновать. Все-таки нелегко с домом управляться, ведь надо и обед готовить и за чистотой следить. Как говорится, некогда бывает нос утереть…
— Ничего, дочка, потерпи, скоро, видно, конец мучениям нашим, — подбодрила Шогакат.
…Маргарит с трудом добралась до сада. Хотя она была в ботиках, но на них налипло столько грязи, что она еле передвигала ноги. Маргарит посиневшими от холода пальцами при помощи щепочек счищала грязь, но через несколько минут боты опять обрастали ею.
В большом саду работало около тридцати женщин. Маргарит заметила и деда Наапета: она хотела было побежать к нему, но трудно было шагать между рвами и грядами по рыхлой и сырой земле.
— Погоди, дочка, как тебя зовут? — приложив руку козырьком ко лбу, медленно спросил Наапет.
— Маргарит зовут ее! — поспешил ответить Ашот.
— А-а, понравились тебе имя и обладательница его, да? Это не невеста ли сына Шогакат?
— Да. Я приехала с Шогакат-майрик повидать вас.
— Что ты говоришь, доченька?! — радостно сказал Наапет, остановившись рядом с виноградным кустом.
Маргарит только теперь заметила, что старик был бледен, на лбу выступили капли пота. Он тяжело дышал.
— Шогакат-майрик сейчас у Пеброне. Мы вам лекарство привезли.
— Ну, слушайте меня, дочки, Гаянэ-джан, Эвард-джан, Сирарп, Эмма, бесценные вы мои, — обратился Наапет к окружавшим его женщинам. — Закручивайте лозы вот так, только поосторожней, чтоб не сломать. Гибкие у них ветки, в умелой руке сами закручиваются. Словно ребенок, перед сном хочет, чтоб его укрыли, так и виноградный куст перед зимней спячкой просится, чтоб его потеплей укутали!
— Ладно, ладно, Наапет-айрик! — осторожно подсыпая заступом землю, добродушно откликнулась одна из женщин. — Не такие уж мы бестолковые. Все сделаем, как нужно.
— Вот и хорошо. А если затруднение встретится, вон у Ребеки спросите: она так наловчилась обрабатывать виноградную лозу, что не хуже любого агронома это дело понимает.
— Ой, честное слово, дед, мы тоже наловчились! — подхватила молоденькая колхозница.
— Нам ко всему приходится привыкать, — вмешалась в разговор немолодая колхозница Нубар. — Хлеба не видим, виноград сдаем в порядке поставок, даже детям не оставляем. Недаром говорится, человек — камень, все выдержит.
— Ну что за разговоры, Нубар! — обратилась к ней звеньевая Сирарп. — И в городе людям сейчас не сладко.
— Не тебе говорят, — рассердилась Нубар, — глядите-ка на нее, тоже мне работница!.. Если б я могла так подлаживаться к председателю, как ты, то и мое положение было бы иное.
— Ахчи[15], почему ты вскипятилась? — вмешался Наапет.
— А что же мне делать?.. Я просила у председателя денег, а он мне говорит: «Оставил эти деньги для покрытия задолженности по займу». Хлеб у меня на исходе. На что я буду жить? Муж у меня фронтовик. Уже орден получил…
Наапет обратился к Нубар:
— Ты, доченька, не волнуйся… Как только я почувствую, себя лучше, поговорю с председателем…
Женщины, которые давно заметили, что у Наапет-айрика больной вид, наперебой заговорили:
— Очень мы тебе благодарны, дед Наапет. Если чего не поймем, спросим Ребеку. Завтра-послезавтра все кусты будут закопаны, ты не беспокойся. Иди домой.
Наапет внимательным взглядом обвел женщин. Семейная жизнь каждой из них была ему хорошо знакома. Почти у каждой муж или сын были в армии. Как бы он хотел помочь этим женщинам, обремененным и домашними заботами и работой в поле и в садах, где они заменяли ушедших мужчин! А эта дрянная болезнь привязалась, как назло, и доктор все твердил о том, что у него какой-то процесс в легких, да и температура часто повышалась и слабость одолевала…
— У наших т а м потруднее дела… — задумчиво проговорила одна из женщин, у которой муж был пулеметчиком на фронте.
— Ну, дочки, раз вы так уверены, что обойдетесь без меня, пойду лягу. Так уж заведено на свете: сегодня трудишься, чтобы завтра легче и лучше было.
— Правильно, дед… Спасибо… иди… — хором отозвались женщины.
Наапет с Ашотом и Маргарит вышли из сада.
Наапет с трудом добрался до дому — силы изменяли ему. Увидев Шогакат, он сердечно поздоровался с нею и тотчас же сказал:
— Поздравляю тебя, сестрица Шогакат, твой Асканаз становится гордостью не только твоей, но и всех нас. Желаю силы его деснице! Теперь он глава нашей дивизии… Еще какой путь предстоит ему пройти!..
Видно было, что ему трудно говорить. Пеброне быстро приготовила постель, помогла ему раздеться и, уложив, подсунула несколько подушек ему за спину, а одеяло натянула до самого подбородка. Шогакат поднесла порошок сульфидина и стаканчик с водой.
— Говорите, поможет? — запив сульфидин водой, недоверчиво проговорил Наапет. — Кости у меня старые, авось, и без этого… Ну, раз говорите… до прошлого года я ведь в жизни своей лекарств не принимал.
— В молодые годы и лекарства не надо, братец Наапет! — откликнулась Шогакат.
Маргарит, которая усиленно отогревала посиневшие руки, не слыхала, когда Наапет говорил об Асканазе. Подойдя к кровати Наапета, она весело спросила:
— А вы слыхали, дедушка, какое назначение получил Асканаз?
— Знаю, дочка, знаю и поздравляю: мне Гарсеван обо всем пишет!
Услышав имя мужа, Пеброне радостно улыбнулась. Так и проходило время — в тревоге за мужа. Зато и радовалась же она, получив от него весточку!
— Хороший у тебя муж, Пеброне-джан! — ласково сказала Шогакат. — Он и мне письмо написал, все про моего Ара рассказал. Очень он меня обрадовал… Ведь Ара мой — совсем как ребенок.
Маргарит как будто не очень понравилась такая характеристика жениха, но Шогакат-майрик так была воодушевлена рассказом о письме Гарсевана, что не принимала в расчет чувств будущей невестки.
…К вечеру вернулась из сада и Ребека. Она еще более похудела, но выглядела загоревшей и окрепшей.
Почтительно поздоровавшись с Шогакат и расспросив ее о здоровье и обо всех домашних новостях, она с мольбой в голосе спросила:
— Майрик-джан, а не мог бы Асканаз узнать о моем Аракеле?
Шогакат пообещала ей в первом же письме попросить Асканаза разузнать о судьбе Аракела.
— Спасибо, майрик-джан, — обрадовалась Ребека. — А то как же я выращу детей — Ашота моего, Сиран, Гагика, если… не поворачивается язык у меня!
Пеброне приготовила плов из полбы, и все пообедали у Ребеки. Ашот повел Маргарит показать ей приусадебный участок. Заметив на ветках приземистого дерева несколько забытых орехов, Маргарит полезла за ними, и теперь пальцы у нее так онемели от холода, что она не могла держать ложку в руке.
— Ой, бедняжка моя! — воскликнула Ребека. Взяв тонкие пальцы Маргарит в свои загрубелые, жесткие ладони, она начала растирать их, приговаривая: — Первый мороз, вот ты и замерзла. Побудь денька два у нас, привыкнешь.
Маргарит казалось, что ее пальцы царапают жесткой щеткой, но она молчала. Когда пальцы отогрелись, она с детским любопытством стала прислушиваться к Ребеке, для которой, по ее мнению, не было ничего трудного и непонятного ни в полевых, ни в садовых работах.
После обеда все снова собрались у постели Наапета. Пеброне завесила окна, и дети сели в углу — готовить уроки. Выспавшийся Наапет казался немного бодрее. Снова поговорили о полученных письмах. Ашот, уже успевший просмотреть газеты, сообщил, что положение на фронте без перемен. Наапет поднял руку, потер лоб и ласково обратился к Маргарит:
— А ну, дочка, возьми-ка листок бумаги, садись поближе, — будешь писать письмо от меня.
— Кому, дедушка?
— Адресовано будет Гарсевану, но это для всех.
Пеброне и дети с интересом поглядели на Маргарит.
— Пожалуйста, — с готовностью отозвалась Маргарит.
Взяв у Ашота листок бумаги, ручку и чернила, она откинула кудри со лба и своими ясными глазами пристально взглянула на Наапета. Старик любовался полной жизни молоденькой девушкой. Некоторое время он, казалось, обдумывал что-то, затем пригладил усы и начал диктовать.
Маргарит написала несколько строк под диктовку, но почувствовала, что у нее почему-то не выходит. Заметно неразборчивей стал и почерк. Наапет, который вначале диктовал, глядя в потолок, вскоре заметил, что дело у Маргарит не ладится. Взглянув на написанное, он заметил расползающиеся строчки и наставительно сказал:
— Маргарит, доченька, кому бы и какое бы письмо ты ни писала, пиши так, чтобы письмо можно было разобрать. Пусть тот, к кому ты обращаешься, не думает, что писала нехотя, без души.
— Спасибо за совет, дедушка, — смутилась Маргарит.
— Ну, пиши дальше! — промолвил Наапет, но Маргарит набралась духу и сказала:
— Так ведь я не понимаю того, что пишу! А я же — комсомолка, я должна относиться сознательно ко всему, что делаю…
— Да? Значит, тебе кажется, что письмо диктует несознательный старик?
Ашот, который с восхищением любовался приехавшей из города красивой девушкой и даже слегка стеснялся ее, при этих словах Наапета с упреком взглянул на Маргарит.
— Да нет же, дедушка Наапет, я вас очень-очень уважаю, но не понимаю смысла ваших слов… — неловко оправдывалась Маргарит.
— Ну, так буду говорить с тобой попросту. Ты комсомолка, да? Значит, ты против Гитлера и фашистов, да?
— Ну, конечно!
— Ну, и я тоже против Гитлера и был против его деда-прадеда!
— Как же это, дедушка?
— А вот так: до него был Вильгельм, кайзер их. Он тоже хотел всем светом завладеть, да только не исполнилось его желание, повернулось колесо счастья, и мы освободились и от Вильгельма и от других тиранов. А теперь и подавно весь народ, как один, грудью встал!
Маргарит заметила, как блестят глаза Наапета и раздуваются ноздри. Следуя какой-то внезапно возникшей мысли, она спросила:
— Дедушка, а ты когда-нибудь участвовал в войне, приходилось тебе убивать человека?
— Убивать человека? — задумчиво повторил Наапет и, вздохнув, ответил: — Человека — нет, но с убийцей расправится пришлось как-то.
— Когда, дедушка?
— Это долгая история, расскажу как-нибудь в другой раз. Этому уже лет сорок пять будет… Ну, начнем снова.
Маргарит как будто примирилась с тем, что надо записывать дословно все, что говорит Наапет. Ей было понятно все в речи старика, но из того, что он диктовал, она не все понимала, хотя записывала добросовестно. Наапет распорядился взять новый листок и начал снова:
— «…И привиделся мне ночью сон. А во сне том сдвинулись с места оба Арарата. И над Большим Масисом пылал огонь, а над Малым сверкал обнаженный меч. И над вершинами обоих Масисов играло семь радуг, в каждой по семь полос. И под шестью из этих радуг стояли наши храбрецы с обнаженными мечами в руках, и этими мечами грозили они врагу. Под седьмой радугой стояли прекрасные девушки с цветами в руках, и были эти цветы яркими и свежими, как после весеннего дождя. И девушки бросали их храбрецам с обнаженными мечами. И оба Арарата, осененные радугой, и смельчаки, и девушки двинулись вперед, отдали привет Казбеку и Эльбрусу. И над ними также сияли радуги и озаряли героев и девушек. И все три горы плечом к плечу двинулись с места, а герои, как один, спустились на поле боя. Враг был разгромлен и обратился в бегство…»
Наапет диктовал с воодушевлением и, закончив, еще долгое время не опускал поднятых к потолку глаз. Боясь прервать течение его мыслей, Маргарит сидела, затаив дыхание.
— Да, припиши еще вот что: «Гарсеван-джан, бесценные мои сыночки, говорит мне голос сердца, что близок конец испытаниям… Бесчисленные ваши подвиги не пропадут… Наступит скоро день, когда снова зазвучат песни и музыка. Не забывайте, что мы здесь, в тылу, работаем на вас, на вашу победу… Примите мое отцовское благословение!»
— Вот эту часть я поняла, дедушка! — сказала Маргарит, дописав письмо.
— А первую часть т а м поймут: пусть знают парни, что родные им не только наяву, но и во сне успеха желают! Ну, давай сюда ручку, я своей рукой поставлю подпись.
Шогакат молча слушала, как диктовал Наапет. Когда же он подписался, она попросила Маргарит прочитать письмо вслух.
Маргарит начала читать. После каждой фразы Наапет кивал головой, а Шогакат с удовлетворением приговаривала: «Так, так».
Маргарит читала и поглядывала то на Шогакат, то на Наапета. Временами ей казалось, что в глазах Шогакат-майрик она видит отраженный образ своего Ара. Маргарит казалось, что никогда еще не тосковала она по нему так сильно, как в этот вечер.
Глава десятая
ЧТО РЕШИЛА АШХЕН
Сменившись с дежурства, Ашхен уже собиралась домой, когда ей передали, что комиссар госпиталя просит ее зайти к нему в кабинет.
— Вот видите, какие чудеса совершают на фронте лечившиеся в нашем госпитале бойцы! — поздоровавшись, весело сказал он.
— Я с ними все время переписываюсь, — кивнула головой Ашхен.
— Я недавно получил письмо от Игната и Вахрама. Они еще раз просят передать вам благодарность за исключительный уход и душевное отношение.
— Чудесные парни…
Ашхен встала, собираясь уходить, но комиссар порывистым движением достал из ящика какой-то конверт и протянул ей.
— Тут письмо на ваше имя. Вы были в операционной, я не хотел вас вызывать…
Гарсеван и Саруханян написали письмо на имя комиссара госпиталя. Сообщая ему о расстреле Тартаренца, они просили передать письмо Ашхен лично. По их совету, Игнат и Вахрам в письме к комиссару госпиталя вновь выражали свою признательность Ашхен. Гарсеван считал, что это может хоть в какой-то степени смягчить тяжесть удара, который должна была испытать Ашхен, узнав о постыдном поступке Тартаренца. Ашхен взяла письмо и вышла из госпиталя. По выражению лица комиссара она догадывалась, что ему что-то известно и что в письме плохие вести. Сдерживая волнение, она сперва прибрала комнату, умылась, сменила платье и уж после этого, подобно человеку, который готовится к какому-то очень важному делу, села за стол и вскрыла письмо. Написанные водянистыми чернилами, неразборчивым почерком, слова замелькали перед глазами Ашхен. Она с трудом перевела дыхание, встала и подошла к кроватке Тиграника (она решила зайти за Тиграником к Седе после того, как кончит домашние дела) и сухими глазами взглянула на карточку сына, висевшую над изголовьем кроватки. Положив палец в рот и склонив голову набок, Тиграник лукаво смотрел на мать, словно ожидая, что она улыбнется ему в ответ. Но Ашхен сегодня была не в силах улыбнуться.
Она еще раз медленно перечитала письмо — и вдруг неудержимо разрыдалась. Упав лицом на подушку, она долго плакала, что-то глухо и жалобно приговаривая.
Ашхен и сама не могла бы сказать, сколько времени она плакала. Когда она попробовала встать, то почувствовала, что у нее подгибаются ноги. Случайно взглянув в зеркало, она увидела, что глаза у нее распухли и покраснели, а лицо выглядит совсем больным, Ашхен несколько раз прошлась по комнате, постояла перед окном, затем, стиснув руки, подошла к столу, взяла письмо и снова поглядела на карточку сына.
— Послушай, мой бедный Тиграник, что пишут твоей маме…
И, словно в забытьи, она громко начала читать:
— «Бесценная наша Ашхен, ты всегда была и всегда будешь для нас воплощением чистоты и самоотверженности. Нам известна твоя благородная душа, мы горячо любим и уважаем тебя. Поэтому мы решаемся просто и прямо сообщить тебе эту горькую весть: сегодня за измену родине Тартаренц был расстрелян перед строем. Знай, что никому и в голову не придет связывать твое светлое имя с именем этого презренного человека. Забудь о нем, как позабыли мы.
Знаем, что тебя глубоко радуют наши успехи. Сама понимаешь, что о многих подробностях писать нельзя, скажем только, что наша армянская дивизия высоко держит знамя. Умело и самоотверженно руководивший своим полком Асканаз Араратян заменил на посту командира дивизии героически погибшего Тиросяна. Сейчас мы еще более сплочены и сильны, как никогда. Мы уверены, что в тебе таятся такие душевные силы, которые помогут тебе в дни священной Отечественной войны прославить имя армянской женщины. Любящие и уважающие твои друзья
Гарсеван, Грачия»
Слышишь, сынок?.. Слышишь, какое бесчестье навлек на нас твой отец?.. — Она снова подошла к столу, села, отерла помутневшие от слез глаза, стала говорить вслух сама с собой. — Я была внимательна к нему, старалась указать ему правильный путь… Никто, даже самый суровый и пристрастный судья не может обвинить меня в том, что мое отношение к нему, к отцу моего ребенка, могло толкнуть его на такой низкий поступок. Не мог он сказать, что у него не было друга в жизни, что это заставило его отчаяться… Нет, совесть моя чиста!
Она снова заходила по комнате, снова подошла посмотреть на карточку Тиграника. Улыбка ребенка словно потускнела…
«Ну, о чем это я думаю? — упрекнула себя мысленно Ашхен. — Так я говорю, что совесть у меня спокойна? Но кому нужна моя чистая совесть, если мой сын не может ходить с гордо поднятой головой! Неужели я должна жить для того, чтобы все кругом показывали на меня пальцами: смотрите, вот жена труса и предателя, изменника родины! Вырастет мой Тиграник, спросят его: кто твой отец?.. Что он сможет ответить? Кто же в силах перенести позор, на который обрек нас этот презренный человек?! Успокаивать себя уверениями, что совесть моя спокойна, — это участь слабых и безвольных людей!»
Словно придя к верному решению, Ашхен снова подошла к карточке сына. Да, сейчас Тиграник как будто опять улыбается матери. «Тиграник, любимый мой, бесценный, ты должен жить с высоко поднятой головой, на тебя не должно бросать тень имя презренного изменника! Я отметаю память о нем и самое имя его: ты уже не Тартаренц, ты будешь называться по моей фамилии — Тиграном Айказяном. У твоей матери есть еще силы, ты еще будешь иметь право гордиться!.. Хотя нет, нет, какая уж там гордость!.. Пусть учится мой Тиграник, учится не только по книгам, пусть пройдет школу жизни!»
Да, решение было принято.
Короткий осенний день уже близился к закату. Ашхен надела пальто и вышла из дому. Добравшись до госпиталя, она прямо прошла в кабинет комиссара. Взглянув на ее спокойное лицо, комиссар прочел в ее ясных глазах такую решимость, что счел излишним задавать какие-либо вопросы. А он предполагал, что прочтет на лице молодой женщины печать скорби… Слова Ашхен еще более удивили его.
— Я пришла сказать вам, что отказываюсь от работы в госпитале.
— Да что вы говорите, товарищ Айказян?! — вскочил с места комиссар. — Вы же знаете, как мы ценим вас!
— Здесь мне легко найти заместительницу.
— Зачем же! Что вы задумали?
— Этот вопрос вы должны были задать прежде всего. Я решила поехать на фронт…
С минуту комиссар молчал. Не то с удивлением, не то с одобрением он взглянул на Ашхен и тихо проговорил:
— Могу лишь пожелать вам удачи…
Ашхен написала заявление и, зайдя в республиканский военный комиссариат, рассказала обо всем. Комиссар внимательно выслушал ее.
— Я не могу больше оставаться здесь, я должна находиться т а м, в кругу тех людей, которые знали… его. Пусть они увидят, что я заменяю… не могу подыскать подходящего слова, но, конечно, вы понимаете, что заменить т а к о г о ч е л о в е к а я не хотела бы… Вернее — возместить его долг… И будьте уверены, что я не уроню чести моего народа, не опозорю ее, как он!
— Я полностью доверяю вам, я слышал о вас. Вы получите назначение. Я позабочусь о том, чтобы вас направили именно в дивизию Араратяна.
Ашхен от души поблагодарила его и в приподнятом настроении побежала к Седе.
Войдя в комнату, она направилась прямо к кровати, в которую Седа уложила ребенка. В те вечера, когда Ашхен запаздывала, Седа обычно укладывала его спать. Тиграник лежал на спине. Он приложил пальчик к губам — так, как был снят на карточке. По-видимому, ему снился хороший сон: он улыбался. Эта улыбка показалась Ашхен такой сладостной, что на ее глазах выступили слезы; она нагнулась и осторожно поцеловала пальчик и щеки Тиграника.
Ашхен подробно рассказала Седе обо всем.
— До чего докатился, а?.. По крайней мере, избавилась от негодяя…
— Но, Седа-джан, я вовсе не хотела от него избавляться таким образом…
— Ашхен, милая, я не в этом смысле сказала! Я знаю, ты все делала для того, чтобы он стал человеком… Но ведь недаром же говорится: «Горбатого могила исправит». Значит, твердо решила ехать?
— Да, вот только вопрос о ребенке…
— Об этом нечего и говорить, Ашхен! Цовик и Давидик так привыкли к Тигранику, что всегда недовольны, когда ты приходишь за ним.
— Нет, Седа, я понимаю, у тебя и без того немало забот. Я попрошу Маргарит, чтобы она приходила почаще, помогала тебе. Но иного выхода нет. Видишь, даже из вежливости я не стала отнекиваться, не спросила путем, можешь ли ты взять на себя заботу о моем ребенке. Но ты понимаешь мое положение, я совсем одинока, мать у меня умерла… А я не могу больше оставаться здесь, не могу!.. — Голос ее дрогнул. — Ну, оставим это. Какие у тебя вести от Вртанеса?
Вместо ответа Седа взяла со стола и передала ей последнее письмо Вртанеса. Ашхен прочла и задумчиво проговорила:
— Восхищается Асканазом… И какое бодрое у него настроение! Конечно, жизнь военного корреспондента очень обогатила его… А о Тартаренце — ни слова. Видно, не знает еще.
…Седа побежала приготовить ужин. Ашхен снова подошла к кровати, нагнулась над спящим ребенком. Тиграник иногда чмокал губами, как бы ища грудь. Ашхен всегда трогала эта его привычка. Вспомнив то время, когда она еще грудью кормила Тиграника, она взволновалась. Что будет завтра или послезавтра, когда мальчик поймет, что мама уже не придет? Седа может его обманывать и отвлекать день, другой, неделю, ну, а потом?.. Правильно ли ее решение уехать на фронт? Здесь ее уважают и ценят, не проходит и дня, чтоб она не слышала похвал. Уже и в газетах писали о ней.
— Но нет, нет, мой Тиграник! — вырвалось у нее. — Ты сам не стал бы удерживать меня, если б мог рассуждать… Я не могу, не могу смотреть в лицо людям! Нет, я приняла правильное решение… ты сам поймешь, мой маленький, что твоя мама поступила разумно, что она не могла поступить иначе!
Ашхен бережно прикрыла ребенка одеяльцем. Осторожно поцеловала ручки и лоб, взяла его костюмчик, чтобы сложить поаккуратней, — и вдруг прижала к лицу, стремясь скрыть брызнувшие из глаз слезы.
На следующее утро Ашхен обошла всех друзей и близких, чтобы проститься с ними. В первую очередь она забежала к Шогакат-майрик, которая только что вернулась из села вместе с Маргарит. Больше часа она не выпускала из объятий Тиграника, осыпая его ласками. Тиграник мало что понимал из слов матери, но, чувствуя, что мать не так, как всегда, прощается с ним, крепко прильнул к Ашхен и ни за что не соглашался сойти с ее колен.
В последний раз расцеловав ребенка, Ашхен осторожно разняла его ручки, передала Седе и вместе с Маргарит быстро вышла из комнаты. Они пошли на вокзал. Она намеренно не говорила никому о том, что едет на фронт, чтобы ее не провожали. Крепко обняв Маргарит, Ашхен о чем-то тихо говорила с ней. О чем же говорили две подруги? Трудно было сказать. Но все, что они говорили друг другу, казалось им важным и необходимым. Ашхен в последний раз обняла и расцеловала подругу и поднялась по ступенькам вагона.
— Ашхен-джан! — воскликнула Маргарит, когда Ашхен выглянула из окна вагона. — Все сделаю, как ты говорила, но смотри — мы должны снова встретиться здесь, слышишь?
— Слышу, милая, сейчас у всех провожающих такое желание, а желание всех — это закон. Да, ты встретишь меня и… Ара.
Глава одиннадцатая
ДЕНИСОВ И МАРФУША
Денисов только что выслушал доклад начальника оперативной части о ходе военных действий. Солнце уже перешло за полдень, Денисов приказал начальнику штаба разработать новые боевые задания для дивизии.
— Бить по противнику без передышки и днем и ночью, — заключил Денисов.
Накануне утром он распорядился перевести штаб армии на новое место, неподалеку от Владикавказа, и до последней минуты почти не присаживался: всю ночь с работниками штаба уточнял данные о личном составе и технике, а в этот день уже с рассвета руководил боевыми операциями.
В соседней комнате его нетерпеливо поджидала Марфуша. С неделю пролежав в санбате, она вполне оправилась, решительно отказалась от переброски в тыл и выпросила у Денисова разрешение остаться пока при штабе. Теперь она усердно следила за питанием Денисова. В те редкие минуты, когда Денисов отрывался от занятий, чтобы перекусить или передохнуть, Марфуша заботилась о нем, упрашивая снять хотя бы тужурку, когда он ложился отдыхать, или подкладывая ему лакомые кусочки, когда он ел, и заранее советуясь со штабным поваром, что бы приготовить ему на завтрак или обед (она знала, что у Денисова больной желудок).
Когда Денисов вышел из своего кабинета, Марфуша вскочила с места и, поддерживая свою раненую руку, шагнула к нему, пытливо заглядывая ему в лицо. Должно быть, она прочла на лице Денисова именно то, что ей так хотелось узнать, потому что взвизгнула со свойственной ей непосредственностью:
— Удирают фашисты, да?! Выгнали их из нескольких сел, да?
— Но сопротивляются… — задумчиво сказал Денисов.
— Ну и что ж, что сопротивляются! Но ведь нападаем-то мы, инициатива перешла к нам, правда, дяденька?
— Ишь ты, усвоила военные термины! — добродушно сказал Денисов Марфуше, усаживаясь за стол.
— А я днем видела раненых с передовой. Они рассказывали, что на одном участке фашисты удирали в панике, а те, что остались в окопах, в плен сдались, — тараторила Марфуша.
— А какие показания тебе дали пленные? — улыбнулся Денисов.
— Ой, не давали, дяденька! Рассказывайте лучше вы.
При взгляде на Марфушу Денисов невольно испытывал теплое чувство. Марфуша, которую ее ранение возвышало в собственных глазах, оставаясь наедине с Денисовым, уже не стеснялась попросту беседовать с ним.
— Один из взятых в плен сообщил, — рассказывал Денисов, которому нравился пылкий интерес Марфуши, — что две роты их батальона были почти целиком уничтожены: он сам с одним товарищем спрятались под телами убитых, дождались прихода наших и сдались им в плен.
— Ах, почему я не была там!..
— Это было в другой части, не у вас.
— Ну и что ж, вы думаете, наша часть отстает от других? Ничего подобного!
— Поглядите, какой патриот своей части!.. Ну, а покушать-то что ты мне дашь?
Марфуша ахнула и стремглав бросилась вон из комнаты. Через минуту она вернулась, осторожно неся тарелку с рисовым супом. Денисов хлебал через силу, но расхваливал кулинарное искусство Марфуши:
— Молодец, Марфуша, умеешь и славно воевать и вкусно готовить.
— И тому и другому училась у Аллы Мартыновны. Ах, дяденька, когда же мы увидим ее, а?
Лицо Денисова омрачилось — от Аллы Мартыновны давно не было вестей.
— Долог еще путь до нашей Аллы Мартыновны.
Притихшая Марфуша принесла котлету с ломтиками жареного картофеля. Денисов нехотя доел второе, встал и прошелся по комнате. Проворно прибирая со стола, Марфуша бормотала:
— Не вовремя меня ранило… Мы в наступление перешли, а я даже не знаю, кто там без меня Остужко помогает… Дяденька, если ночью провод освободится, разрешите мне связаться с Остужко?
— А что, рапорт от него хочешь потребовать?
— Ой, и правда, о чем я буду с ним говорить? Ага, знаю, — спрошу, кто меня заменяет.
— Ну, знаешь, если только для этого, вряд ли можно занимать провод.
— Ну ладно, и не надо. Кофе дать?
Выпив стакан кофе, Денисов снова прошел к себе и затребовал последние сведения. Начальник оперативной части, широко улыбаясь, подал Денисову листок с рапортом.
— Вот молодец Иванов! — воскликнул Денисов, пробежав глазами листок. — Значит, фашисты вынуждены уже отступить к Гизелю? (Иванов был командиром дивизии, которой дано было задание завладеть селом Гизель — одним из опорных пунктов Владикавказской группировки фашистов.)
После совещания с членами военного совета и начальником штаба армии Денисов отдал новый приказ по дивизиям. Суть приказа заключалась в том, что в бой вводились две свежие дивизии, которым вместе с дивизией Иванова и другой, уже действующей на этом участке, поручалось, не ослабляя темпа наступления, вытеснить неприятеля, пытавшегося окопаться на подступах к Орджоникидзе. Дивизии же Араратяна поручалось обходным маневром перерезать фашистам путь к отступлению.
Начальник штаба присел к столу, чтобы составить текст приказа. Денисов с возгласом одобрения положил телефонную трубку: ему только что доложили, что на одном из участков фронта братья Дмитрий и Иван Тарасенко подбили двадцать один танк; бо́льшая половина была подбита Дмитрием.
— Чудесно! — воскликнул Денисов. — Без танков немецкая пехота не продержится.
— Товарищ командующий! — радостно доложил начальник оперативной части, только что положивший трубку другого телефона. — Лейтенант Шапошников принял на себя командование ротой после гибели ротного командира. Рота ворвалась в село Гизель и заняла несколько домов. Фашисты стараются выбить их, но рота крепко держится.
— Передайте Иванову, чтобы он не жалел сил для помощи Шапошникову, скажите, что я подбрасываю ему еще один полк. Он не должен давать неприятелю в эту ночь ни минуты передышки.
Раздался новый телефонный звонок. Адъютант доложил Денисову, что его зовут к телефону. Денисов взял трубку и, подтянувшись, спокойно и раздельно произнес:
— Вышлю подробное донесение немедленно же… Точно так, уже вошли в село Гизель… Наши части уже потеснили немцев на одной из окраин… Точно так, до рассвета… Гарантирую.
Денисов положил трубку и с посветлевшим лицом сообщил:
— Дела идут хорошо и на участках других армий… Только что говорил с начальником штаба фронта. Вызовите ко мне командира авиационного соединения.
Ознакомив явившегося командира с положением на фронте, Денисов спросил:
— Кого из летчиков вы можете нам выделить на рассвете?
— Самсона Мкртумяна, Ивана Баронина, Котэ Мегрелишвили, Курбана Байрамова, Александра Бардиева, Дмитрия Сигова…
— Хороший подбор! — улыбнулся Денисов и, указав на карте несколько направлений, объяснил: — Вот путь отступления неприятеля; а отсюда, по последним данным разведки, он ждет подкрепления и подброски боеприпасов. Твои соколы не должны давать ему ни минуты покоя. Надо бомбить возможный путь отступления и громить посланные на помощь свежие силы.
— Есть бомбить путь отступления и громить подкрепления, товарищ командующий!
Подписав приказы по дивизиям, Денисов сел в машину и направился в «хозяйство» Иванова. Сырая ноябрьская ночь и раскисшая дорога затрудняли продвижение. Хотя ночные бои были уже не в диковинку, но это была особенная ночь. Ни на минуту не прекращался интенсивный огонь с обеих сторон.
Составленные из местных уроженцев мелкие группы засылались в расположение частей неприятеля, чтобы вызвать смятение, подавить огневые точки и открыть дорогу идущим вслед за ними частям.
Добравшись до КП комдива Иванова, Денисов застал его за телефонным разговором. Иванов вскочил и вытянулся перед командующим армией. Денисов махнул рукой:
— Продолжайте!
Иванов снова схватил брошенную было трубку телефона.
— Так, говоришь, немцы подожгли занятые ротой Шапошникова дома?.. Пошли в обход взвод автоматчиков, пусть отвлекут внимание врага, чтобы дать возможность Шапошникову продвинуться вперед. Ни слова об отходе! — Тут Иванов повторил вслух то, что ему передали по телефону: будто Шапошников не намерен отходить, а, наоборот, продвинулся дальше и уже успел занять новые позиции и просит подбросить ему боеприпасы. — Говоришь, пламя пожара освещает бойцов, трудно укрыться от неприятельских снайперов? Взвод автоматчиков уже пошел в обход?
Денисов быстро связался с начальником штаба армии и приказал сбросить несколько серий зажигательных бомб на занятые немцами дома.
— Теперь уже пожар будет освещать немцев. А к этому времени горящие дома в тылу у Шапошникова не будут освещать сражающихся, — пояснил он с легкой усмешкой, бросая трубку на рычаг.
До самого рассвета не прекращались бои на далеко растянувшемся фронте. Разрывы снарядов и мин, лучи прожекторов полосовали ночной мрак; в грохоте и гуле, в ожесточенных схватках решалась судьба многих тысяч людей, судьба страны.
К Денисову непрерывно поступали донесения с мест. Боевые действия развивались удачно. Он быстро пробегал глазами донесения: «Да, неприятель уже не может сосредоточить значительные силы, сталинградцы спутали все его расчеты!»
Чуть забрезжил рассвет, авиация начала бомбить коммуникационные линии в тылу неприятеля. Вскоре поступило донесение о том, что неприятель вытеснен из села Гизель, остатки его разгромленных частей бегут.
Денисов нетерпеливо запросил о том, готова ли дивизия Араратяна отрезать неприятелю путь отступления, и успокоился лишь тогда, когда получил утвердительный ответ. А на подступах к Владикавказу другие советские дивизии уже преследовали по пятам отступающего врага.
Денисов сел в машину и помчался в Гизель. Жители освобожденного села — старики, женщины и дети — со слезами радости кинулись к нему. Денисову вспомнился тот день, когда на подступах к Москве он встретил толпу людей, стремившихся к освобожденным населенным пунктам.
Из толпы жителей выступила пожилая женщина. Она беззвучно шевелила губами и вдруг, порывисто потянувшись к Денисову, крепко поцеловала его в лоб.
— Товарищи, братья! — воскликнула она дрожащим голосом. — Нас никогда не покидала надежда! Мы затаились и ждали вашего прихода! Припрятала я мотыгу в углу сада, знала, что пригодится. У меня жил фашистский офицер — немало зла натворил он в селе. И когда увидела, что он переполошился, начал собирать награбленные вещи, — сразу поняла я, что дела у них плохи. Подобралась к нему с мотыгой — и разом отплатила за все! Вот его тетрадка, все писал в ней что-то, вот все его бумаги. И не только я, вон и Данилов двоих уложил, а комсомолки наши — больше десятка.
Денисов смотрел на измученное лицо этой немолодой женщины, и ему казалось, что он видит пред собой живое воплощение народного гнева.
Денисов, поблагодарив встречавших его людей, выехал из села. По обе стороны дороги валялись в самых странных позах тела убитых фашистов; нагроможденные друг на друга лежали танки и орудия. Машина остановилась перед разгромленной батареей. Неприятель всю ночь вел отсюда огонь по наступающим советским бойцам. Теперь же весь расчет батареи лежал бездыханный близ умолкших орудий.
— Ну и славно же поработали наши! — воскликнул адъютант.
Денисов оглядывал местность в бинокль. Советские части уже далеко продвинулись вперед. Занято было также одно из сел на правом фланге. Денисов снова сел в машину, достал записную книжку и сделал в ней какие-то пометки. Шофер молча ждал приказа командующего армией. Через некоторое время адъютант не вытерпел:
— Прикажете вернуться в штаб, товарищ командующий?
— Как? — строго переспросил Денисов, скрывая снисходительную улыбку.
— Я говорю… вернуться в штаб… — замялся адъютант.
— Нет, мы уже никуда не будем возвращаться: пускай штаб поспевает за мной! Сообщите там, что мой новый КП будет вон в том селе, предупредите и начальника транспорта, чтобы он каждую минуту был готов к приказу о переброске штаба вперед.
Адъютант с довольной улыбкой занял место рядом с шофером. Переведя рычаг на первую скорость, шофер сказал:
— Поехали!
В новом, наскоро приведенном в порядок помещении штаба Денисов подытожил все донесения с мест, написал доклад командованию Кавказским фронтом и отправил со специальным фельдъегерем. Раньше всех перебрались в новое помещение начальники оперативного отдела и штаба. Постепенно подъезжали и остальные сотрудники со штабным имуществом и документами.
— Дяденька! — кинулась к Денисову Марфуша, когда он вошел. — Дяденька… — повторила она и умолкла.
— Ну, «дяденьку» слышал, выкладывай дальше, — улыбнулся Денисов.
— А я уж и не знаю, что мне говорить. Только весело мне, ой как весело! И смеяться хочется…
— А я тебе подбавлю, Марфуша: Остужко назначен командиром полка. Араратян уверяет, что из Остужко выйдет командир не хуже его самого. Ну, я и утвердил! А Остужко уже оправдывает себя: вместе с Ивановым зажал в тиски отступающих фашистов.
— Ой, Остужко?.. Да я… — смешалась от радости Марфуша. — Дяденька, сегодня-то можно мне с ним по телефону поговорить? — И, получив разрешение, радостно заметалась по комнате. — Ну садитесь, садитесь скорей, остынет завтрак-то… Ой, нет, подождите, простыли небось ночью! Сейчас отогрею вас коньячком!
— А коньяк-то откуда появился?
— Так ведь из тыла подарки прислали! Я и взяла бутылочку для вас.
— А кто тебе позволил на мое имя брать? — в шутку нахмурившись, сказал Денисов, но, заметив, что Марфуша вся вспыхнула и на глазах у нее выступили слезы, поспешил добавить: — Ладно, ладно, пошутил я, глаза у тебя на мокром месте.
Днем Марфуше удалось связаться с Остужко.
— Это ты, миленький?.. — кричала Марфуша в телефонную трубку. — Поздравляю тебя… Ишь, какой строгий стал!.. Ладно, буду покороче. Кто меня там заменяет? Андрей Федорович говорит, что мне еще с недельку нужно лечиться.
— Не беспокойся! — сдержанно ответил Остужко. — Заместительницы найдутся. Вот заявилась к нам в часть богиня одна по твоей специальности, только не знаем, останется у нас или нет.
— Настроение-то у тебя, видно, отличное…
— Почему же ему не быть?
— О какой это ты богине? — не утерпела Марфуша.
— Вот когда закрепят ее за моей частью, доложу тебе во всех подробностях! А пока поправляйся, жду… то есть ждем тебя. До свидания.
До самого вечера Марфуша не находила себе места, так ей хотелось поскорее передать Денисову все подробности своего короткого разговора с Остужко. Но Денисов приехал только ночью и рассмеялся, заметив, что Марфуша вся встрепенулась при виде его веселого лица.
— Так ты ничего не знаешь? — хитро спросил он.
— Ой, не знаю.
— Вот сообщение Совинформбюро, читай, просвещайся.
Марфуша жадно схватила напечатанный листок:
«Последний час. Удар по группировке германо-фашистских войск в районе города Владикавказа (Орджоникидзе)…»
Она произносила вслух лишь отдельные фразы:
— «Бой на подступах к Владикавказу закончился поражением немцев»… «На поле боя осталось свыше пяти тысяч убитых немецких солдат и офицеров»… «Число раненых немцев в несколько раз превышает количество убитых»…
— Ой, дяденька, а знают об этом Алла Мартыновна и Оксана? — воскликнула Марфуша.
— Потерпи, дочка, узнают и это и еще лучшие новости.
— Пусть узнают, пусть! — чуть не танцевала от радости Марфуша, не догадываясь о том, какие тяжелые мысли владели Денисовым, когда он думал о судьбе жены и свояченицы.
Глава двенадцатая
КОЛЕСО ИСТОРИИ
Зимняя ночь. Снегопад только что прекратился. Северокавказская холмистая степь местами совсем побелела, но кое-где ветер сдул рыхлый снег, и обнажились остатки бурой травы. Словно гигантская шахматная доска белого цвета с неправильной формы бурыми клетками — такой представилась эта степь Асканазу Араратяну, когда он, вместе с Грачиком Саруханяном, своим новым адъютантом, ехал к новому расположению штаба дивизии. Штаб был переведен в одно из освобожденных сел южнее Малгобека.
Асканаз глядел в окно автомашины. Лицо его светилось от сдержанного ликования. Ведь он ехал по той дороге, по которой с такой душевной болью вынужден был отступать месяц тому назад! Эту боль лишь отчасти исцелили удары по врагу, нанесенные его дивизией. Асканаз вспомнил, что уже много времени не заносил ни строчки в свою записную книжку — не находил слов для выражения своих переживаний. Он лишь чувствовал, что все вокруг словно окрашено в другие цвета. Теперь он получал приказ за приказом двигаться вперед. Это обыкновенное слово приобрело теперь важное значение, оно говорило о победе.
Добравшись до места назначения, Асканаз вошел в дом, где должен был разместиться его штаб. Еще утром здесь сидел командир немецкой части. Удобная кухня, мягкие диваны, пианино, баня — все для того, чтобы сделать пребывание здесь более приятным. На полу были разбросаны снимки. Асканаз с отвращением отбросил ногой несколько снимков, окаймленных паучьей вязью свастики, насмешливо пробормотал:
— Думали перезимовать здесь…
Грачик Саруханян, вошедший в комнату вслед за Асканазом, отдал ординарцу распоряжение о спешной уборке комнат и с улыбкой отозвался:
— Разыгрались аппетиты!.. — И добавил: — Дом проверен, товарищ комдив. Не успели о н и понаставить мин, слишком торопились удрать.
— Распорядись, чтобы через час созвали здесь, у меня, командиров и комиссаров полков. А связь уже налажена? Тогда скажи Нине, чтобы соединила меня с начальником штаба армии.
Грачик протянул было руку к трубке, когда послышался резкий телефонный звонок. Дав условные позывные, Грачик удивленно повернулся к Асканазу.
— Товарищ комдив, вас просят из штаба армии…
— Вот это называется совпадение! — воскликнул Асканаз, взяв протянутую трубку. — Я слушаю!
Не сводивший с него глаз Грачик видел, как проясняется постепенно лицо комдива. Глаза Асканаза радостно заблестели, на лице появилась широкая улыбка. Грачик невольно потер руки, с трудом удерживаясь от нетерпеливых расспросов.
— Точно так! — ответил Асканаз на какой-то вопрос и приказал Грачику: — Скоренько бери листок и карандаш!
Грачик выхватил карандаш и листок из планшета и присел к столику. Асканаз начал диктовать то, что ему, по-видимому, говорили по телефону:
— Пиши: «Последний час».
— Из Сталинграда, товарищ комдив? — привскочил Грачик.
— Садись и продолжай писать, — с мягким упреком покачал головой Асканаз и тотчас же пояснил кому-то, склонившись над трубкой: — Ничего, ничего, тут у меня авансом радуются… Итак пиши: «Удачное наступление наших войск в районе города Сталинграда».
Грачик и сам бы не мог объяснить, как двигался карандаш в его руке и как он сумел совладать с собой. Сгорая от нетерпения, он слушал диктовку Асканаза, словно какую-то чудесную музыку. Чертя огромные буквы, он ногой отбивал такт, повторяя каждую фразу:
«Линия обороны неприятеля прорвана к северо-западу от Сталинграда протяжением на тридцать километров, к югу — протяжением на двадцать километров»… «Ломая сопротивление противника, наши войска продвинулись вперед на шестьдесят — семьдесят километров»… «Взято в плен тридцать тысяч немцев»… «Неприятель оставил на поле битвы до четырнадцати тысяч солдат и офицеров убитыми»… Наступление развивается успешно.
— Все?.. — с сожалением воскликнул Грачик, когда Асканаз умолк.
— Остальное — завтра, — промолвил Асканаз, пристально взглянув на Грачика.
Разнообразные чувства отражались на лице молодого адъютанта. Он то подкидывал карандаш, то принимался перечитывать сообщение, то вскидывал сияющие глаза на Асканаза: чувствовалось, что если б не военная дисциплина, Грачик тут же пустился бы в пляс. Асканаз понял, что происходит в душе юноши, и порывисто обнял Грачика.
Еще за час до этого Асканаз не представлял себе, как можно выразить словами все то, что происходило в его душе. Теперь он все понимал. Асканазу словно виделась вся его дивизия, весь советский народ, и все, казалось, говорили: «Мы хотели жить на нашей земле, как ее полноправные хозяева, и мы этого добились. Теперь и умереть не страшно!»
Эта мысль не покидала Асканаза и тогда, когда к нему в кабинет собрались командиры и комиссары полков. Все казались преображенными. Берберян, уже второй день болевший гриппом, чувствовал себя так, словно он уже выздоровел.
Асканаз прочитал вслух сообщение. «Наступление развивается успешно»… Что можно было еще прибавить к этим словам? Нужно было только скорей довести до всех эту весть.
Асканаз коротко сообщил, какова задача дивизии, дал указания каждому. Все понимали, что ответственность еще более возросла и армянский народ не должен отставать от других.
Когда собрание кончилось, в кабинете остались Асканаз и Берберян. В соседней комнате Остужко вместе с начальником штаба уточнял свои задания. Берберян официальным тоном обратился к Асканазу:
— Товарищ комдив, с новым пополнением прибыла Ашхен Айказян. Она просила узнать, можете ли вы принять ее.
Уже третий день Ашхен находилась в части, все знали об этом. Она находилась в санбате, но заявила о своем решении работать на передовой. Об этом также было известно многим. В разговоре с Марфушей Остужко намекал именно на Ашхен; он был не прочь, чтобы Ашхен прикрепили к его полку.
Берберян встретился с Ашхен как раз перед тем, как зайти к командиру дивизии. Эта мимолетная встреча так взволновала Мхитара, что он еще не сумел обдумать, как ему вести себя с Ашхен. Передав ее просьбу, он поспешил вместе с Остужко вернуться в полк — сообщить бойцам радостные вести о Сталинградском сражении.
Асканаз несколько раз прошелся по комнате и лишь затем распорядился позвать Ашхен к нему. Асканаз уселся за стол, сжал голову. Перед ним встал образ Ашхен. Сколько событий произошло за эти полтора года! Ашхен… в ту памятную июньскую ночь, когда он готовился выехать из Еревана, она так доверчиво открыла перед ним свою душу. Асканаз вспомнил задушевные письма Ашхен, которые он получал под Москвой. Какие это была тревожные дни и как радовали его эти дружеские письма! Что сейчас переживает Ашхен? Сильно ли она подавлена? Правда, это не в ее характере.
Асканаз на минуту задумался.
— Нет, — промолвил он вслух, вставая из-за стола. — Свершилось именно то, что и должно было свершиться!
Он чувствовал, что Ашхен близка ему по-прежнему. Сейчас она казалась ему достойной еще большего уважения. Как и о чем будут они говорить при встрече? И заговорят ли о Тартаренце?
В комнату вошел радостный и смущенный Грачик и доложил, что пришла Ашхен.
Асканаз встал и поспешил ей навстречу. Она остановилась у входа. Шапку и шинель она оставила в коридоре. На ней была гимнастерка и юбка защитного цвета.
Молчаливый серьезный взгляд ее был устремлен на Асканаза. Асканаз протянул ей руку. Она пожала ее и села у стола.
Многое вспомнила Ашхен в эту минуту. Асканаз был тем человеком, которому она когда-то открыла свое сердце, дружба с которым помогала ей увереннее шагать по жизни. Что же думает он о ней сейчас? Нет, Ашхен не может допустить, чтобы Асканаз хотя бы мысленно мог унизить ее достоинство! Она подняла голову и просто сказала:
— Уничтожен был не мой муж, не отец моего ребенка, а предатель родины. Он понес заслуженное наказание.
— Мы думаем одинаково, — отозвался Асканаз, невольно вспомнив слова, которыми он обменялся с Ниной.
Ашхен было уже известно о сталинградских событиях, и она заговорила об этом:
— В санбате мы едва сумели убедить одного из раненых долечиться. «Пустите, говорит, меня на передовую, пусть узнают сталинградцы, что их победа воодушевила нас всех».
— Да, царит очень большое воодушевление, — подтвердил Асканаз. — Из всех частей сообщают о впечатлении, которое произвела весть о Сталинграде.
— Товарищ полковник, моя работа в санбате не удовлетворяет меня, — помолчав, твердо сказала Ашхен. — Прошу меня назначить на передовую. Я хочу быть с бойцами. В госпитале меня уже приняли в партию, так что вы можете мне доверять.
— Я вам доверяю полностью. Но нахожу, что вы можете принести больше пользы на той работе, какую выполняете сейчас.
Лицо Ашхен омрачилось. Но не желая вступать в пререкания с командиром дивизии, она лишь тихо произнесла:
— В таком случае разрешите хотя бы пойти сестрой в полк. Мне рассказывали о том, как Марфуша выносила раненых из-под огня. Они не будут против того, чтобы я служила в полку?
«Они»? Кто же были эти «они» — Остужко, Берберян? Асканаз с минуту подумал, затем уступил:
— Если вам уж так хочется на передовую, что ж, пошлем. Там Габриэл, Ара, Михрдат, Гарсеван…
— Да, я знаю… — не сразу отозвалась Ашхен.
Она встала, удовлетворенная согласием Асканаза.
Он еще раз внимательно вгляделся в Ашхен. Мелькнула ли у него догадка о том, что Ашхен могла бы когда-нибудь согласиться связать свою судьбу с ним? Может быть. Однако сейчас Асканаз чувствовал, что не время говорить с Ашхен об этом.
Вскоре Асканаз погрузился в очередные заботы: одного за другим он вызывал полковых командиров к телефону.
Глава тринадцатая
ГАБРИЭЛ
Выйдя из кабинета в приемную, Ашхен на минуту остановилась перед Грачиком. Если, повинуясь воинской дисциплине и велению внутреннего голоса, она держалась у Асканаза так, как этого требовали место и обстоятельства встречи, то, увидев снова Грачика, она уже не могла и не хотела выдерживать официальный тон: крепко пожав ему руку, ласково потрепала его по волосам, словно он только-только поправился и она его снова провожала на фронт из госпиталя.
— Ашхен-джан, словно я Рузан свою увидел… — взволнованно произнес Грачик.
Но, заметив слезы на глазах Ашхен, поспешно прибавил:
— Ну, Ашхен, ведь никому и в голову не придет… Ты настолько выше всего!..
— Не повторяй… — прервала его Ашхен. — Не повторяй того, что написал в письме! И не напоминай…
Ей было тяжело, что окружающие не понимают ее. К чему сочувственные слова? Неужели все эти люди не понимают, что и сама она была бы точно так же неумолима к преступнику, как неумолимы оказались Асканаз, Грачик, Гарсеван или Габриэл? Как ей хотелось бы, чтобы это поняли все и поняли без объяснений!
Простившись с Грачиком, Ашхен вернулась в санбат. Но на следующее утро, попав в роту Гарсевана, она поняла, что ее желание наконец исполнилось: Гарсеван ее принял так, как обычно принимал очередное пополнение.
— Ваш опыт очень пригодится нам. Я уверен, что вы и здесь оправдаете себя! — серьезно сказал он и закончил: — Некоторые из бойцов роты, и в первую очередь я сам, очень многим обязаны вам. И мы выплатим этот долг честно!
Оставшись наедине с Ашхен, Гарсеван тихо проговорил:
— Ашхен-джан, знай, что твое присутствие так воодушевит наших парней, как воодушевило бы присутствие родной сестры. И очень хорошо ты сделала, что приехала: твое место именно здесь! Такой самоотверженной и смелой женщине, как ты, в тылу не место.
В другое время Ашхен не вынесла бы подобных похвал. Но сейчас эти ласковые слова были ей необходимы. Ведь Гарсеван как бы возлагал на нее новые обязательства! Ашхен было приятно и то, что старый друг так себя держал, словно на свете не бывало никакого Тартаренца. А может быть, Грачик предупредил Гарсевана?
Прошло немного времени, и Ашхен так свыклась с военной обстановкой, словно уже давно находилась на фронте. Она так ловко и быстро выносила раненых с поля битвы, так умело оказывала им первую помощь, что все рассказы о ней получили полное подтверждение даже в глазах бойцов, которые раньше слушали их с недоверием. Она осталась работать в роте Гарсевана. Марфушу назначили в соседнюю роту. Начавшееся между ними соревнование вызывало искреннее восхищение у Берберяна и Остужко.
Положение на фронте складывалось благоприятно. Наступление 1943 года страна встречала уже с неколебим мой верой в победу. Советское Информбюро сообщало, что только на Сталинградском фронте освобождено от фашистских оккупантов 1589 населенных пунктов; тридцать шесть дивизий противника разгромлено, остатки ах взяты в кольцо. В течение шести недель советскими войсками было уничтожено 175 тысяч солдат и офицеров противника, взято в плен 137 650 гитлеровцев, захвачены огромные военные трофеи. Сталинградская операция расценивалась, как не имеющая прецедента в истории войн.
Разъясняя сообщение Совинформбюро личному составу полка, Мхитар Берберян говорил:
— «С новым годом — с новым счастьем!» — этими словами встречает наш народ каждый Новый гид. Положение на советско-германском фронте изменилось в нашу пользу. Есть и наша доля в этих успехах!.. Но сколько матерей и сестер, жен и детей там, в глубоком тылу, встречают слезами этот новогодний день! Сколько людей мечтают о том, чтобы в наступающем Новом году сесть за один стол с родными! Кто из вас не чувствует такой же тоски, кто из вас мысленно не видит своих родных, собравшихся у семейного очага?! Храните родной очаг, с новой энергией уничтожайте врага!
Ашхен слушала эти слова с глубоким волнением. Здесь говорилось о победе, добытой ценой крови.
После собрания Берберян подозвал Ашхен и с упреком спросил:
— Почему вы не сказали хотя бы несколько слов?
— Я говорю с каждым из бойцов в отдельности. Говорить же с трибуны я не умею.
— Ложная скромность!
— Нет, ложная скромность чужда мне.
— Ну ладно, продолжайте индивидуальные беседы. И они приносят пользу…
— Да, и мне так кажется…
Берберян взглянул на Ашхен: как ему хотелось бы, чтобы она поняла, что он одобряет ее! Она сделала вид, что ничего не заметила, и вместе с ним отправилась в свою роту.
На рассвете дивизия со всеми подразделениями должна была перейти в наступление. Решено было занять Малгобек, — этого требовал Денисов; Араратян и командир соседней дивизии должны были выполнить задание. Роте Гарсевана поручено было прикрывать саперов, которым предстояло разминировать поля и пробить брешь в проволочных заграждениях противника, чтобы обеспечить продвижение пехоты.
Гарсеван вызывал к себе командиров взводов и отдельных бойцов. На КП появились Михрдат, Габриэл и Ара, которых Ашхен впервые видела после того, как прибыла на фронт. Она кинулась к Ара и, крепко целуя его, повторяла:
— Это от Маргарит… Она любит и тоскует… Она достойна тебя, Ара-джан!
— Ты ее видела? Она тебя провожала? — повторял смущенный Ара.
Габриэл смотрел и думал: «Да, Маргарит не ошиблась, она выбрала наиболее достойного!» Габриэл вспомнил тот день в Ереване, когда он рисовал себе будущую свою возлюбленную совсем, совсем похожей на Маргарит, такой же нежной и ласковой, с такими же волнистыми волосами и улыбающимися глазами… Но вдруг нить мыслей оборвалась. Ашхен — Тартаренц… Почему он вдруг связал имена этой чудесной женщины и того негодяя?
Ашхен оглянулась и увидела Габриэла.
— Дорогой Габриэл! Ты — наша гордость!
Растроганный Габриэл крепко пожал руку Ашхен.
— Ты с нами, Ашхен-джан… Какими словами мне выразить свою радость? Все твои письма… все письма, которые ты и Маргарит писали со слов мамы, придавали мне такую силу…
— Знаю, милый, знаю об этом!
Последним подошел к Ашхен Михрдат и, пожимая ей руку, проговорил:
— Не найду достойных тебя слов… Ты внушаешь раненым надежду, сражающимся — веру, а любовь… у каждого есть образ любимого человека или в душе или в воображении. Дай тебе бог встретить в жизни честную и чистую любовь!
Габриэл и Ара замерли в ожидании у своего станкового пулемета. Михрдат хлопотливо переставлял ящики, чтоб без промедления подавать диски. Постепенно рассветало. В снежной степи Габриэл ясно различал линию неприятельских окопов. В утреннем воздухе гулко раскатились первые орудийные залпы: советские артиллеристы начали обстрел неприятельских позиций. Взводы саперов двигались к заграждениям противника.
Из своего укрытия Михрдат пристально оглядывал поле битвы. Саперы кусачками и ножницами ловко разрезали проволоку заграждений, но фашисты открыли огонь по саперам. Габриэл получил приказ открыть заградительный огонь. «Не знать вам устали, бесценные сынки мои — Габриэл, Ара!» — ободряя бойцов, приговаривал Михрдат, быстро подавая новые диски.
Но вскоре Михрдат заметил, что противник постепенно сосредоточивает огонь там, где стоял пулемет Габриэла. Один снаряд разорвался совсем близко и осыпал землей Михрдата. Он протер глаза и быстро оглянулся на пулемет: «Ничего, работает». До этого Михрдат думал, что Габриэлу и Ара не грозит никакая опасность. Но теперь, под усиливающимся обстрелом, эта уверенность поколебалась, сердце забилось сильнее. Он только что передал Ара несколько дисков, когда впереди послышался сильный взрыв; взметнулся столб смешанной со снегом земли.
— Ой! — воскликнул Ара. — Не разминировано поле-Эх, жаль ребят…
Когда столб земли осел, стало видно, что уцелевшие саперы упорно продвигаются вперед, осторожно обезвреживая мины. Когда путь был расчищен, а поле до конца разминировано, рота Гарсевана двинулась вперед. Габриэлу был передан приказ следовать за ней. Едва успел он укрепиться на новой позиции и открыть огонь, как несколько фашистских пуль попало в щит пулемета. Тревога сжала сердце Михрдата. Но, услышав бесперебойную скороговорку пулемета, он успокоился.
Взводы уже добрались до первых траншей врага и вытеснили его оттуда. Глаза Габриэла загорелись ликованием, когда он заметил вспышки огня над Малгобеком. Значит, советские войска уже вступили в город! Поскорее бы сломить сопротивление неприятеля и на этом участке… В это время ему передали приказ Гарсевана: «С правого фланга двигаются два фашистских взвода, заходят в тыл роте. Взять их под обстрел и уничтожить!» Габриэл едва успел повернуть пулемет. Пригнувшись или ползком, гитлеровцы приближались, время от времени открывая огонь из автоматов. Габриэл встретил их ответным огнем.
— Джан, это пулемет нашего Габриэла звучит как музыка! — радостно воскликнул Вахрам, сражавшийся рядом с Лалазаром: после того как пальцы у него зажили, он вернулся в строй.
Бойцы так верили в опытность Габриэла, так привыкли к заградительному огню его пулемета, что его молчание сильно смутило бы их.
Меткие очереди заставили фашистов залечь. Но вот пулемет заело, и фашисты успели пробежать несколько шагов. Габриэл заметил, что их автоматы скосили нескольких бойцов.
— Наши уже в городе, а мы здесь возимся с этими проклятыми! — с яростью крикнул он Ара и, увидев, что несколько фашистов приподнялись с земли, нажал на гашетку и дал длинную очередь. Большая часть фашистских автоматчиков полегла.
В эту минуту совсем близко разорвалась вражеская мина. Михрдат полз к пулемету с новым ящиком дисков. Сыпавшаяся сверху земля застилала ему глаза. Но вот он уже видит пулемет… Михрдат крикнул:
— Бери же диски, Ара!
Ни звука в ответ.
— Габриэл, Ара, о н и подходят!..
В ответ послышался тяжелый стон и хрип.
Габриэл лежал на спине, видимо, без сознания и рядом с ним Ара с залитым кровью лицом.
Михрдат попробовал оттащить их в сторону, но вдруг остановился. Ведь товарищи Ара и Габриэла продвигаются вперед, и им нужен заградительный огонь!.. Оставшиеся в живых фашисты завладеют пулеметом и из него откроют огонь по нашим… Никогда еще в жизни сознание у Михрдата не действовало так ясно, как в эту минуту. Заняться раненым или убитым сыном и его товарищем или же?.. Ни секунды не задумываясь, он подбежал к умолкнувшему пулемету, быстро вставил диск и припал к гашетке, яростно приговаривая при каждой очереди:
— Ах, проклятые!.. Вот это — за сына, вот это — за Ара… получайте!
— Да вы послушайте, ребята, в какой азарт вошел наш Габриэл! — крикнул Вахрам, ничего не знавший о смене пулеметчиков. — А ну, нажмем! В штыки их, кончайте скорее!.. А то стыдно ведь, позже всех войдем в город!
Михрдат сменил уже не один диск. Фашисты вновь вынуждены были залечь, но начать новую атаку им уж не пришлось: посланный Гарсеваном взвод схватился с ними в рукопашном бою и покончил с остатками засланных в тыл фашистских отрядов.
Подносчик доложил Гарсевану, что Габриэл и Ара вышли из строя. Немного спустя в сопровождении четырех бойцов и сержанта Ашхен уже бежала к пулемету. Сержант подошел к Михрдату и, отдавая честь, сообщил:
— Командир роты объявляет вам благодарность за вашу смелость и находчивость. Я послан заменить Габриэла.
Михрдат поднял голову, но словно не понял сказанного. Приняв диск, он быстро перезарядил пулемет и снова припал к гашетке.
Ашхен с бойцами подошли к Габриэлу и Ара. Она тотчас же заметила, что положение Габриэла более тяжелое, и, смочив вату спиртом, вытерла ему лицо, глаза. На лице повреждений не было. Быстро осмотрев Габриэла, Ашхен увидела, что он тяжело ранен в бедро. Осколок снаряда глубоко вошел в тело. Ашхен прослушала пульс и наскоро перевязала рану. Габриэла осторожно положили на носилки, чтобы доставить в санбат. Ашхен оказала первую помощь Ара и вместе с санитаром повела его в санбат.
А советские части уже вступили в Малгобек.
Ашхен провела в санбате у койки Габриэла не один тревожный час. Габриэл лежал на спине неподвижно, с закрытыми глазами, иногда кривя губы. Операция была назначена в ту же ночь.
Тщательно обработав рану, врач приступил к операции. Ашхен, которой довелось видеть столько тяжело раненных в ереванском госпитале, па этот раз с особым волнением смотрела на бессильно упавшие руки и побледневшее лицо Габриэла. Как пройдет операция? Справится ли организм Габриэла? Радости Ашхен не было предела, когда хирург с удовлетворением сказал после операции:
— Ну, жизнь спасена! У этого юноши крепкое сердце.
— Вы уверены в этом, товарищ военврач? — радостно переспросила Ашхен.
— В том, что он выживет, уверен. Только ходить ему придется с костылем.
— С костылем?! — переспросила Ашхен, и сердце у нее сжалось.
Оставив уснувшего после операции Габриэла, Ашхен вошла в другую комнату, в которой вместе с другими легко раненными лежал и Ара. Лицо Ара было забинтовано, оставались только щели для глаз и рта. Вся его левая щека и ухо были разодраны в клочья… Ашхен знала, что он изуродован, и боялась, что он сам догадывается об этом. Увидя Ашхен, Ара с трудом спросил:
— Как Габриэл?
— Операция прошла удачно.
— Значит, опасности нет?
— Нет, но потребуется длительное лечение…
Ашхен слегка поглаживала лоб Ара, видя, что он о чем-то задумался. Но вот Ара слегка повернул голову в ее сторону.
— Дорогая Ашхен, прошу тебя, скажи там, кому надо, чтобы меня послали на лечение куда угодно — в Тбилиси, в Баку, но только не в Ереван. Понимаешь, я настаиваю…
— Но почему, Ара? — невольно вырвалось у Ашхен.
— Хочу вернуться с фронта и увидеть наших только тогда, когда ни одного врага уже не будет на нашей земле.
Ашхен поняла, что была еще одна причина, почему Ара не хотел лечиться в Ереване. Но, понимая, что сейчас нельзя противоречить ему, она обещала, что его просьба будет выполнена.
Около полуночи навестить раненых пришел Асканаз. Габриэл уже спал. Асканаз поблагодарил хирурга за удачную операцию и вместе с Ашхен подошел к койке Ара.
Теперь для Ара, лишенного возможности выполнять военные приказы, командир дивизии был снова лишь брат, и, может быть, именно поэтому Ара чувствовал себя с ним гораздо свободнее.
— Асканаз, пожалуйста, не пиши маме ни слова о том, что я ранен!
— Мама способна перенести многое, чего и мы не можем! Впрочем, если не хочешь, не напишу.
Ара хотелось попросить Асканаза, чтобы его послали на лечение в другой город, а не в Ереван. Но он не решился и ограничился тем, что сказал:
— Знаешь, Асканаз, я вернусь в свою часть, где бы она ни была!
— Место бойца — в рядах его части, — кивнул головой Асканаз.
Попрощавшись, с братом, он по очереди обошел всех раненых, беседуя с ними и ободряя. После ухода Асканаза Ашхен поспешила к Габриэлу.
Оперировавший Габриэла хирург приказал раненому лежать неподвижно, и Ашхен боялась, как бы это распоряжение не было нарушено. Она села рядом с койкой Габриэла и невольно задремала от бессонницы и усталости. Но, очнувшись через полчаса, встала, проветрила комнату и снова села у койки, внимательно вглядываясь в Габриэла. За одну ночь юноша сильно побледнел. Ашхен с трепетом ждала его пробуждения: с момента ранения он не произнес еще ни слова. Сердце у Ашхен забилось, когда уже на рассвете Габриэл медленно открыл глаза. С трудом поворачивая голову, он оглядел комнату, задымленный потолок хаты, серые стены, потом испытующе взглянул на Ашхен.
— К…как ттам?
Ашхен поняла, о чем спрашивает, и ответила спокойно и внятно:
— Наши заняли Малгобек. Части других дивизий освободили Моздок. Твой отец хорошо отомстил за тебя: когда ты лежал в беспамятстве после ранения, он заменил тебя, и твой пулемет не умолкал.
— Отец?
— Да, он стрелял так хорошо, что все диву давались!
— Хороший он у меня…
Чуть заметная улыбка мелькнула на обескровленном лице Габриэла. Ашхен дала ему лекарство и тем же негромким, внятным голосом рассказала ему, что у Ара рана не тяжелая, что утром его отсылают в тыл. А после того как немного подживет рана Габриэла, его тоже переведут в тыл для лечения.
— Да, но потом… я бы хотел опять в свою часть… к отцу…
— Сейчас тебе нужно в первую очередь думать о лечении, Габриэл-джан.
— Какая ты хорошая, Ашхен! И Маргарит у нас хорошая… Я рад за Ара.
— Мы отпразднуем две свадьбы зараз: и твою и Ара. Ты только подумай, как это будет весело!
— Бедная мама… — едва слышно шепнул Габриэл.
Ашхен взяла кружку молока и осторожно, с ложечки начала поить Габриэла. Он с благодарностью смотрел на Ашхен, но та заметила, что взгляд его часто обращается в сторону двери.
— Сынок… мой Габриэл… — послышался голос Михрдата.
Михрдат кинулся к постели сына, но, увидя его бледное, измученное лицо, не смог сдержаться и заплакал.
— Папа, дорогой…
Ашхен поспешила сказать Михрдату, что Габриэлу уже все известно. В восклицании сына Михрдат услышал и радость и глубокую благодарность.
Прошел день. Казалось, положение Габриэла улучшается. Но вечером он вдруг начал кашлять. Доктор осмотрел его. Начиналось воспаление легких. Ашхен чувствовала, что выдержка начинает изменять ей. Почему жизнь так преследовала испытаниями этого чудесного юношу? Она решила скрыть болезнь от Михрдата и была уже рада тому, что Габриэла нельзя перебросить в тыл: ей хотелось убедиться в том, что новая его болезнь не помешает заживлению раны.
Еще две бессонные ночи, и доктор наконец сказал:
— Теперь можно с уверенностью сказать, что он переборет болезнь.
Осмотрев рану, врач заявил, что на следующий день нужно отправить Габриэла в тыл в санитарном самолете.
Михрдату разрешили провести с сыном последнюю ночь перед отправкой. Около полуночи Габриэл проснулся и при тусклом свете керосиновой лампы разглядел сидевших у его койки Михрдата и Ашхен.
— Утром попрощаюсь с вами… — через силу улыбнулся он.
— Ты, значит, слышал слова врача? — удивилась Ашхен.
Габриэл молча кивнул.
— Это мы скорее скажем тебе «до свидания».
— Дда, ддо свиддания… — повторил Габриэл. — А где встретимся снова? Ты знаешь, раненые — очень нетерпеливый народ… Вот я думаю — хотя бы через месяц, через два… Я слышал, говорили — через шесть… Но нет, я встану раньше!.. А потом, ну, скажем, через неделю, через две уже позволят вернуться на фронт… Вот я и поеду… По дороге «проголосую» попутной машине, доеду до части… Увижу прежде всех тебя, Ашхен… потом папу… потом пойду посмотреть на пулемет, а потом? В мирное время хотелось поехать в Киев… Теперь войду туда со своей частью!..
Габриэл говорил отрывисто. Казалось, он бредит. Михрдат не мог сдержать волнения и молча плакал, отвернувшись. Ашхен ласково поглаживала Габриэла по голове. Заметно стихая и успокаиваясь, раненый говорил уже более связно:
— Ведь как дорог человеку даже день, даже час! Как бы я хотел, чтоб эти проклятые месяцы пролетели быстрей, чтобы я мог!.. Почему так смотришь на меня, Ашхен-джан? Хочешь сказать, что я за несколько ночей успел сделаться эгоистом, думаю только о себе?! Другим, мол, тоже хочется этого… Но не думай обо мне дурного. Вот видишь, не только ты умеешь угадывать чужие мысли. И я…
— Дорогой Габриэл, выздоравливай поскорей, тогда и мы порадуемся! Смотри же, напиши мне, как только доедешь!
— Непременно. И тебе и папе!
Издали послышался глухой рокот моторов. Габриэл равнодушно глядел на занавешенное окно. Но Ашхен встревожилась. Она быстро прошла в соседнюю комнату, проверила маскировку. Тревога ее увеличилась, когда она заметила, что уже светает. Над селом кружили фашистские самолеты. Начали бить зенитки.
— Озверели… — пробормотала Ашхен.
Охваченная тяжелым предчувствием, она вышла на улицу и подняла голову. На крыше хаты развевалось белое знамя с большим красным крестом. Но это не успокоило ее — она знала, что фашисты мало считаются с этим.
Зенитки продолжали стрелять. Услышав какой-то звон, Ашхен вошла в хату. Все стекла были разбиты. Раненые тревожно переговаривались, все, кто мог двигаться, приподнялись. Один Габриэл продолжал неподвижно лежать на спине.
— Обычная история, долго не посмеют кружить в тылу, уберутся, как только рассветет, — громко сказал кто-то.
«Обычная-то обычная, но…» — мелькнула тревожная мысль у Ашхен. Михрдат переходил от одной койки к другой, беседуя с окликавшими его ранеными. Ашхен в тревоге не находила себе места.
— Ах, скорее бы отогнали этих гадов!.. Успеть бы перебросить раненых в тыл, а там уж все равно…
Взрыв страшной силы оглушил всех. Взрывной волной Ашхен бросило в проем двери. Она с трудом поднялась, шатаясь, вошла в комнату и окаменела. Ее глазам представилось страшное зрелище: трое раненых лежали на полу, у своих коек, сплошь залитые кровью. Голова Габриэла скатилась с подушки. Струя крови залила его лицо. Ашхен кинулась к нему, схватила за руку, пытаясь нащупать пульс, но пульса не было…
В тот же день в ближайшем лесочке собрались бойцы роты Гарсевана. У края вырытой могилы лежало на носилках тело Габриэла.
Михрдат, склонившись над сыном, не отрываясь смотрел на его застывшее лицо, иногда принимаясь целовать его закрытые глаза.
Душа у Ашхен разрывалась от горя и гнева. Какая горькая судьба! Ведь случись налет часом позже, и Габриэл был бы уже в глубоком тылу… Она не могла утешиться, не могла найти и слов утешения для Михрдата.
Трое бойцов осторожно опустили тело Габриэла в могилу. Михрдат первый положил горсть земли на прах сына. Поднялся могильный холм, раздался залп в честь погибшего.
Михрдат, не поднимавшийся с колен, упал грудью на могильный холм, поцеловал его, затем взял горсть земли в платок, спрятал его, горестно шепча:
— Прахом станет твое милое лицо, твои черные глаза…
Грачик отвернулся; он не мог сказать ни слова, а хотелось сказать безутешному отцу: «Ты можешь гордиться тем, что воспитал доблестного сына».
…Опустив голову, Ашхен медленно возвращалась в санбат. Прядь волос выбилась из-под пилотки на лоб. Холодный ветер играл этой прядью, безразличный ко всему, что творилось на свете.
Часть пятая
У ПРЕДДВЕРИЯ
Глава первая
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
ГАРСЕВАН вздохнул и открыл глаза. Взгляд его упал на прикорнувшего у лампы с книжкой в руках Унана.
— Ну и жарынь! — проговорил он, поднимаясь с постели, — Вся рубашка вымокла! И жалит что-то, не поймешь — комары или мошкара…
— Угу, — неопределенно отозвался Унан, не отрываясь от книги.
Стоял август тысяча девятьсот сорок третьего года. После удачных боев под Малгобеком часть получила новое задание: преследуя и истребляя неприятеля, она продвигалась вперед. В августе гитлеровцы, дорвавшиеся до предгорий Кавказа, были отогнаны к Новороссийску, к Анапе и Таманскому полуострову. Здесь они укрепились и, видимо, любой ценой решили сохранить эти опорные пункты. На Центральном и других фронтах летнее наступление гитлеровцев потерпело неудачу, и Советское Информбюро каждый день сообщало радостные вести. Под мощными ударами Советской Армии обескровленные немецкие дивизии отступали на запад, оставляя на полях сражений тысячи трупов, бросая боевую технику.
Уже больше месяца, как дивизия Араратяна была переведена во второй эшелон. Надо было укомплектовать подразделения и обучить новое пополнение. Командующий армией Денисов приказал ежедневно информировать его о боевой подготовке дивизии.
Гарсеван выглянул за дверь землянки. Было еще совсем темно. В последнее время ему вообще плохо спалось по ночам и не только потому, что он все время рвался обратно на фронт. Гарсевану не давала покоя мысль о судьбе брата. Чем ближе подходила его часть к тем местам, где был захвачен в плен Аракел, тем больше росла его тревога. Где теперь Аракел — угнан ли в Германию, находится в концлагере для военнопленных или на принудительных работах? Все уже знали, что, не считаясь ни с каким международным правом, гитлеровцы используют военнопленных при сооружении укреплений. Тревожили Гарсевана и мысли о том, как держится Аракел в плену. Эта тревога не покидала его и во сне. Помолчав, он снова заговорил:
— Счастливец ты, Унан, читаешь так много и не устаешь! Какая это книга?
— «Геворк Марзпетуни».
— А-а, помню, в ней и о нашем Двине говорится!
— И не только о Двине — вообще об Армении, о патриотизме, о доблести…
— Вот бы написать так о наших героях, а?.. — задумчиво протянул Гарсеван.
— Теперь много хороших писателей, не бойся, напишут!
— Унан-джан, а ну, прочти мне одно место, очень оно мне по душе!
— Которое?
— Там, где говорится о клятве Геворка Марзпетуни.
Унан быстро нашел нужную страницу и прочитал:
— «Клянусь солнцем отчизны, что я не вернусь, к своей семье, не ступлю под родную кровлю, пока последний враг не будет изгнан из пределов родной страны…»
— Хорошо сказано, эх, хорошо! Вот слова настоящего мужчины! Недаром в письме-послании армянского народа приводятся эти слова, — одобрительно произнес Гарсеван. — Унан, а ты ничего не замечаешь? — прибавил он, помолчав.
— О чем ты?
— Понимаешь, мне кажется, что наш Асканаз Араратян тоже дал в душе такую клятву. Говорят, что Нина Михайловна прямо без ума от него! И ведь сама она не лыком шита, уже тремя орденами награждена! В глаза ей поглядишь иной раз — дух захватывает, красивая женщина! А вот Асканаз, может, и любит ее в душе, а держится очень официально.
— Я думаю, что ты ошибаешься насчет Нины. Она ведет себя просто, открыто, а тебе все что-то кажется… Да и потом у Нины, наверно, есть возлюбленный в тылу, она от него письма получает.
— А ты откуда знаешь? — спросил Гарсеван.
— Она Вахраму говорила.
— Ну, пусть так, но разве мало было случаев, когда люди на фронте становились мужем и женой, воевали рядом как товарищи?
— Свет велик, мало ли что случается, — мирно отозвался Унан, желая на этом покончить спор и поскорее приняться за чтение.
— Ох, да брось ты книгу, Унан-джан! — нетерпеливо воскликнул Гарсеван после недолгого молчания. — Тяжело у меня на сердце, давай хоть поговорим! А если уж тебе так хочется читать, то прочти мне несколько хороших строчек из письма армянского народа.
— Что ж тебе прочесть? В нем все строчки хороши!..
Унан достал из планшета брошюрку, перелистал ее и громко прочитал несколько строк, отмеченных черточкой на полях.
— «Пусть в великом бою за освобождение ваших братьев, стонущих под германским игом, вас вдохновляет старинное армянское предание, в котором говорится о том, что прославится тот, кто отдаст свою жизнь за ближнего.
- Жизнь свою ты за других положил,
- Этим и славу себе заслужил…»
— К месту пришлись эти добрые слова, сказанные когда-то!
— Все хорошее, что было в прошлом, с нами… — философски заметил Унан. — А пока на свете есть еще насильники и захватчики, борьба за родину не кончена.
Словно что-то вспомнив, Гарсеван достал из кармана конверт:
— «…И все три горы плечом к плечу двинулись с места, а герои как один спустились на поле боя. Враг был разгромлен и обратился в бегство…» Вот видишь? — закончив чтение письма Наапета-айрика, поучительно сказал Гарсеван. — И наш старик как будто участвовал в составлении письма-послания армянского народа!..
— Конечно, участвовал! Но ты мне объясни, что говорят наши командиры, когда же мы снова пойдем в бой? Хватит уж нам отдыхать!
— По всему видно, что скоро. В Москве то и дело салюты гремят. Должны же и наши кавказцы удостоиться такой чести! И удостоятся, и очень скоро. Подожди, подожди, что это за звонок?
Гарсеван схватил телефонную трубку.
— Ствол (это были условные позывные у роты) у телефона… Точно так, послал… Насчет погон?.. Нескольким не хватило… Точно так, пошлю старшину… Что-о, Ашхен Айказян?! Прошу прощения, но это невозможно… Конечно, это не мое дело, но ребята моей роты привязаны к ней… Ну, раз приказ, ничего не поделаешь… Хотят принести бойцам литературу?.. Что ж, добро пожаловать, примем с любовью. Ах, и петь умеют?.. Вот это чудесно… Да, сейчас распоряжусь насчет Ашхен… Слушаю.
Гарсеван опустил трубку и, отдуваясь, тяжело сел на нары.
— Вот так штука! — со смехом сказал Унан. — Ждал приказа выступить на фронт, а получил приказ принять певиц!
— Нашел время зубоскалить — Ашхен у нас забирают… Не хочет она оставаться во втором эшелоне, рапорт подала…
— А куда просится?
— Подробностей не знаю. Ну, Унан-джан, откладывай свою книгу. Этот приказ передашь политруку — он заменит меня. А я провожу Ашхен в полк, а оттуда — в штаб дивизии. Там же встречу приезжих, пусть завтра в перерыве между занятиями раздадут литературу бойцам. Кстати, узнай, кто из парней хорошо поет. Пускай вместе с этими певицами выступят, развлекут бойцов… А я там порасспрошу, какой приказ ожидается.
— Значит, ожидается боевое задание?
— Видно, есть что-то, раз капитан приказал, чтобы и я отправился в штаб дивизии вместе с Ашхен. Остужко уже там.
— Ладно. Абдул, ты проснулся, что ли?! — окликнул Унан, готовясь отправиться вместе с товарищем.
Гарсеван затянул пояс, оделся и вышел предупредить Ашхен.
— Ну, ваше желание исполнилось, — сказал Мхитар Берберян, обращаясь к Ашхен, когда она с Гарсеваном явилась в штаб. — Мы запросили, Остужко не возражает. Жаль, Марфушу снова ранило, а то была бы у вас подруга…
— Да, жаль. Но вы знаете, на фронте у человека всюду находятся друзья…
— Вам предстоит тяжелое задание, — серьезно сказал Берберян.
Что же предстояло тому подразделению, куда была назначена Ашхен?
Еще зимой, в начале февраля, наши забросили десант морской пехоты в тыл Новороссийска. От города к морю тянулась длинная, узкая песчаная коса, похожая издали на вытянутую верблюжью шею. Этот-то мыс, под названием Мисхако, и захватили десантники, наскоро построили на нем укрепления протяжением в восемь километров. Участок назван был «Малой землей» и уже в продолжении семи месяцев упорно сопротивлялся врагу, стремившемуся ликвидировать эту угрозу Новороссийску. Командование Кавказского фронта предполагало развить наступление на этом участке. Время от времени на Мисхако высаживались новые десанты. Бойцы засыпали начальство просьбами отправить их на помощь героическим защитникам «Малой земли». В августе намечалась высадка нового десанта. Из массы добровольно вызвавшихся отбирались наиболее опытные бойцы, к тому же привычные к морю. В числе десантников, большей частью русских, была и группа кавказцев. Ашхен обратилась с ходатайством, чтобы ее также отправили с этой группой в качестве сестры. В этот же десантный отряд входил и Остужко, который должен был заменить погибшего на «Малой земле» командира подразделения. Заместителем Остужко по политчасти был назначен Грачик Саруханян, который также осаждал начальство просьбами о посылке на «Малую землю».
— Да, знаю, что мне будет не легко, — спокойно ответила Ашхен. — Я могу лишь выразить благодарность за то, что и меня удостоили…
— Ашхен, я твердо надеюсь… мы встретимся в Новороссийске!
— Я также надеюсь. А при каких обстоятельствах — предугадать трудно…
Берберян не стал расспрашивать, что подразумевала Ашхен под этими словами: она не имела обыкновения бросать слова на ветер. Может быть, она подразумевала, что во время боев… но нет, нет, ей не подобало думать о смерти! Не вязалась мысль о смерти с этим прекрасным лицом, с этой женщиной, чья чистая душа угадывалась в каждом слове, Не могло умереть существо, внушавшее столько любви окружающим! Берберяну часто приходилось по работе встречаться с Ашхен, и каждый раз он чувствовал, что не сказал ей самого заветного слова. Казалось, Ашхен интересовало только то, что относилось к ее обязанностям, она словно ни о чем другом не желала догадываться…
— Очень вам благодарен… Вы написали маме письмо… — мягко сказал Берберян.
— Не за что, это такие пустяки. Я очень рада, что она отвечает мне.
— В своем последнем письме она пишет, что была у Седы и видела Тиграника. Он выглядит здоровым и счастливым.
— Я безгранично благодарна Седе. Заботиться о трех детях не легко!..
— Ашхен, — несмело заговорил Берберян, — мама писала мне… просила узнать ваше мнение… Седе и в самом деле нелегко… Поэтому мама просит, чтобы вы разрешили ей взять Тиграника у Седы. Ведь мама одна все время, тяжело ей… Она рада будет заняться с ребенком!
Ашхен, сидевшая на табурете перед столиком Берберяна, быстро подняла голову и пристально взглянула на него. Она, казалось, догадалась…
— Я не могу обижать Седу. Она может подумать, что я… Но, с другой стороны… Хорошо, подумаем об этом, когда будем в Мисхако.
— Я рад, — тихо проговорил Берберян.
С минуту рука Ашхен оставалась в его руке. Но они были одни в землянке, и Мхитар не решился поцеловать ее на прощание, как поцеловал когда-то, прощаясь на перроне Ереванского вокзала.
Ара вернулся из госпиталя в часть. Он хотел было явиться к командиру дивизии, но узнал, что Асканаза вызвали к командующему армией. При выходе из прикрытого ветвями блиндажа он вдруг заметил знакомое лицо.
— Грачик! — радостно воскликнул он, но тотчас же осекся и стал на вытяжку, заметив знаки различия майора.
— Ничего, ничего, — засмеялся Саруханян. — Шесть месяцев находился вне армии, отвык небось от военной дисциплины!..
Обняв Ара за плечи, он повел его обратно в землянку. Через оконце щедро вливался солнечный свет. Они уселись на табуретах друг против друга. Грачик окинул внимательным взглядом лицо Ара, и его кольнула мысль о том, что Ара уже не имеет права на эпитет «прекрасный», под которым он был известен в кругу друзей. Зажившие раны оставили на лице глубокие рубцы. Вся левая щека, начиная от нижнего века и до подбородка, была синеватого цвета. На разорванное нижнее веко был наложен шов. Вместо прежнего беспечного юноши Грачик видел перед собой много испытавшего и возмужавшего человека.
— Ты все время был в Баку?
— Да.
— Спасибо тебе за то, что побывал у мамы.
— Ну, благодарить-то надо не меня! Нвард-майрик и твоя Рузан чуть не каждый день приходили ко мне в госпиталь.
— Нехорошо ты поступил, не заехав в Ереван.
Ара отвел глаза. Грачик не захотел распространяться на эту тему. После недолгого молчания Ара сам заговорил:
— Когда наш эшелон остановился на станции Баку, меня охватила тревога. Думаю: а вдруг не оставят здесь, дальше повезут? Вижу, нет, санитары помогают раненым спуститься на перрон. А там — школьницы, с цветами, с подарками. Подхватили нас под руки, повели к машинам, А у меня так разболелись раны, что и слова не мог вымолвить девчурке, которая меня вела. Поместили в хороший, благоустроенный госпиталь, каждый день в операционную водили, разные мази и лекарства прикладывали. Целых два месяца мучили… Потом уж лучше стало. И вдруг говорят — пришли, мол, на свидание к тебе. Вышел я — вижу, твоя мать: ее я узнал сразу, очень ты на нее похож! А Рузан то взглянет в лицо, то опустит глаза. Догадался я, что или ты, или Ашхен написали им про меня. Мать и спрашивает: «Чего тебе хочется, сынок? Вот принесла я тебе свежее варенье из инжира, карабахский мед: сладкое раненым на пользу идет. А ты мне скажи, какое тебе кушанье из дому принести». Поблагодарил я ее, попросил не беспокоиться, а она меня и слушать не хочет. «Хорошо, говорит, сама по разумению своему готовить буду для тебя». А потом говорит: «Так, значит, ты моего Грачика часто видишь, каждый день? Значит, говоришь с ним так, как я с тобой сейчас говорю? Умереть мне за тебя». И как только отвечал я ей что-нибудь, она еще больше радовалась: «Говори, родной мой, говори, мне кажется, что я голос Грачика слышу!»
Ара слегка наклонился — солнечный свет резал ему глаза. Взглянув на Грачика, он заметил, с каким интересом слушает Грачик его рассказ.
— А я ей сказал: «Смотрю я на тебя, Нвард-майрик, и кажется мне, будто вижу свою родную мать. И знаешь, Грачик-джан, она меня так баловала, как и родная мать не могла бы! Выписали меня из госпиталя и дали двухнедельный отпуск. Лежал со мною в госпитале товарищ мой, Рагим, бакинец. Пристал он ко мне: «Поживи у нас, вместе и вернемся в часть». Я согласился. На третий день отыскала меня у них твоя мать и как рассердится! Говорит: «А ну, собирайся сейчас…» И забрала меня к себе, на Свердловскую улицу. Хороший у вас дворик — деревья, цветы. Высыпали все соседи, собрались вокруг меня, говорят: «Товарищ Грачика, на фронте вместе были…» Уложили меня на твою кровать — простыни, наволочки, белоснежное одеяло с шелковым верхом… Нвард-майрик на цыпочках ходила, пока я не проснусь. Чай, завтрак, обед — все по часам, точно в санаторий попал, и все рассказывала мне: «Не знаешь ты, Ара-джан, какой у меня сын! Золотое у моего Грачика сердце. В школьные годы был у него товарищ, Рубеном звали. Обидел он чем-то Грачика, и перестал с ним Грачик разговаривать. Приходит домой печальный, молчаливый. И день, и два. Потом как-то говорит мне: «Дай, пожалуйста, сто рублей». Не стала я расспрашивать, для чего ему деньги нужны, дала. Потом уж рассказали товарищи — ведь у Грачика моего много было товарищей, очень его любили… Так вот, оказывается, узнал Грачик мой, что Рубен этот заболел. А семья у них большая, и единственный работник — отец Рубена. Купил Грачик все, что надо было, и пошел проведать больного товарища…
А как-то раз пообедали мы, сидим за столом. В этот день Рузан получила письмо от тебя. И вижу я, что Нвард-майрик так внимательно смотрит на меня. Ну, сам видишь, какое у меня сейчас лицо… — Ара сказал последние слова совсем тихо и, помолчав, продолжал спокойным голосом: — Да, посмотрела на меня Нвард-майрик и говорит Рузан: «Вот какая она — война! Смотри, Рузан-джан, ведь и с нашим Грачиком может такое случиться». Я уж не знаю, что со мной сделалось. Рузан замерла — и вдруг с плачем кинулась ко мне, обняла и… ну, что тебе сказать? — поцеловала мое обезображенное лицо. Отошла от меня Рузан, а у меня глаза полны слез, ничего не вижу и только слышу голос Нвард-майрик: «Родная моя, бесценная невестушка…» Обнимает и крепко-крепко целует Рузан…
Ара умолк. Грачик вскочил с места, несколько раз прошелся по землянке. Мать и Рузан стояли, словно живые, перед его глазами. Постояв у окна, он обернулся и подошел к Ара.
— Ара, дорогой, я этой ночью вылетаю в Мисхако вместе с Остужко, Ашхен и другими товарищами. Там предстоит жаркое дело. Я рад, что ты так сблизился с нашими. Не поленись, напиши и маме и Рузан поподробнее о сегодняшней нашей встрече!
Главе вторая
ДУШЕВНАЯ БЛИЗОСТЬ
Проводив Ашхен, Остужко, Грачика Саруханяна, которые вместе с несколькими незнакомыми Гарсевану бойцами должны были ночью вылететь в Мисхако, Гарсеван вышел из помещения штаба дивизии. Вернувшись на КП роты, он, словно после долгого отсутствия, крепко обнял Унана и Абдула.
— Получил уже задание? — весело спросил Унан.
— И какое!
— Когда двинемся?
— Подробности пока неизвестны.
— Ну, рассказывай то, что известно.
— Значит, так: два отделения, человек двадцать отборных бойцов… в тыл врага… Будут и другие такие же ударные отряды, но уж не знаю, из каких частей. А наша дивизия… скоро и она получит особое задание от штаба армии. Говорят, что в военном совете говорили и про нас…
— Так-таки говорили? — улыбнулся Унан.
— Да, да, ты не ухмыляйся. А здесь какие новости?
— Занятия прошли удачно. В обеденный перерыв пришли из штаба две девушки, Маруся и Лело. Раздали литературу, поговорили с бойцами. Скоро начнется концерт. Лело обещала спеть грузинские песни, — оказывается, она знает несколько песен Саят-Нова, обещала спеть их по-армянски.
— А Маруся что будет петь?
— Она говорит, что не умеет. «Не певунья я», говорит.
Гарсеван, после отъезда Ашхен чувствовавший себя покинутым и одиноким, немного ожил. Он что-то подсчитал на пальцах и заявил:
— Концерт будет продолжаться часа полтора. Я закончу проверку и подготовку к часу ночи. Два часа отдыха. Да, может, и удастся послушать.
— Прибыло пять человек из нового пополнения. Ваш заместитель сейчас беседует с ними. Вернулся из госпиталя Ара, — закончил свой доклад Унан.
— Ара? Вот это хорошо! Выздоровел, значит! А то Шогакат-майрик очень волновалась, тревожное было ее последнее письмо. Ну, а как лицо?
— Увидишь сам.
— Скажи там, чтобы вызвали его ко мне.
Через несколько минут пришел Ара, представился, как положено, командиру роты; получив разрешение Гарсевана, присел на обрубок, служивший им скамьей.
— Ну, как здоровье? — спросил Гарсеван.
— А я никогда не жаловался на здоровье. Раны были, зажили.
— Какие новости из Еревана?
— Я в Ереване не был. Лечился в бакинском госпитале.
— А отпуска тебе не дали?
— Дали.
— Так почему же ты не поехал в Ереван?! — с возмущением воскликнул Гарсеван.
При входе Ара он окинул его мимолетным взглядом, но сейчас попристальней вгляделся в его изрытое шрамами лицо. Да, сильно изменился Ара!
— Ну, говори, почему не поехал? — уже мягко и заботливо повторил он свой вопрос.
Не получив ответа, Гарсеван обменялся быстрым взглядом с Унаном, затем медленно и внушительно проговорил:
— Не ожидал я от тебя, Ара… Ты обязан был поехать в Ереван!
Ара опустил голову.
— Письма-то получал небось? И писала не только мать, но и Маргарит, не так ли?
— Да, писали.
— Я не хочу касаться твоих личных дел, но Маргарит пишет о тебе с такой же любовью. Иначе и не могло быть! Да, да! — воскликнул Гарсеван, видя, что Ара смущают эти его слова. — Все это так. А ты, уж не обижайся, показал себя человеком малодушным: не пожелал, видите ли, показаться с израненным лицом любимой девушке… А ты подумал о том, что оскорбляешь Маргарит и мучаешь мать? Да и чем ты лучше нас: ведь на войне со всяким может такое случиться! Что ж, прикажешь и нам избегать наших родных, если мы получим тяжелое ранение?
Ара не ждал такого сурового упрека. На его глазах показались слезы.
— Дурного же ты мнения о своей Маргарит! — продолжал Гарсеван. — Красота проходит, вечна только красота души. Ведь тебя не спрашивали в школе, какое лицо было у Агаси[16]. Тебя спрашивали, каков он был душой, не так ли? Ну-ка, садись сейчас же, напиши хорошее письмо матери и Маргарит и попроси у них прощения! И готовься — вместе со мной пойдешь выполнять боевое задание.
Выйдя из землянки, Гарсеван встретил двух девушек в сопровождении бойца. Боец доложил, что Маруся и Лело прибыли из штаба дивизии.
— Надо бы почаще присылать таких славных девушек, — одобрительно сказал Гарсеван.
Хотя он спешил, однако приветливо обратился к Лело:
— Мне передавали, что вы хорошо поете?
— Да нет, я только так, для себя.
— Жаль, что я не смогу послушать вас — освобожусь не раньше часа ночи.
— Так мы должны вернуться только утром, — возразила Маруся.
— На рассвете меня уже не будет здесь. Я сказал, чтобы вам отвели мою землянку.
— Ну, вот и подождем вас до часа!
— За это спасибо! — воскликнул Гарсеван, пожимая руки девушкам.
Проходя мимо одной из землянок, Гарсеван услышал, как кто-то вполголоса напевал грустную песню. Он хотел было пройти мимо, но голос показался ему знакомым. Гарсеван прислушался: пел Михрдат, и что-то очень печальное. Вначале трудно было разобрать слова, но потом до его слуха дошли отдельные слова. «Сатеник»… «Габриэл»… «несчастный отец»… Михрдат пел, заменяя слова старинной песни своими собственными словами.
Гарсеван вошел в землянку.
— Ах, Михрдат, ты один?
— Прошу прошения, товарищ командир… — в смущении привстал с нар Михрдат. — Только что сменился с поста…
— Да ты садись, устал небось. Отдохни, а потом, может быть, пойдешь на концерт?
— Нет настроения!
— Не поддавайся горю, Михрдат: месть за Габриэла…
— Понимаю, товарищ командир… Я думал, что меня никто не слышит… А при парнях я горю моему воли не даю…
К часу ночи Гарсеван вернулся к себе в землянку. Он успел поговорить с каждым из бойцов в отдельности, подробно разъяснил задание, проверил оружие и боеприпасы, которые бойцы должны были взять с собой.
В землянке было душно, потому что Маруся занавесила единственное оконце и при свечке читала какую-то книжку.
— Ну как, кончили? — спросила она.
— Да, кончил, но где же Лело?
— А вон спит в углу, закрылась от света. Устала очень, не смогла дождаться вас.
— Зря не легли и вы.
— Садитесь, садитесь, подумаешь тоже, зря! Ведь вы на боевое задание идете… А я многих провожала, и они всегда с удачей возвращались. Думаю, что и вам принесу удачу. Вы знаете, я очень хотела поговорить с вами. Многое слышала о вас и об Ашхен. Расскажите, пожалуйста, как она вас выходила? Я читала об этом во фронтовой газете еще в прошлом году, но мне хотелось бы знать подробности…
Теплое чувство поднялось в душе Гарсевана.
— Выходит, что мы — старые знакомые, а? Так зачем же вы приехали к нам только через год, чего ждали? — шутливо спросил он.
— Ждала подходящего случая. Вот он и представился… Но как жаль, что я не застала Ашхен!
Гарсеван вспомнил тяжелые дни, когда он и не надеялся, что к нему вернется дар речи. Опершись своей могучей рукой о колено, он наклонился к Марусе и начал подробно расспрашивать ее, неожиданно перейдя на «ты».
— Дети есть у тебя?
— Двое.
— А кто за ними смотрит?
— Муж мой помогает свекрови. Мой Коля в бою под Краснодаром ногу потерял. Теперь он дома. А я с самого начала войны в штабе. До сих пор ни разу и ранена-то не была.
— Значит, двое детишек? Вот и у меня двое. А у брата моего трое детей. Он со мной как раз в этих местах воевал…
— Воевал?.. — осторожно переспросила Маруся, не решаясь расспрашивать дальше.
— Ну, и что ж тебе пишут из дому? — очнулся от минутной задумчивости Гарсеван.
— Разное пишут — и веселое и грустное. Коля мой смелый был боец. Тяжело ему дома. Хотелось бы мне, чтобы он не грустил так, да что ж поделаешь… И как же мечтал он дойти до самого Берлина, а тут… с ногой… Пишет мне: «Радостно мне, Марусенька, что хоть ты меня заменяешь…» Ну, я тоже стараюсь его развлечь моими письмами, пишу, что скоро, мол, все кончится, приеду и буду за тобой ухаживать… В таком положении человеку нужна поддержка…
И чем больше рассказывала Маруся о детях, о муже, тем больше хотелось Гарсевану, чтобы она не умолкала, чтобы рассказывала еще и еще подробнее. И чем дальше слушал он Марусю, тем ближе и понятнее она казалась ему.
Потом Маруся стала рассказывать, сколько она получила книг на русском и сколько на армянском языках, сколько раздала бойцам, какие книги просят для чтения. Она поинтересовалась, какую литературу хотел бы получить Гарсеван для своей роты. Забыв об усталости, Гарсеван слушал разговор Маруси, как музыку. Лишь тогда, когда ему доложили, что группа готова к выступлению, он попрощался с Марусей и вышел из землянки.
Игнат тоже пришел попрощаться и пожелать удачи товарищам. Увидя Гарсевана, он с упреком сказал:
— И не отдохнул небось?
— Не спал действительно, зато на душе хорошо после разговора с этой славной девушкой, и кажется — до самого Берлина смог бы дойти без отдыха!.. А Маруся говорит: «Идите вперед, мы вас догоним».
Глава третья
ПОДВИГ И ЕГО ОЦЕНКА
Когда Гарсеван вышел из блиндажа комдива, вид у него был серьезнее обычного. Теперь ударным отрядам предстояло проникнуть во вражеские тылы, чтобы уничтожить доты и дзоты противника и облегчить продвижение пехоте.
— Итак, снова начинаются горячие дни!
— А на каком участке будет действовать наша дивизия?
— Подробностей комдив мне не сообщил…
Отряд выступил еще до рассвета. Целый день бойцы пробирались по лесистым горным склонам, пока добрались до условленного места. Вскоре подоспели и другие отряды. Глубокой ночью каждый отряд во главе с проводником двигался обходным путем, сохраняя крайнюю осторожность и проникая в тыл неприятеля.
…На рассвете дивизии Денисова при поддержке морских и военно-воздушных соединений готовились перейти в наступление для освобождения города Новороссийска и его порта.
— Абдул, ко мне! Ара, ко мне! — послышался приглушенный зов Гарсевана.
Кинувшись к нему, Абдул споткнулся и чуть не упал. Он отпихнул ногой препятствие, бормоча:
— Валяются повсюду, пройти спокойно нельзя!
Поперек тропы лежал убитый фашист.
Когда Абдул и Ара подошли к Гарсевану, тот торжественно проговорил:
— Абдул Гасан-задэ, я доволен тобой. Так и доложу командиру, что ты сумел бесшумно снять часовых, облегчил занятие дзота. Ара Пахлеванян, хвалю твою стойкость! Ты сумел вырвать оружие из рук фашиста и схватился с ним один на один, хотя он был намного сильнее тебя, и удерживал его, пока не подоспели товарищи. Об этом также будет доложено начальству. Теперь вы вчетвером должны вернуться в часть. Абдула назначаю старшим. Скажите командиру, что дзот захвачен и мы до последней минуты будем держать его в наших руках. Через два часа рассветает. Постарайтесь поскорее вернуться в часть — до того, как перейти в наступление, наши должны знать, каково положение на этом участке. А вот это, — понизил голос Гарсеван, передавая Абдулу листок бумаги, — данные разведки. Обязательно доставить вовремя, понимаете — обязательно!.. В дороге ведите наблюдение.
— Есть сообщить о занятии дзота, передать донесение, вести наблюдение! — вытянулся Абдул.
Через минуту четыре фигуры растаяли в темноте.
Все описанное происходило под стенами фашистского дзота. Группа Гарсевана, проникнув на занятый неприятелем участок, сумела бесшумно ликвидировать расчет и овладеть дзотом. И снаружи и внутри дзота лежали тела убитых фашистов. Гарсеван, Унан, Вахрам и Ваагн внимательно осмотрели дзот, для того чтобы наладить круговую оборону. Тела убитых гитлеровцев они оттащили к кустам и прикрыли травой. У одной из стен дзота, лежа на боку, тихо стонал Зарзанд: он был ранен в бок во время рукопашной схватки.
— Скоро догадаются, в чем дело, кинутся на нас. Готовьтесь, ребята, и боеприпасы расходуйте не щедро, — предупредил Гарсеван. — Итак, у нас два пулемета: одна ручной — наш, второй станковый — их. Оба в порядке. Не понравится им небось, что мы орудуем их пулеметом. Как действуют автоматы? Хорошо… Достаточно ли гранат?
— Гранаты целы, ведь мы берегли их! — отозвался Унан.
— Ну, для гранат еще наступит время, — подхватил Гарсеван и, что-то подсчитывая в уме, прибавил: — Держите их напоследок. Если мы будем действовать необдуманно, этот дзот станет нашей могилой…
— Ну и что ж? Во всяком случае потери врага будут, вдвое больше!
— И вдвое, и втрое… Но не бояться смерти — это значит и не думать о смерти. Давайте подкрепимся, — обратился он к бойцам. — Водочка на рассвете — вещь хорошая! — И он снял через голову висевшую на ремне фляжку, отвернул крышку и хотел было поднести ее ко рту, но вдруг остановился.
— Нет, прежде всех — Зарзанду!
Он подошел к раненому и наклонился над ним.
— Зарзанд-джан, выпей! От водки легче станет. Потерпи немного, скоро уже…
— Дышать мне трудно, товарищ комроты… Так говорите, поможет?.. — И он, приподняв голову, отпил несколько глотков из фляжки, которую поднес к его губам Гарсеван. — Эх, если б мог я подняться с места!.. Не хочется быть обузой для вас…
— Не говори глупостей, какая там обуза, — остановил его Гарсеван.
Фляжка по очереди обошла бойцов.
— Хорошую бы закусочку теперь! — причмокнул Вахрам, выпив свою долю.
— Готовсь… — вдруг послышался приказ Гарсевана, уже припавшего к амбразуре.
Рассветало. Противник, должно быть, сообразил, что́ случилось: со всех сторон к дзоту ползли гитлеровцы. Унан дал короткую очередь. Фашисты приостановились.
Гарсевану еще не было известно, как обстоит дело у других отрядов, засланных в тыл к неприятелю, но издалека, со стороны моря, доносился гул ударов советского флота и авиации: дивизии Денисова уже начали штурм Новороссийска.
— Слышите, наши бомбят… А это гаубицы заговорили… А вот «Катюша»! — радостно приговаривал Гарсеван. — Передовая отсюда не так далеко: если наши с первого удара прорвут фашистскую оборону, часика через два мы тоже ударим… Ну, держись, ребята! Ишь ты, пробуешь психическую атаку! Огонь по врагу!
Захват дзота был для гитлеровцев одной из тех неприятных неожиданностей, которые заставляли их жаловаться в письмах в Германию, что воевать с русскими очень трудно, потому что они не придерживаются правил ведения войны.
Гитлеровцы были уже на расстоянии ста метров, когда из дзота их стали поливать огнем.
— В самый раз! — одобрил Гарсеван. — Пусть знают, что у нас нервы покрепче ихних. Ну вот, залегли…
Гитлеровцы действительно залегли, но открыли сильнейший пулеметный огонь.
— О-ох…
— Что с тобой, Ваагн? Эх, сейчас каждый человек нам дороже целого взвода… — «Еще бы на сантиметр левее — и конец…» Последнюю фразу Гарсеван произнес в уме, помогая Ваагну лечь рядом с Зарзандом.
— Давай, товарищ командир, я перевяжу его… — со стоном приподнялся Зарзанд. — А ты иди.
Гарсеван и не мог оставаться при раненых: он бегом вернулся к своему наблюдательному пункту у амбразуры.
Унан дал последнюю очередь и заявил:
— Товарищ Гарсеван, трофейные патроны кончились.
— Тут у меня еще один диск, — хрипло отозвался Ваагн из угла.
Гитлеровцы, видимо, догадались, что в дзоте экономят патроны, и усилили огонь. Гарсеван приказал пугнуть их короткой очередью и, прислушиваясь к рокоту моторов самолета и гулу сражения, наскоро проверил оставшиеся боеприпасы.
— Эх, далеко еще наши… — бормотал он про себя. — А ну, придержите огонь, ребята!..
Он снова припал к щели в амбразуре, воспаленными глазами окинул ряды врагов. Гитлеровцы, видимо, считали, что уже близка минута, когда они смогут расправиться с этими дерзкими бойцами, захватившими дзот у них под носом.
Фашисты подходили к дзоту, уже не скрываясь и непрерывно стреляя. Вот они уже на расстоянии ста шагов. «И ведь какая мишень, какая мишень! — с горечью думал Унан. — А у нас уже вышли боеприпасы!»
Гарсеван, Унан и Вахрам старались не выдавать своего волнения.
— Никто из нас в плен не сдастся! Товарищи, смерть или жизнь. Но прислушайтесь, по-моему, слух меня не обманывает: наши где-то близко!
Неприятельская цепь подползала все ближе, не прекращая стрельбы. Гарсеван прекрасно знал, как мало осталось патронов, но, пересилив себя, скомандовал:
— Огонь!
Фашистов отшвырнуло от дзота. Гарсеван быстро подсчитал: три патрона в автомате у Вахрама, два — у Унана.
— В револьвере у меня еще пять пуль, — сказал он, обводя товарищей взглядом.
Гранаты и пять пуль в барабане — как раз по числу защитников дзота. Достаточно, чтобы никто не попал в руки врага. Но кто же решится стрелять в товарища, в боевого друга? У кого хватит мужества? Никто не успел отозваться на слова Гарсевана. Послышался громкий возглас:
— Удирают, и-эх как удирают!
Кричал Вахрам, кричал, не сдерживая радости. Гарсеван кинулся к амбразуре: фашисты действительно бежали без оглядки но направлению к городу.
— Эх, жаль, вот когда пригодился бы пулемет! Неплохая мишень — десять, двадцать, сто, триста!.. — с сожалением приговаривал Гарсеван.
Однако сознание, что они сумели продержаться, было таким радостным, что Гарсеван вместе с товарищами выбежал из дзота и кинулся обнимать первых подошедших бойцов. Так и застал Гарсевана старший из командиров наступавшего советского соединения подполковник Комаров: Гарсеван с мокрыми от слез глазами обнимал незнакомого бойца. Комаров, рассмеявшись, положил руку на плечо Гарсевану:
— Я следил за вашими действиями. Молодцы, ну, право, молодцы! Отправьте раненых в санчасть и отдохните. Вы заслужили право на отдых, сражались, как настоящие герои! Я так и скажу Араратяну — он неподалеку, на правом фланге…
Комаров ушел, а Гарсеван не сводил удивленного взгляда с Унана:
— Унан, что это такое он говорил?
— Ему виднее со стороны.
Глава четвертая
«МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
Прошла уже неделя с того дня, как Ашхен прибыла на «Малую землю». Накануне ночью она с чувством тревоги и гордости следила за тем, как высаживался на берег десант морской пехоты, подброшенный мелководными судами из Геленджика. Всю ночь рокотали над Новороссийском моторы советских самолетов, отвлекая внимание противника от десантных судов.
А на рассвете, начиная от «Мыса любви» и до здания цементного завода, расположенного на окраине Новороссийска, советские части ликвидировали проволочные заграждения и минные поля, значительно продвинув вперед свои позиции. Гитлеровский гарнизон Новороссийска был теперь под тройным ударом: с востока штурмовали город дивизии Денисова, с юго-запада усиленные новыми десантами защитники Мисхако пробивались к городу; с воздуха ожесточенно бомбила советская авиация, помогая штурмующим.
По высаживающимся десантам гитлеровцы открывали ожесточенный огонь. Санитары и сестры под огнем противника выносили с поля сражения раненых.
Отведя на медпункт последнего раненого, Ашхен подбежала к бойцу, который прижал рукой окровавленное левое ухо. Когда боец отнял руку, Ашхен увидела, что пуля сорвала мочку уха. Однако, несмотря на боль, раненый бодрился. После перевязки он спросил Ашхен по-армянски с заметным неармянским акцентом:
— Вы из Еревана?
— Да.
— А я — из Кутаиси. Шалва меня зовут. А ну-ка, пожалуйста, дайте мне немного ваты!
Ашхен протянула ему комочек ваты. Шалва плотно заткнул ватой здоровое ухо и, наклонившись к Ашхен, попросил:
— А ну, скажите мне что-нибудь!
— Не беспокойтесь, — ответила она, — перепонка не повреждена. Дня два будет шум в ушах, но слух не потерян.
— Ой! А как вы догадались… — улыбнулся Шалва.
— Знаю по опыту.
— Давно вы в армии?
— Не очень, но я работала в госпитале.
— Ах, вспомнил, да я в газете видел ваш портрет! Вы — Ашхен… Ашхен Айказян!
— Да, да. Идите прямо, потом сверните налево: там и будет медпункт.
— А зачем он мне? Я побегу догонять свою роту. Кстати, вы не знаете, здесь ли Гарсеван Даниэлян?
— Не здесь, но близко.
— Ха-а-роший парень! В прошлом году вместе воевали. Брат у него в Керчи остался… Ну, значит, увидимся скоро! Так, говорите, обойдется и я буду слышать, как прежде?
— Безусловно.
Шалва вытащил вату из здорового уха и радостно улыбнулся:
— Правильно, сестрица, слышу обоими ушами. Все в порядке!
— Рана у вас легкая, но надо ее обработать, а то может загноиться, — предупредила Ашхен.
— Это уж после того, как возьмем Новороссийск. Ну, пока!..
— Прощаться нет надобности, я следую за полком.
— Вы, наверное, у Остужко, с Саруханяном прилетели, да? Вот и хорошо! Наш батальон придали Остужко, значит мы теперь бойцы одной части!
Наступило утро. Море было спокойно, и лишь разрывы бомб и снарядов бороздили его ровную гладь, переливавшуюся под солнцем: вон там перламутровая полоса, рядом — зеленоватая, еще дальше — светло-синяя… Душу переполняло восторженное чувство. И какое хорошее название дали этому месту — «Мыс любви!» Сколько влюбленных девушек и юношей приходило сюда, чтобы любоваться морем, мечтать о будущем! Кто из них остался в живых а борется с врагом, чтобы, победив его, вернуться сюда, снова любоваться морской гладью, снова любить и мечтать? Да, сейчас идет бой именно за то, чтобы люди могли мечтать и любить!
Ашхен вспомнила свою жизнь… Нет, лучше не вспоминать! У нее есть Тиграник, есть друзья: Гарсеван, Унан и Мхитар Берберян. Ей показалось, что она уже давно, очень давно находится на «Малой земле»…
Ашхен поглядела вслед Шалве, поправила сумку и побежала дальше.
Бой разгорался. Мимо Ашхен, опережая ее, пробегали моряки-десантники и пехотинцы, все новые и новые позиции занимали артиллеристы и бронебойщики. Бойцы на бегу приветливо махали рукой бесстрашно пробивавшейся вперед сестре. Подойдя к передовой линии огня. Ашхен пробиралась, уже низко пригнувшись или ползком: она знала, что красный крест нарукавной повязки и косынки не спасет ее от пули фашистского снайпера. В свисте и грохоте сражения ее привычное ухо различало стон раненых, и она спешила оказать им первую помощь, сама провожая их до медпункта или поручая их своему помощнику — Савве.
— Слышь, Ашхена, мне хорошую весть сообщили, — радостно заявил Савва, вернувшись с медпункта, куда проводил одного раненого. — Говорят, что наши уже вошли в город с той стороны. Нам подкинули новый батальон. Поднажмем с двух сторон — и сдавим фашистов!
Ашхен уже привыкла к тому, что Савва по-своему переделал ее имя. Она весело откликнулась:
— И наша «Малая земля» сразу станет «Большой»!
— Да, да, ты погляди, как наши быстро продвигаются.
Вскоре Ашхен увидела Остужко, спешившего на свой новый КП, — ему было поручено занять цементный завод и идти на соединение с частями, штурмующими Новороссийск.
— Ну как, не скучаете без дела? — крикнул Остужко, поравнявшись с Ашхен.
— Кто может еще держаться на ногах, отказывается идти на медпункт. Никто не хочет пропустить первой встречи с нашими! Особенно бойцы-староселы с «Малой земли».
— И правильно делают! Ведь за исходом сегодняшнего сражения следит не только командование фронта, но и Москва…
— А где Грачик Саруханян? — крикнула Ашхен вслед Остужко.
— Ему жарко приходится!.. Он там, впереди. Поступило сообщение, что фашисты решили перебить пленных, если не удастся погрузить их на суда.
Ашхен стиснула зубы, глядя вслед бегущему Остужко. Чуть поодаль от него она заметила Шалву: показав левой рукой на забинтованное ухо, Шалва поднял сжатый кулак. Ашхен невольно улыбнулась.
Час спустя Остужко и командиры других десантных отрядов получили приказ начать решительный штурм Новороссийска. Из штаба армии сообщили по радио: на одном из участков сдалась в плен румынская часть вместе с командиром.
В предместьях города сражаться стало труднее. Линии фронта уже не было, вражеских солдат можно было встретить и в цеху цементного завода, и во дворе, и в подвале, и в коридоре любого дома. Остужко перебросил свой КП во двор полуразрушенного здания и, выбрав удобный наблюдательный пункт, оттуда направлял боевые действия.
Ашхен при помощи Саввы успела вынести в тыл несколько тяжело раненных. Когда сражение уже велось в предместье города, Ашхен стало труднее: то и дело приходилось вытаскивать раненых из-под развалин домов, разрушаемых артиллерийским огнем, уводить их с поля боя под неприятельским обстрелом. Линия фронта так приблизилась, что невооруженным глазом были видны немецкие солдаты. Когда Савва вместе с другим санитаром унес в тыл раненного в живот сержанта, Ашхен огляделась вокруг.
Савва уже исчез за углом, но ей показалось, что гитлеровцы начинают теснить группу Остужко. Ашхен кинулась на КП. Там шел уже рукопашный бой. В переулках вокруг разрушенных домов смешались советские бойцы и вражеские солдаты. Один фашист-санитар сорвал с рукава повязку с красным крестом, засунул ее в карман и, пригнувшись, начал крадучись пробираться вперед. Столб ныли и кирпичных осколков скрыл Остужко. Сквозь поредевшую пыль Ашхен издали увидела, что Остужко упал, а санитар, подкравшись сзади, взмахнул ножом, готовясь поразить его. Казалось, что спасенья уже нет… Ашхен зажмурилась, но выскочивший откуда-то Шалва дулом автомата с такой силой ударил по руке гитлеровца, что тот свалился наземь. На помощь нашим подоспело свежее подразделение, враг отхлынул, и бойцы продвинулись вперед, оставляя позади трупы фашистов.
Ашхен подбежала к Остужко. Раненый в голову осколком, он тяжело и хрипло дышал. Ашхен продезинфицировала рану, приостановила кровотечение и ловко забинтовала его голову.
— Ашхен, — еле слышно проговорил Остужко. — Нет сил подняться… В голове шумит, в глазах темно… Эх, как не вовремя!.. Мы вот-вот соединимся с нашими!..
Санитары выносили раненых из-под развалин. Шалва рывком поднял с земли и схватил за шиворот немецкого санитара, который хотел убить Остужко. Увидев немца, Ашхен с яростью воскликнула:
— Ах ты, гадина! Куда дел свою повязку с красным крестом?!
Немецкий санитар покачал головой, желая показать, что он ничего не понимает. Ашхен выхватила из его кармана повязку с красным крестом и повернулась к Остужко.
Остужко лежал с закрытыми глазами.
— Товарищ Остужко, этот негодяй собирался ударить вас ножом, а ведь он — санитар!..
Голос Ашхен, казалось, вызвал Остужко из забытья. Потрясая повязкой, Ашхен кричала на гитлеровца:
— Негодяй, я тоже могла пустить в ход оружие! Но мне сказали, что мое дело — заботиться о спасении раненых… Понимаешь, спасать жизнь даже таким гадам, как ты, если они будут ранены в бою и попадут в наши руки!.. Ты носишь повязку Красного Креста, а закон его для тебя не обязателен? Падаль!
На лице Остужко появилась легкая улыбка.
— Я думаю, что этих толстокожих может вразумить только сила оружия.
— Простите, товарищ Остужко… А ну, Савва, давай осторожно положим товарища командира на носилки. Нет, нет, и не пытайтесь подняться, голову нужно держать горизонтально, остерегаться прилива крови! Вот так… А этому фрицу, — Ашхен повернулась к одному из санитаров, — пожалуйста, перевяжите рану уж вы.
Но не прошли они и нескольких шагов, как Остужко движением руки подозвал Ашхен и настойчиво сказал:
— Слышишь, как отдалилась стрельба? Беги, Ашхен, может быть, догонишь Саруханяна!.. Ребята донесут меня…
Ашхен не стала возражать; махнув рукой, она повернулась и почти бегом кинулась догонять удалявшиеся роты. Она пробегала мимо полуобвалившихся стен, перескакивала через ямы и кучи щебня. И вдруг перед ней открылось зрелище, которого не довелось видеть Остужко: советские части, штурмовавшие Новороссийск со стороны суши, встретились с защитниками «Малой земли». Люди в восторге обнимали и целовали друг друга. Сердца у всех полнились одним чувством: враг разбит. У Ашхен мелькнула мысль: как хорошо, что и она внесла свою маленькую лепту в дело победы! Ашхен не знала никого из бойцов, но все они казались ей дорогими и близкими, и она так же, смеясь и что-то крича, обнимала и целовала ликующих бойцов.
Но прозвучала короткая команда, и бойцы кинулись к пристани, где еще продолжался бой. Там же находились и пленные, которых гитлеровцы пригнали на пристань, намереваясь погрузить на суда и увезти. Но вскоре советские войска полностью отрезали пристань со стороны суши. Напрасно пытались части бывшего немецкого гарнизона, осаждавшего Новороссийск, прорваться сквозь кольцо окружения. Советские подразделения или уничтожали их, или вынуждали сдаваться в плен. Советские солдаты разбивали запоры на дверях приморских складов, куда были загнаны пленные. Ашхен поспешила в эту сторону. В одном из складов засела кучка гитлеровцев, мешавших продвижению советских бойцов. Ашхен разглядела издали фигурку Грачия Саруханяна. Вскоре она различила и его голос: он приказывал уничтожить стрелявших из засады гитлеровцев. Автоматчики окружили склад. Выстрелы оттуда становились все реже. С треском упала на землю сорванная с петель дверь одного склада, и оттуда хлынула толпа.
Ашхен с одним из санитаров поспешила на помощь раненым, но едва они сделали несколько шагов, как послышалась долгая очередь немецкого автомата. Ашхен и санитар залегли. Когда немецкий автомат умолк, Ашхен подняла голову и заметила впереди двух раненых советских бойцов. Она приподнялась было, но в эту минуту послышался сильный гул и рухнула стена дома, в котором засели гитлеровцы. Ашхен кинулась туда, где лежало двое раненых, прослушала их сердце, пощупала пульс: они были мертвы. Она повернула к себе голову одного из убитых и вздрогнула: застывшим взглядом на нее смотрел Грачия Саруханян. Сердце у Ашхен сжалось. Дрожащими руками она закрыла ему глаза и сама невольно зажмурилась…
Однако нельзя было медлить, и Ашхен поднялась на ноги. Новороссийск был уже полностью освобожден от оккупантов. На помощь санитарам пришли жители города. Раненых отправляли в санпункты, убитых несли в городской сквер.
На Центральной площади Новороссийска раздавались песни, музыка, молодежь танцевала. Городское население праздновало победу вместе с бойцами. Ашхен невольно остановилась, завидев пляшущего в середине круга Шалву. Заметив Ашхен, он схватил автомат, как гитару, и, делая вид, что аккомпанирует себе, громко запел:
Неизвестно было, когда успел Шалва сочинить эту песню, но пел он ее с большим воодушевлением и к большому удовольствию слушателей.
Ашхен слушала Шалву, но песня не рассеяла ее грусти.
— Смейся, Ашхен-джан, смейся. Сейчас смех твой, как залп «Катюши», ранит врага, смейся, шени чири мэ[18].
Шалва перестал петь и подбежал к Ашхен.
— Не идет тебе, Ашхен-джан, быть такой печальной!
— Ты не знаешь — Грачия Саруханян…
— Что, ранен?..
Ашхен молчала.
— Убит?.. — и Шалва ударил себя кулаком в грудь.
Молчаливый и печальный, он шагал рядом с Ашхен.
Их внимание привлекли громкие голоса и радостные восклицания. Из сарая на окраине города вывели новую группу пленных. Оборванные, измученные люди сияющими глазами глядели на своих освободителей. Все спешили обнять, поздравить их. Ашхен подошла, внимательно всматриваясь в лица. Вдруг один из освобожденных, полунагой, похожий на скелет, с провалившимися глазами, несмело шагнул к Ашхен и невнятно проговорил:
— Ашхен…
Передние зубы у него были выбиты.
Ашхен всегда хвалилась своей памятью, но сейчас не могла узнать этого преждевременно состарившегося человека. Она с минуту вглядывалась в него и вдруг воскликнула:
— Аракел?..
— Да, тот, кто когда-то звался Аракелом…
Ашхен с трудом сдержала слезы.
Через несколько часов Ашхен вместе с другими отправленными в Мисхако бойцами из дивизии Араратяна вернулась в свою часть. Встретив Гарсевана, Ашхен заметила, что лицо его сильно озабочено. Зашла речь о погибших в бою, и Гарсеван с тяжелым вздохом произнес:
— Эх, редкий парень был Грачия, единственный сын… Вот тебе и жизнь!
— Видел уже Аракела? — после долгого молчания спросила Ашхен.
— Видел.
— Ну, и как?
— Хочу просить, чтобы разрешили ему вернуться в нашу часть… Надеюсь, он сумеет реабилитировать себя. Ты понимаешь, гитлеровцы использовали пленных на строительстве укреплений!
— Что ты говоришь?.. Примут ли его теперь обратно?
— Посмотрим.
— Он оправдает доверие, я уверена: недаром вы вскормлены молоком одной матери!
Никогда еще ни одна похвала не была так приятна Гарсевану, как эти искренние слова. Он благодарно взглянул на Ашхен.
Глава пятая
УНАН АВЕТИСЯН
Основные части дивизии Араратяна занимали позиции близ лесистых гор, к северо-востоку от Новороссийска. В те дни, когда другим дивизиям Денисова приказано было овладеть Новороссийском, части дивизии Араратяна должны были нанести удар неприятелю в районе гор Долгая и Сахарная головка.
Дождь то накрапывал, то переставал. Грузовые автомашины и повозки подвозили боеприпасы и продовольствие продвигающимся вперед подразделениям. Колеса месили грязь. Земля становилась все более вязкой и скользкой.
Исхудалое, с выступающими скулами лицо Асканаза обветрилось и загорело. То в автомашине, то верхом он объезжал части дивизии. В этот день с рассвета надо было проверить подвоз боеприпасов и продовольствия. Неприятельские самолеты иногда появлялись и над коммуникациями второго эшелона. На одной из дорог, ведущих к горе Долгая, Асканаз увидел несколько грузовых автомашин, разбомбленных фашистскими самолетами.
Соскочив с коня, он передал поводья Вахраму и подошел к машинам, вокруг которых сновали бойцы: они доставали уцелевшие продовольственные припасы, перед тем как оттащить к обочине обгоревшие остовы грузовиков и расчистить путь для машин, идущих следом. Асканаз распорядился расставить на коммуникациях зенитки, чтобы отгонять фашистские бомбардировщики. Обращаясь к собравшимся вокруг разбитых грузовиков бойцам, он, как обычно в таких случаях, произнес:
— Умерших похоронить, раненых — в тыл, остальные — вперед!
Асканаз вскочил на коня и направился к своему новому КП. Холодный осенний ветер обвевал его покрасневшее лицо, и он щурил глаза, внимательно оглядывая окрестности. Дорога свернула в лес. Асканаз смотрел на пожелтевшие листья, с которых скатывались на землю дождевые капли. Казалось, деревья плакали от холода и сырости. Обложившие небо тучи — то черные, грозовые, то молочно-белые — быстро неслись, сталкиваясь друг с другом и принимая фантастические очертания: то они казались танками, то гигантскими орудиями, то скачущими всадниками. Асканаз протер воспаленные глаза и вспомнил дни детства, когда скопления облаков представлялись ему стадами белоснежных овец или грудами белого хлопка. Но эти воспоминания мгновенно исчезли, вытесняемые неотвязной мыслью о том, удачно ли выполнит его дивизия боевое задание. Весть о ранении Остужко сильно огорчила Асканаза: двухлетнее боевое содружество сблизило их, и Асканаз понимал, что значит отсутствие такого опытного командира.
Добравшись до штаба дивизии, он вошел в только что оборудованный блиндаж, приказал вызвать командиров и комиссаров частей, разостлал на чурбане карту и стал делать на ней пометки.
Первым явился в блиндаж комдива Мхитар Берберян.
— Ну как, написали уже родным погибших бойцов? — спросил Асканаз.
— Поручил написать.
— Самому нужно, самому или, по крайней мере, проверить исполнение. Матери Грачия Саруханяна нужно написать не только от командования, но и самому лично. Возьми листок бумаги и карандаш, пиши: «Дорогая Нвард-майрик, с чувством глубокого горя сообщаем вам, что сын ваш Грачия Саруханян погиб геройской смертью в боях за родину. Последним его подвигом было спасение ста шестидесяти пленных из фашистской неволи. Вы можете гордиться вашим сыном, как гордятся им командование и его боевые товарищи. Желаем вам долготерпения и разделяем с вами ваше тяжкое горе. Утешайтесь верой в то, что близок счастливый день освобождения родной земли, освобождения, во имя которого отдал свою молодую жизнь бесстрашный воин советской армии Грачия Саруханян. Передайте наше глубокое соболезнование невесте погибшего Рузан…» Вот так. А если поручите писать другим, просмотрите и проверьте сами. У погибших есть, конечно, в частях близкие товарищи. Посоветуйте им, чтоб и они написали родным погибших.
Берберян почувствовал угрызения совести: разве можно было допустить, чтобы комдив думал за него, напоминал ему его обязанности? А он-то был убежден, что все у него делается своевременно и так, как нужно!..
Вскоре в блиндаже комдива собрались командиры и политработники полков. «Нет среди них Остужко», — с горечью подумал Асканаз. Видно было, что успехи на фронте окрылили всех. Асканаз показал на карте район предстоящих боевых действий, подробно разъяснил боевое задание каждого подразделения. Отметив участки с заболоченной почвой, он указал на то, что тяжелое снаряжение придется кое-где переносить на плечах, и добавил:
— Последний опорный пункт гитлеровцев на Кавказе необходимо разгромить! Таманский полуостров должен быть очищен от фашистов — таков приказ Ставки! В числе других дивизий избрана для выполнения этого боевого задания и наша…
Ответив на несколько вопросов, Асканаз отпустил командиров. Вахрам ввел Гарсевана Даниэляна и Игната Белозерова, ожидавших у дверей блиндажа.
— Игнат Белозеров!
— Слушаю, товарищ полковник!
— Известно вам задание?
— Точно так, известно, товарищ комдив, получил его в полночь: моей штурмовой роте поручается обойти неприятеля с фланга и ударить на станицу Верхне-Баканскую.
Игнат коротко, но исчерпывающе отвечал на вопросы Асканаза: да, большинство бойцов получило новую обувь, двадцать пар доставили в прошлую ночь; снова раздали НЗ и пополнили недостачу; оружие, боеприпасы — все проверено, находится в полной готовности.
— А как с «молочком от бешеной коровки»? — улыбнулся Асканаз.
— Все в порядке: по сто грамм ребятам обеспечено.
Такие же ответы дал и Гарсеван. Когда Асканаз попрощался с обоими, Гарсеван попросил разрешения остаться. Игнат откозырял и вышел из блиндажа, оставив товарища наедине с Асканазом.
Гарсеван в первую минуту не знал, с чего начать; он молча стоял перед Асканазом, не поднимая головы.
— А ну, подними голову! Что это с тобой? Не к лицу тебе выглядеть таким удрученным…
Дружеские слова и тон Асканаза подбодрили Гарсевана. Он с угрюмой решимостью взглянул прямо в глаза своему комдиву.
Накануне Асканаз перед строем в торжественной обстановке передал Гарсевану Даниэляну и бойцам его ударного отряда благодарность командования за захват немецкого дзота. О том, как советские бойцы превратили немецкий дзот в советское укрепление, знал и командующий фронтом генерал-полковник Петров. Гарсеван Даниэлян был представлен на утверждение в звании Героя Советского Союза, значит у него не было никакого повода чувствовать себя подавленным. Выслушав упрек Асканаза, Гарсеван решил откровенно поговорить с ним.
— Товарищ полковник, я глубоко тронут тем, что вы так высоко цените мои малые заслуги. Легко сражаться, когда рядом такие бойцы, как Унан Аветисян, Абдул Гасан-задэ, Мурад Микаэлян и другие. Но тут дело вот в чем… Ведь у Аракела там, в Армении, жена и дети… Это вопрос чести… Каково будет их состояние, если, скажем, его имя будет запятнано?..
Гарсеван, который обычно выражался складно, сейчас чувствовал, как ему трудно изложить свою мысль. Поняв, что происходит у него в душе, Асканаз пришел ему на помощь.
— Понимаю, что ты хочешь сказать: сейчас не только семья Аракела, но и весь армянский народ следит за тем, как ведет себя каждый из его сынов. Ты не хочешь, чтоб Аракел оставался во втором эшелоне? Ему будет дано разрешение вернуться в часть, пусть только немножко поправится и привыкнет к новым условиям.
— Спасибо, товарищ полковник, но я просил бы разрешить мне взять его с собой в мою штурмовую роту. Ведь он не может смотреть в лицо никому из товарищей… душа у него горит!
Асканаз подумал и решительно сказал:
— Ладно, разрешаю. Но помни: высота Долгая должна быть нашей!
Лицо Гарсевана просияло.
Вместе с Гарсеваном Асканаз вышел из блиндажа, чтобы проверить подготовку штурмовой роты. Пока Асканаз обходил окопы, Гарсеван отозвал в сторону Аракела, сообщил ему, что комдив согласился дать ему возможность принять участие в штурме высоты, и хотел было расспросить о том, что он претерпел в плену.
— Не надо, Гарсеван-джан, не спрашивай об этом! — тихо сказал Аракел. — Меня поддерживала лишь надежда на приход наших!.. Несколько раз пытался я уйти к партизанам, спастись из ада… Но об этом я расскажу после! Обо всем, что нам пришлось испытать в неволе, могут рассказать и те два бойца, которых тоже приняли обратно в часть…
Аракел не успел докончить — в их сырой окоп вошел Асканаз. Было уже за полночь. Луна по-прежнему скрывалась за тучами. Внимательно рассмотрев с НП находящееся напротив позиции неприятеля, Асканаз пристально оглядел бойцов, собравшихся у развилки окопа. Асканаз узнал их — это были Унан и люди его взвода. Чуть попозже подошел Аракел. Асканаз проверил оружие у каждого из бойцов.
Проводив Асканаза на КП Гарсевана, Унан сел на охапку травы, прислонился к стене окопа, достал листок бумаги и авторучку и пристроился писать на колене. Ему представилось родное село Цав, зеленые сады совхоза в Октемберянском районе, в которых каждое деревце было ему знакомо; он как бы вновь увидел голубые клочки неба в просветах между ветвями огромного орехового дерева, увидел родной Арарат, в этот час, наверное, окутанный туманом… Перед ним возникла мать Ханум с пятилетним внучком на руках, а вот и жена Сируш… Отняла ли она от груди маленькую Марго? Тоска сжала сердце, но он, стиснув зубы, вскочил с места, передал письмо связисту роты и вернулся к товарищам. Уже наступила темнота. Унан смотрел наверх, и ему казалось, что небо сползло вниз и одним краем приникло к маячившей впереди высоте.
Асканаз Араратян взглянул на ручные часы: оставалось еще полчаса до условленного срока, когда дивизия должна была перейти в общее наступление. Перед ним угрюмо маячила высота Долгая, где засели гитлеровцы. Созданная ими система укреплений являлась серьезным препятствием. Асканаз снова связался с подразделениями: взводы Гарсевана Даниэляна стояли наготове, ожидая сигнала к штурму Долгой; подразделение Игната Белозерова уже дошло до исходных позиций, откуда должно было обходным движением с фланга зайти в тыл, занять станицу Верхне-Баканскую, чтобы ударить в спину фашистам. Остальные части дивизии должны были с наступательными боями двигаться вперед.
Незадолго до этого Асканаз, проводил Берберяна и Ашхен, которые отправились вместе со штурмовыми ротами. С минуту Асканаз молча смотрел на табурет, где только что сидела Ашхен. Раньше ему казалось странным, что после приезда на фронт Ашхен очень отдалилась от него. Но сейчас ему было ясно, что в этом виноват он сам. Ашхен очень горда. Ее гордость стояла преградой между ними, а он не нашел в своей душе чего-то, что могло сломить ее гордость. У Ашхен сильный характер, она не нуждается в том, чтобы ее утешали и подбадривали. После того, что ей пришлось пережить, она стала еще более требовательной и к себе и к другим. Асканаз потер лоб: «Да, — мелькнуло у него, — Берберян питает к ней глубокое чувство».
Ему почему-то не хотелось задерживаться на этой мысли. Несмотря на всю свою занятость, Асканаз временами остро чувствовал одиночество. Кто же та, с которой он отныне может связывать свои надежды? Перед его глазами встал образ Оксаны… Сколько невысказанной нежности было в ее печальном взгляде! Несколько дней, проведенных вместе накануне войны… потом тяжелые дни отступления… Асканазу никогда не забыть этого! Не забыть и того, как он тайно пробрался в город, чтобы навестить Оксану. Она такая беспомощная, так нуждается в поддержке и заботе. А ведь в утешении и заботе нуждается и сам Асканаз. Оксана тянется к нему всей душой, он это чувствует!..
До условленного срока оставалось двадцать минут…
В дверь постучали, и лицо Асканаза прояснилось при виде Нины. Глядя на покрасневшие от бессонницы глаза Асканаза, на его осунувшееся лицо, Нина почувствовала укор совести: ей хотелось просить прощения у Асканаза за то, что она однажды усомнилась в нем.
Асканаз заботливо справился о Диме и улыбнулся так светло, что на лице Нины невольно появилась ответная улыбка.
— Ну, а как Григорий Поленов?
Она с озабоченным видом рассказала, что Поленов после освобождения Сталинграда участвовал в боях за Ростов и со своей частью форсировал реку Миус. От беженцев Поленов узнал, что Тоня умерла в Германии: у нее были преждевременные роды, ребенок погиб, а сама она истекла кровью…
— Да, нелегко Поленову… — задумчиво сказал Асканаз.
Он взял Нину за руку, заглянул ей в глаза и сказал:
— Мне нужна безотказная — вы понимаете это? — безотказная связь.
В то время как рота Игната Белозерова подступала к станице Верхне-Баканской, вызывая замешательство в стане врага, штурмовая рота Гарсевана Даниэляна карабкалась вверх по склонам высоты Долгая; впереди шел взвод Унана Аветисяна.
Вначале рота Гарсевана не добилась успеха: ураганный огонь фашистов прижимал ее к земле. Гарсеван, получив приказ от командира дивизии действовать более решительно, подполз к Унану и Абдулу.
— Уже больше часа мы поднимаемся на высоту, а она все еще в руках фашистов, — с раздражением сказал он. — Выполнение задачи срывается из-за двух проклятых дзотов. Тебе с твоим взводом, Аветисян, поручаю во что бы то ни стало заставить их замолчать!
Унан переглянулся с Абдулом и решительно сказал:
— Будьте спокойны, товарищ комроты: сейчас ребята получат дополнительные диски и патроны, и мы уже не остановимся!
— Клянусь солнцем, высота будет нашей! — подтвердил Абдул.
Гарсеван одобрительным взглядом окинул Унана и Абдула и так же ползком вернулся на свой КП.
— Ну, Абдул, — сказал, нахмурившись, Унан, — ты переходи направо и скажи ребятам, чтобы не отставали от нас!
Унан начал подниматься по склону, пользуясь, как укрытием, каждой щелью и каждым кустиком. Справа карабкались Абдул и Лалазар, с другой стороны — Зарзанд и Аракел. Рассыпавшись по склону, следовали за ними остальные бойцы. Унан полз по склону, и в сердце у него клокотала ярость: перекрестный огонь вражеских пулеметов прижимал бойцов к земле, не давал им окружить дзоты.
— До каких же пор!.. — бормотал он сквозь зубы, упрямо продолжая подниматься.
Близко, еще ближе… Унан вырвал связку гранат из-за пояса и, размахнувшись, швырнул в амбразуру. Пулемет умолк.
— Вперед! — загремел голос Унана.
Бойцы взвода снова начали карабкаться вверх. Но вдруг бешено заработал пулемет из амбразуры второго дзота. Воодушевленный примером Унана, Абдул вырвался вперед, но не успел сделать и двух шагов, как упал и скатился под ноги Унану. Лишь на одну секунду Унан смог заглянуть в его глаза. Выпачканной в земле рукой он провел по лбу Абдула и взял связку гранат из его разжавшейся руки. Вдруг послышался сильный взрыв: Аракел, уже подобравшийся к дзоту, приподнялся на колени и взмахнул рукой со связкой гранат; из щели амбразуры вырвалась огненная струя, гранаты в руке Аракела взорвались, и он исчез в столбе земли и осколков камня…
Казалось, фашистский дзот торжествует: пули советских бойцов скользили по его бетонированным бокам,: и в треске его пулемета слышалось злорадство.
Стиснув зубы, Унан упрямо пополз к фашистскому дзоту. Пуля впилась в его тело, из раны хлынула кровь, но Унан не чувствовал боли… Все еще не выполнили боевого задания. «Должны выполнить!» — шепнул он сам себе пересохшими губами и повелительно крикнул:
— Окружить дзот! Он должен умолкнуть!
Первым вскочил на ноги Лалазар. Его примеру последовали остальные. Глаза Унана блеснули, — да, товарищи не подведут! Вот упал один, еще один… И все же они двигаются вперед, вперед! Они знают, что назад дороги нет: ждет Гарсеван, ждет вся часть… Несколько бойцов залегли… вот залегли все…
Унан собрался с силами и снова начал карабкаться вверх. Вот он, дьявольский дзот, неумолкающий пулемет, плюющий смертью!.. Довольно, больше нельзя терпеть! Унану вспомнились первые дни войны, Ереван, сквер Флора, девчурка с букетом цветов… Он метнулся вперед, подтянулся к щели амбразуры и схватился за злобное дуло, заграждавшее путь его товарищам.
— За тебя…
Последним нечеловеческим усилием он кинул тело на дуло пулемета и грудью закрыл его отверстие. Прогремела последняя очередь, раскаленное горло чудовища захлебнулось кровью и умолкло навсегда.
Советские часта заняли маленькое село Гайдук, расположенное между высотой Долгая и станицей Верхне-Баканская. Остатки разгромленного гарнизона Верхне-Баканской в беспорядке отступали к Таманскому полуострову. Работники санбата перебрасывали раненых на медпункты и подбирали тела убитых, чтобы предать их земле на склоне занятой высоты. Гарсеван подошел, постоял перед братской могилой и шепотом спросил Лалазара — одного из уцелевших во время штурма высоты Долгая.
— А где же Аракел?
— Он подорвался на гранатах… — и Лалазар показал на ящик с останками Аракела.
Потрясенный Гарсеван закрыл руками лицо…
Весть о подвиге Унана Аветисяна с быстротой молнии распространилась по всей дивизии.
На рассвете-следующего дня в селе Гайдук собрались бойцы, крестьянке, станичники Верхне-Баканской и спасенные из фашистской неволи военнопленные.
Гарсеван, Игнат, Вахрам и Лалазар осторожно опустили гроб с телом Унана на землю, рядом с вырытой могилой. Среди провожавших Унана в последний путь были также Асканаз Араратян, Мхитар Берберян, корреспонденты дивизионной и армейской газет, между ними и Вртанес.
Военный оркестр тихо играл похоронный марш.
У открытой могилы выступили с прощальным словом Мхитар Берберян, старый колхозник — уроженец Гайдука, Лалазар… И все же хотелось добавить что-то, чего еще никто не оказал.
Вртанес молча слушал выступавших. Глаза его наполнились слезами, и он старался незаметно вытереть их. Ему было поручено выступить от имени политотдела армии.
— Когда идет бой не на жизнь, а на смерть, проявляются подлинные душевные качества человека, — сказал в своем прощальном слове Вртанес. — Унан Аветисян был очень молод. Но вот наступил решающий миг в его жизни. Этот миг требовал от Унана высшего проявления всего того, во что он верил и во имя чего он сражался. То, что совершил Унан, длилось всего мгновение. И это мгновение принесла ему бессмертие! Имя Унана Аветисяна навсегда будет упоминаться в ряду героев, священный пример, которых, вдохновлял нас в борьбе за свободу родины. Унан Аветисян нашел в себе достаточно мужества, чтобы пренебречь смертью. Своим подвигом он подтвердил вековую заповедь нашего народа: «Смерть за родину — это бессмертие».
Тело Унана Аветисяна опустили в могилу.
Прозвучал залп, загремели звуки похоронного марша.
Первым подошел, преклонил, колено и поцеловал могилу героя Асканаз Араратян.
Раздвинулись темные тучи, и в щель между ними проглянуло солнце. Лучи его упали ка могильный холм Унана. Товарищи по оружию молча возложили на могилу цветы.
Глава шестая
В МОСКВЕ
Медленно наступал майский вечер.. По набережной неторопливо шел Асканаз Араратян, не отрывая взгляда от мутных вод Москвы-реки. Большие льдины, толкаясь, быстро плыли по течению, как бы стараясь опередить друг друга. Синий свет фонарей бросал слабый отблеск на вспененную поверхность реки. Глядя на массивные стены Кремля, и купола многовековых зданий, Асканаз мысленно представлял себе Колонный зал Дома союзов, залитый светом: в этом зале несколько дней назад стоял и он сам.
К маю 1944 года многое изменилось на фронте после того, как гитлеровцев вышвырнули с Таманского полуострова — последнего оплота фашистских захватчиков на Кавказе. Ныне дивизия Араратяна, получившая новое пополнение, в ожидании боевого задания была занята обучением своих кадров. Асканаз на несколько дней был вызван в Москву для участия, в важном совещании. Утром, на приеме в Кремле, ему были вручены ордена Суворова и Кутузова, которыми он был награжден за умелое руководство боевыми действиями своей дивизии. Звание генерал-майора он получил еще в начале года.
Сейчас Асканазу не хотелось уходить далеко от Кремля, не хотелось покидать набережную. Вот река течет неудержимо, все вперед и вперед, и вода в ней постепенно очищается. Пройдет несколько дней, и плавно потекут чистые воды, отражая в себе здания и огни, а те мутные волны останутся как воспоминание… Да, так будет и здесь и т а м!
Темнота постепенно сгущалась. Асканаз направился к Красной площади. Юношеская неутомимость вернулась к нему. С любопытством человека, впервые попавшего в Москву, он со всех сторон обошел памятник Минину и Пожарскому, медленно прошел мимо Мавзолея Ленина и спустился к гостинице «Москва», где ему был отведен номер в последнем этаже.
В этот вечер одиночество удручало Асканаза. Он подошел к телефону и задумался. На следующий же день после своего приезда он позвонил сестре Нины, справился о здоровье Димы; вечером навестил мальчугана и принес ему подарки. Что же делать теперь? Он почувствовал, как стосковался по Шогакат-майрик. Ему почему-то вспомнились ее наставления, а затем слова матери Вардуи, сказанные на кладбище… Да, ему нужен друг жизни. Скоро исполнится четыре года со дня смерти Вардуи. Уже три года он находится на передовой. Как жаль, что стали такими далекими его отношения с Ашхен! Какое утешение принесла бы дружба с ней…
Асканаз подошел к столу и открыл свой дневник. Листая его странички, он словно воскрешал в памяти пройденный путь, забывал тоску и одиночество. Он остановился на последних записях.
«2 октября 1943 годаДоверие… Смысл этого простого слова раскрылся во всем своем величии в годы испытаний. Теперь, когда изгнание врага из пределов Кавказа — вопрос ближайших дней, особенно радует полученная от командующего фронтом телеграмма: «Лично следил за ходом боя. Безгранично доволен героическими подвигами ваших бойцов. Вы полностью оправдали как наше доверие, так и доверие армянского народа». Есть ли большее счастье, чем то, когда человеку доверяют, когда на него надеются? Когда я говорил об этом с бойцами, Гарсеван сказал: «Доверие — это земля, дела людей — побеги; люди нашей родной земли доверились нам, и это придало нам силы для свершения подвигов…»
Дивизия теснит врага на северо-западной оконечности Таманского полуострова.
10 октябряЗа освобождение Таманского полуострова от фашистов двадцать пять дивизий получили названия Таманской, Темрюкской, Анапской, Кубанской, а некоторые переименованы в гвардейские. Мои бойцы ликуют — наша дивизия в числе этих двадцати пяти. Митинги в частях… Имя Унана Аветисяна окружено ореолом в его части. «Тает снег — остается скала, умирает герой — остается имя…» Как подходит эта народная пословица к герою-воину! Унану Аветисяну посмертно присуждено звание Героя Советского Союза…
12 октябряТолько что вернулся от Денисова. Сердечно попрощался со мной. Не хотелось бы расставаться, но такова уж военная жизнь… Прощаясь, он задумчиво сказал: «Иду вернуть все то, что сдал во время отступления…»
2 января 1944 годаНовый год в части встретили с большим воодушевлением. Зарзанд, вернувшийся в часть из госпиталя после очередного ранения, самозабвенно распевал:
- Одну из красоток моего Айастана
- Ох, полюбил, ох, горю от любви!
На сборе говорил со многими бойцами. Песня Зарзанда произвела на всех большое впечатление — ведь со дня прибытия в часть он ни разу не пел. «Ну, раз Зарзанд запел, значит дела наши идут на лад!» — пошутил Лалазар. Гарсеван вспомнил 1942 год, загорелось ему днем раньше вышвырнуть фашистов из Керчи…
10 мартаГарсеван рассказывает, что Ара хватает карандаш и начинает рисовать, как только выдается минута передышки; показал мне сегодняшний набросок Ара: маленькая девчурка, опустившись на одно колено, округлившимися от удивления глазами рассматривает птенчика, который только что вылупился из яйца. Прекрасно передан удивленный взгляд ребенка, для которого открылся новый, неведомый мир».
На страничках дневника вкратце описывались действия дивизии в Крыму, освобождение Севастополя…
Асканаз отложил дневник. Ему захотелось позвонить одному из товарищей по университету, случайно встреченному сегодня на улице. Но в эту минуту в дверь постучались. Асканаз открыл и в первое мгновение не поверил глазам: «Неужели… каким образом… когда?»
В комнату вошла Нина в шубке из черной мерлушки и в такой же шапочке. Правда, кожа на лице Нины хранила следы суровой военной жизни, морозов, ветра и весеннего загара, но как раз это и нравилось Асканазу. Нина сняла рукавичку, и Асканаз медленно поднял протянутую ему руку и прижал к губам, затем помог Нине снять шубку. Нина подошла к зеркальному шкафу, чтобы поправить волосы. В темном платье фигура ее казалась особенно стройной; белизна шеи и рук подчеркивала загар чуть погрубевшего и обветренного лица. Нина, в свою очередь, внимательно взглянула на Асканаза, на его суровое и решительное лицо. Ей казалось, что теперь ей известна вся жизнь Асканаза — и там, на фронте, и в кругу родных и друзей.
— Через три дня после того, как вы выехали в Москву, в нашу часть прибыл из штаба армии какой-то генерал. Туг-то я и подумала: раз дивизия находится на положении «проходящей учебу в мирных условиях», почему мне не отпроситься в Москву? Хотелось очень ребенка повидать… И я очень, очень благодарна, Асканаз Аракелович, что вы навестили Димку. Оля была так тронута!
— Да не стоит об этом говорить. Садитесь же!
Они говорили стоя перед зеркалом. «Неужели это она карабкалась на столбы и срывала телеграфные провода?!» — промелькнуло у Асканаза. Он еще раз внимательно оглядел Нину, — да, никогда еще не казалась она ему такой привлекательной!
— Ну, садитесь же! — вновь предложил Асканаз.
— Нет, мы должны сейчас же идти.
— Куда это?
— Да к нам.
— Но, может быть… — Асканаз хотел сказать «в другой раз».
— Нет, нет, идем сейчас же! — настаивала Нина.
— Это что ж — приказ? Приказ выполняют без возражений, это нам известно.
— Там нас ждут Дима, Оля и… Сегодня ведь день рождения Димки.
— О, почему же вы мне сразу не сказали?
— И еще Григорий Дмитриевич…
— Как, Поленов?!
— Он самый.
Асканаз невольно сделал шаг назад и машинально включил радио.
— …слушайте салют… — послышался торжественный голос диктора.
Диктор сообщал об освобождении новых советских городов. Через несколько минут Москва должна была салютом ознаменовать эту радостную весть. И Асканазу, и Нине предстояло впервые увидеть салют Москвы, который до этого они представляли себе лишь мысленно. Нина согласилась на предложение Асканаза посмотреть салют с крыши гостиницы. Они оба быстро оделись и поднялись на крышу, откуда была видна вся Москва. Грохнули пушки, и в небо взметнулись снопы многоцветных огней. Все кругом осветилось. Толпы людей на площадях и улицах наблюдали за полетом ракет с восторгом, который, казалось, нисколько не уменьшался от того, что им далеко не в первый раз приходилось видеть салют. Дети, которых в этот час ничто не могло удержать дома, затаив дыхание, следили за полетом ракет, с ликованием указывая друг, другу на особенно высоко взлетевшую огненную гроздь или взвизгивая от смешанного со страхом восторга, когда какая-нибудь ракета, описав дугу, непотухшей звездой падала на землю. Нина сияющими глазами вглядывалась в очертания родного города и быстро говорила, не ожидая и не слушая ответа:
— Димка все говорит: «Не уходи больше, мамочка…» А потом гладит мне волосы, целует в щеки и просит: «Ну хорошо, еще одну ночь останься, и еще день, а потом уезжай!»
Потухли в небе последние огненные цветы на гибких стеблях. Нина и Асканаз вернулись в номер. Едва успели они войти в комнату, как вновь прозвучал телефонный звонок. Асканаз взял трубку и с улыбкой повернулся к Нине:
— Вас просят…
Нина схватила трубку.
— Да, да, Олечка, идем… Ну, конечно, любовались С крыши гостиницы вместе с Асканазом Аракеловичем… Ладно уж, скоро приедем… Что? Димка хочет говорить?.. Нет, нет, это, будет долго… Хорошо, сынок, хорошо, поцелуешь крепко, когда приеду…
Оля жила неподалеку от Арбата. Она занимала комнату во втором этаже большого дома. Следом за Ниной Асканаз шагал по длинному, слабо освещенному коридору. Прислушивавшийся к их шагам Димка распахнул дверь и кинулся на шею матери, чуть не сбив ее с ног. Посреди комнаты, около накрытого стола, стояла невысокая женщина в шелковом платье. Лицо ее, несмотря на улыбку, выглядело усталым и измученным. Это была Оля, старшая сестра Нины. Она работала плановиком на заводе; спешная работа часто вынуждала ее задерживаться на заводе и вечерами. Диму она сумела поместить в детский сад, откуда лишь в субботу вечером забирала его домой, чтобы снова отвести в понедельник утром. Но после приезда Нины сестры забрали ребенка домой.
Асканаз подошел к Оле и пожал ей руку со словами:
— Что ж вы не сказали мне о рождении Димы, Ольга Михайловна? Ну, поздравляю вас с днем рождения племянника и с приездом сестры!
— Да, эта неделя была очень радостной для меня, — улыбнулась Оля.
— Ну, а тебе, Григорий Дмитриевич, уж не знаю, что и сказать… Настоящий герой! — Асканаз пожал руку Поленову, стоявшему рядом с Олей, и потом крепко расцеловался с товарищем по оружию.
— Здравия желаю, товарищ генерал! — отступив на шаг, браво вытянулся Поленов.
Асканаз подхватил Диму на руки, поцеловал в обе щеки и поздравил с днем рождения. Бросив взгляд на стоявших рядом сестер он невольно обратил внимание на разительное сходство между ними. Нина и Оля были похожи друг на друга не только лицом, но и осанкой, движениями, манерой говорить. Единственная разница была в том, что военная жизнь сделала Нину более здоровой и выносливой; Оля выглядела хрупкой и малосильной рядом с нею, да и снежная белизна лица и рук ее резко отличалась от загара Нины.
— Ну, Дима, пьем за твое здоровье! — поднял бокал Асканаз. — Тебе уже исполнилось четыре года. Расти большой, большой…
— Чтобы мне тоже надеть погоны, да? — серьезно справился Дима.
— Обязательно! Итак, за твое здоровье!
Оля маленькими глотками отпивала вино из своего бокала, разглядывая Асканаза и Поленова. Нина то подкладывала гостям лакомые кусочки, то тихо разговаривала, лаская сидевшего рядом Димку, у которого вилка часто застревала на полдороге: ордена Асканаза и особенно Золотая Звезда Поленова поглощали все его внимание.
Асканаз предложил тост за здоровье сестер. Поленова словно смущало то, что и Нина и Оля почти не пьют, а Асканаз отказывается от водки. Сам Поленов каждый предложенный тост запивал водкой. Видно было, что его томит желание говорить.
— Значит, так… — начал он. — Когда мы в Сталинграде отправили фельдмаршала Паулюса с его тремястами тысячами к черту на кулички и оглянулись, вдруг видим — очутились мы в глубоком тылу. Вот так штука, думаем, ведь мир сразу опять широким стал! Несколько дней тому назад нельзя было и подумать высунуть нос из дома номер одиннадцать, так колошматили нас из тринадцатого номера, а теперь выстрой в одну линию хоть тысячу тринадцать домов — ни одного гитлеровца не найдешь. Даже как-то тоскливо стало на душе. Прошу начальство. «Двиньте-ка меня опять вперед!» А начальство: «Нет, говорят, сперва вас в человеческий вид приведем!»
— Словом, перешли к настоящей, мирной жизни? — улыбнулась Оля.
— Ну, если триста тысяч человек сразу перестанут стрелять — это уже значительный шаг к миру! — подхватил Асканаз.
Поленов откинул упавшую, на лоб прядь волос, осторожно поддел вилкой кусочек селедки, переложил к себе на тарелку и поднял рюмку.
— За ваше здоровье, Асканаз Аракелович… Уж поверьте, всегда добром поминали вас!
— Спасибо тебе, друг! — отозвался Асканаз. — Ну, не останавливайся, рассказывай — ведь сколько интересного испытал!
— Да боюсь наскучить… Значит, вместе с частью дошел я до Ростова. Опять повезло мне — оказался в дивизии Шеповалова!
— Да, да, я получил от Бориса Антоновича два письма. Я поздравил его еще в прошлом году — ведь первой в Ростов вошла его дивизия!..
— У него в дивизии служил один из ваших соотечественников — Гукас Мадоян, батальоном командовал. А я там командиром стрелковой роты был. Молодчага этот Мадоян — шесть дней удерживал железнодорожную станцию Ростов-Дон, хотя гитлеровцы со всех сторон зажали в кольцо его батальон. А он — ничего, держится. Очень туго ему в последний день пришлось: гитлеровцы склады вокруг станции подожгли. А Мадоян и тут не растерялся, через горящие складские помещения провел свой батальон в паровозоремонтные мастерские, да и начал колошматить фашистов оттуда!
— То есть как это через горящие здания?! Пожалуйста, расскажите подробнее, это интересно… — попросила Оля.
— Ну, раз интересно, разрешите уж фундаментально. Значит, так. По приказу Шеповалова, Мадоян со своим батальоном ночью перебрался через Дон у станицы Верхне-Гниловской, обошел город и ударом в тыл захватил железнодорожную станцию Ростов. А было это в феврале, в лютую стужу. Пока другие наши части штурмовала город со всех сторон, гитлеровцам удалось взять в кольцо батальон Мадояна. Организовал Мадоян круговую оборону и давай жарить по фашистам. Послал он с разведчиками донесение в дивизию, но ответа не получил. Прервалась связь. Ну, а мне с моей ротой поручено было засесть в паровозоремонтной мастерской за зданием вокзала и ждать новых распоряжений. Я уж потом разузнал все подробности, а тогда, конечно, в собственном соку варился. Значит, превратил комбат Мадоян котельную в подвале станции в свой командный пункт, а в верхнем этаже установил наблюдательный пункт. Лезут гитлеровцы в атаку, их отбрасывают, они опять лезут. На второй день фашисты уже на рожон пошли: не терпится им весь батальон в плен взять! Опять ничего не вышло. На четвертый день подсчитал Мадоян боеприпасы, видит — к концу идут. Уж не говорю о том, что и с едой у них плохо было, почти весь НЗ уже подъели. Организовал Мадоян штурмовые группы, и начали они подбирать автоматы и диски у убитых фашистов. Словом, на пятый день били фашистов их же оружием. Легко сказать — пять дней! Это значит и день и ночь — в сражении, ни минуты передышки, да еще впроголодь… И бойцы и офицеры отощали, еле на ногах держались. И тяжелее всего — по себе знаю, — когда ни минуты нет возможности поспать. Трудно людям, а держатся, помнят приказ комбата: выстоять, оборонять станцию до последнего. И вот наступил последний, шестой, решающий день. Пронюхали гитлеровцы, что плохо приходится нашим, идут в атаку раз за разом. Закидали станцию зажигательными бомбами, подожгли складские помещения. В тылу батальона запылали склады с каменным углем. Такой был жар, что снег вокруг станции весь растаял. Потирают руки гитлеровцы, считают минуты до того, как попросит батальон пощады. А у Мадояна помощниками Шунденько, Охапкин, Данильченко, Ковальчук — ребята что надо. Шунденько этот был директором Музея революции в Ленинграде; из политотдела армии его направили и батальон. А Охапкин был заместителем Мадояна по политчасти. Значит, усиливается пожар. Что ты поделаешь! Стоят Мадоян и Шунденько, переглядываются. Тут каждая минута дорога. Прикинул Мадоян на глаз: в ширину склад не больше двадцати метров. Обернулся он к бойцам и кричит им: «Смотрите, ребята, на меня, делайте, что и я!» И бух в лужу растаявшего снега! Намочил валенки, шинель, шапку-ушанку. Не знают бойцы, к чему это, а то же делают — верили они своему комбату. Мадоян и говорит Шунденько: «Поручаю вам проследить, чтобы здесь ни одного бойца не оставалось!» Нахлобучил он поглубже на глаза мокрую ушанку да как кинется в самое пламя! А за ним следом — Охапкин… Точно на крыльях пролетели через весь горящий склад и через минуту уже были по ту сторону, отделенные от гитлеровцев стеной огня. Гитлеровские танкисты открыли орудийный огонь…
Поленов перевел дыхание и отпил глоток водки.
— Тут уж нашлась работа и для меня: по знаку Мадояна взялся я за танки. Ведь гитлеровцы-то надеялись спалить нас! Но не тут-то было! Наши сквозь огонь проскочили, а вот их танки из огня да в полымя попали! Подбили мы парочку, а остальным пришлось повернуть весь огонь на занятые моею ротой паровозоремонтные мастерские. За это время батальон перегруппировался и так ударил по гитлеровцам, что у тех искры из глаз посыпались. Провоевали мы этак еще одну ночку, а на рассвете слышим уже неподалеку родное «ура». Поняли мы, что подоспели полки Шеповалова. Вот за это крещение огнем и водой и получил Гукас Мадоян звание Героя Советского Союза!
— Вот это я называю силой воли! — воскликнула Оля. — Подумайте только — сквозь пламя… А вы, Григорий Дмитриевич, за что получили звездочку Героя?
— Да нет, я ничего особенного…
— Ну, ну… здесь чужих нет! Люблю я скромность, но в данном случае она ни к чему. Мне просто интересно знать…
— Да честное слово, ничего интересного!
— Опять? Ведь Асканаз Аракелович и Нина побывали в боях, а я только по газетам знаю… Мне интересно.
— Ну ладно, скажу в двух словах. Получил батальон новое задание, форсировали мы реку, дошли до Таганрога. Вызвал меня Шеповалов, говорит: «А ну, Поленов, того, разорвись, а достань мне «языка» из гарнизона города!» Ну, я ему и предоставил…
— Ну как, как?.. — взволнованно допытывалась Ольга Михайловна.
— Ну, я вам как-нибудь в другой раз все подробности расскажу, а сейчас опишу, что мы в самом Таганроге увидели, когда вошли в город. Начали собираться туда советские люди, бежавшие из фашистской неволи. Узнал я, что есть среди них девушки и женщины, насильно угнанные в Германию. Три дня бегал, как сумасшедший, расспрашивал всех и наконец отыскал Любу, самую близкую подругу моей Тони: их вместе и угнали в Германию. Ну, что тут долго рассказывать!.. Я вам писал, Нина Михайловна… Не выдержала моя Тоня мучений… И вдруг увидел я, что остался на белом свете один-одинешенек. Оказывается, уже два года нет в живых моей Тони, а я-то думал…
Нина взяла на руки Диму, отнесла в кроватку и, уложив, осторожно поцеловала в лоб. Дима спросонок покапризничал, но скоро успокоился и заснул.
— Мы вас слушаем, Григорий Дмитриевич! — напомнила Оля.
— Ну остается рассказать, как я попал в Москву. Значит, говорят мне — топай, мол, в штаб, вызывают тебя! Бросило меня в дрожь. «А ну, Григорий, — говорю себе, — припомни, нет ли за тобой новой промашки?» Асканаз Аракелович, помните историю с этим прохвостом Мазниным?
— Ну, еще бы не помнить!
— Значит, затопал я в штаб, явился к генералу. А он — ничего, улыбается… «Что скажешь, говорит, если мы тебя на два месяца на курсы командиров пошлем?» Помолчал я, пришел в себя и говорю: «Уж лучше я со своей частью вперед пойду, какое теперь время для курсов?! Ведь враг-то еще на нашей земле!» А он мне этак сурово: «Вот именно для того, чтобы покончить с врагом, и нужно нам лучше подковаться». Ну, что тут скажешь? Приехал я, значит, на курсы — это тут, неподалеку, под Москвой, — дали мне после окончания звание майора. Пока учился, покою не давал Нине Михайловне, через день ей письма писал. А вот ответы от нее получал редко — в две недели раз. Все твердил ей в письмах — говорю, приезжай в Москву…
— Ах, значит так? — понимающе улыбнулся Асканаз.
— И вот наконец приехала!.. — и Поленов взглянул на Нину. Она вспыхнула и отвела глаза.
— Все это я к тому вел, — продолжал Поленов, — что я, значит, желаю… что хотел бы… и уже говорил об этом с Ниной Михайловной… что… Ну, словом, я просил ее дать согласие выйти замуж за меня! Я сирота, отца-матери у меня нет, один как перст… Как услышал о том, что вы здесь, словно какой-то трудный рубеж форсировал! Говорю себе в душе: «Наверное, Асканаз Аракелович в этом вопросе, извините, согласится быть моим сватом!» Значит, замолвите и вы доброе словечко, и земной шар может вновь пойти по своему пути вокруг солнца!
Эти последние слова вызвали общий смех. С лица Оли как будто исчезли все следы усталости.
— Благословляю ваш союз, желаю вам дружной совместной жизни! — произнесла она.
— Присоединяюсь к пожеланию. Григорий Дмитриевич был отличным воином, надеюсь, что он будет таким же примерным мужем и отцом!
— Горько! — со смехом произнесла Оля.
Поленов вскочил с места.
— Ну, Нина, порядочек полный!..
Было далеко за полночь, когда Поленов обратился к Асканазу:
— Быть может, вы походатайствуете, чтобы разрешили Нине перевестись в мою часть?..
Не отвечая, Асканаз выжидающе посмотрел на Нину.
— Ну, нет, — не замедлила та ответом. — В этом случае я не согласна! И больше об этом ни слова. Я люблю мою часть… Гарсеван, Ара, Зарзанд, Кимик, Лалазар, Игнат, Ашхен — да разве всех перечислишь? Я уже немножко выучилась по-армянски!
Асканаз улыбнулся.
— И чтобы после всех перенесенных испытаний теперь, когда победа уже не за горами, я согласилась оставить свою часть?! Да никогда! Лучше давайте заключим с вами, Григорий Дмитриевич, договор на соревнование — посмотрим, кто из нас скорее дойдет до Берлина! — со смехом добавила Нина.
Поленов хотел было возразить, но не нашелся, что сказать.
Гости попрощались с Олей и все вместе вышли на улицу. Время близилось к рассвету. Поддерживая Нину под руку, Поленов шагал рядом с Асканазом. На Арбатской площади они немного постояли, потом Асканаз пожал руки Нине и Поленову и простился с ними.
Оставшись один, Асканаз посмотрел вверх. Небо на востоке уже слегка алело. Тихий предутренний ветер веял ему в лицо. Он шел медленно, думал о Нине и Поленове, вспоминал Ашхен и Берберяна, и в его сердце разгорались искры, которые он так настойчиво стремился притушить в дни военной грозы.
Часть шестая
СВЕТ И ТЕНИ
Глава первая
ОКСАНА И ЕЕ СЫН
АВГУСТОВСКИМ, вечером Микола возвращался из лесу. Его загорелое лицо было расцарапано: видимо, ему пришлось продираться сквозь колючий кустарник. Его блуза и короткие штаны были усеяны колючками, пыль густо осела в волосах. Он нес в мешке на спине лукошко с ягодами, которые насобирал в лесу. Иногда Микола запускал руку в мешок, доставал из лукошка горсточку ягод и медленно, нехотя, жевал. Видно было, что его снедает какая-то тревога.
Оглянувшись, Микола осторожно пощупал блузу с левой стороны: там с изнанка был пришит листик бумаги. Микола хорошо помнил ту минуту, когда в глубине леса к нему подошел человек, которого он должен был именовать Фомой; он снял с Миколы блузу, на которой с изнанки тоже был нашит листок подпольщиков Краснополья, и надел на Миколу эту блузу со словами: «Ну, Миколушка, это тебе четвертое задание… Каждый раз доставлял удачно, так смотри, не подкачай и на этот раз! Ну, иди, да чтоб товарищи не заметили…» Микола поспешил присоединиться к ребятам, от которых отошел незаметно, чтобы встретиться с Фомой. Недалеко от города он отделился от товарищей и пошел вдоль реки, которая петлей заворачивала в сторону у самой окраины села, чтобы отсюда прямо нести, свои воды в Днепр. Микола беспрепятственно прошел по перекинутому через речку мосту; разомлевший от зноя часовой, лениво зевая, оглядел его и, что-то мурлыча под нос, спросил, много ли он набрал ягод. Микола с готовностью показал ему лукошко, и часовой пропустил его. Часовые обычно проверяли лукошки и мешки ребят, идущих в лес по ягоды, но, не находя в них ничего подозрительного, брали горсточку-другую ягод и пропускали детей. Микола уже быстрее зашагал по улицам города. Он напустил на себя беспечный вид, хотя это ему было нелегко. Лишь мысль о том, что надо помочь спасти Аллочку, мать и тетю Аллу (которую он так и не видел после того, как фашисты вошли в город), помогала Миколе выдерживать принятую на себя роль. Хотелось ему также заслужить одобрение дяди Андрея; тот похвалит его, когда узнает, что Микола помогал бороться с гитлеровцами.
Микола не сразу заметил, что на одном из перекрестков какой-то прохожий вдруг повернулся и, держась на расстоянии, пошел следом за ним. Мальчуган продолжал идти с тем же беспечным видом, но постепенно ускоряя шаги, подгоняемый внутренней тревогой. И вдруг Микола обернулся назад; этим неосторожным движением он выдал себя.
Следовавший за ним человек ускорил шаги. Микола собирался по дороге зайти в тот дом, где должен был передать тайное послание из лесу. На минуту он замедлил шаги, чувствуя на своей спине сверлящий взгляд преследователя. Нет, нельзя входить в тот дом, где его ждет старик сапожник! Ведь этим он навлечет подозрение на старика и провалит все дело! Лучше пойти домой, где его ждут мать и Аллочка. А к сапожнику он зайдет попозже. Пусть себе следят за ним, сколько хотят: он ходил в лес по ягоды, пожалуйста, может даже, показать лукошко с ягодами! Но следовавший за Миколой человек нагнал его и, с трудом переводя дыхание, окликнул:
— Микола, сыночек…
— Василий Власович?! — заикаясь, произнес Микола.
— Ну да. С трудом тебя догнал, ишь ты какой быстроногий!.. Видно, весь лес обегал, столько ягод набрал. Молодец, конечно, ты должен помогать маме… Ну что ж, пойдем, давненько я не видался с Оксаной Мартыновной. Хочу кое-что сообщить.
Микола настороженно слушал его, охваченный беспокойством за мать. Посещения Василия Власовича так тревожат маму, что она иногда даже плачет после его ухода… Но когда Микола вспомнил о том, что ему нужно поскорее встретиться со стариком сапожником, он с трудом сдержал ярость. Содержания писем Микола не знал, но ему было известно, что они нужны и важны для «дела». Нехотя он направился к домику, где они жили.
Только сейчас сообразил Василий Власович, что раньше времени подошел к Миколе. Надо бы следить за ним издали, тайком проверить, куда он зайдет, прежде чем повернет к дому. Василий Власович уже давно подозревал, что Микола неспроста так часто ходит в лес. Узнать об Алле Мартыновне от Оксаны ему так и не удалось. Сейчас у него мелькнула надежда, что он напал на след. Как возвысил бы его успех в глазах начальства! До последнего времени он не прибегал к решительным мерам, тем более что одно время питал надежду завоевать благосклонность красивой молодой женщины. Теперь, убедившись в том, что его ожидания не оправдались, он искал доказательства вины Оксаны, чтобы свести с ней счеты. За последний год немецкий комендант Краснополья Шульц задержал и повесил много людей, но он был недоволен своими сотрудниками, недоволен и Василием Власовичем, который не сумел напасть на след подпольной организации города. А какие-то невидимки поджигали склады, пускали, под откос поезда в районе, уничтожали фашистских ставленников… И Василия Власовича терзал двойной страх: он боялся гнева Шульца, боялся и мести партизан. Продолжая упрекать себя за то, что раньше времени подошел к Миколе, Василий Власович решил не выпускать его из поля зрения, в надежде, что дома мальчик чем-нибудь выдаст себя.
Микола неохотно толкнул входную дверь и вошел в комнату. Василий Власович следовал за ним по пятам. Опустив на пол мешок с лукошком, Микола подошел к Аллочке, поцеловал ее, затем, пристально глядя на мать, громко сказал:
— Сегодня я больше собрал, чем в прошлый раз. Аллочка, хочешь ягод? Попробуй, какие вкусные! Мамочка, достань лукошко, дай ей.
Василий Власович чуял, что Миколе как-то не по себе, но сделал вид, что ничего не замечает, и приветливо поздоровался с Оксаной.
Несмотря на летний зной, Оксана была одета в платье из черной материи — последнее, оставшееся у нее. Его цвет как бы соответствовал ее настроению. Лицо Океаны казалось усталым, угасшим. Ей с трудом удавалось скрыть неприязнь к незваному гостю. Она дала Аллочке горсточку ягод и тревожно сновала по комнате, делая вид, что прибирает ее.
О подлинной цели лесных прогулок Миколы сама Оксана не имела представления. Старый сапожник долгое время присматривался к мальчику, прежде чем дать ему поручение, и лишь месяц назад впервые решился использовать его как связного. Он предупредил Миколу, что матери ничего нельзя говорить не потому, что ей не доверяют, а чтобы не вызывать у нее лишней тревоги. Поэтому волнение Миколы оставалось ей непонятным. Она даже приложила ладонь ко лбу Миколы, чтобы проверить, нет ли у него жара, но Микола оттолкнул ее руку. Василий Власович еще не придумал, с чего начать свои расспросы, и решил тянуть, сколько можно, просидеть до «комендантского часа», когда движение по улицам запрещалось, чтоб таким образом испытать Миколу. Обращаясь к Оксане, он простодушно сказал:
— Устал я, Оксана Мартыновна, прямо устал служить у н и х. Очень уж подозрительные стали, не могу я помогать нашим, как помогал раньше… Вот и болит у меня душа! И все-то горе в том, что и наши подозревают меня! Эх, времена, времена…
— Наши… ваши… не понимаю! — вырвалось у Оксаны.
— Что изволили сказать? — спросил Василий Власович, не спуская глаз с Миколы, которому, видимо, не сиделось дома.
— У вас не поймешь, кто это «наши» и кто «ваши», — ответила Оксана.
Василий Власович передернул плечами. С того дня, как в Москве начались салюты, люди переменили тон в разговоре с ним. Смотрите-ка, и эта скромница начинает показывать коготки!..
— Мама! — неожиданно воскликнул Микола.
Оксана поняла — Микола просил у нее разрешения выйти из дому. Но он никогда не выходил после семи часов вечера, и Оксана отрицательно покачала головой.
Василий Власович бросил взгляд на мальчика. Теперь у него не оставалось сомнений: что-то побуждает мальчика выйти из дому. Был ли тому причиной запрет Оксаны, или же Микола понял, что своим уходом он выдаст себя, но он не настаивал. Однако его тревожное «мама» как бы продолжало звучать в комнате. Мучительно протянулся еще один долгий час. Наконец Василий Власович встал:
— Плохо вы цените мою дружбу!..
— А как я должна доказать, что ценю вашу дружбу? Вам непременно хочется накликать на меня беду?
— Эту беду накличет на вас ваша сестра! Вот не захотели вы, чтобы я ей помог, так послушайте! Слышите, обстрел начался… Это окружают лес, и никому оттуда не спастись. А на мою помощь теперь и не надейтесь…
— А когда это я надеялась?
— Вы думаете, я не знаю, что вам было все известно о бегстве Марфуши? Только благодаря мне вас не тронули тогда!
— Да будет вам выдумывать! Я Марфуши и в глаза не видела.
— Ну, конечно! А где этот прохвост десятник, что заставлял вас выйти на очистку улицы? Почему это он исчез, словно сквозь землю провалился?
— Скоро вы меня заставите отвечать за всех пропавших и убежавших, уважаемый Василий Власович! Видимо, незавидное у вас положение…
— Ну что же… Пожалеете о том, что лишились такого друга, как я, да будет поздно!
— Едва ли…
— Ах, вот как? Вы уже так окрылились, что вам не нужно и моей дружбы? Хорошо!..
Василий Власович ушел. Еще никогда Оксана не позволяла себе выходить за рамки холодной вежливости, но на этот раз она не сдержалась. Василий Власович правильно угадал! Весть о салютах Москвы уже проникла и во временно оккупированные районы, надежда на освобождение начинала крепнуть. Но после ухода Василия Власовича тревога с новой силой охватила Оксану.
Прислушавшись, Оксана различала то приближавшийся, то отдалявшийся рокот самолетов, разрывы бомб, орудийную и винтовочную стрельбу и всеми силами старалась не выдать своего беспокойства детям. Ласковыми уговорами она убедила Аллочку лечь в кровать. Испуганная гулом и грохотом, девочка съежилась и натянула тонкое одеяло на голову.
Микола подошел к матери и обнял ее.
Никогда еще не видела его таким Оксана. Широко раскрытые глаза его выражали тревогу и нетерпение. Охваченная неясным страхом, она с трудом выговорила:
— Микола, милый, что с тобой?
— Мама, я должен идти… Я не могу, мама, мне нельзя опаздывать!
Видя, что мать все равно догадывается, Микола показал ей листок, пришитый к изнанке блузы. С забившимся сердцем Оксана пробежала глазами бумагу. Вся краска сбежала с ее лица, но, собравшись с силами, она проговорила:
— Да, да, ты прав, Микола, это письмо нельзя задерживать!
В записке говорилось о том, что в эту ночь ожидаются новые аресты; что нужно немедленно переменить место явки и условные сигналы, а самое главное — что человек, известный под кличкой «Ствол», не заслуживает доверия и его следует остерегаться. Остального Оксана не разобрала. Снова донеслись звуки отдаленной бомбардировки. Оксана и Микола тревожно глядели друг на друга.
— Мама, всего несколько минут после семи! Патрульные еще не дошли сюда. Сапожник недалеко! А если встретится патруль, я притаюсь где-нибудь в воротах. Разреши, мамочка! Если б не этот противный Власович, я бы уже…
— Ты слышал, Микола, что он говорил… Наверное, будет следить!
— Уже стемнело. Он меня не заметит! А когда я передам письмо, он уже ничего не сможет сделать! Я пойду, мамочка, разреши, — умолял Микола.
Скрепя сердце Оксана согласилась на просьбу сына, дав ему несколько советов: если встретятся подозрительные люди и захотят обыскать, Микола должен незаметно вынуть и проглотить бумажку. А после этого он должен пробраться к сапожнику и передать ему, чтобы он прислал человека, а она перескажет содержание записки… Если же спросят Миколу, почему он вышел после семи часов, он должен сказать, что пошел к знакомому фельдшеру за лекарством для больной сестренки.
Оксана крепко обняла Миколу. К глазам подступали слезы, казалось, она отправляет сына куда-то далеко-далеко, возлагает непосильное бремя на его детские плечи. Сердце точно хотело вырваться из груди. Еще никогда не мучило Оксану такое тяжелое предчувствие.
Микола выскользнул из объятий матери, вышел на улицу и крадучись стал пробираться вдоль стен.
Звуки орудийной пальбы все усиливались. Оксана не находила себе места, она подошла к кроватке Аллочки и пригладила волосы девочке, сжавшейся в комочек. Тяжелые мысли мучили ее. О н и прочесывают лес… Неужели им удастся застигнуть врасплох партизан? Неужели они напали на след?.. Почему так нагло вел себя сегодня Василий Власович?.. Где сейчас Микола?..
Оксана и сама не смогла бы сказать, сколько времени провела она в этой тревоге, когда дверь слегка подергали снаружи. Неужели вернулся Микола? Нет, это был не Микола… В комнату вошла соседка Клава. Набравшись смелости, она иногда забегала по ночам отвести душу с Оксаной. Эта женщина никогда не теряла душевной бодрости. Подбежав к Оксане, она наскоро поздоровалась и, не ожидая вопроса, начала рассказывать:
— Оксана, сегодня домой к Ломако привели на постой немецкого офицера, он только что с фронта. Я подслушала, что он рассказывал… Наши их гонят, и Харьков уже освободили, уже к Днепру подошли, скоро и сюда подоспеют… Понимаешь, фашисты бегут! Скоро уж, скоро вышвырнут их… Стали вежливей с людьми обращаться! А чуть лучше дела у них идут — звереют прямо… Нет, попомни мое слово, Оксана, плохо их дело. Да что ты такая расстроенная?
— Тяжело на душе! Не слышишь, что ли, бомбардировки?
— Как не слышать, потому и прибежала к тебе: думаю, тяжело ей будет сейчас одной… Ну, ничего, будем утешаться хорошими вестями! А дети у тебя уже спят?
Оксана не ответила. Взглянув на постель Миколы, Клава поняла, что мальчика нет дома, но ни о чем не спросила. Стараясь рассеять и подбодрить Оксану, она снова начала рассказывать о продвижении советских войск, о московских салютах, о том, как в последнее время гитлеровцы радуются ранениям, чтобы получить возможность удрать в тыл. Оксана почти не слушала ее. Несколько раз она мысленно подсчитала, сколько требуется времени для того, чтоб дойти до дома старика сапожника к вернуться обратно. Но время шло, а Миколы все не было! Оксана в отчаянии кинулась к Клаве:
— Ах, Клава, мой Микола…
— Ну, не плачь, скажи, где он, я схожу за ним!
— Но как же, ведь патрульные…
— А, черт с ними! Скажу, что пропал мальчик.
— Нет, нет, никто не должен знать, что Микола вышел из дому!
— А-а…
Упрекала ли Оксану Клава за то, что та разрешала сыну принимать участие в таких опасных делах, или же, наоборот, была удивлена геройством Миколы? Оксана чувствовала, что Клава не решается спросить, куда ушел Микола.
Но вот наконец шаги… приглушенные голоса нескольких мужчин под окном. Стук. Оксана открыла дверь. В комнату вошел фашистский обер-лейтенант в сопровождении двух полицейских. Лицо его показалось ей знакомым. Ну да, это он тогда увел Марфушу!
По приказу обера полицейские перерыли комнату. Клава подхватила громко плачущую Аллочку и примостилась на кровати. Видимо, фашисты не нашли в комнате ничего. Показав пальцем на Оксану, обер приказал:
— Взять!
— Что вы хотите от меня, Куда вы хотите взять меня?
— Излишние вопросы… Ваша сестра объяснит, за что вас берут! Нам все известно, отпирательство ни к чему не приведет!
Несмотря на все усилия Оксаны сохранить самообладание, слова обера заставили ее вздрогнуть. Неужели Аллу схватили? Значит, Василий Власович напал на след? Эти мысли вызвали в ней такую ярость, что она не сдержалась.
— Отпирательство? Отпираются только преступники, а я не преступница! Хотя откуда вам понять разницу между преступником и невинным человеком?.. Вам просто нужны жертвы! Если вам так уж хочется сражаться, то идите на фронт, но не хватайте безоружных женщин, не пугайте детей.
— Молчать! Эй, вы, взять ее!
— Но у меня ребенок… девочка больна.
— А эта женщина что тут делает? — ткнул рукою в Клаву обер-лейтенант. — Пусть присмотрит за девчонкой эту ночь. А если вам так уж хочется, мы доставим ребенка туда, где вы будете находиться.
Клава старалась взглядом внушить Оксане, чтобы та не настаивала. Оксана почувствовала: Клава дает ей понять, что берет на себя заботу о ребенке.
…Клава сидела в углу комнаты, крепко обняв Аллочку. Девочка прижалась лицом к ее груди. Испуганная грубыми голосами злых, незнакомых людей, ворвавшихся в дом, девочка не разобрала ни одного слова и даже не знала, что эти люди увели с собой ее мать. К Клаве она была очень привязана и чувствовала себя в безопасности у нее на руках. Долгое время Клава не выпускала девочку из объятий и лишь тогда, когда Аллочка уснула, тихо поднялась и уложила ее в постель. Только теперь она по-настоящему осознала весь ужас того, что случилось с Оксаной. Она ничего не поняла из слов обер-лейтенанта, потому что ничего не знала о деятельности Аллы Мартыновны. Но судьба Оксаны пугала ее. И что она скажет Аллочке, когда та спросит утром, где мать? А Микола… Где он, что с ним?.. Клава металась по комнате, сжав кулаки и кусая губы в бессильной ярости.
Как хорошо, что она случайно зашла к Оксане, а то что было бы с ребенком?.. «Ах, гады!» — вырвалось у нее. Дома ждали муж-инвалид и маленький сын. Но нет, Аллочку ни на минуту нельзя оставлять одну, ведь она может проснуться!.. Что будет с девочкой, если она почувствует себя покинутой, проснется а не найдет возле себя матери!
В дверь тихонько постучали. Клава с внутренней дрожью тотчас же открыла дверь. В комнату проскользнул Микола. Блуза на нем была разодрана, левое ухо окровавлено. Он молча взглянул на Клаву и сделал несколько шагов по комнате. Аллочка лежала, уткнувшись лицом в подушку и тяжело дышала. Микола тотчас догадался, что Аллочка плакала перед тем, как заснуть, и с тревогой спросил:
— А где же мама?
Ничего не ответив, Клава неопределенно мотнула головой.
— Почему ты не говоришь, тетя Клава? Я уже передал письмо (Микола почувствовал, что сказал лишнее, и тотчас же прикусил язык), то есть я узнал, что за лес и м отомстят… Да, но все же, где мама?
Нельзя было скрывать истину от встревоженного мальчугана.
— Арестовали! — вырвалось у Миколы.
Глаза его наполнились слезами. Он с такой быстротой метнулся к двери, что Клава не успела даже помешать ему.
Микола выбежал из комнаты и исчез за углом.
Глава вторая
УТЕШЕНИЕ
В конце лета 1943 гада, в то самое время, когда в Краснополье происходили описанные события, советские войска разгромили гитлеровцев под Курском и постепенно оттесняли к западу, нанося удар за ударом.
Минул год. Маленький украинский городок возрождался к жизни. Одновременным штурмом с трех сторон войска Денисова взяли Краснополье. Потерявшие голову гитлеровцы в панике отступали. Денисов, ныне генерал-лейтенант, въезжая в город, видел, как жители, окружив советских бойцов, со слезами радости обнимали и целовали их. Объятия, смех, слезы — все это казалось сейчас естественным и привычным завершением боевого пути: в каждом вновь освобожденном месте именно так встречало население родную армию-освободительницу.
Денисов вышел из автомашины и пешком зашагал по тротуару. Он то засовывал руки в карманы, то закладывал за спину, то поправлял фуражку. Как бы ни хотелось ему выглядеть по-обычному уравновешенным и хладнокровным, это ему не удавалось. Следовавший за ним на расстоянии адъютант ускорил шаги, нагнал его и вполголоса сказал:
— Товарищ генерал-лейтенант, прошли тот дом…
Денисов молча повернулся и таким же неспешным шагом направился обратно.
У входа его встретил тот, кто при гитлеровцах известен был под кличкой «Сапожник». Лишь теперь узнали многие, что под этой кличкой скрывался ушедший в подполье один из секретарей горкома. Перед Денисовым стоял человек с вдумчивым, волевым лицом, проницательными глазами и спокойной, уверенной осанкой. Поздоровавшись с Денисовым, он повел его в маленькую комнатку.
— Вот в этой комнате она бывала часто… вплоть до того дня, когда ей пришлось перебраться в лесной лагерь. Да, Алла Мартыновна была душой нашего подполья!
Денисов разглядывал маленький столик со стулом перед ним, кушетку, простой шкаф, смотрел так, словно не мог оторвать глаз. Он не захотел сесть, стоял молча, с фуражкой в руках. Хозяин квартиры, по-видимому, не тронул ничего в комнате, где жила и работала Алла. Денисов не мог говорить ни о чем, в его мыслях была только Алла. Хотелось остаться одному. Поняв это, Васильчук (бывший «Сапожник») незаметно вышел из комнаты и тихонько прикрыл за собой дверь.
Понизив голос, Васильчук рассказывал адъютанту Денисова о работе подпольной организации, о том, какую большую роль играла Алла Мартыновна в подполье. Но вскоре у входа послышались взволнованные голоса. Васильчук вышел узнать, в чем дело. Оказалось, что группа горожан Краснополья хочет увидеть Денисова. Вначале Васильчук не хотел их впускать, но, подумав, подошел к двери и негромко постучал.
Не получая ответа, он снова постучал. Ему показалось, что за дверью послышался подавленный стон. Васильчук вздрогнул. Он решительно толкнул дверь — и остановился на пороге: Денисов, понурившись, сидел за столиком. Услышав шаги, он медленно поднял голову. Васильчук заметил слезы на его глазах, попятился и тихонько прикрыл за собой дверь. Денисов вытер глаза и заново стал перечитывать письмо, которое он держал в руках. Это была последняя записка Аллы, написанная за несколько часов до расстрела. Записку эту доставили Васильчуку в первый же час освобождения Краснополья.
«Андрюша, голубчик, — писала Алла, — твоя старуха выполнила свой долг, как могла. На душе у меня стало легко, когда я услышала о московских салютах, когда узнала, что один из этих салютов был дан в честь победы той армии, которой руководишь ты. Родной мой, больше четверти века мы прожили вместе. Мне спасенья уже нет — приговор объявлен. Но помни: о том, что я умираю стоя, со спокойной душой и поднятой головой. Крепко целую тебя, твоя навеки Алла».
Уже который раз перечитывал Денисов эти задушевные слова! И из строчек письма перед, ним ясно вставал образ Аллы, на него смотрели ее ласковые глаза, и Денисову казалось, что Алла что-то говорит ему, и он понимал ее слова, понимал, что всю свою жизнь она хотела бы прожить рядом с мужем.
Денисов встал, несколько раз прошелся по комнате. Это было как бы сигналом — дверь открылась, и в комнату вошла группа женщин. Старшая из них с волнением произнесла:
— Хотели видеть нашего освободителя… Дай мне поцеловать тебя, сынок! — Целуя: в лоб Денисова, она внимательна взглянула ему а лицо, и от ее взгляда не ускользнуло, что в глазах у него горе.
Денисов поцеловал ей руку и спокойно сказал:
— Ваша спасительница — это вся Советская Армия!
— Так-то так, на ведь в наш город первым нашел ты вместе со своими орлами! Пусть, же наш освобожденный город будет одним из многих на твоем пути, родной мой.
— Спасибо.
И каждая из женщин рассказывала Денисову о своей горе, и для каждой он находил слова утешения.
— А вы помните мою Дашеньку? — обратилась к нему снова пожилая женщина. — Она подругой Марфуши была, к вам ходила.
— Ну как же, — поспешил отозваться Денисов, хотя, говоря по правде, не помнил, которую из многочисленный подруг Марфуши звали Дашей.
— Вот и ее тоже угнали, ее тоже! Марфушенька-то попроворнее, сумела сбежать. Говорят, отличилась на войне, мужа хорошего себе нашла… Ну, дай ей бог счастья! А мы только а том и думали, как бы дождаться прихода наших. Желаем вам поскорее и других так же освободить!
Теперь Денисов уже овладел собой. Он видел родных людей, видел в их глазах и ласку и требование… Перед нам вставал образ Аллы, тубы Аллы шептали ему знакомые, задушевные слова, которые были так дороги ему…
— Оксана!
Ведя за руку Аллочку, в комнату вошла Оксана и почти без чувств упала на руки Денисова. Гладя ее по голове, Денисов шептал ей слова утешения и ласки, но рыдания Оксаны не унимались. Накопившиеся за три мучительных года чувства тоски, боли, перенесенные страдания и пытки пересилили ее волю, и она не могла овладеть собой.
— Она переносила горе и страдания гораздо легче, чем переносит радость избавления, — заметил Васильчук, бывший свидетелем этой встречи.
Крепко держась за Васильчука, Аллочка испуганно смотрела на плачущую мать, затем пристально стала вглядываться в Денисова, которого не узнавала. Видно было, что девочку поразил его генеральский мундир. Странно было то, что Аллочка не чувствовала прежнего ужаса при виде незнакомого дяди и плачущей матери. Правда, мама плакала, но незнакомый дядя в военной одежде с орденами на груди ласково обнимал и утешал ее, не кричал и не сердился. А плакала мама потому, что нет тети Аллы, а Микола еще не пришел. Денисов подвел Оксану к кушетке, бережно усадил ее и подошел к Аллочке:
— Маленькая моя, ты не помнишь меня, да? А вот дядя Андрей тебя помнит хорошо! Ты говорила: вырасту — буду артисткой. Вот наденем на тебя хорошенькое платьице, и ты опять будешь читать стихи, да?
Аллочка, казалось, узнала Денисова. Ведь все эти три года ребенок тосковал по родным приветливым голосам отца и дяди, в которых она видела своих защитников… На ее лице появилась улыбка, и она, запинаясь, спросила:
— А тте ббольше нне ппридут, ннет?
— Нет, нет, никогда уже не придут, моя хорошая!
Аллочка совсем успокоилась, и Васильчук отвел ее в другую комнату. Коробка с конфетами окончательно отвлекла внимание девочки. Оксана вытирала непрерывно льющиеся слезы. Она подняла глаза на Денисова, с трудом произнесла: «Алла…» — и снова разрыдалась.
— Знаю, Оксана, все знаю, — тихо сказал Денисов. — Возьми себя в руки, думай о ребенке.
— Не проходит боль в сердце, мне кажется, что мне суждены вечные слезы!
— Всего лишь день, как ты спаслась, милая Оксана. А насчет вечности не надо говорить. Я сделаю все, чтобы тебе было хорошо.
Оксана чувствовала, что не сможет успокоиться, пока не расскажет Андрею Федоровичу хотя бы в нескольких словах о пережитом и испытанном.
— Когда я узнала о гибели Павло… — начала она, — я провела много бессонных ночей, но мысль о детях и близость Аллы поддерживали меня. Но вот в одну ужасную ночь, год тому назад, когда Микола ушел, чтобы доставить письмо Васильчуку, меня арестовали…
Оксана умолкла. Видно было, что ей трудно говорить.
— Ах, это невозможно забыть, — со слезами на глазах продолжала Оксана. — Вводят в комнату Аллу, по ее измученному лицу я понимаю, как ее терзали проклятые гады!.. Нашелся предатель, а то бы ее никогда не схватили. Алла смотрит на меня такими глазами, что я понимаю: надо отказываться от всего, говорить, что я на знаю ее. И, представь себе, Андрюша, я ведь сумела взять себя в руки! Спрашивают меня, а я так хладнокровно: «Никогда не видела ее и не знаю!..» Они хотели, чтобы я ее опознала, чтоб рассказала о поручениях, которые мне давала Алла. Ты же знаешь, к чему бы это повело!..
— Знаю! — кивнул головой Денисов.
— Это мне не дешево обошлось!.. Правда, все эти мучения показались мне пустяком, когда через несколько дней меня отвезли за город, на опушку леса, и подвергли новой, еще более изощренной пытке… Ты понимаешь, заставили меня своими руками рыть яму… И вот привозят связанных — одного, двух, десять… Считаю и вдруг вижу Аллу… Хочу кричать — нет голоса… Не знаю, что было потом… Я пришла в себя уже на нарах барака.
— Ответят они, за все ответят! — глухо выговорил Денисов.
— Так и валялась несколько дней на голых досках. И вдруг кто-то гладит меня по голове. Открыла я глаза, вижу — Клава. Сердце у меня так и забилось… «Ты как сюда попала?» — кричу. (Ведь Аллочку я у нее на руках оставила…) А она мне в ответ: «Схватили и меня, требуют сведений о подпольной организации. А ты же знаешь, что мне ничего не известно. Но зато я могу сообщить тебе хорошую весть: этого подлеца Василия Власовича партизаны повесили на телеграфном столбе». Немного полегчало у меня на душе. Хотя бы маленькое возмездие… Но мой Микола… бесстрашный мой сынок!
— Да, Микола… — Денисов тяжело вздохнул.
— Нет у меня сил рассказывать, Андрюша. Микола был моей опорой, настоящим мужчиной в доме!.. Узнал, что, меня арестовали, и кинулся спасать маму, бесстрашный мой!.. Ночью выбежал из дому… Подумай только, хотел спасти меня из рук фашистов!.. Кинулся с молотком на часового перед домом Шульца… Вот и схватили его… Узнала я, что его мучили, допрашивали, но мой благородный мальчик умер под плетьми, так и не сказав ни слова!
Денисов молча гладил голову Оксаны.
— Усаживала я Аллочку куда-нибудь в уголок и стирала грязное белье этим гадам. Так и проходили мои дни. Смотрела я на Аллочку, и сердце у меня разрывалось. Даже сейчас не могу решить — сон или явь!.. Тот ли страшный сон мне приснился, или сон то, что я здесь, на свободе, и вижу тебя… Дай мне заглянуть в твои глаза, поцеловать тебя: это ведь ты, Андрюша… моей… моей Аллы…
Денисов послушно присел рядом с Оксаной, словно ребенок подчиняясь ее воле.
Оксана долго не могла оправиться от потрясений. Она медленно возвращалась к жизни, попав в родную, привычную среду.
Оксана переселилась в новую, удобную квартиру, и Денисов позаботился о том, чтобы она не испытывала никаких трудностей. Светомаскировка еще не была отменена, но линия фронта с каждым днем удалялась от Краснополья, и Оксана уже без тревоги укладывала Аллочку спать. Теперь девочка спокойно и безбоязненно соглашалась лечь в постель, Оксана присаживалась рядом с ней, держа ее маленькую ручку в своей и… рассказывала. Да, рассказывала, и это было самым тяжелым для нее. Она вынуждена была рассказывать ребенку лишь то, что не могло огорчить ее. А девочка все требовала, чтобы ей говорили о папе, о тете Алле, о братце Миколушке. Но что могла рассказать ей Оксана о них? Говорить ей о смерти?.. Да разве способна была Аллочка понять, что такое смерть, если она даже неодушевленный мир считала живым и, одухотворяя предметы и вещи, говорила с ними, как с живыми существами?
Как-то вечером, уложив Аллочку, Оксана сидела около ее кровати.
Мысленно перебирая знакомых, она остановилась на одном из них. Его образ еще стоял перед ее глазами, когда в дверь постучались. Она вскочила с места и широко распахнула дверь.
Стоявший за дверью незнакомый молодой лейтенант, козырнув, спокойно вошел в комнату и пристально оглядел Оксану. Чувство разочарования охватило Оксану.
— Простите, это вы будете Оксана Мартыновна Остапенко? — спросил он с заметным акцентом.
— Да, я, — подтвердила Оксана. Ей показалось, что предчувствие все же не обмануло ее.
От внимания быстроглазого лейтенанта не ускользнуло, что Оксана напряженно ждет, чтобы он объяснил цель своего прихода. Это заставило его прямо перейти к делу.
— Значит, это вы? Я вас быстро отыскал. Генерал-майор Араратян просил узнать, может ли он зайти к вам сегодня вечером. А я его адъютант, лейтенант Вахрам Чартарян.
— Генерал?.. Я знала когда-то Асканаза Аракеловича Араратяна…
— Это он самый! — подхватил Вахрам. — Как-никак три года прошло! А за три года хороший офицер может и генералом стать!
— Да, да, товарищ Вахрам… а вот фамилию вашу запомнила: Черт…
— Ой, ой, не черт, а Чартарян, то есть по-нашему мастер своего дела! — со смехом поправил Вахрам. — Называйте уж прямо по имени — Вахрам!
Он говорил и весело поглядывал на Оксану, ясно читая радость на лице молодой женщины.
Закончив дела в Москве, Асканаз вернулся в часть. Через несколько дней вернулась и Нина. Назначенный командиром батальона, Григорий Поленов одновременно с нею выехал в дивизию Шеповалова.
В начале сентября дивизия Араратяна получила приказ направиться в Польшу через освобожденную от захватчиков Украину. Части дивизии выехали на места назначения. Сам Араратян добрался до Краснополья днем и решил воспользоваться случаем, чтобы посетить Оксану.
Во время одного из боев вражеский снаряд разорвался неподалеку от Асканаза. Он упал. К нему тотчас же кинулись санитары и в первую очередь Ашхен. Левая сторона его лица была окровавлена, в голове гудело. Вскоре швы затянулись и Асканаз снял повязку. Но теперь после напряженной работы у него нередко темнело в глазах, голову давила тяжелая боль. По дороге в Краснополье ему удалось выспаться, самочувствие было бодрое, и, выйдя из вагона, он тотчас же отправился проверять полки. Однако, вернувшись в свой вагон, он снова ощутил сильную головную боль и решил немного полежать. Пришла Ашхен, проверила пульс, всполошилась и хотела вызвать врача, но Асканаз не позволил ей.
— Нет нужды. На днях тоже болела голова, но я отлежался, и все прошло.
Ашхен дала ему снотворные капли и присела на соседнюю полку. А Асканаз лежал с закрытыми глазами. На его бронзовом лице читалась сильная усталость, под глазами легли синеватые тени. Ашхен молча смотрела на Асканаза, злясь на себя за то, что не может найти нужные слова. Она осторожно приложила ладонь ко лбу Асканаза, чувствуя, что это ему приятно.
Дверь вагона медленно отодвинулась. В щель просунулась голова Вахрама. Ашхен сделала страшные глаза, давая понять, что комдива нельзя будить. Голова исчезла. Асканаз открыл глаза и спросил:
— Кто это был? Вахрам?
— Он вас разбудил? Полежали бы еще немного…
— Пожалуйста, позовите его.
Вахрам вошел и, вытянувшись, отрапортовал:
— Товарищ генерал-майор, я разыскал: Оксана Мартыновна здесь и очень рада будет видеть вас!
— Ну, вот и молодец, можешь быть свободным.
После ухода Вахрама Асканаз поднялся.
— Вы знаете, о ком шла речь? — обратился он к Ашхен. — Вы знаете, родные Денисова все годы оккупации прожили здесь.
— Знаю. Ведь как только вы вышли из окружения, я получила от вас подробное письмо.
— Да что вы? — удивился Асканаз. Ему вдруг вспомнились записи в дневнике в день получения письма Ашхен, и он на миг перенесся в прошлое. Сделав над собой усилие, он повернулся к Ашхен и предложил: — Хотите, поедем вместе?
— Если ничего не имеете против, то я с удовольствием.
…Машина остановилась перед домом, где жила Оксана. Асканаз помог Ашхен выйти. Оксана ждала у открытой двери. Увидя Асканаза, она хотела кинуться к нему, но остановилась, заметив Ашхен. Она приветливо улыбнулась незнакомой молодой женщине и протянула руку Асканазу. Они вместе вошли в комнату и уселись вокруг стола. Оксана с большим интересом разглядывала Асканаза. Хотя Вахрам рассказал ей, что Асканаз получил звание генерала, но она по-прежнему представляла себе Асканаза таким, каким видела его при последней встрече. Вот он входит в комнату с лопатой на плече… Оксана словно снова слышит его слова о том, что он вернется, когда грязи больше не будет. И вот теперь грязи больше нет, и Оксана видит другого, преображенного Асканаза Араратяна!
Оксана так разволновалась, что с трудом могла произнести:
— Хорошо, что мы так… но я-то сразу лишилась троих близких… Мой Павло… Алла… Микола!..
Успокоившись, она вкратце рассказала обо всем пережитом.
— Единственное мое утешение — это Аллочка. Врачи меня уверяют, что ее заикание излечимо. Хорошо хоть то, что видишь друзей живыми-здоровыми. Дорогая Ашхен, на обратном пути непременно постарайтесь снова заехать в наш город…
Асканаз и Ашхен видели, что Оксана очень взволнована. Ей хотелось поговорить о многом, но волнение мешало ей выражаться связно. Асканаз хорошо понимал душевное состояние Оксаны. Он читал на ее лице историю всех страданий, которые выпали на долю некогда беспечной молодой женщины. Ему вспомнилась и та лунная ночь накануне войны, когда он беседовал с Оксаной в саду до самого рассвета, а потом поднялся с ней на холм. Ему показалось, что и Оксана вспомнила об этом. Глаза их на мгновение встретились.
В первую минуту Оксана поняла одно — что спутницу Асканаза зовут Ашхен. Но ей не были понятны отношения между Ашхен и Асканазом. Догадавшись, что именно это обстоятельство не дает Оксане чувствовать себя непринужденно, Асканаз спокойно объяснил:
— Ашхен — близкая подруга Вардуи, она работает в нашем санбате.
Асканаз встал, подошел к кроватке Аллочки и с минуту задумчиво смотрел на мирно спавшую девочку. Подошла и Ашхен, залюбовалась девочкой; ей представился Тиграник, который тоже спал, наверное, в это время в своей кроватке.
Асканаз рассказал Ашхен о несчастье, постигшем девочку. Только теперь Ашхен поняла всю глубину горя Оксаны.
После ужина Асканаз хотел проститься с Оксаной, чтобы вместе с Ашхен вернуться в часть, но Оксана стала упрашивать их остаться.
— Ночуйте у меня! — обратилась она к Ашхен. — Приятнее все же провести ночь в домашних условиях.
Асканаз дал уговорить себя, и Оксана постелила ему в соседней комнате. Он набросал записку, отослал ее с Вахрамом, затем, попросив кувшин горячей воды, вымыл голову и с наслаждением лег в мягкую кровать, словно сбросив с плеч какую-то тяжесть. Он полузакрыл глаза, и перед его мысленным взором проходили вереницей лица его бойцов; мелькнуло улыбающееся лицо Оксаны, и он погрузился в глубокий, освежающий сон.
— Прямо чудо, что он согласился остаться! — вполголоса сказала Ашхен. — Он не отдыхает ни днем, ни ночью, как и в дни боевых действий.
Оксана с восхищением разглядывала свою собеседницу.
— Счастливица вы, Ашхен, — такая же бесстрашная, какой была моя Алла! Ах, берегите себя, ведь у вас есть ребенок… А где же ваш муж?
— Ой, девочка сбросила одеяло! — Ашхен быстро нагнулась, бережно прикрыла Аллочку и поцеловала ее голую шейку.
Оксана поняла, что Ашхен не хочется говорить о муже, и не стала больше расспрашивать. Беседуя с Ашхен, Оксана постепенно убеждалась, что имеет дело с умной и серьезной женщиной. Было уже поздно, когда они улеглись. Оксана с нежностью склонилась над Аллочкой. «Как хорошо… хотя бы одну ночь, хоть несколько часов жить мечтами… Все кажется, что вот-вот откроется дверь и вернутся мои… О, как тяжело одиночество!.. Хотя бы скорее рассвело, чтоб Аллочка увидела, что мы не одни, что у нас…» Оксана затруднялась выразить мелькнувшую у нее мысль.
Глава третья
НА БЕРЕГУ ОДЕРА
Лодка ткнулась носом в берег. Плеск утих. Рулевой выпрыгнул на песок. Стоявшие на берегу военные вытянулись перед вышедшим из лодки Асканазом Араратяном.
— Здравствуйте, товарищи, — весело поздоровался Асканаз.
— Здравия желаем, товарищ генерал-майор! — хором отозвались ждавшие на берегу.
— А ну, посмотрим, как вы здесь укрепились…
Выступивший вперед Гарсеван доложил обстановку. Асканаз кивком головы принял рапорт и спросил, какое сопротивление оказывают гитлеровцы на этом участке. Гарсеван обстоятельно доложил.
Время близилось к рассвету. Стояла холодная мартовская ночь. На белом снегу отчетливо запечатлелись следы человеческих ног, разбегавшиеся к окопам.
Подтянувшись к брустверу, Асканаз окинул взглядом расположение позиций; спрыгнув обратно, он провел рукой по стене окопа, вырвал и отбросил в сторону выступающий осколок камня.
— И земля уже размякла, так же как они сами… — заметил Гарсеван.
Асканаз улыбнулся.
— Говоришь, размякли они? Ну, видно, еще не до конца размякли! Ведь вот уже месяц, как нам не удается расширить «Армянскую Малую землю»…
Эта беседа происходила на левом берегу реки Одер, в начале марта 1945 года. Дивизия, которой командовал Асканаз Араратян, с боями прошла многие сотни километров, принимала участие в освобождении Польши, а сейчас занимала плацдарм на берегу Одера. Укрепившиеся к югу-востоку от города Франкфурта части дивизии в средних числах февраля форсировали Одер и обосновались на его западном берегу. Среди соседних дивизий за тем участком, который захватили и упорно удерживали за собой бойцы-армяне, уже утвердилось название «Армянской Малой земли». Командный пункт Араратяна находился на правом берегу реки, но он частенько переправлялся на другой берег, чтобы проверить состояние подразделений.
— Только бы поскорее дали приказ о расширении плацдарма! — отвечая на вопрос Асканаза, убежденно произнес Гарсеван.
— Всему свое время, — улыбнулся Асканаз.
Бойцы уже знали, что комдив не удовлетворится рапортом. Они напряженно ждали его оценки, когда он проверял пулеметное гнездо; взяв автомат в руки, он разглядывал его, рассматривал укрытия, измерял глубину окопа, попутно расспрашивая солдат.
— Лалазар, что это у тебя глаза красные? — обратился Асканаз к бойцу, пользовавшемуся в дивизии славой ветерана. — Ночь ведь прошла спокойно.
— Точно так, товарищ генерал-майор, но я был в разведке.
— Результат?
— Двое, товарищ генерал-майор.
— Вот как! Хорошо. Ты сейчас отыгрываешься за то, что когда-то выпустил из рук?
— Изменились времена, товарищ генерал-майор! — смело отозвался Лалазар. — Теперь я не промахнусь.
— Ну, поди поспи немного, — сказал Асканаз.
— Да усталость как рукой сняло, как раздобыли мы «языков»! — словно размышляя вслух, проговорил Лалазар, поглаживая диск своего автомата.
— Ну, раз так, давай покурим с тобой.
Лалазар нерешительно потянулся рукой к карману и замялся.
— Что это, табачку нет?
Лалазар что-то невнятно пробормотал.
— Не доставили табак?
Асканаз по телефону из КП комвзвода связался с начальником хозчасти.
— Немедленно доставьте табак Зеленому! Проверьте, чтоб и остальным доставили.
В сопровождении Гарсевана (теперь уже командира батальона) Асканаз направился к штабу полка и приказал привести захваченных пленных.
В оконце землянки уже проникали первые лучи рассвета. Один из пленных оказался артиллерийским капитаном, другой ефрейтором. После двух-трех вопросов Асканаз приказал увести ефрейтора. Гитлеровский капитан стоял вытянувшись, словно аршин проглотил. Во время допроса Араратяну невольно пришло на память определение Гарсевана — «размякли»: капитан не только давал правдивые ответы на все вопросы Асканаза, но и сам спешил сообщить что-нибудь новое, с тщеславием человека, который знает многое и пользуется случаем похвалиться этим.
— Ну как, не выдохлись, все еще намерены штурмовать? — спросил Асканаз.
— Нет, герр генерал. Завтра или послезавтра ожидается новое подкрепление. Конечно, в основном полки держатся в резерве для сражения под Берлином, но командованию хотелось бы вытеснить вас с этого плацдарма… — при этих последних словах пленный заискивающе усмехнулся. — Хотелось бы, но им самим не верится, что это удастся. Начальник нашей артиллерии майор Гервиг заставлял меня писать рапорты за себя, сам писать ленился. В последнем рапорте я писал под его диктовку: «Перед нами стоят какие-то удивительные люди, очень смуглые и очень упорные. Если нам не дадут подкрепления, они дойдут до Берлина».
— Хватит! Укажите точно, откуда ждете подкрепления, численность, род вооружения.
Пленный капитан подробно ответил на все вопросы и потом добавил:
— Простите… еще одно слово… Уверяю вас, я совершенно не нацист по своему убеждению… Сейчас я преследую одну цель — помочь немецкому народу поскорее избавиться от этого кошмара! Если понадобятся новые сведения, я к вашим услугам.
— Сколько лет вы в армии? — холодно спросил Асканаз, не обращая никакого внимания на намек гитлеровца.
— Пять лет.
— Так почему до сегодняшней ночи вам не приходила в голову эта мысль? Необходимые мне сведения я получу, можете не беспокоиться об этом! Переведите его в тыл.
— Недаром Наапет-айрик говорил: «Змея кожу сменит, а характера не изменит»! — с пренебрежением проговорил Гарсеван и с улыбкой взглянул на Асканаза.
Прошло уже больше месяца с того дня как дивизия Араратяна захватила плацдарм на берегу Одера. Непрекращающиеся попытки гитлеровцев выбить части дивизии с занимаемых ими позиций каждый раз кончались ничем. Проверив один из пунктов на западном берегу реки, Асканаз переправился на другой берег. Позади него шагал неизменный Вахрам с автоматом на груди.
Штаб дивизии был расположен в лесу, известном под названием Франкфуртен Штадт-фор. Разделенный на квадраты лес издали производил впечатление декоративного сада. В том квадрате, где помещались связь и санчасть дивизии, деревья рассажены были в таком строгом порядке, что бойцы каждой аллее дали название, словно городским улицам. Пройдя сотню шагов по аллее, которую бойцы назвали «Улицей Нины», Асканаз свернул в сторону и вошел в замаскированную землянку, где разместилась рота связи. Он внимательно проверил состояние аппаратуры и тут же, на месте распорядился связать себя с одним из полков. Получив необходимые сведения, он вышел из землянки и направился в штаб дивизии. На расстоянии нескольких шагов на низеньком пне сидела Нина с каким-то листком в руке. Заметив Асканаза, она вскочила, вытянулась и откозыряла, продолжая держать листок в левой руке.
Асканаз приветливо пожал ей руку:
— Здравствуйте, Нина Михайловна! Отдыхаете?
— Точно так, товарищ генерал-майор. Только что сдала дежурство.
— Ну, какие вести от Поленова?
Нина улыбнулась, невольно бросила взгляд на листок и перехватила его правой рукой.
— Письмо от него? Будете писать — не забудьте, напишите привет от меня!
— Он в каждом письме просит вам кланяться…
— Вы с ним встретились в Люблине?
Нина покраснела. За четыре месяца до этого, когда дивизия, прошедшая долгий путь, сосредоточивалась в Люблине, чтобы отдохнуть там несколько дней, находчивый и расторопный Григорий Поленов, батальон которого, был расквартирован неподалеку от Люблина, сумел отпроситься у начальства и приехал повидаться с Ниной. Зная, что все относящееся к дивизии рано или поздно становится известным Асканазу, Нина тихо ответила:
— Точно так. Впервые встретились после Москвы… И он сказал, что в следующий раз мы встретимся с ним только в Берлине!
— Ах, только? Так категорически? — весело отозвался Асканаз.
— Точно так.
— Ну что ж, придется, значит, поспешить!
Нина доверчиво развернула письмо.
— Вот как он пишет: «Если встретится случай, передай сердечный привет Асканазу Аракеловичу. Так и знай, Нина, — теперь ты мой заложник у него. А он — хозяин своему слову, человек чести: в Берлине он должен тебя живой-здоровой вручить мне. Ну, желаю морозу — смягченья, солнцу — ясности, борщу — навара!»
— Шутник!.. — улыбнулся Асканаз и внимательно оглядел «заложницу». Лицо Нины выглядело тоньше и нежнее обычного, глаза горели мягким огнем. Но Асканаз с огорчением отметил, что вид у нее болезненный. Накануне он узнал от начальника санчасти, что Нина готовится стать матерью. Понизив голос, Асканаз спросил:
— Может быть, вам уже необходим отпуск, Нина Михайловна?
Опустив руку с письмом, Нина сказала дрогнувшим голосом:
— Прошу вас… об этом — ни слова! Если б я все эти три года не пробыла бессменно в вашей части, может быть, я и согласилась бы… но теперь мне тяжело уходить! Если будет нужно, я сама попрошу…
До этого Асканаз не мог пожаловаться — Нина безупречно исполняла свои обязанности и обеспечивала бесперебойную связь штаба с командными пунктами частей. Асканаз пожал ей руку:
— Ну, желаю успеха! Только берегите себя — март месяц капризный, а солнце еще не греет так, как этого желал бы Поленов.
Перенеся свой командный пункт на западный берег Одера, Асканаз получил возможность уже непосредственно руководить боевыми действиями.
Гитлеровцы предпринимали ожесточенные попытки овладеть плацдармом «Армянской Малой земли». На рассвете следующего дня вновь разгорелся бой. В бинокль обозревалось все поле сражения. Огненные языки «Катюш» лизали неприятельские укрепления. В течение нескольких часов противник то откатывался на исходные позиции, то вновь кидался в атаки, так и не добившись ощутимых результатов.
Выслушивая рапорты командиров полков, Асканаз с особым ударением говорил каждый раз:
— Не жалеть ничего, чтобы атаки неприятеля захлебнулись! Не забывайте о том, что, с честью выполнив боевое задание по защите нашей «Малой земли», мы завоюем себе право участвовать в штурме Берлина! Помните о том, что вы сражаетесь плечом к плечу с сынами великого русского народа! Оправдайте надежду, которую возлагает на вас армянский народ!
Все чаще и чаще рапортовали Асканазу о героических действиях рот, взводов и отдельных бойцов. Асканаз узнал, что Ваагн, которого он хорошо помнил, вернувшийся в часть, прикладом винтовки и кинжалом расправился о заскочившими в окоп четырьмя вражескими солдатами. Михрдат и Ара так умело направили огонь своего станкового пулемета, что уложили целый взвод гитлеровцев. Воодушевленные этим бойцы кинулись в контратаку и отбросили рвавшихся вперед фашистов. И вновь атаки перемежались с контратаками…
Асканаз взял телефонную трубку. Послышался голос Нины, — до этого у телефона дежурил другой связист.
Асканаз нахмурился: в голосе Нины явственно прозвучали нотки тревоги: «Товарищ комдив, вас…»
С Асканазом связался Берберян: командир полка на центральном участке тяжело ранен; несколько сот гитлеровцев, не считаясь с потерями, идут в психическую атаку на батальон Гарсевана Даниэляна, шагая во весь рост развернутой цепью; в тыл просочились вражеские автоматчики, подходят к командному пункту полка; неприятельские минометы поливают огнем окопы; танки системы «Тигр» подползают к окопам соседних батальонов…
Асканаз понял — противник кидает все силы в решающую атаку. Его мысль, привычная к быстрым решениям, напряженно искала выхода.
Докладывая о создавшейся обстановке, Берберян сказал в заключение, что он попытается восстановить положение своими силами: ему было хорошо известно, как не любит Асканаз, когда командиры частей, встретившись с затруднениями, тотчас же начинают просить о помощи. Но Асканаз понимал значение угрозы. Он распорядился тотчас же послать на помощь Берберяну взвод автоматчиков из резерва. Одновременно с этим он потребовал, чтобы командир соседнего полка перебросил несколько станковых пулеметов в помощь Гарсевану. Распоряжения комдива были немедленно выполнены, но протекшие минуты изменили положение. Орудийный грохот и пулеметная трескотня усиливались, свидетельствуя о крайнем напряжении сил с обеих сторон. Асканаз с нетерпением ждал первых сообщений с мест, хотя сам успел заметить, что резервный взвод уже схватился с просочившимися в тыл вражескими автоматчиками. Взяв телефонную трубку, он обратил внимание на го, что вместо Нины ему отвечает Кимик. Да и голос Кимика доносился как будто издали… Сердце у Асканаза забилось. Стараясь не поддаваться дурному предчувствию, он приказал вызвать к телефону Берберяна.
— Ну как, продолжается еще психическая атака?
— Пулеметный огонь многих скосил, но пока еще лезут вперед. Строй проникших в тыл автоматчиков нарушен, недобитые попрятались в укрытия, продолжают стрелять…
О потерях Берберян молчал. Пришлось спросить об этом. Берберян назвал примерную цифру, но попросил времени для уточнения.
По распоряжению Асканаза артиллеристы начали бить по «Тиграм» прямой наводкой. Завязшие в липкой грязи танки противника были подбиты и в бессильной ярости расходовали последние боезапасы, уже не имея надежды вернуться на исходные позиции.
Лишь поздно вечером удалось положить конец непрерывным атакам противника. Отражая последний штурм, защитникам «Армянской Малой земли» удалось расширить свой плацдарм метров на триста к западу.
Асканаз вышел из своего НП уже тогда, когда угасали последние лучи солнца. Плававшие на западе багровые тучи напоминали только что выхваченные из горна полосы раскаленного железа. Зайдя в КП, Асканаз приказал немедленно вызвать Берберяна, Гарсевана и нескольких других командиров. В ожидании он нетерпеливо ходил по замаскированному блиндажу. Когда все вызванные явились, он, против обыкновения, не предложил им сесть. Берберян и Гарсеван озабоченно переглянулись. Игнат Белозеров, батальон которого отличился во время последней атаки гитлеровцев, спокойно смотрел на комдива.
— Теперь, когда поход на Берлин является вопросом ближайших дней, — начал Асканаз, обращаясь к ним, — вы позволяете противнику зайти к нам в тыл, грозить штабу полка, даже предпринимать против нас психическую атаку? О чем вы думаете? Закружилась у вас голова оттого, что вас хвалят, награждают орденами?
— Товарищ генерал… — начал Берберян.
— Молчите и слушайте! А ты, Гарсеван Даниэлян, неужели ты считаешь, что враги будут бояться тебя только потому, что тебе присвоили звание Героя? Прошли времена Мгера, когда враг впадал в панику и убегал, услышав имя героя! Сейчас иные времена, идет беспощадная борьба. Озлобленный враг постарается вредить до последней минуты. И постарается навредить так, чтобы мы вспоминали эти дни с болью в сердце!
Гарсеван топтался на месте.
— Штаб полка, — продолжал Асканаз, — не удосужился обеспечить себя данными разведки перед последним боем. Он не знал, что противник накапливает силы! На передовой линии у батальона Гарсевана Даниэляна ослабла бдительность. Противник ловко воспользовался этим и сумел проникнуть в окопы…
Асканаз еще днем, в самый разгар сражения, получил данные о том, как протекали атаки гитлеровцев в этот день. Самым подробным образом, называя имена, он говорил об оплошностях командиров. Помолчав, он уже более спокойно спросил:
— Теперь докладывайте: что думаете, делать завтра?
Попросив разрешения, заговорил Гарсеван:
— Товарищ генерал-майор… Прошедшей ночью я опять послал четырех бойцов в разведку. Они не смогли вернуться вовремя. Я послал новую группу разведчиков, но противник уже начал атаку. С помощью автоматчиков резерва и батальона Белозерова мы не только восстановили положение, но и расширили «Малую землю»…
— Это для меня не новость. Лучше бы сказал о том, что ты ослабил бдительность, полагая, что «враг размяк так же, как и его земля»… Видишь, какие потери сумел причинить нам этот «размякший» враг?! Только в одной роте — двадцать три человека…
— Товарищ генерал-майор, поверьте, что я с утроенной…
— Верю.
Последнее слово командира, сказанное с ударением, наполнило душу Гарсевана признательностью и волнением. Он обрел былую уверенность в себе, выпрямился, как крепкий дуб после бури, и прямо взглянул в глаза Асканазу своими глубоко запавшими от усталости глазами.
…Асканаз Араратян остался один. Он расстегнул пуговицы шинели и глубоко перевел дыхание. Ординарец вошел в комнату и спросил, можно ли подавать ужин. Асканаз махнул рукой, давая понять, чтобы с ужином подождали.
Раздался звонок. Сидевший у телефона Вахрам, выслушав, обратился к Асканазу:
— Товарищ генерал-майор, вас просит медсестра Ашхен Айказян.
Прилегший было Асканаз поднялся, удивленный: о раненых обычно докладывал командир санбата.
— Я слушаю.
— Товарищ комдив… — раздался взволнованный голос Ашхен. — Операция Нины Михайловны сошла благополучно…
— То есть как, неужели она была ранена?! — воскликнул Асканаз, вдруг припомнив, что в разгар сражения Нину у телефона почему-то заменил Кимик.
— Да, в левый бок.
— А как температура, самочувствие?
Ашхен сообщила, что все в порядке, и добавила, что звонила по просьбе Нины.
Сказав ординарцу, что ему сейчас не до еды, Асканаз быстро оделся, вызвал машину и поспешил в санбат. Навстречу Асканазу вышел майор медицинской службы с рапортом о поступивших в этот день раненых. Асканаз вошел в просторную комнату, оборудованную под палату, и обошел раненых, заговаривая с каждым.
— Что ж, из-за такого пустяка и не доведется посмотреть Берлин?! — с горечью воскликнул молодой боец — уроженец Апарана, раненный в голень.
— Ты поправляйся, а посмотреть Берлин успеешь, — с улыбкой ответил Асканаз.
Обойдя раненых, он вошел в соседнюю комнату. При его входе Ашхен поднялась с табуретки. Асканаз медленно подошел к койке, внимательно вглядываясь в лицо Нины. Она лежала, закрыв глаза. Ашхен вполголоса рассказала, что произошло с Ниной. Проникшие в тыл гитлеровцы окружили землянку связи. Один из солдат ворвался в землянку и ранил Нину. Кимик тут же размозжил ему голову.
Нина открыла глаза, Асканаз осторожно приложил ладонь к ее лбу.
— В первый день повышение температуры неизбежно, — успокаивающе сказал врач.
По осунувшемуся виду Нины можно было понять, что ей дорого обошлись испытания прошедшего дня. Но теперь у нее на лице было спокойное выражение.
— Благодарю вас за внимание, Асканаз Аракелович! Я вчера похвалилась в письме Григорию Дмитриевичу, что раньше его доберусь до Берлина, и вот видите, сегодня…
— И сегодня продолжайте думать так же, но без похвальбы.
На расспросы Асканаза врач заверил, что положение раненой не внушает опасений: организм у нее здоровый, рана неглубокая, и беременность будет протекать нормально.
— Я сам напишу Григорию Дмитриевичу! — прощаясь с Ниной, проговорил Асканаз и, заметив тревогу на лице Нины, прибавил: — Напишу только хорошее! Поверьте, ваше ранение Поленову покажется простой царапиной!..
…Через несколько дней Нина уже читала ответное письмо Поленова. «Счастье ты мое, что бы со мной стало, если б я потерял тебя!..» — непрерывно повторяла Нина его слова. В каплях слез отразился слабый свет от затененной лампочки.
Близился рассвет. Нина выглянула в окно, и сердце у нее чуть не выскочило из груди, когда она услышала постепенно нараставший могучий клич:
— На Берлин… на Берлин… на Берлин!
Глава четвертая
ЗАВЕТНЫЙ ДЕНЬ
Ясное майское утро.
Гигантские столбы пыли. Бесконечные клубы густого дыма.
В столице Германии остатки разгромленных гитлеровских войск переживали агонию. Днем и ночью гремели орудия, грохотали танки, трещали винтовки и пулеметы. Как бы крепко ни стоял Берлин на граните своих мостовых, иногда чудилось, что вот-вот взлетит он в воздух, — таким оглушающим был грохот, таким сильным было сотрясение. В ночь на 16 апреля войска Первого и Второго Белорусского фронтов и Первого Украинского фронта начали штурм Берлина, осуществляя твердое задание Ставки: овладеть столицей врага и окончательно разгромить гитлеровских захватчиков.
Двести мощных прожекторов освещали путь штурмующим, ослепляя окопавшихся фашистов. Постепенно суживалось кольцо окружения, стянутое вокруг Берлина с востока, юга и севера. Пехотинцы уже прославившихся генералов Чуйкова и Берзарина, танковые дивизии Рыбалко, Катукова и Богданова, овеянные славой четырехлетних боев, преодолевая огромные трудности, по приказу маршалов Жукова, Конева, Рокоссовского шаг за шагом подступали к Берлину. Победоносные советские войска форсировали водные рубежи на реках Одер, Нейсе и Шпрее, переправились через многочисленные каналы, овладели железобетонными укреплениями и, наконец, 23 апреля вошли в Берлин. Разгорелись жестокие уличные бои, В центре Берлина гитлеровцы возвели свыше четырехсот железобетонных укреплений. Воинские части, оснащенные новейшими видами боевого вооружения, остервенело обороняли каждый метр от танкистов Богданова и Катукова. Захваченные в плен солдаты признавались, что гитлеровское командование вооружило пятьдесят тысяч человек «фауст-патронами», приказав, чтобы каждый уничтожил по крайней мере один советский танк. Но советские пехотинцы и танкисты рвались вперед со всей яростью, накопившейся за четыре года войны. За овладение каждой улицей, каждым домом вспыхивала ожесточенная стычка. Советские войска постепенно приближались к центру города. В рядах штурмующих говорили на всех языках советских народов о том, о чем мечтали, расставаясь с родными, к чему стремились в мучительные дни отступления, — говорили о мечтах, превращавшихся ныне в явь. И вот, наконец, 30 апреля 1945 года весь мир узнал, что победное знамя Советской Армии реет уже над рейхстагом. Первого мая в штаб советских войск в Берлине явился гитлеровский генерал Кребс и сообщил о том, что Гитлер покончил с собой. Генерал Кребс просил сообщить ему условия капитуляции гарнизона Берлина.
«Никакой речи об условиях! Безоговорочная и полная капитуляция!» — сказали ему в ответ.
Второго мая Берлин был окончательно занят советскими войсками. Триста тысяч фашистских солдат и офицеров сложили оружие.
Асканаз Араратян получил приказ командования Первого Белорусского фронта о том, что его дивизия будет принимать участие в штурме Берлина. 29 апреля дивизия уже участвовала в военных действиях под Берлином.
— Вот и исполнилось твое заветное желание, Гарсеван-джан! — улучив удобную минуту, воскликнул Ваагн. — Фашисты теперь за каждую мышиную норку рады были бы по тысяче туманов[19] платить…
Когда и при каких условиях высказал Гарсеван это желание — он и сам сейчас затруднялся вспомнить. Ему было ясно одно: настала пора того заветного подвига, о котором он мечтал с того дня, когда у него отнялся язык во время отступления из Керчи. Он на миг представил себе пройденный боевой путь, и душа у него наполнилась ликованием, смешанным с печалью. Унан, Грачия, Тиросян, Габриэл, потом Аракел… Разве не были достойны они увидеть этот день? Но если бы не самоотверженная отвага погибших, Гарсеван и его товарищи не удостоились бы великой чести участвовать в штурме Берлина…
— Да, Ваагн, немного уже осталось! Но вот это немногое кажется мне таким же трудным, как и весь пройденный путь! Помнишь, на берегу Одера, когда фашистские автоматчики прорвались к нам в тыл? Никогда не видел я нашего комдива таким сердитым…
Ваагн (ныне уже командир первой роты) покрутил головой и улыбнулся:
— Нет, что ни говори, умеет народ сказать свое хлесткое слово! — И он замурлыкал себе под нос слова старинной песни:
— Уж если хочется петь, пой что-нибудь хорошее, а то смешиваешь муку с отрубями, словно пекарь-неряха!..
— Уж сказал бы, что нанизываю украденные строчки, словно какой-нибудь бездарный поэт!
— Я с поэтами дела не имел, а муку от отрубей отличать умею.
— Прошу прощения, мне уже пора: пойду отсеивать муку от отрубей!
Первого мая части дивизии Асканаза Араратяна стояли перед мощными укреплениями, возведенными в сквере. Каждое из них представляло систему железобетонных перекрытий и поднималось на высоту пяти-шести-этажного дома. Они отстояли друг от друга на пятьсот метров. Железобетонные стены были в четыре метра толщиной. Железобетонными были и площадки укреплений, где размещено было по четыре крупнокалиберных двуствольных орудия с механизированным управлением. Ни налеты советской авиации, ни снаряды тяжелой артиллерии не причиняли здесь особых разрушений. Шеститысячный гарнизон продолжал оказывать упорное сопротивление штурмующим. Асканаз Араратян получил задание штурмом овладеть обоими укреплениями. Его командный пункт находился на расстоянии каких-нибудь трехсот — четырехсот метров от линии огня. Еще накануне ему стало известно, что в соседнем квартале города бой ведет дивизия Шеповалова. Чуть подальше сражалась часть под командованием Остужко: раненный в бою под Новороссийском, он четыре месяца проходил лечение в тыловом госпитале и затем, участвуя в боях на различных фронтах, дошел до Берлина. Асканаз узнал, что с Остужко находится и Марфуша. Приятно было бы после долгого боевого пути встретиться вновь с людьми, с которыми сблизили испытания военных дней… Жаль, что сейчас нельзя было и думать о встрече с ними. Укрывшийся за толстыми стенами враг яростно огрызался. Огонь его артиллерии не только не утихал, но как будто усиливался с каждым часом. Разведка донесла Асканазу, что в церкви, поодаль от второго укрепления, гитлеровцы сложили огромное количество взрывчатки. Одно из подразделений завладело этой церковью еще на рассвете. Асканаз приказал саперам и двум ротам пехоты перебросить взрывчатку под стены одного из укреплений.
Осаждающие упорно продвигались вперед, несмотря на ураганный огонь врага. Уже всей дивизии было известно, что многие из кварталов огромного города захвачены частями других дивизий; бойцы знали, что части дивизии Шеповалова сломили сопротивление гарнизона и овладели двумя такими же укреплениями, как эти.
Асканаз увлеченно наблюдал, как бесстрашно и находчиво действуют его бойцы. Как они все изменились! Взять хотя бы Ваагна. Для переброски взрывчатки к стенам укрепления была направлена и его рота. И он всегда впереди, словно хочет показать пример своим бойцам… Помнит ли он тот день, когда в панике оставил окоп и кинулся бежать в тыл, не разрядив своей винтовки? Может быть, и помнит, может быть, именно это и обостряет его ненависть к врагу!..
Асканазу донесли, что саперы и пехотинцы уже уложили свыше тонны взрывчатки под стенами укрепления.
Критически посматривая на эти стены, Ваагн говорил Лалазару:
— Ишь ты, подлые, укрылись за сорока жерновами, сорока буйволиными шкурами!
— Э, нет, прошли времена, когда злые великаны в буйволиные шкуры заворачивались!.. А ну, поскорее, ложись, прячься, шнур зажигают…
Секунды тревожного ожидания — и взрыв!.. Но нет, слово «взрыв» не может описать того, что произошло: на минуту могло показаться, что весь мир разлетелся вдребезги…
Но вот из укрытий высыпали женщины, дети, старики. Потоптавшись на месте, они робко приблизились к советским бойцам. Первым вопросом было, какую часть города заняли русские, в какую сторону можно перебежать, чтобы быть спокойными за свою жизнь.
— Да во все стороны! — горделиво отвечал Ара, уже довольно бегло говоривший по-немецки.
Пока бойцы объясняли жителям Берлина, как пройти в ближайший квартал, где было уже спокойно, немолодая немка с продолговатым лицом и глубоко запавшими глазами молящим голосом воскликнула, словно не обращаясь ни к кому в отдельности:
— Битте, брот…[20]
Решительно все — и старые и молодые, и женщины и дети — выглядели сильно истощенными.
Ара, а с ним и другие бойцы начали рыться в карманах и вещевых мешках.
— Вот тебе мой НЗ! — воскликнул Лалазар, протягивая сухари маленькому мальчугану.
— Вот вам хлеб, шоколад, — последовал его примеру Ара.
В эту минуту одетый в запыленное демисезонное пальто старик, нервно потирая длинную жилистую шею и тяжело опираясь на палку, направился к Асканазу, который вышел из своего НП, чтобы лично проверить действия своих бойцов. За несколько шагов до русского офицера старик остановился, снял шляпу и почтительно поклонился.
Асканаз спросил по-немецки, кто он и чего хочет.
Не обращая внимания на вопрос, старик громко произнес, словно разговаривал сам с собой:
— Смотрю я вокруг — и сам себя спрашиваю: «Неужели вот это и есть Германия?» Гляжу я и не узнаю моей Германии!
— Да и мы затрудняемся признать Германию… Где она — Германия Гёте, Шиллера и Бетховена? — отозвался Асканаз.
— Неузнаваемой сделали ее недостойные хозяева! Этот конец я предсказывал еще с двадцать второго июня… — продолжал старик, горестно качая седой головой. — Но разумное слово уже не имело цены. А сколько нам пришлось претерпеть! Эти последние три месяца равнялись трем векам… Вы только посмотрите — немецкие дети ходят раздетые, голодные… В последнее время мы не получали и хлеба. Но кончились ли все ужасы? Можно ли надеяться на то, что люди будут без опасений проходить по Гроссштрассе, гулять по берегам реки Шпрее?
Асканаз догадался, что старик не слышит его, может быть, оглох от артиллерийской пальбы, а говорит потому, что его мучит потребность высказаться…
Второго мая с самого рассвета вновь загремели орудия и затрещали пулеметы со стен фашистских укреплений. Асканаз приказал поддерживать непрерывный орудийный обстрел. К десяти часам утра огонь противника стал постепенно утихать. А когда советские батарейцы устроили короткую передышку, чтобы остудить стволы, Асканаз заметил, что фашисты не собираются возобновлять огонь. Несколько мгновений царила непривычная тишина. Бойцы нетерпеливо ждали приказа и, поглядывая на хмуро молчавшие укрепления, кусали губы.
Послышался приказ: «К огню готовсь…» Но выполнять приказ уже не пришлось: под стеной расположенного справа укрепления показались дети — мальчуган лет десяти и девчурка поменьше его. Высоко над головой мальчик держал белый флажок.
Дети несмело пробирались к позициям советских частей. Гарсеван первым выскочил из окопов. Безмолвно взял он детей за руки и знаком показал Михрдату, чтоб тот отвел маленьких парламентеров к командиру дивизии.
Мальчик, успевший сообщить, что его зовут Карлом, робко взглянул в лицо Асканазу, не опуская руки с белым флажком. Ноздри его дрогнули, и высоким голосом он полувопросительно, полуутвердительно произнес явно заученные слова:
— Гитлер капут…
— …апут, — еле слышно откликнулась девочка.
— Вот это правдивое слово! — воскликнул Михрдат. — Устами ребенка глаголет истина!
Подойдя поближе, Асканаз объяснил Карлу, что флаг можно опустить, и помог обоим детям сесть на высокую скамью в углу своего НП. Мальчик, встрепенувшись, словно вспомнив что-то очень важное, достал из кармана курточки конверт и протянул Асканазу.
— А-а… наконец-то! — вырвалось у Асканаза, когда он ознакомился с содержанием послания: комендант укреплений сообщал, что состоящий под его командованием гарнизон капитулирует, и просил прислать офицеров, которым он мог бы сдать крепость.
Асканаз взглянул на детей. Ему вспомнились рассказ Оксаны о гибели Миколы, история болезни Аллочки… Взволнованный воспоминаниями, он несколько раз прошелся по землянке, затем подошел к детям, поглядел на них и приказал Вахраму дать им по плитке шоколада.
— Придумано неплохо… — негромко проговорил он. — В создавшихся условиях только детям и можно верить! — Наклонившись к девочке, он ласково спросил: — Как тебя зовут?
— Гретхен.
— Хочешь вернуться назад, вон в ту крепость?
— Нет, нет, здесь хорошо, здесь не стреляют.
— Так ты не хочешь, чтобы стреляли?
— Нет, не хочу, я боюсь. Герр комендант сказал: если мы пойдем к вам, стрелять уже не будут. Говорит: «У них тоже есть дети…» Правда, у вас тоже есть дети?
— Конечно, есть, Гретхен… — Асканаз отвернулся.
Гретхен постепенно набиралась смелости. Снимая обертку с шоколадной плитки, она деловито справилась:
— А у вас — девочка или мальчик?
Карл охотно взял шоколад, но разворачивать не стал. Он нахмурился и сердито взглянул на Гретхен: «Вот глупая девчонка, говорил же я, чтобы мне дали в спутники мальчика». Его очень удивило, когда советский генерал ответил девочке с приветливой улыбкой:
— Девочка у меня такая же хорошенькая, как и ты!
Кого подразумевал Асканаз: Цовинар, Зефиру или Аллочку?
Ответ пришелся по сердцу девочке, и она с любопытством спросила:
— А где она?
— Далеко-далеко… — задумчиво ответил Асканаз, дал Гретхен еще одну плитку шоколада и занялся делами. Гарсевану Даниэляну приказано было взять детей и отправиться к коменданту укреплений в сопровождении Ваагна и Ара (как переводчика).
— Объявите там, что капитуляция должна быть безоговорочной. И не забывайте, товарищ Даниэлян, вы идете к гитлеровцам в качестве представителя Советской Армии!
— Точно так — как представитель армии-победительницы! — твердо повторил Гарсеван.
— В каких бы условиях и где бы ни говорил советский боец с противником, он должен помнить, что представляет собой не только свою часть, но и всю армию — ее мощь, ее величие, ее волю!
…Комендант крепости, подтянутый офицер с изможденным лицом и потухшими глазами, переводил внимательный взгляд с Гарсевана на Ара, как бы желая заверить в своей полной готовности к услугам.
— Немедленно сдать все виды оружия! — громко диктовал Гарсеван.
Ара тут же переводил.
— О, да, да, конечно, конечно! — кивал головой комендант.
— Всю военную технику и оборудование крепости в полном порядке сдать нашим представителям!
— О, да, да, конечно!
— Весь гарнизон в полном составе, со всеми солдатами и офицерами, сдается в плен!
— Да, да…
Пока солдаты и офицеры крепостного гарнизона под конвоем вооруженных бойцов колоннами выходили из ворот укреплений, Асканаз Араратян писал рапорт командиру корпуса:
«Захвачены — свыше пяти тысяч пленных, восемь железнодорожных эшелонов военных трофеев, шестьсот автомашин, сто пятьдесят один пулемет, крепостные орудия, автоматы и винтовки, мотоциклы…»
Из всех районов Берлина шли к центру советские части.
Все громче взмывало к небу грозное «ура», заглушая слабеющий орудийный гул: противник был уже поставлен на колени. Вот достигли центра германской столицы ветераны Отечественной войны, нанесшие первое поражение гитлеровским захватчикам на подступах к Москве. Стремились к центру города героические сталинградцы, беспримерный подвиг которых круто повернул весь ход войны. Стекались на центральные площади самоотверженные защитники города Ленина!
К рейхстагу устремились и бойцы дивизии Араратяна.
Заметив гордо реявший под куполом здания алый стяг, Ваагн весело обратился к Гарсевану:
— Ну и молодцы наши! Смотри-ка, уже подняли знамя…
— Шевели ногами, поговорить успеем после! Не видишь, что ли, скоро и пробраться нельзя будет!
В центре города, на улицах, на площадях — объятия, возгласы и поцелуи. Встречались старые знакомые, которые и не надеялись встретиться… Когда это было — год, два, три года назад? Сражались вместе, страдали, тяжело переживали отступление… Некоторые были ранены, попали в разные части, потеряли друг друга, нашли себе новых товарищей. И вот здесь, в Берлине, где гордо развевается сотканное усилиями и кровью миллионов победное знамя, — здесь нашли друг друга фронтовые друзья.
Асканаз крепко обнимал Шеповалова.
— Довелось встретиться, Борис Антонович!
— Безгранично рад тому, что и вы здесь с вашей дивизией, Асканаз Аракелович! Увидеть старого друга в такой день — это большая радость!
Шеповалов оборвал речь, внимательно глядя на подходившего к ним генерала:
— Да ты ли это, Остужко?..
Трое генералов смотрели друг на друга, смотрели с теплым чувством боевого содружества, которое понятно лишь тем, кто на протяжении ряда лет сражался плечом к плечу, стремясь к победе всей душой и ведя за собой тысячи на беспримерные подвиги.
— Помнишь, Асканаз Аракелович, лес, тылы врага, партизан?.. — снова заговорил Шеповалов.
— Помню все, как сейчас! Хорошие были парни, сражались и оружием и верой!
— Некоторые из них здесь, в Берлине, — вмешался Остужко.
— Я тут многих надеюсь встретить, — кивнул Шеповалов.
Условившись с соратниками свидеться вечером, Остужко собрался было уходить, но, заметив кого-то, весело воскликнул:
— А вот и он, тут как тут!
— Разрешите обратиться, товарищи генералы? — послышался бас, и к улыбавшимся генералам подошел военный со знаками различия майора.
— Как бы ты ни менялся, видишь, сразу тебя признал! — радостно сказал Остужко. — Только что вспоминали тебя, Поленов!
— Да и мы, товарищ генерал, всегда вспоминаем вас всех! Глянул я на вас, — ну, извините, словно три богатыря!
— Отставить богатырей! Ты мне вот что скажи: язык-то, язык у тебя на месте?
Поленов понимающе улыбнулся:
— Язык у меня не на месте был, когда дела у нас плохо шли. А теперь, если и случится что не так сказать, понимают как следует.
Остужко и Шеповалов распростились и ушли вместе. Григорий Поленов вопросительно смотрел на Асканаза.
— Ну как, виделись? — спросил Асканаз, отлично понимавший, что означает взгляд Поленова.
— Точно так, товарищ генерал!
— Немного подавленной выглядела в последнее время… Не захотела ехать в тыл. В санбате сказали, что выходят ее. Я и не стал настаивать.
— Я ведь писал… прошу прощения… чтобы мне в целости-сохранности вручили. Вот и получилось, как по-писанному!
— Ну, желаю счастья!
— Спасибо, товарищ генерал! Если разрешите, сформулируем так: раз наше знамя развевается здесь, можно уже подумать о том, чтобы навести порядочек в семейной жизни!
— Без всякого сомнения! — засмеялся Асканаз.
Пожав руку Асканазу, Поленов удалился. Взглянув на здание рейхстага, Асканаз заметил бойцов и командиров своей дивизии. Вот и Гарсеван Даниэлян: осматривает выщербленную осколками стену и что-то бормочет себе под нос…
Гарсеван еще раз окинул внимательным взглядом стену, взбирающихся на нее со всех сторон бойцов и офицеров, спешивших прибавить к надписям и свои имена. Выбрав наконец подходящее местечко, он окунул кисть в ведерко с краской и крупными буквами написал на стене:
Глава пятая
СВЕТ И ТЕНИ
Ашхен лежала в палатке, раскинутой в лесу. Легкий ветерок майской ночи доносил холодное дыхание Эльбы и веял свежестью в лицо Ашхен. Она спала глубоким сном. Хотя количество раненых теперь уменьшилось, но она дежурила накануне в санбате, а до этого очень устала во время марша от Берлина до берегов Эльбы. Поэтому она без возражений подчинилась приказу начальника санбата о полном отдыхе в эту ночь.
Ветер шевелил упавшую на лоб прядь волос. Ноздри Ашхен чуть вздрагивали во сне, лицо выражало тревогу. Если бы не эхо только что отгремевшего сражения, эта молодая женщина, охваченная беспокойным сном, могла бы показаться притаившейся в лесной глуши сказочной феей.
Именно эта мысль и мелькнула у Мхитара Берберяна, когда он заглянул в палатку. Палатка была снаружи хорошо замаскирована. Он зажег карманный фонарик и осторожно направил тонкий луч на лицо спящей, смотрел минуту, другую, сделал шаг вперед, намереваясь окликнуть Ашхен, но остановился, хотя весть, которую он хотел сообщить Ашхен, давала ему право нарушить ее сон…
За несколько минут до этого был получен приказ перебросить часть на берег Эльбы. Проходя мимо того участка леса, где находился санбат, Мхитар поддался желанию повидаться с Ашхен. Наклонившись над нею, он почувствовал на своем лбу прикосновение ее волос и тихо позвал: «Ашхен…», но тотчас же отступил на шаг.
Ашхен открыла глаза, рукой провела по лицу и, увидев Мхитара, вскочила со словами:
— Слушаю вас, товарищ комиссар.
— Победа, Ашхен! — послышался его ликующий голос.
Они обнялись и расцеловались. Лишь теперь, почувствовав биение сердец друг друга, поняли они, как ждали этого дня и какую силу придавала им вера в наступление этого дня.
Ашхен выбежала из палатки. По дороге к реке она обнималась со всеми встречными сестрами, врачами, бойцами. У всех на устах было заветное слово «победа».
По приказу Асканаза Араратяна весь личный состав дивизии собрался на митинг на берегу Эльбы.
Медленно вставало утро 9 мая 1945 года. Лучи восходящего солнца, отражаясь в водах Эльбы, освещали лица воинов, пришедших с берегов Аракса. Стоя в рядах работников санбата, Ашхен сияющим взглядом обводила всех: все лица казались родными, дорогими сердцу.
Царило торжественное молчание. Командир дивизии поднялся на импровизированную трибуну. На его лице читалось выражение горделивой радости, и Ашхен не сводила взгляда с его лица, неслышно шепча: «Ах, если б Вардуи была жива… С каким волнением ждала бы его!.. Хотя нет, она была бы здесь, с нами…».
Вся обратившись в слух, она слушала Асканаза, который говорил о том, что гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.
— Великая Отечественная война советского народа, — сказал он, — завершилась победой… Гитлеровская Германия поставлена на колени… Народы мира будут свободно дышать!..
Асканаз видел, что все охвачены ликованием и нет слов для выражения заветных чувств людей.
После митинга загремели песни, музыка, пошла пляска.
донеслись до Ашхен слова знакомой с детства песни. Через несколько минут она кружилась в хороводе, распевая:
— Так, так, Ашхен-джан! — радостно выкрикивал Лалазар. — Умеешь ты к месту нужные слова подобрать! Вот послушай, и я хорошую песенку придумал:
— Слушай, Лалазар, ты же эту песню и раньше пел и все уверял, что это ваш арамусский ашуг сочинил! — воскликнул Вахрам.
— А не все ли равно, кто ее сочинил? Сердце у меня песни о любимой просит. А раз я пою, значит я и сочинил!
— Хорошо, сынок, хорошо, спой еще раз! — вмешался Михрдат.
— Нет, пусть Ашхен споет! Ашхен-джан, спой своим голосом-колокольчиком еще раз про ту девушку гор с темными косами!
Дивизия Араратяна принимала на своем участке побежденных гитлеровских солдат и под конвоем направляла их в назначенные Верховным Командованием районы. В течение дня Асканаз объехал все подразделения дивизии, следя за выполнением приказа о сохранении строжайшей дисциплины.
Он встретился с Ашхен в одной из палаток санбата. Ашхен только что закончила прививки очередной партии бойцов. Отрапортовав о проведенных работах, Ашхен сказала:
— Приятно, что бойцы охотно приходят на прививки. За всю эту войну у нас не было ни одной вспышки эпидемических заболеваний, и это несмотря на то, что ни в одну войну в армии не было такого огромного количества людей!
Асканаз устало опустился на табурет.
Ашхен внимательно разглядывала его. Она видела, что его обветренное лицо скрывало за внешней невозмутимостью и усталость и глубокую озабоченность.
— Ну как, головные боли не прекратились?
— Стараюсь не обращать внимания.
Ашхен приложила руку ко лбу Асканаза, затем отсчитала и дала ему какие-то капли в стаканчике. В последнее время она чувствовала себя свободно, встречаясь и разговаривая с Асканазом; казалось, их отношения стали снова такими же, какими были при жизни Вардуи. Но и после гибели Вардуи Асканаз остался для нее хорошим другом. В те дни Ашхен была во власти тяжелых переживаний. Она нуждалась в близком друге, который мог бы понять ее горе, подбодрить ее. Никогда не забыть ей ту ночь за неделю до войны, когда она открыла свое сердце Асканазу! Да, она многим обязана этому другу… и именно потому не будет скрывать от него мыслей и переживаний.
— Дорогой Асканаз, война научила меня очень простой, но очень мудрой истине: в наше грозовое время, чтобы связать свою жизнь с другим человеком, надо пройти вместе с ним через испытания!
— Ты что-то очень сложно начала говорить, Ашхен, — шутливо заметил Асканаз.
— Ну, какое там сложно… Может быть, это оттого, что и жизнь моя прошла сложный путь. Но мысль моя совершенно ясна: я хотела сказать, что я хорошо узнала Мхитара Берберяна, точно так же, как и он меня. Так что можешь нас поздравить…
— Да что ты говоришь? И когда ты успела так тихо, шито-крыто?!
— Когда? Я даже, не могу сказать… Ведь мы даже и не объяснились толком… Так что это все в будущем…
Асканаз засмеялся и взял Ашхен за руку:
— Желаю тебе счастья от души!
Асканаз вышел из палатки. Стоявший рядом с кабинкой машины Вахрам откинул дверцу. Асканаз сел. В памяти возникла встреча в Ереване и беседа с Ашхен. Может быть, она хочет, чтобы я подготовил Берберяна?.. Но он отогнал эту мысль и, достав карандаш и блокнот из планшета, начал делать пометки к предстоящему совещанию командиров.
Оставшись одна, Ашхен вдруг вздрогнула и закусила губу: «Неужели люди действительно глупеют от счастья? Ведь Асканаз может подумать, что я стала совсем легкомысленной! Призналась ему, что Мхитар — мой избранник… что можно поздравить!.. Как это глупо!»
Она бессильно опустилась на табурет и задумалась. «Но нет, Асканаз поймет, он не подумает ничего дурного и только порадуется за меня! Ах, я ему тоже желаю счастья!»
Уже несколько дней подряд Мхитар Берберян вместе с командиром полка Игнатом Белозеровым обходил подразделения. Вечером, просмотрев кинокартину в клубе полка, он отправился в лес и вошел в палатку санбата. Ашхен доставала из ящиков медикаменты, пачки ваты и бинтов и распределяла их медсестрам.
Ашхен показалось, что руки у нее стали еще проворнее бегать, когда в палатку вошел Берберян. Сердце у нее сильно билось. До последнего времени их связывали лишь официальные отношения. Но вспышка радости в ночь победы многое сказала им. Теперь оставалось подтвердить словом. Но с чего начать?..
— Ашхен… — наконец решился заговорить Мхитар, — как ты думаешь, нельзя ли, чтобы Тиграник…
— А что? — не сразу догадалась Ашхен. — Ах, да, я сегодня же напишу Седе, попрошу, чтобы она разрешила…
— Да, да! — не дав Ашхен докончить, радостно подхватил Мхитар. — Но как обрадуется мама… и сразу поймет…
По лесу прозвенела трель какой-то пичужки. Ашхен с улыбкой откинула полог палатки: распластав крылышки, на ветке дерева качался снегирь, блестя красной грудкой под солнцем. Весело переливалась его песенка — он радовался, встречая приветом новую весну…
Мхитару показалось, что от песенки снегиря ласковее стал взгляд Ашхен. Он уже несколько раз повторял в уме свое признание в любви: «Любимая, бесценная моя Ашхен, ты и не представляешь себе, как я преклоняюсь перед тобой, видя тебя заботливо склоненной над ранеными, внушающей им надежду и волю к жизни! Как я буду гордиться тем, что я твой избранник…»
Много раз и по-разному складывалось признание в любви в уме у Мхитара, но он все не решался высказать, как высоко ценит Ашхен, зная, что она не нуждается в восхвалениях; если в сердце ее нет места для Мхитара, тогда не поможет никакое красноречие! Но в глубине души Мхитар уже сознавал, что он нашел дорогу к ее сердцу. Об этом говорила ласковая улыбка на ее лице…
Задуманное признание вылетело из головы. Мама, Тиграник… Мхитар с такой нежностью говорил о них, что вся невысказанная любовь раскрылась в этих простых словах.
— Значит, Ашхен-джан, мы можем вместе написать маме, чтобы она ждала нас?!
— Да… — начала Ашхен и ничего не смогла больше сказать — Мхитар прижался к ее губам.
Казалось, только сейчас осознала она, что одной лишь самоотверженной работой нельзя утолить голод души, что человек всегда стремится к любви. И Ашхен радовалась любви Мхитара.
Они начали говорить о будущем, строить планы, но Ашхен заметила, что Мхитара что-то тревожит.
— Ашхен, но ведь Седа не обидится, если мама возьмет Тиграника?
— О нет, не обидится! — Ашхен пригладила спутанные волосы Мхитара. — Вртанес теперь в Ереване: он все объяснит Седе и успокоит ее…
— Вртанес в Ереване?.. С какого времени и почему?
— Его демобилизовали по болезни еще в феврале…
Мхитар вышел из палатки санбата в приподнятом настроении. Он шагал, не замечая дороги, поглощенный планами будущей жизни, и она рисовалась ему широкой и светлой.
Дойдя до палатки, где размещался штаб полка, он ознакомился с обстановкой, провел короткое совещание и направился в батальон Гарсевана: по дороге Игнат рассказал ему, что в этот день несколько воинов Советской Армии (и в их числе Гарсеван) побывали в гостях у солдат американских войск.
— А ну, Гарсеван, что скажешь о наших союзниках? Как приняли тебя? Одним словом, расскажи о своих впечатлениях.
Гарсеван потер задумчиво лоб, глядя на деревья, шелестевшие вокруг палатки. Мхитар выжидающе смотрел на него.
— Встретился я там с одним сержантом. Как он радовался тому, что скоро вернется домой! Понимаешь сам: семья, детишки… До войны он был горняком, а в годы войны служил сапером. Ну, конечно, с таким человеком можно разговориться по душам, да и переводчик у нас был парень дельный. После того как потолковали мы о родных местах, о семьях, сержант мой почувствовал себя свободнее. Я и спрашиваю: «Как, мол, вы думаете устроить жизнь у себя? Мы вот вернемся, восстановим все разрушенное, построим новое… А вы как?..» Тут мой сержант — Томас его зовут — совсем мне доверился. Доверился — и открыл нам свое сердце. Оказывается, майор ихний говорил несколько дней назад: «Хорошо получилось, что Германию победили, но нехорошо, что русские вышли из войны не ослабленными. На поле битвы должны были остаться два трупа — Германии и России, но этот план не осуществился…» Рассказывал нам об этом Томас, и я видел, что сердце у него болит… Я и попросил передать ему, что все равно наши народы останутся друзьями, а этому майору история даст хороший урок. Утешал я его, а у самого сердце прямо горело: подумай только, что это за человек! Благодаря нам тоже победителем прослыл, а против нас козни строит… Во мне все кипело, но я сдержался, тем более что Томас рассказывал это в частном порядке. А майор этот… видели бы вы, товарищ Мхитар, как он вежливо вел себя с нами. Прямо в душу лез… Эх, чтоб ему!
Берберян нахмурился и заговорил, словно размышляя вслух:
— Наша победа, наши перспективы светлы. А притворно вежливый господин майор хотел бы на все навести тень… Но ты же помнишь Гарсеван, что говорится в народе: в конце концов тьма всегда отступает перед светом.
Глава шестая
ДРУЗЬЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Дивизия, которой командовал Асканаз Араратян, получила приказ вернуться на родину — в Советскую Армению.
Один за другим батальоны со всем своим «хозяйством» грузились в вагоны и по намеченному маршруту выезжали домой. По распоряжению Асканаза первым же эшелоном выехал батальон Гарсевана Даниэляна: пусть народ поскорее увидит прославленного Героя Советского Союза с его не менее славными бойцами!
Всем уже было известно, что Мхитар Берберянна минуту не хотела отказаться от исполнения своих обязанностей — в дол и Ашхен дали друг другу слово, однако домой они ехали в разных вагонах: Ашхен ни гой дороге бойцам могла понадобиться ее помощь…
Асканаз ехал то в вагоне, то в своей машине. Там, где шоссе пролегало параллельно с полотном железной дороги, он садился в машину, опережал, медленно двигавшийся эшелон, высаживался на ближайшей железнодорожной станции и проверял положение в частях. Таким образом он всегда был в курсе того, какой жизнью живет каждый из батальонов.
Нежаркое солнце позднего лета заливало поля Украины, с которыми так сроднился Асканаз за годы войны. Он с радостью наблюдал за тем, как крестьяне собирали хлеб нового урожая, часто приказывал остановить машину у обочины шоссе, шел в поля. Мелькали загоревшие лица женщин и демобилизованных бойцов, еще не скинувших военные гимнастерки… После очередной проверки на одной из станций он приказал шоферу свернуть в Краснополье: в этот день эшелоны должны были простоять на путях дольше обычного: надо было запасти продукты для походных кухонь.
Асканаз пристально рассматривал знакомые улицы, с волнением вспоминая все, что связывало его с этим городом: Денисов, Алла Мартынова, Оксана…
Машина остановилась на скрещении улиц. Шофер обернулся к Асканазу: «Куда прикажете свернуть?»
Асканаз вначале намеревался проехать по улицам Краснополья и вернуться на станцию. Но теперь, когда он уже доехал до центра города, разве можно было не заехать к Оксане?..
— О, Асканаз Аракелович! — радостно воскликнула Оксана, протягивая руку посетителю.
С сияющей улыбкой она смотрела на гостя, но вдруг, словно вспомнив что-то, быстро спросила:
— А где же Ашхен? Я очень благодарна вам за то, что исполнили мою просьбу… — и, услышав гудок машины, выбежала из комнаты, не дожидаясь ответа.
Шофер с помощью Вахрама откинул капот машины и копался в моторе. В машине никого не было. Оксана бегом вернулась в комнату и с недоумением спросила:
— Ашхен не с вами?
— Садитесь, прошу вас, — мягко попросил Асканаз.
Придвинув стул, Оксана села и, положив руки на стол, выжидательно и немного настороженно взглянула на Асканаза.
— Значит, понравилась она вам? Славная, правда?
— Очень! В тот приезд я еле оторвала Аллочку от нее, не хотела отпускать…
— Ну, не только вы полюбили ее так сильно, — улыбнулся Асканаз. — Один человек полюбил ее так основательно, что не захотел отпустить совсем!
— Женился?
— Ну да.
Оксана перевела дыхание и невольно встала со стула. Мысленно она упрекала себя за эти расспросы. Однако, в сущности говоря, разве она не могла заинтересоваться судьбой знакомой женщины? Но почему же она так рада, что эта красивая молодая женщина вышла замуж?.. Оксана почувствовала неловкость, притворилась, что ей зачем-то нужно выйти из комнаты, и, вернувшись, переменила тему беседы.
Почти целый час Асканаз и Оксана говорили о пережитых испытаниях, обо всем, что тогда их тревожило и мучило…
Беседа приняла иное направление, когда со двора в в комнату вбежала Аллочка. Она тотчас же узнала Асканаза — по вечерам, укладывая девочку, мать рассказывала ей длинные истории о «храбром и добром дяде Асканазе, который помогает дяде Андрею прогнать злых фашистов».
Асканаз обнял Аллочку, посадил на колено к себе и, расцеловав в обе щеки, начал расспрашивать ее о школе, о прочитанных книгах.
— Дда… — ответила Аллочка. — Ччерез ддва ддня… у-уже нначнутся заннятия…
Аллочка была уже во втором классе, и, по словам матери, училась хорошо. При чтении Аллочка заикалась гораздо меньше, и это внушало надежду, что с течением времени речь у нее полностью может восстановиться.
Аллочка казалась чем-то встревоженной и все возвращалась к вопросу о том, что будет делать «завтра» дядя Асканаз.
— Ввот ддядя А-андрей, — открыла она тайну своей тревоги, — о-опять ушел ввоевать…
Асканаз знал, что Денисов переведен в Маньчжурию.
Аллочка сидела на коленях у Асканаза, а Оксана то выходила из комнаты, то вновь заходила, накрывая чайный стол. Каждый раз, когда она смотрела на Асканаза, сердце у нее щемило от тоски. Но когда взгляд ее падал на оживленное личико Аллочки, доверчиво поднятое к Асканазу, ей становилось легче. Девчурку угнетало то, что она подсознательно чувствовала себя осиротевшей. Она не переставала ждать отца, тетю Аллу, Миколу… Приезд Денисова, а затем Асканаза внушал девочке неясную надежду на то, что так же могут когда-нибудь вернуться и другие неожиданно исчезнувшие из ее жизни родные. Оксана понимала переживания девочки и страдала за нее. Душа Оксаны была надломлена, и она словно еще не нашла себе настоящего места в жизни.
Асканаз согласился выпить чаю вместе с Оксаной и Аллочкой. Когда он уже встал, собираясь уйти, Аллочка крепко обняла его за шею и с испугом спросила:
— Тты нне ппридешь к ннам ббольше?..
Оксану так взволновал и смутил неожиданный вопрос девочки, что она не расслышала ответа Асканаза. Проводив гостя, она вернулась с Аллочкой в комнату и почти упала на стул, с бьющимся сердцем повторяя: «Ну, почему, почему задала Аллочка этот вопрос?.. И какая я глупая — не простилась как следует! Может быть, снова пришлось бы ему проехать через Краснополье… или хотя бы попросить письмо написать! Хотя нет, едва ли…»
Асканаз поехал обратно на станцию проверить, нет ли каких-либо «ЧП». Но все обстояло благополучно. Асканаз поднялся в свой вагон, намереваясь прилечь и немного отдохнуть. Он представил себе тот момент, когда эшелон прибудет в Ереван: площадь Ленина, толпы народа, встречи с родными… ликование… Как радостно возвращаться с победой!
Проходили часы, Асканаз задумался над своей жизнью. Перед его мысленным взором проносился Севан, встречи с Вардуи… Вспоминались пережитые страдания, война, Ашхен и Нина. Асканаз думал о том, почему сегодня какая-то тяжесть лежит на его душе. Он снова переживал встречу с Оксаной, радость Аллочки, ее простодушный вопрос: «Ты не придешь к нам больше?» Он отделался неопределенным ответом, потому что сам еще не задумывался над этим вопросом.
«Что ж, продолжать путь? Еще несколько дней — и Ереван… Ну, а дальше? Опять одиночество? А меня может хорошо понять лишь человек, который сам прошел через страдания… Да и я смогу лучше понять женщину, которая выдержала испытание горем… Мне нужен человек, который разделял бы со мной все свои мысли и переживания… Но к чему все эти размышления? Не для того ли, чтобы лишний раз доказать самому себе, что эта женщина именно Оксана? Хотя бы и так! Ну, а если у Оксаны нет этого чувства, если она по-иному намерена устроить свою жизнь? Нет, нет, этого не может быть, я почти уверен…»
Близился рассвет. Поезд тронулся. Все с большей и большей силой разгоралось в душе Асканаза чувство, впервые ставшее ему ясным в эту ночь. Паровоз постепенно замедлял ход, приближаясь к станции. Асканаз приказал Вахраму распорядиться выкатить автомашину.. Как только Асканаз уселся, шофер дал газ и, как обычно, покатил вдоль полотна вперед, к следующей станции. Несколько времени Асканаз ехал молча, подводя итоги мыслям прошедшей ночи. Но вот он перегнулся и тронул шофера за плечо:
— Поверни обратно!
Вахрам сделал беспокойное движение и пробормотал:
— Сзади еще два эшелона…
— Плохо считал, — улыбнулся Асканаз. — Четыре!
Вахрам подумал и виновато подтвердил:
— Точно, четыре, это позавчера было два, Мы здорово продвинулись, а пушкари с саперами еще там!..
Новый эшелон еще не прибыл на железнодорожную станцию. Солнце было уже высоко, когда Асканаз приказал шоферу свернуть в Краснополье.
Он постучался в дверь.
На стук откликнулась Оксана и, узнав голос Асканаза, с тревогой распахнула дверь.
— Что случилось?
Асканаз вошел в комнату. Аллочка кинулась ему на шею, радостно лепеча:
— А тты гговорил, ччто пприедешь ззимой!
— Значит, не нравится тебе, что приехал так скоро? — засмеялся Асканаз.
Только сейчас узнала Оксана, что́ ответил накануне вечером Асканаз на вопрос Аллочки. Через минуту Оксана пришла в себя, и ей уже не казалось странным, что Асканаз вернулся: словно иначе и не могло быть.
Аллочка начала одеваться, а Оксана с Асканазом прошли в другую комнату. Асканаз чувствовал, что взгляд Оксаны проникает в самую глубь его души. За одну ночь они словно пережили заново все прошлое.
Заметив, что они стоят перед зеркалом, Асканаз осторожно взял Оксану за руку и отвел к столу: отражение в зеркале создавало впечатление, что кто-то со стороны наблюдает за ними, а Асканаз не хотел никаких свидетелей своего счастья. Не выпуская руки Оксаны, он наклонился и тихо шепнул ей:
— Ты позволишь мне заменить отца Аллочке?..
Оксане казалось, что сердце ее предчувствовало этот вопрос. Опустив голову на грудь Асканазу, Оксана плакала от счастья. Она и сама не могла бы сказать, о чем говорили они в первые минуты, — так отрывисты и бессвязны были те фразы, которыми они обменивались.
Час спустя, когда они уже усаживались в машину, Аллочка радостно воскликнула:
— Вв… Е-е-рре-вван?..
Глава седьмая
В ПУТИ
В это утро Гарсеван не отходил от окна вагона. Незадолго до этого остался позади Дербент. Сейчас слева расстилалась гладь Каспийского моря. Пылающий шар солнца отражался в волнах. Иногда казалось, что раскаленный диск качается на поверхности моря и волны постепенно смывают с него краску.
К Гарсевану подошел Абдул.
— Четыре года — легко сказать! А для Каспийского моря все равно что было, что не было… А ведь сколько крови пролилось, у скольких сердце сожжено!..
— Потому и говорится в народе: «Кровь — не вода!» — отозвался Гарсеван. — У человека в жилах кровь течет и через сердце проходит. Поэтому-то кровь и волнуется. А у моря и в голове и в сердце — одна вода; ему что́ от того, что мы с тобой брата или товарища потеряли? Жило оно миллион лет и еще столько же проживет!
— Да, да, земле и воде, солнцу да звездам смерти нет! — не отводя глаз от моря, кивнул головой Абдул.
— А путь у воды известный: снизу — вверх, сверху — вниз! Испаряется — облаком становится, а из него дождем — снова вниз.
Абдул начал вполголоса напевать древнюю азербайджанскую песню и громко повторил последнюю строку:
— Ладно, Абдул-джан, не углубляйся, не то вдруг философом станешь!
— Не бойся, из нас философов не выйдет… Подъезжаем, Гарсеван, а?
— Да, Баку близко!
— Сегодня — Баку, завтра — Евлах… Бьется у меня сердце, Гарсеван!
— Так мы же не через Евлах едем! Не слыхал разве о новом маршруте: Джульфа — Нахичевань — Ереван…
— Вах, что ты сказал!.. Значит, не увижу я наших?
Гарсеван заметил, что лицо Абдула затуманилось. Он хотел было переменить разговор, но Абдул сказал:
— Ведь я им написал, чтобы приехали на станцию Евлах… И во сне и наяву виделось мне одно: приедет Фатьма моя с малышом… Моему орленку Касуму уже пять лет исполнилось. Обниму я их, то сынка в щечки расцелую, то жену к сердцу прижму… Сосчитал я — тысяча пятьсот дней прошло, как я с ней расстался! После ранения я в прифронтовом госпитале лечение проходил. А последние два месяца, сам знаешь, перестал курить, шоколад вместо табаку получал, собирал, чтобы порадовать ребенка. А если и мать с Фатьмой и Касумом приехала бы — уже не выпустила бы меня из объятий! Эх, перевернули мне сердце здесь, а у них там, дома! — И он снова запел, на этот раз в полный голос:
— Не грусти, Абдул-джан! — проговорил Гарсеван, хлопнув товарища по плечу. — Пожалует к тебе твоя Дильбар… то есть Фатьма! А если и не приедет, попрошу я у командиров, чтоб разрешили тебе поехать через Евлах…
— Э, нет! — быстро отозвался Абдул (видно, он уже думал об этом). — Нет, кардаш, на это я не согласен! И днем и ночью ребята только о том и говорят, как готовятся в Ереване к встрече наших частей; а мы ведь едем впереди всех! Как же я сейчас уеду из моей роты? Что лучше: поскорее увидеться со своими или же ехать с ребятами? Я уже обдумал и вижу: нет, весы на сторону товарищей склоняются! Что ж делать, терпел столько — потерплю еще немножко!..
— Честное слово, Абдул, и у меня сердце болит, что не встретишься ты сегодня со своими. Но ты правильно поступаешь — приказ есть приказ! Вот демобилизуешься и птицей полетишь к своим!
— Э-э, Фатьма моя — птица быстрокрылая. Не удивлюсь, если раньше нас прилетит в Ереван.
— Ну, так о чем же ты горюешь?
— Э-э не знаешь разве, что на час позже увидеть любимую — это уже горе? «Увидел тебя — ашугом я стал, моя милая!..»
— Ну что ж, пойдем выпьем по стаканчику за наших милых… Лалазар откуда-то раздобыл «львиного молочка»…
Палило знойное летнее солнце. На станции играл духовой оркестр.
Гулявший по бакинскому перрону Гарсеван заметил бегущую к нему Ашхен.
— Сколько времени простоим здесь? — торопливо спросила Ашхен, отирая платком пот со лба.
— Видишь, состав отвели на запасный путь. Не меньше трех часов, нужно еще получить продукты для рот…
— Ну, вот и хорошо, идем!
— Куда это?
— Я написала матери Грачия Саруханяна. Здесь и она и Рузан. Хочу поехать с ними на могилу Грачия…
— Как на могилу?
— Сейчас не время для расспросов, Гарсеван, пойдем, на месте все узнаешь. Мать очень просит, нельзя отказать.
— Но я и без просьбы, Ашхен-джан… Эх, времена, времена! Могила Грачика… А давно ли было — Ереван, госпиталь… Пойдем уж, пойдем! Где же Нвард-майрик?
— Разрешите обратиться, товарищ майор?! — вытянулся перед Гарсеваном Абдул.
— Ну, обращайся, чего там?
— Рапортую о том, что жена моя Фатьма, сын Касум и мать Зульфия прибыли на станцию Баку!
Гарсеван с доброй улыбкой пожал руку Абдулу:
— Вот видишь, не напрасно ты распевал: «Добро пожаловать, моя бесценная Дильбар!» А теперь уж можешь спеть: «Добро пожаловать, моя бесценная Фатьма». А где же они?
— Да вот! Фатьма, азиз, вот мой товарищ и начальник! Ана-джан, познакомься с Гарсеваном: там мы были с ним словно родные братья!
Приветливо улыбающаяся Ашхен тоже познакомилась с матерью, женой и сынишкой Абдула.
— Не утерпели они, — объяснил сияющий Абдул. — А Фатьма решила, что лучше приехать в Баку и увидеться со мной на несколько часов раньше. Жена у меня — умница, это я дурак не догадался о том, что моя Фатьма не будет зря сидеть и дожидаться в Евлахе. Напрасно и расстраивался, когда ты сказал, что другой маршрут у нас.
— Абдул-джан, — прервала его Ашхен. — Ты нас извини, мы спешим…
— Если не секрет…
— Да нет. Ты помнишь Грачика Саруханяна?
— Ну, как не помнить…
— Мать его здесь. Хотим поехать на кладбище…
— Ой, да что ты говоришь!.. Я непременно… Фатьма, азиз, нас теперь и сам Азраил не разлучит, но я сейчас по очень важному делу должен с товарищами…
В ворота бакинского кладбища вошла маленькая группа людей. Пройдя по аллее шагов сто пятьдесят одетая в черное женщина остановилась и тихо произнесла:
— Вот здесь лежит мой Грачик.
Рузан прижала платок к глазам.
Слева от аллеи аккуратная железная ограда окружала маленький участок земли.
Нвард-майрик открыла небольшую железную калитку. С высокого пьедестала, поставленного в головах могилы, взглянул на столпившихся у решетки Грачик Саруханян. Ашхен, Гарсеван, Абдул и присоединившийся к ним на станции Ара полными слез глазами рассматривали изваянный из гранита бюст погибшего соратника, вокруг которого расставлены были на пьедестале кадочки с цветами. Видно было, что чья-то заботливая рука ухаживает за ними. Вокруг могильной плиты посеяна была бархатно-зеленая трава, в ногах росли две елочки. К самой ограде был проведен водопровод. Нвард-майрик отвернула кран, и полилась студеная струйка. Взяв с пьедестала металлическую чашку, она несколько раз ополоснула ее холодной водой, наполнила и протянула Гарсевану:
— Освежи сердце…
Гарсеван выпил и оставшимися каплями воды окропил могильную плиту. Нвард снова наполнила водой чашу и протянула Ашхен:
— Освежи сердце…
Так же «освежили сердце» и Абдул и Ара. После этого обряда Нвард села на длинную скамейку под оградой и рукой показала товарищам сына: «Садитесь и вы».
И Гарсеван я Ашхен предполагали, что мать и невеста погибшего будут плакать и причитать на его могиле. Но лицо Нвард-майрик было так же неподвижно, как изваянное из гранита лицо ее сына. Только в глазах горела живая, неумирающая скорбь. Рузан переводила взгляд с Ашхен на Ара. И казалось Ара, что она вспоминает те дни, когда он лечился в Баку и перед отъездом на фронт зашел к ним проститься; как крепко поцеловала его тогда Рузан, как бы желая, чтобы он передал Грачику любовь и матери и невесты! Но сегодня Рузан молчала…
— Знаю я, удивляетесь вы, родные мои, как удалось мне перевезти сюда тело Грачика, устроить ему могилу…
— Эх, майрик… — только и смог произнести Гарсеван.
— Да, родные мои, вот как было дело. Получила я «черный листок» — и померк для меня белый свет… Что мне было делать?.. Ведь отец моего Грачика умер еще в двадцать восьмом году. Грачика вырастила и поставила на ноги я сама… Приносили мне газеты, показывали, какие хорошие вещи писали о моем Грачике! Пришли из военкомата, сказали, как жалеют о том, что такой герой умер, пенсию мне назначили… И вот сказала я себе: «Раз в такой чести сынок мой был, нужно и матери его постараться, чтоб его имя не забылось, чтоб о делах его люди помнили… Если он будет спокойно лежать в родной земле, легче будет и мне… Да и то хорошо, чтобы молодые видели его могилу, следовали его примеру…»
Ашхен привлекла молча плакавшую Рузан и усадила рядом с собой.
— И вот встала я, пошла прямо к самому большому военкому в нашем Азербайджане. Спасибо ему, встал он мне навстречу, попросил меня сесть, а сам стоит. Я ему: садись, мол, после тебя сяду. А он мне в ответ: «Нет, наш долг — стоять в знак почтения перед матерью…» И вот рассказала я ему: так, мол, и так, вам хорошо известно, где погиб мой сын и где его похоронили; так дайте мне бумагу, чтобы могла я поехать, привезти тело его, — пускай спит в земле родного города… Вижу, военком лоб себе трет, задумался. «Нелегкое, говорит, это дело, велика наша отчизна, а могилы наших погибших бойцов священны повсюду…» Я ему в ответ: «Конечно, священны, но у меня только и был на свете что этот единственный сын; стара я уже, поседели у меня волосы, вот и хочу, чтоб эта священная могила была от меня близко… Хочется мне хоть могилу его цветами украсить!» Дай бог ему долгой жизни, военкому тому, — дал мне все бумаги, какие требовались…
Мимо ограды проходили в эту минуту муж с женой, бабушка и внучек. Увидев тонкую струю воды, стекавшую в каменную чашу, мальчуган жалобно попросил:
— Воды мне…
— Сейчас дам тебе, родной мой, сейчас… — быстро вскочила с места Нвард-майрик, тщательно прополоскала чашу и, наполнив водой, протянула ее ребенку.
Мальчуган несмело взял чашу и стал пить, проливая воду на себя. С такой же готовностью Нвард-майрик напоила водой и бабушку ребенка.
— Пусть будет бессмертной, как вода, память твоего усопшего, сестрица! — произнесла старая женщина, возвращая чашу.
— И вот получила я бумаги… — продолжала Нвард-майрик, снова опускаясь на скамейку, — и поехала в Новороссийск. Хорошее было время — наши гнали врага. Легче стало у людей на сердце. Правда, не высохли еще слезы, но люди уже могли смеяться… Да, значит, приехала я в Новороссийск и прямо пошла к коменданту; дай ему бог здоровья — тоже воевал он, глаз у него поврежденный. Принял он меня хорошо, выслушал и говорит, как и военком в Баку мне говорил: «Зачем хочешь перевозить, разве не умеем мы чтить память погибших?» А я ему и объяснила: «Не сомневаюсь я, что в почете будет у вас могила Грачика, но ведь материнское сердце…» Не стал он настаивать, послал со мной людей, пошли мы, отыскали…
Казалось, слезы начали душить Нвард; но она сдержала их, отпила глоток воды и медленно продолжала:
— Ах, точно ждал мать сынок мой — не очень и изменился… Сделали ему новый гроб… Ну, рассказывать долго… Села я в поезд, привезла в Баку. Весь наш Свердловский район встречать пришел. И военком тоже был..» Спасибо всем, помогли, устроили почетные похороны: духовой оркестр был, из ружей стреляли… Все, что с молодых лет скопила, все распродала; родные и друзья тоже помогли. Устроила я могилу Грачику. Под конец пошла я в райсовет и попросила: «Помогите мне провести воду, поставить кран у ограды!» И эту мою просьбу уважили… Вот теперь, сами видели, подаю я прохожему воду, пьет он и благословляет память моего Грачика… А что еще нужно матери?..
Все молчали. Одна Рузан плакала, закрыв лицо руками.
Ара словно забыл о том, как обезображено его лицо. Он слушал Нвард, и ему казалось, что это говорит его мать… Но даже в эту минуту он не представлял себе, как он встретится с Маргарит, от которой получил письмо за два дня до выезда из Берлина.
Нвард наполнила водой небольшую лейку, по деревянным ступенькам поднялась к бюсту Грачика и стала поливать горшки с цветами, расставленные на пьедестале. Спустившись вниз, она села рядом с Ашхен и взяла ее за руку:
— Дай, Ашхен-джан, дай мне приложить твои руки к глазам… На твоих руках покоилась в последний раз голова моего Грачика…
На этот раз она уже не смогла сдержать слезы.
— Дай мне поцеловать тебя в лоб… Не плачь, взгляни мне в глаза… Подожди, вытру слезы, теперь взгляни… В эти глаза последний раз перед смертью взглянул мой мальчик… Может быть, остался в них его образ, — хотя бы раз еще, только раз увидеть его…
Гарсеван опустился на колено и поцеловал могильную плиту.
Затем он подошел к Нвард и поцеловал ей руку.
Его примеру последовали Абдул и Ашхен.
Поцеловав руку Нвард-майрик, Ара повернулся к Рузан и замялся: что он мог сказать ей?.. И, не выдержав скорбного взгляда Рузан, опустил голову.
Поезд тронулся.
— Итак, Абдул, наш маршрут изменился: через Евлах, Кировабад и Тбилиси — Ереван!
— Но как же это получилось?
— Говорят, что та линия очень загружена, а этот маршрут, мол, удобнее…
— А уж об удобстве и говорить нечего: Фатьма чуть не пляшет от радости!
Все собрались в купе. Абдул уселся рядом с женой. Пресытившийся шоколадом Касум забрался на колени к бабушке и с интересом поглядывал на отца.
— Иди ко мне, сынок, иди! — ласково позвал Абдул, беря на руки малыша.
Касум таращил глаза, но, разморенный дневной жарой, вскоре задремал. Абдул приподнял его и начал целовать в щеки. Касум поежился, улыбнулся, ухватился пальчиками за ордена отца и так и заснул. После того как Абдул уложил сонного малыша рядом с бабушкой, он не сразу смог выпрямиться: пальцы сынишки крепко держались за «Славу» отца. Фатьма осторожно, один за другим, отвела пальчики Касума, и лишь после этого Абдул сел на свое место.
Попросив мужчин потесниться, старая Зульфия положила на полку большой сверток.
— А ну, развернем свадебный узел! — весело воскликнул Гарсеван.
На столике разостлали газету и разложили на ней жареных кур, баранью ляжку, сыр, лаваш, слоеные пирожки с начинкой из прожаренной муки с сахарным песком, любовно приготовленные руками Зульфии и Фатьмы.
— Застольное собрание объявляю открытым! — подняв в воздух куриное крылышко, провозгласил Лалазар.
В Баку успели купить несколько бутылок вина. Все по очереди предлагали тосты. Зульфия все подбавляла еды, Фатьма передавала лакомые кусочки тем, кто сидел подальше.
— Покушай и ты, баджи[21], что ты все нас угощаешь!.. — обратился к Фатьме Гарсеван.
— Она душой насытилась! — усмехнулась Зульфия.
вполголоса пропел Лалазар строчку из своей любимой песни.
Товарищи уплетали аппетитно приготовленные домашние закуски, запивая вином и задушевно беседуя, пока Гарсеван не предложил заключительный тост:
— Ну, ребята, а теперь поблагодарим Зульфия-ана́ и пожелаем ей долгих лет здоровья и счастья!
— Правильно сказано! — первым отозвался Ара.
— И всем нам пора на боковую, поздно уже! — внушительно проговорил Гарсеван, обводя взглядом товарищей.
Пожелав оставшимся спокойной ночи, Гарсеван, Ара, Лалазар и Кимик перешли в соседнее купе.
Глава восьмая
ВОЗВРАЩЕНИЕ
— Так, говоришь, не видать еще?
— Да нет, бабушка, только-только вышли со станции!
— Что ты все повторяешь: «вышли» да «вышли»!
— Так ты же не захотела, чтобы мы поехали на станцию! А то увидели бы первые…
— На станции и не увидели бы ничего. Тут лучше будет.
— Ну, раз лучше, будем ждать.
На площади имени Ленина в Ереване переговариваются Шогакат-майрик и Цовинар, окруженные тысячной толпой. Не узнать шаловливого подростка в этой прелестной девушке! Цовинар уже семнадцать лет, в этом году она кончила десятилетку, но волосы у нее все еще заплетены в две косы, перевитые фиолетовыми лентами, лицо сохранило полудетское выражение, хотя она старается выглядеть совсем взрослой и даже поучает бабушку.
Стоящая рядом с ними Седа старается ни на минуту не терять из виду Давида и Зефюр. Давид то и дело задевает и поддразнивает девочку, унимаясь только тогда, когда Зефюр грозит пожаловаться бабушке. Совершенно поседевший Вртанес поддерживает под руку Елену. У нее скорбное выражение лица: весть о гибели Зохраба подтвердилась. Вртанес окидывает взглядом толпу на площади. На лице у многих он замечает одно и то же выражение — радости, смешанной со скорбью…
Чуть поодаль беседуют Парандзем и Маргарит, держа за руки Тиграника.
Над гулом толпы взлетает голос Цовинар:
— Идут, бабушка, идут! Вон качается знамя… вон и сами они!..
— Уже, Цовинар-джан, уже?! Говоришь, Асканаз впереди?.. Где же он?.. Не вижу я его!..
Цовинар будто снова превратилась в маленькую девочку. Не отвечая на расспросы бабушки, она радостным визгом встречает появление каждой новой колонны.
Чеканя шаг, подходили ряды. Над головами бойцов плескались алые знамена, на груди прикреплены были цветы, преподнесенные в пути, на станциях, на перроне и на улицах Еревана.
На трибуне сменялись ораторы — ученые, рабочие, колхозники. Каждому хотелось сказать задушевное слово, выразить по-своему волновавшие всех чувства. Но внимание собравшихся было приковано к рядам бойцов, каждый старался найти знакомое лицо.
На трибуну поднялся Араратян. Все взгляды устремились на него. Всем вспомнилось то же самое знамя, тог же Араратян на этой же трибуне три года назад… Тогда он давал обещание, а теперь…
Но вот на площади наступило глубокое молчание.
— Ликуй, родная страна, радуйтесь, матери, сестры, и братья! Мы свято выполнили ваш священный наказ! В правой войне победила Советская Армия, победили советские народы, возглавленные старшим братом — великим русским народом. Ныне мы вкладываем наши мечи в ножны. Мы воины, но мы не поклонники войн между народами. Многие из бойцов моей дивизии завтра пойдут работать плечом к плечу с вами, умножать богатства страны и мирно созидать. Но есть еще на земном шаре люди, у которых разгораются глаза на чужое достояние. Мы обещаем быть бдительными, зорко охранять нашу страну от любителей чужого добра. Испытания последних лет научили нас, как надо защищать Родину и честь родного народа!
Громовое «ура» заглушило последние слова. К рядам бойцов хлынули родные и друзья. Мечты, тоскливые мечты долгих, мучительных ночей стали явью — сын, муж, отец, жених вернулись домой. Какая же мечта могла быть такой светлой и радостной, как эта действительность?!
Шогакат-майрик и Цовинар наконец удалось добраться до Асканаза.
— Дядя, милый!.. — воскликнула Цовинар и почти прыгнула на шею Асканазу. — Подожди, расцелую тебя за всех!.. Вот так… так! Горжусь тобой, радуюсь, что ты наш, наш родной, мой собственный дядя!.. — сыпала она скороговоркой, покрывая поцелуями лицо Асканаза.
Не скоро вспомнила она, что рядом стоит, вся в слезах, ожидая возможности обнять Асканаза, бабушка ее, стоят отец и мать и еще много людей, желающих пожать руку Асканазу…
А чуть поодаль, в большой группе людей, слышалось произносимое на разные голоса одно и то же имя: «Ашхен… Ашхен!…»
В эту минуту даже совершенно незнакомые люди казались Ашхен родными и близкими — ведь теперь она могла смело смотреть всем в глаза!
— Дорогу… дорогу! — выкрикивал какой-то высокий человек, подхвативший под руку Парандзем и поднявший на плечо себе Тиграника. — Дайте дорогу! Иди к своей маме, мой маленький!
Точно проплыв по воздуху, Тиграник упал в объятия матери. Стоявшие кругом на минуту замерли, молча глядя на прижавшихся друг к другу мать и ребенка.
Со следующего дня дивизия приступила к занятиям мирного времени.
Вечером, после ужина, бойцы смотрели новую кинокартину в зале казармы.
Первая рота батальона Гарсевана Даниэляна была в каком-то приподнятом настроении. Часть бойцов под руководством Ваагна приводила в порядок просторную, длинную комнату с расставленными в ряд койками. В центре ее было оставлено свободное пространство. Здесь стояла отдельная койка. Ваагн сам внимательно осмотрел ее, оправил на ней покрывало, стер пыль с карточки, вставленной в рамку и прикрепленной к изголовью.
По шоссе, ведущему к казарме, катила в это время автомашина. Рядом с Ханум Аветисян сидел Гарсеван.
За последний месяц демобилизовано было много бойцов. Ханум встречала их или в колхозе имени Микояна, или в ближайших селах, а иногда выезжала для встречи и на станцию Октемберян. Обнимая и целуя бойцов, она с волнением шептала:
— Словно Унана моего встречаю, Унана моего обнимаю!.. Здоровья и удачи вам желаю, желаю, чтобы добрыми сыновьями вы были, чтобы с любовью относились к вашим женам и детям!..
Ханум часто слышала, как вокруг нее называли заветное имя сына — У н а н А в е т и с я н… Слышала — и болело у нее сердце так, как способно болеть лишь скорбящее сердце матери. Но Ханум старалась не показывать людям своего горя. На станции, куда она ездила встречать бойцов, к радостному смеху часто примешивались горькие слезы, многие матери, жены и дети узнавали о гибели близких… Но Ханум не плакала и других уговаривала не плакать, чтобы слезы скорби не омрачали радости вернувшихся.
В этот вечер Ханум с волнением принимала Гарсевана под тем раскидистым ореховым деревом, под которым когда-то принимала его, когда он привез ей привет от Унана. Бравый, подтянутый Гарсеван откозырял Ханум и торжественно произнес:
— Дорогая майрик, я приехал за вами, чтобы отвезти вас в часть. Генерал Араратян лично просит вас приехать, просят и товарищи Унана Аветисяна. Все бойцы роты ждут вас, не отказывайте им…
Отказывать? О, нет! Это сердечное внимание словно смягчило рану в душе Ханум.
Автомашина домчалась до Эчмиадзина, проехала Паракар, пролетела по улицам Еревана и поднялась по Канакирскому шоссе. Но Ханум ничего не замечала: перед ее мысленным взором вставал оживший Унан в кругу товарищей. Машина остановилась перед казармой. Гарсеван быстро вышел и, почтительно поддерживая под руку Ханум, помог ей выйти из машины.
— Мать Унана, мать… — доносился до слуха Ханум шепот, и это увеличивало ее волнение.
Бойцы с уважением разглядывали худощавую женщину в простом сером платье, повязанную черным головным платком, из-под которого выбивались на лоб седые пряди волос.
Ханум пока еще не понимала, для чего ее привели в казарму. Вот к ней подходят бойцы, почтительно здороваются, называя «майрик-джан», не ожидая расспросов, рассказывают, где и когда довелось им встретиться с Унаном. И в каждом из этих бойцов Ханум видится ее собственный сын, ее Унан. А какая была бы радость, если б и Унан был сейчас среди них!.. Но что же делать, надо примириться. Ее должно утешать то, что столько сердец бьется любовью к Унану, сочувствием к его матери…
Слышится сигнал горниста. Рота Ваагна готовится к вечерней поверке.
Двойной шеренгой, точно несокрушимой стеной, выстроились бойцы, залитые ярким светом. Наступает молчание, и Гарсеван подходит к Ханум.
— Пойдем, майрик-джан…
Впереди стоит Асканаз Араратян в парадном генеральском мундире. Он подходит к выстроившейся роте. За ним идут Гарсеван, Ханум и командир роты.
— Смирно! — командует Ваагн и, чеканя шаг, выходит навстречу командиру дивизии.
— Товарищ генерал-майор, первая рота выстроена для вечерней поверки.
— Здравствуйте, товарищи! — приветствует бойцов Асканаз.
— Здравия желаем, товарищ генерал!
Снова молчание и на этот раз еще более торжественное. Асканаз шагнул в сторону, и Ханум смогла окинуть взглядом всю роту. У Ваагна в руках листок бумаги, он выглядит смущенным, как будто для него внове то, что должно произойти. Но вот он откашлялся и, глядя в список, отчетливо произносит первое из имен бойцов роты:
— Унан Аветисян!
— Герой Советского Союза старший сержант Унан Аветисян пал смертью храбрых в борьбе за свободу и независимость нашей родины! — слышится в ответ.
Ханум кажется, что все это происходит во сне. Она закрывает глаза и вновь открывает их. Но нет, все это происходит наяву. Вот стоят в два ряда бойцы. Ваагну ответил крайний в первом ряду… Ханум показалось, что перед нею стоит Унан и, так же как при жизни, с ясной улыбкой смотрит на мать.
А Ваагн продолжает поверку: Алексан Мурадян, Вахрам Сисакян, Михран Обанян… И после каждого имени звучит в ответ произнесенное разными голосами одно и то же слово:
— Я!
Поверка кончилась, и снова настала торжественная тишина.
Асканаз Араратян подходит к Ханум, берет ее морщинистую руку и, низко склонив голову, целует ее.
— Дорогая, бесценная наша майрик! Вот, — он протянул руку и взял у стоявшего рядом Вахрама небольшую коробочку, — Золотая Звезда и орден Ленина. От имени Союзного правительства вручаю эту драгоценную награду вам, как вечную память о подвиге вашего бесстрашного сына. Пусть переходит из поколения в поколение эта драгоценная награда, пусть перейдет в века вместе со светлым именем любимого всеми нами Унана Аветисяна! На той горе, где пал Унан, и в ближайшей станице Гайдуке благодарные советские люди также воздвигли ему памятник, назвали его именем улицу… Но Унан живет в душе и в сердце каждого патриота, в душе и в сердце армянского народа, честь которого он поднял так высоко. Вечная слава памяти нашего боевого соратника Унана Аветисяна!
И, вновь поцеловав руку Ханум, он передал ей коробочку с орденом.
На этот раз глаза матери наполняются слезами. Теперь она может плакать, теперь все поймут, чем вызваны ее слезы, С чувством глубокой материнской гордости она прижимает к груди священную награду и шепчет:
— Живи, родина!
Гарсеван ведет Ханум в большую комнату. Тянутся ряды аккуратно заправленных коек. Вот и уголок Унана…
— Вот это кровать Унана, его постель, подушка, полотенце…
Ханум смотрит на спинку койки, к которой прикреплена фотография Унана в рамке. И не выдержало сердце матери, упала Ханум на койку, обняла подушку, приговаривая с плачем:
— Нет, Унан-джан, не мертвый ты… Неправда, живой живой! Родной мой, бесстрашный мой сынок, живи долго-долго… Ах, одного только хотела бы я — чтобы ты своими руками мать твою обнял, в могилу опустил, а потом уж поднялся на гору ту… Бесценный мой, бесценный сынок!..
Глава девятая
ПОД РОДНОЙ КРОВЛЕЙ
С первого же дня Шогакат-майрик распорядилась, чтобы все сыновья с семьями по-прежнему приходили по воскресеньям обедать к Вртанесу.
Однако, как ни гордилась Шогакат-майрик славой Асканаза, благополучным возвращением его, Ара и Вртанеса домой, скорбь о погибшем Зохрабе точила ей душу. Елена и Зефюр всегда стояли перед ее глазами, она не жалела слов утешения и ласки для овдовевшей невестки. И вот к этой тяжкой заботе прибавилась новая тревога — ей никак не удавалось увидеться с Ара. В первый день на площади было столько народу, что не только ей, но и очень многим не удалось увидеться с близкими: бойцы дивизии тотчас же после митинга были отведены в казармы. Особенно сильно взволновалась Шогакат, когда вернувшаяся с парада Маргарит рассказала о встрече с Ашхен и Берберяном, сообщила весть об их браке и нерешительно замолчала.
— Ну, говори же дальше… Об этом я знаю. Парандзем рассказала мне уже. Ты скажи, где Ара?
— Так не видела я его…
— Как это? Да я на твоем месте птицей бы взвилась, отыскала любимого!
— Так не было же его на площади.
— Как это не было?
— Да ты не волнуйся, майрик-джан. Я Гарсевана спрашивала. Он объяснил, что Ара дневальным был назначен, и не один Ара, но и многие другие бойцы.
В первый же день Вртанес отправился в казармы, повидался с братом и, вернувшись, рассказал матери, что Ара здоров и скоро будет демобилизован. О том, что лицо Ара обезображено шрамами, Вртанес ничего не сказал. Сегодня же все ждали, что Ара получит разрешение навестить родных. Шогакат-майрик бродила из комнаты в комнату, не находя себе места. Все у нее валилось из рук.
Постепенно начали собираться; пришел Асканаз с Оксаной и Аллочкой. В первый день, пока Асканаз был на митинге, Оксана и Аллочка поехали прямо на его квартиру. Вернувшийся к вечеру Асканаз в первую минуту не узнал своей комнаты — так уютно она выглядела.
Шогакат-майрик уже навестила вместе с Маргарит новую невестку. Сейчас она сердечно расцеловала Оксану и Аллочку и пытливо спросила:
— А ты знаешь младшего твоего деверя?
— Не видела еще, — с улыбкой ответила Оксана. — Надеюсь встретиться с ним сегодня.
— Да, да, конечно.
— Оксана всех вас хорошо знает по моим рассказам, майрик-джан, — вмешался Асканаз. — А Ара усвоил себе в армии привычку скрывать, что он брат комдива: боялся, что его будут ценить не по заслугам, а по родству.
— Ах, Асканаз-джан, пусть уж ценят, как он заслуживает, но мне хочется поскорее увидеться с сыном. Ведь сколько времени терпела, шутка ли сказать — больше трех лет!.. Ранен был мальчик, оправился от ран, снова пошел воевать… Стосковалась я по милому лицу моего сыночка! Помнишь, все его называли «Ара Прекрасный»?
— А теперь, — прервал ее Асканаз, — у моего брата два ордена и три медали. Подумай только, мама-джан, он ведь еще очень молод! Ашхен пришла… — и Асканаз пошел навстречу вошедшим в комнату Ашхен и Мхитару.
Ашхен уже демобилизовалась. На ней было нарядное платье из тонкой шерстяной материи, пышные каштановые волосы были красиво причесаны. Ее лицо светилось радостью. Во взгляде Мхитара можно было прочесть, как он гордится и счастлив тем, что у него такая подруга жизни.
«Как преображается женщина, чувствуя себя счастливой! Ведь на что была похожа Ашхен, когда была женой Тартаренца. А теперь!» — с горечью подумала Елена. Она не отводила глаз от Ашхен, с болью думая о том, что потеряла мужа, что в свое время заслужила суровый упрек свекрови из-за Заргарова. А о Заргарове ей пришлось за последнее время слышать много нехорошего. И хотя никто из родных даже отдаленным намеком не позволил себе напомнить ей об ее ошибке, Елена не находила себе покоя. «Человек должен прежде всего сам уважать себя!» — с тоской думала она.
Приход Ашхен словно оживил всех.
— Вот видишь, Шогакат-майрик, опять собрались все вокруг тебя! — весело воскликнула она, обнимая Шогакат, но тотчас же осеклась, взглянув на Елену, подошла к ней и, целуя, шепнула: — От души сочувствую тебе, дорогая.
Шогакат не утерпела и прямо обратилась к Ашхен:
— Уже четыре дня, как все приехали, а я так и не видела Ара… До каких же пор это будет продолжаться?!
Ашхен смутилась, но тотчас же ответила:
— Военная дисциплина, Шогакат-майрик… Он получит увольнительную записку и тотчас же приедет!
— Ну, раз дисциплина, я ничего не говорю…
Маргарит вспоминала упрек Шогакат-майрик: «Да я на твоем месте птицей бы взвилась, отыскала любимого!» — и сердце у нее сжималось. Ее не меньше, чем Шогакат-майрик, тревожила мысль о том, что Ара уже четыре дня как приехал в Ереван, а она еще не видела его. Шогакат-майрик не сомневалась, что Маргарит любит Ара и верна ему: все эти три года Маргарит жила мыслью только об Ара.
Выйдя из дому в воскресенье утром, она собиралась пойти прямо на квартиру Вртанеса, где должна была собраться вся семья Шогакат-майрик, но на полдороге остановилась и свернула на улицу Абовяна. Было еще довольно рано. Почти не встречая прохожих, Маргарит дошла до сквера, в котором уже хорошо принялись высаженные этой весной деревца, и остановилась. Легкий ветерок играл подолом ее светлого летнего платья, трепал волнистые пряди волос. Маргарит провожала глазами грузовые и легковые машины, поднимавшиеся вверх по шоссе, к Канакирскому плато. Видно, ей вспомнилось что-то веселое, потому что лицо ее осветилось улыбкой. Проезжавший мимо грузовик, в кузове которого установлены были длинные скамейки, остановился, и один из сидевших в нем бойцов приветливо спросил:
— Хотите, подвезем, гражданка?
— До Мхуба подвезете?
— Пожелаешь — и в Дилижан домчим!
— Нет, только до Мхуба.
— С большим удовольствием! Куда угодно, лишь бы рядом с такой красавицей сидеть!
Боец соскочил наземь и помог Маргарит взобраться.
Всю дорогу до Мхуба Маргарит выслушивала его комплименты, но отвечала так находчиво и остроумно, что в конце концов боец с уважением сказал:
— Нет, куда уж нам тягаться с тобой!
Он заботливо помог Маргарит сойти, и она направилась к летнему лагерю дивизии. Она обрадовалась, когда увидела у ворот толпу женщин и девушек. Маргарит с сердечным трепетом вглядывалась в каждого бойца, выходившего из ворот. Не лучше ли дать знать Ара, что она здесь?.. А вдруг Ара уже уехал в город? Маргарит решительно подошла к часовому и спросила, дают ли бойцам разрешение навестить родных.
— Дают, не беспокойтесь, сегодня многим дали увольнительные, — успокоил часовой.
Маргарит отошла немного в сторону и продолжала разглядывать выходивших из ворот. Вот выходит смуглолицый сержант, и с радостным восклицанием к нему на шею бросается молоденькая женщина. Она целует сержанта, целует и громко плачет. Маргарит вспоминает последнее письмо Ара:
«Как хотел бы я быть сейчас с тобой, моя мечта, моя светлая Маргарит!.. Но уже осталось немного ждать… моя любовь, моя бесценная, единственная…»
Но если Ара так сильно стосковался, что же это значит? И Маргарит не находит ответа… Взгляд ее упал на тутовое дерево. Какая пышная листва! Но ягод еще нет. Под этой шелковицей Ара три года назад сказал с таким волнением: «Мы не можем соединиться, не расставшись…» И они расстались. Но вот настал день, когда они могут соединиться. Где же Ара? Кажется, легче было ждать три года, чем последние три дня, последние несколько часов!..
Маргарит снова взглянула на ворота. Оттуда вышло сразу четверо бойцов. Навстречу троим кинулись родные. Четвертый остановился у ворот. Какой у него грустный вид… А лицо… как изуродовано лицо у бедняги… Маргарит знает, отчего у него такие рубцы. Попали в лицо осколки мины, потом остались шрамы… Бедный парень, такой молодой… И никто не пришел повидаться с ним… «Подойду, — решила про себя Маргарит, — подбодрю его…»
Маргарит направилась к воротам. Но боец с обезображенным лицом вдруг негромко ахнул и отпрянул от нее. Не придав этому значения, Маргарит с присущей ей непосредственностью подошла к нему, протянула руку и вдруг, схватив бойца за плечо, вгляделась широко раскрытыми глазами:
— Ты…
— Ах, Маргарит…
— Ара! — окончательно признав его по голосу, вскрикнула Маргарит. — И ты… ты не сообщил… не написал правды!
Ара казалось, что Маргарит смотрит только на его обезображенное лицо, на глубокий шрам, пересекавший щеку от виска до подбородка. О чем она думает сейчас? Как будто сердится на то, что он не написал ей правды.
— Страшный я, да?.. — с болью пробормотал Ара.
— Нет, Ара, нет, совсем нет! — быстро отозвалась Маргарит. Теперь она понимала, почему Ара не показывается домой. Она убежденно повторила: — Это пустяки, Ара, это же совсем пустяки!..
Любящее сердце подсказало девушке, что слова здесь не нужны. Обнаженными руками она притянула к себе голову Ара, прижалась лицом к его обезображенной щеке и стала горячо целовать в глаза, в губы, в лоб.
Ара не отвечал на ее поцелуи. Волнение душило его, на глазах выступили слезы. Маргарит почувствовала, что Ара ждет ее признаний.
— Родной мой, всегда любила тебя, думала о тебе… Ты помнишь, четыре года назад, дома у вас, я первая сказала, что люблю… Вот и теперь… Но сейчас люблю еще глубже, еще больше! Как я рада тому, что ты вернулся ко мне живой-здоровый, мой храбрый воин!
— Как нежно звучит твой голос, Маргарит… — шепнул Ара.
Терпение Шогакат-майрик истощилось.
— Бабушка… Бабуш-ка-а!..
Шогакат-майрик встрепенулась: как-то по необычному кричали дети, игравшие во дворе. Сердце у нее забилось так, словно хотело выскочить из груди. Опередив всех, она кинулась к двери.
— Бабушка… — задыхаясь, ворвался в переднюю Давидик, — бабушка, Ара идет!..
— Сынок мой… — вырвалось у Шогакат, и она обняла Ара, ощупывая и гладя одежду сына, его голову, лицо. Словно маленький ребенок, Ара покорно подчинялся ласкам матери.
Наконец Шогакат словно вспомнила, что надо дать и другим поздороваться с Ара. Она неохотно выпустила сына из объятий и только сейчас разглядела его лицо, осторожно, медленно провела рукой по левой, обезображенной щеке. К ней вернулась обычная сдержанность, и она лишь тихо промолвила:
— Сынок мой, исстрадавшийся сынок…
Да, перед нею был он — ее прежний Ара: такой же родной и любимый. Только лицо у него немного огрубело. Ну что ж, не ребенок ведь, мужчиной стал!
В первую минуту никто не заметил, что вместе с Ара в комнату вошла Маргарит, а за ней Гарсеван; еще у ворот Мхубского лагеря он заметил их и предложил отвезти к Шогакат-майрик.
Шогакат крепко обняла Маргарит:
— Вот кто привел ко мне моего Ара!.. Дай поцелую тебя, моя умница!
Воспользовавшись наступившим молчанием, Гарсеван подошел к Шогакат-майрик и торжественно произнес:
— Помнишь лето сорок второго года, майрик-джан? Ты передала Ара на мое попечение, хотя он ни в чьем попечении не нуждался. Ну вот, возвращаю тебе твоего сынка живым-здоровым. Но знай, что Ара теперь не тот, кем был, он герой, ему по силам любое дело!
— Спасибо тебе, Гарсеван-джан, спасибо! У такого начальника, как ты, мой Ара, конечно, мог научиться только хорошему!
— И за все время пребывания на фронте, — с улыбкой продолжал Гарсеван, — наш Ара только один раз совершил преступление… но потом, к счастью, искупил его!
Заметив, что все с удивлением смотрят на него, он объяснил:
— Допустил, чтобы мина ранила его! Конечно, на войне враг не изюмом швыряется, но вот то, что в Ереван на лечение не приехал, а потом и отпуском не воспользовался, чтобы повидать мать и… где ты, Маргарит?.. и любимую девушку, — это уж!.. Да где ты, Маргарит?
— Ты уж ее оставь, я теперь с ней не расстанусь! — со смехом воскликнула Ашхен, привлекая подругу к себе.
— Ашхен-джан, раз ты тут, я в этом вопросе, конечно, голоса не имею! — покорно развел руками Гарсеван. — Но прошу тебя, разреши досказать…
— Гарсеван, ты сегодня говоришь без умолку… Я думала, ты уже кончил!
— Нет, нет, кончаю… Я хотел только напомнить Ара. Ты помнишь, давно-давно я говорил тебе, что молод ты еще, Ара, не знаешь, какое сердце у девушки-армянки!.. И вот, видели бы вы сегодня, как под тутовым деревом в Мхубе Ара и Маргарит…
Покрасневший Ара не знал, куда ему смотреть. Но Маргарит лишь улыбалась, не замечая, как довольна, как любуется ею мать Ара.
Ашхен, которую заботил вопрос о том, как помочь объясниться влюбленным, очень обрадовалась, узнав, что они успели сами, без посредников, встретиться. Лукаво поглядывая на Шогакат-майрик, она серьезным тоном сказала:
— Товарищи, я принимаю сегодняшнее приглашение на обед в честь помолвки Ара и Маргарит. Последнее их объяснение происходило в моем присутствии, поэтому я беру на себя роль распорядительницы!
Но Маргарит тряхнула кудрями.
— Но, Ашхен-джан, ведь наша помолвка состоялась три года назад!
Седе показалось немного неуместным простодушное заявление Маргарит. Но Шогакат-майрик была на седьмом небе. Асканаз подошел к Маргарит, поцеловал ее в лоб и весело сказал:
— Молодец, девочка!.. Ну, товарищи, торжественная часть закончена!
— Начинается часть лирическая! — в тон ему отозвалась Ашхен, и все со смехом стали занимать места за столом.
Сияющая Шогакат-майрик быстро обошла стол, проверяя, все ли в порядке. Заметив, что Вртанес тихо разговаривает о чем-то с Еленой около окна, она взяла невестку за руку и, подведя к Асканазу, усадила рядом с ним. Затем, положив руку на плечо Елене, взглянула полными слез глазами на Асканаза:
— Асканаз-джан, мы должны быть особенно внимательны к Елене.
Но сама Елена старалась сдержать свое горе, чтобы ничем не омрачить радости собравшихся за праздничным столом. И эта радость — таков закон вечнотекущей реки жизни — начинает рано или поздно проникать в сердце человека, даже надломленного горем…
Глава десятая
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Асканаз и Оксана с Аллочкой вернулись домой от Вртанеса к девяти часам. Оксана сейчас же уложила Аллочку спать.
Асканаз подошел к Оксане и, обняв ее, собирался расспросить о том, понравился ли ей семейный обед, как в дверь комнаты постучали.
С широкой улыбкой на лице вошел Заргаров, пожал руку Асканазу и в глубоком поклоне склонился перед Оксаной.
— Асканаз, ты не сердись, что я так запросто… Ты завоевал такую популярность, что люди считают за честь знакомство с тобой! Кому-кому, а уж мне-то великолепно известно, какой самоотверженной работой добился ты этой славы и чести!
— Ладно уж, хватит. Ты бы сел.
— Нет, нет, дай мне излить свое сердце! Ведь на всю Армению ты у нас один, Асканаз Араратян! И как только заходит о тебе речь, я тотчас же громогласно заявляю: «Что бы ни говорили, сколько бы ни писали, — все равно мало, все равно недостаточно!»
Асканаз сдерживался из-за Оксаны; он слушал разглагольствования Заргарова с безразличным видом, ожидая, пока они прекратятся.
Заргаров говорил с жаром, потряхивая правой рукой и шевеля большим пальцем. Ему и в голову не приходило, что Асканаз давно забыл о том, как выглядел его палец и почему он был всегда забинтован. Дело в том, что Заргаров решился-таки пойти на операцию: ему удалили шестой палец на правой руке.
Оксана под каким-то предлогом ушла на кухню, ей казалось, что посетителю хочется поговорить с Асканазом наедине.
— Ну, рассказывай, Асканаз-джан! — не унимался Заргаров. — Как твое здоровье? Тут у нас слухи ходили, что эта проклятая контузия…
— Была легкая контузия, прошла.
— Ну и чудесно. А я не давал покоя Шогакат-майрик, все справлялся о тебе… Ну, значит, хорошо, я рад, очень рад!
— Спасибо за внимание.
— Смотрите-ка, у человека слава на весь свет, а он все такой же скромный! Как говорится, «криво сядем, а правду прямо скажем»…
Асканаза уже начинало разбирать нетерпение; он не мог понять, с какой целью явился к нему этот человек. А грубо поступить не хотелось — как-никак явился поздравить, оказал внимание…
— Ну, как не сказать, Асканаз-джан… Разве подобает тебе эта комнатка?! Не мог разве добиться, чтобы тебе отвели хорошую квартиру? Что это, на каждом шагу встречаются у нас Асканазы Араратяны?!
— Оставим этот разговор. Я своей комнатой доволен.
— Нет уж, братец, так не годится… ты же не один! У тебя семья, ребенок, даст бог еще детки пойдут…
— Не будем говорить об этом! — с неудовольствием остановил его Асканаз.
— Не-ет, не могу, дай мне высказать то, что накопилось на сердце. Понимаешь, зашел я вчера к Гаспару Гаспаровичу. Понравился он там кому-то в главке и повышается в должности прямо с головокружительной быстротой! В начале войны был каким-то завотделом, а теперь рукой до него не дотянешься!.. Да меня должностями не ослепишь — режу правду! «Слушай, — говорю ему как-то раз, — да разве не ты в ногах у Асканаза валялся, чтобы он помог тебе экзамены по истории сдать?! Теперь по должности заполучил себе звание кандидата наук и думаешь, что знаний у тебя от этого прибавилось?» А сегодня говорю ему: «Ты что это не идешь лично поздравить нашего Асканаза? Почему не возбуждаешь вопроса о том, чтобы одну из улиц города назвали его именем? Почему квартиру до сих пор…»
— Совершенно лишнее было говорить все это! — с раздражением прервал его Асканаз.
— И совсем не лишнее! Ты не сердись, душа моя, я же понимаю, ты человек чистый, тебе неприятно слышать все это. Но ведь он меня просто преследует!.. Не дал мне продвинуться по моей специальности… отнял у меня уроки, вытеснил со школьного поприща… Да разве мое дело было…
— Если неправильно, опротестуй.
— А кто же меня слушать станет? Протест-то мой к нему же попадет, к этому самому Гаспару Гаспаровичу… А еще называется старый приятель. Понимаешь, заявляет мне: «Отстал ты, не прогрессируешь…» Это мне-то!
— Послушайте, товарищ Заргаров! — вышел из терпения Асканаз. — Если хотите мне что-либо сказать, говорите. Но я не желаю слушать ни о Гаспаре Гаспаровиче, ни о ком-либо другом. Хватит с меня!
— Вот это и плохо, что завоевал себе такое громкое имя и не желаешь бороться с отрицательными явлениями нашей жизни!
— Давайте кончать.
— Ну, раз тебе так хочется, кончим. Но ты скажи мне: неужели ты намерен оставить в городе свою супругу и ребенка в такую жару?
— Сейчас фруктов много, пусть поживут.
— Твое дело, конечно… Но, понимаешь, сердце… И зачем только дал бог человеку сердце? Болит оно у меня, когда я вижу какую-нибудь несправедливость!
Наступило молчание. Асканаз встал с места, прошел в кухню, молча вернулся в комнату. Заргаров понял, что оставаться дольше неудобно, и решил наконец приступить к делу:
— Ты уж извини меня, Асканаз-джан, если я что-нибудь не так сказал. Хотел облегчить сердце… Ты же человек культурный, поймешь… А то бывает, что откроешь человеку сердце, а он черт знает что тебе пришьет…
— Что же, разные бывают люди, — неопределенно отозвался Асканаз, начиная надеяться, что скоро избавится от неприятного посетителя.
— Да, я хотел спросить тебя: ты Нерсисяна помнишь?
— Какого Нерсисяна?
— Юриста.
— Помню.
— Теперь он член коллегии Верховного Суда.
— Место подходящее для него. Прямолинейный человек, немного даже суровый…
— Да, кстати, и он тебя очень любит. Несколько раз говорили о тебе… Он тебя очень расхваливал! Да, понимаешь… ведь мое дело именно к нему попало…
— Какое это дело?!
— Я же сказал тебе, Асканаз-джан: не дали мне на педагогическом поприще продвинуться… выдвинули на хозяйственную работу!
— Ну, а дальше что?
— А дальше то, что на этой работе приходится иметь дело с сотнями и тысячами людей. А ведь не можешь же всем угодить. Вот и подали материал на меня, якобы я… прямо не поворачивается язык сказать!.. якобы я занимался присвоением и хищениями, выписывал лишние продукты и продавал их по спекулятивным ценам.
— Значит, опорочили тебя?
— Да, Асканаз-джан, опорочили. Но все дело в том, что этому Нерсисяну ничего невозможно втолковать… Вся надежда на тебя, Асканаз-джан: ведь твое слово для него закон!
Асканаз встал с места. Откинувшись на спинку стула, Заргаров выжидающе смотрел на него.
— Гражданин Заргаров, давайте будем говорить откровенно. Во всем сказанном вами единственно правдивым является, вероятно, то, что вы занимались присвоением и хищениями.
— Да что ты, Асканаз-джан!.. Я же говорю, что оклеветали меня…
— Я помню каждое ваше слово: вы сказали «якобы». Я откидываю это слово «якобы», и остается «присвоение». И я нисколько не сомневаюсь в том, что вы способны на это!
— Но, Асканаз-джан…
— И очень хорошо, что Нерсисян так суров, и еще лучше было бы, если б у нас было побольше таких суровых судей!
— Но послушай, Асканаз, ведь человеколюбие…
— Прощайте, гражданин Заргаров.
— Ты, может быть, думаешь, это какое-нибудь крупное дело? На каких-то двести рублей. Если уж на то пошло, брошу я им эти двести рублей, пускай подавятся. Но я не ожидал, что ты, мой старый знакомый…
— Прощайте, гражданин Заргаров!
Глава одиннадцатая
ЖИЗНЬ ВХОДИТ В РУСЛО
Гарсеван раньше всех попросил Шогакат-майрик разрешить ему встать из-за стола: его ждали в доме Михрдата приехавшие из колхоза родные.
Поджидавший его перед дверью своего дома Михрдат воскликнул:
— Убил ты нас, Гарсеван… Где это ты пропадал?
— Виноват, прошу прощения! — улыбнулся Гарсеван.
Войдя в комнату, он поцеловал сперва Пеброне, потом Ребеку и повернулся к Наапету.
— Подойди, подойди, дай обнять тебя! — воскликнул Наапет. — В лоб тебя дай поцеловать, в глаза — многое они видели…
Хотя Гарсеван в первый же день встретился и с Пеброне, и с Ребекой, и с детьми, но ему казалось, что он никогда не утолит тоску трехлетней разлуки с ними. В этот день жена и невестка, захватив с собой Наапет-айрика, приехали за Гарсеваном, чтобы отвезти его в село. По установившейся уже традиции они остановились у Михрдата.
Стол был уставлен любимыми блюдами Гарсевана, но на этот раз он больше пил, чем ел. Вглядываясь в Пеброне (в день первой встречи он так и не успел хорошенько ее разглядеть), Гарсеван нашел, что хотя годы войны наложили отпечаток на ее лицо, но сейчас она нравилась ему даже больше. Пеброне улыбкой отвечала на любовный взгляд мужа, повторяя в уме: «Живой-здоровый вернулся, хорошее имя заслужил… Будет хозяин у нас в доме, наставник своим детям и сиротам брата!..» Все казалось сейчас Пеброне светлым, и она с оградой прислушивалась к беседе Наапета-айрика и Гарсевана.
— Да, много чего пришлось нам вынести… — со вздохом говорил Наапет. — Но человек легко забывает свои невзгоды. Вот сейчас ты с нами, Гарсеван-джан, и такое у нас чувство, будто весь мир нам подарили. Вот так и бывает — в дни благополучия человек ненасытным становится, а в тяжелые дни выносливость в нем вырабатывается…
Михрдат выглядел обеспокоенным и почти не слушал, что говорил Наапет-айрик. Он недавно демобилизовался и еще не знал, как устроить свою будущую жизнь.
Ребека была молчалива. Михрдат многое рассказал ей об Аракеле. Встретившись впервые с невесткой, Гарсеван подтвердил сообщение о гибели брата и со слезами на глазах поцеловал Ребеку. Да и сейчас, за столом, не раз поминали и Аракела и Габриэла.
Наапет-айрик своей рукой налил всем вина, усадил Михрдата рядом с собой и, глядя то на него, то на Ребеку, торжественно заговорил:
— Немного мне осталось жить на свете. Сегодня-завтра и прощай!.. Так вот послушай, Ребека-джан, старую поговорку: «Иной и умирает так, словно его живым на небо взяли!» Аракел на руках у меня вырос. Золотой парень был, и имя хорошее после себя оставил. Тяжело тебе, знаю, но ты утешайся тем, что погиб он за правое дело, сражаясь вместе с таким героем, как Унан Аветисян!
Ребека ничего не ответила Наапету-айрику, но видно было, что слова старика доходят до ее сердца. Она понимала, что слезы и причитания не воскресят погибшего мужа; ей делалось тяжело при мысли, что дети остались сиротами и вся забота о них ложилась на ее плечи.
— Михрдат-джан, — после недолгого молчания продолжал Наапет-айрик, — нам остается только склонить голову перед памятью Габриэла. Такие, как он, всегда высоко держали честь родного народа… Пью за здоровье наших Аракела, Габриэла, Унана! Не удивляйтесь моим словам, они живы, они живут в нас, живут вместе с нами! Тем, что мы сегодня сидим за этим столом, мы обязаны им!
И Наапет-айрик, повторяя дорогие, заветные имена, окропил вином хлеб, затем снова наполнил вином стакан и выпил залпом.
Прослезившийся Михрдат также окропил вином хлеб.
Перед домом остановился грузовик, послышался короткий гудок.
Пеброне вскочила с места со словами:
— Это за нами…
Гарсеван получил разрешение поехать на день в колхоз. Вопрос о его демобилизации должен был разрешиться на днях.
Михрдат проводил гостей и стоял у ворот до тех пор, пока машина не скрылась за поворотом. Войдя во двор, он покачал головой: листва на деревьях преждевременно пожелтела, насаждения зачахли. Но у Михрдата словно руки опустились, ничего не хотелось делать. Он то входил в комнаты, перебирал вещи в сундуках Габриэла и Сатеник, перекладывал книги, то снова выходил в сад, обходил грядки, посматривал на деревья, и все время его не покидала мысль, что он остался один, совсем один…
«Два раза, — мысленно говорил он, — два раза рушилась моя семья. Есть у меня еще силы, есть желание… я хочу и могу работать, но вот одиночество…»
Никогда еще за всю жизнь одиночество не давило его так тяжело. Михрдат снова вышел из дома. Последние лучи солнца зажгли на западе пылающий костер. И казалось Михрдату, что от закатных облаков тянется к вершине древней горы светлая дорога, по которой мчатся, обгоняя друг друга, огненные всадники. Но вот исчезло и это видение. Теперь на потускневшей дорожке проплывали перед ним картины его прошлой жизни, и яснее всего виделись ему образы его сыновей. Вот первый Габриэл, едва начавший лепетать малютка… и все пропало в пламени!.. Вот и второй Габриэл, статный, мужественный юноша… Огненные молнии бьют в него… Все скрылось за набежавшей тучей… И вот нет уже ничего: серая полумгла, гаснущее солнце…
Михрдат собирался уже вернуться в дом, как вдруг тучи на горизонте раздвинулись, вырвался последний луч и осветил закатное небо. Вновь протянулась светлая дорожка… И на дальнем краю этой дорожки показалась женщина с русым ребенком на руках. Руки матери крепко обняли ребенка, как бы указывая на то, что у малютки нет иной защиты, иного убежища, кроме материнской любви. Ребенок поднял опущенную голову, посмотрел на Михрдата и улыбнулся. Сердце у Михрдата затрепетало. Снова зажечь потухший очаг, чтобы засияли печальные детские глаза, чтобы продолжать жизнь: новый Габриэл вернет жизнь опустошенному саду, и вновь появится улыбка на губах Михрдата…
Глава двенадцатая
ГОД СПУСТЯ
Осень щедро позолотила Араратскую долину. Склоненные к земле ветви фруктовых деревьев в садах, отягченные гроздьями винограда кусты в виноградниках мирно дремали под октябрьским солнцем. Зимующие в наших краях птицы — разжиревшие за лето воробьи и ненасытные вороны — теперь, после исчезновения перелетных птиц, словно почувствовали себя более свободно: они смело слетались во дворы крестьянских хозяйств, выхватывая свою долю из урожая богатой, сытой осени.
По шоссе Арташат — Ереван медленно ехала легковая машина. Видно было, что пассажиры никуда не спешат: они часто просили шофера остановиться, выходили из машины, любовались видами, заходили в сады, говорили со встречными женщинами, мужчинами, детьми — и продолжали так же медленно катить по шоссе.
В машине сидели Асканаз с Оксаной, Мхитар с Ашхен и дети — Аллочка и Тиграник. Асканаз был в военной форме. Он наконец решил воспользоваться своим отпуском. Многие в дивизии, в том числе и Мхитар с Гарсеваном, были демобилизованы еще в прошлом году.
Асканаз не упускал случая осведомиться о том, как себя чувствуют на новой, гражданской работе его бывшие бойцы. Расставаясь с ними при демобилизации, он неизменно наказывал им: «Работайте так, чтобы про вас всегда можно было сказать: вот люди, которые дошли от Еревана до самого Берлина; будем брать с них пример!»
Два часа назад они выехали из Двина. В доме Гарсевана они слушали отеческие пожелания Наапета-айрика, а теперь, как это всегда бывает после хорошей встречи, вспоминали все виденное и слышанное, делились друг с другом своими впечатлениями.
— Как горячо взялся за дело Гарсеван! — воскликнула Ашхен.
Оксана очень обрадовалась, когда узнала о затеваемой поездке. Несмотря на уговоры Асканаза одеться потеплее, она была в легком шелковом платье. Из глаз молодой женщины постепенно уходила притаившаяся скорбь, на лице вновь появилось прежнее, жизнерадостное выражение. С сияющей улыбкой, придававшей ей особую прелесть, она обернулась к Ашхен:
— Я любуюсь игрой света в Араратской равнине! Смотрите, какое прозрачное небо, какие пылающие краски!
Асканаз притянул к себе Тиграника и спросил:
— Помнишь, что говорил дедушка Наапет?
— Угу, помню: говорил, что мама… Да, говорил, чтобы я персик покушал!
— Ну, а кроме персика?
— Еще про пшат говорил.
— Э, нет, ты вспомни, что он про маму говорил, у тебя только персики на уме!
— Так он говорил, чтобы и мама пшат кушала!
Асканаз со смехом махнул рукой:
— Я вижу, с тобой сегодня не сваришь каши! Хочешь, напомню тебе слова дедушки Наапета?
— Хочу.
— Так слушай и запомни! Дедушка Наапет вот что сказал: «Тиграник, расти умным мальчиком, помни, что твоя мама очень храбрая, ты должен ею гордиться!»
— Зачем ты его учишь нескромности? — воскликнула Ашхен. — А хочешь, я повторю то, что говорил Наапет-айрик о тебе?
— Ашхен, не надо быть мстительной!
Вспомнив о персиках и пшате, Тиграник начал рыться в сумке у матери. Закинув руку на шею Асканаза, Аллочка с интересом рассматривала Арарат, постепенно пробивавшийся сквозь редкие облака.
— Ккакая ббольшая!.. А ттам ллюди есть?
— Там всегда снег, Аллочка. Вот станешь большая и поднимешься на эту гору!
— Ага… — улыбаясь, но с легким сомнением отозвалась Аллочка.
Оксана отвернулась, незаметно от спутников вытерла слезы: «Ах, если б мой Микола не испугался так за меня, он сейчас был бы здесь, сыночек мой незабвенный», — с тоской подумала она.
Они въехали в новое село. Человек двадцать колхозников вышли на улицу, преграждая дорогу.
Шофер нажал тормоза, и машина остановилась.
— Не сердитесь на нас, родные! — обратился к ехавшим в машине старый крестьянин. — Выпейте с нами по стакану молодого вина! День у нас воскресный, не рабочий. И мы должны выпить за живых и усопших, и у вас найдется, за кого выпить… И генерал среди вас сидит, — когда еще встретится такой случай? Уж не отказывайтесь, выпейте с нами! Эй, там, несите детям изюма, орехов, фрукты, несите все, что есть!
Асканаз и Мхитар вышли из машины, подошли к накрытому столу под раскидистым деревом, у обочины шоссе. Асканаз поинтересовался, какой урожай получен в этом году колхозом и сколько пришлось на каждый трудодень. Старик колхозник спокойно ответил:
— Все постепенно налаживается, сынок. Ведь земля труд любит: больше будет рабочих рук — и урожай обильнее будет!.. Ребята наши вчера винтовку и меч в руках держали, а сегодня за тракторы и комбайны взялись. А тот, кто от честного труда уклоняется, пусть на себя пеняет! Ну, попробуйте же нашего матчара[22] — это напиток бессмертия, его еще Ной, прародитель наш, одобрял!..
Когда они выехали из гостеприимного села, Мхитар со смехом сказал:
— Ну, если мы будем двигаться такими темпами, то приедем в Ереван ночью!
— И очень хорошо! — подхватила Оксана. — Ради бога, не надо спешить!.. Завтра-послезавтра начнутся дожди, мы пожалеем, что не налюбовались на эти чудесные места, а будет поздно!..
Следующую остановку сделали у весело журчащего ручейка. Пока Асканаз и Мхитар мыли руки в прохладной воде, Оксана составляла для Аллочки букет из осенних цветов.
Притянув к себе Тиграника, Ашхен присела на кочку перед ручейком. Опустив руку, она коснулась пальцами воды и, почувствовав щекочущий холодок, выпрямилась, глубоко вдохнув свежий воздух. Она снова нагнулась к воде, и на этот раз ее внимание привлекли две пчелы на другом берегу ручья. Как видно, теплая погода и опьяняющий запах виноградного сока выманили их из улья. Одна из пчел, может быть по недоброй шутке какого-нибудь прохожего, была накрыта небольшим плоским камешком с желудь величиной. Обессилев от бесплодных попыток выбраться из-под камешка, пчела слабо шевелила лапками. Вторая пчела бегала вокруг подружки, подлезала под камешек, стараясь отодвинуть его.
Заинтересовавшись, Ашхен перескочила через ручеек и присела на корточки. Пчела-спасительница с жужжанием летала вокруг попавшей в беду подружки и, подползая с разных сторон, понемногу сдвигала камешек. Придавленная пчела постепенно оживала: она затрепетала освобожденным крылышком и заскребла ножками, стараясь выползти. Это как будто еще больше воодушевило ее спасительницу. И вот, когда она, упираясь спиной в край камешка, еще немного сдвинула его с места, первая сделала усилие и окончательно выкарабкалась. Вторая пчела взлетела вверх, снова опустилась и с веселым жужжанием поползла вокруг спасенной подружки.
Глядя на пчел, Ашхен вспомнила то чувство, которое владело ею на фронте, когда она спасала людей от верной гибели.
Поглощенная своими мыслями, она следила за пчелами до тех пор, пока пострадавшая, оправившись, не улетела вместе с подружкой. Ашхен подняла голову, чтобы подозвать Тиграника, и увидела, что ее окружили Асканаз, Оксана и Мхитар. Вскочив на ноги, она с разгоревшимся лицом и сияющими глазами, рассказывала им историю спасения пчелки, а закончив, нагнулась, подняла камешек и показала всем.
— Ведь посмотрите, на что способна крохотная пчелка, когда охвачена стремлением помочь себе подобным!.. А ведь человек призван быть венцом природы…
По меже бежали Тиграник и Аллочка.
— И мне расскажи, мама, и мне! — потребовал Тиграник.
Ашхен наклонилась к нему.
— Расскажу, сынок. Вот слушай: была здесь пчелка…
— Пчелка, которая приносит мед?.. Мама, я меда хочу!
— Здесь меда не было, Тиграник, — улыбаясь, объяснила Ашхен. — Пчелка попала под этот камешек, а ее подруга спасла ее, и они полетели домой в свой улей.
— А почему под камнем?
— Понимаешь, пчелка была ранена, а ее подруга помогла ей, вылечила, и они обе улетели.
— Ты тоже умеешь лечить, правда, мама-джан?
— Да, сынок, и я.
— Вот какая у меня хорошая мама! Дай поцелую тебя за это, — и Тиграник потянулся к лицу Ашхен.
Ашхен обняла мальчугана и пошла набрать ему цветов — «таких же, совсем таких же, как у Аллочки».
Веселое восклицание Аллочки привлекло всеобщее внимание. Прыгая на месте от восторга, Аллочка показывала на Арарат, освободившийся от облаков.
Подбежав к Асканазу, она попросила взять ее на руки, — ей казалось, что она так лучше разглядит гору, которая поразила ее воображение.
— Помнишь, как называется эта гора? Я говорил тебе, — спросил Асканаз.
— Арарат, — отчетливо произнесла девочка.
Лицо Оксаны просияло. Она взяла Аллочку на руки и переспросила:
— Как эта гора называется?
— Арарат! — внятно повторила девочка.
Из-за спины Большого Арарата выплыло облако и закрыло всю гору, кроме белоснежной вершины. Казалось, величавый старец спокойно озирается вокруг.
Асканаз долго смотрел на безмолвного свидетеля многовековой бурной жизни своего народа, затем исполненным надежды взглядом окинул взволнованное лицо жены и уверенно сказал:
— Если она легко выговорила это имя, значит после этого легко произнесет и все другие слова.
1949
Ереван