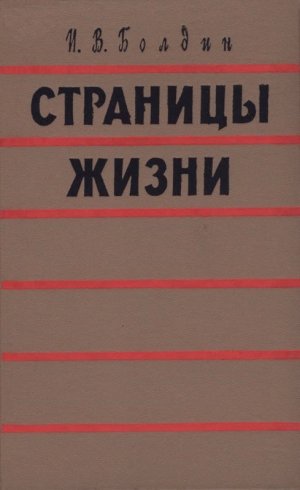
Далекое прошлое
Как назвать то, что задумал написать: «Судьба паренька из деревни Высокое»? «Пережитое»?
«Жизнь солдата»? «Тернистый путь»?
По существу, это одно и то же. А почему бы не назвать задуманное «Страницы жизни»? Так будет верней.
Мой жизненный путь оказался суровым, поистине тернистым, но интересным. Иногда трудно было идти. Не раз спотыкался, падал, однако поднимался и упорно устремлялся вперед. Шагал так, что порой, как говорят в народе, воду из обувки вышибало. Но это меня не страшило. Ведь реку переплыть и то трудно.
Если страницы моих воспоминаний порой будут биографичны, прошу, дорогой читатель, не расценивать это как отсутствие у автора скромности. Ведь окидывая взглядом свой жизненный путь, я с сыновьей благодарностью думаю о родной партии, о любимой Стране Советов Что было бы со мной, если бы не их забота? А подобных мне в нашей стране миллионы. Итак, приступаю к рассказу…
Не пытайтесь искать на географической карте, изданной до революции, деревню Высокое, затерявшуюся в Писарском уезде, Пензенской губернии. Было в ту пору в ней около девяти десятков рубленых изб с соломенной кровлей. Выделялся в деревне лишь большой дом под железной крышей, принадлежавший местному богачу Федору Антясову.
Вот в этой деревне я и родился в конце прошлого века. Наша семья, как, впрочем, и соседские семьи, была малоземельной. В то же время вокруг Высокого вольготно раскинулись угодья Помещика Столыпина Этот племянник известного царского министра, жестокого вешателя, в нравах своих недалеко ушел от дядюшки. Помню, как-то наша овца и пара кур забрели на столыпинские земли В наказание управляющий имением велел моему отцу уплатить штраф или отработать в его хозяйстве. Денег не было, пришлось отцу отрабатывать, а вместе с ним и я пошел В ту пору мне едва минуло девять.
Отец, громадный, с длинной бородой, суров был, а порой и жесток. Улыбкой радовал редко Да и щедростью не отличался. Правда, однажды он нас удивил Пришел как-то из большой деревни Шувары после удачного базара и на диво всей семье вынул из мешка новенькие сапоги, протянул мне:
— Бери, Иван, гляди, как блестят. Да смотри не забывай, что мы народ — для лаптей рожденный.
Сапоги были большие, на вырост. Надевал я их только летом, в праздники, да и то когда в церковь шел. А находилась церковь в деревне Ногаево, в четырех километрах от Высокого. Как и все односельчане, из дому выходил босиком, перекинув сапоги через плечо Лишь в Ногаево вытирал начисто ноги, надевал отцовский подарок и в церкви уже стоял обутым. Но только служба кончится, выйду на воздух, сниму сапоги, за ушки свяжу их, переброшу через плечо и снова домой босиком. Поэтому и много позже, когда я был уже взрослым парнем и вот-вот ждал призыва на военную службу, сапоги лежали в сундуке все еще как новые.
Наша деревня на всю округу «славилась» своей темнотой. Недаром про нас говорили. «В Высоком неграмотных больше, чем населения» В этой горькой шутке заключалась и моя трагедия. Бывало, только скажешь, что хочу учиться, отец в ответ:
— Ишь чего задумал! В поле ученые ни к чему Без них, крюцоцников. обойдемся (так в деревне называли грамотеев, выговаривая «ц» вместо «ч»).
Работать приходилось от зари до зари. Не по летам рано огрубели мои руки. Казалось, вложи в пальцы карандаш — не удержат. И все же велика была тяга к знаниям. Не раз говорил об этом матери Она меня понимала, поддерживала, но помочь ничем не могла. Только ласково так посмотрит, потреплет волосы и скажет:
— Погоди, сынок, не век будем жить в темноте.
Но вот как-то пришла мать домой, а улыбка, румянец на ее лице так и играют. «С чего бы это?»— удивляюсь я. А она говорит:
— Ну, Ванюша, радость пришла к нам.
— Какая? — спрашиваю.
— Школу открывают в Высоком.
Это и впрямь было приятное известие. От счастья хотелось кинуться матери на шею, крепко расцеловать ее. Но вспомнил об отце, и радость тотчас померкла.
— Не пустит тятя в школу, — говорю, а сам с мольбой гляжу в материнские глаза.
— Знаю, сынок. У отца нашего нрав крутой. Но ничего… Поговорю с ним.
И удивительное дело, отец поддался уговорам матери.
— Ладно, Иван, иди поучись маленько. Да смотри, от земли не отрывайся. Есть захочешь, книгу кусать не станешь. Не съедобна она Мы народ простой. До учености нам дела нет.
Что дальше говорил отец, меня уже не интересовало. Главное, он разрешил пойти в школу.
И вот на одиннадцатом году жизни я переступил порог деревенской трехклассной школы. Перед глазами точно раскрывался новый мир. Я занимался с охотой, и учительница не раз хвалила меня за прилежание.
Но учеба моя оказалась кратковременной. Походил в школу всего две зимы, а стал собираться в третий класс, отец вдруг с этакой хитрецой спрашивает:
— Написать какое прошение можешь?
— Могу.
— Ну а коль надобно что прочитать?
— Прочитаю.
— А если, к примеру, у тебя заведется много денег, посчитать их сумеешь?
— А вы дайте, я и посчитаю, — говорю, а сам думаю: «К чему это он вдруг такие вопросы задает и куда, собственно, клонит?»
— Ишь чего захотел: дайте! Нет, ты, брат, сам заработай. Свои деньги я и без твоей помощи посчитаю. Для этого много мудрости не нужно, были бы десять пальцев на руках. — Отец пристально посмотрел на меня глазами-угольями, а затем, точно приговор, произнес:
— Ну вот что, Иван, хватит попусту время тратить. В доме нужны рабочие руки. Считай, после меня ты второй мужик в семье. Грамоте малость научился, пора и за ум браться, работать надо.
На этом и кончилась моя учеба. Загрустил я, но пуще прежнего впрягся в работу. А отец, глядя на меня, приговаривал:
— Тебе, брат, теперь за двоих надо работать.
В скудном отцовском хозяйстве трудился до осени. А потом уходил на заработки к Столыпину. Помещик сезонных батраков не кормил. Бывало, возьмешь с собой краюху хлеба — вот тебе и пища на весь день.
Каждую субботу приносил отцу недельный заработок— рубль двадцать копеек. Как-то взял отец мою получку в свои большие ладони, позвенел монетами и говорит:
— Смотри, сколько места пустого. Говоришь, грамотен, а поди-ка реши задачу, какую дам. Два года в школу ходил? Два года у помещика не работал? А теперь посчитай, сколько денег потерял я из-за твоей учености. Сейчас бы их и в двух горстях не удержал.
Я не возражал отцу. Да и попробуй возрази. Только еще больше озлобишь его.
Оживление в однообразную, серую жизнь семьи вносил лишь брат отца дядя Иван, изредка навещавший нас. С его приходом, казалось, и лучина вечерами начинала светлее гореть. В противоположность отцу дядя обладал добрым сердцем, привлекал своей общительностью. Он не был грамотным, но всем интересовался и много знал, ибо природа наградила его незаурядным умом, а жизнь заставила поездить по свету.
Пришел как-то дядя Иван, поздоровался со всеми, справился о житье-бытье, а затем уселся за стол. Тут, у кипящего самовара, и завязалась у них с отцом длинная беседа, которая так заинтересовала меня, что до сих пор осталась в памяти. Может, она в какой-то степени и заставила меня по-иному, более осмысленно оценивать жизнь, острее реагировать на факты несправедливости, встречавшиеся в деревне на каждом шагу.
— Помнишь, Василий, пятый год? — спросил дядя. — Так вот, недавно был я на станции Хованщина и прослышал новость. Говорят, волнуется народ пуще прежнего. Собирается у помещиков имения отбирать, а у капиталистов — заводы и фабрики.
— Как же так, — удивился отец, — неужто свет изнанкой перевернется? Ну а как же Ванька мой? О себе уж я не толкую. Ванька-то чем жить будет? Своим хозяйством не проживешь, батрачить надо. А если помещиков не будет, у кого же батрачить?
— Спрашиваешь, где Ванька работать будет? У себя, на своей земле.
— Что-то не пойму я тебя. На своей земле! Да нешто ты не знаешь, что своей земли у нас с гулькин нос. На ней не прокормишься.
— А Иван землю у Столыпина возьмет. Люди все равны. Вот и надо, чтобы у всех было всего поровну. А для этого требуется помещичью землю отнять и раздать ее крестьянам, нуждающимся.
Большой разговор шел в тот морозный февральский день. Мне чудилось, будто стены пашей избушки раздвигаются. Кругом стало светлее. И жизнь точно прояснилась, стали виднее, понятнее извечные крестьянские обиды и чаяния. Даже отец словно преобразился. То, что прежде считалось неоспоримым, навеки устоявшимся, сейчас в его сознании рушилось, переосмысливалось.
— Страшные речи говоришь, Иван, — возражал отец. — Ты мне душу взбудоражил. Великое дело затеяно, да разве сбыться ему? У царя и господ сила…
Братья распрощались. Отец остался наедине с новыми мыслями. Мучительные раздумья заставили его ворочаться в бессоннице не одну ночь. Да и мне они не давали покоя.
После памятной беседы минуло немало времени. Наступил 1914 год. Началась первая империалистическая война. Тем же летом меня призвали в армию. Прощаясь с отцовским домом, я и не предполагал, какие испытания готовит мне судьба.
В Инсар, в 23-й стрелковый полк, я прибыл с другом детства одногодком Василием Криворотовым. Пробыли там всего пару месяцев, а затем полк погрузили в эшелоны и отправили на турецкий фронт.
За два месяца в казарме и за долгие дни, проведенные в теплушке, я со многими сдружился. Особенно близко сошелся с сормовичом Соколовым, рабочим парнем с волжских затонов, потомственным пролетарием. Человек грамотный, общительный, даже веселый, он был осторожным. Такая же у него подобралась и компания — ребята дружные, насмешливые, однако без гонору. Многие к ним тянулись, а они, как я заметил, друзей привлекали к себе с разбором. Познакомившись с Соколовым, попал и я в их сплоченную компанию.
Как-то еще в казарме рассказал ребятам про беседу дяди Ивана с отцом, про свои раздумья после нее. Не знал я, что нужно делать народу, чтобы стать хозяином своей жизни, но понимал, что война еще больше разорит обездоленных людей.
— И почему, — спрашивал я у друзей, — почему офицеры нам говорят, что воевать — это наше счастье? Не хочу такого счастья.
— Так, так, Ваня, — усмехнулся Соколов, — не желаешь, значит, за бога и царя кровь проливать?
— Что они мне дали, чтобы я за них воевал?
— А вот и дали, — с ехидцей заметил сормович. — За это мы их должны благодарить.
— Мели, Емеля, твоя неделя, — ответил я поговоркой.
— Да вот посуди сам. Кто землицей Столыпина вашего наградил, чтоб ты на ней хребет гнул? Царь-батюшка. А кто меня заставлял до седьмого поту работать за кусок хлеба? Опять же он — самодержец наш. Кому спасибо за то, что твой дружок Васька двадцать лет прожил, а в грамоте, как баран, ничего не смыслит? Конечно, царю. Сроду мы, кроме лаптей да опорок, ничего не носили. А теперь, глядишь, в казенные сапоги обулись, в серое суконце оделись. Кому за это низкий поклон? Еще раз— царю. Будет у нас и покой, будет и землица — по три аршина на брата. Тоже от бога, тоже от царя. А ты за них помирать не хочешь, от счастья отказываешься. Эх ты, темнота, черная кость, неблагодарная душа.
Все, конечно, хохотали, но разумели, что за этими шутками кроются серьезные мысли. Соколов к себе располагал особым чувством справедливости и какими-то новыми знаниями. Слушали мы его охотно, хотя многого не понимали. Он нам объяснял, что такое самодержавие и капитализм, рабочий класс и крестьянство. От него мы впервые услышали о революционерах, большевиках.
Эшелон шел медленно, иногда долго стоял на станциях, но наконец мы добрались до фронта и сразу же попали в Саракомыш, обложенный турками. Началась тяжелая окопная жизнь. За три года пришлось участвовать во многих сражениях. Особенно памятны бои за первоклассную по тому времени крепость Эрзерум. Был я и в Карсе, был и на других участках фронта. Немало товарищей полегло, к смерти и крови мы пригляделись вдоволь. Не пощадила и меня вражеская пуля — ранила в руку.
Но где бы ни приходилось бывать, я всюду встречал если не самого Соколова, то таких же людей, как и он. Они всегда знали не только то, что делается на нашем и других фронтах, но и в глубоком тылу. Они доставали газеты, получали особые письма и листовки. И обо всем, что узнавали, старались поведать каждому солдату.
Следует сказать, что характерное для других фронтов было и у нас. Все острее становились протесты против войны, все чаще повторялись случаи дезертирства. Некоторые части отказывались стрелять, ходить в атаку. Как всюду, так и у нас происходило братание солдат. В частях и соединениях появились солдатские комитеты. В бурной горячке предреволюционных дней избрали и меня в полковой комитет, а затем и в дивизионный.
Весть о Февральской революции пришла к нам внезапно, как приходит ледолом, когда речной панцирь долго буреет, вздувается, пучится, а потом вдруг дыбится, взрывается и могучим вешним потоком уносится в небытие Падение самодержавия было встречено у нас ликованием. И не только солдатской массой, но и большинством офицерства. Появились красные флаги, красные банты. Созывались митинги, произносились речи. Но каждый задавал себе вопрос: что же будет дальше? Война до победы или немедленный мир? И снова в вихре событий столкнулись классовые интересы двух противоположных сил.
Месяц за месяцем уходил, а войне все еще не видно было конца. Гневом кипел фронт, тревожные письма получали солдаты из дому. И, несмотря на угрозы офицеров, дезертирство усилилось.
К осени наш полк попал на переформировку. Командовал им в то время подполковник Лабунский. Это был помещик средней руки, незлой и неглупый. Он превосходно знал настроения солдат и в это опасное время пытался играть роль демократа. Бывало, зайдет в казарму и непременно скажет:
— Революция революцией, братцы, а воинскую присягу и долг свой не забывайте!
Это была его любимая фраза. Однажды, беседуя с солдатами о событиях в Питере, Лабунский сказал:
— Всякая власть держится на кончике вашего штыка.
— Это верно, — ответил ему Синицын, о котором, как и о Соколове, говорили, что он «в большевиках ходит». — Дело только в том, куда этот кончик повернуть. Мы вот думаем не о вашей, а о своей, народной власти. Ради нее и стоит штыки держать острыми.
Послышались слова одобрения. А подполковник рассеянно посмотрел вокруг и заспешил к выходу:
— Мои уши сейчас ничего не слышали.
— Напрасно, — бросил вдогонку солдат. — Только народная власть! Иначе и быть не может!
Когда дверь казармы закрылась за подполковником, Синицын спросил у солдат:
— Известно ли вам, что сейчас в Питере творится? Нет? Так слушайте. Рабочие, солдаты и матросы хотят сами взять власть в свои руки. Ими руководит Ленин — вождь большевиков. Он стоит за мир и свободу. Чтобы помещиков и фабрикантов долой, землю отдать крестьянам, заводы — рабочим.
Мы слушали как завороженные. Но сомнение тревожило сердце: удастся ли совершить такой переворот? Ведь Россия огромна, а много ли у Ленина сил? Правда, само слово «большевик» рисовало Владимира Ильича гигантом, могучим и бесстрашным богатырем.
Вскоре из части в часть по всему фронту промчалось новое сообщение: в Петрограде и Москве победила социалистическая революция и покатилась лавиной по всей стране.
Это известие несказанно обрадовало нас: наконец-то наступит долгожданный мир, а трудящиеся получат свободу. По примеру других солдат и я явился к Лабунскому с рапортом об отпуске. Командир полка прекрасно понимал, что отпускники назад на фронт уже не вернутся. Однако ссориться с нами он тоже боялся. Подполковник посмотрел на меня, повертел рапорт в руках, подумали отрубил:
— Ладно, поезжай!
Так в декабре 1917 года я возвращался с фронта. Путь был томительно долгий. Немало времени прошло, пока поезд миновал Тифлис, Баку, Ростов-на-Дону, Харьков. И везде, на всех станциях и полустанках, только и слышно было: революция, Ленин, большевики; земля — крестьянам, заводы — рабочим; свобода, мир.
Но вот и Высокое. Радостная встреча с родными и близкими. Отец смерил меня взглядом с головы до ног, похлопал шершавой ладонью по плечу, словно пробуя мою силу, и сказал:
— Ну как, солдат, отвоевался? Ладный-то какой стал! А постаревшая мать, вглядываясь в мое лицо, добавила: — Морщинки к глазам только зря подпустил. Рановато. — Это, маманя, но беда. Главное, была бы голова цела. Да и где это вы видели, чтобы война человека красила?
— Тут ты прав, — согласился отец, — такого никто еще не видел.
Я слушал и удивлялся. Никогда отец не был таким разговорчивым. Его точно подменили.
Прослышали в деревне, что с фронта вернулся солдат, и повалили к нам гости. Всем хочется знать, какие новости привез, правда ли, что народная власть навсегда пришла. Односельчане наперебой задавали вопросы, а я едва успевал отвечать на них.
События в стране нарастали с неимоверной быстротой. Укрепляя новый революционный строй, партия вела ожесточенную борьбу с внутренними и внешними врагами молодой республики Советов. Медленно, но неуклонно всюду пробивались ростки нового. Во всем ощущалось, что к власти пришел настоящий хозяин — народ. Это новое на каждом шагу встречалось и в нашем Высоком.
Не успел я еще прийти в себя после фронтовой жизни, как по деревне пронеслась весть: через несколько дней в Инсаре должен состояться первый съезд Советов. Вскоре оттуда приехал представитель.
На небольшую площадь, куда деревенские зазывалы с колотушками приглашали людей, шли мал и стар. Никогда еще Высокое не видело такого многолюдного схода.
Инсарский гость поднялся на широкую скамейку:
— Товарищи! Поздравляю вас. Отныне и навсегда рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки.
— Спасибо, — послышалось в ответ.
Стоявший поодаль столыпинский управляющий крикнул:
— Рано благодарить. Цыплят по осени считают.
— Бей его, гада! — прокатилось в толпе. И через миг управляющего точно ветром сдуло.
Когда на площади воцарилась тишина, снова заговорил представитель из города:
— Товарищи! Имя Ленина вам известно?
— А как же, известно, — послышались голоса.
— Так вот Владимир Ильич Ленин делает все, чтобы жизнь народа всячески облегчить.
Представитель говорил о разделе земли и помещичьего имущества, о семенах и снабжении рабочих хлебом, о сплочении трудовых крестьян, особенно бедноты. Затем предложил избрать от деревни делегата на съезд Советов.
— Изберете его и наказ дадите, чтобы все ваши пожелания доложил съезду Вы не против?
Толпа вдруг пришла в движение, и из нее в круг выбрался всеми уважаемый дед Анисим.
— Погодь милый человек, — перебил он оратора, — дай и мне малость сказать.
Дед попросил помочь ему взобраться на скамью. Поддерживаемый чьими-то крепкими руками, стал на нее, осмотрел площадь и впервые за всю свою долгую жизнь заговорил перед таким большим собранием:
— Высоковцы, дошло до ушей ваших, что этот человек сказал? Понимаете ли, какое время наступило? Представитель власти с нами как с людьми разговаривает, спрашивает: согласны ли мы или против его слов? Вот я проработал у Столыпина, считай, годов больше шестидесяти, и никто никогда у меня не спрашивал, что я думаю, против я или нет Скажи я тогда свое слово — зубов бы, ребер не досчитался. Вот и посудите: стоит ли нам беречь и любить Советскую власть али нет. Я кончил.
Под возгласы одобрения и аплодисменты деду Анисиму помогли сойти со скамьи. Он снова оперся о большую сучковатую палку, всем туловищем подался вперед, приложил к уху ладонь, чтобы не пропустить слов инсарского представителя. А тот продолжал прерванную речь.
Он рассказал о задачах уездного съезда Советов а в заключение спросил:
— Ну так какие будут предложения? Кого хотите послать своим делегатом?
Сход зашумел, как встревоженный улей, а потом чей-то голос громко крикнул:
— Пущай едет Иван Болдин.
— Правильно. Считай, парень жизню знает, с турками воевал.
Я не видел говорившего. Почувствовал только, как от волнения к лицу прилила кровь, опустил глаза.
Подождав, пока гул голосов уляжется, представитель заговорил снова:
— А что? Парень он подходящий, с этим делом справится. Иван Болдин и в армии активным был. Как только царя свергли, солдаты избрали его членом комитета.
Откуда, думаю, это известно ему? Видит он меня как будто в первый раз После схода спросил у него об этом На мой вопрос он ответил тоже вопросом:
— Хороши бы мы были большевики, революционеры, если бы не знали своих людей? — Затем добавил — А тебя знаю, потому что служил недалеко, почитай через окоп, — и хитро подмигнул.
Я ехал в Инсар на первый уездный съезд Советов, испытывая чувство огромной гордости и вместе с тем прекрасно понимая, какую серьезную ответственность возложили на меня односельчане.
Съезд начал работу в один из январских дней. Наряду с большевиками и беспартийными товарищами, глубоко преданными Советской власти, в зале заседаний при сутствовали и явные ее враги — представители земской управы и бывшие члены городской думы во главе с махровым черносотенцем священником Синократовым. Съезд проходил бурно, часто разгорались горячие споры. И мне пришлось трижды выступать против эсеров и их единомышленников. Я не был оратором, наверное, в моей речи имелись шероховатости, но то, о чем спорили, было так близко моему сердцу и сердцам всех высоковцев, что я не мог молчать.
Съезд пошел за большевиками. Ни одного требования эсеров не было принято. В конце заседания съезд избрал уездный исполком, в состав которого вошел и я.
В Высокое вернуться уже не пришлось, так как меня избрали заместителем председателя исполкома. Работы было уйма. Из деревень приходили ходоки с жалобами, вопросами, просьбами Советские граждане шли к Советской власти за помощью, видя в ней свою защитницу.
Наш первый исполком испытывал большие трудности, так как в ту пору в уезде, по существу, было двоевластие и начинаниям исполкома противодействовали не желавшие уступать власти земская управа и городская дума. Они стремились любыми способами захватить все дела в свои руки, грозили даже переворотом.
Как-то в исполком заявился «отец города» священник Синократов, зашел ко мне, нагло оглядел комнату, не спросись развалился в кресле.
— Так вот что, правители, — слово «правители» он издевательски подчеркнул, — городская дума и земская управа категорически требуют, чтобы вы передали мне ключи от всех продовольственных и вещевых складов.
— А кто вы такие, чтобы требовать? — спросил я.
Синократов вскочил словно ужаленный:
— Мы единственная и законная власть, нас выбрал народ.
— Какой народ? Миллионер Кильдеев или хозяин лабазов Немцев?
Не ожидая такого отпора, Синократов вначале застыл в оцепенении, а затем повернулся и быстро зашагал к двери, на ходу бросив:
— Мы еще с вами, голодранцами, поговорим.
Через несколько дней он снова явился с тем же требованием. Заручившись поддержкой полковника Кулишевича и проходимца Шумилина, руководивших контрреволюционным подпольем, на этот раз Синократов держался особенно нагло и опять закончил разговор угрозой:
— Ничего, мы еще померяемся силами. Посмотрим, чья возьмет.
Слово это Синократов сдержал. С помощью своих подручных он собрал около полутора тысяч человек, одураченных представителями земской управы, вооружил их и привел к двухэтажному зданию исполкома. Увидев грозную толпу, председатель исполкома Устинов струсил и убежал вместе с несколькими нашими работниками.
В исполкоме осталась небольшая группа верных товарищей. Мне, как заместителю Устинова, пришлось взять на себя всю ответственность. Я прекрасно понимал, что, если мы сейчас отступим, исполком будет разгромлен, а ценности и документы, находящиеся под нашим контролем, попадут в руки врагов.
Ни минуты не задумываясь, я выскочил на крыльцо. Смотрю, от толпы отделились несколько вооруженных, а один из них тащит пулемет. Подошли совсем к зданию исполкома. Парень с пулеметом увидел меня и вдруг кричит:
— Так это ты здесь, Иван Васильевич. А я, дурья моя голова, хотел на тебя пулемет направить Фу ты черт!
— Давай пулемет наверх, — скомандовал я. — И чтобы никто из контрреволюционеров в исполком не проник.
Сопровождавшие парня было заворчали, подняли на меня винтовки, но он быстро успокоил их.
— Да вы нешто не знаете Болдина? — спросил он. — Это же свой, мужик из Высокого. Он и у нас выступал, за народ стоит. А Синократов нам, дуракам, голову заморочил.
И случилось так, что те, кого враги послали против нас, стали нашими защитниками. Толпа у исполкомовского здания быстро редела. План Синократова был сорван.
Однако вскоре поступили сведения, что на нас готовится новое нападение. Пришлось обратиться за помощью в Пензу, в губисполком.
Вскоре в Инсар прибыли сто вооруженных бойцов и три дальнобойных орудия, установленные на железнодорожной платформе. Мы почувствовали себя увереннее. Объявили в городе осадное положение. Написали приказ: «Всем, кто имеет оружие, немедленно сдать его в исполком Укрывательство оружия будет расцениваться как измена народу, и виновные понесут наказание по законам военного времени — расстрел».
Первым приволок два пулемета «максим» и 18 аккуратно уложенных в коробки пулеметных лент эсер Москвитин. Сбор оружия продолжался в течение пяти дней и дал отличные результаты. Тогда же мы разоружили земскую управу и городскую думу, а затем распустили их. Синократов, Кулишевич, Шумилин, Кильдеев, Немцев и другие враги Советской власти были арестованы и отправлены в Пензу. В городе и уезде воцарился порядок.
Весной 1918 года из Москвы по заданию Центрального Комитета партии к нам прибыла группа большевиков в составе товарищей Свентера, Косикова и Андреева. В их задачу входило создание уездной партийной организации. А из Пензы приехал большевик Степанов для оказания нам помощи в организации комитетов бедноты.
Летом того же года я и еще несколько активистов были приняты в члены партии. Так у нас появилась первая коммунистическая ячейка.
На очередном уездном съезде Советов я был избран председателем Инсарского исполкома и вскоре в числе других делегатов от Пензенской губернии направился в Москву на пятый Всероссийский съезд Советов. Выехали мы, конечно, заблаговременно. Чем ближе подъезжали к столице, тем больше волновались.
Делегат Подгорнов, работавший у нас секретарем уездного исполкома, одну за другой крутил махорочные цигарки, и в нашем углу вагона стоял такой густой дым, что мы едва могли разглядеть друг друга.
— Какая она теперь, Москва? Почитай, три года не был в ней, — мечтательно говорил Подгорнов и неожиданно добавил — А ведь мы обязательно Ленина увидим!
— Да, Ленин наверняка будет на съезде, — подтверждали другие…
Был жаркий день 2 июля 1918 года. До начала съезда оставалось два дня. И тут прослышали мы, что в Манеже должен состояться митинг солдат, уезжающих на фронт. Все инсарцы, конечно, помчались туда. Каждому из нас хотелось услышать последние новости, окунуться в гущу тревожных событий.
Около двух тысяч человек заполнили в тот день Манеж. Неожиданно кто-то крикнул:
— Глядите, Ленин!
Все зааплодировали. Вдоль живого коридора к центру зала продвигался мужчина — среднего роста, большеголовый, лобастый. Едва успевая раскланиваться, улыбаясь, он энергично шел вперед, то и дело поднимал вверх руку, приветствуя собравшихся.
Подобно кипучему морю, весело бушевала людская масса, приветствуя вождя. Вот он пробрался к середине Манежа, поднялся на небольшую импровизированную трибуну, заложил левую руку в карман брюк, а правую снова поднял, прося всех успокоиться. Зал утих. И Ленин начал речь, которую отчетливо помню по сей день.
Владимир Ильич говорил, что армия, так же как и средства производства, раньше служила орудием угнетения в руках класса эксплуататоров. Сейчас же и то и другое становится орудием борьбы за интересы трудящихся.
— Мы победим, — воскликнул в заключение Ильич, — если передовые авангарды трудящихся, Красная Армия, будут помнить, что они представляют и защищают интересы всего международного социализма.
И снова неистовые рукоплескания, громкие возгласы «ура!». Митинг окончился, а никто не покидает Манеж. Речь вождя была предельно кратка и лаконична. Но какую величественную картину он нарисовал перед слушателями!
Мы вышли на площадь перед Манежем. Народу здесь собралось очень много. Тут были и счастливцы, которым довелось услышать выступление Ильича, и те, кто желал хотя бы посмотреть на него и от других разузнать, о чем он говорил.
Прошло несколько минут. И вот из Манежа вышел Ильич. Народ снова радостно приветствовал его, а он отвечал все той же ласковой улыбкой, знакомым жестом поднятой руки. Ленин сел в машину, и она стала медленно удаляться по гигантскому живому коридору, а затем скрылась где-то за зданием нынешнего Исторического музея, выходящего на Красную площадь.
В тот день мы допоздна гуляли по Москве, а тема наших разговоров была одна — Ленин. Он окончательно овладел нашими сердцами и мыслями.
Через два дня я впервые переступил порог Большого театра. Так вот он каков, этот огромный, нарядный и необыкновенно величественный театральный зал! Мог ли я, простой крестьянский паренек, когда-то мечтать о том, чтобы сидеть в его мягких бархатных креслах? Смешно даже думать…
В зале оставалось все меньше и меньше свободных мест. Партер, ложи, амфитеатр заполнили свыше тысячи делегатов. Большинство из них большевики. Поодаль от нас сидели левые эсеры. Небольшими группками разместились максималисты, анархисты, социал-демократы-интернационалисты (были и такие), а где-то подальше запрятался один-единственный правый эсер. В ярусах сидели многочисленные гости.
Четыре часа дня. За столом президиума появился Яков Михайлович Свердлов. По его предложению присутствующие почтили вставанием память предательски убитого товарища Володарского. Затем делегаты утвердили повестку дня.
Съезд приступил к работе. Один за другим выходили на трибуну делегаты. Они говорили о Брестском мире, о земле и хлебе, о положении крестьян в стране и о многих других делах. То и дело разгорались горячие споры. Ярыми противниками коммунистов-ленинцев выступали левые эсеры Спиридонова, Кареллии и другие. В бешеной злобе они оскорбляли коммунистов, критиковали Ильича, пророчили гибель стране.
Съезд проходил бурно, напряженно. Понятно, что все мы, делегаты-большевики, с нетерпением ждали выступления Владимира Ильича. Сердцем мы чувствовали, что Ленин наголову разобьет идейных противников, даст генеральный бой демагогам, врагам Коммунистической партии, мешающим строить Советское государство.
И вот желанный час настал. Это было 5 июля вечером. Председательствующий объявил, что слово для доклада о деятельности Совета Народных Комиссаров предоставляется его Председателю Владимиру Ильичу Ленину. Все делегаты-большевики (а нас было около 800 человек) встали со своих мест, горячо приветствуя вождя.
Владимир Ильич энергично взошел на трибуну. Как всегда, поднял руку вверх, внимательным взглядом окинул сидящих в зале, а затем, пройдясь ладонью по голове, начал:
— Товарищи, позвольте мне, несмотря на то что речь предыдущего оратора местами была чрезвычайно возбужденной (Ильич имел в виду выступление Спиридоновой), предложить вам свой доклад от имени Совета Народных Комиссаров в общем порядке, касаясь главных, принципиальных вопросов, и не вдаваться в ту полемику, которой так желал бы предыдущий оратор и от которой я, конечно, полностью отказываться не собираюсь.
В зале послышались одобрительные возгласы, аплодисменты.
— Мы можем сказать, — продолжал Ильич, — что пролетариат и крестьяне, которые не эксплуатируют других и не наживаются на народном голоде, все они стоят, безусловно, за нас и, во всяком случае, против тех неразумных, кто втягивает их в войну и желает разорвать Брестский договор.
В зале шум, слышны истерические выкрики в рядах эсеров. Но чей-то громкий голос произносит: «Ильич говорит верно!» И зал снова рукоплещет, приветствуя вождя.
Ильич громит правых и левых эсеров, на ярких примерах показывает омерзительную роль Милюкова, Керенского, Савенкова. Шаг за шагом он сокрушает своих идейных противников.
— Когда нам здесь говорят о бое против большевиков, о ссоре с большевиками, я отвечу: нет, товарищи, это не ссора, это действительный бесповоротный разрыв, разрыв между теми, которые тяжесть положения переносят, говоря народу правду, но не позволяя опьянить себя выкриками, и теми, кто себя этими выкриками опьяняет и невольно выполняет чужую работу, работу провокаторов.
Владимир Ильич ярко, образно говорит о социализме, о том, какой дорогой к нему нужно идти, что нужно сейчас делать.
— Вот теперь своей рукой рабочие и крестьяне делают социализм, — заявляет Ленин. — Левые эсеры говорят, что наши дороги разошлись. Мы твердо отвечаем им, тем хуже для вас, ибо это значит, что вы ушли от социализма…
Чего греха таить, некоторые из нас, делегатов, приехавших на такой большой и представительный съезд, не все еще понимали, не всегда могли разобраться в происходящих событиях, дать им правильную оценку. Это был результат отсутствия опыта революционной борьбы и недостатка знаний.
В тот же день В. И. Ленин выступил с заключительным словом, в котором снова дал отпор идейным противникам большевизма.
И тогда левые эсеры решили прибегнуть к разбойничьим мерам борьбы с большевиками. Они организовали восстание, и съезд вынужден был прервать свою работу. Все делегаты-большевики приняли участие в подавлении мятежа. А когда он был ликвидирован, съезд продолжил работу.
По сей день я храню как дорогую реликвию делегатский мандат № 574. Поднимая его 10 июля 1918 года вместе с Владимиром Ильичем Лениным, вместе со всеми делегатами, со всем народом, я голосовал за первую Советскую Конституцию — за основной закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Закрывая съезд, Яков Михайлович Свердлов говорил о том, что каждый из нас должен употребить максимум усилий и работать так, чтобы Россия, не бывшая до настоящего времени социалистической, к следующему съезду была социалистической. И тогда, точно гром, по залу прокатился чей-то густой, сильный бас:
— Товарищи, вся русская революция связана с именем товарища Ленина. Да здравствует товарищ Ленин!
Зал рукоплещет вождю, и все наши взоры — горячие, искренние и преданные — обращены к Ильичу. А он стоит смущенный, то и дело поднимая руку, и ласковая улыбка озаряет его лицо.
Мы прощались со столицей, увозя с собой труднопередаваемое чувство гордости и веры в будущее. Помню, когда отъехали от Москвы, Подгорнов спросил меня:
— Ну как, товарищ Болдин, яснее теперь стало?
— Не то слово сказал. Не только яснее. Знаешь, о чем думаю?
— О чем?
— А вот послушай. Жил у нас в деревне парень, Семкой звали. Любил он над слабыми поиздеваться, даже над беззащитными птенцами. Бывало, вытащит из гнезда маленького-маленького воробышка, взберется с ним куда-нибудь повыше — на дерево или на крышу — и сдуру пустит его, думая, что птенец полетит, как настоящая птица. А он, бедняжка, раз-другой взмахнет немощными крылышками— и, точно камень, бац наземь.
Вот таким немощным птенцом был и я, пока не попал в Москву. Теперь, побывав на съезде, крепкие крылья приобрел…
С разговорами незаметно добрались до Инсара. Всего на несколько дней уезжал, а возвратился — и город показался мне каким-то иным. Очевидно, потому, что после Москвы я на все смотрел по-новому, мерил все не только уездными, но и более широкими масштабами.
Прежде всего созвали расширенное заседание исполкома, где я доложил о работе съезда. А на следующий день на городской площади состоялся митинг.
Когда я рассказывал о Ленине, участники митинга выражали любовь к вождю. Когда сообщал о происках врагов, площадь гудела от гневных возгласов по адресу предателей народа. Когда говорил о Конституции, слышались громкие слова одобрения мудрой ленинской политики партии и Советской власти.
Трудно передать, как горячо откликнулся многолюдный. митинг на предложение послать приветствие Владимиру Ильичу. В единогласно принятом письме инсарцы благодарили Ленина за утвержденную съездом Конституцию, клялись зорко оберегать завоевания Октября, трудиться так, чтобы вождь сказал: «Молодцы инсарцы!». Желали дорогому Ильичу долгих лет жизни и крепкого здоровья, выражали надежду, что под его руководством во всем мире победит правое дело пролетариата.
В тот же день я пустился на лошадях по деревням Инсарского уезда, чтобы и крестьянам рассказать о съезде, выступлении Ильича, исторических решениях, принятых в Москве.
Побывал в родном Высоком, Пушкино, Ногаево, Старокорсацком Майдане. Всюду слушали новости с большим интересом, всюду приходилось отвечать на многочисленные вопросы, волновавшие народ.
Через неделю вернулся в Инсар. Встречи и беседы помогли глубже понять процессы, происходившие в ту пору в психологии крестьян, в жизни деревни. Для меня стало совершенно ясно: нужно укреплять авторитет новой власти, находить гибкие методы работы местных Советов, внимательно прислушиваться к голосу бедноты. Этими мыслями я поделился с делегатами на очередном уездном съезде Советов.
Каждые два — три месяца мы проводили съезды. Были они многолюдны, сопровождались бурными спорами. Делегаты горячо обсуждали такие жизненно важные вопросы, как повышение роли сельских Советов, помощь Красной Армии, текущие сельскохозяйственные работы, состояние здравоохранения, развитие школьной сети, ликвидация неграмотности среди взрослых, и многие другие.
Трудностей в работе Писарского уездного Совета было много. Часто к нам обращались с такими просьбами, которые мы еще не могли выполнить. Иногда приходилось работать без отдыха, круглые сутки. И все же каждый из нас был счастлив от одной мысли, что и он вкладывает свою посильную лепту в великое всенародное дело.
Я с благодарностью вспоминаю своих ближайших товарищей, замечательных коммунистов. Никогда не забуду Романова, Чибисова. А особенно запомнился бывший балтийский моряк Сергей Сапунов. Он заведовал уездным финансовым отделом и работал превосходно. В этом ему помогали богатый революционный опыт, глубокое понимание задач новой власти, кристальная честность.
С этим человеком меня связывала большая личная дружба. Жили мы в одной комнате, которую снимали у дорожного техника, ели, как говорится, из одного котелка, вместе разъезжали по деревням, помогая сельским Советам, вели агитационную работу среди населения. Сапунов обладал каким-то особым чутьем, умением мгновенно распознавать людей, смело защитить обиженного, беспощадно расправиться с врагом. К тому же он хорошо знал жизнь и горячо верил в победу дела рабочего класса.
Были мы как-то с ним на станции. Подходил переполненный поезд. Чуть ли не из всех окон вагонов торчали ноги в лаптях. Сапунов усмехнулся:
— Наши едут! Смотри, все, как один, в «лакированных». Много у нас еще дел впереди. Поди-ка смени эту «гусарскую» обувку на человеческую. А менять непременно будем. Помяни мое слово, Иван, пройдет несколько лет, днем с огнем не найдешь этих лаптей, в диковинку они будут, напоказ станут выставлять их в музеях.
Сергей любил вслух помечтать. Часто мы с ним беседовали о том, какой, например, будет жизнь через десяток лет, когда разобьем всю антисоветскую шваль и государство наше крепко станет на ноги.
В январе 1919 года меня выбрали в Пензенский губисполком, назначили первым заместителем председателя и одновременно заведующим финансовым отделом. Я уезжал в Пензу. На станции проводить меня собрались товарищи. Они желали успехов в работе, а Сапунов, стоя у моего вагона, напутствовал:
— Теперь, брат, главное в твоей жизни — уметь считать народную копейку. Как только овладеешь этой наукой, так у тебя сразу дело пойдет.
Я ехал и волновался. Мучила мысль: справлюсь ли с новой ответственной работой. Инсар куда меньше Пензы, а ведь и там не легко было, теперь же ответ придется держать за целую губернию. Как мне будет не хватать Сергея Сапунова!
Шел октябрь 1919 года. Со всех сторон наступал враг. Точно спрут, впивался он своими ядовитыми щупальцами в тело молодой Страны Советов, стремясь задушить ее. В это тревожное время я окончательно решил уйти на фронт. О своем намерении рассказал секретарю Пензенского губкома партии Галанину и председателю губисполкома Фридрихсону.
— Значит, Васильевич, Пенза тебе надоела? — спрашивал Галанин.
— Нет, Пенза мне по душе. Товарищи вы тоже хорошие. Поработав с вами почти десять месяцев, чувствую себя и крепче и опытнее. И все-таки прошу отпустить на фронт.
— Дезертируешь? А ты подумал, кто здесь за гебя будет работать? — кипятился Фридрихсон.
— Ничего, найдете замену. Актива теперь хватает.
— Это верно, хорошего человека найти нетрудно, но ведь ему заново все осваивать придется. А ты вспомни, как сам привыкал. Легка ли финансовая работа?
Долго длился наш разговор. Как я ни убеждал их, губернские руководители оставались при своем. В заключение, чтобы прекратить затянувшийся спор, Галанин категорически заявил:
— Ну вот что, Васильевич, ты это выбрось из головы. Все равно отпустить тебя мы не можем. — Потом, заметив мое огорчение, сменил гнев на милость и добавил: — Ладно, если твердо решил уехать, сообщим об этом Центральному Комитету партии. Как там скажут, так и будет. А пока работай.
Через три дня на телеграмму губкома из ЦК прибыл ответ: «Просьбу Болдина удовлетворить».
Когда перед моим отъездом в Москву за назначением прощались, Галанин не преминул упрекнуть:
— Все-таки, Болдин, по-своему сделал!
— А разве врагов бить не по-вашему? — засмеялся я.
— Ишь ты, куда гнешь! Хитрый мужик! Ну ладно, верю, что и на фронте не оплошаешь. Когда добьете беляков, непременно приезжай к нам.
В это время Фридрихсон вырвал из старого блокнота листок с водяным знаком двуглавого орла, написал адрес губисполкома, подал мне.
— А это зачем? — удивился я. — Мне адрес известен.
— Чтобы помнил нас! Чего доброго, дослужишься до большого чина, своих забудешь. А на листок посмотришь, может, совесть и заговорит, хоть пару слов черкнешь, — ответил председатель губисполкома.
— Вот что, Васильевич, — снова заговорил Галанин. — Губернская партийная организация посылает на фронт двести коммунистов. Тебе от нас последнее поручение: возглавить эту группу и представить ее в Москве…
Наш поезд покидал Пензу поздно вечером. В темных и душных вагонах, где единственным источником света были огоньки махорочных самокруток, слышались громкие разговоры, песни, шутки, кто-то растягивал мехи гармошки. Маленький паровоз, выбиваясь из сил, тяжело пыхтел и с трудом тащил до предела груженные вагоны. Поезд то и дело останавливался — то из-за нехватки топлива, то для заправки водой, то просто у закрытых семафоров.
Только на вторые сутки добрались до Москвы. Это уже был мой второй приезд в столицу, и поэтому я уверенно повел колонну пензенских коммунистов прямо на Арбат. Остановились у большого здания политуправления. Тут нас встретили, пригласили войти в зал и стали вызывать по очереди.
Вызвали и меня. После краткой беседы предложили пойти на партийную работу в дивизию. Я попросил направить на строевую должность. Просьбу мою удовлетворили. Распрощавшись с товарищами, выехал сперва в Рязань, а оттуда в тревожный Петроград. Но и тут задержаться не пришлось. В полку, который только что сформировали, мне поручили командовать ротой. И не успел я ознакомиться с бойцами, как нас направили на Карельский перешеек для борьбы с белофиннами.
Около двух дней добирались мы пешком до Карельского перешейка. Обмундирование у нас было неважное, и многим порядком доставалось от мороза. К тому же не было продуктов, и в пути мы голодали. Но трудности не могли нас остановить. Все прекрасно понимали, что идет народная война за счастливое будущее.
Белофинны имели превосходную экипировку, отличное вооружение, хорошо знали местность, и воевать с ними было нелегко. Бывало, мой заместитель Онуфриев выследит вражеского лыжника, выстрелит в него, промахнется и со злобой скажет:
— Как в него, проклятого, попадешь, когда он между деревьями проворнее белки скачет. Наверное, как выскочит из материнской утробы, сразу на лыжи становится. Такой и пулю обдурит.
— Не пулю, а тебя, — отвечаю я.
— Положим, не один я мажу! — нервничает Онуфриев.
— А он по нашим почему стреляет метко?
— Да у него глаза кошачьи, все видят. Он и с морозом в дружбе, и с ветром запанибрата, Лес для него — дом родной. Каждый кустик ему знаком. Вот если нам лыжи достать, тогда бы и у нас дело веселее пошло, — вздыхая, говорит заместитель.
В этом возразить Онуфриеву трудно. Белофинны прошли солидную военную подготовку и действительно воевали смело и изобретательно. Наше положение куда сложнее. В роту в основном пришли необученные красноармейцы. И все же воевать было нужно. Воевали, учась на ходу, приноравливаясь к повадкам врага.
Вскоре наш полк перевели на другой фронт. Пришлось воевать и с войсками генерала Юденича, и с белополяками. Меня назначили командиром батальона 492-го стрелкового полка, а затем поручили командовать 52-м полком 6-й стрелковой дивизии.
И вот уже отгремела гражданская война. Полк, которым я командовал, в теплушках отправили в Курск. В штабе бригады встретил фронтового приятеля, шутника и балагура Николая Свиридова. Посмотрел он на мой кожаный костюм и такую же фуражку с большой звездой, покосился на сапоги и сокрушенно покачал головой:
— Эх, Ваня, Ваня, бездушный ты человек. Гляди, сколько скотины из-за тебя пришлось загубить. Чтобы сшить на тебя эту одежу, видимо, с доброй пары быков шкуру содрали. — Потом лицо его вдруг стало серьезным: — Ну а чем заниматься теперь решил? На мирные рельсы сворачиваешь?
— Не знаю еще.
— У Гнома был?
— Нет, только собираюсь, да трудно сказать, чем порадует.
— Тем же, чем и меня, — ответил Свиридов. — Поблагодарит за хорошую службу, окинет взглядом с головы до ног, немного подумает, постучит карандашом по столу, а потом изречет: «Пора, Болдин, форму снимать, нужно мирно строить советскую жизнь».
Расставшись со Свиридовым, я направился в кабинет к Гному — так между собой мы называли командира бригады Суркова. Нужно сказать, природа над ним зло пошутила, и на незнакомого он производил противоречивое впечатление. Его маленькая, щупленькая, невзрачная на вид фигурка в военной форме невольно вызывала улыбку. Зато когда Сурков начинал говорить, он вроде бы преображался. И нельзя было не удивляться тому, как в таком хрупком теле таится такой густой и приятный голос. А мы к тому же знали, что этот тщедушный человек имеет огромную внутреннюю силу, неуемную энергию.
В бригаде Сурков пользовался репутацией превосходного командира, чуткого и внимательного товарища, человека большой силы воли. В дни войны мне не раз приходилось наблюдать его в бою. И всегда я поражался его беспримерной храбрости. Он был всегда там, где возникала особая опасность, и проявлял завидное умение увлечь за собой бойцов. Порой казалось, что он владел каким-то одному ему известным секретом гипноза, способностью подчинять своей воле волю красноармейцев. Помню, как-то Сурков с горсткой конников разогнал целый вражеский эскадрон. Когда у него спросили, как это ему удалось, он ответил:
— Суворова забыли? Воевать-то нужно не числом, а умением.
Все знали, что Сурков органически ненавидел всякую писанину. Писарей он называл чернильными душами, дармоедами, геморройщиками, а иногда наделял и более грубыми эпитетами. Вынужденный однако иметь делос бумагами, свое отношение к ним выражал в резолюциях. Мне не раз приходилось видеть, как комбриг делал размашистые нецензурные надписи и при этом приговаривал: — Так крепче будет!
…Явившись теперь к нему, я осторожно приоткрыл дверь. Сурков вскинул глаза и забасил:
— Заходи, заходи, вояка. Тебя-то мне и нужно Ну здравствуй!
Он протянул руку, и она буквально утонула в моей ладони.
— Значит, отвоевался? — спросил командир бригады.
— Товарищ комбриг, силенки еще есть, — ответил я.
— Вот и прекрасно. Воевал ты, Болдин, хорошо. Никаких претензий к тебе нет. За это спасибо.
Я слушал и внутренне усмехался:, разговор шел так, как и предполагал Николай Свиридов. Между тем командир бригады продолжал:
— С войной пока покончили. Пришло время за мирные дела браться. Хозяйство возрождать надо. Пора военную форму снимать. Думаем вернуть тебя туда, откуда взяли.
Обратно в Пензу поедешь. Будешь по-прежнему служить Советской власти.
— А кому ж я сейчас служу? Разве не за Советскую власть воевал? И из армии я уходить не собираюсь. Вот только мысль одна меня беспокоит.
— Какая?
— Знаний маловато. Учиться хочу. На фронте некогда было книгу в руки брать, а теперь самое время. Очень прошу послать меня в военную школу.
— Что тебе сказать? — командир бригады внимательно посмотрел на меня. — Хорошее дело задумал. Доложу о твоей просьбе начальству. А пока продолжай командовать полком.
Я покинул кабинет Суркова и долго мучился неизвестностью. Удовлетворят ли мою просьбу? Ведь многих демобилизуют, так как страна переходит к мирной жизни и значительно сокращает Красную Армию. Каждый раз, встречая Суркова, боялся услышать слова: «Собирайся, брат, в Пензу. Москва отказала».
Стоит ли говорить, как тревожно провел я месяц, пока дождался вызова к комбригу. Идя к нему, сильно волновался, думал: «Неужели все пропало и армейской службе конец?» Даже в кабинет медлил входить, словно желая отдалить неприятный разговор. Наконец зашел. Представился. А комбриг смотрит на меня, улыбается:
— Считай, Болдин, себя счастливчиком! Танцуй, брат, до упаду! — и поднял над головой руку с бумажкой. — Москва разрешила послать тебя на учебу. Едешь в школу «Выстрел»!
Мне тогда казалось, что не было человека счастливее меня. Не отдавая себе отчета, я сгреб маленького Суркова в свои объятия, поднял и крепко расцеловал. Он еле вырвался, вскипел:
— За недостойное обращение со старшим начальником посажу под арест!..
Через два дня сдал полк. Тепло попрощался с боевыми друзьями-красноармейцами, с комиссаром Старорусским, начальником связи Данилиным, моим неразлучным другом и адъютантом Подгорным, командиром батальона Назарьяном, со всеми, с кем делил нелегкую жизнь фронтовика.
— А на гауптвахте отсидел свой срок? — шутливо спрашивал Сурков, подавая мне на прощание руку.
— Товарищ командир бригады, еще не раз отсижу, — отвечал я.
— Это где же, в «Выстреле»? Там сидеть каждый был бы рад. А впрочем, ладно, снимаю с тебя наказание. Только одно условие: учись хорошо. Подведешь — на глаза мои не показывайся!
Я горячо поблагодарил Суркова за помощь, за все хорошее, чему он научил меня. А пензенским товарищам сообщил в письме, что еду на учебу, но обещаю по-прежнему поддерживать с ними связь. И буду всегда помнить родную партийную организацию, давшую мне путевку в большую военную жизнь.
В декабре 1921 года я покинул Курск.
Еще до первой империалистической войны офицерская стрелковая школа пользовалась в армии доброй славой. После революции на базе ее была создана Высшая стрелковая школа РККА, коротко называемая «Выстрел». Она стала превосходной кузницей командных кадров для молодой Красной Армии. Прямо из школы выпускники уходили на фронт, показывая хорошую выучку в боях с врагами Советской власти. Те, кому выпала честь служить в Красной Армии со дня ее основания, прекрасно помнят, какое значение тогда имела школа «Выстрел» и что каждый из молодых командиров считал для себя счастьем попасть в число ее слушателей…
Приехав в столицу, сразу отправился в Новогиреево, где находился «Выстрел». Явился к начальнику школы Н. М. Филатову и был удивлен его поразительным сходством со Львом Николаевичем Толстым, каким я его видел на фотографиях. Тот же рост. Такая же белая борода, закрывавшая грудь. Очень красивые глаза — умные и проницательные, способные с первого взгляда распознать человека. Приятная улыбка озаряла лицо этого почтенного человека.
Н. М. Филатов — замечательный русский патриот. Будучи царским генералом, начальником офицерской стрелковой школы, он горячо приветствовал Октябрьскую революцию и безоговорочно посвятил свою жизнь служению Советской власти, созданию новых кадров для молодой Красной Армии.
— Здравствуйте, милейший, — сказал начальник школы, протягивая мне руку, а затем указал на стул, приглашая сесть. Я подал Филатову предписание. Он внимательно прочитал его и написал резолюцию: «Зачислить на курс командиров полков». — С этим документом, товарищ Болдин, прошу явиться в канцелярию. Поздравляю, отныне вы наш слушатель. Правда, малость опоздали, занятия идут уже несколько дней, придется нагонять. А воевать где приходилось?
Я подробно рассказал, на каких фронтах побывал, смущаясь, признался, что знаний у меня очень мало.
— Это пускай не огорчает вас. Для чего же мы существуем? Главное, было бы желание, а знания — дело наживное. Разрешите пожелать: в добрый путь!
Я вышел из кабинета начальника «Выстрела» в превосходном настроении. С этого дня для меня началась новая жизнь.
В пору, когда я впервые по-настоящему взялся за учебу, мне уже было двадцать девять лет. После фронтовых будней все в школе казалось непривычным, странным: и тихие аудитории, и практические занятия в поле, и часы самостоятельной работы в библиотеке над толстыми учебниками по стрелковому делу, топографии, тактике. Трудно было привыкать к размеренному образу жизни, рассчитанному по часам и минутам. И вместе с тем все было интересно, увлекательно, так как перед нами, вчерашними фронтовиками, открывался доселе неведомый мир знаний.
Большинство преподавателей старой офицерской стрелковой школы, как и ее начальник, добровольно перешли на сторону Советской власти и составили основное педагогическое ядро «Выстрела».
Неизменный интерес вызывали у нас лекции самого Филатова. Это был выдающийся специалист стрелкового дела, автор превосходной книги «Краткие сведения об основаниях стрельбы из винтовок и пулеметов», создатель знаменитой филатовской стрелковой и пулеметной линейки. Этот высокообразованный человек, обладавший замечательным даром речи, сумел привить нам любовь к стрелковому делу.
Большой популярностью пользовались лекции Энвальда по теории стрелкового дела. Отзывчивый, внимательный педагог, он всегда помогал слушателям в учебе, даже в неурочное время. А в такой помощи многие остро нуждались, так как необходимой общей подготовки не имели.
Практическими занятиями по стрельбе руководил крупный военный специалист, автор многочисленных трудов по стрелковому делу Морозов. Он нравился нам и общительностью, и демократичностью, и даже своими странностями. Например, летом на полигоне во время стрельбы Морозов снимал сапоги и оставался босиком. Однажды кто-то из слушателей в шутку заметил ему:
— Товарищ преподаватель, ведь это не по форме.
— Друг вы мой соломенный, если бы солдат на войне делал все по форме, тогда бы он только и ходил навытяжку, как аршин. Я вот снял сапоги и по травке куда быстрее и легче до мишени добегу, — ответил Морозов. — Форма делу должна помогать, а не наоборот.
Вместе с тем Морозов являл пример высокой организованности, строго следил за своим обмундированием и того же требовал от нас. Священным долгом командира он считал заботу о бойце. Этому настойчиво учил и слушателей школы.
Много лет спустя, командуя Калининским военным округом, я часто приглашал в штаб Морозова, уже глубокого, но энергичного старика. Он охотно приезжал к нам, читал командному составу гарнизона лекции, и всегда они проходили с неизменным успехом.
Все мы, выстреловцы, любили, когда к нам приходил побеседовать преподаватель Рыжковский, большой знаток строевого дела. Он часто высказывал любопытные мысли:
— Когда к началу занятий командир идет в свою роту, она уже должна быть построена. Издали он обязан определить, как выглядит строй. Если заметил непорядки, остановись на полпути, расправь на себе гимнастерку, потуже подтяни ремень, покряхти погромче, а глаз с роты не спускай. Постарайся обратить на себя внимание и этим заставь имеющих небрежный вид привести себя в надлежащий порядок. После этого еще немного покряхти, подтяни сапоги, выпрямись и четким шагом иди к роте. Сам являйся примером, тогда последователей у тебя будет много. Такого командира всегда уважают.
Оригинальной личностью среди преподавателей «Выстрела» был специалист по топографии, кстати сказать, последний военный министр в царском правительстве, генерал Шуваев. В дни практических занятий он закатывал тридцатикилометровые походы для производства топографических съемок и шел таким быстрым шагом, что мы, годившиеся ему в сыновья, едва поспевали.
Шуваев был всегда опрятен, сапоги на нем блестели как зеркало. Генерал любил подчеркнуть, что в фуражке у него хранится игла с ниткой, которой он пользуется еще с того времени, когда был главным интендантом русской армии.
Слушателей интересовала судьба Шуваева, она нам казалась романтичной, при каждом удобном случае мы расспрашивали его о жизни до революции, о встречах с царем. Как-то после очередной лекции, когда в перерыве Шуваева окружила группа слушателей, я спросил:
— А вас на Лубянку, в ЧК, никогда не приглашали, ведь вы все-таки были министром?
Шуваев спокойно разгладил свою большую белую бороду и развел руками:
— А за что меня на Лубянку? Феликс Эдмундович Дзержинский знает, кого брать. Я-то чей сын? Солдата-сверхсрочника. А сам я кто? Солдат. Так и запомните— солдат1 Думаете, я службу в царской армии с калачами начинал? Нет, братцы, дудки! Как и вы, пощечины получал от унтер-офицера…
— А самому не приходилось давать? — спросил один из слушателей.
Шуваев побледнел, нервно сжал пальцы рук и в упор посмотрел на того, кто произнес эти обидные слова.
— Молодой человек, наше счастье, что ЧК возглавляет человек большого ума и сердца, безупречно честный, справедливый и прозорливый Феликс Эдмундович. Не дай бог, если бы там был глупец или краснобай, — все получили бы по пуле, а такие, как я, — по две.
Немного успокоившись, Шуваев продолжал:
— Я всегда считал солдата своим братом, стремился понять его душу, потому что сам из одного с ним теста — солдатский сын. И мать свою — крепостную крестьянку — буду помнить и почитать до конца жизни.
Шуваев замолчал и стал нервно подергивать бороду. Все мы тогда чувствовали себя неловко, а я не рад был. что затеял этот разговор. После того случая никто больше не напоминал Шуваеву о его прошлом. С первых дней своего существования Советская власть доверила ему воспитание командиров Красной Армии, и это доверие он оправдал.
С благодарностью вспоминаю сейчас и других преподавателей, таких, как Клюев, Головин. Много они дали нам.
В ту пору страна наша испытывала большие трудности. Естественно, испытывали их и мы. Слушатели «Выстрела» жили в больших и холодных общежитиях, где окна были заколочены досками и фанерой. Спали на твердых топчанах. Часто недоедали.
Я попал в комнату вместе с земляком Максимом Пуркаевым, впоследствии крупным военачальником, генералом армии, героем Великой Отечественной войны. Как и я, он был из малоземельных крестьян, служил в царской армии, воевал и в империалистическую, и в гражданскую войну, в школу приехал тоже как командир полка. С ним мы буквально сроднились и до последнего дня учебы были неразлучны.
Пуркаев — среднего роста, коренаст, улыбчив. Голова покрыта чудесной шапкой светлых волос, за которую он получил в школе прозвище «Блондин». Максим прекрасный товарищ, неутомимый шутник, организатор всяких начинаний — веселых и серьезных.
Вместе с нами жили такие же, как и мы, вчерашние фронтовики командиры батальонов Фомичев, Смирнов, Шутов, Кириченко и еще несколько товарищей. Бывало, если из общежития неожиданно исчезал Пуркаев, кто-либо обращался ко мне:
— Сейчас твой дружок Блондив порадует нас чем-нибудь новеньким.
И действительно, через некоторое время розовощекий Максим появлялся с очередной добычей — досками на топливо или какими-нибудь продуктами. Короче, это был наш неутомимый интендант и добрый товарищ.
Как сейчас помню, однажды сидели мы в общежитии, изрядно озябшие и голодные. Вдруг в комнату вваливается Пуркаев с охапкой дров. Сбросил их возле старой кафельной печки, украшенной фигурками амуров, и обратился к нам с шутливой речью:
— Топливо есть, а теперь прошу поделиться своими богатствами. У кого имеется ее величество картошка, без стеснения бросайте в огонь. Она, матушка, ради нас любые муки готова принять. Эх, ребята, ребята! Вам и невдомек, что ни на одной планете, кроме нашей, нет более прекрасной еды, чем горячая картошка.
Уныния как не бывало. Началась веселая возня. Развели огонь, отыскали с десяток картошек, зарыли в жар, а когда она поспела, стали уплетать. И тогда нам казалось: действительно, прав Пуркаев: ничего нет лучше печеной картошки!
В общежитии иногда можно было услышать слова популярной в те годы мещанской песенки «Карие глазки». Она проникла к нам с легкой руки того же Пуркаева. Обычно мы пели ее, когда в школе случался «праздник»— в паек давали сухую, тощую и невероятно соленую рыбу с глазами навыкат. Ее-то Максим и прозвал «карие глазки».
Мы приносили рыбу в общежитие и отдавали Пуркаеву. А тот бросал в кипящую воду и варил из нее нечто подобное ухе. Вот тут-то, предвкушая наслаждение, мы и пели душераздирающие слова «Карих глазок», с нетерпением ожидая минуты, когда наш «шеф-повар» кончит священнодействовать и нальет каждому в котелок порцию горячей жидкости с разварившейся рыбой. Такая «уха» являлась пределом наших мечтаний.
Осенью 1922 года «Выстрел» переехал в Лефортово. Новый учебный год начали в более просторном и лучше оборудованном помещении. В общежитии каждый из слушателей получил железную койку, постельное белье, одеяло. Всех заново обмундировали. Нам выдали суконные гимнастерки с малиновыми нашивками на груди и левом рукаве, которые, непонятно почему, кто-то назвал «разговорами». Значительно улучшилось в школе и питание.
Жизнь в Лефортове стала куда интереснее прежней. Мы часто совершали экскурсии по Москве, посещали Кремль, встречались с выдающимися деятелями Советского государства. В гости к нам приезжали Эрнст Тельман, Марсель Кашен, Поль Вайян-Кутюрье, Бела Кун и многие другие замечательные деятели международного коммунистического и рабочего движения.
Вспоминая далекие годы, проведенные в «Выстреле», я с благодарностью думаю о той огромной роли, какую школа сыграла в жизни каждого из своих воспитанников. Нас научили по-настоящему ценить силу знаний, привили любовь к наукам, приобщили к культуре, ввели в мир книг. Помню, когда мы уже закончили учебу, Энвальд на прощание сказал:
— Дорогие друзья, если вы полагаете, что мы вас всему научили, то глубоко ошибаетесь. Мы, если можно так выразиться, только показали вам храм науки. Теперь вы сами должны много работать, чтобы стать всесторонне образованными людьми, обязаны больше читать. В книгах ищите и всегда найдете ответ на любой вопрос, который перед вами поставит жизнь.
Сентябрь 1923 года. В клубе «Выстрела» многолюдно, торжественно. Здесь собрались личный состав школы и многочисленные гости — представители трудящихся Москвы. Начинается вечер по случаю очередного выпуска. У нас, «именинников», особенно праздничное настроение. Правда, немного грустно становится при мысли, что скоро предстоит разлука со школой и товарищами.
Вечер открыл начальник «Выстрела» Филатов. После него выступали Энвальд, Рыжковский, некоторые из гостей. Поздравляли нас с окончанием школы, желали успехов в строительстве Вооруженных Сил страны социализма, в личной жизни. От имени выпускников ответное слово держал Пуркаев. Он благодарил учителей за переданные нам знания, обещал, что каждый из выпускников будет с честью носить почетное звание питомца «Выстрела».
Было уже далеко за полночь, а окна клуба все еще светились. Мы слушали выступления самодеятельных артистов, сами пели песни, танцевали, делились думами о будущей службе.
А через два дня прощались с нашими учителями, в последний раз выслушивали их добрые напутственные слова, обещали помнить родной «Выстрел», поддерживать тесную связь друг с другом и со школой, воспитавшей нас, молодых советских командиров.
После «Выстрела» меня направили в Тулу на должность командира 252-го полка 84-й стрелковой дивизии. В городе этом я не бывал, но много слышал о нем и представлял его большим, богатым и каким-то необыкновенным.
Помню, еще ребенком был, мать привезла как-то вкусных пряников, раздала нам, ребятишкам, и торжественно произнесла:
— Тульские!
Когда к нам приходили гости, мать ставила большой медный самовар, на котором стояло клеймо «Тула». В праздник по улицам деревни гурьбой расхаживали парни во главе с удалым гармонистом, веселой музыкой да песнями вызывая на танцы девчат.
— Гляди, как тульская разыгралась, — говорил отец, и мы, дети, стремглав выбегали на улицу, чтобы послушать звонкую гармошку.
Будучи подростком, я частенько бывал у нашего деревенского кузнеца Алексея Феоктистовича, чтобы полюбоваться его работой, а то и помочь ему. Тут постоянно собирались крестьяне и мастеровые, калякали о том о сем, шутили, мерялись силою, рассказывали всякие побасенки и не раз вспоминали про какого-то тульского кузнеца, сумевшего подковать блоху. Признаюсь, тогда я пе понимал, о чем идет речь, и только много лет спустя, занимаясь на «Выстреле», впервые прочитал чудесный лесковский рассказ о тульском умельце Левше.
Попав в царскую армию, как и другие солдаты, получил я тульскую винтовку и поехал с ней воевать на турецкий фронт. Когда в наши окопы стали все чаще и чаще проникать сведения о революционных событиях в России, особенно много говорили о боевых делах питерских, московских и тульских рабочих.
Так постепенно я проникся особым уважением к Туле и тулякам. А получив назначение туда, гордился правом служить в этом городе.
Но вот и Тула. Посередине течет река. О ней не скажешь, что она длинна и широка, обильна водой и рыбой, судоходна и оживленна, как Волга или Днепр. Нет, ей явно не хватает размаха великих рек. Может, поэтому и имя у нее такое неприметное — Упа. Но одно она мастерски сделала: разрезала город на две ровные части, придав ему своеобразную прелесть.
С вокзала я сразу отправился к командиру дивизии Афонскому. Это был беспартийный, но до мозга костей преданный Советской власти человек, участник Октябрьской революции и гражданской войны. Принял он меня приветливо:
— Значит, выстреловец? Чудесно! Это вам повезло, что в такую превосходную школу попали. Знаете, а ведь и мне довелось учиться в «Выстреле», только мало, всего несколько месяцев. Было это в первые дни существования школы, обучали нас тогда ускоренным темпом и сразу же отправляли на фронт.
Афонский еще раз прочитал мое удостоверение об окончании «Выстрела», вслух произнес фамилию Филатова, подписавшего документ, и спросил:
— Кстати, как поживает старик? Все еще бегает?
— С завидным задором! — ответил я.
— Замечательный человек! По призванию я кавалерист. Коня люблю до фанатизма. Когда-то мне казалось, что главное — уметь орудовать клинком да пикой. Понятно, узко мыслил. А вот в «Выстреле» Филатов и другие преподаватели значительно расширили мой кругозор, помогли глубже понять основы военного дела. За это я им очень благодарен. Без знаний, полученных в «Выстреле», трудно было бы сейчас командовать дивизией.
— Следовательно, кавалерию позабыли?
— Ну что вы, товарищ Болдин. Разве можно забыть то хорошее, что сделали наши кавалеристы-буденновцы? Как и в былые годы, коня считаю верным другом. Не скрою, очень горжусь, когда впереди строя еду на своем Орлике. И все же теперь иными глазами смотрю на нашу армию.
Мы еще долго беседовали. Командир дивизии оказался на редкость интересным человеком. Он высказывал любопытные мысли о Красной Армии и ее будущем, говорил, что советские командиры — люди совершенно новой формации, для которых воинская служба не только профессия, а жизненный долг, кровная необходимость, вытекающая из особого характера нашего социалистического государства, окруженного буржуазными странами.
Затем Афонский рассказал, что 252-й полк, которым я должен командовать, пока еще существует только на бумаге. Его нужно сформировать, и как можно скорей. Командир дивизий дал ряд советов, как это лучше сделать, и, прощаясь со мной, пожелал успехов.
Начались напряженные дни формирования полка. Активное содействие в этом нам оказали местные партийные и советские органы. В результате уже через десять дней я смог доложить командиру дивизии, что полк укомплектован и приступает к нормальной боевой учебе.
Полк, состоявший в основном из туляков, быстро мужал и был на хорошем счету в дивизии. Крепкая партийная организация помогала мне во всей работе. Мы поддерживали тесную связь с тульскими предприятиями. Их представители часто бывали у нас, а наши красноармейцы и командиры посещали заводы. Трудящиеся Тулы гордились полком, называли его своим, оказывали ему большую шефскую помощь. Периодически мы сообщали коллективам предприятий, как их посланцы несут службу и овладевают военными знаниями. Такое единение с трудящимися благотворно сказывалось на всей боевой и политической жизни полка.
Московский стрелковый
Нельзя не восхищаться красотой русской природы, щедростью, с какой она награждает человека радостью, облагораживает его. Во все времена года она величаво прекрасна. А в тот сентябрьский день она казалась особенно чудесной.
Прощай, Ясная Поляна!
Прощайте, друзья-однополчане! Я увожу самые теплые воспоминания о совместной службе в нашем полку.
В дороге снова прочитал телеграмму: «30 сентября явитесь Москву получения нового назначения».
И вот уже Москва. С вокзала иду на Кропоткинскую, в штаб Московского военного округа. Думаю о возможном новом назначении. Но разве угадаешь, куда может занести судьба?
Приемная командующего. Адъютант приглашает войти в кабинет.
— Товарищ командующий, прибыл по вашему приказанию, — докладываю я.
— Здравствуйте. Вы назначены командиром и комиссаром отдельного Московского стрелкового полка. Но пока он в зачаточном состоянии, нужно его формировать. Следует подумать, кого из командного состава нашего округа, а также из ваших тульских сослуживцев можно перевести в Московский полк. Это должны быть грамотные, энергичные и культурные люди. А внешне вот такие же, как вы, гренадеры. Знаете, когда решили назначить вас командиром полка, думали даже полк назвать гренадерским.
Минуту подумав, командующий продолжал уже совсем серьезно:
— Вы обязаны твердо усвоить, товарищ Болдин, полк будет столичным, пока единственным в Мо. скве. Следовательно, он должен стать образцовым во всех отношениях. Многие заморские деятели, — на слове «деятели» командующий сделал ударение, — стремятся посетить нашу страну, значит в первую очередь Москву, хотят «пощупать», что за «чудо» эти Советы. Тревожит их и Красная Армия. Следовательно, к вам будут приезжать представители различных государств — кто уже признал нас и кто еще продолжает считать Советскую власть и ее Красную Армию недолговечным экспериментом. Об этом следует помнить. Полк будет у всех на виду. Если хотите знать, он должен стать своеобразным эталоном частей Красной Армии. Не стесняясь, приходите со всеми вопросами. Непременно поддерживайте тесную связь с политуправлением округа. Начальника политуправления знаете?
— Товарищ Булин бывал у нас в Туле, помогал нам.
— И сейчас будет помогать. Учтите: от качества партийно-политической работы зависят успехи полка. А в наше сложное время это особенно важно.
Замоскворечье 1924 года. Чернышевские казармы. Внешне ничем не примечательные дома старинной кирпичной кладки. Помню, в пору учебы на курсах «Выстрел» не раз проходил мимо этих строгих корпусов и не обращал внимания на них. А сейчас здесь я должен формировать новый полк.
Уже несколько дней нахожусь в казармах. Командую. Впрочем, «командую» — громко сказано. Командовать-то пока нечем. Зато организационных дел хоть отбавляй. Плохо, что нет помощника по политической части. Решил пойти к начальнику политуправления Булину. Встретил он меня приветливо, сразу спросил:
— Трудности есть?
— Есть.
— Какие?
— Откровенно говоря, не всегда уверенно хожу.
— Это как же понять? В Чернышевских казармах пол неровный? — улыбнулся Булин, и брови его сомкнулись.
— Помощник нужен, поскорей да получше. Часто нуждаюсь в помощи, в совете. С каждым вопросом ведь не побежишь к вам или к командующему.
Булин, постукивая карандашом по столу, раскрыл папку. Что-то прочитал. Посмотрел на меня:
— Ну что ж, есть для вас крепкий помощник — Славин. Вдумчивый, культурный человек, опыт армейской работы имеет солидный. Думаю, что Славин будет у вас действительно правой рукой — советчиком и помощником во всех делах.
Маленькая комната. В центре простой кухонный стол, покрытый красной скатертью. Он заменяет письменный. У стены несколько табуреток. Над ними старый телефонный аппарат «Эриксон».
Я сидел за столом, просматривая бумаги. И вдруг стук в дверь.
— Войдите.
Легкой уверенной походкой входит среднего роста человек в военной форме. Умные глаза. Высокий лоб. Выразительно очерченный подбородок. Подтянут, опрятен. Движения быстры, энергичны.
— Товарищ Болдин? — обращается он ко мне.
— Да.
— Славин Михаил Львович. Прибыл на должность вашего помощника по политической части.
— Наконец-то, — говорю Славину, вставая и протягивая ему руку. — Признаюсь, заждался, честно говоря, стал побаиваться, не передумало ли начальство насчет вашей кандидатуры.
— Нет, приказ о моем назначении в силе. А задержался потому, что сдавал дела в шестой Орловской дивизии.
Разговорились. Михаил Львович Славин оказался на редкость интересным, содержательным собеседником и с первой же встречи завоевал мои симпатии.
О себе он рассказывал предельно скупо. Коммунист с 1917 года. Вел партийную работу в Киеве. Участвовал в гражданской войне. Работал секретарем первого наркомвоенмора Украины Подвойского. Последняя должность — начальник политотдела дивизии.
Он был совсем молодым. Ему едва минуло двадцать пять лет. Но это уже опытный армейский работник — один из тех, кто все свои силы и способности отдал строительству Красной Армии.
Я часто бываю в казармах, встречаюсь с солдатами. И всегда огромной радостью и гордостью наполняется сердце, когда вижу, какие чудесные условия для жизни, учебы, культурного отдыха созданы нашим молодым воинам.
Труднее было в далекие дни формирования Московского стрелкового полка. Вооружение и экипировка солдат выглядели тогда довольно убого, но это никого не смущало. Велика ль беда, если на ногах у красноармейцев обмотки, а шинель не пригнана по фигуре, если разными одеялами покрыты койки, а тюфяки не совсем удобны для сна. Что поделаешь, если пулеметы и винтовки старых образцов, если среди них попадаются и немецкие, и французские, о которых командиры образно говорят, что они уже «выжили из ума». В то время мы еще не могли позволить себе такой роскоши, как сделать лишний выстрел на учебных или боевых стрельбах. У нас не хватало патронов, и каждый выстрел был на строгом учете.
Но мы знали: пройдет совсем немного времени, и обмотки заменим сапогами, старую шинель — новой. Родина даст нам и оружие, и боеприпасы. Да иначе и быть не могло. Ведь мы создавали армию нового типа — кадровую армию первого в мире социалистического государства.
Формирование шло быстро. Полк рос, мужал, набирался сил.
Батальоны уже были укомплектованы. Костяк их составили рабочие Москвы. Были также крестьяне из Подмосковья и ближайших губерний. В подразделения пришли опытные командиры, политработники. Своими силами мы отремонтировали помещения, построили учебные классы, оборудовали их.
В состав полка входили три батальона из девяти стрелковых и трех пулеметных рот, артиллерийская батарея, кавалерийский взвод, хозяйственная рота, оружейная, столярная, портняжная, сапожная мастерские. Все лучшее, чем располагала к тому времени наша армия, было дано полку. Преобразились и казармы. Целый корпус заняли клуб и библиотека. Одним словом, была создана отличная база для успешного изучения военного дела.
Одно здание мы выделили под квартиры для командного состава. Здесь поселился я, сюда же переехал Славин.
Полк превратился в своеобразный военный городок в центре рабочего Замоскворечья. Старые Чернышевские казармы ожили, точно помолодели.
Зима в том году в Москве была ранняя и суровая. Топлива не хватало, и некоторые предприимчивые москвичи пускали на дрова заборы. На улицах лежали сугробы в человеческий рост высотой. Из-за снежных заносов и сильных морозов часто останавливались трамваи. И тогда из конца в конец города люди пробирались по узким протоптанным дорожкам.
В один из таких декабрьских дней 1924 года мы со Славиным направились к командующему войсками округа докладывать о сформировании полка.
— Ну как дела, особисты? — так он называл нас, имея в виду, что полк наш особый.
— Товарищ командующий, — докладываю я, — полк полностью сформирован. Приступили к плановой работе.
— Что ж, это хорошо. Значит, вас можно поздравить с новорожденным?
Командующий долго беседовал с нами об организации быта и учебы красноармейцев, об изучении уставов и стрелкового дела, об освоении новых образцов оружия, о тактических учениях, топографии и лыжных тренировках.
— Имейте в виду, — заметил он в заключение. — Московский стрелковый должен стать своеобразной экспериментальной базой по испытанию и освоению стрелкового оружия. В некоторых случаях слово специалистов полка будет решающим в выборе того или иного образца. Подбирая вам кадры, мы исходили и из этих соображений…
Полк, действительно, был укомплектован опытными командирами, прошедшими военно-теоретическую и практическую школу, хорошими мастерами-оружейниками, многие из которых настойчиво совершенствовали существующие образцы оружия, а порой создавали новые.
Почти все командиры были участниками гражданской войны, а некоторые служили и в старой армии.
Я пишу о событиях двадцатых годов. Но время не выветрило из памяти воспоминаний о товарищах, с которыми служил. И я не могу не рассказать хотя бы о некоторых из этих замечательных людей.
Единственный раз в жизни мне довелось видеть прославленного чапаевского комиссара Дмитрия Фурманова. Стройный, светловолосый. Лучистые глаза, которые, казалось, сами рассказывают, даже если их хозяин молчит. Своеобразная, чисто фурмановская манера говорить, способная увлечь слушателей.
Алексей Пономарев, когда я его увидел, чем-то напомнил мне чапаевского комиссара. К тому же он оказался его земляком — рабочий-ткач из Иваново-Вознесенска. Участвовал в Октябрьской революции. В 1918 вступил в партию. Колесил по фронтам гражданской войны и, как любил выражаться, «имел несколько пробоин в теле».
Коммунисты полка избрали Пономарева секретарем партийного бюро. И тогда фурмановские черты характера стали особенно ярко в нем проявляться. Та же высокая принципиальность, страстность, душевная красота.
Алексей Пономарев — типичный представитель рабочего класса того времени. Он пришел в полк молодым, но имел уже солидный багаж знаний, опыта, наблюдений. Вся его короткая жизнь была полна тревог. Покоя он никогда не знал. Работал много, всем интересовался, душой болел за всех и все. "
В полку о нем говорили: «Неизвестно, когда секретарь отдыхает. Еще не играли побудки, а он уже в казармах. Давно был отбой, а он бодрствует». Это действительно был человек неиссякаемой работоспособности и энергии. Все делал горячо, любовно, с огоньком.
Следует сказать, что не всегда все проходило гладко, порой возникали недоразумения. Алексей Пономарев в этих случаях умел находить правильный выход.
Как-то, помню, пришел он ко мне возбужденный, раскрасневшийся. И сразу обрушился на одного командира.
— Вот негодный человек, сколько его ни убеждаешь, все без толку. Ему доказываешь: командир и политработник должны уметь друг друга заменять, показывать личный пример в изучении тактики и оружия, быть лучшими стрелками. А он свое толкует: «Мое дело командовать ротой, а не лежать рядом с красноармейцем и стрелять из его винтовки или пулемета».
— Более того, — горячился Пономарев, — договорился до такой чепухи: «Незачем, дескать, тренироваться в дальней стрельбе из нагана, наган — оружие ближнего боя».
Пономарев налил из графина воды в стакан и с жадностью выпил.
— Иван Васильевич, а что, если собрать партийное собрание? Обсудим, как коммунисты изучают стрелковое оружие, поговорим о личном примере командно-политического состава в овладении военными знаниями.
— Считаю такое собрание полезным, — согласился я.
В это время вошел Славин. Он приехал с совещания в политуправлении.
— Нам повезло, — сказал он. — На совещании выступил Мйхаил Васильевич Фрунзе. — Славин вынул из кармана блокнот и начал читать нам по записи некоторые выдержки из выступления наркома — «Что это за командир, который думает только командовать, а стрелять не умеет и не хочет изучать оружие? Что это за командир, который игнорирует партийную организацию и политработников и считает ниже своего достоинства прислушиваться к советам своих товарищей? Если такой командир не хочет исправлять свои ошибки, от него нужно избавляться. И чем скорей, тем лучше».
Славин перевернул несколько листков:
— Дальше Фрунзе сказал: «Командир — единоначальник. Но это не значит, что он не должен считаться с мнением подчиненных. Надо понять, что мы строим новую армию, она охраняет не интересы царя и капиталистов, а нашу землю, наш народ. Требования к ней высокие. Следовательно, такие же высокие требования должны быть и к нашим командирам. Нам нужны грамотные, культурные командиры, отлично владеющие оружием, превосходно знающие военное дело и, безусловно, дружно работающие с партийными организациями и политработниками. Советский командир должен во всем показывать пример подчиненному. Тогда и авторитет у него будет».
Нас с Пономаревым слова М. В. Фрунзе очень обрадовали. Значит, мы правильно считаем, что при всех своих больших правах единоначальник ничего не сможет сделать без помощи и поддержки партийной организации и политаппарата полка.
Вечером в полковом клубе состоялось партийное собрание. Его участники горячо обсуждали вопросы, выдвинутые самой жизнью. Говорили об авангардной роли коммунистов и комсомольцев. Собрание обязало всех членов партии и комсомольцев в совершенстве изучить боевое оружие, активно участвовать в стрелковых и других соревнованиях.
Это решение широко обсудили во всех подразделениях. Началось массовое движение за подготовку отличных стрелков из всех видов оружия, каким располагал полк.
А через некоторое время, рано утром, когда горнист только протрубил подъем, я встретил во дворе полка Алексея Пономарева, секретаря комсомольской организации Панкратова, политруков Белова, Уздина, Степкина, Страшенно, Короткова, нескольких секретарей ротных партийных ячеек. У каждого была винтовка, один нес мишени.
— Куда направились, воины? — обратился я к ним.
— Идем выполнять решение партийного собрания, — ответил Пономарев. — На тренировку.
После собрания коммунисты полка всерьез взялись за изучение стрелкового оружия. Мы проводили десятки различных соревнований. И всегда коммунисты и комсомольцы принимали в них самое активное участие, многие из них зарекомендовали себя отличными стрелками, в том числе и секретарь парторганизации Пономарев.
— Вы знали царского генерала Вельяминова?
— Фамилия знакома. Когда-то читал о генерале Вельяминове, который служил в корпусе Ермолова.
— Это мой прадед.
— Известен мне и другой Вельяминов. Полковник. Его фотографии встречал в журналах среди портретов участников кавказской войны.
— Это дед.
— Если не ошибаюсь, Вельяминов был в Порт-Артуре. Кажется, командовал батареей.
— Именно он и есть. Капитан. Впоследствии дослужился до генерала. Я его сын.
Так произошло наше знакомство с Сергеем Петровичем Вельяминовым в 1923 году в Тульском полку, куда он прибыл на должность моего помощника по строевой части.
С детских лет Сергей Петрович жил в Петербурге, воспитывался в семье, где любовь к военному делу по традиции передавалась от поколения к поколению. В доме отца он встречал славных защитников Порт-Артура, заслушивался их рассказами о героическом прошлом России и ее знаменитых полководцах.
Отец Сергея Петровича был образованным человеком. Писал стихи. Многие из них посвятил выдающимся баталиям и военачальникам, в частности событиям в Порт-Артуре и адмиралу Макарову, с которым его связывала личная дружба. Были у него и стихи, посвященные солдату-труженику.
Уклад жизни в семье сыграл решающую роль в судьбе молодого Вельяминова. Подобно отцу, деду и прадеду, он посвятил себя военной службе. В первую империалистическую войну поручик Сергей Вельяминов служил на Западном фронте. После революции встал на сторону Красной Армии.
Со стороны Вельяминов казался немного суховатым, малообщительным. Порой держался настороженно.
В действительности же Сергей Петрович не был сухарем. Я прекрасно понимал этого человека. Его терзали сомнения: доверяют ли ему в полку, не считают ли чужим, этаким интеллигентиком в худшем смысле слова. Ведь он был у нас единственным, кто принадлежал к прежнему высшему сословию. Как-то, когда мы оказались вдвоем, Вельяминов разоткровенничался:
— Знаете, Иван Васильевич, ужасно опасаюсь, чтобы кто-нибудь не крикнул мне: «Эй, генеральский сынок, буржуйский отпрыск».
— А разве в царской армии все генералы были плохи? Дай боже каждому быть таким, как адмирал Макаров.
— Это верно. Но знаете… — замялся Сергей Петрович.
— Вас, товарищ Вельяминов, ничто не должно волновать. Вы наш, советский человек. Вы наравне с другими громили врагов Советской власти. Прошу вас, выкиньте из головы дурные мысли. Вам абсолютно верят.
После этой беседы настроение Вельяминова стало заметно лучше.
Много хорошего сделал Вельяминов тогда, в Тульском полку. И теперь я искренне обрадовался его переводу в первый Московский.
— Когда начальство предложило перебираться сюда, я так и подумал — дело ваших рук, — заявил он, когда теперь явился ко мне с представлением.
С приходом в первый батальон опытного командира Вельяминова дела там пошли значительно лучше. Через короткое время батальон стал передовым в полку — выделялся превосходной строевой выправкой, высокой организованностью, дисциплиной и культурой. На всех смотрах он получал отличные оценки.
В те годы стрелковое дело было основой основ молодой Красной Армии. Вельяминов превосходно знал его, сам являлся незаурядным стрелком и по праву завоевал в полку славу одного из лучших организаторов боевой учебы. По его предложению у нас был создан специальный стрелковый кабинет. В нем даже экспонировались мишени лучших мастеров меткого огня. У этих мишеней нередко происходили горячие споры.
Вельяминов заботился о постоянном пополнении кабинета новинками стрелкового оружия. Он раздобыл и немецкие образцы — Геко, Вальтер, Эрна. Благодаря заботам Сергея Петровича мы имели по тому времени оригинальный прибор «Альмипа» для обучения бойцов прицеливанию и спуску курка.
В кабинете часто собирались красноармейцы, командиры и политработники. Вельяминов читал им лекции по истории развития стрелкового оружия, культуре стрельбы, учил владеть различными приборами.
С нашими стрелками и специалистами стрелкового дела считались и в наркомате. Помню, раздался однажды телефонный звонок из штаба Красной Армии. Звонил Филатов:
— О ваших оружейниках и стрелках хорошо отзываются. Так вот сегодня в Кускове испытываем пулеметы советских конструкторов Колесникова и Токарева. Обязательно приезжайте. Пригласите лучших техников-оружейников, знатоков стрелкового дела.
В тот же день начальник штаба полка Факторович, комбат Вельяминов, начальник оружейной мастерской Козлов, командиры передовых рот Кобяков, Кученев, Ливанов и я выехали в Кусково.
Вскоре на испытательный полигон прибыли Тухачевский, Буденный, Егоров, начальник артиллерии Шейдемав и Филатов. Еще издали, заметив вашу группу, Тухачевский крикнул:
— Особистам привет!
Затем он подошел, со всеми поздоровался.
Начались испытания. Уже после нескольких отстрелов один из лучших оружейников полка Козлов сказал:
— Сравнивая оба новых пулемета с пулеметами англичанина Льюиса и француза Шоша, могу заметить, что наши изобретатели добились лучших успехов. Как английский, так и французский страдают неточным боем. При автоматической стрельбе у них получается большое рассеивание. У наших же кучность хорошая. Некоторые недоделки не имеют большого значения и легко исправимы.
Вельяминов, Факторович, Кученев и другие специалисты-оружейники также высоко оценили работу Колесникова и Токарева. Они высказали несколько замечаний и дали советы, которыми конструкторы воспользовались при совершенствовании пулеметов.
После этого полковых оружейников и военных специалистов часто приглашали для участия в испытаниях. Наш полк стал экспериментальной базой по опробованию и освоению нового стрелкового оружия.
У него красивые черты лица. Одет во френч с четырьмя большими карманами. Портупея плотно облегает грудь. Вошел тихо, как-то незаметно. Доложил:
— Брусин Александр Алексеевич. Прибыл на должность командира батареи.
— Специальное артиллерийское образование имеете?
— Да. Окончил высшую артиллерийскую школу. Отделение бронепоездов.
Узкая специальность Брусина меня смутила. Я прямо сказал:
— Полк наш стрелковый. Бронепоездов в нем нет. Нам нужен командир батареи. Так что с лошадьми придется дело иметь.
Брусин промолчал. Но что делать? Ведь он не виноват в том, что назначен к нам. Поживем — увидим… Может, сумеет командовать обыкновенной батареей.
— Приступайте к работе, товарищ Брусин, — сказал я, подавая ему на прощание руку. — Будет трудно — заходите, посоветуемся.
Прошло немного времени, и мое мнение о Брусине в Корне изменилось. Командир батареи показал себя превосходным организатором, хорошим знатоком артиллерии, чутким товарищем.
Днем Брусин занимался с красноармейцами, а вечерами помогал командирам изучать материальную часть орудий, теорию артиллерийской стрельбы. Позже он преподавал даже правила ухода за конем, которые сам изучил, уже будучи в полку.
Командир батареи Брусин, его заместитель Анисимов, командиры взводов Муращенко, Спицын, политрук Белов — это те товарищи, благодаря чьим заботам и труду батарея во время стрельб всегда добивалась отличных результатов. Она считалась образцовой, и мы ею гордились. Но кипучая энергия и неуемная инициатива Брусина иногда вызывали ненужное беспокойство. Однажды к нам со Славиным пришел командир второго батальона.
— Что угодно делайте, а молчать не могу. Прямо скажу — завелись у вас любимчики. Среди командиров и красноармейцев идут нездоровые разговоры. Дескать, кто угоден начальству, тот и в глянцевых сапогах ходить будет.
— Что-то не понимаю вас. О чем вы толкуете? — спрашиваю.
— Как о чем? О брусинских щеголях.
— Только вчера был в батарее и ничего особенного не видел.
— Не знаю, как вчера, товарищ командир, но сегодня батарейцы вырядились как на праздник. И это вызывает у других недовольство.
После этого разговора мы со Славиным пошли в батарею и глазам своим не поверили. На всех красноармейцах новенькие сапоги, синие суконные брюки, аккуратные гимнастерки, артиллерийские шинели, клинки. У командиров шпоры.
— Где это вы раздобыли? Насколько мне известно, на полковом складе такого обмундирования нет, — спрашивает Славин.
— Хотите ругайте, хотите наказывайте. Пошел в интендантское управление округа, расплакался. Нет того, нет этого. Все батарейцы — настоящие русские богатыри, в плечах косая сажень. А одеты плохо. Брюки не на каждого подберешь. Шинель чуть ли не до пупа. Один срам в таком виде на людях показываться. Вот интенданты и помогли. Дали сапоги, гимнастерки, шинели, клинки… Только брюк на всех не хватило.
— Ну и как же вы вышли из положения?
— Я, товарищ командир, увидел на складе попоны из синего сукна. Попросил у интендантов. Дали. Привез в полк, в портняжную мастерскую. Договорился, чтобы потихоньку сшили из попон брюки. Хотел сделать сюрприз, а получилось как-то неловко…
Мы, конечно, пожурили Брусина за самовольство, но наказывать не стали. Благодаря его инициативе и отзывчивости интендантов батарея выглядела лучше всех в полку.
Я всегда любил присутствовать на полигоне, когда полковая батарея проводила стрельбы. Меня радовали отличная организованность батарейцев, завидная слаженность при выполнении боевых задач, взаимозаменяемость орудийной прислуги, бережное отношение к боеприпасам.
Однажды во время очередных артиллерийских стрельб я обратил внимание, что батарея как бы «растягивает» огонь. Спрашиваю у Брусина:
— Почему не увеличите темп стрельбы?
— А я, товарищ командир, нарочно его придерживаю. Если дать интенсивный огонь, снарядов не хватит. Сразу все израсходую и не на чем будет учить людей.
Такое рачительное, хозяйское отношение он проявлял ко всему, и это отличало его от многих других командиров.
1925 год. У нас идет подготовка к празднованию седьмой годовщины Красной Армии. Полк должен участвовать в военном параде. Встретил Брусина, спрашиваю:
— Как идут дела в батарее?
— Нормально. Завтра очередные стрельбы.
— Это хорошо. Одно меня беспокоит: скоро парад, а наши лошаденки уж больно плохи. С ними не то что на Красную плошадь, а за водой стыдно выезжать.
— Пусть это вас не беспокоит, товарищ командир. Как-нибудь выкрутимся.
Своей идеей он тут же поделился.
— В Кремле, в военной школе ВЦИК, имеются хорошие артиллерийские лвшади. Надо бы обратиться к командованию школы с просьбой выделить нашему полку на время подготовки и участия в параде необходимое количество лошадей. Наверно, не откажут. А там посмотрим, может, начальство оставит их у нас навсегда.
Я разрешил Брусину официально, от имени командования полка, обратиться в школу. И уже на следующий день, заглянув на конюшню батареи, увидел там коней-красавцев.
В день праздника Московский стрелковый полк впервые участвовал в параде на Красной площади. Помню, как тепло встретили москвичи наше появление. Когда на площадь въехала батарея, раздался гром аплодисментов. Впереди на резвом скакуне гарцевал Брусин. За ним— командиры и красноармейцы батареи. У всех до блеска начищены сапоги, шинели ладно сидят на богатырских фигурах.
С трибуны Мавзолея нас приветствуют руководители партии и правительства. Миновали площадь, поравнялись со Спасскими воротами, и запевала, красноармеец Федор Чернов, затянул, а все подхватили:
С бодрой песней, веселой частушкой возвращались домой, в Замоскворечье, в Чернышевские казармы.
А вечером мне позвонил командующий Московским военным округом:
— Товарищ Фрунзе просил передать благодарность личному составу полка за участие в параде; Хвалил батарею. Она действительно превосходно выглядела.
Затем командующий поздравил нас от своего имени.
Недавно, перебирая свой архив, я неожиданно обнаружил несколько дневников. Вел их в период службы в Московском стрелковом. Среди записей разыскал стихотворение. Дневник помог восстановить в памяти его автора Якова Кочетова и нашу беседу с ним.
Красноармеец Кочетов прибыл к нам из Ярославской губернии, может быть, прослужил в полку с полгода. И вот как-то вечером я застал его в клубе. Он сидел за столом, на котором лежала большая бухгалтерская книга в тяжелом узорчатом переплете.
— Чем занимаетесь?
Кочетов растерялся, но быстро встал и скороговоркой выпалил.
— Учусь, товарищ командир, — и подальше убрал книгу.
— Чему учитесь?
Красноармеец замялся.
— Можно посмотреть книгу?
Кочетову ничего не оставалось, как протянуть ее мне. На титульной странице чернильным карандашом было выведено: «Я. Кочетов. Стихотворения. Начато 6 дня января месяца 1925 года». Каллиграфической четкостью надпись не отличалась. Буквы, точно пьяные, падали в разные стороны.
— Значит, поэт? — спрашиваю.
— Какой там поэт, так, для себя… В деревне как следует учиться не мог, но к стихам тянуло. Бывало, хожу за скотиной, слова в ряд в уме слагаю, а записать не умею. В полку, как грамоте научился, стараюсь побольше своих стихов записать. Обидно, память не все удержала, позабыл многое.
— Это хорошо, что душа у вас к красивому тянется. Почитать можно?
Кочетов, краснея, разрешил, только попросил;
— Вы уж, товарищ командир, пожалуйста, никому не рассказывайте об этой моей слабости. Узнают товарищи— засмеют.
Я стал перелистывать страницы. Читал одно стихотворение за другим. В те минуты я не думал о грамотности автора, его умении владеть словом и правилами стихосложения. Ничего этого у него и не было. Но я безгранично радовался, прямо-таки был счастлив от сознания, что вчерашний безграмотный пастух в нашем Московском полку научился писать и читать. В нынешнее время армейской молодежи, да и не только армейской, трудно понять, какое это было огромное событие в те далекие дни.
Спрашиваю Кочетова:
— А сегодня вы сочиняли?
— Сочинял. О дисциплине.
— Почитайте-ка, — и передаю красноармейцу книгу. Он замялся, но потом преодолел смущение и начал читать:
Последние строки он прочел с пафосом. Куда девалась его робость!..
В те далекие годы большинство красноармейцев не умели ни читать, ни писать. И в полку многое делали, чтобы ликвидировать неграмотность.
Большую помощь в этом благородном деле оказывали нам студенты Московского университета и института имени Плеханова. В полку была штатная учительница, энергичная и веселая, находчивая и остроумная Регина Страшунская.
В конце концов наши труды дали свои плоды. Пришло время, когда в Московском стрелковом была полностью ликвидирована неграмотность.
Не только у красноармейцев — у командиров и политработников тоже была огромная тяга к знаниям. У нас все занимались. Регина Страшунская многим нашим товарищам, и в том числе секретарю партбюро Пономареву, командиру хозяйственной роты Волкову, политруку Уздину, помогла подготовиться к поступлению в военные академии. Да и сам я с благодарностью вспоминаю, как готовила она меня к экзаменам в Академию имени М. В. Фрунзе.
Думая о прошлом нашего красноармейца, я вижу его сына, внука — сегодняшнего солдата. Совсем недавно, в мою бытность заместителем командующего войсками Киевского военного округа, посетил я одну часть. Командир доложил о делах части, а затем с гордостью вручил папку рапортов.
— Товарищ генерал, это солдатские. Все об одном. Просят разрешить заочно учиться в институте.
Когда я вспоминаю славный путь, пройденный родной армией, путь от малограмотного красноармейца Кочетова до сегодняшнего культурного солдата, владеющего самой совершенной техникой и оружием, я думаю о том, как было бы хорошо, если бы наш молодой офицер, а вместе с ним и каждый солдат в совершенстве знал историю развития Советской Армии. Ведь не зная прошлого, немыслимо постичь величие сегодняшнего дня!
Наш клуб! Сегодняшнему молодому офицеру или солдату трудно понять в полной мере, чем был для нас полковой клуб.
Как сейчас, помню его начальника Михаила Ройзена. Он был энергичным, весь в движении. Почти всегда ходил с непокрытой головой. И глядя на его огромный шар вьющихся волос, даже трудно было представить себе, какого же размера нужен ему головной убор.
За время совместной службы я ни разу не слыхал от начальника клуба слова «не могу». Все ему было под силу, все он умел. Его знали на многих заводах и фабриках столицы, в театрах и клубах. Это был неутомимый организатор культурно-массовой и просветительной работы.
Как можно забыть чудесные спектакли на полковой сцене, в которых участвовали наши добровольные артисты, командиры и красноармейцы. Под стать начальнику клуба оказалась и Леночка Логинова, наш штатный организатор художественной самодеятельности. А сколько радости своим талантом доставлял нам лучший артист полка политрук Алексей Груздев.
Наш клуб стал средоточием всей просветительной работы. Здесь происходили встречи с выдающимися деятелями Коммунистической партии и Советского государства, с мужественными борцами международного рабочего движения. В гости к нам приезжали видные деятели науки, литературы, искусства.
Благодаря клубу мы наладили крепкую связь с шефами — коллективами заводов имени Ильича, «Каучук», фабрик «Свобода», «Красная заря», театра имени Мейерхольда и многими другими. Клуб содействовал растущим связям личного состава полка с трудящимися Москвы.
На торжественном собрании артиста Всеволода Эмильевича Мейерхольда избрали почетным красноармейцем. Полковая мастерская сшила ему полную военную форму. И в день первомайского парада на Красной площади в 1925 году рядом со знаменосцами полка шагал красноармеец Мейерхольд.
Он часто бывал у нас, выступал в клубе с лекциями для участников полковой художественной самодеятельности. Многих из них он привлекал к участию в массовых сценах своего театра, и мы ходили смотреть наших артистов на профессиональной сцене.
Большую культурную работу в полку вели также ныне выдающиеся мастера советской сцены, тогда еще совсем молодые артисты Бабанова, Ильинский и многие другие.
Клуб проводил значительную санитарно-просветительную работу. Первым энтузиастом этого дела был полковой врач Дынкин.
Наш клуб! О нем можно писать й писать. Как он помогал армейской молодежи, да и всем нам, кто был постарше, приобщаться к культуре!
Этой встречи я ждал давно. Произошла она в памятный для меня с той поры январский день 1925 года. Тогда в полк впервые приехал Михаил Васильевич Фрунзе. Появился он почти незаметно и направился в одну из казарм. Узнав об этом, мы со Славиным опрометью бросились туда.
Я немного волновался. Думал, понравится ли ему полк? Знай мы заранее о его приезде — могли бы подготовиться. А впрочем, так даже лучше. Пусть оценит нас такими, как мы есть, натуральными, неприпудренными.
Михаил Васильевич встретил нас лукавой улыбкой. Пожал руки.
— Что ж, товарищи, показывайте свои владения, — предложил он. — Командующий округом хвалит полк. Все ему у вас нравится. Боюсь, как бы не перехвалил. Чего доброго, загордитесь…
Переходим из казармы в казарму, из класса в класс, из мастерской в мастерскую. Товарищ Фрунзе всем интересуется. Беседует с красноармейцами, расспрашивает, как живут, учатся, что читают. Ничто не ускользает от его внимательного взгляда.
Осмотрев оружейную мастерскую, он воскликнул:
— Да у вас здесь прямо Тульский завод! Небось и свои Мосины[1] имеются? — А затем добавил: — Правильно делаете. Оружие нам нужно отличного качества. С автоматом Федорова познакомились?
— Знаем его, сами испытывали, — ответил я.
Фрунзе попросил пригласить специалистов, чтобы узнать их мнение об автомате.
В мастерской собрались лучшие командиры, мастера-оружейники. Михаил Васильевич снял шинель, фуражку, повесил на вешалку, причесался, слегка разгладил усы и расположился за большим рабочим столом, на котором лежали различные инструменты и несколько разобранных винтовок. Предложил всем занять места на длинных скамьях. Меня и Славина усадил рядом с собой.
— Как вы считаете, товарищ Болдин, автомат Федорова можно взять на вооружение? — спросил нарком.
— Внешний вид у него приличный, меткость огня неплохая, но автомат имеет много недостатков.
— Интересно знать какие? У вас в полку служит опытный оружейник товарищ Козлов. Он здесь?
Со скамьи поднялся худенький Козлов, расправил гимнастерку.
— А каково ваше мнение об автомате? — обратился к нему Михаил Васильевич.
— Он очень сложен. Уж больно много в нем деталей. Чуть малейшая задержка какая, и, пока разберешься что к чему, много времени нужно. Не то, что наша трехлинейка.
— Значит, считаете, что трехлинейка всему стрелковому делу венец?
— Нет, она не венец, но значительно лучше федоровского автомата, — категорически заявил Козлов.
Михаил Васильевич взял в руки винтовку-трехлинейку, похлопал по магазинной коробке.
— Я не склонен умалять ее достоинства. Спасибо, послужила нам. Если потребуется, и еще послужит. Верим ей и не собираемся сдавать в музей. Но нам нужно думать и о новом оружии для Красной Армии. Ведь она коренным образом отличается от царской и любой зарубежной армий.
Мы слушали наркома с большим вниманием. За каждой его фразой чувствовалась глубокая мысль, забота о процветании Родины, о росте могущества Красной Армии.
— Наша страна должна иметь свою, отечественную технику. Правильно говорю?
— Правильно, товарищ нарком, — послышались голоса.
— Ведь вот как в царской России было? За что, бывало, ни возьмешься, все чужое. Пулемет английский, винтовка французская, станок бельгийский, автомобиль американский, часы швейцарские…
— Царица и та немецкая была, — под общий смех добавил старый оружейник Ремизов.
— Верно говорите, — усмехнулся Фрунзе, но тотчас же перешел на серьезный тон. — Россия покупать оружие могла, ей союзники продавали. А у нас союзников нет, зато врагов более чем достаточно. Америка не признает Советский Союз. Заодно с ней и другие государства норовят снова объявить поход против нас. Нам же нельзя рассчитывать на помощь богатого заморского дядюшки. Только своими силами, своими руками мы должны создавать новую технику, в том числе и отечественное оружие.
Фрунзе задушевно беседует с нами, высказывает интересные мысли, рисует грандиозную картину будущего нашей Родины. Он говорит о том, какой должна стать Красная Армия, чтобы быть способной достойно защитить завоеванное кровью народа. И говорит он о самых жизненно важных и сложных делах предельно просто, доступно.
— Я отнюдь не принадлежу к категории любителей воевать, — обращается к присутствующим Михаил Васильевич. — Более того, я категорически против войны. Но чувство бдительности, настороженности к проискам милитаристов у нас должно расти. Нужно неустанно думать об укреплении Красной Армии, об оснащении ее оружием, которое по своим боевым качествам было бы лучше вражеского. Чего греха таить, всякие керзоны и им подобные рады утопить нас в ложке воды. Почему же мы должны сидеть сложа руки?
Михаил Васильевич отпил из стакана глоток воды и продолжал:
— Я несколько отклонился от обсуждения результатов испытаний автомата Федорова. Но полагаю, что и то, о чем здесь говорилось, имеет прямое отношение к новому автомату.
— Итак, об автомате, — продолжал Фрунзе. — Значит, вы считаете, товарищ Болдин, что его нельзя брать на вооружение?
— Пока нельзя. Детали автомата не прочны. Когда происходили стрельбы, восемнадцать процентов автоматов вышло из строя. Такое оружие в бою подведет. Кроме того, у автомата есть и еще один существенный недостаток: на изучение его требуется много времени.
— Это верно. С ним одна маята. Пока одни части выучишь, другие забудешь, — добавил командир роты Кузнецов. — Много жалоб на этот счет от красноармейцев.
Фрунзе внимательно выслушивал нас, что-то записывал в блокнот. Затем спросил:
— А не строго ли все-таки судим?
— Нет, наша оценка совершенно объективная.
— Вообще-то ваши доводы считаю серьезными. Получим отзывы из других частей, посоветуемся, тогда и решим судьбу автомата.
На этом беседа закончилась. Михаил Васильевич пожелал нам успехов и, окруженный командирами и политработниками, вышел во двор полка. Был полдень. Падал мягкий снежок. Фрунзе шутил, обращаясь то к одному, то к другому из нас. Царила непринужденная атмосфера, не хотелось расставаться с этим обаятельным человеком.
— Что сказать вам, товарищи, на прощание? Полком доволен. Продолжайте в том же духе и не сдавайте темпов. Помните, что служба в столичном полку особенно почетна. Поэтому и требования к вам мы предъявляем более высокие. Поспевайте за нашим замечательным и вместе с тем очень сложным временем. Я бы сказал, обгоняйте его. До свидания!
Три часа пробыл у нас Михаил Васильевич Фрунзе. Но память о нем навсегда осталась в славной истории полка, в благодарных сердцах участников этой замечательной встречи.
Октябрьское поле.
В те годы здесь был лес. В этом чудесном зеленом уголке, еще считавшемся Подмосковьем, разместился наш лагерь.
В октябрьских лагерях, кроме нашего полка, находились и другие части, а также военно-учебные заведения Московского гарнизона.
Вспоминается июнь 1925 года. Лето выдалось жаркое. Каждый из нас был бы рад запрятаться в лесной тени. Но полк жил напряженной жизнью. Шла боевая учеба, проверка знаний, полученных за зиму.
И здесь у нас опять произошла встреча с М. В. Фрунзе. Он прибыл в лагерь вместе с начальником штаба РККА Сергеем Сергеевичем Каменевым. После смотра войск и тактических учений состоялся общелагерный митинг. Встреченный бурными аплодисментами, на трибуну поднялся нарком. Он окинул взглядом огромную площадь и начал речь.
— Факты говорят о том, — сказал Михаил Васильевич, — что в области международных отношений Союзу Советских Республик готовится ряд испытаний. В первую очередь они угрожают нам со стороны английского правительства. Недавние выступления Чемберлена и других членов консервативного кабинета не оставляют сомнений на этот счет…
— Мы должны быть готовы к любым осложнениям, — продолжал Фрунзе. — Красная Армия и Красный Флот должны быть каждуй минуту в состоянии боевой готовности.
Затем Михаил Васильевич подробно рассказал о внутреннем положении страны, о том, как быстро улучшается ее экономика. Говоря об урожае, он упомянул о том, что английское правительство всячески пытается сорвать экспорт нашего хлеба.
— Во всяком случае, нас этим не запугаешь! Мы видели и более тяжелые дни…
Михаил Васильевич окончил свою яркую речь. Но участники митинга долго не отпускают его с трибуны, громом рукоплесканий приветствуя замечательного коммуниста-полководца, стойкого борца за свободу и счастье нашей Родины.
На трибуну поднимается комсомолец Андронов, курсант нашей полковой школы. Но ему долго не дают говорить. Аплодисменты не утихают. Тогда товарищ Фрунзе поднимает руку и просит успокоиться. Когда все затихло, Андронов обращается к присутствующим:
— Товарищи, большинство из нас, красноармейцев, по молодости лет не могли участвовать в борьбе с капита» листами, не могли вместе с нашим любимым наркомом товарищем Фрунзе бить врагов в годы гражданской войны. Но мы знаем серьезность обстановки. И по первому зову Коммунистической партии смело пойдем к новым революционным победам. Те задачи, которые ставит перед нами товарищ Фрунзе, мы выполним. На любой приказ нашего военного командования ответим: «Всегда готовы!»
Когда товарищ Фрунзе сошел с трибуны, его подхватили сотни крепких красноармейских рук и начали качать. Мы попросили наркома на память о пребывании в полку сфотографироваться на фоне нашего полотняного городка, и он согласился.
Провожали мы Михаила Васильевича к машине чуть ли не всем лагерем. Никто тогда не предполагал, что это последняя встреча с ним.
А через несколько месяцев его пламенное сердце перестало биться. Страна провожала в последний путь Михаила Васильевича Фрунзе, выдающегося ленинца, одного из замечательных советских полководцев. В день похорон с ним прощался и личный состав Московского стрелкового полка, строительству которого он отдал так много сил.
В Московский стрелковый зачастили гости. Иногда нас предупреждали об их прибытии, а порой они сваливались как снег на голову. Приезжали к нам и люди с открытым сердцем, и подозрительно настороженные, и настроенные явно враждебно. Последних было большинство.
Одной из первых посетила полк делегация английских профсоюзов. Англичане ходили по всей территории полка и немало удивлялись. На кухне они пробовали красноармейскую пищу, в казармах пристально разглядывали постели, беседовали с красноармейцами. Возглавлявший делегацию Персель спросил:
— Господа, я никак не могу понять, каким образом вы достигли такой высокой дисциплины, не прибегая к муштре, какая была в царской армии? Прямо не верится, что у вас красноармейцев не бьют.
Ответить Перселю вызвался курсант полковой школы Блинов.
— А за что красноармейца бить? Наш командир такой же, как и мы, — из рабочих или из крестьян. Мы с ним служим одному делу. Если он приказывает мне, я знаю: значит, так нужно и ему и мне. Поэтому я безоговорочно выполняю его приказание. Так за что же он будет меня бить?
Персель только руками развел.
Особенно удивились англичане, узнав, что некоторые красноармейцы избраны в состав местных Советов, а кое-кто даже в верховный орган власти — в ЦИК СССР и ВЦИК.
Для делегации мы устроили в клубе завтрак. За столом Персель обратился к Славину:
— Можно ли узнать, господин начальник, у вас и у вашего командира в банке большой счет?
— Никакого капитала у нас нет, — ответил Славин.
Персель изумленно раскрыл глаза и снова спросил:
— А на какие же средства вы живете и так широко принимаете гостей?
— Государство платит нам хорошее жалование. Так что и на жизнь вполне хватает, и для того, чтобы гостей принять.
Покидая полк, Персель по поручению делегации оставил такую запись в книге отзывов: «Довольны посещением Московского стрелкового полка. Направляясь к вам, полагали, что столкнемся с подобием царской армии, но все наши предположения лопнули как мыльный пузырь. Мы увидели образцовую армию».
Через несколько дней в полк прибыла новая группа иностранцев. На сей раз нас посетили французские промышленники во главе с крупным капиталистом «королем шелка» господином Мондоном. Было ему далеко за пятьдесят. Внешне это был типичный буржуа. Одет был претенциозно, держал себя развязно.
Мондон устраивал в казармах настоящие «допросы с пристрастием». Особенно его интересовало, сколько часов в день у нас изучают военное дело. Находчивый красноармеец Бирюков ответил:
— А мы весь день изучаем военное дело.
Лицо Мондона вытянулось, из глаза его выпал монокль и повис на черном шелковом шнурке.
— Так много? Значит, Красная Армия готовится к войне?
— Не к войне, а к защите Страны Советов, — отпарировал красноармеец.
Но «король шелка» не унимался. Он задавал вопросы в том же провокационном духе. Славин знал французский язык и переводил. У меня прямо-таки руки чесались, так и хотелось выставить за порог этого провокатора. Но требования этикета сдерживали негодование.
Французы ходили по ротам. Во всех уголках они тщательно искали «пу» (вошь). То и дело слышно было, как Мондон громко приказывал соотечественникам, бесконечно повторяя: «Пу, пу, пу» (дескать, ищите это страшное насекомое).
Мондон обнаглел настолько, что в поисках злосчастной «пу» бесцеремонно запускал руки за воротники красноармейцам. Но все его старания были безуспешны, и он нервничал. Наблюдая за ним, я понимал: сумей он в ту минуту достать целый вагон «пу», с удовольствием самолично забросал бы ими весь полк, только бы скомпрометировать Советскую власть, Красную Армию.
После осмотра полка Мондону предложили книгу отзывов. Француз косо прицелился в нее моноклем, вынул из бокового кармана паркеровскую ручку и сделал такую запись: «Красная Армия — хорошая армия. Но французская не хуже».
Когда Славин перевел надпись, командир роты Кузнецов спросил:
— А кто же выгнал французов из Одессы?
Мондон смешно заморгал и снова — в который уже раз! — уронил монокль. Затем, приняв театральную позу, промолвил на ломаном русском языке:
— Мы ехаль в Москву по дороге, по которой наступаль наш Наполеон!
Я вежливо спросил:
— Господин Мондон, а вам не приходилось ездить по дороге, по которой Наполеон убегал из России?
Когда Славин перевел мой вопрос, француз покраснел до ушей, его лоснящееся лицо еще больше заблестело, и он пробормотал что-то невнятное.
Много зарубежных делегаций посещало наш полк. Нередко после этого в буржуазной печати появлялись статьи, посвященные Московскому стрелковому. По ним, за границей судили о мощи молодой Красной Армии.
Как велико значение доверия в жизни человека! Оно окрыляет, помогает полнее ощущать пульс жизни, вызывает желание лучше трудиться, доставляет огромное счастье, вселяя гордое сознание, что ты нужен людям. И нет большей награды, чем доверие.
С особой силой испытал я это чувство, когда возвратился в полк после кратковременного отпуска. Первым встретил меня Славин, крепко обнял, поцеловал.
— Поздравляю! Искренне поздравляю, старина!
— С чего это ты, Михаил, сегодня такой нежный?
Какая-нибудь радостная новость?
— А разве ты еще ничего не знаешь?
И Славин рассказал, что во время моего отпуска на состоявшемся съезде Советов Российской Федерации, а за ним и на Всесоюзном съезде Советов меня избрали кандидатом в члены ВЦИК XII созыва и кандидатом в члены ЦИК СССР 111 созыва.
Столь высокое доверие трудящихся ко многому обязывало. Помимо работы в полку ежедневно приходилось заниматься разными делами, связанными с выполнением новых обязанностей. Я бывал на предприятиях, встречался с трудящимися, отвечал на их многочисленные письма, помогал им в различных бытовых делах.
А как интересно было присутствовать на сессии ВЦИК и ЦИК СССР, где решались большие государственные вопросы! После сессий я выступал перед красноармейцами полка, подробно рассказывал о принятых решениях, делился своими впечатлениями.
Мне и раньше приходилось встречаться с Михаилом Ивановичем Калининым на партийных конференциях и заседаниях Моссовета, депутатом которого я был. Нередко видел его и в нашем Замоскворецком районе. А теперь на сессиях познакомился с ним еще ближе. «Всесоюзный староста», как его называли в народе, всегда был доступен, общителен, прост в обращении с людьми. Здороваясь со мной, — он обычно спрашивал:
— Как, товарищ Болдин, у вас в полку? Можем надеяться на наших защитников?
— Безусловно, можете, Михаил Иванович.
— Вот и превосходно. Уверенность нам очень нужна.
М. И. Калинин подробно интересовался жизнью полка, бытом красноармейцев и командиров, успехами в боевой учебе, новинками нашего вооружения. Часто расспрашивал о командирах, которых знал лично. Прощаясь, Михаил Иванович всегда говорил:
— Пожалуйста, передайте мой самый теплый привет нашим защитникам.
Запомнились мне и встречи с первым наркомом просвещения Анатолием Васильевичем Луначарским. Я много раз слушал его речи, доклады, лекции по вопросам просвещения, культуры, литературы, на международные темы и всегда восхищался его поистине энциклопедическими знаниями, умением свободно и просто разговаривать с любой аудиторией.
Познакомиться с Луначарским мне довелось на одном из спектаклей в театре Мейерхольда. В антракте народный артист Всеволод Эмильевич Мейерхольд, почетный красноармеец нашего полка, представил меня Луначарскому:
— Анатолий Васильевич, это мой командир и, если можно так выразиться, отец красноармейцев Московского полка.
— Будем знакомы, — и Луначарский протянул мне руку. — Должен заметить, товарищ Болдин, семья у вас большая и хорошая. Я наблюдал за игрой ваших красноармейцев на сцене. Способные ребята. От души приветствую столь ревностное отношение к театральному искусству, которое проявляют у вас в полку.
Анатолий Васильевич снял пенсне, протер толстые стекла кусочком замши, снова надел и продолжал:
— Что ни говорите, а искусство расширяет кругозор каждого красноармейца, помогает глубже понимать процессы, происходящие в жизни, прививает культуру. А как это важно для успешного воспитания нашей новой армии!
Мейерхольд попросил прощения и удалился на сцену, а мы с Луначарским остались вдвоем. Он подробно расспрашивал о жизни полка и моей службе в нем, а когда я рассказал о себе и сообщил, что до Москвы жил в Туле, Анатолий Васильевич оживился:
— Тула памятна мне, очень памятна.
— Знаю, Анатолий Васильевич. Туляки часто поминали вас добрым словом.
— Благодарю за такое известие.
Луначарский начал рассказывать о том времени, когда быз представителем Реввоенсовета в Тульском укрепленном районе:
— Положение тогда было очень тревожное. На Тулу яростно наступал Деникин, думал захватить ее, а затем взять и Москву. Что говорить, суровое было время, но поистине героическое! Между прочим, превосходная тема для драматургов! А нам как раз нужны пьесы, посвященные тем событиям. Растет молодежь. Необходимо рассказать ей о героях Октября, гражданской войны, о том, как трудовой народ вместе с Владимиром Ильичем Лениным отстаивал Советскую власть. Нужно воспеть Красную Армию.
Луначарский глубоко вздохнул и добавил:
— Мечтаю о таких пьесах!
— А чего бы вам, Анатолий Васильевич, самому не написать? Думаю, что у вас получится хорошая пьеса, а наши полковые артисты поставят ее.
— Дорогой товарищ Болдин. Может, действительно когда-нибудь я и наберусь смелости. Но пока что до этого руки не доходят. У нас непочатый край дел по организации народного просвещения.
В тот вечер в театре Мейерхольда мне. впервые в жизни пришлось так много нового услышать о театре, драматургии, о роли искусства в жизни человека. В этих вопросах я был малоискушенным. А Луначарский говорил так страстно и так интересно и понятно, что буквально увлек меня, заставил иными глазами смотреть на театр.
— Знаете, Анатолий Васильевич, в нашем полку тоже есть такие горячие любители сцены, которые сами пишут небольшие пьесы, сочиняют разные сценки из жизни Красной Армии, а потом сами же разыгрывают их. И получается как будто неплохо.
Я рассказал Луначарскому, как в нашем полку была ликвидирована неграмотность и малограмотность среди красноармейцев, как велика их тяга к знаниям.
Антракт кончился. Последний акт пьесы я уже смотрел рядом с Луначарским. После спектакля пригласил Анатолия Васильевича посетить Московский стрелковый полк, познакомиться с нашей жизнью и учебой, побывать в клубе и посмотреть наших армейских артистов. Луначарский поблагодарил, сказал, что воспользуется приглашением при первой же возможности, а затем добавил:
— Прошу всегда помнить о театре. Поощряйте самодеятельность. Чего доброго, полк ваш даст театру советских Давыдовых и Орленевых.
Вскоре на очередной сессии ЦИК СССР мы встретились с Анатолием Васильевичем Луначарским уже как старые друзья. Сидя рядом в Большом Кремлевском дворце, мы обменивались мнениями по поводу выступления того или иного оратора. Помню, нагнувшись ко мне, Луначарский тихо спросил:
— Иван Васильевич, нет ли у вас лишнего карандашика?
Достав из кармана запасной карандаш и передавая его Луначарскому, я шутя заметил:
— Странно, наркому просвещения нечем писать.
— Бывает, дорогой, бывает. Наверно, потерял где-нибудь карандаш. Ох, уж эта рассеянность! — Луначарский, улыбнувшись, посмотрел на меня поверх пенсне, погрозил пальцем и добавил — Подкузьмили. За это я вас наказываю: карандаш оставляю себе…
Жизнь вносит поправки
Я очень любил Московский полк, гордился им и понимал огромную ответственность за него. Может быть, поэтому через некоторое время стал чувствовать неудовлетворенность своей работой, остро ощущать, что жизнь предъявляет повышенные требования, а знаний, приобретенных на «Выстреле», уже не хватает. Тяжело было сознавать, что с полком придется расставаться, но я уже несколько раз обращался к наркому с просьбой послать меня на учебу. Чаще всего он уклонялся от бесед на эту тему, а однажды, когда, видимо, я изрядно ему надоел, махнул рукой и сказал:
— Ладно, будешь академиком. Через несколько дней получишь приказ.
В ноябре 1925 года я был принят в Академию имени М. В. Фрунзе.
После окончания академии поехал в Воронеж на должность заместителя командира 19-й стрелковой дивизии. А в мае 1930 года меня неожиданно снова вызвали в Москву. На этот раз получил назначение преподавателем в академию.
Никогда не влекла меня педагогическая работа, но отказаться не сумел. Читал тактику, вел групповые занятия, а вечерами сам усиленно занимался, готовясь к лекциям. И все-таки чувствовал, что сижу не в своей колеснице. Я был убежден, что больше пользы принесу на строевой работе.
О моих жалобах стало известно наркому. Он вызвал меня:
— Опять бунтуешь, академик!
— Товарищ нарком, не бунтую, а прошу. Я склонен к строевой работе, меня же упекли в академики! Чем заслужил такую немилость?
— Плохо понимаешь роль преподавателей. А пора бы понять, что не каждому доверяется воспитывать кадры. В свое время сам рвался к учебе, почему же других учить не хочешь?
— Кафедра не по мне, — возражал я.
Я видел, что нарком сердится, но настаивал на своем, пока он не сдался:
— Ну что с тобой поделаешь? Хотели сделать из тебя ученого мужа, а ты свое гнешь. Ладно, пользуйся моей слабостью! Раз в академики не вышел, поезжай формировать новую дивизию.
В начале 1931 года прибыл в Самару с назначением на должность командира и комиссара 53-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа. Явился к командующему округом Б. М. Шапошникову.
— Здравствуйте, голубчик, рад вашему приезду, — ласково встретил меня тот. — Вам, видимо, в Москве сообщили, что дивизию вашу еще нужно сформировать? Так вот учтите, товарищ Болдин, дел уйма: подбор командно-политического состава, строительство казарм и много других организационных вопросов. Словом, голубчик, рукава засучите повыше.
— Такое мне уже знакомо, товарищ командующий.
— Знаю, голубчик. Знаю о вашей службе в Туле и Москве. Но тут дело будет посложнее. К дивизии будем предъявлять повышенные требования, хотим сделать ее опытной. К новому учебному году необходимо построить казармы и здания для общественно-бытовых и культурных нужд. На это государство отпустило достаточно средств. От вас требуется как можно разумнее использовать их. Нужно, чтобы красноармейцы жили и учились в хороших условиях. Вот, пожалуй, и все. Если есть вопросы, прошу.
В тот же день я уехал в Саратов. В пути строил различные планы, как лучше начать формирование дивизии, что в первую очередь нужно сделать, вспоминал двадцатые годы, когда буквально на голом месте пришлось создавать полк в Туле, а позже в Москве.
В Саратове явился к командиру корпуса Туровскому. Получил ряд дополнительных указаний и отправился в Пугачев, где должен был разместиться будущий штаб новой дивизии. Вместе со мной выехала группа командиров, назначенных в штаб.
Запомнилась первая встреча с секретарем Пугачевского уездного комитета партии Гусевым. Внимательно выслушав меня, он поднялся из-за стола, начал ходить по небольшому кабинету и неторопливо говорить приятным низким голосом:
— Название наш город носит гордое — Пугачев! И революционные традиции здесь замечательные. До сих пор все дышит именем Василия Ивановича Чапаева. Жил он в нашем городе, здесь вступал в партию, отсюда со своими орлами уходил на фронт белых бить. И сейчас у нас живет много чапаевцев. В нашем городе все, от мала до велика, любят военных и всегда рады помочь им. Так что, Иван Васильевич, все необходимое для вас сделаем.
Вместе с Гусевым мы составили детальный план первоочередных мероприятий. Выбрали пункты временного расквартирования личного состава, наметили площадки для строительства казарм, обсудили ряд других организационных вопросов. И работа буквально закипела. Пугачевцы активно помогали во всех наших начинаниях.
На командно-политические должности прибыли опытные товарищи, в большинстве коммунисты и комсомольцы. Многие из них — участники гражданской войны, питомцы «Выстрела» и академий Красной Армии.
Все лето полки занимались строительством, а когда оно было закончено и поступило новое вооружение и техника, мы приступили к учебе.
В январе 1934 года в моей жизни произошло новое большое событие: саратовские коммунисты избрали меня делегатом на XVII съезд партии. Помню, с каким огромным вниманием мы, делегаты, слушали Отчетный доклад ЦК Партии, как горячо обсуждали второй пятилетний план развития народного хозяйства страны. Неизгладимое впечатление произвели на нас выступления выдающихся деятелей Советского государства и Коммунистической партии Г. К. Орджоникидзе, С. М. Кирова, П. П. Постышева, Н. С. Хрущева.
В один из дней работы съезда встретился в Кремле с наркомом.
— Здравствуй, бунтарь. Как дела в дивизии? На преподавательскую работу не тянет?
— Что вы, товарищ нарком! Ваши слова принимаю за шутку. Вот самому бы подучиться не мешало. А от преподавания прошу уволить.
— Ну и упорный. Ладно, пойдешь в Академию имени М. В. Фрунзе на особый факультет. Авось нам все-таки удастся сделать из тебя академика..
И вот снова Москва. Снова знакомые аудитории. Среди слушателей встретил давнего приятеля Максима Пуркаева. Как и я, в годы нашей разлуки он служил в войсках, а сейчас вновь решил учиться. Пуркаев выглядел куда солиднее прежнего, и все-таки многое в нем осталось от прежнего озорника. Мы вспоминали «Выстрел», наших преподавателей, холодное общежитие и, понятно, «карие глазки».
Вместе с нами в академии занимались и нынешние Маршалы Советского Союза А. И. Еременко и И. С. Конев.
Два года напряженной учебы промелькнули довольно быстро. Пришла пора применить новые знания на практике. Перед назначением на должность с каждым выпускником подробно беседовал нарком. Когда очередь дошла до меня, он поздравил с окончанием особого факультета и сказал:
— Теперь пора и долг платить. Поедешь опять к Шапошникову командовать дивизией. Кстати, он сейчас в Москве. Повстречайся с ним и подробно обо всем договорись.
В ту пору Б. М. Шапошников командовал Ленинградским военным округом, и служба под его руководством меня прельщала. Я направился к нему на московскую квартиру и прежде всего извинился за то, что беспокою в неслужебное время.
— Ничего, ничего, голубчик, правильно поступили. Нуте-с давайте присядем к столу. Рассказывайте.
Я доложил, что нарком решил направить меня в Ленинградский военный округ.
— Вот и превосходно. Сейчас, товарищ Болдин, у нас есть вакантная должность командира и комиссара 18-й стрелковой дивизии. Штаб ее в Петрозаводске. Туда и поедете…
Такова уж наша судьба: живешь там, где прикажут. Для меня, как и для всех военных, давно стало привычным часто менять адреса. Вот почему с такой легкостью, буквально за пару дней, я собрался и выехал в Ленинград, а затем в Петрозаводск, где вступил в командование 18-й стрелковой дивизией.
К тому времени в жизни Красной Армии произошло большое событие: был принят новый Временный полевой устав, который должен был помочь коренным образом перестроить ее и значительно улучшить качество боевой подготовки. Родина оснастила свои вооруженные силы новой техникой. Все более прочные позиции во всех родах войск занимал теперь мотор. Естественно, что и требования к армии неизмеримо выросли. Ее нужно было по-новому обучать, готовить к преодолению трудностей в условиях современного боя. Решению этой первостепенной задачи и была подчинена вся жизнь нашей дивизии.
Мы работали напряженно, обучая личный состав тому, что требуется на войне. И это вполне понятно, если учесть международную обстановку того времени. Шли тревожные тридцатые годы. Все выше поднимал свою омерзительную голову фашизм. Гитлер мечтал о мировом господстве и создал ось Берлин — Рим — Токио. Фашистская агрессия нарастала. Муссолини напал на Эфиопию. Франко задушил республиканскую Испанию. Мюнхенское предательство расчистило Гитлеру путь, и он захватил Австрию, оккупировал Чехословакию. На Дальнем Востоке бесчинствовала империалистическая Япония.
Тучи сгущались. Фашизм угрожал второй мировой войной. И прежде всего враждебные силы направлялись против Советского Союза. Понятно, что в этих условиях огромная ответственность ложилась на Красную Армию. В любую минуту ей надлежало быть готовой отразить фашистскую агрессию. Страстно защищая мир и безопасность народов, мы зорко следили за происками империалистов и активно готовились к борьбе.
Дивизия росла, мужала, крепла. Тут бы только и работать! Но жизнь вносит поправки…
Мерно постукивали колеса поезда, уносившего меня на юг. В кармане лежало назначение на должность командира и комиссара 17-го стрелкового корпуса.
До тех пор я знал Украину лишь по рассказам друзей да произведениям Гоголя. Она представлялась мне привлекательной, хотелось побывать там, но все как-то не удавалось. И вот теперь это давнее желание осуществилось.
Как-то, еще в годы службы в Московском стрелковом полку, был я со Славиным в Художественном театре. Шла «Пугачевщина» с участием замечательного актера И. М. Москвина. В антракте, прохаживаясь по фойе, Славин легонько коснулся моей руки и шепнул:
— Посмотри-ка направо. Знаешь, кто это? — и показал на великана с большими серебристыми усами и какими-то особенно веселыми и лукавыми глазами. Я обратил внимание, что не только мы, а почти все, кто находились в фойе, смотрели на него с нескрываемым любопытством. А он то и дело здоровался со знакомыми, широко улыбаясь и поглаживая усы.
— Нет, не знаю, — ответил я.
— Смотрел репинских «Запорожцев»?
— Еще бы! В Третьяковке всегда любуюсь этой замечательной картиной. У меня даже копия есть.
— А помнишь усатых персонажей этой картины? Так вот, мужчина, на которого ты сейчас смотришь, и есть один из репинских героев.
— Как это понять? — удивился я.
— Очень просто. Это писатель Гиляровский, все называют его «дядя Гиляй». Он позировал Репину, когда художник писал «Запорожцев».
Рассказ Славина настолько поразил меня, что я уже глаз не спускал с Гиляровского. От этого человека буквально веяло жизнью, здоровьем, удалью запорожцев, вольнолюбивых сынов Украины.
— Да, Ваня, — снова заговорил Славин, — богата наша Украина красивыми людьми. Сама она прекрасна, и люди ее чудесны. Вот попадешь в те края и полюбишь их на всю жизнь…
Стоя у окна вагона в поезде, увозившем меня в тихий украинский город Винницу, вспоминал я и повести Гоголя, и замечательную репинскую картину, и колоритную фигуру улыбающегося в усы запорожца — Гиляровского.
По приезде в Винницу я с головой окунулся в войсковую жизнь. Побывал во всех частях, познакомился с постановкой боевой учебы и политической работы, с бытом и отдыхом красноармейцев. Корпус произвел приятное впечатление. Во всем чувствовалась слаженность, организованность, хорошая подготовка командного состава.
Корпус подчинялся Киевскому Особому военному округу, и мне часто приходилось встречаться с командующим С. К. Тимошенко. Однажды во время окружной партийной конференции он представил меня члену Военного совета, секретарю ЦК Компартии Украины Н. С. Хрущеву.
Никиту Сергеевича интересовало буквально все: как идет боевая и политическая учеба, как организован быт личного состава.
— Ведь, по существу, ваш корпус пограничный, поэтому и требования к нему особые, — сказал он и рекомендовал обратить больше внимания на пропаганду технических знаний, на изучение мотора, овладение новой техникой.
— Ну а с обкомом партии дружите, товарищ Болдин? — вдруг спросил Никита Сергеевич.
Я рассказал, как мы держим связь с Винницким обкомом и облисполкомом, как части корпуса помогают колхозам.
— Это хорошо. И впредь так поступайте, — поддержал товарищ Хрущев. — Всегда надо помнить, что наша сила в тесной связи народа с армией.
Я пригласил Н. С. Хрущева посетить наш корпус. Он поблагодарил и сказал, что будет рад познакомиться с личным составом наших частей.
Однако вскоре после этого мне пришлось покинуть Винницу. Через несколько месяцев меня назначили командующим войсками вновь созданного Калининского военного округа. Округ был небольшой, но, как говорится, у всех на виду. Близость к Москве давала себя знать. Работы у меня было много.
Шел март 1939 года. В составе делегатов Калининской партийной организации я выехал в Москву на XVIII съезд ВКП(б). Съезд проходил в условиях очень сложной международной обстановки. Как никогда до этого, над миром нависла угроза близкой войны. И конечно, ее острие направлялось прежде всего против нашей страны. Это чувствовалось во всем. Поэтому одно из основных требований съезда партии заключалось в том, чтобы всемерно укреплять боевую мощь Красной Армии и Военно-Морского Флота. Нечего и говорить, что после этого вся жизнь войск нашего округа, как и всей Советской Армии, была подчинена одному — успешному выполнению решений XVIII съезда партии об укреплении обороноспособности страны.
Однажды утром, когда я вернулся после трехдневного пребывания в частях и собирался немного отдохнуть, раздался телефонный звонок из Москвы. У провода был нарком. Он предложил немедленно прибыть к нему. В десять часов я уже был в его кабинете. Здесь находились командующие некоторыми другими округами, в частности Киевским — С. К. Тимошенко, Ленинградским — К. А. Мерецков, Белорусским — М. П. Ковалев.
Нам сообщили, что в условиях, когда Германия начала военные действия против Польши, мы не имеем права сидеть сложа руки.
Красная Армия должна предпринять действия для защиты населения Западной Белоруссии и Западной Украины от гитлеровского нашествия. Освободительный поход осуществят два фронта — Белорусский под командованием командарма 2 ранга М. П. Ковалева и Украинский под командованием, командарма 1 ранга С. К. Тимошенко.
Я был назначен командующим конно-механизированной подвижной группой, подчиненной Белорусскому фронту. В состав группы вошли два кавалерийских, один танковый, один стрелковый корпуса и отдельная танковая бригада.
По приказу Советского правительства 17 сентября в 5 часов 40 минут войска Красной Армии на широком фронте перешли бывшую советско-польскую границу, чтобы протянуть руку помощи братьям белорусам и украинцам, томившимся в панской неволе. Так начался Освободительный поход.
Наша конно-механизированная группа, взаимодействуя с другими соединениями Белорусского фронта, освободила сотни населенных пунктов, в том числе города Новогрудок, Слоним, Волковыск, Гродно, Белосток, Барановичи.
Вскоре после Освободительного похода в Западную Белоруссию меня опять вызвали в Москву, к наркому. Когда я явился, он начал разговор издалека:
— Так вот, товарищ Болдин, Балтика бурлит под угрозой фашистского нашествия. А мы крайне заинтересован ны в том, чтобы в этом районе было спокойно, и не можем разрешить фашистам командовать на Балтийском побережье. Если будем сидеть сложа руки, чего доброго, Гитлер захватит Латвию, Эстонию, Литву и вздумает диктовать нам свои условия. Чтобы предотвратить это, нужны некоторые профилактические меры.
Наше правительство решило направить в Латвию военную миссию. Между нами и этой страной необходимо установить более тесные контакты, особенно по военной линии. Главой миссии назначаем тебя.
Выслушав указания наркома, я сказал, что задача ясна, но не уверен, смогу ли с ней справиться, так как дипломат из меня получится плохой. А он посмотрел на меня в упор и произнес раздельно и веско:
— Каждый командир должен уметь быть и дипломатом. — Затем, немного подумав, добавил: — Поедешь не один. Вместе с тобой посылаем превосходного знатока военно-морского дела Ивана Степановича Исакова. Это крепкий человек, хорошо осведомленный, образованный и культурный. Его не проведут. Будут с вами и несколько консультантов-советников. Как видишь, миссия представительная. Верю, что справитесь с порученным делом. Обязаны справиться! Так что, брат, готовься, придется фрак надеть…
Моросили сентябрьские дожди. В Европе уже полыхала вторая мировая война. И над нашей Родиной сгущались военные тучи. События развивались с неумолимой быстротой. Гитлеровская Германия, несмотря на договор о ненападении, готовила войну против Советского Союза. В это тревожное время наша миссия и собиралась к выезду в Латвию.
Мне было многое известно об этой стране, ее прекрасном и трудолюбивом народе, выдвинувшем из своей среды выдающихся борцов за лучшие человеческие идеалы. Я помнил, какой вклад внес латышский пролетариат в Октябрьскую революцию, и не забыл пророческих слов В. И. Ленина, сказанных на собрании 9-го Латышского стрелкового полка, о том, что и в Латвии непременно будет Советская власть! В годы гражданской войны мы не раз восхищались подвигами красных латышских стрелков, слава о которых неслась по всем фронтам. На V Всероссийском съезде Советов собственными глазами видел, как латышские стрелки любовно охраняли Владимира Ильича Ленина.
Вместе с тем нам известны были и имена предателей латышского народа, которые при поддержке интервентов и белогвардейцев задушили молодую Советскую Латвию, возродили в стране прежние капиталистические порядки и ввергли трудящихся в еще большую кабалу.
Замечательный латышский поэт и политический деятель Л. Поэгле, отдавший свою жизнь за утверждение Советской власти на родной земле, в стихотворении «Демократия» жестоко высмеял «свободные» порядки в буржуазной Латвии:
Известны были и имена генералов буржуазной Латвии— Гоппера, Бангерского, Айре и других активных участников борьбы против революционной России.
В ту пору когда мы собрались ехать в Ригу, главой Латвии был Ульманис. Министром иностранных дел являлся такой же рьяный фашист Мунтерс, а пост военного министра занимал небезызвестный Балодис. О нем следует сказать несколько подробнее.
В буржуазной Латвии и ее армии были свои «национальные» герои. Правительство Ульманиса окружило их особыми заботами, оказывало им различные почести. За что? За то, что с оружием в руках они выступали против молодой Страны Советов, принимали активное участие в ликвидации Советской власти в Латвии. Во главе этих «героев» стоял военный министр Балодис — их идейный вождь и вдохновитель. С ним-то нашей миссии и предстояло вести основные переговоры.
С началом второй мировой войны в Латвии еще выше подняли головы буржуазные националисты, активную деятельность развили различные фашистские группировки и белогвардейские организации наподобие «Общерусского воинского союза» и «Братства русской правды». Нет надобности говорить о том, что все они душой и телом были преданы и запроданы Гитлеру, мечтали о совместном походе на Советский Союз, о реставрации дореволюционной России.
Фашистская Германия прилагала все силы, чтобы захватить ключевые позиции на Балтике, оккупировать Латвию, Эстонию, Литву. Ульманис и его правительство были послушными марионетками в руках Гитлера. Их участие в различных антисоветских заговорах принимало открытый характер. Народам Прибалтики грозила гитлеровская оккупация.
Следует сказать, что к прибалтийским государствам проявляли повышенный интерес и англо-американские империалисты. В сентябре 1939 года военно-морской штаб Англии по указанию У. Черчилля, являвшегося тогда лордом адмиралтейства, разработал план вторжения в Балтийское море через Датский пролив, так называемый «План Катарина».
Впоследствии в мемуарах «Вторая мировая война» Черчилль писал: «Британский флот в качестве хозяина Балтики мог бы протянуть руку по направлению к России таким образом, чтобы действительно влиять на политику и стратегию Советов».
Естественно, что в этих условиях перед нашей страной возникла большая и серьезная задача — обезопасить свои границы. А поскольку агрессивные замыслы врагов мира угрожали и национальной свободе народов Прибалтики, Советский Союз предложил правительствам прибалтийских государств заключить пакты о ненападении и взаимопомощи. Это предложение получило единодушную поддержку трудящихся Латвии, Эстонии и Литвы.
5 октября 1939 года правительство Ульманиса, не рискуя пренебречь требованиями своего народа, вынуждено было подписать с Советским Союзом такой договор. Аналогичные соглашения были заключены и с правительствами Эстонии и Литвы.
В договоре с Латвией было сказано, что в случае нападения на нее какой-либо страны латышский народ немедленно получит нашу помощь. Договор разрешал Советскому Союзу разместить свои войска на территории Латвии, в городах Лиепая и Вентспилс. Кроме того, Советскому Союзу предоставлялось право создать базу береговой артиллерии между Вентспилсом и Питрагсом, а также несколько аэродромов.
Мы ехали в Латвию с одной целью — добиться полного осуществления заключенного договора и ускорить ввод наших войск с тем, чтобы защитить свои границы и интересы Латышского народа.
Наш небольшой поезд из четырех классных вагонов приближался к Риге. Кроме нас с нынешним адмиралом флота И. С. Исаковым в состав миссии входили начальник бронетанкового и автомобильного управления Наркомата обороны комкор Павлов, представитель военно-воздушных сил комдив Алексеев и еще несколько советников. Вместе с нами ехал также военный атташе при посольстве Латвии в Москве.
Многие рижане, узнав из газет о предстоящем приезде советской миссии, пришли на вокзал встречать нас. Когда поезд подошел к перрону, в наш вагон вошли официальные представители латвийского правительства министры Мунтерс и Балодис в сопровождении группы военных. Мы представились друг другу. Странно было слышать, когда к кому-либо из нас обращались «ваше превосходительство» или «господин». Да и нам было непривычно произносить эти слова, давно исключенные из лексикона советских людей.
Население Латвии проявило огромный интерес к советской военной миссии. Да это и понятно, ибо оно прекрасно понимало, что только Советский Союз может оградить страну от гитлеровской оккупации. В то время в Латвии большой размах приняло народное движение против буржуазного строя. Никакая антисоветская клевета не способна была затмить правду о нашей стране, которая все больше и больше вызывала симпатии у трудящихся масс.
В день нашего приезда военный министр Балодис устроил прием в честь советской военной миссии. В офицерский клуб прибыли министры, высшие государственные и военные чины. Как и положено на дипломатических приемах, поднимались тосты, произносились речи. Но за этой внешне торжественной обстановкой, за велеречивостью псевдогостеприимных хозяев скрывалась их ненависть к Советскому Союзу. Сидя в большом и нарядном зале, слушая елейные речи министров, я думал о том, что, в сущности, мы находимся в окружении врагов. Многие из них яростно воевали против советского строя и сейчас готовы задушить его. Но теперь настали иные времена, игнорировать мощь Советского Союза и его армии уже не в их силах.
На следующий день в помещении советского посольства наша миссия устроила ответный прием. И снова мы встретились с теми, кого видели в офицерском клубе. Помню, Балодис, превосходно говоривший по-русски, все время хвастался, что он, как никто другой, знает Россию, ибо, будучи в царской армии, вместе с солдатами изъездил ее в теплушке вдоль и поперек. А потом подвыпивший министр до того обнаглел, что начал хвастливо называть «своими» даже латышских стрелков, которые вместе с нашим народом защищали Октябрьскую революцию, вспоминал, как они охраняли Ленина, чуть ли не личным другом своим называл замечательного сына латышского народа, видного деятеля Советского государства Вацетиса.
— Да, все, что вы говорите, господин министр, интересно. Но скажите, пожалуйста, какое вы имеете ко всему этому отношение? — спрашиваю Балодиса.
Он краснеет, покашливает, молчит.
— Ведь об истинных друзьях Советского Союза среди латышей, — обращается к Балодису Иван Семенович Исаков, — мы прекрасно осведомлены, разрешите заметить, даже больше, чем вы. В них мы верим.
— Ав нас? — спрашивает военный министр.
— И вас мы знаем. Думаю, что не вы трезво учитываете истинные чаяния латышского народа, что не вы наш единомышленник, — говорю я.
В минуты откровенного разговора порой приходилось отходить от требований дипломатического этикета. Но что поделаешь, ведь мы отлично понимали, что беседуем с идейным и закоренелым врагом, не скрывавшим своего злобного отношения к Советскому Союзу. Поэтому вынуждены были дать наглецу достойный отпор.
…В период нашего пребывания в Риге активную деятельность развило германское посольство. По приказанию Гитлера оно в спешном порядке эвакуировало из Латвии немцев и их имущество.
В то же время огромную работу развернули латышские коммунисты и различные общественные прогрессивные организации. Трудящиеся Латвии, как и всей Прибалтики, в сложившейся обстановке видели один выход — как можно быстрее свергнуть ненавистное правительство Ульманиса. Страну лихорадило. По всему чувствовалось, что она находится накануне событий огромного значения.
Около двух недель наша миссия провела в Латвии. Мы посещали различные города и районы, встречались с рабочими предприятий и морских портов, с представителями передовой интеллигенции и крестьянами. Они поддерживали нашу миссию, чем могли, помогали ей, выражали горячие симпатии Советскому Союзу и желание жить в тесной дружбе с таким могучим соседом.
Детально знакомясь с районами будущего расположения наших войск, мы то и дело сталкивались с Балодисом и его офицерами. Балодис продолжал упорствовать, всячески стремясь сорвать выполнение договора. Пришлось действовать более решительно. Мы потребовали от правительства Ульманиса, чтобы оно строго выполняло свои обязательства.
Это подействовало. Через несколько дней наши войска были введены в намеченные советско-латвийским договором пункты.
Так закончилась моя первая дипломатическая миссия.
После поездки в Латвию мне уже не довелось возвратиться в Калинин. Я был назначен командующим войсками Одесского военного округа, а в сентябре 1940 года переведен в Западный Особый военный округ на должность первого заместителя командующего войсками.
Так началась война
В тот субботний вечер на сцене минского Дома офицеров шла комедия «Свадьба в Малиновке». Мы искренне смеялись. Веселил находчивый артиллерист Яшка, иронические улыбки вызывал Попандопуло. Музыка разливалась по всему залу и создавала праздничную атмосферу.
Неожиданно в нашей ложе показался начальник разведотдела штаба Западного Особого военного округа полковник С. В. Блохин. Наклонившись к командующему генералу армии Д. Г. Павлову, он что-то тихо прошептал.
— Этого не может быть, — послышалось в ответ.
Начальник разведотдела удалился.
— Чепуха какая-то, — вполголоса обратился ко мне Павлов. — Разведка сообщает, что на границе очень тревожно. Немецкие войска якобы приведены в полную боевую готовность и даже начали обстрел отдельных участков нашей границы.
Затем Павлов слегка коснулся моей руки и, приложив палец к губам, показал на сцену, где изображались события гражданской войны. В те минуты они, как и само слово «война», казались далеким прошлым.
Никто из сидящих в зале, а тем более люди невоенные, даже предполагать не мог, что буквально рядом начинается поистине чудовищная война, которая повлечет за собой огромные жертвы и разрушения, тяжкие страдания и уничтожение бесценных культурных и научных богатств, созданных человеческим гением.
Я смотрел на сцену, но ничего не видел. Мозг будоражили страшные мысли. Неужели начинается война? Неужели все эти нарядно одетые женщины и мужчины, так заразительно смеющиеся, безмятежно отдыхающие в этом прекрасном зале, совсем скоро должны будут на себе испытать ее ужасы?
Невольно вспомнил события последних дней, которые произошли на белорусской земле. 20 июня 1941 года наша разведка донесла, что в 17 часов 41 минуту шесть германских самолетов нарушили советскую государственную границу. Ровно через две минуты появилась вторая группа немецких самолетов. К ним подвешены бомбы. С этим грузом они углубились на нашу территорию на несколько километров.
Командующий 3-й армией генерал-лейтенант В. И. Кузнецов сообщил из Гродно: вдоль границы, у дороги Августов — Сейни, еще днем были проволочные заграждения. К вечеру немцы сняли их. В лесу в этом районе отчетливо слышен шум многочисленных моторов.
Далее, разведка установила: к 21 июня немецкие войска сосредоточились на восточнопрусском, млавском, варшавском и демблинском направлениях. Основная часть германских войск находится в тридцатикилометровой пограничной полосе. В районе Ольшанка (южнее Сувалки) установлена тяжелая и зенитная артиллерия. Там же сосредоточены тяжелые и средние танки. Обнаружено много самолетов.
Отмечено, что немцы ведут окопные работы на берегу Западного Буга. В Бяля-Подляска прибыло сорок эшелонов с переправочными средствами — понтонными парками и разборными мостами, с огромным количеством боеприпасов.
Пожалуй, можно считать, что основная часть немецких войск против Западного Особого военного округа заняла исходное положение для вторжения…
А спектакль продолжается. В зале по-прежнему царит атмосфера покоя. Кажется, никто и ничто не в силах ее нарушить.
После спектакля приехал домой. Сообщение разведотдела не выходит из головы. Неужели советско-германский договор о ненападении Гитлер разорвал, а то, о чем донесла разведка накануне, только начало? Да, видимо, так и есть. Одна мысль теснит другую, и покоя уже нет.
Мое одиночество в уютном кабинете нарушила жена: — Ваня, время позднее, пора спать.
— Знаешь, Галина, такая интересная книга, что и сон отступил. Почитаю немного и лягу.
Говорю спокойно, стараясь не выдать своего волнения. Жена — мой верный друг. Никогда не лгал ей, а тут сказал неправду. Постарался поскорее выпроводить жену из кабинета.
Звоню в штаб оперативному дежурному. Спрашиваю:
— Какие новости?
Он отвечает:
— Пока никаких.
В кабинете душно. Настежь открыл окна. Струя свежего воздуха овеяла лицо. Потушил электричество и опустился в глубокое кресло. Большая яркая луна осветила комнату. Точно днем, можно разглядеть любой предмет, на корешках прочитать названия книг.
…Припомнилось далекое детство, родное село Высокое. Малышами любили мы с дружками вечерами сидеть на завалинке и считать звезды. Считали наперегонки, кто больше. Бывало, выйдет отец, посмотрит на нас, покачает головой:
— Чего уперлись в небо? Земли вам мало, что ли? Спать пора, баламуты, совсем от рук отбились!
Молча разбегались мы по своим хатенкам, так и не досчитав всех звезд. А уходить было ужасно жаль. Ведь совсем, кажется, немного осталось, только самые маленькие.
Сейчас же звезды кажутся необыкновенной величины и светят особенно ярко. Но не до них!
Так, не раздеваясь, продолжал сидеть наедине оо своими тяжелыми думами. Меня преследуют слова, сказанные Павловым во время спектакля: «Этого не может быть» и «Чепуха какая-то». Вижу, как он рукой показывает. на сцену: тише, мол, лучше следи за развитием событий в пьесе. Интересно, чем вызвано такое равнодушие Павлова к донесениям разведки? Или, может, это только внешняя маска безразличия? И все же меня поражает его олимпийское спокойствие. Неужели он прав, а я проявляю излишнюю нервозность?
Встал, подошел к окну. Чистое и невероятно спокойное небо.
Из тяжелой задумчивости вывел телефонный звонок. Оперативный дежурный передал приказ командующего немедленно явиться в штаб. Значит, я был прав! Через пятнадцать минут вошел в кабинет командующего. Застал там члена Военного совета округа корпусного комиссара А. Я. Фоминых и начальника штаба генерал-майора В. Е. Климовских.
— Случилось что? — спрашиваю генерала Павлова.
— Сам как следует не разберу. Понимаешь, какая-то чертовщина. Несколько минут назад звонил из третьей армии Кузнецов. Говорит, что немцы нарушили границу на участке от Сопоцкина до Августова, бомбят Гродно, штаб армии. Связь с частями по проводам нарушена, перешли на радио. Две радиостанции прекратили работу — может, уничтожены. Перед твоим приходом звонил из десятой армии Голубев, а из четвертой — начальник штаба полковник Сандалов. Сообщения неприятные. Немцы всюду бомбят…
Наш разговор прервал телефонный звонок из Москвы. Павлова вызывал нарком обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. Командующий доложил обстановку.
Вскоре снова позвонил Кузнецов, сообщил, что немцы продолжают бомбить. На протяжении пятидесяти километров повалены все телеграфные и телефонные столбы. Связь со многими частями нарушена.
Тучи сгущались. По многочисленным каналам в кабинет командующего стекались все новые и новые сведения, одно тревожнее другого: бомбежка, пожары, немцы с воздуха расстреливают мирное население.
Снова появился с докладом полковник Блохин. Оказывается, с рассветом 22 июня против войск Западного фронта перешли в наступление более тридцати немецких пехотных, пять танковых, две моторизованные и одна десантная дивизии, сорок артиллерийских и пять авиационных полков.
Так без объявления войны Гитлер вероломно напал на нашу страну!.
Павлов обращается ко мне:
— Голубев один раз позвонил, и больше никаких сведений из десятой армии нет. Сейчас полечу туда, а ты оставайся здесь.
— Считаю такое решение неверным. Командующему нельзя бросать управление войсками, — возражаю я.
— Вы, товарищ Болдин, — переходя на официальный тон, говорит Павлов, — первый заместитель командующего. Предлагаю остаться вместо меня в штабе. Иного решения в создавшейся ситуации не вижу.
Я доказываю Павлову, что вернее будет, если в Белосток полечу я. Но он упорствует, нервничает, то и дело выходит из кабинета и возвращается обратно.
Снова звонит маршал С. К. Тимошенко. На сей раз обстановку докладываю я. Одновременно сообщаю:
— Павлов рвется в Белосток. Считаю, что командующему нельзя оставлять управления войсками. Прошу разрешить мне вылететь в десятую армию.
Нарком никому не разрешает вылетать, предлагает остаться в Минске и немедленно наладить связь с армиями.
Тем временем из корпусов и дивизий поступают все новые и новые донесения. Но в них — ничего утешительного. Сила ударов гитлеровских воздушных пиратов нарастает. Они бомбят Белосток и Гродно, Лиду и Цехановец, Волковыск и Кобрин, Брест, Слоним и другие города Белоруссии. То тут, то там действуют немецкие парашютисты.
Много наших самолетов погибло, не успев подняться в воздух. А фашисты продолжают с бреющего полета расстреливать советские войска, мирное население. На ряде участков они перешли границу и, заняв десятки населенных пунктов, продолжают продвигаться вперед.
В моем кабинете один за другим раздаются телефонные звонки. За короткое время в четвертый раз вызывает нарком обороны. Докладываю новые данные. Выслушав меня, С. К. Тимошенко говорит:
— Товарищ Болдин, учтите, никаких действий против немцев без нашего ведома не предпринимать. Ставлю в известность вас и прошу передать Павлову, что товарищ Сталин не разрешает открывать артиллерийский огонь по немцам.
— Как же так? — кричу в трубку. — Ведь наши войска вынуждены отступать. Горят города, гибнут люди!
Я очень взволнован. Мне трудно подобрать слова, которыми можно было бы передать всю трагедию, разыгравшуюся на нашей земле. Но существует приказ не поддаваться на провокации немецких генералов.
— Разведку самолетами вести не далее шестидесяти километров, — говорит нарком.
Докладываю, что фашисты на аэродромах первой линии вывели из строя почти всю нашу авиацию. По всему видно, противник стремится овладеть районом Лида для обеспечения высадки воздушного десанта в тылу основной группировки Западного фронта, а затем концентрическими ударами в сторону Гродно и в северо-восточном направлении на Волковыск перерезать наши основные коммуникации.
Настаиваю на немедленном применении механизированных, стрелковых частей и артиллерии, особенно зенитной.
Но нарком повторил прежний приказ: никаких иных мер не предпринимать, кроме разведки в глубь территории противника на шестьдесят километров.
Последние месяцы мне довелось особенно часто бывать в приграничных войсках. Я систематически знакомился с сообщениями нашей разведки, а они свидетельствовали, что Гитлер ведет активную подготовку к войне против Советского Союза. После каждой своей командировки обо всем, ню я видел, подробно докладывал Павлову, а он сообщал в Москву. В сложившейся ситуации я никак не мог смириться с мыслью о том, что действия, начатые германской армией против советских войск, являются провокацией, а не войной.
Наконец пз Москвы поступил приказ немедленно ввести в действие «Красный пакет», содержавший план прикрытия государственной границы. Но было уже поздно. В третьей и четвертой армиях приказ успели расшифровать только частично, а в десятой взялись за это, когда фашисты уже развернули широкие военные действия.
Замечу, кстати, что и этот приказ ограничивал наши ответные меры и заканчивался такими строками: «Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить». Но о каком прикрытии государственной границы могла идти речь, когда на ряде направлений враг уже глубоко вклинился на нашу территорию!
Захожу к Павлову, передаю содержание моего последнего разговора с наркомом обороны. Сообщаю, что С. К. Тимошенко разрешил мне вылететь в Белосток. Прощаюсь и стремглав бегу к машине.
На улицах Минска тревожно. Город насторожился. Большие группы людей стоят у репродукторов.
Буквально на несколько минут заезжаю домой. Второпях надеваю кожаное пальто и летный шлем. Через плечо перебрасываю ремень планшета с картой.
— Куда ты, Ваня? — спрашивает жена. Она очень волнуется, в ее глазах слезы.
— Дела, дорогая, дела, — говорю уверенным голосом, без всякого намека на серьезность положения, точно еду на очередные учения, а не на войну. Прощаюсь, уверяю, что все будет хорошо, и покидаю дом.
На аэродроме к вылету готовы два самолета СБ. В один садимся я и мой адъютант лейтенант Крицын, в другой — капитан Горячев из отдела боевой подготовки и офицер оперативного управления штаба. Прощай, Минск! Может, на очень короткое время, а может, и навсегда. Война беспощадна, она не считается с нашими желаниями.
Берем курс на Белосток, навстречу врагу, навстречу суровым испытаниям. Лететь трудно. Нас атакуют «мессершмитты», посылая вдогонку пулеметные очереди. Бывают минуты, когда кажется, что вот-вот наступит конец. Но, к счастью, нашу машину ведет опытный летчик. Как только замечает, что к нам пристраивается вражеский истребитель, а иногда и не один, пилот мгновенно бросает машину вниз и, искусно маневрируя, ускользает от противника.
Но вот машина делает резкий крен на левое крыло и идет на посадку.
Но почему же не видно другого самолета? Неужели он погиб? К счастью, и эту машину вел превосходный летчик. Минут через пять он тоже благополучно приземлился рядом с нами.
Мы сели в тридцати пяти километрах от города, между Белостоком и Волковыском, и в двух километрах южнее основной магистрали. Выхожу из самолета. На аэродроме что-то сооружают. Среди работающих военные и гражданские лица.
— Товарищ генерал, посмотрите, — говорит адъютант и показывает на пробоины в самолете. Их оказалось более двадцати. В другой машине та же картина. Молодцы наши летчики, славно потрудились, с честью выдержали суровый экзамен в первый же день войны.
С группой офицеров иду на метеостанцию. Отошли не более двухсот метров, когда в небе послышался шум моторов. Показалась девятка гитлеровских пиратов. А на аэродроме нет никаких зенитных средств, чтобы отогнать их.
Вражеские самолеты снижаются и без помех сбрасывают бомбы. Взрывы сотрясают землю. Горят машины. Огненные языки лижут и наши два самолета…
На счету каждая минута. Нужно спешить в 10-ю армию. Легковой машины на аэродроме нет. Беру полуторку. Приказываю выделить группу бойцов. Теперь нас двенадцать человек. Сажусь в кабину, даю указание шоферу ехать в Белосток.
— Товарищ генерал, туда ехать опасно. Минут за двадцать перед вашим прилетом на дорогу спустились немецкие парашютисты, — сообщает начальник аэродрома.
Известие не из приятных. И все же надо ехать. Покидаем аэродром. В воздухе неимоверная духота. Пахнет гарью.
В горле пересохло. Отпиваю из фляги несколько глотков. Но вода теплая и совсем не освежает.
Наконец выехали на магистраль, ведущую в Белосток. Через ветровое окно видно, как с запада приближаются полтора десятка немецких бомбардировщиков. Летят низко, с вызывающей дерзостью, точно полновластные хозяева нашего неба. На фюзеляжах четко видны пауки фашистской свастики.
Жестокая война началась. Но разве это война? Нет, пока что это безнаказанный бандитизм. А для нас главное — в этой суровой действительности не пасть духом.
Наша полуторка мчится по оживленной автостраде. Но это не обычное оживление. То, что мы видим на ней, больше походит на сутолоку совершенно растерянных людей, не знающих, куда и зачем они идут или едут. Остановил одну группу.
— Куда держите путь?
— На Волковыск.
— Кто такие?
— Рабочие из отрядов, строивших укрепленный район. Там, где мы работали, и земли не видать. Все в огне, — говорит средних лет мужчина с утомленным лицом.
Показалось несколько легковых машин. Впереди «ЗИС-101». Из его открытых окон торчат широкие листья фикуса. Оказалось, что это машина какого-то областного начальника. В ней две женщины и двое ребят.
— Неужели в такое время вам нечего больше возить, кроме цветов? Лучше бы взяли стариков или детей, — обращаюсь к женщинам. Опустив головы, они молчат. Шофер отвернулся, — видно, и ему стало совестно.
Говорю это, а сам прекрасно понимаю: они растили эти фикусы, ухаживали за ними, чтобы украсить свою жизнь. А теперь везут их с собой просто потому, что не успели как следует понять случившееся. Пожалуй, и винить этих женщин трудно. Ведь, покидая родной кров, они были убеждены, что уезжают на короткое время, что скоро вернутся домой. Вот и решили: зачем же пропадать цветам?
Наши машины разъехались. В небе снова шум моторов. Показались три бомбардировщика. Они снизились почти до двухсот метров и начали в упор расстреливать идущих и едущих по шоссе. Люди бегут. Но куда? Где найти спасение, когда наглые гитлеровцы, сея смерть, гоняются чуть ли не за каждым человеком?
И нашу полуторку прошила пулеметная очередь, за ней другая, третья. Шофер убит. Я уцелел, едва успев выскочить из кабины. Подхожу к кузову. Кроме порученца и адъютанта, в живых никто не остался. Погиб и капитан Горячев. Пулеметная очередь, точно клинком кавалериста, рассекла ему голову. Трудно поверить, что не стало этого всегда веселого, жизнерадостного человека, превосходного офицера.
Недалеко вижу тот самый «ЗИС-101». Подхожу к нему. Женщины, дети, шофер убиты. Но по-прежнему из окна выглядывают вечнозеленые листья фикуса. Молча отошел к своей машине. Лейтенант Крицын кивает на мою руку. Она в крови. Даже не заметил, как ранило. Сделал перевязку носовым платком.
— А это что у тебя? — обращаюсь к адъютанту, показывая на его щеку. Оказывается, и он не почувствовал, как обожгло пулей.
К нам подошла группа офицеров. Это были слушатели Военной академии имени М. В. Фрунзе. Они находились на стажировке и вот теперь оказались в неопределенном положении. Приказываю вырыть могилу и похоронить капитана Горячева и других погибших товарищей. Несколько минут молча постоял около убитых.
На шоссе показалась «эмка». В ней инженер одной из строек укрепленного района под Белостоком. Говорит, что там все разгромлено. Предлагаю инженеру привести в порядок мою полуторку, а сам беру его машину и продолжаю путь в 10-ю армию. Нужно попасть туда как можно быстрее.
Восемнадцать часов. Яркое солнце освещает дорогу. Километр за километром продвигаемся вперед. Нет-нет и снова вдоль шоссе проносятся гитлеровские самолеты, сопровождая нас, точно почетный эскорт.
Скоро и Белосток. Навстречу тянутся войска, идет гражданское население.
Штаб армии был в городе. Но где он сейчас? Война все перепутала. Встречные офицеры ничего толком не знают. Впечатление такое, что командование армии потеряло связь с частями. Да это и понятно, если учесть, что удар немцев был внезапным и сильным.
Наконец все-таки разыскал штаб армии. Но застал там только начальника тыла. Говорит, что командующий и основной состав штаба выехали на КП. Узнаю его месторасположение и направляюсь туда.
Впереди железнодорожный переезд. На пути до отказа забитый людьми товарный состав. Паровоз под парами и готов тронуться в глубь страны. Но налетают фашистские самолеты. Слышатся взрывы, а затем душераздирающие крики женщин и детей. Сотни убитых и раненых. В этой сутолоке видны фигурки двух медицинских сестер в белых халатах.
Ко мне подбегает военный комендант станции. Голова забинтована. Гимнастерка в крови. Приказываю уцелевшие вагоны немедленно отвести на запасный путь, убрать трупы, эвакуировать раненых.
Комендант смотрит умоляющими глазами:
— Товарищ генерал, у меня нет никаких средств. Нет даже людей, чтобы выполнить ваши приказания.
У переезда я вижу команду человек в сто. Спрашиваю у старшего лейтенанта, куда ведет людей. Он разводит руками и отвечает совсем не так, как требует устав.
— Слушайте меня, — говорю я несколько повышенным тоном. — Отныне подчиняетесь коменданту. Все его приказания выполнять четко и быстро. А сейчас обеспечьте эвакуацию раненых.
Офицер берет под козырек:
— Товарищ генерал, приказание будет выполнено!
— Вот и хорошо. Главное — не теряйтесь, больше веры в свои силы, а нервы поберегите. Война только началась.
Трогаемся дальше. Пересекаем железнодорожное полотно. Примерно в двенадцати километрах юго-западнее Белостока замечаем небольшой лес, на опушке которого и расположился командный пункт 10-й армии. Расстояние небольшое, а добирался я до него несколько часов. За это время повидал много людского горя, потерял близких товарищей.
Было девятнадцать часов, когда мы подъехали к командному пункту. Вид у него более чем скромный. Две палатки. В каждой по деревянному столу и несколько табуреток. На одном из столов телефонный аппарат. Поодаль от палаток — машина с радиостанцией.
Меня встретил командующий армией генерал-майор К. Д. Голубев с группой штабных офицеров. Спрашиваю у генерала, почему из 10-й армии в штаб фронта не поступило почти никаких сведений. Он отвечает, что проводная связь нарушена, а армейские рации работают очень плохо, вражеские их забивают.
— Доложите о положении войск, — говорю ему. Командующий развернул карту:
— На рассвете три вражеских армейских корпуса при поддержке значительного количества танков и бомбардировочной авиации атаковали мой левофланговый пятый стрелковый корпус. Дивизии корпуса в первые же часы боя понесли большие потери. Особенно пострадала сто тринадцатая.
И по лицу, и по голосу генерала чувствуется, что он сильно переживает. Попросив разрешения, он вынул из кармана коробку с папиросами, закурил, а затем, водя карандашом по карте, продолжал:
— Чтобы предотвратить охват армии с юга, я развернул на реке Курец тринадцатый механизированный корпус, но, сами знаете, Иван Васильевич, танков в дивизиях корпуса мало. Да и что можно требовать от Т-26? По воробьям из них стрелять…
В центре, против первого стрелкового корпуса, в направлении на Белосток наступает сорок второй армейский корпус. Чтобы укрепить здесь оборону, я поставил шестой механизированный корпус на рубеж по восточному берегу реки Нарев, в полосе Крушево, Суражи.
Это сообщение вывело меня из себя:
— Что вы делаете, генерал? Ведь вам известно, что механизированный корпус предназначен для контратак по наступающему противнику, а не для того, чтобы затыкать прорехи в обороне.
Командующий склоняется над картой, тяжко вздыхает, потом говорит:
— Это справедливо. Но с чем воевать? Почти вся наша авиация и зенитная артиллерия разбиты. Боеприпасов мало. На исходе горючее для танков.
— Насколько мне известно, товарищ Голубев, в вашей армии было достаточно горючего. Куда же оно делось?
— Тут, видимо, вражеская агентура поработала. Уже в первые часы нападения авиация противника произвела налеты на наши склады с горючим. Они и до сих пор горят. На железнодорожных магистралях цистерны с горючим тоже уничтожены. Ясно, что это не случайно, вражеская авиация действовала по хорошо известным ей объектам.
Нашу беседу прервал прибывший на КП командир 6-го кавалерийского корпуса генерал-майор И. С. Никитин. Вид у него озабоченный.
— Как дела? — спрашиваю кавалериста.
— Плохи, товарищ генерал. Шестая дивизия разгромлена.
— Как же это произошло?
— В момент вторжения противника она находилась южнее Ломжи, приняла на себя удар. Вначале все шло хорошо. Конники превосходно дрались. Они буквально усеяли землю вражескими трупами и ни на один шаг не отступили. Тогда враг бросил на дивизию авиацию. — Никитин безнадежно махнул рукой. — А как кавалерии защищаться от самолетов? Клинком их не перешибешь! Прикрытия с воздуха тоже нет. Так и растрепали фашисты дивизию.
Никитин посмотрел на меня и заключил:
— Жаль людей. Замечательные хлопцы были. Орлы, один в одного.
— Остатки дивизии где?
— Приказал сосредоточить в лесу северо-восточнее Белостока, — на карте Никитин показал этот район.
Когда командир корпуса умолк, Голубев перевел взгляд с карты на меня:
— Тяжело, Иван Васильевич. Бойцы держатся хорошо, героически. Но что сделаешь против самолета или танка? Там, где есть возможность за что-либо зацепиться, где имеются крепкие узлы обороны, противник получает сильный отпор и добиться ничего не может. К сожалению, таких узлов у нас мало, а гитлеровцы ца рожон не лезут, обходят их, наступают клиньями, выигрывая время и пространство.
Пограничники тоже сражались хорошо. Но их мало. И нам поддержать их нечем. Вот и шагают гитлеровцы нахально, во весь рост. Идут, точно они уже победители. И это в первый день войны! А что же будет дальше?
— Думаю, что долго так идти не будут, — отвечаю я и смотрю на Голубева.
Он высок, атлетического сложения, богатырской силы. Много повидал и пережил на своем веку — участвовал в двух войнах, приобрел большой жизненный и военный опыт. В округе был на хорошем счету, пользовался репутацией разумного и, безусловно, способного военачальника.
Что же с ним произошло сейчас? Неужели пошатнулась вера в свои силы? Нет, этому трудно поверить. Просто огромная боль овладела этим большим и крепким человеком, боль за поруганную родную землю, за погибших советских людей, за то, что при всем своем желании не может остановить лавину врага. Я это прекрасно понимаю и тоже испытываю тяжкую боль.
В палатку вошел дежурный офицер связи:
— Товарищ генерал Болдин, нам удалось наладить связь. Вас вызывает Минск.
Подхожу к аппарату.
— Болдин? — слышу далекий голос.
— Да.
— Говорит Павлов. Познакомился с обстановкой?
— Познакомился. Положение в десятой армии очень тяжелое.
— Слушайте приказ, — говорит Павлов. — Вам надлежит организовать ударную группу в составе корпуса генерала Хацкилевича, тридцать шестой кавалерийской дивизии, частей Мостовенко и контратаковать наступающего противника в общем направлении Белосток — южнее Гродно с задачей уничтожить вражеские части на левом берегу Немана и не допустить выхода немцев в районе Волковыска. После этого вся группа перейдет в подчинение генерала Кузнецова. Это ваша ближайшая задача, и за ее решение отвечаете лично вы.
— Голубеву передайте, — продолжал командующий, — чтобы он занял Осовец, Бобр, Визну, Сокулку, Вельск и далее шел на Клещело. Все это осуществить Ьа сегодняшнюю ночь, причем организованно и быстрыми темпами.
— Как же Голубев выполнит ваше приказание, когда его соединения понесли потери и с трудом сдерживают натиск врага?
На какую-то долю минуты Павлов умолк, затем заключил;
— У меня все. Приступайте к выполнению задачи. На этом наш первый и последний разговор закончился. Отойдя от аппарата, я подумал: как далек Павлов от действительности! У нас было мало сил, чтобы контратаковать противника. Все части, из которых Павлов приказал создать ударную группу, уже были втянуты в ожесточенные оборонительные бои и, конечно, имели большие потери. Снимать их — значило ослаблять оборону, но что делать? Приказ есть приказ!
Много лет спустя, уже после войны, мне стало известно, что Павлов давал моей несуществующей ударной группе одно боевое распоряжение за другим, совершенно не интересуясь, доходят ли они до меня, не подумав о том, реальны ли они в той обстановке, какая сложилась на Западном фронте.
Зачем понадобилось Павлову издавать эти распоряжения? Кому он направлял их? Возможно, они служили только для того, чтобы создавать перед Москвой видимость, будто на Западном, фронте предпринимаются какие-то меры для противодействия наступающему врагу? Ни одного из этих распоряжений я не получил, и остались они в военных архивах как тяжкое напоминание о трагедии первых дней войны…
Обстановка все усложняется. Противник вклинился так глубоко, что над войсками 10-й армии нависла угроза охвата. Предлагаю Голубеву отвести соединения с Белостокского выступа, а 36-ю кавдивизию выдвинуть в лес западнее Крынки. Здесь я рассчитываю использовать ее для контрудара совместно с 6-м механизированным корпусом.
На КП прибыл командир 6-го механизированного корпуса генерал-майор М. Г. Хацкилевич. Он-то мне и нужен! Ставлю перед ним задачу — с наступлением темноты сдать частям 10-й армии занимаемый рубеж обороны по восточному берегу Нарева и к утру сосредоточиться в лесу в десяти километрах северо-восточнее Белостока. 29-ю механизированную дивизию ночью перебросить из Слонима в Сокулку и посадить в оборону на рубеже Кузница, Сокулка, чтобы прикрыть развертывание главных сил 6-го механизированного корпуса и 36-й кавалерийской дивизии. Затем с рассветом нанести контрудар в направлении Белосток, Гродно и, взаимодействуя с 11-м механизированным корпусом, уже вступившим в бой южнее Гродно, разгромить группировку противника, наступающего на Крынки.
Прекрасно понимая, что 6-й механизированный корпус и 36-я кавдивизия в сложившейся обстановке не сумеют полностью выполнить поставленную Павловым задачу, я все же надеялся, что они нанесут врагу известные потери и затормозят его наступление.
Личный состав корпуса был превосходно обучен, половину танкового парка составляли машины Т-34 и КВ. Возглавлявший корпус генерал-майор М. Г. Хацкилевич был грамотным командиром, человеком редкого обаяния, огромной силы воли и большой скромности.
Генерал Хацкилевич непримиримо относился к тем, кто внешний лоск в армии делал самоцелью. Он требовал от своих войск, помимо безупречной внешней выправки, глубоких и всесторонних знаний военного дела и неустанно прививал армейской молодежи любовь к технике. Это был дальновидный человек, прекрасно понимавший, что грядущая война будет войной моторов. Недаром в округе его соединения всегда по всем показателям шли впереди.
И в боевых условиях 6-й корпус проявил себя с лучшей стороны. В полосе, где он оборонялся, гитлеровцам, несмотря на неоднократные попытки, так и не удалось прорваться. Корпус понес потери, но он еще боеспособен и мог, пусть не с полной силой, контратаковать.
Вечер. Чистое звездное небо озаряют сотни огней — всполохи пожаров, трассирующие полосы пулеметных очередей, близкие взрывы снарядов и бомб. Каждый раз кого-нибудь подстерегает смерть.
Заканчивается первый день войны. А сколько их еще впереди?..
За ночь мы привели в порядок наши части, пополнили их боеприпасами и продовольствием из скудных запасов, какие удалось спасти из горящих складов.
К рассвету штабы 6-го механизированного и 6-го кавалерийского корпусов обосновались на новом месте в лесу в пятнадцати километрах северо-восточнее Белостока. Этот живописный лесной уголок стал и моим командным пунктом.
Время уходит, а мне так и не удается выполнить приказ Павлова о создании ударной конно-механизированной группы. Самое неприятное в том, что я не знаю, где находится 11-й мехкорпус генерала Д. К. Мостовенко. У нас нет связи ни с ним, ни с 3-й армией, в которую он входит. В течение ночи я посылал на розыски корпуса нескольких офицеров, но ни один из них не вернулся.
В довершение бед на рассвете вражеские бомбардировщики застигли на марше 36-ю кавалерийскую дивизию и растрепали ее. Так что о контрударе теперь не может быть и речи…
Как раз, когда я сидел в палатке, обуреваемый мрачными мыслями, меня разыскал помощник командующего войсками округа по строительству укрепленных районов генерал-майор И. П. Михайлин. Война застала его на одной из строек. Отступая вместе с войсками, он случайно узнал, где я, и приехал на КП.
Мы только начали беседовать, как над траншеями показались вражеские самолеты. Они сделали всего два захода, беспорядочно сбросили бомбы и улетели. Урон у нас небольшой, но среди убитых наш гость. Осколок сразил генерала Михайлина наповал. Его гибель особенно поразила меня нелепой случайностью.
Надо сказать, что нас с Михайлиным связывала давняя дружба. Впервые мы познакомились в 1928 году. Он сразу же привлек мое внимание своими незаурядными военными знаниями, ярким умом, большой эрудицией. Длительное время Михайлин был армейским политработником. Потом стал строителем.
Это был замечательный человек, способный командир, чуткий товарищ. Всех знакомых он поражал своим неиссякаемым оптимизмом, жизнерадостностью. С лица его, казалось, никогда не сходила улыбка. А сейчас он лежит бездыханный и тоненькая красная струйка медленно расползается по бледнеющей щеке.
Гробом нашему замечательному товарищу служит плащ-палатка. Мы завернули в нее генерала Михайлина и бережно опустили в могилу невдалеке от места его гибели. Молчим. И только вокруг нас и над нами слышен омерзительный гул войны.
Тугая боль сжимает сердце. Рядом со мной лихой кавалерист Никитин. Много смертей он повидал на своем веку, а сейчас плачет. У меня в горле сухой ком. Он мешает дышать, стискивает грудь. Нервы накалены до предела, а слез нет.
Над нами низко летают вражеские самолеты. В скорбном молчании стоим у свежей могилы, над которой только что дали оружейный салют. Крицын раздобыл кусок дикта, прибил его к колышку, вставил в рыхлую землю. На дикте чернильным карандашом выведено: «Здесь похоронен славный генерал Красной Армии товарищ Михайлин, погибший в боях за Родину. 23 июня 1941 года».
Позвонил Хацкилевич, находившийся в частях.
— Товарищ генерал, — донесся его взволнованный голос, — кончаются горючее и боеприпасы. Танкисты дерутся отважно. Но без снарядов и горючего наши машины становятся беспомощными. Дайте только все необходимое, и мы расправимся с фашистами.
В словах Хацкилевича не было и тени бахвальства. В них звучала глубокая вера командира в своих бойцов, уверенность в том, что врага можно бить с большим успехом. Я сознавал его положение. Кончится горючее, и танки остановятся. А это — проигрыш боя. Погибнут люди, техника, прекратит существование превосходный механизированный корпус, и врагу будет открыт путь.
— Слышишь меня, товарищ Хацкилевич, — надрывал я голос, стараясь перекричать страшный гул летавших над нами вражеских самолетов. — Держись! Немедленно приму все меры для оказания помощи.
Никакой связи со штабом фронта у нас нет. Поэтому я тут же после разговора с Хацкилевичем послал в Минск самолетом письмо, в котором просил срочно организовать переброску горючего и боеприпасов по воздуху. К сожалению, и этот самолет, и вылетевший затем второй погибли, не достигнув цели. Тяжело сознавать, что все попытки помочь танкистам безуспешны…
Третий день идет война. Фактически находимся в тылу у противника. Со многими частями 10-й армии потеряна связь, мало боеприпасов и полностью отсутствует горючее, но боевые действия в районе Белостока не прекращаются ни днем ни ночью. Из Минска по-прежнему никаких сведений. Неожиданно на КП прибывает Маршал Советского Союза Г. Н. Кулик. На нем запыленный комбинезон, пилотка. Вид утомленный. Докладываю о положении войск и мерах, принятых для отражения ударов противника.
Кулик слушает, потом разводит руками, произносит неопределенное: «Да-а». По всему видно, вылетая из Москвы, он не предполагал встретить здесь столь серьезную обстановку.
В полдень маршал покинул наш КП. Прощаясь, он сказал, чтобы я попытался что-нибудь сделать.
Я смотрел вслед удалявшейся машине Кулика, так и не поняв, зачем он приезжал.
Встречаясь, беседуя с Куликом в мирное время, считал его волевым, энергичным человеком. А вот когда непосредственная опасность нависала над Родиной и от каждого потребовались особое самообладание и твердость духа, насколько мне показалось, у Кулика сдали нервы.
Такие же мысли одолевали, видимо, и Никитина. Когда машина скрылась, оставив за собой густое облако пыли, он заметил:
— Странный визит.
Я ничего не ответил, стараясь уйти от неприятного разговора…
Противник все наседает. Мы ведем бой в окружении. А сил у нас все меньше. Танкисты заняли оборону в десятикилометровой полосе. В трех километрах за ними наш командный пункт.
На НП прибыл Хацкилевич. Он явно нервничает:
— У нас последние снаряды. Выпустим их, и придется уничтожать танки.
— Да, пожалуй, иного выхода нет, — отвечаю я. — Если машины нельзя сохранить, их лучше уничтожить.
Глядя тогда в глаза этому мужественному человеку, разве мог я подумать, что в тот день мы лишимся не только танкового корпуса, но и его чудесного командира. Генерал Хацкилевич погиб смертью героя, на поле боя…
На пятые сутки войны, не имея боеприпасов, войска вынуждены были отступить и разрозненными группами разбрелись по лесам.
Мы не знаем, где проходит линия фронта, что делается на Большой земле. Неизвестность всегда тяготит, и настроение у людей неважное. А тут еще фашисты сбрасывают листовки, в которых твердят: «Москва взята германскими войсками! Русские, сдавайтесь! Ваше сопротивление бесполезно!»
На некоторых это действует разлагающе. Но я вижу, что абсолютное большинство не верит провокационным сообщениям и намерено продолжать борьбу с врагом.
— Что будем делать? — спрашивает Никитин.
— Воевать. Надо собирать силы, убеждать людей, что наше отступление, наши неудачи временны.
— Правильно, — говорит Никитин. — Надо принять все меры, чтобы вывести из окружения как можно больше людей.
— И не просто вывести, а уничтожить при этом как можно больше гитлеровцев, — добавляю я.
— С этим я согласен, Иван Васильевич. Только чем воевать? Винтовки без патронов, пулеметные ленты тоже пусты. Танков нет: мы их сами сожгли.
— Чем воевать? Немецким оружием. Забирать его у противника и им же бить гитлеровцев. Помнишь, как в гражданскую воевали?
— Как не помнить! Винтовки и пулеметы в моем эскадроне были и английские, и французские, и бельгийские.
— А кто давал тебе все это оружие, Чемберлен или Пуанкаре?
— Сами у беляков отбивали… В общем, Иван Васильевич, мне теперь задача ясна. Разрешите отделиться от вас и действовать самостоятельно.
Я дал согласие. Решил, что, идя разными путями, мы выведем из окружения больше войск. Условились о маршрутах и расстались. Со мной остались несколько офицеров. А это уже может служить ядром будущего соединения.
У нас нет никаких транспортных средств. Шагаем налегке строго на восток.
К вечеру 27 июня вышли на опушку леса. Видим недалеко три танка БТ-7. Похоже на то, что они заняли оборону.
Подходим к машинам. На корточках, прислонившись к броне, сидят танкисты. Увидев нас, поднялись. Старший доложил, что боеприпасов у каждой машины по комплекту, а горючего нет.
— Вот бы, товарищ генерал, горючего раздобыть! — тяжело вздыхая, говорит совсем молоденький паренек. — Все снаряды тогда пустили бы в дело, а так сиди и жди, когда на тебя кто из врагов нарвется…
За день мы прошли по лесным тропам большой и трудный путь. Изрядно утомились и решили отдохнуть у танкистов.
Только присели было, как проселочная дорога закурилась пылью, и на ней показалась вражеская колонна из 28 танков. Каждая минута дорога. Приказал танкистам открыть огонь.
Наш удар оказался для гитлеровцев настолько неожиданным, что, пока они пришли в себя и открыли ответный огонь, мы уничтожили двенадцать вражеских машин. К сожалению, у нас кончились снаряды, и фашисты начали безбоязненно нас расстреливать. Один за другим загорелись наши танки. Оставив их, мы стали отходить к лесу. Оглянулся, вижу, Крицын ранен. Помог ему отползти в укрытие. В это время девятка немецких бомбардировщиков начала «прочесывать» опушку. Когда они улетели, в живых нас осталось лишь несколько человек. У Крицына большой осколок прошил мякоть пятки. Ему разрезали сапог, портянкой крепко перевязали кровоточащую рану.
Меня тревожат разные мысли. Добрался ли до наших Кулик? Где сейчас Голубев, Никитин? Ни о ком из них я ничего не знаю.
Продолжаем медленно идти на восток. Крицыну трудно, мешает рана. Иногда мы делаем небольшие привалы и снова пускаемся в путь.
К вечеру повстречали нескольких красноармейцев. Их часть разбита. Оставшиеся в живых разбрелись.
— Почему без оружия? — спрашиваю.
Немолодой красноармеец Гундоров с густыми отвислыми усами отвечает:
— А зачем оно, если патронов нет? Я свою винтовку, правда, приберег, да толк-то от нее какой?
— Будет толк. Мы еще повоюем.
Приказываю присоединиться к нам и действовать вместе. Вижу, наш план им по душе — лица оживились.
— С генералом как-то крепче на земле себя чувствуешь, — весело замечает Гундоров. А затем добавляет — Я проклятого германа знаю по первой империалистической.
— Ну и что о нем думаете?
— Одолеть его трудно, но можно.
— Правильно. Только панике не надо поддаваться.
— Это мы понимаем, — соглашается Гундоров. — Досадно только, что наверху у нас что-то проглядели.
Интересна психология старого солдата, понятна мне и солдатская боль. Во многом усач прав.
А Гундоров снимает пилотку, показывает на большой шрам:
— Зазубрина от немцев. Ношу с той войны. Злости на Гитлера у меня хватит.
Беседуя с бойцами, убеждаюсь, что большинство рассуждают здраво. Если в словах кого порой звучит уныние, то это не малодушие, не покорность вражеской силе, не признание поражения. Это злость, ненависть, овладевшая сердцами, а на войне она помогает!
Предлагаю бойцам немного подкрепиться, отдохнуть, а к ночи тронуться в путь.
Все, что у кого было в вещевых мешках, высыпали на плащ-палатку. Запасы скудные. Дай сейчас в три раза больше, сразу съедят. Но хотя Крицын и уверяет, что в лесу много грибов, ягод и голодать не придется, продукты решаю разделить на два раза. Путь предстоит большой, и трудно сказать, с чем еще встретимся.
Отдохнув и набравшись сил, тронулись дальше. Нас уже около тридцати человек. Медленно продвигаемся на восток. Крицыну все хуже. Он скачет на здоровой ноге, одной рукой опираясь на суковатую палку, другой на чье-либо плечо. Прошли метров пятьсот. Вижу, лицо лейтенанта покрылось испариной, но он молчит, не жалуется. Сделали небольшой привал. По рукам пошли фляги с водой. Пьем экономно.
Пока все отдыхали, один из красноармейцев срезал две ровные палки, быстро работая ножом, соорудил из них костыли. На них Крицын смог идти значительно быстрее.
Суровое испытание
Ночь. Идем строго по компасу. Стараемся не шуметь.
Над нами звездное небо. Издалека доносится шум самолетов, слышны разрывы артиллерийских снарядов.
На рассвете наткнулись на группу человек в двадцать.
Первым заметил ее Гундоров, подошел ко мне, тихо говорит: — Товарищ генерал, глядите: люди! И не поймешь, военные они или гражданские.
Предлагаю одному бойцу сходить за ними. Вскоре неизвестные подошли к нам. Внешне это разношерстный народ. Несколько человек сохранили не только форму, но и оружие. А кое-кто поспешил сорвать петлицы с гимнастерок, звездочки с пилоток, были и такие, кто заменил форму на истрепанную гражданскую одежду.
Интересуюсь, кто они, куда держат путь. Оказывается, из 10-й армии. Отступают от самой границы. Бродят уже третьи сутки. «Нарядную» гражданскую одежду раздобыли в одной из деревень.
— Опасно ходить в форме, — объясняет один из переодетых, оказавшийся старшим лейтенантом. — Кругом фашисты, да и свое кулачье снова клыки показало.
— Значит, советуете снять форму? Может быть, просто кончить борьбу, смириться с врагом?
Молчит.
— Вообще-то вы правы, предосторожность нужна. Но прекращать борьбу мы не будем и форму свою не снимем.
Послышались слова одобрения. А старший лейтенант стоял смущенный, опустив голову.
Должен сказать, то, что в тылу врага я был в форме, благотворно влияло на подчиненных, подтягивало их, дисциплинировало, заставляло думать о своем внешнем воинском виде, беречь форму и с гордостью носить ее. И только, уходя на операцию, наши люди переодевались в гражданское платье. А возвращались в лес и снова надевали форму советского воина. Благодаря этому они всегда чувствовали себя в строю.
Нас уже около пятидесяти человек. На очередном привале собрал коммунистов и комсомольцев. Они составляли больше половины. Объяснил, что каждый из них должен показывать пример мужества, дисциплинированности.
Из нескольких политработников и командиров создал группу разведчиков.
Четверым из них сразу же даю задание: под видом местных жителей пробраться в ближайшую деревню, разведать обстановку и раздобыть немного продуктов. Предупредил, чтобы действовали осторожно, стрельбы избегали. Оружие разрешил применять только в исключительных случаях.
Начало активных действий обрадовало людей. Настроение у всех поднялось. Каждый почувствовал, что отряд становится реальной силой…
Прошло уже около пяти часов, как выступили разведчики, а их все еще нет. Тревога закрадывается в сердце. А вдруг их выследили и схватили? Может быть, и нам следует ожидать нападения?
Усилил боевое охранение. А сам, ожидая возвращения разведчиков, продолжаю томиться в догадках, сомнениях, предположениях.
Только когда уже наступили сумерки, наблюдатели сообщили: идут! Вскоре действительно показались четыре фигуры, согнувшиеся под тяжестью груза. Разведчики подошли, поставили наземь мешки, устало вытерли вспотевшие лица. Старший доложил о выполнении задания. Спрашиваю:
— Почему задержались?
— Немцев изучали, товарищ генерал. Впервые довелось так близко их видеть. Даже чуть было в беду не попали. Подошли к одной машине, не заметили, что за ней солдат стоит. А он увидел нас, кричит: «Хальт!» — и автомат наставляет. Видим, убежать не успеем, побежишь — сразу пулю в спину пошлет. К тому же на крик солдата неизвестно откуда появился офицер. Немного разговаривает по-русски. Интересуется: «Кто такие?» Отвечаю, что мы жители соседней деревни, еле от большевиков удрали. Ищем у немцев спасения.
Мои слова понравились офицеру. Он засмеялся, похлопал меня по плечу, сказал: «Гут, гут!» Угостил сигаретами, а потом стал расспрашивать. Все Минском интересовался. Видимо, туда собирался ехать. В общем, отделались мы легким испугом, но зато все выяснили. В той деревне оказалось тридцать танков, пять легковых машин, большой обоз. Местного населения почти нет.
— А продукты откуда?
— Стащили у немцев.
Развязали мешки, и из них посыпались банки с консервами, сгущенным молоком, пачки печенья, сигареты. В мешках оказались даже две бутылки французского вина.
Так закончилась эта маленькая разведывательная операция. Она явилась пробой сил перед началом настоящих боевых дел…
В поход мы пускались обычно только с наступлением темноты. А днем приводили себя в порядок, отдыхали. Иногда производили разведку, совершали внезапные нападения на небольшие группы немецких солдат. Отряд рос, но по-прежнему был беден оружием и боеприпасами.
Однажды мы приблизились к шоссе. Тут можно было сделать засаду, подстеречь небольшую колонну гитлеровцев, обстрелять ее и попытаться захватить побольше оружия.
Отряд отошел в укромное место. В засаду я выделил пять групп по четыре человека.
Боевые группы вышли к шоссе, затаились. В ту ночь дорога была на редкость пустынной. Только часа через два из-за поворота показались шесть машин.
Нужно действовать быстро. Не исключено, что за этими шестью появятся другие автомашины или танки. Тогда легко попасть в беду.
Немногим гитлеровцам удалось убежать. Наши бойцы захватили десятка три автоматов, много патронов и несколько гранат. Пригодились и вещевые мешки с продуктами. Трофеи были доставлены в лес. А машины с основным грузом — запасными частями — облили горючим и сожгли.
Теперь пора уходить подальше от этого места. Перед выступлением мы не удержались от искушения и вышли на опушку, чтобы посмотреть приятную картину: вражеские машины, охваченные ярким пламенем. На сердце радостно от сознания, что начинаем отплачивать гитлеровцам по большому счету.
Мы углубляемся в лес на четыре километра и снова движемся на восток. Отдохнуть успеем и утром.
Конец июня. Мы уже прошли по лесным тропам немало десятков километров. К отряду продолжали присоединяться бойцы и офицеры, попавшие в окружение.
Как-то под вечер, когда мы с группой командиров разрабатывали план очередной операции, доложили, что к месту расположения отряда приближаются двое. Я приказал привести их. Это оказались девушка в военной гимнастерке и красноармеец.
Девушку звали Елизаветой Ершовой. О себе она рассказывала так:
— Родом из Красного Села, под Ленинградом. Окончила семилетку. Занималась в Ленинградском автодорожном техникуме. В сороковом году получила диплом с отличием. По путевке поехала в Белосток. Работала в автоколонне техником по эксплуатации.
Рассказывая, девушка то и дело тяжело вздыхала. Она не плакала, но я видел: в глазах стояли слезы.
Мечтала окончить институт, стать инженером, выйти замуж за любимого паренька, создать хорошую семью. В общем, как многие ее сверстницы, строила большие планы. И все рухнуло из-за проклятой войны.
Первая бомба, сброшенная фашистами на Белосток, застала Лизу в больнице. После тяжелого заболевания она находилась в палате для выздоравливающих. Вскоре от вражеской бомбежки затрясся и больничный корпус. Посыпались стекла, штукатурка. Преодолевая слабость, Ершова накинула халат, тапочки и вместе с другими больными покинула палату. Только успели выйти из больницы, как здание рухнуло. Девушка едва добежала до своей квартиры.
Потом пришла в военкомат. Просила послать в армию. Военком вначале отказывал. Но в конце концов отступил перед ее настойчивостью и выдал направление в госпиталь. Здесь же, в военкомате, Лиза получила обмундирование и сумку с красным крестом.
До госпиталя дойти не успела, его разбомбили. Пришлось присоединиться к отступающей части. Идти было тяжело. Одолевала слабость. Когда их догнала автоколонна, обессиленная Ершова попросила старшего офицера взять ее с собой. Тот разрешил сесть в одну из машин. В ней оказались тяжелораненые. Девушка помогала им, поила, кормила, делала перевязки.
Колонна нарвалась на гитлеровцев. Начался жестокий бой. Девушка стала подносить бойцам патроны, оказывала помощь раненым. Во время перевязки снарядом сшибло дерево, возле которого она стояла. Девушка упала без сознания. Когда очнулась, вокруг стояла мертвая тишина. Всюду валялись трупы. С трудом поднялась и пошла куда глаза глядят.
— Повстречала этого бойца. Решили идти вместе. Вот и нашли вас, — заключила Ершова и снова вздохнула.
Мы накормили новых товарищей. Появление в отряде медсестры всех обрадовало. Вскоре ее стали называть сестрицей, а затем хозяйкой отряда. Впереди Елизавету Ершову ожидало немало замечательных подвигов…
2 июля мы оказались в сорока километрах от Минска. Здесь встретили командира 8-й артиллерийской противотанковой бригады полковника И. С. Стрельбицкого.
Когда началась война, артиллеристы бригады мужественно отражали попытки гитлеровской танковой дивизии прорваться из Вильнюса и Гродно к городу Лида. Под давлением превосходящих сил они медленно отходили, а потом тоже попали в окружение. Вскоре иссяк запас горючего. Артиллеристы вынуждены были остановиться в лесу, спрятать технику.
К тому времени в лесу под Минском собралось несколько уцелевших рот пограничников, много разрозненных групп и подразделений 10-й и 3-й армий, всего несколько тысяч человек. Полковник Стрельбицкий взял на себя командование ими.
Наскоро сколотив несколько частей, утром 1 июля он повел их в наступление на Минск. Войскам удалось ворваться на окраину города. Но противник предпринял танковую контратаку и пришлось вернуться в лес.
Буквально за несколько часов перед нашей встречей Стрельбицкий предпринял вторую попытку овладеть столицей Белоруссии. И тоже безуспешно.
Рассказывая мне обо всем этом, полковник по карте показывал, на каких участках он наступал, какие улицы Минска удавалось занять, откуда нажимали вражеские танки.
— Вы тут единственный старший офицер? — спрашиваю у него.
— Нет, почему же. Есть и постарше меня. Командир двадцать первого стрелкового корпуса генерал-майор Борисов и командир двадцать седьмой стрелковой дивизии генерал-майор Степанов.
— Где они?
— А вон сидят.
Действительно, метрах в пятидесяти от нас на спиленном дереве сидели два генерала и о чем-то беседовали.
Увидев меня, генералы поднялись.
— Какими судьбами, Иван Васильевич? — спрашивает А. М. Степанов, застегивая китель.
— Да вот решил проверить, как вы руководите войсками, — отвечаю, испытующе глядя на них.
— Полагаю, что любой на нашем месте руководил бы так же, как мы, — отозвался В. Б. Борисов.
— С подобными настроениями мы далеко не уйдем, — ответил я. — У вас здесь целая армия. Ее нужно только сплотить, воодушевить и повести в бой. А что вы делаете? Решили руки умыть?
Степанов и Борисов молчат. Они не предполагали, что разговор примет такой оборот. В заключение я объявил, что беру командование на себя, заместителем назначаю Стрельбицкого, а им приказал заняться выявлением оружия и боеприпасов.
Дальнейшие события показали, что я не ошибся в выборе заместителя. Полковник Стрельбицкий оказался превосходным командиром и умелым организатором.
Мы начали готовить разведку боем южнее Минска. Надо было на этом направлении снова попытаться вывести войска из окружения.
В назначенное время батальоны двинулись вперед, но наткнулись на вражескую танковую засаду. Полковник Стрельбицкий на танкетке Т-37 помчался туда. Вернулся расстроенный.
— Батальоны понесли большие потери. От них осталась горстка бойцов, которая храбро ведет неравный бой.
Пока Стрельбицкий докладывает это, лес, в котором мы находимся, начала бомбить фашистская авиация. Потом к разрывам бомб присоединились разрывы снарядов и мин. В разных концах леса занялись пожары.
Оставалось одно — спасать оставшиеся войска. Часть из них повел генерал Борисов, но вскоре мне доложили, что он погиб.
День 3 июля выдался знойным. Лес — хорошая защита от палящего солнца. Но и здесь очень душно. Дают себя знать усталость и пережитые волнения. Идти трудно. Со мной Степанов, Стрельбицкий и еще несколько офицеров. Мысли заняты одним: как же вывести войска из окружения, где лучше организовать прорыв? Фашисты изрядно потрепали нас, но силы еще есть.
Обнаружили несколько уцелевших дотов и дзотов. Крицына с группой бойцов посылаю проверить их. Вернувшись, Крицын докладывает, что в укреплениях наши бойцы, с ними старший политрук.
А вот и он сам. Вышел из дзота, направился к нам. На нем ладно сидит военная форма. Шагает широко, докладывает четко:
— Старший политрук Осипов.
— Помню вас, товарищ Осипов, — я крепко пожимаю ему руку. — Секретарь полкового партбюро? Город Лида?
— Так точно. Двести сорок пятый гаубичный полк тридцать седьмой стрелковой дивизии.
Старший политрук Осипов был в округе одним из лучших партийных вожаков. О нем часто говорили на окружных, армейских, дивизионных партийных конференциях, на собраниях актива и совещаниях. В полк, где он служил, часто ездили из других частей изучать опыт партийно-политической работы. Я обрадовался встрече с Осиповым.
Белорус Кирилл Осипов внешне казался замкнутым, даже немного суховатым. О себе рассказывать не любил, а если кто расспрашивал, отвечал скупо.
Но я знал, что родился он на Гомельщине в семье крестьянина-бедняка. В 1918 году окончил трехклассную церковноприходскую школу. День завершения учебы ознаменовал тем, что вместе с товарищами предал огню все книги закона божьего.
В 1920 году он организует в родной деревне комсомольскую ячейку, становится ее первым секретарем. Позже он принимает участие в создании колхоза, ведет борьбу с кулаками.
В 1929 году Осипов навсегда связывает свою жизнь с армией, а через два года вступает в партию. Он получил военное образование, был на командной и политической работе, участвовал в войне с белофиннами.
Великая Отечественная война застала его в городе Лида. После ожесточенной бомбежки немцы выбросили в районе города воздушный десант. Осипов возглавил артиллерийский дивизион и участвовал в ликвидации десанта. Когда у артиллеристов вышли боеприпасы, они вынуждены были отойти на Олыпаны.
На рассвете враг бросил против них авиацию. Потом в наступление пошли фашистские танки. Осипов в это время находился в расположении учебной батареи, которая сразу же вступила в бой. Несколько танков удалось уничтожить. Но силы были слишком неравны, и артиллеристы вынуждены были отходить. Фашисты обстреляли их с воздуха. Осипов был контужен. Пришел в себя, когда немецкие танки были в ста пятидесяти метрах. Ему удалось перебежать дорогу и укрыться во ржи.
Когда вражеские танки ушли, Осипов с группой однополчан стал продвигаться к Молодечно. В лесу присоединились к отряду полковника Бессарина. Потом с боями вышли к укрепленному району, который еще был занят нашими войсками, Осипов получил задание возглавить гарнизон одной из долговременных огневых точек. В гарнизоне одиннадцать человек, два пулемета, одна пушка и достаточное количество боеприпасов.
Здесь-то мы с ним и встретились.
— Что думаете делать дальше? — спрашиваю старшего политрука.
— Подчиняться вашим приказам, товарищ генерал.
— Хорошо.
Собрал всех офицеров и политработников. Коротко объяснил положение. Из-за незнания обстановки разрозненные группы наших войск сталкиваются с противником и в неравном бою гибнут. Чтобы спасти как можно больше людей и вооружения, предложил организовать в лесу сборный пункт.
Сразу же после этого командиры и политработники разошлись по лесным дорогам. Каждая появлявшаяся там группа солдат задерживалась и направлялась на сборный пункт. Уже через несколько часов нам удалось собрать более пяти тысяч человек..
Весь день 4 июля я посвятил организационным делам. Из пришедших в лес создал сводную дивизию. В ее составе пять отрядов, нашлась и кое-какая артиллерия. Наиболее опытных командиров взял в свой штаб или назначил командирами отрядов. Были созданы прокуратура и трибунал.
Осипову поручил с помощью командиров опросить личный состав дивизии и взять на учет всех коммунистов и комсомольцев, проверить партийные билеты. Вскоре старший политрук доложил, что в наших рядах более двухсот коммунистов и около пятисот комсомольцев. На эту внушительную силу в дальнейшем я и опирался.
На общем партийном собрании обсудили вопрос об авангардной роли коммунистов. Секретарем организации избрали старшего политрука Осипова.
Всю ночь не пришлось спать: штаб готовил план предстоящей операции. На рассвете 5 июля объявил задачу: прорвать вражескую оборону и соединиться с частями Советской Армии, ведущими борьбу за Минск. Каждый офицер получил точное задание, знал направление, где он должен действовать, место сбора после боя.
И вот отряды перешли в наступление. Люди дрались героически. Гитлеровцы предприняли несколько контратак, но остановить нас не могли. Казалось, еще несколько усилий, и вражеская оборона рухнет. Тогда фашисты бросили против нас восемьдесят танков. Силы наши таяли. У нас осталось только две «сорокапятки».
Врагу удалось вклиниться в наши боевые порядки и расчленить их. Я потерял возможность управлять отрядами и приказал отходить мелкими группами, чтобы снова собраться в лесу за Минском. Фашисты недолго преследовали нас.
Прибыв со штабом к намеченному месту сбора, я увидел дозорного. Оказывается, раньше всех явилась на пункт сбора группа, возглавляемая Осиповым. А вот и он сам спешит нам навстречу, подтягивая на ходу ремень и одергивая гимнастерку.
Спрашиваю Осипова:
— Сколько с вами пришло людей?
— Около трехсот человек.
Я пошел к бойцам и командирам, поговорил с ними. Меня особенно обрадовал высокий моральный дух отряда. Отступив под натиском вражеских танков, люди не потеряли боевого настроения. В этом сказывалось влияние превосходного воспитателя и организатора масс Осипова.
— Товарищ генерал, может, перекусите? — спрашивает старший политрук.
За последние сутки ни у меня, ни у штабных командиров во рту даже маковой росинки не было. Поэтому предложение Осипова оказалось кстати. Странно только, где он сумел раздобыть продукты? А Осипов, словно угадав мои мысли, поясняет:
— По пути сюда зашли в один колхоз. Хозяйство еще добротное, гитлеровцы не успели ограбить. Председатель очень нам обрадовался. Тут же велел забить несколько коров, барашков, дал хлеба. Пообещал, пока мы будем здесь, снабжать нас по потребности.
Трапеза длится недолго, но весело. После сытного обеда приятно бы отдохнуть. Жаль, что сейчас для этого нет времени.
Один за другим подходят отряды, командиры докладывают о положении в них. Беседуем о причинах поражения, анализируем, кто и как вел себя в бою, какие допустил ошибки, обмениваемся мнениями о противнике, в чем его слабость, где он силен. Всем ясно: будь у нас средства борьбы с танками, мы, безусловно, прорвались бы к своим.
В ходе беседы созревает решение ночами двигаться лесными дорогами параллельно оси наступления противника и выжидать благоприятного случая для прорыва и соединения с нашими войсками. Высказываю эту мысль. Степанов, Стрельбицкий, Осипов и другие товарищи одобряют ее.
Во время переходов особое значение приобретает разведка. Ответственность за нее возлагаю на Осипова и недавно пришедшего к нам опытного разведчика майора Пахомова. Поручаю им создать крепкую группу из наиболее стойких, грамотных и опытных бойцов и командиров.
Обращаю внимание всех на необходимость безупречного порядка и строжайшей дисциплины в отрядах, четкого и точного выполнения боевых заданий. Кстати, нет ничего предосудительного, если этому поучимся у нашего противника. Такая наука пойдет нам только на пользу.
Незаметно спустились сумерки. Изнуряющая дневная духота уступила место спасительной прохладе. За несколько последних дней я впервые разрешил себе «роскошь» — снять китель. Приятный ветерок освежал, точно Душ…
На следующий день Осипов и Пахомов доложили, что группа разведчиков сформирована. В нее вошли капитан Сулейман Тагиров и политрук Григорий Булгаков, капитан Василий Баринов и младший сержант Андрей Калюжный, красноармейцы Иван Ивкин и Михаил Пашков, младшие политруки Правдин, Алексей Найденов и еще несколько замечательных товарищей.
Во время этого разговора присутствовала Елизавета Ершова. Воспользовавшись паузой, она попросила зачислить и ее в группу разведчиков.
За прошедшие дни комсомолка Ершова крепко вросла в нашу боевую семью, показала себя выносливой и дисциплинированной, изобретательной и храброй. Эта замечательная девушка смело шла в бой и перевязывала раненых, готовила им пищу и стирала белье. Веря в безграничную преданность этой патриотки, я охотно согласился включить ее в группу разведчиков.
Сразу же после доклада Осипов ушел в разведку. Но возвратился скоро, привел с собой двух неизвестных. Докладывает:
— Недалеко от деревни встретил этих товарищей. Разговорились. Оказалось, коммунисты. По всему видно, ребята хорошие. Предложил пойти к нам — согласились.
Один из них в форме лейтенанта танкиста — Андрей Дубенец. Он выше среднего роста, с подтянутой фигурой спортсмена, светловолосый, с замечательной белозубой улыбкой, с чуть заметными следами оспы на лице. Большие умные глаза смотрят из-под густых бровей. На все вопросы отвечает четко, со знанием дела, выражает свои мысли образно, порой с доброй лукавинкой.
Лейтенанту Дубенцу двадцать пять лет. Родом он из донской казачьей станицы. В составе 6-го механизированного корпуса командовал танком. В бою его машину подбили, а он лишь чудом спасся из охваченного пламенем танка. Несколько дней бродил по лесам в поисках однополчан. Наконец встретил старшего политрука Ефремова, и решили они вместе выбираться из окружения.
Старшему политруку Алексею Ефремову около тридцати. Он высок, худощав, немногословен. До армии трудился на заводе, был и на партийной работе. Война застала Ефремова на границе. Рубеж, который обороняла его группа, трое суток был для врага неприступной крепостью. Обозленные гитлеровцы бросили на горсточку пограничников механизированную часть. Только после этого пришлось отступить.
Спрашиваю обоих:
— Партийные билеты сохранили?
— А как же. товарищ генерал, — отвечает Ефремов и протягивает мне билет. Свой документ показал и Дубенец.
— Ну что ж, присоединяйтесь к нам. Кушать хотите? Небось проголодались?
— Мы стали вегетарианцами, — смеется Дубенец. — Давно уже мяса не ели, даже вкус его забыли. Питались земляникой.
Приказал накормить новичков, а потом продолжил с ними беседу. Ефремова, как человека бывалого и опытного, назначил заместителем командира по политической части одного из подразделений.
— А лейтенанта разрешите зачислить в группу разведчиков, — попросил Осипов. — По дороге беседовал с ним. Говорит, что это дело ему по душе.
Я согласился.
С этого началась совместная работа и боевая дружба Осипова и Дубенца, которая впоследствии прославила этих двух замечательных и неразлучных разведчиков.
Наш лес в шести километрах от деревни Афанасово. Дальше в двадцати пяти — тридцати километрах от нее проходит линия фронта. Предлагаю Осипову и Дубенцу с группой разведчиков пойти в деревню и тщательно разведать имеющиеся там силы противника. Требую непременно взять «языка».
Разведчики ушли. Но часа через полтора вернулись. Меня это удивило.
— Что стряслось?
— Неприятность вышла. Виноват, товарищ генерал, проглядел, — говорит Осипов. — Когда были на полпути к деревне, поймали в лесу двух фашистов. Ивкину и Пашкову поручил доставить их вам, а мы с Дубенцом направились дальше. Только отошли немного, слышим выстрелы. Думали, что наши попались. Прибегаем туда — наши живы, а «языки» лежат…
— Что с ними случилось?
Вперед вышел разведчик Ивкин:
— Товарищ генерал, мы с Пашковым расстреляли эту сволочь. Не могли совладать с собой. За последнее время столько нагляделись на злодейства фашистов, что внутри все огнем горит. Не знаем, как и получилось.
Стараясь помочь другу, заговорил Пашков:
— Товарищ генерал, «языки» были такие, что глядеть тошно: плюгавые, никудышные. Все равно ничего толкового не сказали бы. Вы только разрешите, мы других достанем, настоящих. Честное слово, ихнего офицера притащим. Если нет, как хотите наказывайте.
— Вы уже заслужили сурового наказания.
Друзья опустили глаза, молчат.
Собрал всех разведчиков. Предупредил, что нельзя давать волю чувствам, как это сделали Ивкин и Пашков. Безусловно, гитлеровцев нужно истреблять. Но когда речь идет о «языке», надо выследить, поймать его и привести на базу.
Выслушав меня, Осипов заявил:
— Разрешите пойти нам с Дубенцом. Добудем «языка». Они ушли, но вернулись без пленного. Зато доложили, что в небольшой рощице, примыкающей к деревне, обнаружили гитлеровский палаточный городок. В нем около пятнадцати палаток и несколько автомашин.
Я приказал трем ротам с разных сторон подползти к городку и уничтожить противника.
В четыре часа утра наши группы вплотную подобрались к палаткам и по моему сигналу забросали их гранатами. Среди гитлеровцев поднялась паника. Не дав им опомниться, наши бойцы пустили в ход штыки и приклады. Бой продолжался не более тридцати минут. Палаточный городок был ликвидирован, уничтожено более сорока вражеских офицеров со всей их прислугой. Забрав различные документы, оружие, боеприпасы и продукты, мы подожгли вражеские машины и углубились в лес.
Пожалуй, пора двигаться ближе к линии фронта. Обычно перед каждым выступлением мы брали с собой проводников из местного населения. Это были старики и женщины, юноши и девушки, даже пионеры — замечательные люди, настоящие советские патриоты.
Я предложил Осипову сходить за проводником. В деревне, куда он пошел, ему рассказали, что в одном из домов засел немец. Весь дрожит и не рискует выйти, видимо, ждет своих.
Осипов направился в тот дом и на печи увидел гитлеровского офицера. Разведчик обыскал его, крепко связал руки толстой бечевой и через всю деревню повел в лес.
Это оказался довольно крупный чин, штабной работник. Он рассказал, что в палаточном городке находился штаб гитлеровской механизированной дивизии, сообщил о ее численности и дал много других ценных сведений.
В частности, от него мы узнали, что в Журавы прибыли какие-то войска.
Вечером Осипов и Дубенец отправились в деревню Журавы. В случае если противник обнаружит, они должны были отходить правее нашей опушки. При этом их поддержат пулеметчики.
В двадцать три часа мы со Стрельбицким вышли на опушку леса. В километре от нее по шоссе непрерывным потоком мчатся машины с зажженными фарами. С завистью смотрю, как тягачи везут орудия. То же самое, очевидно, испытывает Стрельбицкий. Тяжело вздыхая, он говорит:
— Нам бы таких пушек.
— Непременно раздобудем, — утешил я Ивана Семеновича.
То и дело поглядываю на часы. Ночь кажется слишком длинной. Все время хожу в томительном ожидании разведчиков. Напряженно всматриваюсь в даль. Одну за другой курю самокрутки, от которых во рту ужасная горечь. Прекрасно понимаю, что разведка — дело сложное, очень трудно точно рассчитать время возвращения, ибо неожиданности подстерегают на каждом шагу. И все же нервничаю.
Стрельбицкий предлагает мне пойти отдохнуть. Обещает, когда придут разведчики, дать знать. Я отказываюсь. Скручиваю новую махорочную цигарку чуть ли не в палец толщиной. Стрельбицкий смеется, говорит, что таким факелом можно осветить шоссе.
Только перед восходом солнца, когда вражеские машины двигались уже без света фар, показались Осипов и Дубенец. Они шли быстро, о чем-то разговаривали, энергично жестикулируя. Первым подошел Осипов.
— Товарищ генерал, задание выполнено!
— Ну как, большой «гусь» засел в Журавах?
— Солидный.
Я приказал Крицыну снять подразделение, находившееся в боевом охранении, и мы поспешили уйти в глубь леса.
Осипов и Дубенец, проникнув в деревню, заметили, что у каждого дома выставлены часовые. Стало ясно — здесь расположился крупный вражеский гарнизон. Чтобы лучше и быстрее выяснить его силы, решили разойтись в разные стороны, а затем встретиться в условленном месте.
На северной окраине, куда направился Дубенец, в двадцати — тридцати метрах друг от друга горело несколько больших костров. К одному из них разведчик подполз довольно близко. Сидевшие у костра солдаты, перебрасываясь фразами, часто упоминали знакомое слово «партизаны». Видимо, к тому времени советские патриоты уже начали причинять врагу неприятности.
В деревне разведчики обнаружили более ста автомашин, около ста пятидесяти мотоциклов, несколько орудий.
— А это вам личный подарок, — широко улыбнулся Дубенец, протягивая гитлеровский флаг.
— Благодарю. Трофей приятный. Желаю почаще приносить такие подарки.
— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Дубенец, вскинув руку к козырьку старой замасленной кепки.
За дни, прошедшие после неудавшейся попытки прорваться через линию фронта, мы значительно окрепли и выросли. У нас около двух тысяч человек. Отряды возглавляют опытные командиры и политработники. Поднакопили мы и оружия, боеприпасов. Сейчас нам уже под силу такой гарнизон, как в Журавах.
Невдалеке под большим деревом крепким сном спят Осипов и Дубенец. Перед боем и мне следует отдохнуть. Рядом с ними расстелил плащ-палатку. Снял китель, повесил на ветку. Под голову положил кожанку. Но сон не идет. Нервы напряжены, мозг неустанно работает.
Около Осипова лежит небольшая тетрадь в твердом сером переплете. Взял ее — дневник. По датам видно, что ведет его Осипов с начала войны. Я никогда не страдал излишним любопытством, а вот сейчас не удержался и заглянул в тетрадь.
Первые беглые записи сделаны синими и красными чернилами, дальше пошли страницы, исписанные карандашом. За скупыми строками, педописанными фразами передо мной раскрывался замечательный мир душевных переживаний. В каждой фразе, в каждом слове — огромная любовь к народу, к Родине, к партии. Что ни страница — глубокая вера в наши силы и неугасимая ненависть к гитлеровцам, желание жестоко мстить им за поруганную землю. Осипов пишет;
«Помню 1918 год, когда самодовольная немчура грабила моих односельчан и издевалась над ними. Сейчас я вновь вижу пылающую в огне родную Белоруссию. Но теперь мы не те, какими были в восемнадцатом. Подавишься, проклятый враг! Нас миллионы. Мы бессмертны. Мы не сложим оружия, пока гитлеровцы на нашей земле!»
Я листаю страничку за страничкой Неожиданно встретил стихи:
Эти чистые строки, написанные в минуты душевного откровения, Осипов посвятил своей любимой дочурке, В другом стихотворении он говорит: «Тот, кто верит в русскую силу, кто шагами измерил землю родную, никогда не будет побежден!» Хорошо сказано!
Прочитана последняя страница. Дневник только начат, но производит большое впечатление. Кладу его на место. Осипов и Дубенец продолжают спать.
Я тоже закрываю глаза, стараясь уснуть. Но, видимо, нервное напряжение сильнее сна. Полежав еще около часа, встал, умылся, надел китель и вызвал командиров и политработников.
Когда все собрались, очистил квадратный участок земли от листьев и веток. Палкой начертил план населенного пункта Журавы, о котором имел точное представление благодаря подробному докладу О. сипова и Дубенца.
— Атакуем деревню двумя отрядами. Один будет в резерве.
Каждому командиру дал конкретное задание, указал, где и какими силами наступать. Атаку назначил на пять часов утра. К двум часам ночи подразделениям надлежало занять исходное положение.
Затем направился к генералу Степанову. В последние дни он плохо себя чувствовал. Разыгралась старая язва желудка. Нужна была диета, а как ее соблюсти в наших условиях? Степанов спасал себя лесными ягодами, заваренными в кипятке, и киселями, которые из тех же ягод готовила ему заботливая Елизавета Ершова.
Когда я подошел к нему, генерал лежал на земле скорчившись. Его одолевал очередной приступ.
О своей тяжелой болезни он мне ничего не говорил. Узнал я об этом недавно от других и только тогда понял, что это мучительная болезнь сделала его раздражительным, порой не позволяла здраво осмыслить происходящее. Сейчас я глубоко сочувствовал Степанову и в душе сожалел, что так резко разговаривал с ним при первой встрече.
— Как, старина, дела?
— Плохи, Иван Васильевич. Думаю, здесь и помирать придется. Найдется какая-нибудь чернильная душа и запишет в донесении: генерал Степанов умер тогда-то, не в бою погиб, а умер бесславной смертью..
— Зачем городишь такую чепуху? Немцев бить надо, а он о смерти толкует. Рановато, друг. Давай лучше о жизни поговорим. Будем надеяться, что хворь пройдет, ведь боль всегда уступает место покою.
— Это-то верно. Но мне, пожалуй, пора подводить черту.
Стараюсь отвлечь генерала от грустных мыслей. А ничто не действует. Со лба Степанова стекают струйки пота, больной через силу стирает их вялой рукой.
За последние два дня генерал резко сдал и стал походить на глубокого старика. Глаза его потускнели, лицо приобрело пепельный цвет, разговаривает он с трудом. Ему необходима квалифицированная медицинская помощь, нужен врач. А где его взять? Мы делаем все возможное в наших условиях, чтобы как-нибудь облегчить человеку страдания. Но лес и плащ-палатка не могут заменить госпитальной койки. К тому же нам нельзя долго сидеть на одном месте, приходится продвигаться к линии фронта. Правда, если Степанов не может идти, его осторожно переносят на плащ-палатке. Однако и такие передвижения отражаются на здоровье.
Наша беседа явно не клеилась. Поэтому я обрадовался, когда Крицын предложил:
— Товарищ генерал, может, чай приготовить?
Адъютант быстро развел небольшой костер, по обе стороны вбил сучковатые палки, положил перекладину и повесил котелок с водой. Вскоре она закипела. Крицын бросил туда горсть ягод, и вода приняла темно-коричневую окраску. Затем налил кипяток в две кружки. Одну поставил около Степанова, другую протянул мне. Из полевой сумки достал кусок сахару и ловко расколол его пополам.
— Как говорили в старину: чай Высоцкого, а сахар Бродского, — едва слышно произнес Степанов, и губы его чуть-чуть улыбнулись.
— А у нас, брат, чай лесной, а сахар запасной.
В ответ Степанов что-то еще пробормотал, сделал несколько глотков, потом протянул кружку Крицыну и закрыл глаза. Ему трудно было даже говорить.
Я отошел от. генерала, угнетенный его видом и удрученный сознанием, что бессилен ему помочь.
Точно в назначенное время два отряда, которым предстоял бой за Журавы, заняли исходные позиции на опушке леса. Начальник штаба подполковник Яблоков докладывает, что в боевую готовность приведен и третий отряд. В случае надобности он придет на помощь.
Вместе с Яблоковым, Стрельбицким, Осиповым и еще несколькими командирами обходим подразделения. Отрадно, что везде царит наступательный дух. Слышны меткие шутки. Кто-то вполголоса напевает злые частушки о Гитлере и его грабьармии.
В стороне от других два бойца. Они так увлечены разговором, что не заметили нас.
— Эх и соскучился я по своей, — говорит один.
— А хороша она? — в шутку интересуюсь я. Боец вскочил, привычным движением расправил сборки на гимнастерке, взял под козырек и гаркнул:
— Так точно, товарищ генерал, жена у меня замечательная.
— Как ваша фамилия?
— Красноармеец Морозов.
— Не торопитесь домой, товарищ Морозов. Мы еще в Берлине не были. Там, если пожелаете, мы вас на немке женим.
— А по мне, товарищ генерал, лучше моей Ольги нет. Не знаю, какие там красавицы в Германии, а только глаза б мои на них не смотрели. Знаете, как узнал, что идем сегодня в наступление, на сердце легче стало. Прямо скажу — умирать неохота. Может, и меня в той деревне смерть ожидает. Но не о ней дума моя сейчас. Авось мимо пройдет. А вот руки чешутся. Не терпится фашистов бить. Я, товарищ генерал, так думаю, ни один патрон зря не выпущу. Стрелять немало приходилось: и на Халхин-Голе, и когда на карельском фронте воевал, и теперь уложил нескольких гитлеровцев, так что глаз наметан.
— Зря хвалишься, Серега, курицу и ту боишься зарезать, — подшутил над бойцом товарищ.
— Чудной! Ведь то птица, благородное существо, а это фашисты…
Я пожелал бойцу успехов и приказал после боя явиться ко мне и доложить, скольких гитлеровцев убил.
— Есть, товарищ генерал. Непременно доложу.
Когда мы распрощались, я подумал о том, как хорошо, что бойцов, подобных Морозову, у нас много. От одной этой мысли на душе стало легче, появйлось еще больше веры в благополучный исход предстоящего боя…
С нетерпением поглядываю на циферблат часов. Последние минуты перед боем кажутся бесконечными. Все проверено. Все готово. Точно в пять ноль-ноль даю ракету.
Подразделения одновременно вышли с опушки. Когда уже почти достигли дороги, контролируемой гитлеровцами, послышались редкие выстрелы. Тут же наши пулеметы открыли огонь и заставили врага замолчать.
Первым на окраину деревни ворвалось подразделение капитана Баринова. Гитлеровцы успели открыть артиллерийский огонь, но наши бойцы уничтожили орудийную прислугу, и пушки замолчали.
Полтора часа продолжался ожесточенный бой. После упорного сопротивления враг был смят. Он потерял только убитыми более двухсот пятидесяти солдат и офицеров.
Мы захватили богатые трофеи: свыше ста легковых и грузовых автомашин, около пятидесяти мотоциклов, несколько орудий разного калибра и передвижных радиостанций, тысячи ящиков с боеприпасами, склад с продовольствием, а оружия столько, что им можно было вооружить две такие дивизии, как наша.
Правда, и мы потеряли в бою около семидесяти человек. Но разве бывает война без потерь? Склоняя головы над могилами павших товарищей, мы скорбели, но в то же время гордились их подвигами и были глубоко благодарны за тот неоценимый вклад, который они внесли в эту первую крупную нашу победу.
Ко мне подошел боец, который шутил над Морозовым, будто тот и курицу побоится зарезать.
— Товарищ генерал, разрешите обратиться.
— Разрешаю.
— Помните Морозова, дружка моего, который по жене своей скучал? Погиб он, бедняга, а гитлеровцев бил, как куропаток…
На глазах бойца выступили слезы. Он вынул из кармана измятую фотографию и подал ее мне.
— Вот, взял у Морозова.
Со снимка смотрела красивая молодая женщина. Я подумал, а ведь верно говорил солдат: «Лучше моей Ольги нет!»
Вспомнил свою семью. Жива ли жена? Где-то сейчас воюет сын-летчик? Что с дочерью?
— Товарищ генерал, что будем делать с трофеями? — прервал мои раздумья начальник штаба Яблоков.
— Часть возьмем с собой, а остальное уничтожим, причем делать все нужно быстро. Долго оставаться в деревне нельзя.
— Жаль уничтожать-то, ведь все нужное!
— Всего в лес не перетащишь.
Я обошел деревню, осмотрел захваченное имущество. Его очень много. Не будь мы в окружении, всему нашлось бы применение.
Решил взять только оружие, боеприпасы, продовольствие, машины с радиостанциями и несколько мотоциклов.
После разгрома гарнизона в Журавы надо было ждать ответных карательных мер врага. Оставаться поблизости от деревни опасно, следует покинуть обжитую стоянку и углубиться в лес..
Но как переправить имущество? Особенно меня волнуют четыре громоздкие радиостанции, смонтированные на автомашинах. Мы столько времени оторваны от внешнего мира, ничего не знаем о событиях на советско-германском фронте, не имеем представления, где ведут бои войска нашего Западного фронта, и вообще не знаем, что делается в стране. Радиостанции свяжут нас с Большой землей.
— Товарищ генерал, разрешите мне и еще нескольким водителям доставить радиостанции на место новой стоянки, — просит Андрей Дубенец.
— А как вы это сделаете?
— Покидая деревню, мы на всякий случай прихватила с собой несколько пар немецкого обмундирования. Переоденемся и поедем. Машины немецкие, костюмы тоже, чего еще нужно?
План Дубенца сопряжен с большим риском. Но что делать? Пришлось согласиться.
Минут через десять — пятнадцать передо мной уже стояли несколько красноармейцев в немецкой солдатской форме. А на Дубенце офицерский френч. И сидит ладно, так, что кто-то даже пошутил:
— Настоящий немец! Еще надо проверить, может, он арией чистых кровей.
После того как машины с радиостанциями тронулись сразу же, утром, выступили и мы. На этот раз изменили обычному правилу делать переходы только ночью.
И очень хорошо, что поторопились. Не более чем через час — полтора после нашего ухода гитлеровцы подвергли нашу стоянку жестокой бомбардировке. В лес сунуться побоялись, а бомб и снарядов не пожалели.
… Идти трудно. Каждый из нас основательно навьючен. Достается и мотоциклистам, оседлавшим несколько трофейных машин. Им приходится петлять между деревьями, а иногда тащить мотоциклы на себе.
Когда прибыли на новое место, Дубенец и его товарищи были уже там. Машины они провели благополучно.
Теперь можно перекусить, отдохнуть, привести себя в порядок.
За прошедшие сутки генерал Степанов преодолел приступ и даже будто повеселел. Но сил у него мало, и четыре специально выделенных красноармейца помогают ему. Сейчас они отстали и на новое место прибыли часа через два после нас.
— Что, генерал, марафонец из тебя не вышел? На длинных дистанциях пасуешь? — спрашиваю Степанова.
— Да я уже и на короткие не гожусь.
Выбрав место поудобней, Степанов сразу же прилег отдохнуть.
Наша дивизия еще не является в полном смысле слова тактическим соединением. Тем не менее, как показали прошедшие события, ей уже под силу даже сложные боевые задачи. Мы научились превосходно владеть не только своим оружием, но и трофейным.
— Товарищ генерал, радио работает! — с радостью сообщил прибежавший Крицын.
Молодцы радисты! С группой командиров и политработников направляюсь к радиостанциям. Знакомый голос московского диктора передает сообщение Советского информбюро. Известия тревожные. На всех направлениях идут ожесточенные бои. Наши части оставляют один город за другим. Но сопротивление врагу возрастает. Он уже заметно сбавил темпы наступления и продвигается вперед ценой огромных потерь.
Значит, страна живет, сопротивляется, Красная Армия наносит врагу большой урон. Л ведь фашисты непрерывно разбрасывают над лесом листовки, в которых клевещут на советский народ, пишут, будто Красная Армия разгромлена и прекратила существование, будто Москва уже пала…
Мы слушали родную Москву с затаенным дыханием, у нас прибавлялось сил, росла вера в грядущую победу.
Отряды живут активной боевой жизнью, нанося врагу все новые и новые удары. По-прежнему много забот с боеприпасами и продовольствием. В нашем положении по телефону не позвонишь снабженцам, мол, подвезите то-то и то-то. Все нужно достать самим, отвоевать у врага.
К тому же в последние дни двигались по районам, где гитлеровцы ограбили и разрушили колхозы. Жители голодали сами и при всем желании не могли обеспечить нас продовольствием.
Однажды после боя и утомительного ночного перехода мы сделали привал. Есть совсем нечего. Ко мне подходит Ершова, просит разрешить ей сходить в ближайшую деревню и попытаться достать хоть немного продуктов для раненых.
Говорю девушке, что в гимнастерке и брюках она будет явной приманкой для фашистов. Обещаю отпустить ее, как только разведчики раздобудут женское гражданское платье.
— Сама достану, только разрешите, — настаивала Ершова.
— Ну хорошо, — согласился я после долгих просьб, — однако предупреждаю: будьте осторожной и внимательной.
Майору Пахомову поручил проводить девушку по лесу и показать, по какой дороге лучше идти.
Так Ершова ушла в первую разведку.
Пять часов ее не было, и все это время я волновался. Уже начинал жалеть, что не проявил твердости. Наконец она появилась. Первым ее заметил Дубенец:
— Смотрите, наша сестрица, будто Лизанька из «Пиковой дамы». Где она только достала такое платье?
Действительно, Ершову трудно было узнать. Новое платье безукоризненно облегало ее стройную девичью фигуру. Что и говорить, девушки не созданы для военных брюк и гимнастерки!
В руках Ершова держала большую плетеную корзину, на дне которой были спрятаны военная одежда и сапоги. Сверху лежали хлеб, сало и другие продукты.
Разведчица поведала нам о своем первом «выходе в люди». Явилась она в деревню, постучала в первый попавшийся дом. Хозяйка, с опаской глядя на незнакомку, неохотно впустила ее в горницу. В доме жили две девушки, и Ершова с ними познакомилась. Оказались землячки — студентки из Ленинграда. Приехали в деревню на отдых, а война задержала их тут, видно, надолго. Ершова коротко рассказала о себе, попросила у них помощи. Девушки охотно подарили ей платье и туфли.
Хозяйка накормила разведчицу, сообщила, что сейчас в деревне фашистов нет. Они были, да ушли, оставив «новую власть» — откуда-то привезенного старосту.
Ершова поблагодарила за добрый прием и распрощалась. Провожая ее, хозяйка предупредила, что в соседней деревне стоят гитлеровцы. Но смелая разведчица именно туда и пошла.
Деревня оказалась большой, а улицы пустынными. Встретила только парнишку лет тринадцати. Он рассказал, что здесь штаб какой-то немецкой части.
— Начальство ихнее вон там гуляет, — показал мальчуган на большой дом.
Ершова направилась к дому. Из раскрытых окон слышны пьяные голоса. У входа подвыпивший солдат автоматом преградил ей путь. Но девушка объяснила, что идет к сестре — хозяйке дома, и он пропустил. Увидев незнакомку, хозяйка сильно испугалась. Ершова обняла ее и прошептала на ухо:
— Если немцы спросят, кто я, отвечайте: сестра.
— Ради бога, уходите, — взмолилась женщина. — Ведь из-за вас они, проклятые, повесят и детей, и меня.
Ершова сказала, что ничего плохого не сделает, а если немцы начнут расспрашивать, сама поговорит с ними, благо знает немецкий язык.
Из комнаты, где веселились офицеры, вышел солдат. Недоуменно посмотрел на Ершову, а когда та заявила, что она сестра хозяйки, ухмыльнулся и занялся своим делом. Напевая, он жарил яичницу, открывал консервные банки. Ершова предложила помочь. Солдат охотно согласился.
Со страхом наблюдала хозяйка, как отважная девушка шутила с гитлеровцем, помогая ему готовить угощение для начальства.
Когда все было готово, солдат удалился к офицерам. А Ершова быстро сложила оставшиеся масло, сардины и колбасу в свою корзину и ушла. После этого она благополучно миновала деревню, пересекла поле и возвратилась в лес.
По свежим следам девушки в деревню направились Осипов, Дубенец, Булгаков и Калюжный с группой бойцов. Они тихо сняли часового, вошли в дом, где недавно побывала разведчица, и без единого выстрела прикончили пьяных офицеров и всю их прислугу. За это время хозяйка с детьми тоже успела уйти из деревни, чтобы укрыться в надежном месте.
С тех пор Ершова начала часто ходить в разведку, выполняя задания одно сложнее другого. Были случаи, когда она попадала в очень опасные положения, но умело выходила из них. Благодаря добытым ею сведениям наши отряды не раз совершали удачные налеты на вражеские гарнизоны.
Припоминаю такой случай. Нам предстояло выяснить, нет ли противника в деревне по соседству с лесом, где мы остановились. Лучше всего это сделает переодетая в штатское Ершова. Фашисты к женщинам относятся менее подозрительно. Осипов и Дубенец сопровождают девушку до окраины деревни и там ожидают ее возвращения.
Деревня большая. В ней около трехсот дворов, двухэтажная школа. Ершова бесстрашно ходит по улицам, беседует с жителями. Те рассказали, что только недавно у них побывала немецкая мотомеханизированная часть. Сейчас, правда, фашистов нет, но они могут появиться каждую минуту, так как через деревню на восток все время идут вражеские войска.
Разведчица узнала, что живет здесь семья секретаря колхозной партийной организации, не успевшая эвакуироваться, и пошта к ней.
В небольшом аккуратном домике ее приветливо встретила женщина лет сорока. Разговорились. Жена секретаря оказалась на редкость душевным человеком. Узнав, кто такая Ершова, она пригласила ее во вторую комнату и втайне от детей заявила:
— Прошу вас, рассчитывайте на мою помощь. Буду рада, если смогу быть вам полезной. Мой муж ведь тоже воюет с этими иродами. Может, его уже и в живых нет.
Гостеприимная хозяйка растопила печь и стала готовить пищу для раненых. Вдруг застрекотали моторы, и мимо дома промчались несколько вражеских мотоциклистов. Их появление ничего хорошего не предвещало. Не исключено, что следующая за мотоциклистами часть сделает в деревне привал. Беспокойство окончательно овладело Ершовой, когда минут через десять против дома остановилась открытая легковая машина с двумя офицерами. Ершова сняла висевший у двери платок, повязала им голову и вышла на улицу.
Увидев девушку, один из офицеров подозвал ее к себе, на ломаном русском языке спросил, кто такая. Она ответила, что учительница.
— Советские части здесь давно проезжали?
— Вчера вечером. Поехали вон туда, — разведчица показала в сторону от нашей лесной стоянки.
— Коммунисты в деревне есть?
— Что вы, господин офицер, они все удрали.
Гитлеровец приказал девушке сесть в машину и показывать дорогу, по которой прошли советские войска. Сопротивляться не имело смысла, и разведчица опустилась на сиденье рядом с шофером. Она понимала, что враги скоро обнаружат обман и прикончат ее.
Машина миновала деревню, выехала на дорогу. И тут послышался голос Дубенца:
— Ложись, сестрица!
Ершова пригнулась, и автоматная очередь уложила шофера. Машина остановилась. Подбежавшие Осипов и Дубенец прикончили офицеров.
Разведчики забрали у убитых документы, а машину с трупами сбросили в ров. После этого Ершова еще вернулась в деревню за продуктами.
Бесконечен список подвигов этой замечательной патриотки. Я всегда удивлялся ее неиссякаемой энергии. В любую пору дня и ночи она была готова пойти на самое рискованное задание.
С тех пор как у нас появилось радио, жизнь стала куда полнее, содержательней. Исчезло чувство оторванности от Большой земли.
Прибавилось работы агитаторам. Все, что принимаем по радио, они тотчас несут в подразделения.
Одна беда: пока что мы ничего не можем сообщить о себе на Большую землю, так как не знаем позывных армейских радиостанций.
В Старом селе, Хоми, Никулино, Ново-Лосьево и десятках других населенных пунктов паши отряды уничтожили немало гитлеровцев, их техники, вооружения. И сейчас, вспоминая те далекие дни, ставшие сегодня историей, я задаю себе вопрос: могла бы наша лесная дивизия действовать успешно, не будь у нас крепкой партийной организации? Никогда! Слова: «Коммунисты всегда и во всем впереди!» — стали у нас законом жизни. Кирилл Никифорович Осипов сказал мне, что он день за днем ведет запись о работе парторганизации и отдельных коммунистов.
— Когда вырвемся из окружения, — заявил он, — сдадим эти записи в Центральный Комитет. Это будет рапорт о мужестве наших партийцев.
В его словах не было бахвальства. В них звучала гордость за свою партийную организацию, за коммунистов, которые всегда и во всем являли боевой пример и вели за собой беспартийных товарищей.
Наши коммунисты не платили членских взносов, мы не всегда имели возможность писать протоколы собраний, но партийная организация жила, действовала и умела привить каждому из нас острое чувство ответственности за свои дела и поступки.
Помню, после первой проверки партийных документов мы постановили, чтобы Осипов периодически проверял, как каждый коммунист хранит свой членский билет или кандидатскую карточку. Это решение неуклонно выполнялось. Стоит ли говорить, как это повышало ответственность каждого из нас, дисциплинировало, заставляло быть особенно бдительным.
В условиях окружения налаживание связей с населением дело далеко не простое. Именно поэтому, отправляя бойцов-коммунистов в разведку, Осипов давал им поручения собирать сведения о местных активистах и заводить с ними знакомства. Потом на партийных собраниях разведчики отчитывались о выполнении таких особых заданий. Благодаря этому мы всегда пользовались поддеря; кой жителей.
Белорусские крестьянки с охотой выпекали хлеб и через местных активистов переправляли его в подразделения дивизии. Добрые руки советских патриоток не раз стирали и чинили нашим бойцам белье, доставали для раненых перевязочные материалы, одевали наших разведчиков в гражданское платье.
Мы уже прошли много километров, шагами измерили истерзанную врагом землю родной Белоруссии. И если сейчас вошли уже в Бердинский лес и линия фронта находится буквально в нескольких километрах, если подразделения боеспособны, боевой дух бойцов высок и они с нетерпением ждут команды идти в бой, чтобы вырваться из окружения, то во всем этом прежде всего заслуга нашей партийной организации.
Конец июля. Уже несколько дней мы хозяева Бердинского леса.
До нас доносятся отзвуки близких боев. Линия фронта всего в десяти километрах. Приятно сознавать, что недалек час, когда мы сможем вырваться из окружения.
Собрав командиров и политработников, говорю, что подразделениям нужно готовиться к решительным боям. Но предварительно требуется связаться с войсками Советской Армии, действующими на этом направлении, условиться о времени и месте прорыва, о помощи, которую они нам окажут. Самим нам прорваться будет трудно, без артиллерии мы совершенно беззащитны против танков. Кроме того, если не предупредим своих, можем при выходе попасть под их же огонь.
Чтобы установить связь со своими, необходимо пересечь линию фронта. Ясно, что такую задачу легче всего может выполнить небольшая группа. Послал нескольких разведчиков.
Группа нарвалась на засаду. Вернулся только один из посланных.
Надо посылать другую группу. И как раз Осипов просит:
— Разрешите попытать счастья нам с Дубенцом.
Откровенно говоря, мне стало не по себе от мысли, что могут погибнуть оба друга. И Осипов, и Дубенец нам очень дороги. Они основа нашей разведки, ее душа, если можно так выразиться. Рисковать обоими я не мог.
— Не хотите пустить обоих, разрешите мне подобрать другого напарника, — настаивал Осипов.
— Ладно. Пусть будет по-твоему, — согласился я.
Своим спутником в этом рискованном походе Осипов избрал капитана Сулеймана Тагирова.
Тагиров родом из Татарии, но говорит по-русски чисто, с едва уловимым акцентом Ему лет тридцать. Он высок, строен, смуглолиц. Очень приятный и общительный человек, опытный командир и бесстрашный разведчик.
Выбор напарника, как и решение Осипова выехать верхом, я одобрил. Пока разведчики переодевались в крестьянскую одежду, я на кусочке тонкого полотна заготовил записку генерал-лейтенанту С. А. Калинину, предполагая, что мы находимся против его 24-й армии. «Примите моих представителей Осипова и Тагирова, — говорилось в записке, — и договоритесь с ними о дальнейших действиях. Генерал-лейтенант Болдин». Осипов зашил записку в рукав пиджака.
Ранним утром 9 августа состоялись проводы разведчиков. Прощаясь, я еще и еще раз напутствую их, советую не ввязываться в схватки с противником.
Коновод подвел лошадей. Осипов и Тагиров вскочили в седла и тронулись.
Проехав километра два, разведчики оказались на опушке леса. Впереди отчетливо видна вражеская тяжелая артиллерийская батарея. Дальше продолжать путь верхом рискованно, и Осипов с Тагировым спешились, отдав лошадей коноводу.
Шли медленно, осторожно. То и дело на пути попадались вражеские войска, приходилось быть особенно внимательными.
Все же к исходу дня по звукам выстрелов определили, что до линии фронта осталось совсем немного. Но разведчики хорошо понимали — оставшийся километр будет стоить им всех пройденных.
С наступлением темноты отправились дальше. Теперь они разделились: впереди двигался Осипов, метрах в ста за ним — Тагиров. Предлагая это, Осипов сказал:
— Так больше гарантии, что хоть кто-нибудь из нас пройдет. Если один нарвется на фашистов или попадет под огонь, другой, может, и спасется.
Продвигались осторожно. Часто останавливались и подолгу внимательно прислушивались, вглядывались в темноту. По вспышкам и звукам довольно редких теперь выстрелов старались определить, где на переднем крае сил у противника меньше.
Незадолго до рассвета, когда уже готовились переползти передовую линию гитлеровцев, чуть не наткнулись на вражеский окоп. Перед последним рывком Осипов лежал дольше обычного, но ничего подозрительного не заметил. Хотел двинуться дальше и вдруг услышал впереди приглушенный разговор. Внимательно пригляделся и шагах в десяти на фоне более светлого бруствера увидел темные каски двух фашистских солдат.
От сознания, что его спасла чистая случайность, по спине Осипова поползли холодные мурашки. Пришлось отойти назад, затем в сторону и там уже переходить передний край противника. Все обошлось благополучно. Хорошо, что у гитлеровцев нет сплошного фронта. Видимо, части Советской Армии, обороняясь, здорово их потрепали.
Выбравшись на нейтральную полосу, Осипов подождал товарища.
— Кажется, прошли, — прошептал Тагиров, подползая.
— Не говори гоп… — так же шепотом ответил старший политрук. — Тут как раз и свои пристрелить могут, да и на минное поле попасть не мудрено. Так что не особенно радуйся. И давай-ка поторапливаться, развиднеет скоро, а тогда уж нас наверняка продырявят. Ползи за мной..
Скоро разведчики услышали впереди русскую речь. Видимо, наши окопы от гитлеровских отстояли метров на 200–250, не больше. Поползли на голос, добрались до траншеи, спрыгнули в нее.
Осипов случайно упал на сержанта, командира оборонявшегося здесь отделения.
Тот, перепугавшись, пытался стряхнуть с себя разведчика, но места было мало, и это ему не удавалось. Наконец подбежали солдаты, навалились па разведчиков. Освободившийся сержант схватил карабин, направил его в грудь Осипову.
— Подожди стрелять, — сказал Кирилл, — Мы русские. Отведи нас к командиру.
Сержант немного вроде успокоился, но оружия не опускал и не сводил с разведчиков взгляда. Потом он и еще один боец повели их в тыл.
Командира роты на наблюдательном пункте не оказалось. Был политрук. Он принял задержанных за лазутчиков и коротко приказал:
— К стенке их. Это гитлеровские сволочи.
Осипов убеждал политрука, что тот поступает неправильно. Даже если они вражеские агенты, нужно доставить их в полк.
— Дорогой убежать хотите? — сощурил глаза политрук…
Подумать только — пройти через такие испытания, чтобы оказаться у своих, и тут погибнуть таким нелепым образом.
Откровенно говоря, разведчики не могли винить политрука, заподозрившего их в шпионаже. Может, и они сами поступили бы так же, находясь в его положении. Но разве от этого легче?
Когда уже не оставалось никакой надежды и Осипов подумывал, не попытаться ли убежать от конвоиров, появился наконец командир роты. Это был немолодой уже старший лейтенант, на вид суровый и строгий. Он распорядился, чтобы Осипова и Тагирова отвели в штаб дивизии.
Командир дивизии находился в домике, крытом соломой. Когда разведчиков ввели туда, Осипов распорол подкладку рукава, извлек мою записку и вручил ее командиру. Прочитав ее и выслушав разведчиков, тот сразу же позвонил командующему 19-й армией генерал-лейтенанту Коневу.
В ту пору командный пункт генерала Конева находился на Смоленщине, в районе совхоза «Власиха». Туда и доставили наших разведчиков. Командующий армией встретил их в своей палатке:
— Так вы от Болдина? — потом внимательно посмотрел на Осипова. — А вас я где-то видел.
— Так точно, — доложил разведчик. — В тридцать шестом году, когда вы командовали тридцать седьмой стрелковой дивизией, я служил в ней. Дивизия находилась в Калиновичах, а ваш штаб в Речице.
— Верно, верно. Если память не изменяет, вы были тогда в полку Сироченко?
Когда Осипов и Тагиров обо всем доложили, И. С. Конев заключил:
— Я уже сообщил командующему Западным фронтом маршалу Тимошенко о вас и вашей лесной дивизии. Он приказал мне обеспечить ее выход из окружения. Прошу хорошо запомнить, что я вам скажу. Завтра, одиннадцатого августа, в семь ноль-ноль мы начнем авиационную и артиллерийскую подготовку, а в восемь ноль-ноль наступление. К девяти часам генерал Болдин должен занять исходные позиции в полосе четыре — пять километров и быть готовым к прорыву. Когда все внимание противника будет обращено на нас, пусть ваша дивизия начинает наступление с тыла. Да покрепче кричите «ура», чтобы при встрече мы случайно не стали стрелять друг в друга. Для большей гарантии мы установим опознавательные знаки: шест с перекладиной, в виде буквы «Т». К ней будут прикреплены три белых полотнища.
Командующий спросил Осипова и Тагирова, все ли им ясно. Те ответили утвердительно.
— А как предполагаете вернуться к своим? Может, на самолете, а над Бердинским лесом спуститесь на парашютах?
Узнав, что разведчикам еще не приходилось прыгать с парашютами, командующий от этой мысли отказался и согласился, что лучше всего им уйти так же, как и пришли. Только он приказал выделить для сопровождения их тридцать бойцов.
В ночь на 11 августа наши разведчики в сопровождении взвода стрелков покинули КП армии. Выбравшись на передовую, бойцы рассредоточились змейкой и по команде перешли линию своих окопов. Благополучно преодолели нейтральную полосу. И вот уже вражеские позиции. Имея опыт, наши боевые друзья незаметно проскользнули между ними и даже сумели по пути повредить связь противника.
Когда появились первые признаки рассвета, отважные разведчики вместе со стрелковым взводом вышли к опушке леса, где располагалась наша дивизия. Весь поход они. проделали с такой ловкостью, что не вызвали со стороны врага ни единого выстрела.
В последнее время среди захваченных нами трофеев оказалось немало средств связи. Благодаря этому мы проложили телефонные линии к своим отрядам. Один из полевых телефонов установили на опушке, куда вышли наши разведчики. Неожиданно затрещал мой аппарат. Я снял трубку и услышал взволнованный голос Осипова:
— Товарищ генерал Болдин?
— Слушаю, дорогой Осипов! — радостно кричу в ответ.
— Докладываю. Ваше задание выполнено. Прибыли с посланцами генерала Конева. Подробности при встрече.
Мы находились в нескольких километрах от опушки. Пока Осипов и Тагиров со стрелковым взводом шли к нам, я собрал командиров и политработников, сообщил им радостную весть.
А тем временем подошли наши посланцы. Они рассказали о своем походе, о встрече с генералом Коневым. Осипов вынул из кармана пиджака несколько пачек «Казбека», протянул их мне:
— Подарок генерала Конева.
Стоит ли говорить, как дорого было нам такое дружеское внимание. Я раскрыл коробки, и к ним потянулись руки курильщиков.
Осипов снял пиджак, и я шутя сказал:
— Когда выберемся из окружения, отошлем пиджак в Музей Советской Армии.
Осипов посмотрел на меня, улыбнулся:
— А я так думаю, товарищ генерал, он мне еще здесь пригодится…
Я посмотрел на часы. Времени до начала прорыва оставалось мало. Приказал накормить людей. Штабные офицеры и командиры отрядов собрались для окончательной отработки плана выхода из окружения.
Последние три дня наши отряды настойчиво готовились к прорыву. Враг, безусловно, знал о существовании дивизии, но не имел точных данных о ее численности, составе и вооружении.
Лес, в котором мы находились, был не особенно велик, но достаточно густ, так что даже днем в нем трудно ориентироваться. Это, по-видимому, и останавливало гитлеровцев от атак на нас. В бессильной злобе они сожгли все деревни вокруг, завалили колодцы, стремясь взять нас измором. И конечно же, фашисты не допускали мысли, что мы осмелимся сами атаковать их с тыла.
И августа точно в назначенное время части генерала Конева, находившиеся по ту сторону фронта, обрушились на врага. Восемнадцать бомбардировщиков совершили налет на позиции противника. Артиллерия открыла интенсивный огонь.
Прорыв я решил осуществить в двух пунктах на расстоянии двух километров один от другого. В правой колонне, с которой находился я сам, впереди двигался третий отряд, за ним второй, потом обоз. Колонну замыкал пятый отряд. Он прикрывал обоз и одновременно являлся моим резервом. Левая колонна состояла из первого и четвертого отрядов.
Отряды скрытно, без выстрелов приближались к врагу. В полосе нашего наступления располагалось пять немецких батарей в том числе две зенитные. Поэтому первый удар мы произвели по неприятельской артиллерии. От неожиданное ы1 фашисты растерялись и даже не успели открыть огонь. Лишь одна батарея сделала несколько выстрелов, но тотчас прислуга ее была уничтожена.
Немецкую пехоту мы также застигли врасплох. Тысячеголосое «ура» прокатывалось, точно морская волна, по всему фронту.
И тут гитлеровцы бросили против нас авиацию. В наших цепях стали рваться бомбы. Одна упала совсем рядом, ее осколок сразил генерала Степанова.
Все же мы смяли гитлеровцев во всех траншеях. Фронт был прорван!
Из вражеского окружения вместе со мной вышло 1654 вооруженных бойца и командира. За сорок пять дней рейда по тылам противника мы уничтожили несколько вражеских штабов. 26 танков, 1049 грузовых, легковых и штабных машин, 147 мотоциклов, пять батарей артиллерии, четыре миномета, 15 станковых и 8 ручных пулеметов, один самолет и несколько вражеских складов, среди которых один с авиабомбами. При этом истреблено свыше тысячи гитлеровских солдат и офицеров.
Когда мы вышли из окружения, Ставка Верховного Главнокомандования Советской Армии издала приказ № 270 В нем отмечалось высокое мужество личного состава нашей дивизии.
Родина высоко оценила подвиг воинов, совершенный в тылу врага. Старшему политруку Кириллу Осипову и лейтенанту Андрею Дубенцу было присвоено звание Героя Советского Союза. Орденом Ленина награждены капитан Сулейман Тагиров и боец Максим Билык, младший сержант Андрей Калюжный и политрук Григорий Булгаков. Полковник Иван Стрельбицкий и разведчица Елизавета Ершова, политрук Сергей Аксенов и боец Иван Ивкин, подполковник Тимофей Яблоков и лейтенант Евгений Крицын получили ордена Красного Знамени. Десятки других бойцов и командиров были удостоены высоких правительственных наград за мужество и отвагу, проявленные в тылу врага.
И вот я еду на КП командующего 19-й армией к генералу Коневу. Мы обнимаемся и молча, точно не зная, что сказать, несколько минут крепко жмем друг другу руки. Конев заговорил первым:
— Значит, выстояли, генерал?
— Выходит, выстояли…
— Превосходно. Знаешь, Иван Васильевич, маршал Тимошенко все время звонит, интересуется, как дела. Буквально каждые пятнадцать минут я докладывал ему, как отряды вашей дивизии проходили линию фронта. Вот и сейчас жду вызова.
Действительно, вскоре послышался звонок. Генерал Конев взял трубку. У аппарата маршал Тимошенко. Узнав, что операция по выводу нашей дивизии из окружения благополучно завершена, приказал, чтобы я немедленно прибыл к нему.
Севернее Вязьмы есть небольшой населенный пункт Касня. Здесь разместился штаб Западного фронта.
Командующий фронтом Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко выслушал мой доклад о делах сводной дивизии в тылу врага, дал им хорошую оценку Затем он сказал, что по его просьбе меня оставляют заместителем командующего фронтом.
— Так что повоюем вместе, — заключил Семен Константинович.
Однако повоевать вместе нам не пришлось. Вскоре командующим фронтом был назначен генерал Конев.
В один из дней он предложил мне выехать на передовой наблюдательный пункт фронта, который находился в районе Вадино. В ту пору там были сосредоточены три наши танковые бригады, одна стрелковая и одна кавалерийская дивизии. Я должен был подготовить эти войска для отражения предполагавшегося наступления противника.
На третий день моего пребывания в районе Вадино противник перешел в наступление крупными силами. Все наши попытки сдержать его натиск ни к чему не привели, и вскоре с частью подчиненных мне войск я снова попал в окружение.
Около месяца мы находились во вражеском кольце. Ценой огромных усилий 5 ноября удалось вырваться из окружения. Но и я, и мой адъютант Крицын были ранены. Годовщину Октябрьской революции пришлось встречать в одном из московских госпиталей.
Тульское направление
Как-то мое одиночество в госпитальной палате нарушил телефонный звонок. Из Ставки сообщили, Чтобы я быстрее приезжал — для меня нашли дело.
В полночь я уже сидел в кабинете начальника Генерального штаба. За долгие годы службы в армии нам с Шапошниковым часто приходилось встречаться, и каждая встреча радовала меня. В этом замечательном человеке, всегда внутренне и внешне подтянутом, организованном, гармонично сочетались душевная красота и огромная эрудиция, высокая культура и блестящее знание военного дела.
Он был высокообразованным представителем военного командования и обладал большим личным обаянием. С первой же встречи маршал Шапошников располагал к себе. Ни занимаемый пост, ни перегруженность работой не мешали ему быть всегда одинаково ровным, общительным. Его никогда не покидало чудесное качество — умение для каждого найти доброе слово.
Вот и теперь, в этот поздний час, беседуя со мной, Борис Михайлович интересовался самочувствием, расспрашивал о семье, вспоминал события далеких двадцатых годов и наши первые встречи. Несмотря на то что в ночное время московское небо было особенно тревожным, маршал сохранял полное спокойствие. Больше того, он сумел создать атмосферу уюта, наполнить беседу теплом.
— Так вот, голубчик Иван Васильевич, — говорил Шапошников, выйдя из-за письменного стола и расхаживая по кабинету. — Дела наши очень серьезны. Враг не только не отказался от захвата Москвы, но даже усилил натиск.
Борис Михайлович взял большую указку и подошел к карте, висевшей на стене.
— Гитлер бросил в район Тулы свои отборные части, занял Ясную Поляну. Вы представляете: его вандалы посмели осквернить святая святых нашего народа — могилу Льва Николаевича Толстого, разрушают его дом, где было создано гениальное творение человеческого ума «Война и мир», грабят музей писателя, разоряют его усадьбу.
Сейчас враг вплотную подошел к Туле. С территории Косогорского металлургического завода он ведет огонь по городу. Цель противника — захватить Тулу и превратить ее в плацдарм для удара на Москву.
Внимательно слушаю маршала и слежу за указкой, которой он водит по карте.
— Учитывая сложившееся положение, — продолжал Шапошников, — Ставка решила поручить оборону Тулы пятидесятой армии, а вас назначить ее командующим. Прошу понять, насколько ответственна эта задача. Отстоять Тулу — значит не позволить врагу окружить Москву!..
Маршал по-отечески положил на мое плечо руку:
— Думаю, задача ясна. Нельзя забывать, что захват Тулы Гитлер поручил достаточно опытному боевому генералу Гудериану. На счету его много значительных военных операций.
Я прекрасно понимал опасность, нависшую над Москвой, и важность обороны Тулы. А потому был счастлив и горд, что мне поручена такая задача.
— Товарищ маршал, задача мне ясна. Жизни своей не пожалею, но Тулу врагу не отдам.
— Вот и прекрасно. Сейчас пятидесятая армия пополняется свежими силами. Ей будет придано несколько сибирских частей. Люди там — настоящее золото, большинство коммунисты и комсомольцы. Значительная часть— рабочие, народ надежный, крепкий. В Туле создан и свой рабочий полк, героически защищающий город.
Затем маршал подошел к столу, нажал кнопку звонка. Вошедшему адъютанту приказал:
— Подготовьте машину для генерала Болдина.
Адъютант удалился.
— Знаете, голубчик, — снова заговорил Шапошников. — Я солдат, вся моя жизнь прошла, если позволительно так сказать, под ружьем. Я далек от слезливой сентиментальности. Какой ценой человечество оплачивает любую войну, тоже прекрасно знаю. Однако мне до сих пор трудно смириться с мыслью, что в Ясной Поляне бесчинствуют гитлеровские головорезы. Я глубоко люблю великие произведения Льва Николаевича. Они открыли передо мной огромный мир знаний. Так может ли быть спокойным сердце, когда на яснополянской земле находятся оккупанты, для которых русский Толстой, равно как и великий немец Шиллер, ничего не значит.
Из высокой стопки книг, лежавших на письменном столе, Борис Михайлович взял одну и протянул мне. Это была книжка Толстого «Николай Палкин», изданная в 1891 году.
— Обратите внимание, редчайшее издание. Чудесная вещь, очень смелая. Сколько в ней правды1 Обличительный документ. Каждое слово, каждая строка его стреляет. Да, да, именно стреляет. Только послушайте. — Борис Михайлович взял у меня книжку и, найдя нужную страницу, начал читать: — «Гибли сотни тысяч солдат в бессмысленной муштре, на учениях, смотрах, маневрах и на еще более бессмысленных жестоких войнах против людей, отстаивавших свою свободу в Польше, Венгрии, на Кавказе. Все это делалось по воле одного человека…»
Внезапно прервал чтение, посмотрел на часы, стрелки которых показывали половину третьего ночи.
— Что ж, на этом, видимо, закончим беседу. Советую немного отдохнуть — и, как говорят, с богом. Явитесь в штаб Западного фронта, постарайтесь получить там данные о положении на Тульском участке. Хотя, откровенно говоря, там имеют туманное представление о том, что творится у туляков. Вам следует по прибытии в Тулу связаться с городским комитетом обороны, самому детально во всем разобраться и немедленно доложить нам.
Маршал подал мне руку:
— От себя лично прошу узнать о Ясной Поляне. Постарайтесь, голубчик, сохранить ее, не дайте врагу разрушить. Следует наладить связи с яснополянскими жителями. Они особенно ревнивые хранители всего, что связано с именем их великого земляка. — Борис Михайлович проводил меня до дверей. — Счастливого пути. Ждем добрых вестей от вас, генерал Болдин.
Была морозная ноябрьская ночь. Заснеженная Москва сорок первого года выглядела настороженной. Мы ехали по улицам, перегороженным баррикадами и «ежами». Машину часто останавливали военные патрули. Помню их сосредоточенные лица, острые глаза, придирчивый осмотр документов, освещаемых карманными фонариками. Да иначе и нельзя: тяжелая военная обстановка требовала особой бдительности.
Так, минуя улицу за улицей, мы продолжали путь к фронту, навстречу большим боям. И вот уже штаб фронта.
Доложил командующему и члену Военного совета о прибытии. Познакомился с последними оперативными сводками о положении на Тульском участке. Получил ряд дополнительных указаний и сразу же выехал в Тулу.
Некогда мирное шоссе Москва — Тула превратилось в оживленную военную магистраль. Шла передвижка войск. Одни направлялись в столицу, другие в Тулу — привычная картина фронтовой дороги. По обе стороны шоссе зорко несли службу зенитчики.
Машина миновала Подольск, маленький городок Чехов, приближалась к Серпухову. А мысль нетерпеливо бежала вперед: быстрее бы Тула, скорее бы узнать, что там. Время, проведенное в госпитале, казалось бездарно растраченным. Хотелось скорее наверстать упущенное, немедленно действовать, тотчас включиться в суровую, полную опасных неожиданностей фронтовую жизнь. Это, казалось мне, будет лучшим лекарством от всех недугов.
Припомнились слова маршала Шапошникова о Толстом и Ясной Поляне, о небольшой книжечке «Николай Палкин». Когда-то вот по этой же дороге, по которой сейчас катит наша машина, много десятилетий назад великий писатель шел пешком из Москвы в Ясную Поляну. Повстречал отставного солдата — древнего старика, прожившего чуть ли не век. Но память у старика оказалась удивительно свежей. Он помнил все события, не забыл ни горестей, ни обид, перенесенных за долгую жизнь. И поведал тот солдат Льву Николаевичу о проклятой службе в армии времен Николая I.
Пришел Толстой в Ясную Поляну и написал рассказ «Николай Палкин». Написал его так, как услышал от старика, ничего не утаив, ничего не приукрасив. Суровая солдатская правда звучала грозным обвинением всему николаевскому строю, трижды проклятым порядкам царя-душителя…
Ноябрьский день короток. Только недавно стрелки показывали четыре часа, а уже наступили вечерние сумерки. Мела поземка. Ехать становилось все трудней. Машина то и дело буксовала, шофер часто останавливал ее, чтобы протереть стекла.
Поздно вечером 22 ноября приехал в Тулу. В городе густая сеть оборонительных сооружений: надолбов, противотанковых рвов, массивных «ежей». Рабочая Тула ощетинилась.
Городской комитет обороны помещался на улице Воровского в старинной церкви. Ничем не примечательное в мирное время, сейчас это здание стало средоточием всех новостей. Они стекались сюда со всех концов города, со всех участков обороны. Здесь же созревали новые планы защиты Тулы. Отсюда шли указания предприятиям о помощи войскам.
По каменным ступеням узкой лестницы спустился в подвал. За толстыми, более чем полутораметровыми, стенами не слышно ни разрывов вражеских снарядов, ни ответных залпов туляков, героически отражавших атаки противника.
Члены комитета обороны на месте. Здесь председатель комитета первый секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков, председатель облисполкома Н. И. Чмутов, секретарь обкома партии по пропаганде А. В. Калиновский, начальник областного управления НКВД В. Н. Суходольский, председатель горсовета Любимов и еще несколько товарищей.
Доложил о цели приезда. Жаворонков поднял на меня утомленные, покрасневшие от бессонницы глаза, улыбнулся:
— Чудесно, товарищ Болдин! Еще утром нам сообщили, что в Тулу едет новый командарм. Ждали вас целый день.
— Как обстоят дела? — спросил я.
— Откровенно говоря, держать оборону трудно. Гудериан все время атакует крупными силами. В помощь войскам мы создали рабочий полк.
Жаворонков водит красным карандашом по карте, обращая внимание на наиболее уязвимые места. Показывает, где враг особенно опасен. Дополнения, замечания вносят и другие члены комитета. Анализируя положение, намечаем ряд мер по усилению обороны. Все считают первоочередной задачей — улучшить обучение жителей военному делу.
— А как, товарищ Жаворонков, с оружием, боеприпасами? — интересуюсь я.
— Пока обеспечиваем. Рабочие по нескольку дней не выходят из цехов. Молодежь производит оружие и с ним же уходит в окопы, на защиту родного города. — Жаворонков посмотрел на меня и снова улыбнулся — Туляки на своем участке врага не пропустят. Вот только выдержали бы войска.
На небольшом столике несколько полевых телефонных аппаратов. То и дело слышатся звонки. Вот кто-то доложил, что за смену дополнительно изготовлено столько-то винтовок. Через несколько минут пришло новое донесение: на таком-то участке фронта враг пытался прорваться. Туляки рубеж отстояли. Есть потери. Раненым оказана медицинская помощь. Снова затрещал телефон. Звонкий голос сообщил: комсомольцы Тулы изготовили новую партию противотанковых гранат, кому передать их?
Так в комитете обороны сплетаются нити, связывающие воедино защитников города. Предметом особых забот является бесперебойное снабжение войск и населения хлебом, продовольствием, теплой одеждой, обувью, медикаментами…
Еще 15 октября 1941 года второй танковой армии Гудериана Гитлер приказал нанести удар в направлении Мценск, Тула, овладеть переправами на Оке между Рязанью и Серпуховом, захватить важные промышленные районы и города Новомосковск, Тулу, Каширу, затем обойти Москву с юго-востока и совместно с войсками, действующими севернее — через Калинин, замкнуть кольцо окружения вокруг столицы нашей Родины. Для выполнения такой задачи вражеское командование ничего не жалело.
Если бы врагу удалось взять Тулу, он бы значительно сократил фронт, уплотнил группировку своих сил, мог широко использовать разветвленную дорожную сеть. С другой стороны, гитлеровское командование прекрасно понимало значение Тулы как исходного пункта для контрнаступления наших войск во фланг и тыл их армий, прорвавшихся к Москве с юга и юго-запада.
25 октября фашистские дивизии уже находились в 60 километрах западнее Тулы. Но главный уДар противник наносил с юга вдоль Орловского шоссе, где он сосредоточил большую часть всех своих танков. Для вспомогательного удара в район Белева он направил две пехотные и одну кавалерийскую дивизии.
От Белева гитлеровцы наступали в двух направлениях — северо-восточном и юго-восточном. Захватив Лихвин и продвигаясь на Ханино и Памшино, они стремились обойти Тулу с севера, нарушив ее связь с Москвой. Группировка, действующая в юго-восточном направлении, должна была выйти на коммуникации 50-й армии в районе Чернь и соединиться со своими войсками, наступающими через Мценск.
Советское командование стремилось противопоставить врагу сильную группировку своих войск на орловском направлении, сосредоточить значительные резервы в Туле.
Справа соседняя 49-я армия Западного фронта, которой командовал генерал Захаркин, не позволяла противнику прорваться в направлении Серпухова. Левый сосед, 40-я армия Юго-Западного фронта, удерживал рубеж Змиевка — Обоянь.
Почетная задача оборонять Тулу была возложена на 50-ю армию, ранее входившую в состав Брянского, а с 10 ноября — в состав Западного фронта. Армия, кроме отдельных частей, имела десять стрелковых, танковую и кавалерийскую дивизии, ослабленные в предыдущих боях. Главные ее силы занимали фронт от Лихвина до Мценска протяженностью свыше ста километров по прямой.
В последних числах октября 50-я армия после упорных кровопролитных боев в районе Белева, Волхова, Мценска под натиском превосходящих сил врага отступила на восток и северо-восток.
29 октября войска противника, поддержанные пикирующими бомбардировщиками, прорвали нашу оборону в районе Ясной Поляны и на следующий день захватили ее, а затем вышли к Косой Горе — пригороду Тулы. Используя численное и техническое превосходство, враг при поддержке авиации попытался с ходу овладеть Тулой. Но, встретив решительное сопротивление, вынужден был отойти.
И все же противник рвался вперед. Он подтягивал к Туле свежие войска. Только в течение одного дня — 31 октября гитлеровская пехота при поддержке ста танков восемь раз наступала на город, и все неудачно.
В ту тяжелую пору боевых испытаний войска 50-й армии и население Тулы слились воедино и прилагали героические усилия, чтобы не пустить противника в город. Тульская партийная организация и местный комитет обороны неустанно заботились об укреплении боеспособности войск. По их призыву значительная часть мужского населения, не эвакуировавшаяся с предприятиями и способная носить оружие, влилась в части.
Нужно сказать, что туляки начали готовиться к обороне города задолго до подхода врага. Уже на четвертый день войны Тульский обком партии принял решение о формировании в областном центре и районах области истребительных батальонов, ополченских отрядов и боевых рабочих дружин. О том, насколько велик был приток добровольцев, можно судить хотя бы по тому, что только в один Пролетарский райком партии поступило более восьми тысяч заявлений с просьбой зачислить в боевые формирования.
Партийные организации области создали 91 истребительный батальон (19 из которых были в Туле), общей численностью свыше десяти тысяч человек. Были сформированы также кавалерийский эскадрон и двадцать семь молодежных отрядов истребителей танков. Командные должности заняли наиболее подготовленные коммунисты, комсомольцы и лучшие беспартийные товарищи. Комиссарами стали заместители секретарей партийных комитетов крупных предприятий.
Бойцы истребительных батальонов без отрыва от производства изучали устройство винтовки и пулемета, методы борьбы с танками и парашютистами, основы разведки и многое другое, что требуется знать и уметь на войне.
Областная партийная организация позаботилась о вооружении батальонов. Они получили несколько тысяч винтовок, среди которых были и самозарядные системы Токарева, а также противотанковые ружья, ручные и станковые пулеметы, гранаты, противогазы, шанцевый инструмент и другое необходимое снаряжение.
Ценную инициативу проявил коллектив Тульского ликеро-водочного завода. Он выпустил тысячи бутылок с зажигательной смесью. Туляки шутя Говорили, что специалисты по крепким напиткам превосходно освоили производство «такого шнапса, от которого враг сразу в рай попадет».
Между тем положение на фронтах осложнялось. Под натиском превосходящих сил противника наши войска вынуждены были оставлять одну позицию за другой. Уже пал Орел. Гитлеровцы наступали на Мцепск и Калугу.
Около пяти тысяч бойцов истребительных батальонов ушли на фронт. Бойцы и командиры, оставшиеся в Туле и районах области, развернули активную деятельность по охране порядка, по эвакуации населения, предприятий, материальных ценностей, по спасению колхозных и совхозных богатств. О размерах этой работы говорит хотя бы такой факт: бойцы батальонов засыпали в тару, погрузили в эшелоны и отправили в тыл страны 1 200 тысяч пудов одного только хлеба, сгуртовали и помогли угнать на восток десятки тысяч голов скота.
Героическими подвигами прославили себя истребители при охране железнодорожной магистрали Орел — Тула. Бойцы научились быстро восстанавливать поврежденные вражеской авиацией участки полотна и обеспечивать бесперебойную работу дороги. Почти месяц они контролировали ее. За это время было перевезено много войск, большое количество военных и народнохозяйственных грузов.
Потом истребительные батальоны приняли на себя удары врага, проникшего на территорию Тульской области. В боях за Перепеть, — Ханино, Поречье, Сбродов, Дубно тульские патриоты истребили немало живой силы и техники противника.
И все же враг наступал. В сводках Совинформбюро все чаще стали появляться два слова — «тульское направление».
Город оружейников был в опасности. 16 октября 1941 года состоялось собрание партийного актива Тулы, на котором коммунисты обсуждали один вопрос: «Текущий момент и задачи партийной организации». Как клятва звучали слова единогласно принятого решения:
«Над Тулой нависла непосредственная угроза нападения. Злобный и коварный враг пытается захватить город, разрушить наши дома, отнять все то, что завоевано нами, залить улицы города кровью невинных жертв, обратить в рабство тысячи людей.
Этому не бывать! Тула, красная кузница, город славных оружейников, город металлистов, не будет в грязных лапах немецких бандитов!
Мы, большевики Тулы, заверяем Центральный Комитет ВКП(б), что все, как один, с оружием в руках будем драться до последней капли крови за нашу Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу.
Каждая улица, каждый дом станут могилой для гитлеровских псов. Пусть они еще и еще раз почувствуют силу и мощь трудящихся социалистической Отчизны, непоколебимое стремление советского народа разгромить до конца фашистскую нечисть, осквернившую нашу священную землю.
За оружие, товарищи коммунисты…»
Решение заканчивалось такими словами:
«Собрание партийного актива Тулы заявляет, что тульские большевики до конца выполнят свой долг перед партией, социалистической Родиной, будут стойко драться с врагом, не жалея своей жизни. Немецко-фашистским извергам — смерть! Грабителям и убийцам из гитлеровской шайки — смерть!
Все на защиту Тулы!
Станем плечом к плечу с бойцами Красной Армии на оборону нашего города!
Победа будет за нами!»
Учитывая сложившуюся обстановку, городской комитет обороны 23 октября постановил объединить истребительные батальоны и отряды народного ополчения и на их базе сформировать Тульский рабочий полк из пяти батальонов.
27 октября закончилось формирование полка. В его ряды вступили сотни коммунистов. Половину бойцов составляли комсомольцы, молодежь. Командиром полка был назначен капитан А. П. Горшков, комиссаром — Г. А. Агеев.
Тулу объявили на осадном положении. Рабочий полк занял боевой участок.
По всему видно было, что гитлеровское командование нервничает. И не удивительно Время шло, все сроки, назначенные для взятия Тулы, срывались, а следовательно, срывались и сроки захвата Москвы.
В ночь на 3 ноября фашисты предприняли психическую атаку. Гитлеровская пехота при поддержке танков, шедших с зажженными фарами, двинулась на передний край нашей обороны. Но и на этот раз попытка врага овладеть городом при помощи лобового удара с юга провалилась. Немцы были бессильны сломить стойкость и мужество защитников Тулы. В этом бою особенно отличился 156-й стрелковый полк НКВД.
В 50-ю армию прибывали новые части. Это позволило командованию подготовить контрудар южнее Тулы. 6 ноября закончился первый этап Тульской оборонительной операции. На рассвете следующего дня 50-я армия нанесла контрудар, а к исходу дня 8 ноября ее войска уже подошли вплотную к Косой Горе и выбили фашистов из нескольких населенных пунктов.
И все же гитлеровцы не отказались от своих планов. 10 ноября они нанесли удар по нашим войскам на стыке 49-й и 50-й армий и прорвались в район Спас-Канино, распространяясь в направлении Клешня, Суходол. Таким образом противник выводил свои войска на кратчайший путь к Москве, создавая угрозу всему левому крылу Западного фронта.
Через два дня 49-я и 50-я армии совместно ударили по врагу в районе Суходола, приостановили наступление противника и не допустили выхода его к шоссе Тула — Москва.
С каждым днем сражение за Тулу принимало все более ожесточенный характер. Войска 50-й армии вели оборонительные бои на фронте около ста километров.
После неудачной попытки перерезать Московское шоссе с запада гитлеровское командование решило испробовать еще один вариант: частью сил сковать наши войска под Тулой, а главный удар 2-й танковой армии Гудериана сосредоточить восточнее, на дедилово-сталиногорском направлении, чтобы выйти на шоссе Тула — Венев, а затем повернуть на северо-запад, в сторону шоссе Тула — Серпухов. Здесь Гудериан планировал установить связь с 43-м армейским корпусом и в дальнейшем ударом на Венев — Каширу прорваться к Москве.
Таким образом, главные силы противника, наступавшие на Венев, обрушились на 413-ю стрелковую, а действовавшие в направлении Дедилово — на 299-ю стрелковую дивизии.
Целый день 18 ноября шли кровопролитные бои, особенно тяжелые на дедиловском направлении. После сильного танкового удара гитлеровцы захватили населенный пункт Мокрое, приблизились к Дедилово. По нескольку раз из рук в руки переходили отдельные дома поселка. Танки врага обошли населенный пункт с востока, и части 299-й стрелковой дивизии оказались в окружении. Однако это не поколебало боевого духа наших войск, они продолжали стойко обороняться, а потом, поддержанные своими танкистами, прорвали вражеское кольцо и отошли на новый рубеж.
21 ноября кавалерийский полк, две танковые и две пехотные дивизии противника продолжали наступление на веневском, сталиногорском и узловском направлениях, обходя левый фланг 50-й армии и двигаясь на Епифань. К исходу дня они прорвали оборону 413-й и 299-й стрелковых дивизий на участке Болохов — Александров и вышли к реке Шать в районе Кукуй, Рыбинка. Кроме того, вражеская пехота при поддержке сорока танков прорвалась со стороны Петровское и Узловая.
Решением командования 50-й армии был создан Веневский боевой участок. Его начальником назначен командир 413-й стрелковой дивизии генерал-майор Терешков.
Части Веневского боевого участка продолжали тяжелые бои с наступающим противником. Отражая его попытки переправиться через реку Шать, 413-я стрелковая дивизия понесла большие потери. 31-я кавалерийская дивизия вынуждена была отойти по шоссе на Венев.
Суровые испытания выпали и на долю 108-й танковой дивизии. Под напором превосходящих сил противника она оставила рубеж Маклец — Рига и сосредоточилась в Веневе. Сильно пострадала 299-я стрелковая дивизия. С ней прервалась связь, и командование армии никаких сведений оттуда не имело.
Такая обстановка сложилась на тульском направлении. В день моего приезда город был с трех сторон обложен войсками Гудериана. Трудности усугублялись тем, что гитлеровцы разрушили высоковольтную линию электропередачи, и в Тулу перестал поступать ток Каширской станции.
Гудериан считал вопрос о взятии Тулы, а затем и Москвы решенным. Он хвастливо заявил: «Если даже у меня останется только один танк, я обязательно въеду на нем на Красную площадь». Немецкое радио уже передавало победные марши, а печать Геббельса под широковещательными заголовками сообщала: «Путь на Москву с юга открыт! Московское шоссе в наших руках! Московское небо — немецкое небо!» Свои мечты гитлеровцы выдавали за действительность.
Но Тула продолжала бороться! Несмотря на величайшие трудности, защитники города были полны веры в свою победу…
Чтобы на месте ознакомиться с положением дел, после беседы в комитете обороны я с несколькими членами комитета направился в город.
Семнадцать лет не был я в Туле, но помнил ее хорошо. Славный город оружейников оставил в моей биографии неизгладимый след. Разве можно забыть, что в памятные двадцатые годы тульские коммунисты оказали мне доверие, избрав членом горкома партии, а трудящиеся Тулы — членом горсовета.
С Тулой связаны десятки замечательных страниц героической летописи нашей страны. Произнося название этого города, мы непременно вспоминаем и мужество туляков, громивших ненавистного хана Девлет-Гирея, и борьбу участников крестьянского восстания во главе с Иваном Болотниковым.
В Туле были заложены основы оборонной промышленности России. Здесь жили и трудились превосходные оружейных дел мастера.
Неоценим был вклад туляков в Отечественную войну 1812 года. Это они снабжали русскую армию огневыми средствами, с помощью которых было разгромлено «нашествие двунадесяти язык».
Веками создавалась история этого замечательного русского города, росли его революционные традиции и трудовая слава. В незабываемые дни семнадцатого года туляки одними из первых провозгласили в своем городе Советскую власть.
Владимир Ильич Ленин уделял огромное внимание Туле, считал ее надежным арсеналом нашей страны. В знаменитом письме руководителям тульских городских организаций В. И. Ленин писал:
«Значение Тулы сейчас исключительно важное, — да и вообще, независимо от близости неприятеля, значение Тулы для республики огромное.
Поэтому все силы надо напречь на дружную работу, сосредоточивая все на военной и военно-снабженческой работе».
Выше я упоминал о том периоде, когда мне довелось командовать Тульским полком. Мы тогда поддерживали тесную связь с оружейниками Тулы, часто встречались. Особенно интересным среди моих знакомых был пожилой рабочий-коммунист И. Денисов. Он безгранично любил свой город, завод, свою профессию.
Как-то рассказал я ему, что имел счастье видеть и слышать Владимира Ильича Ленина.
— Такое счастье выпало и мне, — ответил Денисов. — Я, брат, не только видел Ильича, а и разговаривал с ним. Было это в ту пору, когда беляки с юга на нас наступали. Как раз тогда вызывают меня партийные власти и говорят: собирайся, Денисов, в Москву. Назначаем тебя в состав делегации к Владимиру Ильичу Ленину. Поедете к нему, о делах наших расскажете и совета попросите, что нам дальше делать, как жить. Да разузнайте, может, и от нас Ильичу какая помощь нужна.
Приехали в Москву, пришли к Ленину. Принял он нас с преогромной радостью, усадил и начал беседовать. Подробно расспрашивал о жизни рабочей Тулы, как мы управляем своими заводами, хватает ли нам продовольствия. Ильич слушал нас и все время что-то записывал. Когда про тульскую жизнь рассказали, один из нас говорит:
— Мы, Владимир Ильич, днем и ночью готовы защищать родную Советскую власть. Благодаря ей мы себя людьми почувствовали, и труд нам сейчас в радость. Одно только тревожит туляков: какое ваше мнение насчет Деникина, не пойдет ли проклятый на Тулу?
На это Ильич ответил решительно:
— Деникину Тулу никогда не взять. Мы ее не отдадим! Так и передайте рабочим…
В. И. Ленин неоднократно обращался к тулякам за помощью. И они считали своим долгом немедленно откликнуться на любох! призыв вождя. В ноябре 1917 года Ильич писал фабрично-заводскому комитету Тульского оружейного завода: «Дорогие товарищи, Совет Народных Комиссаров просит вас немедленно снабдить винтовками, наганами, патронами и прочим вооружением Красную гвардию Боковского горного района, Донской области. Оружие нужно на пятьсот человек». И просьба Владимира Ильича сразу была выполнена.
В суровом 1919 году трудно было в Москве с продовольствием. И снова Ильич написал тулякам письмо, в котором были такие строки: «Тульские рабочие должны придти на выручку московским». И опять Тула выручила. Из своих скудных запасов оружейники отправили трудящимся Москвы шестьсот вагонов картофеля.
В тревожную веСну 1923 года, когда Ленин тяжело болел, трудящиеся Тулы послали ему подарок — охотничье ружье, которое и по сей день хранится в Москве, в Центральном музее В. И. Ленина. К подарку туляки приложили такое послание:
«Дорогой Ильич!
Красная кузница, продолжая неустанно ковать оружие для отражения нападений на советскую землю, с сердечным замиранием следит за твоей болезнью, за течением тяжелого недуга, который нестерпимой болью отражается в душах трудящихся.
Пусть это ружье, до последнего винтика выкованное любящими руками, в самые ближайшие дни будет в твоих руках брать прицел так же точно, как всю свою жизнь ты брал на мушку всех врагов пролетариата…»
О Туле можно рассказывать бесконечно много. Но что мне особенно хочется подчеркнуть, так это ее боевой облик. Он ощущался во всем, даже в названиях улиц, которые сохранились и в наши дни, как дань глубокого уважения боевой старине: Штыковая, Дульная, Курковая, Ствольная, Пороховая, Литейная, Арсенальная. В советские годы здесь родились новые названия улиц, площадей, рабочих поселков: Коммунаров, Революции, Красноармейская, 20 лет РККА, Оборонная. Тогда, в ноябре 1941 года, эти названия были особенно созвучны времени. Когда я ходил по немноголюдным, по-военному настороженным тульским улицам, знакомясь с системой обороны города-воина, я думал о его героическом прошлом и был глубоко убежден, что и на этот раз он даст врагу достойный отпор.
По всему чувствовалось, город приготовился к борьбе не па жизнь, а на смерть. На ближних подступах и в самой Туле были созданы три оборонительных рубежа. Первый— в трех километрах от южной окраины — строился по принципу обычной полевой обороны с фортификационными сооружениями и системой инженерных заграждений в виде минных полей, противотанковых рвов, проволочных заграждений. Второй и третий рубежи проходили по южной окраине города и представляли собой баррикады из дерева, шлакобетонных камней, металлического лома. Баррикады чередовались с противотанковыми рвами. В проходах и проездах были установлены «ежи» из рельсов и заготовлены мешки с песком. Для отражения танковых атак противника за баррикадами находились орудия и танки. Фланги оборонительных рубежей упирались в реку Упу.
Помимо противотанкового рва шириной в четыре и глубиной в два с половиной метра, опоясывавшего город, туляки подготовили двойные противотанковые рвы в конце каждой улицы. Десятки тысяч жителей приняли участие в создании этих сооружений. Строить приходилось под беспрерывным воздействием вражеской авиации и артиллерии. Но герои-туляки ни на минуту не прекращали работы. Особенно большой вклад в это дело внесли тульские женщины.
Остаток ночи и весь следующий день я знакомился с обороной города, затем возвратился в штаб.
— Каково ваше впечатление, товарищ генерал? — спросил Василий Гаврилович Жаворонков.
— Город подготовлен к обороне хорошо, — ответили. — Более подробно о состоянии дел смогу судить после того, как встречусь с командирами дивизий и полков.
Начальник областного управления НКВД Суходольский сообщил, что по данным, которыми он располагает, Гудериан намерен атаковать Тулу по кратчайшему пути — с яснополянского направления, через Косую Гору. А председатель облисполкома Чмутов добавил:
— Партизаны сообщают, что если Гудериан не сможет взять город с этого направления, то он намерен обойти Тулу через Венев и Каширу.
Секретарь обкома партии Александр Владимирович Калиновский, человек спокойный и уравновешенный, вынул из планшета пожелтевшую от времени газету.
— Прелюбопытнейший номер, — сказал он. — Старый оружейник Михайлов хранил его с девятнадцатого года. Двадцать два года назад, в эту же пору, Деникин рвался через. Тулу в Москву. Послушайте, что тогда писала «Правда».
Калиновский развернул газету и начал читать статью, которая называлась «Красной Туле» и была посвящена героической борьбе тульского пролетариата с Деникиным. Интересно, что статья и сейчас не потеряла актуальности. В ней сообщалось о том, что в Туле царит «небывалое… воодушевление рабочих и красноармейских масс — сражаться и бороться до последних сил, до полного уничтожения Деникина… Тула с каждым днем все больше и больше превращается в военный лагерь… Вся невоенная деятельность учреждений сокращена или приостановлена вовсе… Все коммунистические силы и надежные некоммунистические брошены на работу в армию или по обслуживанию армии…»
Статья заканчивалась такими строками: «Деникин рвется изо всех сил к Туле и Москве, а мы изо всех сил рвемся защищать Тулу и Москву, сдержать Деникина и оказать ему самое отчаянное сопротивление. Не панику, не забастовки готовят Деникину тульские рабочие и красноармейцы, а пули, пулеметы, смерть и гибель!»
Калиновский предложил выпустить листовки с текстом прочитанной статьи, а над ней напечатать крупным шрифтом: «Дорогие защитники Тулы! Берите примере наших отцов и братьев! Бейте Гитлера так же метко, как они били Деникина! Умножим славу нашего города-воина, города-героя! Чем больше гитлеровских трупов, тем ближе час победы! Вперед, на врага!»
Идею Калиновского все одобрили, и текст новой боевой листовки городского комитета обороны сразу же был отправлен в типографию.
День подходит к концу. Мне пора в штаб 50-й армии. Василий Гаврилович Жаворонков провожает меня из церковного подземелья.
Штаб армии в восьми километрах от Тулы, в районе Ивановских дач. Ранняя и холодная зима засыпала дорогу снегом, покрыла морозным узором стекла нашей машины.
Вокруг полыхает война — жестокая, суровая, неумолимая. Идет передвижение войск. Бойцы Тульского рабочего полка занимают новые оборонительные рубежи. Две девушки в телогрейках и шапках-ушанках бережно несут на носилках раненого, то и дело вглядываясь в прозрачную голубизну холодного неба, где, надрывно завывая, летают вражеские самолеты. Действуют наша и вражеская артиллерия. Где-то совсем близко протрещала пулеметная очередь. Вслед за ней вспыхнула частая ружейная перестрелка.
Шофер резко затормозил. Контрольно-пропускной пункт. Лейтенант внимательно проверяет документы. Потом подробно объясняет, как лучше добраться до Ивановских дач.
Буквально петляя между оборонительными сооружениями, проехали еще километр и остановились у деревянного дома. В нем-то и разместился штаб 50-й армии.
Выйдя из машины, едва разогнул раненую ногу. Опираясь на костыль, прихрамывая, вхожу в просторную комнату с низким потолком. Посередине стол, на нем большая карта, несколько книг. Рядом тумбочка с телефонными аппаратами. В углу железная кровать, покрытая серым одеялом. Неподалеку от стола докрасна раскаленная «буржуйка». Ее труба выведена в форточку. На «буржуйке» большой медный чайник, крышка которого содрогается под напором кипящей воды. Это кабинет командующего.
Знакомлюсь с начальником тыла 50-й армии генерал-майором В. С. Поповым и начальником оперативного отдела полковником Ф. Е. Почемой. Через несколько минут энергичной походкой в кабинет вошел невысокий офицер, представился:
— Начальник штаба пятидесятой армии полковник Аргунов.
Я попросил Н. Е. Аргунова доложить обстановку.
— Против пятидесятой армии действует вторая немецкая танковая армия. Враг здесь сосредоточил три танковые, три пехотные и одну мотострелковую дивизии, а всего шестьдесят тысяч войск, шестьсот танков, свыше тысячи орудий и триста самолетов. Противник имеет тройное превосходство в артиллерии и десятикратное в танках.
Аргунов докладывает четко, уверенно. Чувствуется, что он превосходно знает материал:
— Линия фронта проходит по рубежу Пронино — Есипово — Никулинское — Выселки — высота двести пятьдесят и девять — Кетры — Костино — Сторожевая и далее на Михалково — Рогожинский поселок — Верхнее Криволучье и Верхние Присады.
Я смотрю на карту, а начальник штаба продолжает:
— Для непосредственной обороны города создан специальный боевой участок. В него входят; двести пятьдесят восьмая, двестп девяностая, двести семнадцатая и сто пятьдесят четвертая стрелковые дивизии под общим командованием комдива сто пятьдесят четвертой генерал-майора Фоканова.
Аргунов рассказывает, что сложная обстановка сложилась в полосе 413-й дивизии генерала Терешкова, обороняющей подступы к Веневу. Под давлением противника части ее вынуждены были отойти, и образовалась опасная вмятина. Без помощи Терешкову не удастся остановить наседающего врага.
— Как обстоит дело с обеспечением войск? — спрашиваю я.
— Подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия идет нормально. Правда, иногда иэ~за снежных заносов приходится пользоваться гужевым транспортом. Но пока что мы ни в чем недостатка не испытывали.
Сквозь замерзшее окно едва пробиваются последние блики дневного света. Потом они и вовсе исчезают. Раскаленное тело «буржуйки» стало еще более багровокрасным.
За окном послышался ритмичный шум движка. Загорелись автомобильные фары, установленные здесь же, в комнате. Их яркие лучи осветили карту. Склонившись над ней, продолжаю слушать Аргунова. Он говорит подробно, со знанием дела, высказывает интересные мысли. Видно, что Аргунов человек с большим военным кругозором, опытный штабист, умеющий творчески мыслить.
В 50-й армии полковник был «старожилом», прошел с ней почти весь ее путь.
Он обладал феноменальной памятью, превосходно знал положение в дивизиях и мог дать подробную характеристику любой из частей. Позднее, когда мы сошлись поближе, оказалось, что за плечами начштаба большая военная жизнь: он учился на курсах «Выстрел» и в академиях имени М. В. Фрунзе, Генерального штаба, был на преподавательской и строевой работе.
— А между прочим, — вспоминал Аргунов, — в Красную Армию я попал не совсем обычно. Как только были созданы военкоматы, явился к смоленскому военкому с просьбой направить в команду пеших разведчиков. Расспросил он, кто я и откуда, а затем предложил написать заявление и ждать вызова. На следующее утро в смоленской газете был напечатан Список лиц, изъявивших желание служить в Красной Армии. Среди них оказалась и моя фамилия. А под ней текст: «Если у кого-либо есть какие-нибудь претензии к Аргунову Николаю Емельяновичу, желающему служить в Красной Армии, просим сообщить в губвоенкомат». Десять дней газета печатала это объявление. Десять дней я с волнением ожидал решения своей судьбы. А затем военком вызвал меня и говорит: «Ну, поздравляю. Претензий к тебе нет». И тут же зачитал приказ о назначении меня инструктором губвоенкомата. — Так с мая восемнадцатого года и служу в Красной Армии, — заключил Аргунов.
Бывает, с первой же встречи проникаешься к человеку огромной верой, большим уважением. Так произошло и в тот раз после знакомства с Аргуновым. И я не ошибся. В течение совместной службы в 50-й армии он был для меня надежной опорой.
Нашу первую беседу с полковником неожиданно прервал телефонный звонок. Аргунов взял трубку и тотчас передал мне.
Говорил маршал Шапошников. Он интересовался, успел ли я познакомиться 6 делами армии и каково положение на Тульском участке фронта. Я подробно доложил обо всем. Маршал одобрил мое решение выехать в Венев, где сложилась особенно трудная обстановка, но приказал поддерживать с ним связь.
И до того плохая погода к ночи совсем испортилась. Мороз стал крепчать. Разбушевалась пурга. Точно разъяренный зверь, она завывала на все лады, заглушая разноголосый шум войны.
С группой офицеров штаба мы выехали на трех машинах. Первым шел броневик, за ним моя «эмка», замыкающей была радиостанция.
Вокруг зловещая темнота. Продвигаемся буквально на ощупь. Тыла в обычном понимании этого слова здесь пет, и каждая минута чревата неожиданностями.
Впереди сквозь пелену снега прорвалось пламя. Остановились. Оказалось, это горит трофей наших зенитчиков — подбитый вражеский самолет. Он упал на дорогу. Пришлось объезжать этот неожиданный костер.
Позади осталось более тридцати километров. И вот уже Венев. В одноэтажном домике разместился штаб боевого участка. Здесь я застал члена Военного совета 50-й армии бригадного комиссара К. Л. Сорокина с несколькими офицерами. Познакомились.
Начальника боевого участка нет. Мне сообщили, что он в одной из дивизий. Пока дежурный офицер разыскивал его, мы с членом Военного совета разговорились о делах в армии.
Сперва Сорокин показался мне сухим, педантичным человеком, представителем той категории людей, о которых говорят, что они предпочитают больше молчать, а если их спрашивают, то обычно произносят односложное «да» или «нет». Однако это впечатление тотчас рассеялось, как только разговор зашел о командных и политических кадрах, о политико-моральном состоянии личного состава. Судя по всему, член Военного совета постоянно бывал в войсках и именно там, где возникала особая опасность. Он досконально знал положение дел на фронте и трезво оценивал создавшуюся обстановку.
Сорокин — старый коммунист, опытный армейский политработник. В годы гражданской войны участвовал в боях с врагами молодой Советской власти, был пропагандистом и обладал всеми качествами вожака масс. Сейчас этот богатейший жизненный опыт, разностороннее политическое образование и глубокие военные знания помогали Сорокину в работе с людьми.
Мы настолько увлеклись беседой, что не заметили, как появился приземистый, излишне тучный генерал. Он вошел, опираясь на палку. Представился:
— Товарищ командующий, прибыл по вашему приказанию. Начальник Веневского боевого участка командир четыреста тринадцатой стрелковой дивизии генерал-майор Терешков.
— Здравствуйте, товарищ генерал. Что же этовы, я бы сказал, в небоевом виде, с палкой в руке.
— Это у меня «холодное оружие», — промолвил он, улыбнувшись, а заметив, что я тоже опираюсь на костыль, добавил — С вас, товарищ командующий, беру пример, без палки и шагу сделать не могу. С первой империалистической немцы память оставили. Под Львовом ногу покалечили. Вот и по окопам брожу с этой дубинкой. В общем, на немцев у меня злость со стажем.
Я попросил Терешкова рассказать о положении на Веневском боевом участке.
— Духом не падаем, но, по правде говоря, положение сложное, — начал он, разворачивая карту. — Особенно опасная обстановка сложилась в полосе четыреста тринадцатой дивизии. Части дивизии понесли большие потери. Жалко людей. Дивизия формировалась на Дальнем Востоке, народ в ней отважный, сильный, пропитанный океанской солью, дубленный буйными ветрами.
Алексей Дмитриевич Терешков мне хорошо запомнился. Он обладал ярким умом и недюжинным военным талантом. Улыбка, шутка, хорошая лукавинка даже в самые тяжелые периоды жизни не покидали его. Авторитет этого замечательного генерала в войсках был огромен, о его храбрости и находчивости слагались легенды.
— По земле шагаю давно, — рассказывал Терешков, — с последнего десятилетия прошлого века. Деревня наша Корма, на Гомельщине, была бедной. Отец имел своей земли всего на один рот, и то не на всю неделю. Довелось и мне работать на помещика. А когда кончалась работа у него, уходил на заработки в город. Каменщиком был. Шую знаете? Видели там большие старые казармы из красного кирпича? Моя работа. Много домов довелось строить и в Москве, и в Киеве. Да куда только жизнь не бросала! Зимой для «железки» шпалы пилил. Всякое бывало.
— А чем царь Николай за ногу отплатил? — спрашиваю Терешкова.
— Пожаловал тремя Георгиями да тремя медалями за отвагу. Ну и в старшие унтера произвели да взвод доверили. Только недолго я командовал. В феврале семнадцатого мы всем взводом штыки в землю — и по домам! Сразу, как приехал в родную деревню, организовал ячейку социал-демократической партии. Первым коммунистом в Корме был.
После Октябрьской революции А. Д. Терешков создал партизанский отряд и действовал с ним против немецких оккупантов на белорусской земле. А когда узнал, что существует Богунский полк под командованием Николая Щорса, перебрался к нему в Почеп.
Слушая глуховатый голос Терешкова, я невольно сравнивал наши биографии — до чего же они схожи! Не беда, что до этого мы друг друга не знали. Сейчас мне казалось, будто наши житейские дороги очень давно переплелись и после короткой разминки снова сошлись вместе. Особенно укрепилось во мне это чувство, когда Терешков рассказал, что и он был делегатом V Всероссийского съезда Советов. Послали его в Москву красноармейцы и командиры новозыбковского направления Красной Армии.
— А помните, товарищ командующий, как горячо выступал Ленин? Точно сейчас его вижу. И так мне было все ясно. А взрыв на ярусе помните? Меня тогда просто поразило спокойствие, с каким Владимир Ильич воспринял этот случай. Потом Яков Михайлович Свердлов объявил, что взрыв был случайным и жертв не оказалось. Просто у одного из латышских стрелков, охранявших Большой театр, разорвалась граната…
Вообще генерал Терешков прошел большой жизненный путь, много повидал. Когда нужно было оказать помощь республиканской Испании, он вступил в интернациональную бригаду. Находился в осажденном Мадриде, дрался с наемниками Франко под Гвадалахарой, был на баррикадах Валенсии. Его связывала крепкая боевая дружба с добровольцами прославленных батальонов имени Линкольна, Гарибальди, Тельмана…
Вернувшись от приятных воспоминаний к довольно грустной действительности, я позвонил командующему Западным фронтом генералу армии Г. К. Жукову, затем, как велел Шапошников, связался с ним. Кратко доложил обстановку на фронте 50-й армии, сообщил о сложном положении на Веневском боевом участке. Просил помочь.
Никаких обещаний от них не получил и вместе с К. Л. Сорокиным, А. Д. Терешковым и несколькими офицерами выехал в расположение войск.
Части Веневского боевого участка продолжают вести тяжелые оборонительные бои. 24 ноября наступил критический момент. Крупные силы противника при поддержке нескольких десятков танков заняли населенные пункты Гати и Хавки, в двух — пяти километрах южнее Венева, и вышли на шоссе Венев — Тула. К исходу дня после многочасового изнурительного боя с превосходящими силами противника мы вынуждены были оставить Венев и отойти на север. С потерей города Веневский боевой участок прекратил существование. Из его войск самой боеспособной была 413-я стрелковая дивизия. Ей мы подчинили остатки 299-й дивизии.
Стало очевидно, что немецко-фашистское командование решило обойти Тулу с юго-востока и штурмовать Москву со стороны Каширы и Рязани.
Военный совет Западного фронта принял решение перебросить 2-й кавалерийский корпус генерал-майора П. А. Белова из района Серпухова к Рязани, чтобы преградить путь противнику, наступавшему в северо-восточном направлении.
Весь день 25 ноября кавалеристы Белова продвигались форсированным маршем. 112-я танковая дивизия и 9-я танковая бригада тоже были на марше в районе Серпухова. 9-я кавалерийская дивизия сосредоточилась в Сухове, а 5-я кавалерийская дивизия — в Кашире.
Тем временем сложилась обстановка, грозившая полным окружением Тулы. Но я был уверен, что мы ее не сдадим. Для более надежной обороны решил все силы сосредоточить в самом городе и вокруг него, туда же перевести штаб армии и командный пункт.
Продолжая развивать наступление на каширском направлении, гитлеровцы вышли в Гричино, Оленьково, Мордвес, а на михайловском направлении им удалось достигнуть районного центра. Этим они разрезали 50-ю армию на две части.
Чтобы помешать немецко-фашистскому командованию ввести в прорыв новые силы, приказал 31-й кавалерийской дивизии начать активные действия у него в тылу на коломенском направлении. Прикрыть кавалеристов должна была 239-я стрелковая дивизия, вышедшая в район Серебряных Прудов. Одновременно 41-я кавалерийская дивизия получила задачу уничтожить противника в районе Михайлова.
В штаб армии, разместившийся в нескольких деревянных домиках на углу улиц Литейной и Арсенальной, прибыл начальник Тульского боевого участка. На нем короткий полушубок из черной овчины, перетянутый ремнем, на ногах валенки. И только каракулевая папаха свидетельствует о генеральском звании.
— Здравствуйте, начальник, как дела?
— Товарищ командующий, чувствуем себя уверенно. Оборона надежная. За прошедшие сутки враг пытался наступать мелкими группами человек по пятьдесят — семьдесят. Особенно усердствует на подступах к Косой Горе. Пытается прощупать нашу оборону, выбрать участок послабее. Что ни день, нервы наши испытывает, психические атаки устраивает. Но все попусту.
Я. С. Фоканов рассказывает о мужестве защитников Тулы, называет фамилии лучших, говорит о том, как тульские рабочие героически воюют и одновременно снабжают войска оружием и боеприпасами.
— Какое настроение в войсках? — спрашивает член Военного совета.
— Настроение боевое.
По природе я оптимист. Даже в самое трудное время меня обычно не покидает вера в лучшее. И тогда, слушая Фоканова, я чувствовал, что скоро нам удастся достигнуть желаемого перелома на фронте.
На 23 часа назначил заседание Военного совета. Это первое заседание с момента моего вступления в командование 50-й армией. Вызвал начальников всех родов войск, нескольких командиров дивизий и полков, политработников. Пригласил руководителей Тульской партийной организации и городского комитета обороны.
Раньше всех приехали Жаворонков, Чмутов и Суходольский. Здороваясь, Жаворонков рассказывает, что за дни, прошедшие после нашей первой встречи, туляки немало сделали, чтобы преградить гитлеровцам путь в Тулу. Рабочие день и ночь трудятся.
— Жизнь в городе идет нормально. Снова электрический свет появился. Население регулярно снабжается продовольствием. Исправно работают лечебные учреждения, почта, телеграф, радио, водопровод, бытовые предприятия. Аккуратно выходит газета «Коммунар», выпускаются листовки, — заключает Жаворонков.
Время приближается к двадцати трем. В комнате, которая служит мне кабинетом, уже тесновато. Большинство из тех, кто явились сюда, прибыли с передовой. Каждому есть о чем рассказать, каждый имеет возможность поделиться мыслями о том, как лучше организовать удар по врагу.
То и дело подхожу к телефонным аппаратам. Звонят из штаба фронта. Вызывает Ставка. Поступают все новые и новые сообщения. Разведка докладывает о передвижении вражеских войск. Зенитчики усиливают огневой отпор на подступах к городу.
Ни на минуту не прекращается напряженная боевая жизнь. И будто половодье, по многочисленным ручейкам она врывается сюда, в штаб.
Точно в назначенное время открыл заседание Военного совета. Все сходятся на том, что положение сложилось тяжелое, но в словах каждого выступающего уверенность в нашей окончательной победе. Товарищи рассказывают о мужестве, проявляемом в бою коммунистами и комсомольцами, об их умении вести за собой массы. Генерал-майор Терешков поведал о героическом подвиге комиссара 1324-го стрелкового полка 413-й дивизии Соловцова.
Гитлеровский летчик сбросил на командный пункт полка бомбу. В результате ее взрыва погиб командир полка Тищенко, было ранено и контужено около пятидесяти бойцов и командиров. Все они, в том числе и контуженный комиссар Соловцов, укрылись в образовавшейся большой воронке.
Вскоре вражеские автоматчики окружили советских бойцов. Один из гитлеровцев, подобравшись поближе, бросил в воронку гранату. Погибла еще часть людей. Соловцову оторвало кисть руки, осколком выбило правый глаз. Но и это не сломило волю комиссара. Он поднял в атаку всех способных держать оружие. В завязавшемся бою герой-комиссар был убит. Но благодаря ему часть бойцов и офицеров сумела вырваться из вражеского кольца.
Мстя вра» у за погибших героев, 1324-й полк в этот день уничтожил свыше полка пехотинцев и семнадцать танков противника.
Начальник политотдела армии полковой комиссар А. Е. Халезов сообщил, что в эти дни в партийные организации 50-й армии сотни бойцов и офицеров подали заявления с просьбой принять их в партию. С таким же подъемом армейская молодежь стремится в комсомол.
Затем Халезов прочитал несколько выдержек из этих заявлений. Лейтенант 32-й танковой бригады Морозов писал: «Я не партийный, но жизнь моя принадлежит ленинской партии. В бой пойду большевиком и до последнего вздоха буду уничтожать фашистскую сволочь».
Мы слушаем скупые строки заявлений, и перед нами во всем своем величии предстает советский воин. Его сила в неиссякаемой вере в правоту своего дела, в победу Советской Армии. Нет, врагу никогда не понять этого.
Много лет спустя, уже после войны, мне довелось прочитать статью «Московская битва», написанную бывшим начальником штаба 4-й гитлеровской армии генералом Блюментритом. Он писал: «Житель Востока (читай Советского Союза. —И. Б.) многим отличается от жителя Запада. Он лучше переносит лишения, и эта покорность порождает одинаково невозмутимое отношение как к жизни, так и к смерти».
Блюментрит и многие его коллеги по войне — пресловутые «знатоки человеческих душ» — жестоко просчитались в оценке советского человека, советского воина. Он презирает смерть вовсе не потому, что ему безразлично, жить или умереть, а именно потому, что больше себя любит свой народ, свою страну.
Было далеко за полночь, когда заседание Военного совета закончилось. Получив конкретные указания, участники разъехались по своим боевым постам. Остаток ночи им предстоит провести в частях, в подразделениях, на передовых позициях — там, где решалась судьба города.
Ко мне зашел полковник Аргунов.
— Шестьдесят немецких танков с мотопехотой, наступая из района Мордвес в юго-западном направлении, заняли Мокрый Кор и вышли в район Теляково, Щепилово, — доложил он. — На стыке сорок девятой и нашей армий сорок третий армейский корпус противника к исходу дня занял Маныпино, Клешню и Никулино…
Я слушаю доклад, не отрывая глаз от карты. По всему видно, что противник из Мордвеса повернул свою 4-ю танковую дивизию на запад, стремясь обойти фланг 413-й стрелковой дивизии, которая обороняет восточные подступы к Туле.
— Следовательно, — говорю Аргунову, — Гудериан намерен одновременным ударом с востока и запада замкнуть кольцо вокруг Тулы?
— Получается вроде так.
Выход из создавшегося положения я видел в одном: произвести перегруппировку войск и, создав крепкий кулак, контратаковать врага в направлении Суходол, Маньшино, а затем совместно с 49-й армией восстановить положение на стыке.
Позвонил генералу Захаркину. Поделился своими планами. Он с ними согласился. Мы уточнили время и некоторые детали совместных действий.
Чтобы прикрыть Тулу с севера, предложил генералу Фоканову создать Лаптевский район обороны. Начальником его назначил командира 510-го полка 154-й стрелковой дивизии майора Гордиенко. В помощь ему послал бронепоезд и отряд саперов с минами.
В резерв армии решил вывести часть сил 290-й и 217-й стрелковых дивизий и сосредоточить их в десяти кило метрах севернее Тулы, в районе Волоть, Семеново и Некрасово. 885-му полку 290-й стрелковой дивизии приказал подготовить оборону фронтом на север для прикрытия шоссе Серпухов — Тула.
Через закрытые светомаскировкой окна слышно, как мимо штаба, тяжело лязгая гусеницами, на передовую идут танки. Затем, гремя кузовами, по улице промчалось несколько автомашин. Со всех окраин города доносятся стрельба, взрывы снарядов.
За последнее время туляки так привыкли к голосу фронта, что, утихни стрельба на несколько минут, им, наверное, это покажется странным, непривычным. Будут тревожиться: все ли в порядке?
Ночью заехал Жаворонков, рассказал, что нового в городе. Я познакомил его с событиями на фронте.
Около четырех часов утра Василий Гаврилович вдруг заторопился:
— Ну, мне пора.
— Куда путь держите?
— На завод, к оружейникам. Поручили мы им освоить новый миномет. Освоили, и образец получился хороший. Теперь надо проверить, как налажено массовое производство.
— Следовательно, можно надеяться, что скоро снабдите нас новым оружием?
— Безусловно. Причем учтите — минометы особые, тульские, стреляют без промаха, — на прощание говорит Жаворонков.
Славный товарищ. Чувствуется, крепкий партийный работник. Комитет обороны работает четко, в городе полный порядок. Нужно ввести Жаворонкова в состав Военного совета 50-й армии. Буду ходатайствовать об этом перед Ставкой.
Один за другим приходят с докладами офицеры оперативного отдела. Они только что вернулись из частей, побывали на многих участках фронта и сейчас спешат поделиться свежими впечатлениями. Особенно хвалят Тульский рабочий полк.
И в городе, среди населения, и в частях армии полк пользуется огромной популярностью. Его бойцов ласково называют гордым именем «славяне».
Слава Тульского рабочего полка перешагнула даже линию фронта. В последние дни фашисты особенно яростно охотятся за его командирами и бойцами. Начали бросать с самолетов листовки и угрожать «чертям славянам» полным уничтожением. Эти листовки делают честь Тульскому рабочему полку. Надо бы мне поближе познакомиться с ним.
Как раз дежурный офицер докладывает:
— Товарищ командующий, к вам командир Тульского полка.
В кабинет быстрым шагом вошел коренастый офицер с моложавым лицом.
— Командир Тульского рабочего полка капитан Горшков, — представился он.
— Ну вот, наконец-то мы с вами встретились! Садитесь, товарищ капитан, давайте знакомиться. Что ж это вы, такой молодой, а седину уже приобрели.
— На границе такая служба, что поседеть нетрудно. Впрочем, я и не молод, уже за тридцать.
В 1930 году москвич Анатолий Горшков был призван на действительную военную службу, попал в пограничные войска и все годы до войны охранял советские рубежи на Дальнем Востоке и на Западе. Война застала его в Туле. 27 октября городской комитет обороны назначил капитана Горшкова командиром Тульского рабочего полка. А через три дня он уже докладывал, что полк сформирован и вступил в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.
Горшков подробно рассказал мне, — как проходило формирование полка, кто состоит в его рядах, как люди воюют. С какой-то особой гордостью и любовью называл Горшков десятки фамилий командиров и бойцов, вспоминал, как многие из них приходили в полк прямо от станков, с ружьями, которые сами изготовили.
— Как-то был я в одном из наших батальонов, в районе Рогожинского поселка, — рассказывал капитан. — И вот подходит ко мне пожилой человек, спрашивает, верно ли, что я командир полка. А потом расстегнул телогрейку, вынул партийный билет и, показывая его, говорит: «Здешний я, рогожинский. Фамилия моя Щедров. Лежал больной. Да разве улежишь, когда враг городу угрожает? Прошу дать винтовку, хочу и я бить фашистов». Вот какие люди у нас, — заключил Горшков.
А я слушал его и думал о том, как повезло полку, имеющему такого командира, и как должен быть счастлив командир, имеющий таких чудесных бойцов.
Люди из Тульского рабочего полка заслужили, чтобы о них рассказать подробнее. Первое боевое крещение они получили 30 октября. Полк занимал тогда оборону на высоте 225,5, что в трехстах метрах от Орловского шоссе, а также на Воронежском шоссе и в Рогожинском поселке.
Рано утром в районе кирпичного завода, расположенного южнее поселка, показались около сорока вражеских танков. Вслед за ними двигались цепи автоматчиков. Стреляя на ходу, танки приближались к окопам полка двумя группами — слева и справа.
Туляки подпустили противника поближе, а затем автоматчиков обстреляли ружейно-пулеметным огнем, танки же забросали гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Отличился при этом командир отделения Петр Саликов, первым подбивший танк.
Более четырех часов продолжался бой. Несколько раз атаковали гитлеровцы позиции полка. Но танки так и не смогли преодолеть противотанковый ров, а автоматчики не шли вперед без танков.
К сожалению, в обороне полка нашлось уязвимое место. На западной окраине Рогожинского поселка появившаяся в лощине вода помешала подготовить противотанковый ров. Воспользовавшись этим, гитлеровские танки пробрались по лощине в тыл рабочего полка, расчленили его на две части, а затем ворвались в поселок и с тыла повели атаку на окопы, занятые туляками.
Полк оказался в тяжелом положении и вынужден был отойти на восточную окраину Рогожинского поселка. Он занял линию обороны в районе Комсомольского парка, преграждая противнику путь в поселок Красный Перекоп.
Во второй половине дня гитлеровцы возобновили атаки. Но всякий раз они получали отпор и в конце концов отказались от дальнейшего наступления здесь. В этих схватках героически проявила себя рота Алексея Вахтанова.
Командир полка А. П. Горшков и комиссар Г. А. Агеев умело руководили подразделениями, показывали пример мужества и отваги. В самый разгар боя, когда фашисты начали прорываться к кирпичному заводу, в окопах на переднем крае осталось несколько раненых бойцов и медицинских сестер. Под вражеским огнем на помощь им бросился комиссар Агеев. Он сам стал выводить и выносить раненых с поля боя. Уже почти все пострадавшие были спасены, когда вражеская пуля оборвала жизнь героя.
Гибель комиссара остро переживал весь полк. Небольшая рощица, в которой лежало его тело, оказалась уже по ту сторону фронта. Как же забрать его, чтобы похоронить с воинскими почестями? Нашлись три смельчака, которые ползком пробрались в захваченную врагом рощу и, рискуя жизнью, буквально из-под носа у гитлеровцев выкрали мертвого Агеева и доставили его в Тулу.
Хоронили комиссара на городском кладбище. Один за другим выступали его боевые товарищи, клялись отомстить врагу. Над свежей могилой прозвучал прощальный оружейный салют.
Отказавшись от плана захватить Красный Перекоп, 31 октября враг начал наступление со стороны винного завода. Четыре раза гудериановские танки атаковали позиции Тульского полка, но опять не в состоянии были одолеть туляков.
Трое суток на этом участке не прекращались бои. И каждый час рождал новых героев.
До войны Алексей Гудков работал механиком в одном из строительно-монтажных трестов города. Как только враг приблизился к Туле, он вступил бойцом в истребительный бйтальон. Потом ему поручили командовать взводом. Гудков показал себя хорошим" командиром-организатором, человеком большой личной отваги. Однажды ему пришлось вступить в единоборство с вражеским танком. Командир взвода подпустил его поближе и кинул бутылку с зажигательной смесью. А когда машина остановилась и из нее стали выскакивать танкисты, Гудков хладнокровно начал расстреливать их. В этой схватке он погиб, но врага не пропустил.
Большим уважением пользовался в полку пожилой инженер коммунист Цукуров. Когда враг приближался к Туле, Цукуров отказался эвакуироваться, добровольно вступил в рабочий полк и был назначен политруком третьей роты, которой командовал железнодорожник Иванихин. Дни и ночи политрук проводил в окопах вместе с бойцами. В бою за деревню Малеевку Цукуров поднял роту в контратаку и, лично уничтожил несколько вражеских солдат и офицеров.
Издавна говорили в народе: «Тула — стальная душа». Пожалуй, лучшее определение городу трудно найти.
Жил и трудился в Туле оружейник Трегубов. Шел ему уже седьмой десяток. Сидеть бы старику дома, но перед лицом фашистского нашествия он твердо решил: его место только в рабочем полку. Получил Трегубов винтовку и, как он говорил, «поселился в окопах Рогожинского поселка».
Как-то, перед боем, командир батальона беседовал с бойцами. Поскольку гитлеровцы хорошо укрепились, он говорил, что сближение с противником до броска в атаку следует вести ползком и короткими перебежками. Старый оружейник выслушал командира и укоризненно покачал головой:
— Есть на тебе крест, что заставляешь меня ползать перед супостатом. Что я, гордость свою рабочую потерял? Или, думаешь, тульская пуля слабее фашистской?
— Не потому надо укрываться, что мы боимся гитлеровцев, а чтобы сподручнее было бить их. Да и пословицу, наверное, знаете: «Береженого бог бере кет».
— А я в бога не верю, — сердито заметил старик. — Будь бог на небе, не поганить бы фашистам землю…
Вскоре батальон пошел в наступление. Вместе со всеми двигался и оружейник Трегубов. Когда под огнем противника товарищи залегли, он один зашагал навстречу неприятелю. Несколько фашистов бросились к нему. Трегубов спокойно расстреливал их в упор. Неизвестно, как бы долго продолжалась эта неравная схватка, если бы на помощь ему не подоспел батальон.
После этого во всех подразделениях рабочего полка говорили об упрямом оружейнике. Старика шутя называли закоренелым индивидуалистом: дескать, любит один воевать и всю славу себе забирает. На это Трегубов отвечал тоже шуткой:
— Не беспокойтесь, славы на всех хватит, смотрите, сколько еще недобитых гитлеровцев по тульской земле ходит. А вообще-то, конечно, когда один, легче прибыль подсчитывать.
Не уронили чести Тульского рабочего полка и его юные бойцы, такие, как Гриша Гуфельд.
Летом сорок первого года комсомольцу Григорию Гуфельду исполнилось семнадцать лет. Тихий это был, застенчивый паренек. Глядя на его тщедушную фигурку, трудно было поверить, что он способен на героический подвиг. Поэтому, когда Григорий Гуфельд явился к командиру полка и попросил зачислить его в разведчики, капитан Горшков скептически посмотрел на него и простодушно спросил:
— А фашиста не боишься?
— Пусть он меня боится! — обиделся Гриша.
После настойчивых просьб желание паренька уважили — приняли в полк и зачислили в группу разведчиков. Раскаиваться в этом не пришлось.
Как-то перед фронтом полка появился вражеский снайпер. Выбрав удобную позицию на высоте, он стал досаждать бойцам одного из подразделений. Пробовали обстреливать высоту пулеметчики, обрабатывали минометчики, но ничто не помогало. Кончался огонь, и фашист появлялся снова. Видимо, прочное у него было укрытие.
Уничтожить фашиста вызвался Гуфельд. Ночью он подобрался к высоте, обнаружил ячейку снайпера и бросил в нее гранату.
В другой раз Гуфельд принес командиру немецкий автомат и пистолет.
— Откуда взял? — спросил Горшков.
— Убил фашиста.
— Где убил?
— Сегодня ночью в ихнем окопе был.
С тех пор отважный разведчик чуть ли не каждую ночь стал наведываться в расположение врага, добывал нужные сведения и непременно возвращался с трофеями. Вскоре в полку за Гришей Гуфельдом укрепилась слава лучшего разведчика. Самые ответственные поручения обычно давали ему.
Однажды Горшков вызвал Гришу:
— Гитлеровская артиллерия с Косой Горы ведет разрушительный огонь по городу. Надо выявить огневые позиции. Как смотришь, если в разведку пошлем тебя?
— Раз нужно, значит, пойду, — коротко ответил Гуфельд.
И пошел. Четыре дня о его судьбе ничего не было известно. В полку уже начали беспокоиться, думали, что парнишка погиб.
А разведчик тем временем успел побывать не только на Косой Горе, но и в Ясной Поляне. Детально разведав силы врага и дислокацию его частей, на небольшом листе бумаги Гуфельд нарисовал схему расположения огневых позиций вражеской артиллерии.
Благодаря собранным Гришей сведениям тульские артиллеристы смогли подавить вражеские батареи и после этого обстрел Тулы значительно сократился.
В дни войны в одной из армейских газет мне довелось прочитать речь Александра Довженко, произнесенную перед молодыми танкистами, уходившими на фронт. Это было страстное выступление, полное безграничной любви к Родине и неугасимого гнева к врагу. Особенно запомнились мне такие довженковские слова: «Воюйте с врагом везде! Не ждите, ищите врага! Воюйте на каждом месте, не ждите. Изобретайте, творите войну, творите борьбу! Не будьте лишь исполнителями команд. Ежеминутно, ежечасно изобретайте уничтожение врага!»
Именно так поступали защитники Тулы. Они изобретали, творили войну, беспощадно истребляли врагов, глубоко разумея, что каждый уничтоженный фашист, разбитый вражеский танк, подавленный огонь гитлеровского орудия приближают час нашей победы.
На одном из оборонных заводов Тулы работал старшим контрольным мастером коммунист Алексей Елисеев. В коллективе он пользовался репутацией опытного специалиста, человека большой технической культуры, неутомимого новатора и пропагандиста передового опыта. В дни войны Елисеев стал командовать истребительным батальоном, который затем влился в Тульский рабочий полк.
Елисеевское подразделение занимало оборону левее Орловского шоссе. Близко отсюда находились подсобные помещения оружейно-технического училища, захваченные немцами. Елисееву приказали выгнать оттуда врага.
Сделать это не так просто: на подступах к училищу стоял подбитый вражеский танк, служивший гитлеровцам превосходной огневой точкой и наблюдательным пунктом. Не уничтожив танк, нечего было и думать об освобождении училища. Выполнение этой задачи Елисеев взял на себя, выбрав в помощники двух бойцов.
Ползком все трое стали продвигаться. к танку. Помогла канавка, протянувшаяся в нужном направлении. К сожалению, когда до танка оставалось не более пятидесяти метров, канавка кончилась. Теперь место было совершенно открытое, и гитлеровцы его пристреляли. Пока Елисеев с одним бойцом отвлекали внимание вражеских стрелков на себя, другой боец пополз к танку. Подорвать его ему не удалось, пуля врага сразила героя. Тогда к танку двинулся сам Елисеев. Ему посчастливилось подобраться поближе и метнуть бутылку с зажигательной смесью. Танк запылал. Поняв это как сигнал, подразделение Елисеева поднялось в атаку и скоро выбило врага из оружейно-технического училища…
Не могу не рассказать о Богомолове, преемнике Агеева на посту комиссара рабочего полка.
Однажды на окопы, где находился Богомолов с группой бойцов, стреляя на ходу, пошли восемь вражеских танков. Соскакивая с машин, в цепь разворачивался десант автоматчиков. Казалось, еще немного, и нервы бойцов не выдержат. Наверное, в эти минуты сжалось сердце и у комиссара, но он сумел пересилить страх и властно сказал:
— Ни шагу назад! Врага не пропускать!.
Комиссар первым открыл огонь из автомата. Воодушев* ленные его примером, бойцы тоже начали отбиваться от наседавших гитлеровцев, поджигать танки бутылками с горючей смесью. Так и захлебнулась эта атака врага.
Фашисты вызвали на помощь подмогу. Теперь шестнадцать машин двинулись на подразделение, в котором находился Богомолов. И снова, вступив в бой, подразделение не пропустило врага.
Тульский полк не находился на довольствии в 50-й армии, поскольку не был кадровой воинской частью. Сами туляки заботились о своих рабочих-воинах. Они организовали сбор теплой одежды и валенок, наладили приготовление пищи на фабрике-кухне Кировского района. Снабженцы в полку были чуткие, изворотливые, смекалистые.
Запомнился неугомонный помощник командира полка по материальному обеспечению Иван Павлович Исаев, уже немолодой коммунист, в недавнем прошлом заместитель управляющего одним из строительно-монтажных трестов. Всеобщим уважением пользовался сослуживец Исаева, главный механик треста, а в полку — начальник боепитания Павел Шишкин.
На вооружении рабочего полка были станковые и ручные пулеметы, частью переделанные из учебных или собранные из бракованных деталей. Благодаря заботам Шишкина, прекрасно знавшего стрелковую технику, они работали безотказно. Сам Шишкин сумел подготовить 16 расчетов станковых и 20 расчетов ручных пулеметов.
Однажды полк получил десятизарядные винтовки. Работали они скверно и почти все отказали в первом же бою. С группой мастеров-оружейников Шишкин тут же, в окопах, перестроил магазинные коробки и превратил капризные винтовки в надежные автоматы.
Большой популярностью и любовью пользовалась в полку бесстрашная сандружинница Клава Чурляева. Как-то я повстречал ее. Быстрая, веселая, презирающая смерть, она бегала по окопам с термосом в руках, угощая бойцов горячим чаем.
— Где это ты, — спрашиваю, — чай раздобыла?
— Да ведь мы — туляки, — засмеялась она и рассказала, что в каждой роте у них есть свой самовар. Бойцы вскипятят, а она разносит чай по окопам, чтобы воины пили да грелись. — Тогда и воевать веселей, — добавила девушка.
Туляки гордились своим рабочим полком и нередко целыми семьями шли в его ряды. Так поступили оружейники Кочетков и Смирнов, жена и муж Ростовы, Паншина, ее муж Косулин и многие другие.
Неоценим вклад Тульского рабочего полка. До конца обороны родного города он был в первых рядах его защитников. Затем полк влился в регулярные войска, ему присвоили номер 766. С частями 50-й армии он одолел тысячи километров фронтовых дорог и дошел до Кенигсберга.
Бои продолжались с неослабевающим напряжением. Тула по-прежнему охвачена врагом с трех сторон.
Командующий фронтом телеграфирует: «Действуйте активнее, иначе противник окружит вас в Туле». Конечно, это мы и сами прекрасно понимаем и делаем все, что в наших силах.
В один из самых горячих дней, когда гудериановские танки вплотную подошли к Туле и развили активность вдоль шоссе Вязьма — Тула, я решил для борьбы с ними применить 732-й зенитный полк ПВО, которым командовал майор М. П. Бондаренко. В первом же бою зенитчики блестяще проявили себя и уничтожили немало немецких танков.
85-миллиметровые пушки оказались действенным средством борьбы с танками. Стреляя болванками, они легко пробивали даже лобовую броню.
Эффект от применения зенитных орудий был таким, что гитлеровские танковые атаки стали значительно реже, а на некоторых участках обороны Тулы и вовсе прекратились.
Между тем в лице командира зенитно-артиллерийской дивизии генерал-майора Овчинникова я встретил ярого противника использования зенитных средств против гудериановских танков. Ни мои доводы, ни убедительные факты, опровергавшие его взгляды, ни к чему не приводили.
Как-то, вернувшись из района Косой Горы в штаб и находясь еще под свежим впечатлением от действий зенитной артиллерии во время танковых атак гитлеровцев, я застал у себя генерала Овчинникова.
— Товарищ командующий, — обратился он, — снова вынужден вас предупредить, что считаю совершенно неправильным использование зенитных средств для борьбы с танками. Я несу полную ответственность за благополучие в воздухе и не могу допустить, чтобы ваша армия и город оставались без защиты от воздушного противника. Прошу отдать приказ об использовании зенитной артиллерии лишь по ее прямому назначению.
Я сдержал себя, хотя все во мне кипело от негодования.
Ответил Овчинникову, не повышая голоса:
— Прошу, товарищ генерал, помнить, что армией командую я. А вообще-то ваши суждения считаю глубоко консервативными. Они в корне ошибочны и даже вредны.
— Каждый обязан следить за тем, что ему доверено, — заметно нервничая, возразил он, — Меня, товарищ командующий, учили так: любое оружие должно использоваться только по своему назначению.
— Я не хуже вас понимаю, что зенитки призваны бороться с вражеской авиацией. Поэтому не все орудия направляю на борьбу с танками, а только часть их. Кстати, товарищ Овчинников, вам бы следовало шире смотреть на свои обязанности и понять, что в настоящее время для нас опаснее не столько авиация, сколько танки врага. Если танки прорвутся в город, а без помощи зенитчиков это вполне возможно, то вам нечего будет оборонять от нападения с воздуха. К тому же, у меня имеются сведения, что гитлеровское командование не думает бомбить Тулу. Оно рассчитывает взять город целым, чтобы использовать его промышленность в своих целях.
Овчинников молчит.
— Учтите, — говорю я ему, — и впредь буду, когда найду нужным, использовать зенитчиков против вражеских танков. Если не согласны, можете на меня жаловаться в штаб фронта.
— Я не подчинен штабу фронта, — замечает Овчинников.
— Жалуйтесь куда хотите, даже в Москву.
И Овчинников пожаловался. Вскоре после нашей беседы позвонил маршал Б. М. Шапошников.
— Товарищ Болдин, голубчик мой, — как всегда приветливо, начал он. — Что у вас стряслось? Генерал Овчинников обижается, говорит, будто вы используете зенитную артиллерию не по назначению.
Я доложил начальнику Генерального штаба существо наших разногласий.
— Генерал Овчинников мыслит однобоко. А я считаю, что технику надо применять там, где она в настоящее время нужнее и может принести больше пользы. — Когда я сообщил маршалу о результатах применения зенитных средств в борьбе с танками, он сказал:
— Ну, голубчик, сами хорошенько разберитесь что к чему и все споры решите на месте, Вы достаточно ответственные люди. Делайте так, как подсказывает обстановка. Вам виднее.
— Товарищ маршал, я категорически предупредил генерала Овчинникова: если он будет мешать мне, отстраню *его.
— А вот этого делать нет надобности. Постарайтесь доказать свою правоту…
После этого Овчинников вынужден был отступить. А я по-прежнему выдвигал на передовые позиции 85-миллиметровые пушки, и наши замечательные зенитчики продолжали уничтожать вражеские танки прямой наводкой.
Ко мне привели трех пленных, захваченных в районе Косой Горы. У всех у них: и у лейтенанта Георга Гаде, и у унтер-офицера Франца Бейрана, и у ефрейтора Эдвиля Вагнера — ужасный вид. Лица грязные, заросшие густой щетиной. Из-под странных головных уборов непонятного происхождения, натянутых до бровей, боязливо блестят глаза. Поверх шинелей напялены какие-то лохмотья. На ногах тяжелые эрзац-боты. Но поведение их вначале было вызывающе наглым.
Меня интересовало, что думает гитлеровец зимнего образца 1941 года, как он оценивает события на советско-германском фронте, и в частности под Тулой. Спрашиваю лейтенанта, почему Гитлер напал на Советский Союз.
— Мы хотели предотвратить нападение Советов на нас, — нехотя отвечает Гаде.
— А разве наша страна угрожала Германии?
Пленный молчит. Его глаза быстро бегают по сторонам, боясь встретиться с моими. Затем лейтенант признается:
— Фюрер обещал превратить Россию в нашу колонию. Ведь Россия очень большая и богатая. У нас же земли мало, а населения много.
Обращаюсь к унтер-офицеру Бейрану, спрашиваю, что он может сказать по этому поводу? Этот решил подвести теоретическую базу.
— Идея вашего Ленина, — говорит он, — состоит в том, чтобы объединить все народы, как вы это сделали в своей стране. А Германии это абсолютно не нужно. Такая идея революционизирует немцев. А зачем это нам? Германия хочет жить самостоятельно, без советов вашего Ленина.
— Кто же вам мешает жить самостоятельно? Разве это означает истреблять другие народы, грабить, насиловать, жечь города и села, уничтожать все, что создано руками мирных людей, народами других стран?
Ответа не последовало.
Рыжеволосый ефрейтор Вагнер, молча слушавший, отогрелся и заметно расхрабрился. Он снял с себя так называемую «шубу», из кармана френча, на котором поблескивала гитлеровская награда — железный крест, вынул сигарету и демонстративно закурил. Ему сделали замечание: в присутствии генерала без разрешения курить нельзя. Вагнер со злобой посмотрел на меня и развязно ответил:
— В присутствии моего генерала я не курю, — затем сел на стул и, вытянув свои длинные ноги, добавил: — Пока вы генерал, а через пару часов станете пленным, и мой генерал будет вас допрашивать. Победители мы!
Один из наших солдат молча приподнял его за воротник. Вагнер сразу побледнел и потерял дар речи. Губы его задрожали, а лоб покрылся испариной. Он уронил дымящуюся сигарету, вытянулся во фронт и так потом стоял в течение всего допроса.
Учтивее повели себя и два других пленника. Отвечая на мой вопрос, гитлеровский лейтенант говорит:
— Фюрер обещал, что война закончится, когда возьмем Москву.
— А вы в это верите?
На помощь лейтенанту приходит Франц Бейран:
— Я не вполне уверен, что обещание фюрера реально. Ведь Россия такая огромная страна. У нее много солдат, и они превосходно воюют. У нее есть танки и самолеты. Мы и сегодня видели ваши новые танки, кажется, что они совсем неуязвимы. Нет, завоевать такую страну, пожалуй, немыслимо.
Для той поры это было не совсем обычное заявление. Оно не могло не порадовать нас.
Уже десять дней наши войска ведут ожесточенные бои на сталиногорском направлении. Гитлеровцы снова добились некоторых успехов. Но они по-прежнему далеки от заветной цели — через Тулу и Серпухов пробиться к Москве.
Отлично зарекомендовали себя в этих боях части 258-й стрелковой дивизии под командованием полковника М. А. Сиязова и 154-й стрелковой дивизии, возглавляемой генерал-майором Я. С. Фокановым.
Несколько массированных танковых атак выдержала 112-я танковая дивизия полковника А. Л. Гетмана. Враг бросал на прорыв ее позиций по 60–80 танков сразу. Действуя из укрытий, наши танкисты в упор расстреливали рвавшихся вперед гитлеровцев. Более суток продолжался тяжелый танковый бой. Потеряв много машин, враг вынужден был остановить наступление и вызвать на помощь авиацию.
За день фашистские самолеты одиннадцать раз пытались бомбить боевые порядки танкистов. Но наши истребители принуждали их в беспорядке сбрасывать бомбы и поворачивать обратно.
Труднее сложилась обстановка на левом фланге 49-й армии. Здесь противник овладел городом Алексин и, продвигаясь к Лаптеву, одновременно начал усиленную разведку в сторону Тулы.
Чтобы помочь соседу, мы решили контратаковать вклинившиеся части противника. Эту задачу я поручил 258-й стрелковой дивизии. Командир дивизии полковник Сиязов вскоре сообщил, что контратаковать будет лучший в дивизии 999-й полк подполковника А. Я. Веденина во взаимодействии с 124-м танковым полком.
Контратака была предпринята утром 30 ноября после артиллерийской подготовки и двух залпов гвардейского минометного дивизиона. Через семь часов 999-й стрелковый полк овладел рубежом Грибово — Гурово — Сеятель — Маныпино — Никулино. Противник в беспорядке отошел на запад.
Эта контратака имела немалое значение в общем плане обороны Тулы. После этого боя армейская газета «Разгромим врага» писала:
«На днях подразделения тов. Веденина перешли в контратаку, потеснили немцев и отбили у них три населенных пункта…»
999-й стрелковый полк мы обычно называли «три девятки», или попросту «веденинский». Веденинцам пришлось выдержать жестокие бои за Тулу. И каждый раз враг нес от него тяжелый урон.
Спустя много лет после войны мне довелось встретиться с Андреем Яковлевичем Ведениным, генерал-лейтенантом, комендантом московского Кремля. Умные глаза глядели чуть устало. Волосы малость поредели и посветлели. В манере разговаривать появилась степенность, черта, которой раньше я не замечал. Но как только мы начали вспоминать оборону Тулы, Веденина точно подменили. Передо мной снова был по-прежнему горячий, бесстрашный, ищущий боя с врагом командир полка «три девятки».
По старой привычке, обращаясь ко мне, Веденин говорил «товарищ командующий», словно заново переживая все перипетии тех давних дней.
— Да, товарищ командующий, — уверял комендант Кремля, — каждый из тех боев помню, словно это происходило только вчера. А ведь воевать приходилось и раньше, я в общей сложности около десяти лет провел на войне.
И мой собеседник стал вспоминать:
— Помните восемнадцатый год, когда Владимир Ильич бросил клич: «Социалистическое отечество в опасности!» Миллионы людей взялись тогда за оружие и пошли защищать нашу молодую республику. Среди них был и я, простой деревенский паренек…
Большой и славный путь прошел этот замечательный человек. После разгрома внутренней контрреволюции и иностранной интервенции Веденин принимал участие в борьбе с басмачеством в Средней Азии.
Буквально за несколько дней до нападения гитлеровцев на нашу страну Веденин получил диплом об окончании школы «Выстрел», а в первый день войны покинул Москву и выехал в Орел, где и принял командование 999-м стрелковым полком.
Из Орла полк переехал в Брянск, а оттуда походным маршем направился к Рославлю. Почти целую ночь шли веденинцы, а на рассвете остановились и начали строить оборонительный рубеж.
Впереди лежащие поля, с которых еще не успели убрать овес и рожь, Веденин приказал забросать противотанковыми минами. Стрелковые подразделения расположил за противотанковым рвом. По всей линии обороны расставил противотанковые пушки.
Вскоре подошли гитлеровцы и завязались бои. Атаки врага следовали по всему фронту 258-й стрелковой дивизии. Но наибольшие усилия он сосредоточил вдоль Варшавского шоссе, где занимал позиции веденинский полк.
Впереди у фашистов двигались танки, за ними шла мотопехота, затем снова танки. 999-й полк держал первый боевой экзамен. В этом бою враг потерял несколько десятков танков и много живой силы.
Около двух месяцев 999-й полк удерживал свой рубеж. А когда гитлеровцам удалось все же прорваться к Брянску и войска 50-й армии вынуждены были отходить, веденинцам пришлось вести тяжелые арьергардные бои.
Так 999-й стрелковый полк дошел до Белева. Здесь, на тульской земле, я и познакомился с ним и его командиром.
К началу декабря битва за Москву перешла в решающую фазу. Войска левого крыла группы армий «Центр», действующие северо-западнее столицы, находились в 25 километрах от нее.
Враг был убежден, что до падения Москвы остались считанные часы. Недаром редакции берлинских газет получили приказ при подготовке номеров на 2 декабря оставить пустые места для сообщений германского командования.
Советские войска вели кровопролитные бои на дмитровском, клинско-солнечногорском, истринском и звенигородском направлениях. На юге враг уперся в Тулу.
1 декабря 50-я армия частью сил во взаимодействии с 238-й дивизией 49-й армии продолжала контратаковать войска Гудериана на своем правом фланге.
В то же время 31-я кавалерийская дивизия активно действовала в тылу мордвесской группировки противника. Кавалеристы нарушили коммуникации врага и овладели населенными пунктами Горшково, Киселевка, Ильинка, Оленьково. Маневр 31-й кавалерийской дивизии создал серьезную угрозу тылу вражеских войск под Каширой.
Враг предпринимает последние яростные попытки выйти на шоссе Тула — Серпухов и полностью окружить Тулу. 2 декабря его 3-й и 4-й танковым дивизиям удается выйти на рубеж Севрюково — Ревякино, в пятнадцати «километрах севернее Тулы — Торхово — Дорофеевка — Дубки. Мы лишились единственной железнодорожной магистрали, связывающей Тулу ср столицей, магистрали, по которой шло снабжение города и 50-й армии.
Правда, у нас оставалась шоссейная дорога, проходившая западнее Руднево и названная дорогой жизни. Автотранспорт доставлял по ней нашим войскам и осажденной Туле вооружение, боеприпасы, продовольствие, различное военное имущество, обмундирование, медикаменты. Но враг прилагал все силы, чтобы лишить нас и этой магистрали.
Я ни на минуту не терял веру в способность армии выстоять в битве за Тулу и победить. Эта внутренняя убежденность помогала легче переносить суровые испытания тех дней. И все же понимал, что необходимо предпринять решительные меры.
Срочно созвал заседание Военного совета. Присутствуют на нем Сорокин и Жаворонков, начальник штаба Аргунов, мой заместитель генерал-майор Попов, начальник артиллерии армии полковник Лисилидзе, командир 154-й дивизии генерал-майор Фоканов и командир 217-й дивизии комбриг Трубников, члены городского комитета обороны, несколько офицеров оперативного отдела штаба армии.
Обсуждаем обстановку. Все смотрят на большую карту, висящую на стене, по которой я вожу указкой, обращая внимание на наиболее уязвимые участки в обороне Тулы. Подчеркиваю, что нужно обязательно уничтожить противника, прорвавшегося к Руднево и Торхово. От выполнения этой первоочередной задачи во многом будет зависеть дальнейший ход боев за Тулу.
Неожиданно скрипнула дверь. Вошел дежурный офицер и вручил мне телеграмму. Командующий фронтом сообщал: 340-я стрелковая дивизия полковника С. С. Мартиросяна, свежая, полнокровная, передана в мое подчинение. Новость приятная. Зачитал телеграмму.
Выступает полковник Лисилидзе:
— Считаю, что мы можем лучше использовать приданные три дивизиона гвардейских минометов РС.
— Что вы предлагаете? — спрашиваю у него.
— Нужно, чтобы они чаще меняли позиции. У противника следует создать впечатление, будто у нас не три таких дивизиона, а вдвое, может, и втрое больше. Кроме того, необходимо улучшить разведку, всегда знать, где враг накапливается для атаки, и именно туда обрушивать огонь наших «катюш».
После начальника артиллерии слово берет начальник Тульского боевого участка генерал-майор Фоканов. Он говорит о необходимости усилить противотанковыми заграждениями подступы к городу со стороны Косой Горы.
Про себя отмечаю: Фоканову выделить противотанковых мин, направить в помощь ему подразделение саперов. Спрашиваю у генерал-майора Попова:
— Как обстоит дело со снабжением?
— Войска получают все необходимое. Единственно, в чем не удовлетворяем спрос, так это в лопатках-минометах. Туляки начали выпуск их, но производство только налаживается.
Поднимается со своего места Жаворонков. Он говорит, что городской комитет обороны дал задание заводу изготовить новую партию лопаток-минометов. Уже сегодня часть партии поступит, если уже не поступила в войска.
Выступают и другие товарищи. Каждый предлагает что-то новое, свое, но все это, вместе взятое, направлено на одно: сдержать натиск врага, перемолоть побольше его сил, ликвидировать угрозу окружения Тулы. Приятно сознавать, что среди помощников в это трудное для армии время нет равнодушных, каждый проявляет разумную инициативу.
Слушая участников совещания, их рекомендации, я все более утверждаюсь в мысли, что для нас сейчас лучшей формой обороны будет контратака против каширской группировки противника, охватывающей Тулу с северо-востока. Постепенно в сознании вырисовывается план. Новая дивизия Мартиросяна и 217-я дивизия Трубникова нанесут с разных направлений удар на Торхово. Часть сил 413-й дивизии атакует с юга Колодезную, а 31-я кавалерийская дивизия поведет наступление в направлении Прудки, Волынцево.
Свое решение тут же излагаю Военному совету. Возражений, как и следовало ожидать, нет.
Далее я говорю о необходимости усилить сопротивление войскам противника, охватывающим Тулу с северо-запада. Объявляю, что для координации действий наших частей с частями 49-й армии надо выслать в район Лаптево оперативную группу во главе с генерал-майором Поповым.
Сразу же продиктовал Аргунову боевой приказ и начальник штаба передал его в войска.
В комнате мы остались втроем: Сорокин, Жаворонков и я.
— Иван Васильевич, — говорит Сорокин, — мне думается, сейчас следует от имени Военного совета написать обращение к войскам армии, морально поддержать их, поднять боевой дух.
Жаворонков заметил:
— Обращение следует адресовать не только войскам армии, но и трудящимся Тулы, всем ее защитникам.
Правильная мысль. Прошу Сорокина и Жаворонкова подготовить текст обращения.
3 декабря около шестидесяти танков противника вместе с моторизованной пехотой перешли железную дорогу Тула — Серпухов в районе Ревякино и заняли населенные пункты Струнино, Желыбенка, Нефедово. Небольшая группа вражеских танков прорвалась через Пешково, Грецово и заняла Николо-Выкунь. К исходу дня передовые части противника заняли Петрушино, Кострово, Севрюково. Мне доложили, что гитлеровцы в нескольких местах перерезали Московское шоссе в 15–20 километрах севернее Тулы.
— Что будем дальше делать? — спрашивает Жаворонков.
— Странный вопрос, — отвечаю я, стараясь казаться веселым. — Будем, как и прежде, оборонять Тулу, бить фашистов.
Входит Аргунов. Докладывает, что противник нарушил связь армии с Москвой.
В Туле и вокруг нее ни на минуту не умолкает артиллерийская канонада. Командный пункт 258-й стрелковой дивизии в деревне Поповкино. По телефону вызвал ее командира полковника Сиязова.
— Михаил Александрович, — буквально до хрипоты кричу в трубку полевого аппарата, — немедленно предпринимайте меры к освобождению Московского шоссе от немцев.
Сиязов плохо слышит меня. По слогам повторяю каждое слово. В ответ доносится отдаленный голос:
— Товарищ генерал, приказ будет выполнен. На Московское шоссе высылаю девятьсот девяносто девятый полк.
Предлагаю Сиязову каждый час информировать меня. Я ни на минуту не сомневаюсь, что веденинцы освободят шоссе от противника.
Тут же раздается телефонный звонок из штаба фронта. Меня вызывает генерал армии Г. К. Жуков. Предчувствую, что разговор будет не из приятных. Так оно и оказалось.
— Что ж, товарищ Болдин, — в третий раз попадаете в окружение. Не считаете ли, что многовато? Я ведь вам говорил, что штаб армии и командный пункт нужно перевести в Лаптево. Вы все упорствовали, приказ не выполнили…
— Товарищ командующий, если бы я со штабом армии оставил Тулу, Гудериан немедленно занял бы ее. Положение наше было бы куда хуже, чем теперь.
В трубке послышался резкий треск, длившийся минуты две, затем слышимость восстановилась.
— Какие меры принимаете? — снова послышался голос командующего.
Я докладываю, что 999-й стрелковый полк 258-й дивизии начал бой за освобождение Московского шоссе. Кроме того, готовится удар по каширской группировке противника.
— Какая вам помощь нужна?
— Прошу с севера вдоль Московского шоссе, навстречу веденинскому полку, пустить танки дивизии Гетмана.
— Прикажу. Но и вы принимайте решительные меры…
Каждый час Сиязов докладывает обстановку на шоссе, а я в свою очередь сообщаю о ней штабу фронта.
Уже семнадцать часов ведут бой веденинцы. В который раз за это время раздается телефонный звонок. Снимаю трубку, слышу взволнованный, радостный голос Сиязова:
— Товарищ командующий, только что звонил Веденин. Его полк соединился с танкистами Гетмана. По шоссе Москва — Тула можно возобновлять движение.
Я поблагодарил Сиязова, приказал представить к награде отличившихся в бою.
Известие об успешных действиях 999-го полка и танкистов 112-й танковой дивизии в боях за Московское шоссе мы постарались сделать достоянием всей Тулы и войск.
Чувствуется, что в борьбе за Тулу наступил переломный момент. Планы врага по овладению городом рушились.
Более того, перешли в контрнаступление наши 340, 413 и 217-я стрелковые, еще больше активизировалась 31-я кавалерийская дивизии. 3-я немецкая танковая дивизия, прорвавшаяся в район Руднево, ст. Ревякино, Торхово и стремившаяся замкнуть кольцо вокруг Тулы, сама оказалась в окружении.
Правда, противник яростно сопротивляется, кое-где он еще пытается атаковать. 4 декабря, например, два его пехотных полка при поддержке тридцати танков начали наступать на узком участке перед 413-й стрелковой дивизией. Им удалось овладеть несколькими населенными пунктами и отрезать в районе Колодезная 1322-й стрелковый полк, один из лучших в дивизии Терешкова.
Но это уже не могло изменить общую обстановку под Тулой. 740-й стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии, овладев населенным пунктом Крюково, преследовал противника, отходящего в направлении Торхово. 340-я стрелковая дивизия полковника Мартиросяна со 112-й танковой дивизией полковника Гетмана продолжали наступлеление на Руднево. К исходу 5 декабря они освободили населенные пункты Бяково, Струнино, Ивановка и оказались в четырех с половиной километрах севернее Руднево.
Радостные вести поступали к нам и из 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. К вечеру 5 декабря конники вышли на рубеж Гритчино — Пряхино. Противостоящие корпусу части 17-й танковой и 70-й мотодивизий врага с боями откатывались на юг вдоль железной дороги Кашира — Сталиногорск.
Рано утром 6 декабря перешла в наступление и 258-я стрелковая дивизия. К полудню она выбила противника из населенных пунктов Антоновка, Белый Лес, Никулинские Выселки, Новая Жизнь, Костино и продолжала преследование.
Теперь в штаб армии поступают донесения, одно радостнее другого. Вот и командир 290-й стрелковой дивизии полковник В. Н. Хохлов доложил, что его части овладели населенным пунктом Щепилово.
Героически дрался 1322-й стрелковый полк, отрезанный противником в районе Колодезная.
Генерал Терешков всегда гордился этим полком и говорил, что каждый его боец обладает силой отделения, отделение способно заменить взвод, а уж рота по своим боевым качествам может сравниться с батальоном.
Как-то Терешков представил мне своего любимого командира полка. Открытое широкоскулое русское лицо с крупными чертами. Над переносицей две глубокие складки. Брови черны как смоль. Большой правильный рот. Одет в светлый овчинный полушубок с меховым воротником из барашка. Такая же шапка-ушанка, прикрывавшая половину широкого лба. Через плечо перекинут ремень планшета.
— Командир 1322-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии капитан Петухов, — представился он.
Спрашиваю, давно ли в полку. Говорит, что с первого дня его создания. А на тульскую землю приехал с Дальнего Востока, вместе с дивизией генерала Терешкова.
— Немцев много побили?
— Смотря как считать. С одной стороны, много, а с другой — мало.
— Это как же понять?
— Очень просто, — отвечает Петухов. — Раз гитлеровцы еще бродят по нашей земле, значит, мало мы их побили… Комиссар мой, Седлецкий, мастер по части двойной итальянской бухгалтерии. У него даже книжица есть такая, он ее по-немецки называет «Гроссбух». Так вот, комиссар записывает в нее, когда и сколько наши люди убили вражеских солдат и офицеров, какую гитлеровскую технику уничтожили, что захватили.
Петухов подробно рассказывал о людях полка, его лучших бойцах и командирах, вспоминал наиболее интересные бои, в которых полк участвовал в дни битвы за Тулу. И по его рассказу можно было сразу понять, что этот безусловно одаренный командир, человек большой личной отваги, является душой и сердцем полка. И точно подтверждая мою мысль, генерал Терешков говорит:
— Хоть Петухов еще молод, а в полку его называют отцом.
— Что вы, товарищ генерал, такое говорите, — смущаясь, замечает Петухов. — В полку нашем есть люди, которым я сам в сыны гожусь…
Эта первая встреча с Петуховым припомнилась мне во всех подробностях, когда мне доложили, что 1322-й полк оказался в тяжелом положении. Мысленно представил себе, какие героические усилия предпринимает полк, чтобы выгнать врага из Колодезной и соединиться со своими.
А на другой день, под утро, дежурный офицер вручил мне оперативную сводку, и в ней говорилось: «1322-й стрелковый полк в 18.00, сосредоточившись на восточной опушке леса один километр западнее Колодезной, повел наступление на Колодезную и в 2.00 6 декабря овладел ею, разгромив 5-й батальон полка «Великая Германия…»
Так скупо сводка сообщила о героических делах полка Петухова. А мне хочется рассказать об этом подробнее.
Колодезная стоит у пересечения дорог. От линии фронта ее прикрывают возвышенность и небольшие участки леса. Деревня имела для врага большое значение, отсюда он намеревался прорваться к Туле.
Колодезную противник превратил в перевалочную базу снабжения своих войск. В ней расположился 5-й батальон полка CG «Великая Германия», полка, на который гитлеровское командование всегда возлагало большие надежды.
1322-й стрелковый полк наступал на Колодезную, с трех сторон: с юга — батальон лейтенанта Буркатовского, с востока — батальон лейтенанта Фомина и с севера — батальон младшего лейтенанта Медведева. Подразделение лейтенанта Логвинова обошло деревню с запада и отрезало врагу путь отступления.
Бесшумно сняв часовых, бойцы Петухова ворвались на улицу и стали забрасывать гитлеровцев гранатами, расстреливать из автоматов, колоть штыками.
Удар был неожиданным и ошеломляющим.
Оставшиеся в живых гитлеровцы пустились наутек, пытаясь выскочить через свободную, как они думали, западную окраину деревни. Но дружные залпы подразделения Логвинова остановили их.
В боях за Колодезную враг потерял несколько сот солдат и офицеров. Полк Петухова захватил в деревне свыше Сорока грузовых автомашин, семь легковых, три радиостанции, электростанцию, около ста мотоциклов, два танка, два орудия, более ста пулеметов, большое число автоматов, два склада боеприпасов и многое другое.
В результате успешных действий 413, 340 и 290-й стрелковых и 31-й кавалерийской дивизий враг потерпел серьезное поражение. Но он все еще не мог примириться с мыслью, что его попытка овладеть Тулой окончательно провалилась. Именно поэтому с яростью обреченных гитлеровцы предприняли еще ряд попыток наступать. Ночью 7 декабря они пробовали атаковать западную окраину Тулы из района Маслово. Утром две роты противника начали атаки из Алексеевки и Ямны. Но и эти попытки окончились для врага плачевно. Оставив на поле боя убитых и раненых, он вынужден был откатываться назад.
А тем временем севернее Тулы 740-й стрелковый полк 217-й дивизии овладел населенными пунктами Торхово, Слободка, Барыбинка, Бабынино и соединился с 1144-м полком 340-й дивизии и 510-м полком 154-й дивизии, наступавшими с севера и овладевшими населенными пунктами Руднево и Теплое.
413-я стрелковая дивизия генерала Терешкова, дравшаяся на восточных подступах к Туле, отбросила врага из района Глухие Поляны и соединилась с 340-й дивизией. В результате этих боев ширина коридора к северу от Тулы увеличилась до 30 километров.
Активные действия войск 50-й армии в районах к северо-западу, северу и северо-востоку от Тулы сковали инициативу противника, заставили его перейти к обороне.
Успеху войск 50-й армии во многом способствовал 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова и 10-я армия генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова. В момент наших контратак конники Белова ударили по гитлеровцам со стороны Каширы, а войска Голикова — из района Михайлова.
Кострово-ревякинская и веневская группировки противника оказались зажатыми в мешок и, чтобы не оказаться в полном окружении северо-восточнее Тулы, начали общий отход на юг.
8 декабря, выполняя директиву Военного совета Западного фронта, 50-я армия перешла в наступление на всем своем фронте, нанося удар в южном и юго-восточном направлениях и стремясь выйти в район Щекино, Дедилово. Правое крыло армии теснило противника за реку Упа.
Началось массовое изгнание гитлеровцев с тульской земли.
Желая поднять дух своих изрядно потрепанных войск, Гудериан 9 декабря обратился к ним с таким воззванием:
«Солдаты 2-й танковой армии! Мои друзья! В течение шести месяцев в наступательной войне вы достигли больших успехов, ваше мужество, ваша верность выше всякой похвалы. Мой долг благодарить вас от всего сердца и выразить мое уважение вашим успехам. Теперь суровая зима вступила уже в свои права. Она приносит бесчисленные трудности, которые, пожалуй, труднее преодолимы, чем противник. Мы должны вести войну и одержать победу не только против русских, но и их страны и ее сурового климата.
Мои друзья! Чем больше суровы противник и зима, противостоящие вам, тем крепче мы должны сплотить свои ряды. Соблюдайте, как до сих пор, железную дисциплину. Каждый должен всеми силами и наилучшим способом использовать свое оружие и транспорт. Только единство нашей воли и согласие лежат в основе успеха. Я знаю, что я могу надеяться на вас. Речь идет о Германии!»
Не нужно много труда, чтобы за каждой фразой воззвания разглядеть лицемерие его автора. Прикрываясь насквозь лживой фразой, заигрывая с солдатами, Гудериан продолжал гнать их на смерть.
Наши разведчики захватили и еще один любопытный документ штаба 43-го армейского корпуса. В нем тоже предельно ясно отражалась неблагоприятная обстановка, в которой оказались немецкие войска под Тулой. Вот строки из этого документа:
«…Когда ночью выступила 31-я пехотная дивизия, ударил неслыханный тридцатипятиградусный мороз… Одновременно с морозом против нас выступил сильный враг. Мы имели тяжелые потери людей и материалов…
Противник вводил против нас новые танковые силы, в особенности севернее Тулы, которые все увеличивались. Армия вынуждена была прервать операции и отвести войска в исходное положение».
Теснимая нашими войсками, сильно потрепанная танковая армия Гудериана, бросая по пути оружие и технику, отходила на юг и юго-запад к Богородицку, Плавску. 14 декабря части 217-й стрелковой дивизии освободили от фашистских захватчиков Ясную Поляну и спасли гордость нашего народа — ценнейший памятник русской и мировой культуры — Яснополянскую усадьбу-музей великого русского писателя Л. Н. Толстого.
Об этом я немедленно сообщил начальнику Генерального штаба маршалу Б. М. Шапошникову. В ответ услышал в телефонной трубке взволнованный голос:
— Спасибо за приятную весть. Передайте благодарность всем, кто спасал Ясную Поляну.
Вместе с членом Военного совета армии К. Л. Сорокиным навестили могилу великого писателя, побывали в его усадьбе. Большие разрушения причинили гитлеровцы Ясной Поляне. Но героическими усилиями сотрудников толстовского мемориального музея и населения все же удалось спасти много ценнейших реликвий.
Под ударами войск 50-й армии один за другим падали вражеские гарнизоны. 17 декабря наши войска заняли Щекино и Алексин. Тула уже стала тылом нашей армии.
Крепость взлетает в воздух
Меня вызвал к телефону маршал Шапошников:
— Товарищ, Болдин, поздравляем ваши войска и вас лично с успешным завершением Тульской операции. Мы тут, в Москве, высокого мнения о боевых делах пятидесятой армии. В связи с этим Ставка решила поручить вам и освобождение Калуги…
На какую-то долю минуты в трубке стало тихо, а затем снова послышался, как всегда спокойный, голос маршала:
— Иван Васильевич, голубчик мой, думаю, что вам не следует тратить много времени на подготовку. Мы рассматриваем Калужскую операцию как продолжение Тульской. Командующему фронтом Ставка уже сообщила свое решение. Следовательно, приступайте к выполнению приказа немедленно. Жду вашего звонка из Калуги, и чем быстрее, тем лучше…
А через некоторое время меня вызвал генерал Жуков. Он повторил приказ Ставки и поставил конкретную задачу — к исходу 18 декабря главными силами выйти на рубеж Поздняково — Столбово — Дроково. В последующем во взаимодействии с войсками 49-й армии овладеть Калугой.
Было ясно, что операция предстоит серьезная. Для нас Калуга имела немаловажное значение. Она располагалась в северо-западной излучине Оки, и овладение ею открывало путь войскам фронта для широкого наступления на запад. Значение города состояло еще и в том, что здесь скрещивались железнодорожная, шоссейные и грунтовые дороги.
Но Калуга являлась крепким орешком. Захватив ее, фашисты успели основательно укрепить рубежи рек Упа и Ока на подступах к городу. В самой Калуге противник умело использовал крутой берег Оки и каменные здания. Правда, войск здесь у него мало. Но гитлеровское командование рассчитывало вывести сюда потрепанные под Тулой части и подтянуть резервы.
Значит, все решают темпы наступления. Если врагу удастся оторваться от нас и выиграть время, то сбить его будет уже трудно. Надо постараться ворваться в Калугу на плечах отступающего противника.
Чтобы преследовать врага в высоком темпе, я создал подвижную группу, которую возглавил мой заместитель генерал-майор Попов. В состав группы вошли 154-я стрелковая, 112-я танковая, 31-я кавалерийская дивизии, Тульский рабочий полк, танковый батальон и две батареи гвардейского минометного дивизиона. Перед подвижной группой поставил задачу — не отрываясь от отступающего противника, выйти на подступы к Калуге и на рассвете 20 декабря ударом с юга овладеть городом. С юго-запада и юга маневр подвижной группы обеспечивала 290-я стрелковая дивизия, с севера — 258-я.
Немногим более чем за трое суток подвижная группа прошла около 90 километров и успешно выполнила первую часть поставленной задачи.
К сожалению, противник упорно сопротивлялся перед фронтом 49-й армии, и она выйти к городу не успела.
Поэтому рано утром 21 декабря подвижная группа генерала Попова одна пошла на штурм Калуги. Она атаковала город с трех направлений. Первыми в Калугу ворвались части 31-й кавалерийской дивизии. Потом с юго-восточной стороны через Оку переправились 473-й стрелковый полк 154-й стрелковой дивизии и подразделения 112-й танковой дивизии.
Оборонявшая Калугу 137-я пехотная дивизия противника, находящаяся в надежных укрытиях, встретила атакующие части огнем, остановила их и даже отрезала от переправ. Одновременно гитлеровцы стали спешно перебрасывать из Можайска в Калугу 20-ю танковую дивизию.
Стало совершенно ясно, что только силами подвижной группы Попова освободить город мы не сможем. Поэтому я приказал 217-й и 413-й стрелковым дивизиям, являвшимся левым крылом армии, охватить Калугу с юго-запада, а недавно переданной нам 340-й стрелковой дивизии заходить с северо-востока. К штурму города привлекались также части 258-й и 290-й стрелковых дивизий.
25 декабря основные силы армии подошли к Калуге и разбили кольцо окружения, в котором находилась подвижная группа.
В тот же день из штаба фронта мне передали следующее указание:
«24 декабря в Ставке получены сведения, что калужским войскам противника отдан решительный приказ упорно сопротивляться и не сдавать Калугу.
Верховное Главнокомандование предупреждает о необходимости особой бдительности с нашей стороны. Нужно особенно энергично бить противника в Калуге, беспощадно уничтожать его, не допускать никакой уступки и не отдавать врагу ни одного квартала. Наоборот, нужно приложить все усилия, чтобы разгромить противника в Калуге».
Действительно, обороняется противник упорно. Бой идет за каждый дом, за каждую улицу. В ночь на 30 декабря после мощного огневого налета войска армии перешли в решительное наступление и к 11 часам полностью овладели городом.
В боях за Калугу бойцы армии проявили мужество и отвагу, а командиры — возросшее мастерство, умение маневрировать и четко взаимодействовать в сложной обстановке.
В честь победы войск 50-й армии Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин прислал нам телеграмму, в которой тепло поздравил освободителей Калуги и пожелал им дальнейших успехов в бою с немецко-фашистскими захватчиками.
Новый военный 1942 год мы встречали в древнем русском городе, с именем которого связано так много замечательных событий в истории нашего народа.
Летом 1942 года, отказавшись от мысли захватить Москву, гитлеровское верховное командование сосредоточило свои усилия на южном крыле советско-германского фронта.
Развернулась ожесточенная битва в нижнем течении Дона. Враг рвался к Волге и на Кавказ.
Соединения 50-й армии в то время проводили ряд частных боев, имевших целью сковать силы противостоящего противника, помешать ему перебрасывать войска с этого участка на юг.
Часто, рассматривая карту, занимавшую чуть не всю стену, я раздумывал о предстоящих нам наступательных операциях, и всякий раз при этом взгляд мой останавливался на высоте с отметкой 269,8, что расположилась вблизи Зайцевой Горы. Высота находилась на пути к Варшавскому шоссе и являлась ключевой позицией на этом участке. Захват ее сулил нам выгоды в будущем.
Несколько наших попыток взять ее с ходу не увенчались успехом. Прекрасно понимая значение высоты, противник основательно ее укрепил. Было ясно, что при переходе наших войск в наступление бой за нее потребует больших жертв и времени.
Я ломал голову, стараясь придумать способ взять высоту заблаговременно и с меньшими потерями. И однажды у меня мелькнула мысль: а что, если сделать под высоту подкоп и мощным взрывом уничтожить засевших там гитлеровцев? Решил поделиться своими раздумьями со специалистами инженерного дела.
Должен сказать, что я всегда с уважением относился к военным инженерам. Такое отношение к ним воспитал у меня один из любимых моих учителей — генерал-лейтенант Д. М. Карбышев. Мне посчастливилось частенько встречаться с ним, будучи слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе.
С первой же лекции профессор Карбышев начал прививать нам любовь к военно-инженерному делу. Он вдохновенно излагал историю этой дисциплины, с гордостью рассказывал о том, что великие русские ученые Яблочков и Сеченов, писатели Достоевский и Григорович, герои Порт-Артура Кондратенко и Рашевский, даже замечательный композитор Кюи получили военно-инженерное образование.
Слушатели академии всегда с большим интересом ожидали очередной встречи с профессором, восхищались его разносторонней культурой и поистине энциклопедическими знаниями в области военно-инженерного дела, которому он посвятил всю свою жизнь.
Когда Дмитрий Михайлович читал лекции и на память производил все выкладки и расчеты по фортификации и заграждениям, нам казалось, что он впитал в себя весь богатейший опыт военных инженеров…
Но я несколько отвлекся. Итак, у меня возникла мысль сделать подкоп под высоту. Начальника инженерных войск полковника С. Ф. Чепурова в штабе не оказалось, он находился в соединениях. На месте был только его помощник майор М. Д. Максимцов.
Мне всегда нравился этот офицер, его самообладание, манера держать себя просто и с достоинством, гибкий и трезвый ум, умение творчески подходить к решению задач.
И вот я вызвал Максимцова. Когда высокий худощавый майор вошел, я начал несколько издалека:
— Товарищ Максимцов, а не помните ли вы, как Иван Грозный брал Казань?
Майор удивленно посмотрел на меня, наверное, подумал: «Что это чудак генерал вдруг историю начал вспоминать». Потом встал, расправил гимнастерку и заговорил будто школьник на экзамене:
— Иван Грозный осадил Казань в тысяча пятьсот пятьдесят втором году. Потом совершил подкоп под стены Кремля, заложил туда пороховые бочки и взорвал. Через образовавшийся пролом ворвались войска и штурмом овладели крепостью.
Пригласил Максимцова к карте, напомнил, сколько крови мы пролили в боях за Зайцеву Гору и за прилегающие к ней деревни Фомино-1 и Фомино-2, какой ценой нам удалось зацепиться за южные скаты высоты 269,8, где сейчас держит оборону один из наших батальонов.
— Эти места я хорошо знаю, — заметил Максимцов. — Враг построил на высоте прочные дерево-земляные сооружения, а подходы к высоте прикрыл колючей проволокой и минными полями.
— Все правильно. Но хотел бы я знать, как вы посмотрите на то, если мы из района расположения нашего стрелкового батальона сделаем подкоп под оборону фашистов, взорвем дзоты, блиндажи и орудия со всей их прислугой, а затем заберем у врага высоту?
Майор ответил не сразу:
— Товарищ командующий, признаюсь, много раз я бывал на том участке, но думал об одном: как бы получше закрепиться, чтобы противник не сбросил батальон со скатов горы.
— Вот и плохо. А следовало бы подумать о том, как отобрать у противника эту проклятую высоту.
На том наша беседа закончилась. Я отпустил майора, но попросил, чтобы к семи часам утра он явился ко мне вместе с начальником инженерных войск полковником Чепуровым.
Утром они пришли. Лицо у Максимцова утомленное: видно, остаток ночи глаз не сомкнул.
Я повторил Чепурову то, о чем говорил вчера с Максимцовым. Мне казалось, что он, старый и опытный сапер, одобрит мою идею. Между тем Сергей Фаустович, как мне показалось, постарался уйти от прямого ответа. Он стал рассказывать, как ему, ефрейтору-саперу царской армии, в первую империалистическую войну довелось участвовать в подкопе под позиции немцев. Враг узнал об этом и повел встречный подкоп, чтобы захватить наших саперов. Правда, при встрече русские изловчились и взяли в плен вражеского офицера. Но идея подкопа провалилась.
Выслушав эту историю, я понял, что начальник инженерных войск скептически относится к моему плану.
Стараясь доказать Сергею Фаустовичу несостоятельность его суждений, я вспомнил кое-что из истории. Действительно, ни одна подобная операция не удавалась, если становилась известной противнику. Но, когда она проводилась скрытно, то ей всегда сопутствовал успех.
— Сейчас, — говорю Чепурову, — мы в обороне. Но придет пора, когда нам прикажут перейти в наступление. А начинать его из района высоты 269,8 наиболее выгодно.
Постепенно Чепуров стал смягчаться, как бы оттаивать. И мне было очень приятно, когда наконец Сергей Фаустович посмотрел на меня и усмехнулся:
— Ну что ж, Иван Васильевич. Пожалуй, попробуем. Старшим по осуществлению подкопа решили назначить Максимцова. Тут же Чепуров не преминул пошутить, посоветовав майору беречься, чтобы гитлеровцы его под землей в плен не взяли.
Началась подготовка подкопа. Командиры дивизий получили приказание подобрать солдат из числа бывших шахтеров и отправить их к Максимцову. А тем временем майор изучал ооорону противника на высоте, знакомился с расположением огневых точек. Наши пулеметные расчеты и наблюдатели сообщили ему, где расположены вражеские дзоты, где артиллерия и блиндажи. Находясь в первой траншее, Максимцов наносил на карту крупного масштаба все, что видел глаз. А с наступлением темноты выползал и за передний край. Тщательное изучение вражеской обороны позволило майору выбрать наиболее удачное направление подкопа и место взрыва.
Когда уже почти вся подготовительная работа была проведена, стряслась беда. Противник совершил огневой налет по нашей первой траншее, и Максимцов был ранен. К счастью, ранение оказалось легким, и через несколько дней майор возвратился из медсанбата.
В тот же день он зашел ко мне и вручил план организации предстоящих работ, схему будущей шахты, расчеты, а также справку о потребном количестве людей.
— Когда вы успели? — удивился я.
— Этим я от скуки в медсанбате занимался, — с улыбкой объяснил Максимцов.
Документация была превосходно подготовлена. Оставалось одно — начать подкоп. Из присланных дивизиями людей создали команду в сорок человек. Среди них было несколько довольно опытных донецких, криворожских и карагандинских шахтеров. Начальником команды был назначен лейтенант Владимир Новиков — смелый и энергичный двадцатидвухлетний офицер.
О людях команды следует рассказать подробнее.
Начну с Николая Стовбуна. К этому пожилому красноармейцу, человеку невысокого роста, худощавому, ходившему вразвалку и на первый взгляд несколько медлительному, все относились с особым уважением. Ласковым именем «Батя» называли его в команде. Он до фанатизма был влюблен в свою горняцкую профессию, и, когда говорил о ней, казалось, что на земле ему даже хуже дышится, чем под землей. На своем веку Стовбун добыл тысячи тонн «черного золота» и считал, что нет в мире лучшего дела, чем «качать уголек».
Часто старый горняк вынимал из кармана гимнастерки поношенный бесцветный бумажник, извлекал оттуда фотографию красавца моряка и, тяжело вздыхая, подолгу смотрел на нее. Затем бережно клал фотографию на место и снова прятал поближе к сердцу, словно желая согреть молодого моряка отцовским теплом. О смерти сына, геройски погибшего на Балтике, ему сообщили недавно, и душевная рана была еще совсем свежа.
Беседуя со Стовбуном, Максимцов рассказал о цели подкопа под высоту 269,8, познакомил с отдельными расчетами, показал чертежи некоторых элементов выработки.
Старый шахтер выслушал майора, посмотрел на чертежи, покачал головой и, по привычке прикрыв ладонью широкие усы, убежденно заявил:
— Вы, товарищ майор, в своей академии разное изучали — горное давление, своды обрушения и всякую другую премудрость. А я человек рабочий. Шахта для меня что дом родной. Поверьте: сделаем такой подкоп под тот высокий копер, — и Стовбун протянул руку к видневшейся вдали высоте, — что комар носа не подточит. Считайте, что фашисты, которые там, уже навечно захоронены…
А вот другой боец команды — Александр Сушко. О нем Стовбун отзывался так: «Этот нашей, горняцкой кости. С ним к черту в пекло попадешь, и то страшно не будет».
Сушко еще сравнительно молод, но опытен. До армии, как и Стовбун, работал на одной из донецких шахт. Точно так же любил свою профессию и мог часами рассказывать увлекательные истории из горняцкой жизни.
Стовбун относился к Сушко с особой нежностью, я бы сказал, по-отцовски.
Уважал Стовбун и другого молодого бойца — криворожского горняка Петра Наумова. Нравился ему Петр за энергию, смышленость, веселый нрав и, конечно, за увлечение горняцким делом. Наумов в свое время зачитывался чудесными книгами академика Ферсмана о природных богатствах нашей страны, о смелой, полной романтики жизни геологов. С нескрываемой гордостью рассказывал о том, сколько из руды, добытой его бригадой, Родина получила металла. Это был один из тех славных молодых энтузиастов предвоенных пятилеток, для которых работа в забое стала смыслом жизни.
Запомнился мне и уроженец солнечной Кахетии, двадцатипятилетний Давид Барашвили, или, как его называли, Додик. Маленький, стройный, гибкий, с черными как воронье крыло волосами и такими же аккуратно подстриженными усиками, очень подвижной, никогда не унывающий, — таким был Давид Барашвили.
У маленького Додика не по росту сильный голос. Часто он напевал «Сулико», и товарищи тихо вторили ему. А какой он был мастер отплясывать зажигательную «Лезгинку»!
Барашвили выполнял на первый взгляд скромные обязанности повозочного. Но скромными они только казались. Нужно было иметь отважное сердце, чтобы под вражеским огнем доставлять к месту подрыва все необходимое. Барашвили был связующим звеном между шахтой и лесом южнее Фомино-1, где разместились тылы команды.
Повар Алексей Сидоренко и по солидности был под стать Стовбуну, и по возрасту одногодок. Но в противоположность шахтеру, который казался немного замкнутым, повар был словоохотливым, остроумным говоруном. Он умел подойти к каждому, для каждого найти доброе слово, утешить, а если нужно, и помочь.
Сидоренко родом с Полтавщины, но много лет назад переехал на Алтай и с тех пор этот далекий край стал для него второй родиной. На Алтае он работал поваром в крупном совхозе.
Часто Стовбун и Сидоренко горячо спорили, доказывая друг другу, где лучше: в Донбассе или на Алтае. Как-то Максимцов, слушая их перепалку, не выдержал:
— Ну, чего спорите? Знаете поговорку: и алтайская, и донецкая — вся земля советская!
— Это мы знаем, товарищ майор. Свое с чужим не перепутаем, — поспешил ответить Сидоренко. — Однако у нас есть другая поговорка: Донбасс — алмаз, а Алтай — земной рай. Чего на Алтае только нет! Хлеба девать некуда. От леса в глазах темно. Охота круглый год. А под землей какие богатства! Да что там толковать, не край, а сказка! Ну а на Донбассе?.. Копры да трубы, дым да копоть. Костюмчик белый наденешь, а вернешься с гулянья в черном.
Сказал это Сидоренко и с ехидцей посмотрел на Стовбуна. Тот что-то начал было доказывать другу, но только рукой махнул.
Старшиной команды был Василий Башилов, молчаливый, но заботливый командир. И если люди всегда и во всем были хорошо обеспечены, то заслуга в этом принадлежала прежде всего Башилову.
Кроме опытных горняков, в команде были плотники, слесари, землекопы и другие специалисты.
Команде предстояла большая и очень трудоемкая работа. Поэтому я приказал начальнику тыла армии полковнику А. К. Кесаеву обеспечить выделенных людей усиленным питанием. Во избежание лишних потерь было решено производить подвоз питания и смену людей, занятых подкопом, только с наступлением темноты.
Команда, точно перед боем, сосредоточилась в полутора километрах южнее Фомино-1. Здесь мы построили кухонный очаг и укрытия для людей. Отсюда и началось наше тайное наступление.
В один из последних дней августа с наступлением темноты группа во главе с Максимцовым направилась к намеченному участку. Шли молча, соблюдая осторожность.
А вот и цель похода. Теперь от переднего края противника наших бойцов отделяет узкая восьмидесятиметровая полоса.
Работа началась. За первую ночь успели вырыть колодец глубиной пять метров. В плане он имел форму квадрата с двухметровыми сторонами. Когда с колодцем было покончено, в нем разбили направления выработки, сделали ниши для отдыха.
Право первым приступить к проходке забоя предоставили Стовбуну. Он начал выработку по азимуту.
Условия работы тяжелые, не то что в нормальной шахте. Здесь нет механизмов и главное — вентиляции. Все же перед старым горняком, соскучившимся по родному делу, усталость словно отступила. В первый день он пробыл под землей более пяти часов без перерыва и выполнил большой объем работы.
Дружно действует команда. Работа не прекращается ни на минуту. Лишь только кончает одна смена, как сразу же начинает другая. Забой продвигается под высоту.
Вынутую породу насыпают в мешки, складывают вдоль забоя, а ночью поднимают наверх и относят в тыл. Часть грунта использовали для имитации двух ложных ходов сообщения.
Уже пройдено пятьдесят метров. Бойцы начали ощущать острый недостаток кислорода, изнуряющую духоту. Работать с каждым часом становилось труднее. Суточная выработка резко упала.
Максимцов вынужден был сократить время пребывания бойцов в забое. Но и это мало помогало. Требовалось ликвидировать кислородное голодание, точнее, следовало обеспечить приток в забой свежего воздуха. Нужны вентиляторы, а где их взять?
Старшина Башилов раздобыл кузнечный мех и трубы, пустил в дело и гофрированные трубки от поврежденных противогазов. Из всего этого он соорудил вентиляционную установку. Когда приводились в движение мехи, в шахту по трубам шел свежий воздух. Благодаря этому, пусть и примитивному приспособлению, проблема кислородной недостаточности оказалась решенной. Труд бойцов значительно облегчился.
Заготовку крепежного материала организовали в лесу, за второй траншеей. А доставку его к шахте обеспечивал изобретательный Барашвили. На подкованные ноги лошадей он надевал специальные «чулки», сшитые из старых телогреек. Отгладил и смазал повозку так, что она не издавала никакого шума.
С наступлением темноты Додик грузил на повозку крепь и благополучно доставлял на место. Часть леса опускали в шахту, а остаток прятали в траншеях.
Все шло как будто хорошо. И вдруг наступили лунные ночи. Кто из нас не любит светлую ночь? Но в те дни луна стала противником команды Максимцова. Пришлось отказаться от услуг Додика. Крепь стали доставлять вручную. Нужно ли говорить, каких трудов это стоило.
Напоминала о себе и вражеская артиллерия. Однажды группа бойцов, находившаяся у шахты после окончания смены, попала под огонь. Несколько человек было убито и ранено.
Обстановка еще более осложнилась, когда на левом фланге передового батальона противник захватил в плен одного из наших бойцов. От него фашисты могли узнать о подкопе.
Вызвал к себе Максимцова:
— Как думаете, начатое дело дотянем?
— Осталось совсем немного, товарищ командующий.
— А как вы считаете, то, что фашисты ведут обстрел нашей обороны двухсотпятимиллиметровыми снарядами, не опасно? Не кажется ли вам, что тяжелые снаряды, попав в район подкопа, могут повлечь за собой обвал шахты?
Максимцов молчит.
Я потребовал от майора наращивать темпы подкопа, чтобы все закончить к началу октября. Для усиления охраны района выработки приказал выделить подразделения с пулеметами, организовать надежную защиту входа в шахту.
С каждым днем проходчикам становилось труднее. Сложнее стал грунт, на пути появилась глина с мелкой галькой. А на Сотом метре неожиданно обнаружился огромный валун. Это препятствие озадачило даже такого опытного мастера, как Стовбун.
— Будь это у нас в Донбассе, я бы, не задумываясь, пробил бурки, взорвал камень и пошел дальше, — сказал он. — А тут эти бурки нам, как говорится, не по ноге.
Пришлось несколько изменить направление подкопа.
Еще ночь и день напряженной работы. Из шахты никто не выходит. Местом кратковременного отдыха служат ниши, где можно уместиться, только свернувшись калачиком.
Максимцов приказал готовить первую камеру для закладки взрывчатки. Тем временем, воспользовавшись отсутствием луны, которая, спасибо ей, ненадолго отлучилась с небосклона, Барашвили подвез саму взрывчатку. В забое остались только Максимцов и Новиков. Первый заряд они закладывали вдвоем.
И вот уже заложены две пары детонаторов. Нужно продублировать сеть детонирующего шнура. Подвязали его к потолку и закрыли доской. А затем, удалив из забоя Новикова, Максимцов малым омметром начал проверять сеть.
Позже, узнав об этом, я спросил Максимцова, стоило ли кончать академию, чтобы таким неграмотным способом вести проверку? Ведь мог произойти преждевременный взрыв. Максимцов ответил, что на складах армии не оказалось ни одного большого омметра. Поэтому он сознательно пошел на риск. К тому же до предела разрядил батарейку карманного фонаря, чтобы создать минимальное напряжение в омметре. В конце концов я должен был согласиться, что в наших условиях это был единственный выход.
Убедившись в исправности сети, Максимцов приказал «сделать забивку» заряда — заложить камеру мешками с землей. Кое-кто из команды удивился: вначале грунт убирали из шахты, а теперь надо обратно таскать. Пришлось объяснить: если заряд не закрепить в камере, как закрепляют пыжом порох в гильзе патрона, то произойдет не взрыв, а только холостой выстрел по шахтному стволу.
Ночью Максимцов и Новиков выползли из траншеи, подобрались вплотную к колючей проволоке противника и еще раз уточнили расположение вражеских блиндажей и его артиллерийской противотанковой батареи, преграждавшей выход из Фомино-1 на Варшавское шоссе.
К рассвету наблюдатели вернулись, сопоставили результаты разведки. Наметили направления еще двух выработок по 25 метров к блиндажам противника и к противотанковой батарее.
Подсчитав объем предстоящей работы, мы пришли к выводу, что при наших темпах к намеченному сроку всего сделать не успеем. Собрали команду. Обсудили положение и решили: в целях экономии времени и труда грунт из забоя не выносить, а рассыпать по всей шахте. Правда, Сушко начал было возражать: воздуха, мол, и так поступает мало, а теперь и вовсе станет душно. Кроме того, в выработку придется лазить на четвереньках, так как высота шахты уменьшится сантиметров до семидесяти.
Выслушал Стовбун своего напарника, посмотрел на него и сказал с укоризной:
— Не дело, Александр, говоришь. Парень ты был как парень, исправный, а теперь бес тебя попутал. Требования, брат, мы с тобой будем предъявлять у себя дома, в Донбассе. А здесь война…
Стовбун первым отправился в забой и прошел за смену два с половиной метра. Его примеру последовали и остальные. В тот день была достигнута небывалая за последнее время выработка.
Подошли к расположению фашистских блиндажей. Над участниками подкопа потолок толщиной в десять метров. Признаюсь, при всем умении владеть собой в этот раз я испытывал большую тревогу за саперов.
Уже заложены два мощных заряда. А гитлеровская» тяжелая батарея продолжает методический обстрел района нашей обороны вблизи высоты. Чего доброго, вражеский снаряд упадет неподалеку от шахты, тогда по детонации возможен взрыв, и под высотой будет погребена замечательная команда смельчаков. А ведь она и так потеряла шестнадцать человек убитыми и ранеными.
Правда, потеря близких товарищей не подорвала боевого духа команды. Взамен выбывших в шахту спустились повар Сидоренко, ездовой Барашвили. И под землей они трудились не хуже, чем на поверхности.
В последнее время работать стало особенно трудно. Температура в забое, точно в парной. Духота изнуряет. Бойцы работают в трусах, без сапог и все равно обливаются потом. Капли его застилают глаза, мешают видеть. А проходчики упорно продолжают продвигаться вперед.
Но вот уже заложен последний шеститонный заряд взрывчатки. После этого всю шахту и колодец засыпали землей, замаскировали, а в траншеях поставили надежную охрану. В ста метрах от шахты, в специально вырытой щели, установили две подрывные машины. На случай их отказа здесь же имелся для дублирования аккумулятор.
За сутки до окончания всех работ по указанию штаба армии командир 58-й стрелковой дивизии полковник Шкодунович сосредоточил в лесу несколько подразделений. Ночью они незаметно перешли в расположение передового батальона и заняли исходное положение для атаки высоты 269,8.
Позже мне стало известно, что некоторые командиры-скептики, не надеясь на успех взрыва, приказали саперам готовить проходы в минных полях и проволочных заграждениях. Напрасно Максимцов доказывал им, что скоро взрыв откроет бойцам путь на высоту.
Настало утро 4 октября. Противник обнаружил, что за ночь подтянулась наша пехота, и вызвал подкрепления. Нас это радует. Значит, больше врагов попадет в зону взрыва!
Вместе с группой офицеров штаба прибыл на НП. Вызываю по телефону Максимцова. Майор докладывает, что к взрыву все готово. Приказываю дать десять красных ракет — условный сигнал для начала подрыва. И тотчас же все вокруг задрожало.
На несколько метров вверх взметнулся земляной столб, словно подпрыгнула вся высота. Сила взрыва была так велика, что от детонации на расстоянии до километра взорвались все минные поля — наши и противника. В клочья разлетелись проволочные заграждения. Три заряда, заложенные под высотой, образовали огромную воронку почти в сто метров диаметром и десять метров глубиной. Вокруг воронки образовался земляной вал высотой около двух метров.
Не успела осесть пыль, как наша пехота поднялась в атаку. Ошеломленный враг не смог сопротивляться.
Наблюдая через бинокль, вижу, как Максимцов с трудом выбирается из засыпанного окопчика. Посылаю за ним связного. Вскоре Барашвили на низкорослых и шустрых лошаденках доставляет майора ко мне. Вид у него утомленный. Щетина и грязь на лице делают Максимцова значительно старше своих лет.
— Товарищ командующий, команда подрывников выполнила ваш приказ.
— Вижу, дорогой, вижу. Спасибо. От всей души поздравляю. Прошу собрать команду.
Команда тоже утомлена, выглядит не лучше своего начальника. Благодарю бойцов за успешное выполнение задания.
Мимо нас проводят нескольких чудом уцелевших немцев. Бледные, испуганные, и не мудрено: мне докладывают, что на высоте погибло более четырехсот гитлеровцев…
Говорю Максимцову, что теперь за отлично сданный экзамен ставлю ему пятерку. Майор благодарит и напоминает, что Иван Грозный брал Казань, как и мы высоту 269,8, в такую же пору года.
Желая порадовать майора, говорю, что предоставляю ему отпуск к родным. Он смотрит на меня удивленно.
— Если можно, товарищ командующий, разрешите только поспать.
Так была проведена эта замечательная инженерная операция. Наши бойцы пробыли под землей сорок дней. Сорок дней в чрезвычайно трудных условиях, без специального оборудования они методически вели подкоп под вражеское логово и с честью доказали, на что способны советские саперы. Овладение высотой 269,8 в дальнейшем определило успех наступления на Милятино.
Мы идем на запад
Писатель или художник, композитор или архитектор — каждый, кто создал ряд произведений, как правило, одному из них отдает особое предпочтение, считая своим любимым детищем. А разве командир, участвовавший во многих боях и операциях, испытавший радость побед и горечь поражений, разве он не может иметь любимое произведение? Думаю, что может.
История любой армии состоит из множества больших и малых боевых операций, разных по характеру, значимости. И среди них в активе командующего непременно есть особенно любимая, ставшая частью его боевой биографии.
Для меня после обороны Тулы такой является Кировская наступательная операция. Прежде чем начать рассказ о ней, опишу ее предысторию.
Благодаря успешным действиям войск Западного фронта в июле 1943 года противник из района севернее Кирова и южнее Жиздры был отброшен на запад. 50-я армия, действуя на левом крыле Западного фронта, обеспечивала и правый фланг ударной группировки Брянского фронта. 16 августа поступила телеграмма начальника штаба Западного фронта, в которой сообщалось, что 50-я армия решением Ставки переподчиняется Брянскому фронту.
К тому времени после напряженных и длительных боев так называемый Орловский выступ. противника был ликвидирован, и войска Брянского фронта продолжали преследование. Перед ними стояла задача выйти к Десне в районе Жуковка, Брянск, Трубчевск и подвижными частями захватить переправы через реку, а затем с подходом главных сил наступать на Гомель.
Потеряв Зикеево и Жиздру, гитлеровцы подготовили оборонительный рубеж восточнее Людиново и Улемль. Они хорошо использовали преимущества лесисто-болотистой местности, превратив в опорные пункты все имевшиеся там высоты.
К исходу 18 августа войска 50-й армии вышли на рубеж Карвинево — Калинино и встретили упорное сопротивление подошедших резервов противника. Вражеский огонь был таким мощным, что мы оказались не в состоянии преодолеть его.
Предложил командирам 108-й и 110-й стрелковых дивизий произвести разведку боем. В ходе ее выяснилось, что перед нами занимают глубоко эшелонированную, заблаговременно подготовленную оборону 296-я и 134-я пехотные дивизии противника. Оборона усилена минновзрывными и проволочными заграждениями перед передним краем и перед второй полосой, проходящей по западному берегу реки Болва.
Данные разведки доложил по телефону командующему фронтом генералу армии М. М. Попову. Напомнил ему, что после месяца беспрерывных изнурительных боев армия имеет большие потери. На исходе снаряды и мины.
— С теми силами, какими располагаю, — сказал я в заключение, — трудно рассчитывать на успех при прорыве крепкой вражеской обороны. Прошу вашей помощи.
Командующий сказал, что сам приедет к нам и все решит на месте. Приехал он уже на следующий день. Молча выслушал меня и объявил:
— Так вот, товарищ Болдин, я решил создать ударную группу под командованием моего заместителя генерал-лейтенанта Казакова. В нее войдут три ваши дивизии и кавалерийский корпус. Группе предстоит прорвать оборону немцев на улемльском направлении и проложить вашей армии дорогу к Десне.
— Значит, забираете половину армии? — спрашиваю Попова.
Он молчит.
— Тогда мне здесь делать нечего. Я не намерен плестись в хвосте группы Казакова. Вы лишаете меня доверия, а в таком случае продолжать командование армией не считаю возможным. Кроме того, товарищ командующий, ваше решение является незаслуженной обидой пятидесятой армии. Она достойна лучшего отношения.
Будучи глубоко убежден в ошибочности решения командующего, я очень волновался, говорил повышенным тоном. Генерал Попов ничего мне не ответил, встал и предложил всем, кто находился в палатке, тут же выехать на мой наблюдательный пункт.
Когда мы прибыли туда, командующий выслушал доклады нескольких командиров дивизий и командира 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора В. В. Крюкова. Затем немного подумал и обратился ко мне:
— Решение о создании ударной группы отменяю. Приказ о переходе войск пятидесятой армии в наступление оставляю в силе. Главный удар нанесете на Улемль, Ивот, — Командующий с укоризной посмотрел на меня и, улыбнувшись, добавил — Полагаю, товарищ Болдин, теперь вы снимете с меня тяжкий груз обвинений в несуществующих грехах?
— Товарищ командующий, будь вы на моем месте, тоже, наверное, нервничали бы.
— Как сказать. Откровенно говоря, Иван Васильевич, я не стал бы делать поспешных выводов. Отношу это за счет экспансивности вашего характера. Малость погорячились, а в итоге наговорили много лишнего. Ну да ладно, на этом поставим точку и забудем.
Затем командующий обратился к генералу Крюкову:
— Как только у Болдина наметится успех, сразу же вводите в бой свою кавалерию.
Крюков повторил приказание и взял под козырек.
— Что ж, товарищи, поехали дальше, — обратился к нам командующий.
Все мы направились в лес юго-восточнее Жиздры. Остановились на большой лесной поляне, где четкими рядами выстроились подразделения 2-й инженерно-саперной штурмовой бригады Резерва Верховного Главнокомандования. У большинства из них грудь украшают ордена и медали. Член Военного совета фронта обращается к командующему:
— Чудо-хлопцы! Убежден, эти смогут открыть Болдину путь к Десне.
А я слушаю и не могу понять, к чему это он говорит. Командующий фронтом поздоровался с бригадой. В ответ послышалось громовое «Здравия желаем!» Затем бойцы начали надевать на себя стальные нагрудники. Командир бригады генерал Шестаков пояснил, что эти панцири они получили несколько дней назад.
Через несколько минут бойцы начали имитировать атаку. С нескрываемым любопытством следим, как слаженно они действуют, как мастерски владеют оружием. Когда программа была исчерпана, генерал Попов спросил у меня:
— Как, Иван Васильевич, хороши хлопцы?
— Что говорить. Конечно, хороши.
— Вот и замечательно. Штурмовая бригада теперь подчиняется вам. Это и есть паша помощь.
Я сказал командующему, что рад новому пополнению, но даже оно будет бессильно, если нам не дадут снарядов и мин.
— Как только подойдут эшелоны с боеприпасами, немедленно получите. А пока, товарищ Болдин, приступайте к выполнению приказа, рассчитывая на собственные силы. Учтите, каждая минута дорога.
22 августа наша армия начала наступление на улемльском направлении, стремясь прорвать вражескую оборону и выйти к реке Болва. Преодолевая упорное сопротивление противника, нам удалось на отдельных участках овладеть первой линией его траншей. Но сильный артиллерийский огонь, который мы не могли подавить из-за недостатка снарядов, и удары гитлеровской авиации по боевым порядкам наших войск вынудили остановить наступление.
На моем наблюдательном пункте тогда находились командующий, член Военного совета фронта и я со своими заместителями. С болью в сердце наблюдали мы, как таяли цепи атакующих. Генерал Попов приказал ввести в бой кавалеристов Крюкова. Но и это не изменило положения, тем более что противник бросил против конников танки.
К 24 августа мы совсем выдохлись.
Командующий лично провел рекогносцировку на правом фланге, посетил левофланговую армию Западного фронта и 38-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта А. Д. Терешкова, который в это время вел частные наступательные бон в районе Кирова. А 30 августа вызвал к себе. Встретил приветливо.
— Я пригласил вас, Иван Васильевич, — начал генерал Попов, — вот по какому делу. Думаю, согласитесь, что не к лицу нам сидеть, выжидая манны небесной. Вам предстоит произвести быструю и скрытную перегруппировку войск в район Кирова.
Командующий приказал к утру 2 сентября перебросить туда 413, 324, 238, 108, 110 и 369-ю стрелковые дивизии с частями усиления.
— Армия должна быть готова пятого сентября прорвать оборону противника южнее и юго-западнее Кирова, — продолжал генерал Понов, — В дальнейшем наступать на Бучино, Рековичи и выйти на рубеж Дубровка — Жуковка.
Развивая свою мысль, командующий показывал на карте путь планируемого наступления.
— Временно вам будут переданы двести двенадцатая и шестьдесят четвертая стрелковые дивизии десятой армии Западного фронта. Кроме того, вам подчиняются второй гвардейский кавалерийский корпус и артиллерийская дивизия прорыва.
Задача показалась мне заманчивой, и я с радостью принялся за ее решение. Признаюсь, тревожило только то, что район сосредоточения совпал с местом, по которому в течение двух лет проходила вражеская полоса обороны. Здесь было?ще много неразведанных и необезвреженных минных полей, имелись проволочные заграждения, завалы. Все это должно было затруднить движение, привязать войска к. немногим очищенным от заграждений дорогам.
Чтобы читатель представил себе трудности предстоявшей рокировки, скажу лишь, что почти на всем более чем 100-километровом пути нам предстояло проложить пять маршрутов, снять тысячи мин, построить мосты и гати. Артиллеристы и кавалеристы получили только по одному маршруту. А ведь длина колонны артиллерийского корпуса составляла 150 и кавалерийского корпуса с боевыми обозами —110 километров.
Штаб армии разработал детальный план смены частей, составил подробные графики движения. Я издал приказ, которым обязал командиров корпусов и дивизий соблюдать на марше строжайшую дисциплину, а на участках скрещивания маршрутов беспрекословно выполнять все требования регулировщиков. Для строгого контроля за точным выполнением войсками графика и плана марша, а также правил маскировки командировал во все стрелковые дивизии и танковые полки офицеров штаба армии. Там, где скрещивались маршруты, было организовано специальное дежурство офицеров, наделенных особыми полномочиями. Кроме того, группа офицеров контролировала марш с самолетов У-2.
Движение войск производилось только ночью. Большая нагрузка выпала на инженерные подразделения. Они были распределены по маршрутам, двигались впереди войск, вели инженерную разведку, разминировали минные участки, ремонтировали мосты, прокладывали колонные пути, делали обходы.
Пока шла перегруппировка, мы с несколькими офицерами штаба армии выехали на восточную окраину Кирова и начали планировать наступательную операцию. После принятия решения я выехал в 212-ю и 64-ю стрелковые дивизии, только что переданные нам.
4 сентября в полосе намеченного прорыва шесть усиленных стрелковых батальонов от шести дивизий начали разведку боем. Результаты боя, как и показания захваченных пленных, имели для нас большое значение. Оказалось, оборона противника глубиной до 15 километров состояла из двух полос и имела сильно развитую систему полевых сооружений. Несколько линий траншей были прикрыты проволочными заграждениями, а противопехотные и противотанковые минные поля занимали свыше 60 процентов всей линии фронта.
В тактической глубине на рубеже Заседский — Шубертов — Барсуки — Мал. Желтоухи — Бол. Желтоухи— Косичино враг построил отлично оборудованный рубеж с отсечными позициями, противотанковым рвом, «волчьими ямами». Все деревни и высоты гитлеровцы превратили в опорные пункты, создали там систему фланкирующего и косоприцельного огня всех видов. Передний край обороны противника в лесу был прикрыт сплошной бревенчатой стеной метровой толщины и двухметровой высоты с земляной прокладкой. К этому следует добавить, что гитлеровское командование подтянуло сюда с других участков фронта много пехоты, танков и артиллерии.
В то же время перед левым крылом Западного фронта гитлеровцы свои войска ослабили. Этим не преминула воспользоваться 10-я армия, начавшая активные боевые действия. Наш сосед справа — 38-й стрелковый корпус — установил, что участок в районе Дубровка не только слабо обороняется, но и в инженерном отношении плохо оборудован. Именно поэтому командующий Брянским фронтом попросил Ставку разрешить перенести сюда главный удар 50-й армии. Ставка согласилась.
5 сентября генерал Попов вызвал меня к себе.
— Наступление, Иван Васильевич, переносится на утро седьмого сентября, — сообщил он. — Главный удар нанесете в районе Дубровка и, наступая в южном направлении, отрежете кировской группировке противника пути отхода к Десне, а затем во взаимодействии с третьей армией уничтожите ее. Одновременно совместно с частями второго гвардейского кавалерийского корпуса вам надлежит захватить плацдарм на западном берегу Десны и активными действиями сковать противника юго-восточнее Кирова.
Слушая командующего, я представлял себе, что сулит нам успешное проведение Кировской операции. Реши мы эту задачу, и враг без остановки покатится на запад, будут освобождены сотни населенных пунктов, спасены тысячи советских людей, томящихся в фашистской неволе…
До начала операции осталось совсем немного. Совершенно незаметно для противника произвели мы перегруппировку войск в новый исходный район.
Чтобы ввести противника в заблуждение, продолжаем демонстрацию подготовки к наступлению в старом районе. Для полноты впечатления часть артиллерии 2-го артиллерийского корпуса оставили на прежних позициях, и она работает с полной нагрузкой.
Долгожданный день — 7 сентября — настал. То и дело поглядываю на стрелки часов. Если бы можно было их передвинуть и этим приблизить начало операции, я сделал бы это с величайшей радостью. Но до назначенного времени еще целых 30 минут.
Немного нервничаю. Замечаю, что в таком состоянии не я один, а все, кто находится на наблюдательном пункте.
Но вот стрелки часов подошли к одиннадцати. Гвардейские минометы совершили мощный огневой налет. Вслед за ними по позициям противника ударила фронтовая авиация.
С криками «ура» ринулись вперед части 369, 324 и 108-й стрелковых дивизий. Они с ходу прорвали вражескую оборону и, преодолевая сопротивление противника, начали продвигаться в южном направлении.
Как и следовало ожидать, наступление 50-й армии в районе Дубровка застало гитлеровское командование врасплох. Главное внимание оно уделяло кировскому направлению, полагая, что начало нашего наступления на этом участке задержалось временно. Это подтвердили пленные, доставленные на мой наблюдательный пункт.
Успех наметился, и генерал-майор Крюков буквально через каждые десять минут спрашивал:
— Товарищ командующий, скоро ли благословите?
— Малость потерпите, Владимир Викторович, ваши клинки без дела не останутся…
Благословление Крюков получил, когда стрелковые дивизии вышли на рубеж Красный Хутор — Дрыновка. Конные полки, разворачиваясь поэскадронно, обгоняли наши части и врезались в колонны отступавшего противника.
Помню, на следующий день, продвигаясь па новый наблюдательный пункт, я увидел страшную картину — поле, на котором накануне дрались кавалеристы. Здесь были уничтожены конные обозы врага, его многочисленные артиллерийские упряжки, кругом валялись сотни трупов гитлеровских захватчиков. Признаюсь, подобного зрелища со времени гражданской войны мне не приходилось видеть.
Наш удар по противнику был стремительным и ошеломляющим. Только на следующие сутки гитлеровское командование поняло, что в тылу его кировской группировки действуют войска Брянского фронта и среди них части 50-й армии, наступления которых оно ожидало из района Кирова.
За два дня боев мы прорвали оборону противника на 20 километров по фронту и на 25 в глубину, освободили 52 населенных пункта, уничтожили около двух тысяч вражеских солдат и офицеров. 300 гитлеровцев было взято в плен. Войска захватили 32 орудия, 15 минометов, 100 пулеметов, 27 вагонов и 6 платформ с военным имуществом и продовольствием, много складов с боеприпасами.
Тем временем 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Крюкова, оторвавшись от нашей пехоты, во второй половине дня 9 сентября вышел на рубеж Ельчиха — Пустынна — хутор Муравей — Матреновка. Овладев станцией Бетлица, кавалеристы захватили 28 пушек и гаубиц, 34 вагона, 24 платформы и несколько складов с боеприпасами и продовольствием.
Продолжая стремительное наступление, крюковцы 11 сентября смяли заслоны противника, с ходу овладели очень важной станцией и населенным пунктом Жуковка. Затем они форсировали Десну, захватили плацдарм на западном ее берегу и перерезали жизненно важную артерию противника на Брянском фронте — железную дорогу Брянск — Рославль.
Я послал генералу Крюкову телеграмму, в которой писал: «Дорогой Владимир Викторович, сердечно благодарю за выполнение задачи. Держись. Скоро встретимся».
Продолжая выполнять задачу, наша армия с боями продвигалась на юг и юго-запад, преграждая пути отхода кировской группировке противника, отражая контратаки врага из-за Десны, не допуская подхода его резервов.
К исходу 11 сентября части 238-й стрелковой дивизии вышли на рубеж колхоз имени Первого мая — Горелая лужа — Хопиловка — Матреновка. Один полк этой дивизии форсировал Десну в районе колхоза имени Первого мая.
В это время положение конников Крюкова усложнилось. Противник, подтянув силы, обрушил на них удары своей авиации, танков, крупных сил пехоты. Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось отбить Жуковку, но плацдарм на Десне крюковцы продолжали удерживать, проявляя при этом чудеса героизма, самоотверженности и стойкости. Потеряв Жуковку, они отбили у врага станцию Олсуфьево и захватили там два эшелона с вооружением и боеприпасами. В этом бою противник потерял более 400 солдат и офицеров. Кавалеристы взяли 149 пленных.
Все же противник успел переправить часть своих резервов на восточный берег Десны в район Заленского. Этим самым он изолировал 2-й кавалерийский корпус и создал коридор для отхода своей кировской группировки.
Надо бы помочь Крюкову. Приказал командирам 369, 413, 338-й дивизий развивать наступление в южном направлении, соединиться с частями кавкорпуса, а затем, повернув фронт на запад, преградить противнику пути отхода за Десну.
Каждый час боев рождал новых героев. Рядовые Щукин и Скоробогаткин, Седов и Журавлев, Морозов и Бурмистров, Стороженко и Астафьев, ефрейторы Романов и Кандыбин, лейтенанты Шагин и Иванов, младший сержант Васильев и многие многие другие умножили боевую славу не только своих подразделений, полков и дивизий, а и всей 50-й армии.
Но война есть война, и неожиданности здесь неизбежны. Так было и тогда, когда, казалось, успех уже достигнут и кировская группировка противника будет ликвидирована. С большими потерями окруженному врагу на участке 238-й стрелковой дивизии удалось вдруг прорваться на запад.
И опять связь со 2-м гвардейским кавалерийским корпусом нарушилась. Конники снова оказались отрезанными и стали испытывать недостаток боеприпасов.
Я вызвал командира 108-й стрелковой дивизии полковника Теремова. Говорю ему:
— Петр Алексеевич, нужно срочно выручать Крюкова.
— Я готов, товарищ командующий.
— Так вот, стремительным ударом в южном направлении вы должны прорвать оборону противника выйти в район Рековичи и соединиться со вторым кавалерийским корпусом.
По карте мы с Теремовым уточнили все детали предстоящего наступления и он отправился в дивизию.
Уже на рассвете 14 сентября я получил от Теремова боевое донесение. В нем говорилось, что 108-я стрелковая дивизия вышла к восточному берегу Десны, а ее передовой отряд переправился через реку и вместе с частями 3-й кавалерийской дивизии занял оборону на плацдарме. К исходу дня дивизия Теремова полностью сменила части Крюкова в районе Рековичи.
А еще через сутки кавалерийский корпус был в районе севернее Жуковки. Там-то, в лесу, недалеко от переправы через Десну, я и встретил Владимира Викторовича верхом на коне в сопровождении взвода всадников. За четверо суток сложного девяностокилометрового рейда он изрядно устал, осунулся. Лицо его заросло жесткой щетиной.
Конники Крюкова сделали много для 50-й армии, а вместе с этим и для всего Брянского фронта. Они захватили и в трудных условиях удержали плацдарм на западном берегу Десны.
Успешные действия 2-го гвардейского кавалерийского корпуса поставили врага перед реальной возможностью выхода наших войск в тыл его брянской группировки, вынудили его в спешном порядке отводить свои войска, оборонявшиеся перед фронтом 50. 3 и 11-й армий.
17 сентября войска Брянского фронта освободили Брянск и Бежицу. А через день я прощался с генералом Крюковым. Его корпус выбыл из моего подчинения.
Кировская операция продолжалась с 7 по 16 сентября. За эти дни войска 50-й армии, прорвав оборону противника на фронте свыше 30 километров, продвинулись в глубину более чем на 60 километров и освободили 268 населенных пунктов. В ходе боев они разгромили три пехотные дивизии немцев и нанесли огромные потери еще двум пехотным и одной механизированной дивизиям, уничтожив при этом около 10 тысяч вражеских солдат и офицеров и взяв в плен более 1500 гитлеровцев. Нами было захвачено 139 ганков 255 орудий и минометов, около тысячи пулеметов. 38 самолетов, три тысячи винтовок, 390 автомашин и мотоциклов, 89 вагонов и железнодорожных платформ 62 склада с военным имуществом продовольствием боеприпасами.
Не имея возможности восстановить положение на Десне, гитлеровское командование приказало войскам 12-го и 53-го корпусов отходить на запад. Преследуя их, наши соединения продолжали наносить противнику значительные потери и к началу октября отбросили его за реки Проня и Сож.
Операция 50-й армии по разгрому левого фланга брянской группировки противника получила высокую оценку Военного совета Брянского фронта. 18 сентября я получил такую телеграмму:
«Решительным и смелым ударом войска 50-й армии прорвали оборону противника и завершили замечательный маневр, в результате которого быстро, не дав противнику опомниться, овладели плацдармом на западном берегу реки Десна, перерезали важнейшие коммуникации немцев и создали угрозу войскам противника, занимавшим города Брянск и Бежица…
Военный совет Брянского фронта поздравляет вас и весь личный состав вашей армии с успешным завершением этой славной операции, приведшей к крупной победе над врагом, и объявляет благодарность всем ее участникам.
Военный совет фронта особенно отмечает отличные боевые действия 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерал-майора Крюкова, 108-й стрелковой дивизии под командованием полковника Теремова, 413-й стрелковой дивизии под командованием полковника Хохлова и 369-й стрелковой дивизии под командованием полковника Хазова…»
Родина высоко оценила подвиг войск 50-й армии, разгромивших кировскую группировку противника. Сотни командиров и бойцов были награждены орденами и медалями Советского Союза.
Удары Советской Армии все нарастали. С радостью узнали мы о победах наших войск на днепровском и кременчугском, киевском и гомельском направлениях. Огромный наступательный порыв овладел и личным составом 50-й армии.
После успешно проведенной Кировской операции нас ожидали бои за истерзанную Белоруссию. Я думал об этом с волнением, с нетерпением ожидал прихода в край, где пришлось столько пережить в первые же дни войны.
23 сентября, сломив сопротивление арьергардных частей противника на восточном берегу Ипуть, войска 50-й армии отбросили гитлеровцев на западный берег реки и овладели там плацдармами в районах Рухань, Разрытое и восточнее Свара.
При форсировании реки Ипуть партизаны оказали нам неоценимую услугу, ударив по врагу с тыла. Особенно успешно действовала в те дни партизанская бригада подполковника Ф. С. Данченкова.
Еще до встречи с нами на счету у этой бригады было уже много замечательных побед. Данченковские партизаны уничтожили несколько тысяч гитлеровцев, разгромили 28 вражеских гарнизонов, пустили под откос 87 эшелонов с войсками противника, его техникой и боеприпасами…
Приближаясь к Белоруссии, мы продолжали укреплять связи с партизанами. От них поступали сведения о дислокации и численности войск противника, его огневых средств и техники, о местах расположения складов вооружения, боеприпасов, продовольствия. Крепкие связи с партизанами помогли нам правильно планировать удары по гитлеровским войскам.
24 сентября, продолжая расширение плацдарма на западном берегу реки Ипуть, войска армии освободили свыше 100 населенных пунктов и вступили наконец на территорию Советской Белоруссии.
Не выдержав нашего натиска, ведя сдерживающие арьергардные бои, противник продолжал отходить на запад и юго-запад. На моей рабочей карте появлялось все больше красных флажков, которыми я обозначал отбитые у врага деревни и села.
Недалеко впереди, на пути наступления армии, первый белорусский город Хотимск. Гитлеровцы заминировали все дороги к нему, взорвали мосты, а сам город превратили в прочный опорный пункт.
На рассвете 25 сентября вызвал по телефону командира 108-й стрелковой дивизии полковника Теремова. Откровенно говоря, мне всегда он был симпатичен, нравились в нем скромность и глубокие военные знания, решительность и умение творчески решать боевые задачи. Именно поэтому, когда встал вопрос об освобождении Хотимска, выбор пал на 108-ю дивизию.
— Товарищ полковник, — обращаюсь к Теремову, — вашей дивизии надо сделать все возможное, чтобы противник не успел сжечь город и угнать в немецкую кабалу местное население. Вам придаю двести тридцать третий танковый и триста тринадцатый гвардейский минометный полки. Военный совет армии выражает уверенность, что в боях за Хотимск сто восьмая дивизия будет действовать так же решительно и смело, как в дни боев за Десну. Прошу передать это перед наступлением всему личному составу.
— Товарищ командующий, заверяю вас, что Хотимск будет освобожден, — заявил Теремов…
Для выполнения задачи полковник создал сильные ударные группы из танков с десантами стрелков. Умело маневрируя, они уничтожили вражеские узлы сопротивления в нескольких населенных пунктах и устремились на Хотимск.
Гитлеровцы предприняли контратаки во фланг 108-й дивизии. Но на помощь ей подоспели части 110-й стрелковой дивизии и приняли на себя весь удар. Это позволило соединению полковника Теремова с трех сторон молниеносно ворваться в город Хотимск и разгромить там весь вражеский гарнизон. Одновременно в Хотимск ворвалась и часть сил 110-и стрелковой дивизии полковника И. М. Тарасова. Благодаря стремительности удара Хотимск удалось спасти.
Утром 26 сентября над первым освобожденным белорусским городом поднялся флаг Белорусской Советской Социалистической Республики. Вместе с нами туда вошли представители правительства и ЦК Коммунистической партии Белоруссии. Глазам нашим предстала чудовищная картина злодеяний, совершенных гитлеровскими захватчиками.
На окраине города в противотанковом рву лежали трупы более шестисот расстрелянных фашистами советских граждан. У рва мы заметили женщину с тремя ребятишками. Вытирая платком красные от слез глаза, она искала среди трупов тело мужа.
Великое горе людей, переживших ужасы оккупации, странно уживалось с радостью освобождения. У большинства встречных лица светились улыбками. Нас обнимали, целовали. И каждый считал своим долгом что-нибудь рассказать о пережитом, о близких и родных, погибших от кровавых рук фашистских извергов, о тех, кого представители «нового порядка» угнали в Германию.
Когда мы подошли к городскому саду, то застали там толпу в несколько сот человек. Кто-то объявил об открытии общегородского митинга. На импровизированную трибуну поднялась учительница Евгения Василевич.
— Низкий поклон вам, дорогие наши спасители, — сказала она, обращаясь к солдатам. — Вы принесли в наш город солнце свободы, по которой мы так истосковались. Примите мою материнскую благодарность. Здоровья вам желаю, успехов в вашей многотрудной военной жизни. И вот вам мой наказ: где ни увидите фашиста — бейте его. Помните, как бы много вы их ни уничтожили, все равно они никогда не искупят своих злодеяний, совершенных на советской земле. Благословляю вас на новые боевые подвиги!
Учительницу сменил на трибуне один из освободителей Хотимска белорус майор Рудько.
Майор взволнован. Блестят его влажные глаза. Какую-то долю минуты он молчит, потом начинает речь на родном белорусском языке:
— Два года назад мы оставили любимую Белоруссию. Ноя всегда верил, что непременно вернусь на землю, где родился. И вот вернулся! Нет слов, которыми можно было бы выразить радость от встречи с родным краем. И нет слов, которыми можно бы передать всю ненависть к извергам-гитлеровцам. Клянусь, что и впредь не пожалею своей жизни во имя окончательной победы над фашизмом! Пока в моей груди будет биться сердце, я буду истреблять гитлеровских захватчиков, мстить им за поруганную Белоруссию, за погибших сестер и братьев, за все, что они натворили на нашей земле…
По окончании митинга хотимцы долго не отпускают нас. Они расспрашивают о Москве, о том, как жила страна в эти трудные военные годы, что делают советские люди для окончательного разгрома гитлеровской Германии.
Вопросов много, а времени мало. Впереди нас ждут новые бои. Тепло прощаемся с хотимцами. Вдогонку летят пожелания здоровья, успехов в бою.
28 сентября мы овладели городом Климовичи. А утром следующего дня войска правого крыла 50-й армии вышли на восточный берег реки Сож и завязали бои за переправы и за плацдармы на ее западном берегу.
В тот же день части 369-й стрелковой дивизии, сломив сопротивление врага, форсировали Сож и овладели городом Кричев.
А в первых числах октября оккупанты были изгнаны из города Чериков и еще из 80 населенных пунктов на западном берегу Сожа. Части 108-й и 110-й дивизий переправились через реку Проня и захватили плацдармы на ее правом берегу.
Далее, на подступах к Могилеву, войска армии встретили упорное сопротивление противника на заранее подготовленных рубежах. К этому времени мы имели значительные потери в живой силе и технике, слишком растянулись наши коммуникации. Армия получила приказ закрепиться на достигнутых рубежах.
Лето 1944 года. По решению Ставки 50-я армия передана. в состав 2-го Белорусского фронта.
Во взаимодействии с 49-й армией приступаем к операции по разгрому могилевской группировки противника.
Войска находятся на подступах к городу. Еще 27 июня после трехсуточного боя части 139-й стрелковой дивизии полковника П. И. Морозова вышли к Днепру. Среди воинов подлинно праздничное настроение. Их стремительный удар заметно ослабил оборону противника и позволил нашим подвижным отрядам с ходу форсировать Днепр и захватить плацдарм на его западном берегу, в районах Стайки и Быхова Во второй половине дня мы овладели пригородом Могилева Луполово. Два полка обошли Могилев с запада и отрезали противнику пути отхода.
Перед решительной атакой города мы с командующим 49-й армией генерал-лейтенантом И. Т. Гришиным созвонились, согласовали ряд вопросов взаимодействия. Договорились после операции встретиться в Могилеве.
И вот все готово. Снова и снова все проверено. В 3. 00 28 июня начался штурм Могилева. Первыми ворвались в город соединения 121-го и 69-го стрелковых корпусов, а потом и остальные. Успешно действовали войска 49-й армии. Совместными усилиями мы быстро очистили город от противника.
На улицах еще шли бои, а мы с генералом Гришиным уже встретились. По старому русскому обычаю, трижды расцеловались и поздравили друг друга с победой.
— А знаете, Иван Васильевич, — сказал мне Гришин, — такие встречи остаются в памяти на всю жизнь…
Вместе прошли по городу. Привычная картина, какую после себя оставляли гитлеровцы: разрушенные кварталы, виселицы с трупами советских людей, расстрелянные старики, женщины, дети.
Повстречали нескольких жителей, провели в беседах с ними минут тридцать, а затем распрощались и разъехались каждый в свою армию. Нас ожидали новые боевые дела.
В боях за Могилев был разгромлен 12-й армейский и 39-й танковый корпуса противника. Среди разбитых вражеских частей оказалась и гренадерская танковая дивизия СС «Фельдхернхалле».
10 тысяч убитых и раненых оставил враг на поле боя. Наши войска взяли три тысячи пленных, в том числе командира 12-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Бамлера и коменданта Могилева генерал-майора Эдмансдорфа.
Пленных генералов привели ко мне. Вели они себя сдержанно. Говорили вяло. По всему видно, что война им осточертела. То и дело они повторяли, что их роль в ней уж не так велика, что они только исполнители воли фюрера. В общем, знакомый прием…
Спрашиваю, долго ли они строили оборону вокруг Могилева.
— Долго, — отвечает Эдмансдорф. — С марта месяца.
— Вокруг Могилева мы построили три кольцевые оборонительные позиции, — вмешался в разговор Бамлер. — Дальнюю — в трех — четырех километрах от города, вторую — на его окраинах и последнюю — в самом городе. Подготовили к обороне дома на перекрестках и площадях. Некоторые кварталы заминировали.
— Наверное, чувствовали себя как за семью замками? — спрашиваю генералов.
— Во всяком случае, не думали, что город падет так быстро, — отвечает Эдмансдорф. — К тому же, как только началось ваше наступление, мы получили приказ фюрера, в котором он объявил Могилев неприступной крепостью германской армии.
— Как видите, крепость подвела фюрера, а заодно и вас.
Эдмансдорф молча разводит руками. Я говорю, что он, как бывший комендант, несет непосредственную ответственность за убийство тысяч мирных жителей Могилева, эа разрушения в городе, и показываю ему захваченную в комендатуре папку с чудовищными по содержанию приказами, которые он подписывал и вывешивал на улицах в дни оккупации города.
— Я только солдат, — повторяет Эдмансдорф, нервно ломая пальцы рук.
— Учтите, — обращаюсь к Бамлеру, — вы тоже виновны в уничтожении советских военнопленных и мирных жителей, в разрушении наших городов.
Бамлер встал. Лицо его приобрело цвет пергаментной бумаги, губы затряслись. Он поднял руку с двумя вытянутыми пальцами и клятвенно произнес:
— Видит бог, что мы, военные, в этом не виновны…
Почти на всем советско-германском фронте противник откатывается на запад. В районе Минска в окружение попала крупная вражеская группировка. Как раз, когда шли бои по ее уничтожению, мне позвонил командир 121-го стрелкового корпуса генерал Смирнов.
— Исполняющий обязанности командующего четвертой германской армией генерал-лейтенант Мюллер выбросил белый флаг и прибыл для переговоров об условиях капитуляции, — доложил он.
— Дмитрий Иванович, побольше бы таких известий, — кричу в трубку. — Чудесный у нас урожай на гитлеровских генералов. А этот, видимо, оказался наиболее благоразумным, коль скоро выбросил белый флаг. Прошу немедленно доставить Мюллера ко мне.
Вид у Мюллера жалкий. Мундир весь в пыли, на нем только один погон. Видимо, от нервного напряжения Мюллер то и дело снимал очки и протирал их грязным платком, от чего стекла еще более мутнели. Обессиленный, опустился он на табуретку у моего стола и объявил:
— Господин генерал, трое суток я не имел во рту ни кусочка хлеба. Если можно, прошу накормить. Затем буду отвечать на все ваши вопросы.
Одному из наших офицеров я приказал отвести Мюллера в столовую. Возвратился он оттуда уже более уверенной походкой.
Мы сели за стол. Вскоре подошел член Военного совета армии генерал-майор А. М. Карамышев, и допрос начался.
Отвечая на наши вопросы, Мюллер показывал на карте районы сосредоточения остатков его армии, подробно сообщил о ее численности, огневых средствах, оснащенности, о моральном состоянии солдат. Затем, оторвав глаза от карты, посмотрел на меня:
— Господин генерал, в сложившейся ситуации я вижу только одну возможность спасти вверенных мне людей — это капитулировать. С этим и явился. Прошу объявить ваши условия.
— Вы приняли благоразумное решение, — отвечаю Мюллеру. — Жаль, что эта мысль не пришла вам раньше. Что касается условий капитуляции, то они самые обычные: полное разоружение и сдача всех ваших войск в плен. Обещаю всем гуманное отношение в духе международной конвенции.
— Все это хорошо. Но я бы просил вас оставить офицерам личное оружие. Для немецкого офицера сдать оружие — значит потерять авторитет у своих солдат.
— Вы просите о невозможном, генерал. И вообще, я удивлен вашими рассуждениями. Неужели вы думаете, что после всего, что произошло в июне сорок первого года, вашим офицерам доведется командовать?
Мюллер молчит. Затем он просит лист чистой бумаги и, склонившись над ним, пишет приказ-обращение к солдатам и офицерам 4-й германской армии:
«После многонедельных тяжелых боев наше положение стало безнадежно. Мы выполнили свой долг. Наша боеспособность снизилась до минимума, у нас нет никаких надежд на снабжение. Русские силы, согласно сообщениям нашего верховного главнокомандования, находятся у Барановичи. Переправы через реку Птичь для нас закрыты. У нас нет никаких надежд на их завоевание нашими силами и средствами. Мы имеем огромные потери убитыми, ранеными и разбежавшимися.
Русское командование обязалось: а) взять на себя заботу о раненых, б) оставить офицерам и солдатам награды.
От нас требуется: все оружие и снаряжение собрать и сдать в хорошем состоянии.
Конец бессмысленному кровопролитию!
Поэтому я приказываю: приостановить с настоящего момента военные действия. Повсюду должны быть созданы под руководством офицеров группы от 100 до 500 человек. Раненые должны примыкать к этим группам. Взять себя в руки, показать нашу дисциплину и помочь быстро провести мероприятия по обеспечению приказа.
Этот приказ необходимо распространить письменно и устно всеми средствами».
В конце Мюллер поставил дату «7 июля 1944 года» и свою подпись. После этого руки его беспомощно опустились, а в глазах появились слезы.
— Ну уж это никак не к лицу генералу, — говорю я.
— Господин генерал, прошу понять меня правильно. Эта скорбь по моей Германии.
— Какой Германии? Германии Гитлера? Она скоро прекратит существование. Останется Германия немецкого народа…
Много лет спустя мне приятно было узнать, что бывшие гитлеровские генералы Мюллер и Бамлер порвали со своим прошлым, живут в Германской Демократической Республике, ведут большую и полезную работу по обеспечению мира и укреплению дружбы между двумя германскими государствами, отдают много сил пропаганде дружбы народов Советского Союза и ГДР.
…Приказ Мюллера сразу же был передан во все его войска. 4-я германская армия капитулировала.
Это было венцом нашего летнего наступления. Начав операции в конце июня, мы за 53 дня с боями прошли свыше 600 километров и освободили от фашистских захватчиков территорию родной земли от реки Проня до Августовского канала. Войска армии принесли свободу городам Чаусы и Быхов, Могилев и Новогрудок, Гродно и Осовец.
Я не поклонник пышных празднеств. Но этого юбилея ждал с нетерпением. И он настал.
Мы отмечали его не в крупном театральном зале, освещенном тысячами огней. На нем не было нарядно разодетых гостей. В честь юбиляра не произносилось речей, ему не дарили цветов. Ничего этого не было. В грохоте войны, в пыли и грязи фронтовых дорог, под скрежет гусениц танков и рев несущихся над нами самолетов мы отмечали трехлетие 50-й армии.
За три года своего существования армия проделала большой и поистине героический путь. Ее войска освободили 36 советских городов, 93 железнодорожные станции, 68 районных центров и около 7 тысяч других населенных пунктов Тульской, Смоленской, Орловской областей и Советской Белоруссии. За это же время наши войска уничтожили около 100 тысяч вражеских солдат и офицеров и 30 тысяч взяли в плен.
Ратные подвиги армии неоднократно отмечались в приказах Верховного Главнокомандования. Многие наши части и соединения были преобразованы в гвардейские, награждены орденами. Многие бойцы и командиры получили высокое звание Героя Советского Союза. Свыше 53 тысяч генералов, офицеров, старшин, сержантов и бойцов удостоены правительственных наград. Больше половины отличившихся составляли коммунисты и комсомольцы.
Когда я сейчас думаю о том, что помогло соединениям армии успешно преодолевать трудности войны, побеждать в сражениях с сильным, коварным и опытным врагом, то прежде всего благодарным словом вспоминаю коммунистов и комсомольцев. В самые тяжкие для нашей армии дни они горячим словом и личным примером воодушевляли и вели за собой всех воинов.
Недаром партийные и комсомольские организации пользовались таким большим авторитетом. Недаром в войсках была такая огромная тяга в партию и комсомол. За три года в наших соединениях и частях было принято в члены и кандидаты партии около 46 тысяч бойцов и офицеров, а в комсомол — свыше 29 тысяч человек.
С неизменно теплым чувством я вспоминаю и тех, кто в разное время возглавлял организационно-партийную и политико-воспитательную работу в войсках 50-й армии. Это бригадный комиссар К. Л. Сорокин, генерал-майор А. М. Карамышев, полковник А. П. Рассадин, бригадный комиссар А. Е. Халезов, полковой комиссар В. Я. Головкин полковники Н И. Шилов Н. Н. Александров.
Был у меня и еще один помощник, который своей скром ной повседневной работой помогал воспитывать воинов. Этим помощником являлась наша армейская газета «Разгромим врага».
Помню, в дни наступления на Калугу в деревне, кото рую мы только что отбили у врага, я встретил одного командира полка (не буду называть его фамилию). Он казался явно расстроенным. Несмотря на лютый тридцатиградусный мороз, полушубок на нем расстегнут, И трудно понять от мороза покраснел он или от гнева.
— Что с вами? — спрашиваю командира.
— Да как же, товарищ командующий. Щелкоперы разозлили. Только что прогнал их.
— Это кого же вы прогнали?
— Да щелкоперов, барзописцев.
Я в упор посмотрел на него:
— Кого? Кого?
Видимо поняв, что в моем лице он поддержку не найдет, командир, уже несколько снизив воинственный тон, произнес;
— Корреспондентов из армейской газеты.
— Какое же вы имели право так поступать? Вы забываете, что полк не ваша вотчина.
— Да что толку от них, товарищ командующий, — он протянул мне свежий номер «Разгромим врага» и добавил — Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, что пишут.
Оказывается, в газете была напечатана статья, в которой этот командир подвергался критике за плохую организацию боя. Прочитав статью, я вернул командиру газету.
— Вот вы нервничаете, корреспондентов из полка гоните, — обращаюсь к нему, — а забываете, что злость плохой советчик. Между тем газета правду написала и справедливо раскритиковала вас за то, что топтались у той деревни. Критикуя, она учит вас, и надеюсь, в следующий раз вы в бою не допустите подобных ошибок. Учтите, если еще раз услышу, что вы с корреспондентами будете грубо обращаться, привлеку к ответственности.
Но куда чаще приходилось наблюдать иное. Идет человек с газетным листом в руках и весь сияет от счастья.
— В чем дело?
— Да меня, товарищ командующий, в герои произвели. Смотрите, даже портрет напечатали…
Прошли годы после Великой Отечественной войны. И среди оставшихся у меня реликвий которые храню как самые дорогие свидетельства иламенных военных лет, комплект газеты «Разгромим врага». В ней, словно в зеркале, отражены все этапы боевого пути армии.
Листая пожелтевшие страницы, я вспоминаю, что газета всегда была моим добрым советчиком. Комплект «Разгромим врага» рассказывает мне о моих победах, поражениях и раздумьях. На ее страницах описаны подвиги моих товарищей, наконец, комплект газеты — это история моей более чем трехлетней жизни и службы в 50-й армии.
Запомнилась первая встреча с редактором Н. Г. Бочаровым. Произошла она, когда я только приехал в Тулу.
Сижу за работой. Дверь моей комнаты была немного приоткрыта. Слышу, в соседней комнате кто-то настойчиво требует:
— Прошу доложить, что два дня добиваюсь на прием.
Вошел адъютант. Говорит, что «воюет» редактор армейской газеты. Я приказал впустить его и перед моим рабочим столом появился сухощавый среднего роста человек в дубленом полушубке, перетянутом ремнем. Приложив руку к шапке, он с достоинством доложил:
— Редактор армейской газеты «Разгромим врага» батальонный комиссар Бочаров.
— Как врага громите, еще не знаю, зато адъютант мой на вас жалуется, — пошутил я.
— У меня больше оснований для жалоб на него, — отпарировал Бочаров. — Два дня добиваюсь к вам, а он все не пускает. Я так считаю, что для редактора ваши двери всегда должны быть открыты.
Мне понравились решительность и убежденность, с какой говорил Бочаров. Было видно, что это умный, крепкий и настойчивый человек, боевой, партийный журналист. Для закрепления знакомства попросил его рассказать о себе. Говорил он скупо, нехотя. Сам рязанец, выходец из рабочих, был на партийной работе.
Гораздо оживленнее пошла наша беседа, когда коснулись дел армии. Бочаров превосходно знал, что собой представляет, чем живет каждая из наших дивизий, на что способны ее командиры. Я остался доволен этой встречей и как-то сразу уверовал, что «Разгромим врага» будет моим добрым боевым помощником и другом.
— Так вот, демократ, — обратился я к Бочарову, — знайте, что своими первыми помощниками я всегда считаю разведчиков, связистов и газетчиков. Рассчитывайте на всяческую мою поддержку. А от вас требую одного: как можно лучше воспитывать в войсках наступательный боевой дух, находить и показывать героев. На их подвигах учите других, как нужно бить врага. Ну понятно, и о критике не забывайте. Что касается моих дверей, то для вас они всегда открыты.
Когда мы обсудили ряд вопросов, какими в первую очередь должна была заняться газета, Бочаров покинул кабинет, и я подумал о том, как хорошо, что такой человек возглавляет редакционный коллектив армейской газеты. Попросил адъютанта принести комплект газеты, чтобы получше познакомиться с ней. Стал листать страницы с призывными заголовками, читать многочисленные материалы, и одно сразу же отчетливо бросилось в глаза — боевой дух газеты, ее умение хорошо показать людей.
С тех пор и завязалась у меня крепкая дружба с армейской газетой. Я чувствовал, что она хорошо понимает ритм жизни. По ее инициативе в армии было проведено много интересных начинаний.
Помню, летом 1943 года, когда армия вела бои за Зикеево и Жиздру, в газете «Разгромим врага» появилось первое письмо парторга одной из стрелковых рот 413-й стрелковой дивизии старшины Степана Игнатьевича Хиркова.
Он поднял большой круг вопросов. На примере своей ротной партийной организации показал, как коммунисты осуществляют авангардную роль в бою, как парт организация воспитывает у бойцов высокие моральнобоевые качества.
Однажды после боя, в котором Хирков проявил мужество и отвагу, Бочаров привел его ко мне. Было Хиркову за сорок. До войны он жил в Саратовской области. Работал председателем колхоза, а односельчане избрали и председателем сельсовета. В партию вступил на фронте в 1942 году.
Хирков рассказывал, как воевал под Москвой и Ржевом, сколько гитлеровцев уложил под Сычевкой, как учит молодых бойцов владеть оружием. И говорил он обо всем этом так, что, слушая его, я особенно хорошо понял, в чем секрет огромного авторитета парторга, почему с таким неизменным интересом бойцы читают его выступления на страницах газеты «Разгромим врага».
— И сын у меня воюет, — рассказывал Хирков, вынув из кармана треугольник солдатского письма. — Пишет, что уложил уже тринадцать фашистов.
— Ответили сыну на письмо? — спрашиваю парторга.
— Ответил. Написал, что тринадцать — плохая цифра. Пускай отца догоняет.
За успехи в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками я вручил старшине Хиркову орден Отечественной войны II степени. От имени Военного совета армии пожелал ему и впредь метко истреблять фашистов и так же успешно руководить партийной организацией роты. На этом мы распрощались.
А в конце июля Хирков погиб геройской смертью в боях за населенный пункт Палики. В критический момент боя, когда фашисты в третий раз атаковали роту, Хирков поднял бойцов в контратаку. Не выдержав стремительного удара, враг отступил, но эта победа стоила нам жизни бесстрашного воина-коммуниста.
По представлению редакции газеты «Разгромим врага» и ходатайству Военного совета армии Хиркову посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Его имя навсегда вошло в историю 50-й армии. А я до сих пор храню как замечательную память о герое изданные отдельной книгой письма парторга Хиркова.
С армейской газетой связана судьба многих замечательных людей нашей армии. Имея многочисленный авторский актив, она умела вовремя разглядеть таких и сделать их опыт достоянием широкой общественности. Она первой заговорила, в частности, о комсорге роты автоматчиков старшем сержанте Николае Глязнецове. Он был под стать Хиркову — такой же честный, скромный и беззаветно смелый. На счету автоматчика Глязнецова были десятки уничтоженных гитлеровцев. Благодаря газете его методы работы с молодежью стали затем образцом для комсомольских вожаков в сотнях подразделений.
По всей нашей армии прогремела слава лучшего агитатора старшего сержанта Ефима Щедрого и старшины Андрея Соболева. И в этом была заслуга армейской газеты.
Случались, однако, и курьезы. Хорошо помню лето 1942 года, когда мы находились в обороне и испытывали трудности с доставкой продовольствия. И тогда, в который раз, армейская газета проявила инициативу, призвав бойцов собирать грибы. Призыв ее был подхвачен во всех соединениях.
Но в политуправлении фронта это кое-кому не понравилось. Мне позвонили из отдела пропаганды (фамилию звонившего не запомнил).
— Товарищ генерал, — сказал он, — вы разве не видите, чем занялась ваша газета? Ведь Бочаров у вас стал грибным редактором. Неужели у газеты нет более важных забот?
Развязная форма разговора и совершенно незаслуженное обвинение газеты и ее редактора меня задели.
— Так, как вы, может рассуждать только сухой чиновник, формалист, бюрократ, — резко говорю я ему. — Надо понимать, что в настоящее время продовольствие для армии является проблемой номер один. Плохо поступила бы газета, если бы стала уходить от острых вопросов.
Мой оппонент на другом конце провода притих и только посапывает. А я распалился и продолжаю:
— И молодец Бочаров! Хвалю за то, что смог поднять личный состав на очень важное дело. Кстати, рекомендую приехать к нам и попробовать, какие чудесные блюда готовят наши повара из грибов.
После этого я собрал Военный совет, который принял официальное решение, одобрившее ценную инициативу газеты.
«Наша газета!» — эту фразу с гордостью и любовью произносили во всех соединениях армии.
И сейчас, спустя много лет после Великой Отечественной войны, листая дорогие для меня страницы «Разгромим врага», я вспоминаю неутомимых и бесстрашных тружеников, делавших ее: подполковника Н. Г. Бочарова, майоров В. В. Гарлицкого, И. А. Мартынова, Г. А. Ковалева, С. Я. Андельмана, Б. Н. Тажирова, П. Я. Буткевича, капитанов С. А. Швецова, В. Т. Толстова, старших лейтенантов Б. Г. Козловского, А. М. Зелонджева, Е. И. Когана…
Мы неотступно преследовали врага. Вскоре, после того как войска армии овладели крепостью Осовец и восточной частью Августовских лесов, наши передовые части вышли на ближние подступы к Восточной Пруссии. Войска настойчиво рвались в бой горя желанием как можно быстрее добить остатки гитлеровцев в их собственном логове.
И вот мы вступили на территорию Восточной Пруссии. За тринадцать дней наступления по территории врага войска 50-й армии продвинулись вперед на 180 километров и заняли сотни населенных пунктов, из них 18 городов. Биалла и Рудшанни, Зеебург и Хайльсбер — вот славный победный путь наших дивизий по землям Восточной Пруссии.
Была весна 1945 года. Армия готовилась к решающему штурму столицы германского пруссачества — Кенигсберга. Но в этих боях участвовать мне не пришлось. Меня отозвали и назначили заместителем командующего войсками 3-го Украинского фронта. Признаюсь, стало немного грустно. С 50-й армией я сроднился, прошел с ней через многие невзгоды, разделил многие радости. В ее рядах мне и хотелось закончить войну. Но ничего не поделаешь…
Тепло напутствуемый боевыми друзьями, я отправился в Венгрию. Там и застал меня конец Великой Отечественной войны.
После войны
Веймар, куда я попал уже в 1946 году, немцы некогда назвали «зеленым сердцем» Германии. Но не только лесами славен Веймар. Мы произносим его имя — и вспоминаем поверженную монархию Гогенцоллернов и ноябрьскую революцию 1918 года, Веймарскую конституцию и Веймарскую республику, задушенную фашизмом.
Видимо, нет ни одного культурного человека, у которого бы Веймар не ассоциировался с именами Гете и Шиллера, Баха и Листа. Все они жили в этом городе и создавали свои гениальные творения, обогатив ими мировую культуру.
В один из августовских дней 1947 года ко мне пришла делегация веймарцев. Мы познакомились. Особенно запомнился руководитель делегации Было ему за пятьдесят. У него стройная подтянутая фигура, красивое лицо, живые умные глаза. Строгий и вместе с тем элегантный костюм делал его моложавым.
— Я Курт Зоненберг, — представился он, — доктор искусствоведения. Уж, видимо, таков климат Веймара, что все мы влюблены в поэзию, театр, музыку. Среди нас, пришедших к вам, есть поэты и композиторы, драматурги и режиссеры, актеры и художники.
Я внимательно слушал Зоненберга. Хотя у меня было много других забот, торопить его не хотелось А он продолжал:
— Каждый город имеет свою особую, примечательную черту. Один прославился химическими заводами, другой возвысил себя производством превосходных оптических приборов, третий производством автомобилей, четвертый — отличным пивом. Ничем этим наш Веймар похвалиться не может. Правда, когда-то говорили: лучшие в мире географические глобусы производят веймарцы. Это верно. Наши глобусы были превосходны. Мы изображали на них географию мира такой, какой она есть, а не такой, какой мечтал ее видеть Гитлер. Но не в глобусах дело… Чем по-настоящему известен и богат Веймар, так это своей культурой.
Курт Зоненберг говорил увлеченно, каждую фразу дополнял выразительными жестами.
— Недавно, — продолжал он, — мы посетили могилу Гете и Шиллера. То, что увидели там, тронуло нас до глубины души. На могилах лежали венки из живых цветов. На широких муаровых лентах были трогательные надписи. Вы, видимо, догадываетесь, о каких венках я веду речь? Эти венки возложили советские воины.
— Не вижу ничего удивительного, — заметил я. — Ведь Гете и Шиллер дороги не только немецкому народу.
Мне нравилось, что Зоненберг старается как можно лучше перевести мои слова на немецкий язык для тех, кто не знал русского.
— Помню, в дни гражданской войны, — продолжаю я, — когда наша молодая Советская республика сражалась с Антантой, в моем батальоне был чудесный боец, по имени Костя. Смертельно раненный, он подозвал меня, превозмогая боль, вынул из вещевого мешка две книги и промолвил, еле шевеля губами: «Товарищ командир, мне очень понравились эти книги. А дочитать уже не придется. Возьмите на память». Красноармейца мы похоронили, а книги его я возил с собой всю гражданскую войну. Хотите знать, что это были за книги? Избранные произведения Пушкина и Гете.
И тогда снова заговорил Зоненберг:
— То, что мы услышали, трогательно. Вы правы. Знаете, геноссе генерал, когда мы читали надписи на муаровых лентах, то с особой силой почувствовали всю сердечную красу советского человека.
Зоненберг заметно волновался. Чтобы успокоиться, он попросил разрешения закурить.
— Должен сказать, — продолжал он, выпуская табачный дым, — что я не коммунист. Но, знаете, именно Гитлер открыл мне глаза на правду, заставил понять Маркса и Ленина, сочувственно отнестись к той борьбе, какую вели наши Роза Люксембург и Карл Либкнехт, Эрнст Тельман и Клара Цеткин, проникнуться уважением к Вильгельму Пику… Возможно, слушая меня, вы думаете: стоит ли верить этому немцу? Верьте — и не ошибетесь. Честные немцы прекрасно понимают, что благодаря Советской Армии рухнула гитлеровская Германия. И сейчас мы стоим у колыбели новой, прекрасной Германии, для которой Гете и Шиллер, Бетховен и Лист, Бах и Штраус предстают во всем своем величии.
— Мне приятно слышать такие слова, — ответил я. — Чем же сейчас я могу быть полезен вам, доктор Зоненберг?
— Очень многим. Вам, видимо, знакома история веймарского театра? Если нет, разрешите отнять у вас еще несколько минут. Наш театр существует очень давно. Его традиции известны всему миру. На сцене веймарского театра звучали произведения Дидро и Бомарше, Гольдони и Лессинга в превосходном исполнении труппы, которую возглавлял несравненный артист Экхоф. Любители театра издалека приезжали в Веймар, чтобы насладиться игрой знаменитой Короны Шредер. А известно ли вам, что долгие годы директором нашего театра был сам Гете, что. и он играл на сцене этого театра?
— Да, это мне известно…
В разговор вмешался актер, выделявшийся огромной шапкой иссиня-черных волос:
— Наш театр дважды постигало горе. Первый раз в тысяча семьсот семьдесят четвертом году, когда он сгорел. Тогда потребовалось десять лет на его восстановление. Вторично театр был разрушен в этой ужасной войне. И до сих пор он лежит в руинах.
— Кто же его разрушил? — спрашиваю актера.
— Нет-нет, — заторопился он, — не подумайте, что мы виним вас. Его разрушил Гитлер. Это мы отлично понимаем и будем вечно помнить. А вот за помощью пришли к вам, русским.
— В чем же она должна выражаться?
— Население Веймара хочет восстановить театр, — снова заговорил Зоненберг. — Но это очень трудно… Мы просим вашего совета…
— Доктор Зоненберг, могу сказать, что подобные просьбы меня радуют. Мне по душе ваша реалистическая оценка событий. Можете передать всем, кто направил вас к нам: советская военная администрация готова не только дать совет, но и принять участие в восстановлении театра. Для этого мы выделим группу опытных инженеров и техников, направим строительный батальон, дадим необходимые материалы.
Через несколько дней наши инженеры-строители уже показывали мне рабочие чертежи, докладывали, что нужно для восстановления театра, говорили о рабочей силе, строительных материалах. Все их требования были удовлетворены.
Восстановление театра началось. Я часто бывал на стройке, встречал там много немцев. Среди них были актеры и музыканты, поэты и художники. Старшим среди них был Курт Зоненберг.
Наши солдаты трудились на стройке плечом к плечу с немецкими гражданами.
И вот театр уже готов. В нем появилась мебель. На окнах висели карнизы с тяжелыми бархатными портьерами. Стены фойе украсились портретами выдающихся драматургов и композиторов.
В те дни советская военная администрация получила много писем, в которых немцы благодарили наших строителей за восстановление театра. Их приятно было читать.
Накануне открытия театра ко мне, как к давнему знакомому, явился Курт Зоненберг. Настроение у него приподнятое. Он крепко пожал мне руку и передал конверт.
— Веймарцы поручили мне вручить вам первый пригласительный билет и сообщить: после длительного перерыва на сцену нашего театра возвращается Гете с героями своего бессмертного «Фауста».
— Благодарю за внимание. С радостью принимаю приглашение, — ответил я.
И как раз в этот момент раздался телефонный звонок из Берлина. Мне сообщили, что в Веймар выезжает Вильгельм Пик, чтобы принять участие в торжественном открытии театра.
Это известие меня обрадовало. Я неоднократно видел Пика в Москве на партийных съездах, конференциях, слушал его выступления, с большим интересом читал его статьи, посвященные международному коммунистическому и рабочему движению.
Был август 1948 года. Желтизна изрядно тронула «зеленое сердце» Германии. Настроение у веймарцев праздничное. Шутка ли — вновь поднимется занавес геттевского театра.
К этому значительному культурному событию готовились и мы, советские военнослужащие. Помню, ко мне тогда обратился один наш солдат:
— Товарищ генерал, я работал на строительстве театра. Наша бригада каменщиков вывела под крышу стену. А билеты в театр не все получили. Как-то обидно.
Я невольно залюбовался этим солдатом. Припомнился предпоследний год войны. В небольшом белорусском городке, где разместился штаб 50-й армии, ко мне привели пленного немецкого офицера. Во время допроса он без устали, точно машина, твердил одну и ту же стереотипную фразу: «Русские не знают и не понимают душу немца и не смогут оценить культуру Запада».
Нет, господин гитлеровский офицер, вы ошибаетесь. Мы прекрасно знаем и понимаем душу честного немца и умеем отличить, где кончается мишура и начинается подлинная культура…
Истекали последние часы перед открытием театра. К зданию советской военной администрации подъехало несколько машин. Вот он Вильгельм Пик, широкоплечий, с мужественным лицом, ясными глазами, чудесной улыбкой, знакомый миллионам по многочисленным фотографиям. Обнимаемся, крепко пожимаем друг другу руки.
— Рад познакомиться. Если не ошибаюсь, Гудериан именно на вас жаловался фюреру? — улыбаясь, говорит Пик. — А я вас могу только поблагодарить. Мне рассказывали, что советские войска активно помогали веймарцам в строительстве театра. Большое, очень большое вам спасибо. Знаете, в характере немца помнить добро. Пусть веймарцы, да и не только они, пусть все немцы узнают, кто помог восстановить театр. Это пойдет только на пользу нашим взаимоотношениям…
Вильгельм Пик говорил по-русски с сильным акцентом. Иногда он оснащал речь немецкими фразами, но тут же переводил.
Вместе, направились в театр. Осмотрели его, походили по зрительному залу, побывали на сцене. Вильгельм Пик и его спутники дали высокую оценку работе строителей.
Сотни электрических огней осветили театр. Его просторные фойе и уютный зал заполнили зрители.
И вот начался спектакль. Я много раз слушал «Фауста» в исполнении превосходных оперных певцов. Теперь же мне впервые пришлось смотреть это великое творение в исполнении драматических актеров.
Картина сменяет картину. Императорский дворец. Маскарад. Вальпургиева ночь. Фауст. Мефистофель. Елена. Фортиадо. Гомункул. Анаксагор. Геттевские герои целиком овладели нашими сердцами. Мы горячо и искренне аплодируем мастерам немецкого театра.
Я взглянул на часы. Была полночь. Но что такое? Конца спектаклю не видно. Когда занавес закрылся и было объявлено, что продолжение состоится завтра. Вильгельм Пик понял мое недоумение:
— Вы, видимо, читали, товарищ Болдин, как в давние времена в Греции и Риме представления шли по нескольку дней Вот и у нас с «Фаустом» происходит то же. Трудно гениальный замысел Гете воплотить на сцене за один вечер. Пожалуй, и двух вечеров мало.
На следующий день мы смотрели продолжение спектакля.
После спектакля от имени советской военной администрации я устроил прием в честь Вильгельма Пика. Большой зал нашего здания до отказа заполнили гости из Берлина, представители местных властей, труппа театра. После моего краткого приветствия слово взял наш дорогой гость.
— Товарищи, друзья, — начал он. — Два вечера мы смотрели на сцене возрожденного театра гениальное произведение нашего Гете. Два вечера мы были во власти его героев. Я благодарю наших замечательных мастеров искусств и тех, кто подарил театру жизнь! Слов нет, наши художники сцены создали замечательный спектакль, достойный памяти великого поэта. Но для меня, а я хочу думать, что не только для меня, восстановление театра, его торжественное открытие, наконец, первый спектакль не только эстетическое наслаждение. Это вместе с тем и символ крепнущей дружбы между немецким и советским народами. Помните, Фауст произносит чудесные слова, исполненные глубокого смысла: «Добро всегда приносит богатый плод». Добро, которое сделали нам наши советские товарищи, подняв из руин театр Веймара, уже дало замечательные плоды, и я убежден, даст еще большие. Думаю, было бы превосходно назвать театр Веймара «Фройндшафт» — дружба!
В зале раздался гром аплодисментов, со всех концов послышалось: «Фройндшафт!»
Товарищ Пик вдохновенно говорил о Коммунистической партии и правительстве Советского Союза, отдавал дань их миролюбивой политике, восторгался гуманностью Советской Армии, благодарил за избавление немецкого народа от гитлеровской тирании.
— Спасибо, дорогие веймарцы, за то, что вы возродили классический немецкий театр! — сказал Пик в заключение. — Никогда не забывайте друзей, которые помогли вернуть театр нашему народу!
В тот вечер было произнесено еще много речей, поднято много тостов за процветание искусства, за успешное строительство новой Германии.
В четвертом часу утра прием закончился. Я предложил товарищу Пику отдохнуть. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами:
— Что вы, генерал, разве сейчас до отдыха? Я не только не устал, а, кажется, помолодел! Нет-нет, благодарю, слишком много впечатлений, не до сна теперь.
Мы провожаем Вильгельма Пика до подъезда. Он со всеми тепло прощается. Для каждого находит задушевное слово.
Последнему пожал руку мне:
— Что сказать вам на прощание?.. В «Фаусте» есть строки:
«Мы отличились, как могли, — ты только труд наш похвали!»
— Хвалю, дорогой Иван Васильевич. Большое спасибо за все хорошее, что вы сделали и еще сделаете для нас1 Передайте вашим солдатам и офицерам мой теплый привет и добрые пожелания!..
В 1951 году я распрощался с Веймаром и выехал в Советский Союз. Командовал войсками Восточно-Сибирского военного округа, был заместителем командующего в Киевском военном округе.
Но где бы я ни находился, чем бы ни был занят, меня всегда тянуло в места, по которым прошел с боями. И вот недавно совершил поездку по фронтовым дорогам 50-й армии.
Много мыслей навеял этот путь. Вспомнил декабрь 1941 года. Армия в упорных боях под Тулой разгромила войска гитлеровского генерала Гудериана. Нас ожидало новое сражение за Калугу, город Циолковского.
Ночью пересек замерзшую Оку, въехал в город. С группой офицеров штаба мы побывали в домике Циолковского, на его могиле. Небо озаряли вспышки орудийных выстрелов. Это зенитчики вели огонь по фашистским самолетам. А мы в торжественном молчании стоим у праха великого ученого. Но пора в путь. Молча прощаемся с могилой Константина Эдуардовича…
Это было восемнадцать лет назад. И вот теперь передо мной снова заблестело зеркало Оки. В декабрьские морозы 1941 года она была по-военному сурова, а вот теперь Ока почти неслышно катит свои воды, и кажется, ничто не может нарушить ее величавый путь.
Мой спутник Василий Павлович Акимов, давний приятель К. Э. Циолковского, ныне директор Дома-музея ученого, рассказывает:
— Здесь любил гулять Константин Эдуардович. Катался по льду Оки на коньках. Ученый любил шутя говорить: «Много толкуем о здоровье. Будь моя власть, издал бы закон: хочешь быть здоровым — становись на коньки. Удивительный был человек! Бывало, посмотришь, как ездит на велосипеде, как быстро орудует рубанком или пилой, копает землю в своем маленьком садике, и кажется, старость отступила от него, испугалась этого великого и неутомимого труженика.
Медленным шагом идем по берегу. Василий Павлович с увлечением рассказывает все новые и новые истории из жизни своего замечательного земляка. Одна история примечательнее другой.
Свернули влево. Гористая дорога привела на окраину города. Перед нами небольшой одноэтажный дом.
— Вот мы и у цели, — говорит Акимов. — Это дом Константина Эдуардовича. В нем живет его семья.
Давно хотел познакомиться с семьей ученого. Входим в дом. В уютной комнате нас встречает немолодая женщина. На ней темное платье с кружевным воротничком. Плечи покрыты белым платком ажурной вязки. Гладкий волос подстрижен коротко, слегка тронут инеем седины. Из-под пушистых бровей смотрят умные, чистые глаза.
Здороваюсь. Называю свою фамилию.
Гостеприимная хозяйка, дочь Циолковского Мария Константиновна Костина, улыбаясь протягивает мне руку:
— Откровенно говоря, люблю военных. Это, видимо, наследственное. Ведь и отец всегда был рад встречам с военными товарищами.
Мария Константиновна приглашает сесть.
— Как чувствуете себя? — спрашиваю.
— Как можно чувствовать себя в шестьдесят пять лет? Пенсионерка, и все. Правда, еще храбрюсь…
Есть люди, обладающие чудесным качеством — огромной притягательной силой. Такой оказалась и Мария Константиновна. Ее мягкий, немного картавящий и тихий голос, приятная улыбка, ласковый взгляд, наконец, дар замечательной рассказчицы создают атмосферу непринужденности и теплоты.
— У Константина Эдуардовича, — рассказывает Мария Константиновна, — я вторая дочь. Из шестерых детей осталась одна.
Знакомимся с внуками Циолковского. Вера Вениаминовна Костина — старшая внучка. Она инженер-метеоролог. Мария Вениаминовна Самбурова — педагог, преподает русский язык и литературу в школе имени своего деда. Младший внук — журналист Алексей Вениаминович Костин.
— Еще не все, — улыбаясь, замечает Мария Константиновна и знакомит нас с Леночкой Костиной и Сергеем Самбуровым. Это правнуки Циолковского. Им обоим но семи лет.
В доме Циолковского все дышит его именем. Здесь с огромной любовью чтут память отца, деда и прадеда. Мария Константиновна вспоминает:
— Отец очень любил детей. Но он никогда не баловал нас. Приучал к труду, самостоятельности. Это помогало нам в жизни. Не хвалясь, скажу — добрые качества Константина Эдуардовича унаследовали и его внуки, и даже маленькие правнуки.
Слушая собеседницу, я думал о величии Циолковского— одного из прекраснейших людей земли русской, в ком органично сочетались гениальность и иростота. Естественно, что вся наша дальнейшая беседа была посвящена Константину Эдуардовичу Циолковскому.
Зашел разговор об Октябрьской революции и первых годах Советской власти. Мария Константиновна припомнила такой случай.
— В восемнадцатом году это было. К отцу как-то зашел меньшевик. Беседуя с Константином Эдуардовичем, он стал упрекать большевиков в непоследовательности, зачем, мол, создают Красную Армию. «Не надо было распускать царскую армию, — доказывал непрошеный гость. — Ведь она могла превосходно существовать, и тогда отпала бы надобность заключать кабальный Брестский мир!»
— Глупцами были бы большевики, — оборвал его Циолковский, — если бы не стали создавать свою армию. Будь по-вашему, всякие алтынниковы, Кожевниковы и прочие толстосумы со всеми их прихвостнями давно бы повесили большевиков на фонарных столбах! Владимир Ильич Ленин — мудрейший человек, он смотрит далеко вперед!.. И вообще прошу вас больше не тревожить меня своими визитами. Можете везде, на всех перекрестках кричать: Циолковский большевик! Циолковский за Ленина! Да, да, кричите! Этим вы мне окажете огромную честь.
А Василий Павлович Акимов рассказал о другом любопытном факте, который помог мне дорисовать в своем воображении портрет ученого.
— Помню, с каким ликованием Циолковский встретил весть об Октябрьской революции. Он точно помолодел, буквально преобразился. В ту пору в бывшем губернаторском здании разместился первый Калужский губернский Совет. Меня избрали заместителем председателя. И вот однажды явился к нам Константин Эдуардович и этакими выспренними словами начинает речь: «Я, Василий Павлович, явился, чтобы в вашем лице поздравить действительно пролетарскую, действительно трудовую Советскую власть. Я очень доволен ею. По душе мне Владимир Ильич Ленин. Сильный человечище!..»
Мария Константиновна вспоминала далекие годы юности, дружбу с отцом, последние дни его жизни. Она вынула из ящика письменного стола несколько писем Константина Эдуардовича.
— Отец писал мне их в тысяча девятьсот тринадцатом году, когда я учительствовала в деревне Богородицкое, Мосальского уезда. В них он — весь, как есть.
Мария Константиновна подает мне одно из писем, любезно разрешает прочитать. На конверте рукой Циолковского аккуратно выведены три буквы: «Е. В. Р.»
— Как понять это?
Мария Константиновна улыбается:
— Отец любил шутить. На конвертах писем, адресованных мне, он обычно писал эти буквы, означавшие «Ее высокородию».
Вот текст письма:
«Дорогая Маша! Письма твои получили. Мы здоровы. Сгорел аэростат и погибло 27 человек (в Германии). Погибло много аэропланов. Были три железнодорожные катастрофы в России. Тоже и за границей.
Я рад, что тебе на первое время не будет трудно и что тебя окружают лес и маленькая деревенька. Вероятно, будут ходить в гости волки. Поэзия!! Мне, право, нравится.
Терпи, читай, наблюдай! Есть ли библиотека? Описывай при случае все как можно подробнее. Эта глушь крайне интересна. Есть ли у тебя особая комната? Размеры ее и училища. Опиши подробно дорогу, стоимость комнаты и т. д. К. Ц.»
— Как видите, отец старался сообщать мне все новости, происходившие в России и за ее пределами. Ведь газета в нашей деревне была редкостью, — замечает Мария Константиновна…
Вечером с группой товарищей мы посетили могилу Циолковского. Я нагнулся к памятнику, чтобы положить букет цветов. И тут мое внимание привлекла надпись на черной ленте венка: «Я думаю: как прекрасна Земля и на ней человек».
Знакомые строки. Но где довелось мне читать их? Вспомнил. Эти замечательные слова принадлежат чудесному поэту Сергею Есенину. И сейчас мне кажется, что, когда поэт писал их, он думал именно о Константине Эдуардовиче Циолковском.
Лучше о нем и не скажешь!
Звездное небо отражается в Оке. Издали видны контуры новых домов деревни Ромодановские Дворики, уютно разместившейся на левом берегу реки. Через эту деревню наступала наша армия на Калугу.
И в памяти моей воскресает один из эпизодов давнипь него боя.
Над подразделением, приготовившимся форсировать Оку, поднимается рослый солдат и охрипшим на морозе голосом кричит:
— За Калугу! За Циолковского!
Солдат успел добежать только до берега… Его похоронили в нескольких метрах от реки, которую он так и не успел переплыть. Но подразделение, увлеченное им, реку одолело, и Калуга была освобождена…
Однако пора кончать, чтобы читатель не сказал, что злоупотребляю его терпением. Обо всем ли пережитом рассказал, обо всех ли замечательных встречах и событиях, участником и свидетелем которых был, вспомнил? Безусловно нет.
Заранее предвижу вопросы: «Почему, например, автор уделил так много внимания боям за Тулу и менее подробно рассказал об освобождении Калуги?» «Почему не уделил больше внимания описанию боевых действий войск 50-й армии по освобождению Советской Белоруссии?»
Хочу заранее ответить на все эти «почему». Я не ставил себе задачей написать историю 50-й армии и никак не претендую на всестороннее освещение проведенных ею операций.
А другие заинтересуются судьбами людей, о которых поминалось выше. Что ответить таким? Кое-что можно.
Вам, наверное, запомнился вечно веселый, изобретательный слушатель курсов «Выстрел» "Максим Пуркаев? Он вырос до крупного военачальника. Всю Великую Отечественную войну провел на фронте и закончил ее в звании генерала армии. К сожалению, несколько лет назад Пуркаев скончался.
Совсем недавно в Москве у меня была трогательная встреча с ветеранами отдельного Московского стрелкового полка. После тридцатипятилетней разлуки снова довелось увидеть Славина, Брусина, Вельяминова и многих других. Почти всем из них идет уже седьмой десяток. Патриархом среди пас оказался бывший полковой врач Дынькин. Он уже разменял восьмой Десяток. Многие из ветеранов полка участвовали в Великой Отечественной войне. Все они сейчас на пенсии. Более других энергичен, бодр, ведет большую общественную работу мой бывший помощник, ныне генерал-майор в отставке М. Л. Славин.
Полковник Стрельбицкий, с которым выходил из окружения, теперь генерал-лейтенант, недавно ушел на заслуженный отдых.
Осипов закончил Великую Отечественную войну на Дальнем Востоке, где командовал артиллерийским полком. В 1955 году полковник Осипов демобилизовался. Сейчас живет в родном Гомеле, ведет большую общественную работу. Замечу, кстати, что Осипов по-прежнему любит писать стихи. Правда, сейчас большинство из них он посвящает внучке.
Трагически сложилась судьба его неразлучного друга Дубенца. Он учился в бронетанковой академии, оттуда ушел на фронт и погиб смертью героя у берегов Волги.
Совсем недавно я встретил бывшую разведчицу Ершову. Вместе с Дубенцом она училась в бронетанковой академии. После войны демобилизовалась. Вышла замуж, стала матерью двух сыновей. Сейчас Ершова живет в Москве, ведет большую партийную работу.
Москвичом стал и мой адъютант. Он раздобрел, в висках появилось серебро, и сейчас его величают Евгением Степановичем. Но для меня он по-прежнему Женя. Крицын окончил академию, командовал полком и демобилизовался в звании полковника.
И по сей день я поддерживаю связи со многими защитниками Тулы. Бывший командир Тульского рабочего полка Горшков ныне генерал-майор запаса. Аргунов, также генерал-майор запаса, живет в Одессе. Сорокин живет в Куйбышеве, работает директором краеведческого музея. Генералов Сиязова, Терешкова, Гришина уже нет в живых.
Словом, по-разному сложились судьбы моих боевых товарищей и сослуживцев. Об иных ничего не знаю. Кое с кем иногда встречаюсь, с некоторыми лишь переписываюсь. Но все они мне по-прежнему дороги!
Только то, что сохранила моя память, я рассказал в этой книге. И если «Страницы жизни» помогут читателю лучше понять, в чем величие нашей Родины, где источник мужества и вдохновения Советской Армии, службе в которой я посвятил свыше сорока лет, то буду безгранично счастлив.