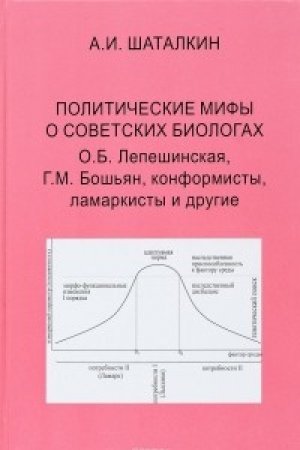
Предисловие. Мифологизация нашей истории
Непосредственным поводом для написания настоящей работы послужило чтение книги проф. В. Н. Сойфера «Красная биология. Лженаука в СССР». Я не нашел убедительными его доказательства псевдонаучности работ разбираемых им советских авторов. Более того, у меня сложилось впечатление, что он невнимательно прочитал критикуемые работы. Сам я читал их, когда был еще студентом и естественно полагался на свое прошлое восприятие, которое, конечно, могло быть ошибочным. Поэтому я решил снова перечитать работы О. Б. Лепешинской, Г. М. Бошьяна и других авторов, причастных к трагическому повороту в развитии биологии тех лет.
Автор не ограничился разбором теорий, называемых лженаучными (или псевдонаучными), но решил подвергнуть критическому разбору саму идею псевдонаучности в виду постоянных попыток рассматривать ее в качестве чуть ли не родовой черты науки «реального» социализма, проистекающей, как нас убеждают, из его тоталитарной сущности. В тоталитарном государстве, каким был, как нам говорят, СССР, заведомо ложные научные теории будто бы специально внедрялись с тем, чтобы через унижение ученых, вынуждаемых выступать против истинного научного знания, подчинить их партийному диктату и лишить воли к сопротивлению. В итоге большинству советских биологов, живших в то время, ныне бездоказательно предъявляются обвинения в нравственном падении, в том, что они будто бы поддались диктату властей и не выступили с осуждением лженаучных теорий Лысенко, Лепешинской, Бошьяна и др.
Возникает вполне закономерный вопрос, почему в нарушении принципа парсимонии было принято такое сложное объяснение, более похожее на политическое обвинение. Оно не проверяемо научно, хотя его и высказывают ученые. А раз так, то не ошибались ли ученые в своей научной оценке работ отмеченных авторов. Действительно ли мы имеем дело с лженаучными теориями? А вдруг это не так. Этот вопрос представляется более простым хотя бы потому, что допускает научную проверку. Поэтому с решения этого второго вопроса я и начал свои исторические разыскания. В итоге родилась предлагаемая читателю книга.
Забегая вперед, сразу скажу, что ученые в своей оценке работ Лысенко, Лепешинской, Бошьяна и др. не во всем были правы. И причины этого скорее всего политические, предопределившие предвзятое отношение к авторам. Поразительно, но я ни у кого из советских и нынешних критиков не нашел внятного изложения положений критикуемых ими авторов. Обычно говорят, что там и обсуждать собственно нечего; что можно сказать об откровенной чепухе. Но этой «чепухе» верила огромная армия советских ученых. Поэтому предвзятость в этом деле означала неуважение к их мнению, которое с порога, по существу бездоказательно отвергалось. Крайне предвзятым подходом к оценке деятельности советских ученых грешит упомянутая мной книга проф. В. Н. Сойфера, а также его вторая книга «Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР». В последней книге о вине коммунистической власти сказано лишь в общих словах, т. е. практически ничего, но зато по полной программе высказаны обвинения в адрес ученых как самостийных творцов зла.
В таких сложных и деликатных делах как межличностные отношения между учеными необходимо проявлять определенный такт и, главное, подходить дифференцированно к свидетельствам непосредственных участников трагического разворота нашей истории и к материалам тех лиц, которые пытаются разобраться в случившемся, в том числе с научно-исторических позиций.
Ученые, ставшие жертвой круговорота обрушившихся на них бед, в своих воспоминаниях повествуют о выпавших на их долю тяжелых испытаниях, оставивших тягостный след на всю их жизнь. Даже если они ошибались в своих оценках произошедшего, для них и их близких личные переживания есть такая же реальность, как и все остальное, То, что они рассказывают ими глубоко выстрадано и составляет ту правду жизни, которую нельзя отменить, даже если она в чем-то неточна, и тем более забыть; она всегда с собой, от нее некуда убежать.
Для всех остальных, отважившихся разобраться в событиях прошлых лет, целью должно быть выяснение в меру сил подлинной картины произошедшего. А для этого надо с особой осторожностью относиться к любым обобщениям, имевшим хождение в обществе. Одним из таких обобщений, которое не может быть доказано с научной точки зрения является уже отмеченное выше мнение о советском обществе как источнике зла, укорененного в нем в силу его тоталитарной природы.
Я исхожу из глубокого убеждения, что ничего такого дурного, приписываемого советскому обществу, включая и научное сообщество, на самом деле не было, что в СССР жили и работали в целом нормальные люди, что в руководстве страны сидели такие же нормальные люди. Поэтому я не могу принять и поверить в то, что наши руководители будто бы специально раскручивали проходимцев от науки, чтобы заставить научную интеллигенцию поступиться своей совестью и против своей воли славословить этих партийных выдвиженцев. Утверждать такое – это значит, выставлять в карикатурном виде советское научное сообщество, считать, что в нем преобладали и верховодили плохие люди. Еще раз повторю, что я не могу поверить в то, что советские ученые выступили в роли пособников зла, творимого будто бы сверху, называя по указке партийных властей «черное» «белым».
Но раз такие обвинения были выдвинуты, в том числе против конкретных ученых МГУ, которых я знал, одних по личному общению, других по лекционным занятиям, то с этим надо по справедливости разобраться – насколько, во-первых, все это серьезно и доказательно и, во-вторых, не скрывается ли за этим поддерживаемая западом банальная пропаганда по дискредитации нашей страны и советского общества.
Последнее никак нельзя исключить, учитывая проявляемое на западе недоброе внимание к личности Т. Д. Лысенко, которое почему-то с годами не ослабевает. В последнее время, пишет проф. Э. И. Колчинский (2014), там «прошли три конференции по лысенкоизму (Нью-Йорк, 2009; Вена, 2012; Токио, 2012)». Ведь кто-то давал деньги на проведение этих мероприятий с политическим осуждением советского ученого и возглавлявшегося им научного направления. Я не слышал, чтобы аналогичные международные конференции устраивались для осуждения американских, английских, французских и любых других ученых зарубежных стран. Получается, что только в Советском Союзе были столь плохие ученые, что это стало предметом обсуждения международной общественности и до сих пор вызывает нездоровый интерес к этому делу ученых всего мира. А может быть, все-таки нездоровый интерес проявляют не сами ученые, но западные политики? Ведь не ученые в складчину собирали деньги на проведение подобных конференций.
Чтобы в мире науки только советские ученые были носителями мирового зла, такого в принципе быть не может. В это невозможно поверить. Если, конечно, не придавать серьезного значения мнению наших западных недоброжелателей, утверждавших, как это сделал бывший президент США Ричард Никсон (Nixon, 1980, р. 50), что именно у нас из-за татарского ига сконцентрировано мировое зло и все проявления недобрых чувств в нашем народе составляют теперь его природную суть, т. е. заложены в наших генах.
Неужели противники Лысенко пошли по стопам Никсона, сознательно демонизируя нашего ученого и его сторонников. А может быть все куда проще. Многое говорит за то, что приближается время научной реабилитации Ламарка, а вместе с ним и мичуринской биологии, ныне идущей по разделу лженауки. Не исключено, что на западе может возникнуть потребность в «разборе полетов», в частности, в выяснении обстоятельств, связанных с дискредитацией Ламарка и его учения. И вот в предвидении этого на западе начался новый виток демонизации Лысенко. Упомянутые выше три конференции, организация которых не была привязана к каким либо «юбилейным» датам, связанным с Лысенко, призваны были напомнить о его преступной деятельности и как бы объяснить временное неприятие западным обществом Ламарка. Отрицательная реакция на Лысенко – советского последователя Ламарка, могла, намекают нам, отвратить западных ученых от серьезного изучения трудов Ламарка.
Подтверждением этому я вижу в следующем заключении авторов (Seong et al., 2012, р. 250–251): «Имея пример каммереровских экспериментов, трудно улучшить репутацию ламарковского наследования… Действия Лысенко сделали ламарковскую теорию наследования еще более неприемлемой для большинства ученых». Авторы положительно отвечают на вопрос о возможности наследования приобретенных признаков, и им надо как-то объяснить, почему весь XX век такая возможность западными (но не советскими) учеными категорически отрицалась. Оказывается, научный шарлатан Лысенко, запретивший в СССР генетику, да еще научный мошенник Каммерер виновны в том, что западные ученые XX века отвергли теорию наследственности Ламарка. Мичуринская биология настолько ухудшила репутацию идей Ламарка, что их нормальное восприятие учеными стало, как нас стараются убедить, практически невозможным. Вот так, на наших глазах формируется очередной политический миф.
Что такое мичуринская биология, получившая столь дурную репутацию? Это прежде всего отраслевая наука, в которой работало и работает огромная армия специалистов, агрономов, зоотехников, селекционеров, ученых профильных биологических дисциплин, знания которых были востребованы в решении проблем сельского хозяйства. И вот против этой сельскохозяйственной дисциплины выступила академическая наука. Почему? В этом мы и должны разобраться. О том, что в советской действительности имело место борьба академической науки с отраслевой, т. е. теоретиков против практиков, говорил еще до войны академик М. М. Завадовский, выступивший как раз в защиту Лысенко и его сторонников в агрономии против нападок со стороны теоретиков.
Академическая наука в конечном итоге одержала победу над отраслевой наукой. Ныне признано, что мичуринская биология была лженаукой. Но вопросы остаются. Почему я должен принять на веру, что мичуринцы в своем научном поиске ошибались? Такое, конечно, нельзя исключить. Никто в науке не застрахован от неудач. Но ведь в нашей стране не было написано ни одной (!) научной работы, с критическим разбором основных положений мичуринской биологии. Почему я должен верить победившей стороне, обвиняющей Лысенко и других советских ученых в злодействе? Обвинение было выдвинуто против целого научного направления, в котором работало в разы больше специалистов, чем в генетике и близких к ней академических дисциплинах. Последователи Лысенко в агрономии, включая и тех уважаемых и заслуженных ученых, которые знали его лично, говорили и говорят о нем как о нормальном ученом. В таких случаях, как подсказывает логика жизни, нет оснований верить победившей стороне.
Еще один миф, упорно поддерживаемый в обществе, рассказывает нам о возникшей в биологии монополии Лысенко. Этот миф возник не на пустом месте, он отражает реальные попытки отдельных групп ученых захватить командные высоты в науке и, как результат, установить контроль над научной мыслью. Но тех, кого обвиняли в монополизации, работали в отраслевых науках и не имели никаких реальных рычагов, с помощью которых можно было бы установить свою монополию над всей наукой, включая академическую и университетскую.
В середине 1960-х гг. в биологии покончили с «монополией» Лысенко, пытавшегося искоренить истинные знания в пользу своих лженаучных построений. Не успели ученые отдохнуть от лженаучного наваждения, как на их голову, как нам говорят, свалился новый дракон советской биологии, которого в кругу биологов стали обзывать «Лысенко № 2». С помощью физиков победили и это второе «пришествие Лысенко», но тут же появился «Лысенко № 3». Как здесь не поверить Никсону, если цепь злодеев российской науки прервалась лишь с началом перестройки, когда надобность в них отпала в связи с тем, что рухнула сама наука.
Миф о монополии Лысенко в биологии родился в недрах Агитпропа (см. Шаталкин, 2015), т. е. придуман с пропагандистскими целями. Разговоры о так называемой «монополии» Лысенко не более чем слова, за которыми нет реального содержания. Разве это отраслевая наука, которой руководил Лысенко, т. е. агрономия в широком смысле слова, подмяла под себя академическую науку. Такого не может быть в принципе. Везде мы видим обратную картину. Академическая наука пытается навязать отраслевым направлениям, как тем следует работать. Разве это Лысенко контролировал денежные потоки и не малые, которые шли на академическую науку. Нет, деньги они получали из разных касс. Разве это Лысенко определял учебную политику. Нет, это компетенция министерства образования, которое до 1948 г. не пропустило ни одного (!) учебника по мичуринской биологии. Разве это Лысенко определял научную политику Академии наук СССР. Нет это делало само руководство Академии при определенном контроле со стороны Агитпропа.
Вот что пишет Д. Т. Шепилов (2001, с. 129), который, будучи вторым лицом в Агитпропе, руководил после войны борьбой с Лысенко: «… мы бессильны были что-нибудь сделать, чтобы обуздать невежд [т. е. Лысенко и его сторонников] и поддержать в науке истинные, а не мнимые силы прогресса. И так продолжалось вплоть до падения Хрущева, когда постепенно, со скрипом, при сопротивлении заскорузлых чиновников, начало выявляться истинное лицо и опустошительные последствия лысенковщины…» (выделено нами).
Д. Т. Шепилов открытым текстом сказал, что борьба за науку шла между чиновниками, что основная причина конфликта в действиях заскорузлых чиновников, которые не дали возможности прогрессивным силам в партии снять Лысенко раньше, сразу после войны. Но отсюда следует, что если и были какие либо проявления «монополизма Лысенко», то вина за это полностью ложится на тех заскорузлых чиновниках, о которых говорил Д. Т. Шепилов. Почему же мы в злодеях числим лишь одних ученых.
Здесь важно подчеркнуть еще один имевший ключевое значение момент. Разговоры о том же «Лысенко № 2» шли в научных кругах на неформальном уровне обсуждения, обрастая всевозможными слухами и разного рода домыслами. Но на западе их воспринимали как серьезные и объективные свидетельства, раз они попали на страницы респектабельной книги, изданной в США и переведенной у нас (Грэхэм, 1991). В этом качестве эти частные разговоры, опиравшиеся более на молву, чем на реальные факты, начали новую жизнь как элемент антисоветской пропаганды.
Но ведь то же самое произошло в отношении «Лысенко № 1», т. е. в отношении Т. Д. Лысенко. Разговоры отдельных советских ученых о том, что Т. Д. Лысенко губит генетику, трансформировались на западе в пропагандистский миф о преследовании советских ученых за их научные взгляды. С началом перестройки этот миф вернулся к нам как отражающий реальную жизнь советской науки.
Вот какую характеристику ученым тех лет дал философ В. С. Степин (1991, с. 429–430): «Сложился направляемый Сталиным и Ждановым союз невежественных философов и карьеристов из среды естествоиспытателей, благодатной почвой для которого была репрессивная система социального и идеологического контроля, постоянно выпалывающая ростки философской и научной мысли». А чтобы закрепить этот образ морально падших советских ученых, начинают поиск оправдывающих мотивов. Безусловно нравственному падению можно найти смягчающие обстоятельства. Но сначала надо выяснить, а было ли оно. Иными словами, было ли принуждение со стороны государства выступать против научных истин, заставляло ли оно «грешить» ученых, навязывая им заведомо ложные научные концепции? Сама постановка такого вопроса кажется абсурдной.
Советские ученые безусловно отличались от своих западных коллег большей вовлеченностью в политику. Но в этом нет ничего Удивительного, учитывая, что большинство из них были коммунистами. А для коммунистов политическая активность в деле строительства социализма определялась уставом Партии и была обязательной. Но именно то, что многие советские ученые были коммунистами, поверить в их конформизм перед злодейством я не могу. Об этом бы шли разговоры в обществе и сейчас бы нам представили массу при-Если только мы не встречаем этих специфических черт истинного знания в той или иной книге, а, напротив, наталкиваемся на ниспровержение основ, на огульное зачеркивание научного творчества сотен и тысяч ученых, мы должны сразу насторожиться: один из основных признаков рениксы налицо. Даже слабо образованный читатель при беглом перелистывании книги О. Лепешинской тут же увидит, что этот признак присутствует в ее работе абсолютно отчетливо: если права О. Лепешинская, то надо пересмотреть заново все законы эмбриологии» (выделено в оригинале).
«Реникса» в книге А. И. Китайгородского – это аналог слова «лженаука». Последний эпитет был применен автором к книге Г. М. Бошьяна «О природе вирусов и микробов». Г. М. Бошьян, по мнению физика, «научился превращать живое в неживое и наоборот – кристаллы в микробы и микробы в кристаллы. Все естествознание зачеркнуто недрогнувшей рукой. Вот какую книгу представляют вниманию читателя».
А. И. Китайгородский, видимо, имел в виду те неживые кристаллы, с которыми он как физик работал. Но в биологии речь идет о биокристаллах, образующихся по законам кристаллографии. Сейчас выяснено (Wolf et al., 1999; Minsky et al., 2002), что процессы биокристаллизации у микроорганизмов индуцируются стрессами и имеют своей целью защитить наиболее важные функциональные компоненты клетки, в первую очередь молекулы ДНК. В этом процессе участвует особый стресс-индуцированный белок Dps (DNA-binding protein), соединяющийся с ДНК и компактизирующий образующийся агрегат в виде кристалла. Большие кристаллические агрегаты рибосом образуются в ооцитах мышей и ящериц в период зимней спячки. Процессы биокристаллизации впервые были обнаружены у вирусов, в частности, в 1935 г. американским исследователем У. Стенли (W. M. Stanley), изучавшим этот процесс у вируса табачной мозаики. Подробнее о кристаллах Г. М. Бошьяна мы будем говорить в гл. 3.
Далее А. И. Китайгородский (1973, с. 116) дает следующее общее заключение: «Нет ни одного самого великого в науке сочинения, которое зачеркивало бы то, что создавалось кропотливым трудом армии ученых предыдущих поколений. Приобретения науки – суть ее завоевания навечно. А новые открытия – это проникновение в те края, куда еще не простирались рука и мозг исследователя! Но эту мысль мы уже сказали раз пять! И еще стоит повторить. Если все, что западет в сознание читателя, – это понимание того, что новое в науке никогда не отрицает старого, а лишь, очертив его границы, расширяет область познанного, я буду уже удовлетворен. Это сознание – верный щит против лженауки». Очень правильные слова. Только сказаны они не в том контексте.
А. И. Китайгородский пытается внушить читателю мысль, что О. Б. Лепешинская, равно как и другие упомянутые им советские лжеученые Г. М. Бошьян и Т. Д. Лысенко занимались ниспровержением научных основ, результатов исследований «сотен и тысяч ученых», т. е. вознамерились и пытались искоренить науку в пользу придуманной ими лженауки, рениксы, чепухи.
Это и есть главный политический миф о наших ученых – миф, поддерживаемый, к сожалению, до сих пор. «Тяжелым и горьким – пишет А. И. Китайгородский (с. 116–117) – было то, что О. Лепешинская получила трибуну для пропаганды своих откровений перед беззащитной аудиторией». Но ведь книга самого физика с его бездоказательными обвинениями советских ученых, вышедшая двумя изданиями, также была рассчитана на огромную армию советских читателей, привыкших верить слову ученого. К сожалению, выводы А. И. Китайгородского были сделаны не на основе внимательного прочтения книги О. Б. Лепешинской и изучения тогдашних отзывов на ее книгу, но на чисто эмоциональном мифологизированном в своей основе восприятии бегло просмотренной книги самим ученым и его коллегами физиками – надо же биолог О. Лепешинская додумалась получать клетки из желтка.
Не исключено, правда, что физики были введены в заблуждение знакомыми биологами, как до этого, в 1948 г. был введен в заблуждение химик по образованию, заведующий отделом науки Агитпропа Ю. А Жданов. Будучи стихийным ламаркистом, он представил позицию генетиков как ламаркистскую и защищал ее от ламаркиста Лысенко по надуманным второстепенным вопросам (см. Шаталкин, 2015, раздел 2. 11). Что для небиологов здесь были проблемы с пониманием сути споров, об этом пишет в своих воспоминаниях П. А. Пантелеев (2015, с. 72). По его словам, нобелевский лауреат, выдающийся советский химик, академик Н. Н. Семенов, вице-президент Академии наук СССР, искал независимого биолога, который не был бы замешан ни на чьей стороне в противостоянии генетиков и сторонников Лысенко. История имела место в 1965 г. В центре, т. е. в Москве и Ленинграде, таких независимых и способных сохранять объективность в своих оценках не оказалось. Директор новосибирского Института цитологии и генетики Д. К. Беляев, как предположил П. А. Пантелеев, сказал, что в их институте все являются противниками Лысенко. Он же посоветовал Н. Н. Семенову обратиться за «объективным варягом» к директору новосибирского Института биологии А. И. Черепанову и рекомендовал кандидатуру П. А. Пантелеева, который и стал помощником академика Н. Н. Семенова. Вернемся, однако к автору «Рениксы».
Если никакого ниспровержения научных основ не было, доказательству чего собственно и посвящена настоящая книга, то лишается каких-либо оснований следующее заключение А. И. Китайгородского (с. 110): «Поскольку фальшивое учение отрицает завоевания естествознания, то его становление неминуемо связано с некоторым торможением развития науки, с воспитанием в учебных заведениях безграмотных людей». А. И. Китайгородский выдвигает еще один миф о вине отдельных ученых в отставании нашей биологии. Вина безусловно есть, но не там он ее ищет. Те случаи торможения науки, которые были в истории нашей биологии, связаны с решениями политиков, но не ученых. Это ведь не самолично А. И. Китайгородский, но руководители государства через него заявили о лженаучном характере работ Т. Д. Лысенко. В результате работы по мичуринской биологии фактически прекратились. Понятно, что будет несправедливо обвинять в этом ученого-физика. Точно также в 1948 г. не Т. Д. Лысенко проявил инициативу, но руководство страны через него объявило о лженаучном характере вейсманизма. И видеть в этом лишь злой умысел ученого это, значит, отмахнуться от поиска истинных причин трагических событий, имевших место в истории нашей биологии. Хочу обратить внимание читателей на следующий факт, который не видят или стараются не замечать пишущие на эту тему авторы. Как лженаучное учение осуждался лишь вейсманизм. Лысенко и его сторонники может быть и хотели бы заодно осудить менделизм и морганизм и, возможно, в каких-то публикациях это делали. Но эти действия должны рассматриваться как самодеятельные, идущие в разрез государственной политике.
Первое издание книги А. И. Китайгородского вышло в 1967 г. Это было время «прощания с лысенковщиной». Не исключено, что глава «Лжебиология», если не заказана, то была одобрена партаппаратом в рамках борьбы с Т. Д. Лысенко. В нашей стране, начиная с 1930 г., не позволялась политическая критика, если на то не было получено разрешения партийных властей. Во всяком случае это объясняет, почему борьба физика А. И. Китайгородского против «лжеучений» в биологии оказалась по своей аргументации псевдонаучной. Если бы это была собственная и независимая от привходящих обстоятельств инициатива А. И. Китайгородского разобраться в деликатном деле имевшего место конфликта между учеными, то я не сомневаюсь, что он бы серьезно отнесся к своей задаче. Дело ведь не только в том, что ученому-физику было позволено выступить с ненаучной критикой биологов. Те, кого он критиковал бездоказательно, не могли в принципе получить аналогичного разрешения ответить своей критикой на критику. И это безусловно расслабляет, во всяком случае снижает требовательность к себе.
О неравном положении критика и критикуемого в СССР говорил С. В. Мейен в статье, опубликованной через 33 года после ее написания. Отвечая критику номогенеза А. А. Яценко-Хмелевскому (1974), посетовавшему, что сторонники этого лжеучения «не пытаются изложить свои взгляды в сколько-нибудь связном виде», С. В. Мейен (2007, с. 235) заметил: «мало написать, надо еще и издать, получив Ваше же благословение. Можно подумать, что номогенетики не сумели или не захотели изложить свои взгляды. Но ведь в действительности им не дали, им при каждом удобном случае затыкали рот. Уверен, что и сейчас [т. е. в 1974 г. ] мне не дадут ответить…». Важное дополнение к сказанному сделано на следующей странице: «Я верю, что он [А. А. Яценко-Хмелевский] прочел те работы Любищева и мои, на которые даны сноски в статье, но не верю, что он их прочел внимательно». С. В. Мейен высказался достаточно мягко. Но в начале статьи он (Мейен, 2007, с. 234) словами Дарвина дал ключ к пониманию действий основной массы критиков: «велика сила упорного искажения чужих мыслей». И я не исключаю, что это искажение, о котором говорил Дарвин, имея в виду выступавших против него критиков, может быть сознательным, дабы угодить политикам.
Откуда проистекает стремление представить неординарную научную позицию в качестве антитезы «истинной» науке? Я не думаю, что за этим следует видеть какой-то злой умысел. В большинстве случаев этого нет. Просто позиция, которая не укладывается в хорошо обоснованную и поэтому принятую большинством ученых парадигму, выглядит более уязвимой для критики и к ее научной оценке подходят менее строго. И отсюда возникает опасность подмены позиции критикуемого автора ее восприятием через призму сложившихся консенсусных представлений. Оригинальная концепция, имеющая свой предмет рассмотрения, в этом случае будет выставляться как попытка опровергнуть хорошо обоснованные научные истины.
Показательным примером такой неосознаваемой подмены является критика Ламарка Августом Вейсманом. В конце XIX века А. Вейсман выдвинул оригинальную концепцию наследственности, в рамках которой он попытался понять, каким мог быть ламарковский механизм наследования приобретенных признаков. В результате он не только исказил позицию Ламарка, но и свел ее к абсурду, ре-никсе, чепухе, если говорить словами А. И. Китайгородского. А абсурдная позиция по определению является антинаучной. Эта придуманная А. Вейсманом откровенная чепуха, связанная с его умозрительной концепцией наследственности, начала свою собственную жизнь теперь уже как бы от имени самого Ламарка.
Вот как понял Ламарка А. И. Китайгородский (1973, с. 110), критикуя ламаркиста Т. Д. Лысенко, высказавшегося на этот счет на августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
«На примере его [Т. Лысенко] выступлений можно ознакомить читателя со многими характерными чертами методов борьбы с наукой. Вот как начиналось “опровержение” генетики в речи Лысенко, произнесенной 31 июля 1948 года на сессии ВАСХНИЛ: “Материалистическая теория развития живой природы немыслима без признания необходимости наследственности приобретаемых организмом в определенных условиях его жизни индивидуальных отличий, немыслима без признания наследования приобретаемых свойств”. Мысль выражена нельзя сказать чтобы очень ясно, но, зная другие высказывания автора, мы можем оказаться в стане идеологических врагов, если засомневаемся в том, что потомки цирковой лошади родятся со способностью танцевать вальс».
Такое понимание наследования приобретаемых свойств идет от А. Вейсмана, который пытался доказать и научно доказал, что если у рождающихся мышат отрезать хвосты, то у их потомков хвосты нисколько не уменьшатся. Откуда возникла сама идея таких опытов. Вот как объяснял это на той же августовской сессии Т. Д. Лысенко (1948, с. 11; нижеследующая цитата приведена также в книге А. И. Китайгородского): «Отвергая наследственность приобретаемых качеств, Вейсман измыслил особое наследственное вещество, заявляя, что следует “искать наследственное вещество в ядре” и “что искомый носитель наследственности заключается в веществе хромосом”, содержащих зачатки, каждый из которых “определяет определенную часть организма в ее появлении в окончательной форме”» (внутренние цитаты из книги А. Вейсмана «Лекции по эволюционной теории», 1905 г. ).
А. И. Китайгородский, приведя эту цитату, пишет (с. 110–111): «И далее в форме обвинительного акта продолжается это “изложение” идей ученого [т. е. А. Вейсмана], его гипотез, сформулированных на основе богатейшего опыта тогдашней биологии, его выводов, которые подтверждались непосредственными физико-химическими исследованиями в последние десятилетия».
Наш замечательный историк биологии В. В. Лункевич (1929) в своем превосходном обзоре умозрительных (т. е. слабо обоснованных экспериментом) концепций наследственности, появившихся во второй половине XIX века, свел их в главу, которую назвал «Волшебные сказки биологии». Название знаменательно. Для полноценного развития науки ее первые шаги должны начинаться с натурфилософских «сказок». Здесь просматривается определенная аналогия с человеком, развитие которого требует благотворного влияния сказок в детстве. Данная В. В. Лункевичем характеристика, справедлива и для приближения А. Вейсмана. Его подход является во многом натурфилософским. И отверг он ламарковский принцип наследования по чисто натурфилософским соображениям. Почему генетики впоследствии также отвергли этот принцип? – я предполагаю, что в этом были заинтересованы политики, и этот момент мы обсудим в основном тексте книги.
По А. Вейсману существуют детерминанты хвоста – длинного или короткого, толстого или тонкого, цилиндрического или сплющенного и т. д. Поэтому, согласно А. Вейсману, прижизненные изменения хвоста могут быть унаследованы только при передачи соответственных изменений детерминантам хвоста в половых клетках. Такую передачу, как считал А. Вейсман, теоретически невозможно представить и в опытах, поставленных им на мышах, не удалось ее доказать.
Я не знаю, какие физико-химические исследования, о которых говорил А. И. Китайгородский, подтвердили вейсмановскую модель наследственности. Она, на мой взгляд, является грубым механистическим упрощением реальных процессов в организме и сейчас имеет лишь исторический интерес. И связывать с этой моделью наследование приобретенных свойств, как оно сформулировано Ламарком в его втором законе, это значит – искажать истинные взгляды первого эволюциониста.
В модели, защищавшейся Ламарком, только организм, выступающий как целое, реагирует на действие среды. А в модели А. Вейсмана хвост мыши обладает в отношении среды субъектностью, он реагирует на ее изменение и, изменяясь под действием среды, должен как-то оповестить об этом хвостовые гены в зародышевых клетках. И вот это свое собственное видение проблемы наследования признаков А. Вейсман приписал Ламарку. Почему он решил, что при отрезании в ряду последовательных поколений у мышей хвоста, последний должен уменьшаться? Ведь если хвоста нет, то он уже не сможет «сообщить» половым клеткам, что с ним произошло в жизни и какие хвостовые гены надо изменить, чтобы закрепить отсутствие хвоста у потомков. Для Ламарка в опытах А. Вейсмана есть лишь физиологическая проблема – как организм мыши будет реагировать на отсутствие хвоста.
Организм, подвергающийся неблагоприятному воздействию среды, должен как-то компенсировать негативные последствия такого воздействия. Соответствующие компенсаторные механизмы, наработанные организмами в процессе длительной эволюции, в числе прочего могут быть связаны с изменением нормального режима работы генов, в наиболее простом случае через выключение одних генов и включение других. Об этих механизмах пока мало что известно. Косвенные данные свидетельствуют о важной роли малых и длинных некодирующих РНК. Эти молекулы участвуют, возможно, под контролем организма, в межклеточном обмене и теоретически способны индуцировать изменения в работе генов, аналогичные тем, которые были вызваны действием среды. Никаких изменений самих генов (детерминантов признаков), о чем рассуждал А. Вейсман, в этом случае не требуется.
Начиная с работ И. В. Мичурина, советские ученые многократно получали вегетативные гибриды. Наши генетики, как и многие на западе отвергли их принципиальную возможность, но отвергли, исходя из принятой в генетике модели наследственности, т. е. по соображениям чисто теоретического (на самом деле – натурфилософского) порядка. Ряд исследовательских групп серьезно отнесся к исследованиям советских ученых по вегетативным гибридам. Для них эти работы послужили отправной точкой для развертывания исследований по поиску циркулирующих нуклеиновых кислот. Если в вегетативных гибридах имеет место обмен пластическими веществами, которые влияют на наследственность, как утверждают советские ученые, то надо посмотреть, нет ли среди этих пластических веществ нуклеиновых кислот. Было показано (Stroun et al., 1963; Anker, Stroun, 2012), что в растительном организме существует налаженная система межклеточного обмена метаболитами, включая и нуклеиновые кислоты. У животных эта система обмена также имеется и ее нарушение, т. е. потеря контроля со стороны организма, оборачивается раковыми заболеваниями. Сказанное означает, что и половые клетки также находятся под контролем организма.
Давайте теперь посмотрим, как физик А. И. Китайгородский объясняет читателю содержание работ Т. Д. Лысенко, его понимание явления наследственности. Вот он приводит «выдержку из статьи Т. Лысенко “Теоретические основы направленного изменения наследственности сельскохозяйственных растений”. Время издания – январь 1963 г. Параграф о сущности наследственности начинается так (выделено нами):
“Условия внешней среды являются ведущими в развитии органического мира. Из условий внешней среды впервые возникло живое тело, и дальше живые тела строят себе подобных соответствующих условиям внешней среды. Поэтому живое тело представляет собой единство тела и соответствующих условий внешней среды. Это единство заключается в ассимиляции, в уподоблении условий внешней среды данному телу. Причем под внешним нужно понимать то, что ассимилируется, а под внутренним, то есть телом, то, что ассимилирует…”» (с. 112; мы опустили четыре предложения Т. Д. Лысенко, касающихся его рассуждений об ассимиляции и диссимиляции).
А. И. Китайгородский (с. 113) дает следующий комментарий приведенного выше текста: «Есть ли здесь что-нибудь, кроме игры в слова? Разумеется, нет. Приведенный абзац есть типичная комбинация бессмыслицы с пустословием, столь характерная для глубокомысленных сочинений софистов».
«Что значит – продолжил он – “из условий внешней среды впервые возникло живое тело”? Условия внешней среды – это космическая радиация, поток тепла, неорганическое окружение, Так, что ли? А что такое живое тело? Имеется в виду хлебное зерно, насекомое или белковая молекула? Да нет. Мы не так ставим вопрос. Подобный строй мышления несвойствен подобным авторам. Он слишком конкретен, и на этом пути не построишь дворец чепухи. Автор, без сомнения, имеет в виду Живое с большой буквы. Следовательно, рассматриваемая фраза имеет лишь следующий совершенно тривиальный смысл – сначала Живого не было, а потом так уж сложились дела на Земле, что оно возникло».
«Продвинемся еще немного вперед через лес слов: “…и дальше живые тела строят себе подобных из соответствующих условий внешней среды”. “Дальше” – это значит и сейчас[1]. Если этой фразой нам хотят сказать, что без пищи животное и растение не появятся на свет божий, то с этим можно согласиться немедленно и поблагодарить автора за ценную мысль[2]. Если же здесь более глубокий смысл, то есть желание подчеркнуть первенствующую роль среды в создании каждого нового поколения, то это неверно».
«Следующая фраза о том, что “живое тело представляет собой единство тела и соответствующих условий”, построена так, что ей вообще нельзя сопоставить что-либо реальное. Так же точно совершенно бессмысленным является и следующее за этим пояснение: “Это единство заключается в ассимиляции, в уподоблении условий среды данному телу”. Что значит уподобить условия телу? Понять нельзя, так как понимать нечего».
Приведено еще несколько примеров и дается общее резюме (с. 115): «Из этих примеров читателю должно стать ясным лишь одно, что понимание в научном смысле этого слова подобных произведений невозможно в принципе, ибо слова используются для сообщения читателю либо голословных и неверных утверждений, либо для провозглашения “истин”, носящих мистический, религиозный смысл».
Вот и думай, что собой являет книга «Реникса»? Представляет ли она результат заблуждений физика в отношении биологов или ситуация хуже и речь идет о сознательно проводимой политике дискредитации научных направлений в рамках борьбы за монополию в науке.
Что может сказать здравомыслящий читатель, прочитав все это? Он не поверит, что человек, достигший академического звания, может заниматься пустословием, нести откровенную бессмыслицу, сдобренную тривиальными высказываниями, более того, строить своими схоластическими сочинениями чуть ли не дворцы чепухи, как хочет его убедить А. И. Китайгородский. Читателя может насторожить уже то, что слишком много негативных эпитетов было выплеснуто на советского ученого, уничижительных по содержанию, задевающих его честь и достоинство и бумерангом бьющих по авторитету советской власти, поднявшей на научный олимп, как нам говорят, проходимца. А что же другие ученые, те же физики, оказавшиеся по своим делам в Политехническом музее и осудившие, но только в своем кругу, Лепешинскую, читавшую там лекцию. Почему они не протестовали против торжества в советской науке бессмыслицы, чепухи и даже мракобесия в виде «“истин”, носящих мистический, религиозный смысл»?
Не утрирует ли автор «Рениксы», акцентируя внимание на внешнее сложение цитат, взятых, возможно, из вполне осмысленного текста. Работа Лысенко, на которую сослался А. И. Китайгородский, не имеет выходных данных. Читатель поэтому лишен возможности удовлетворить свое любопытство и прояснить для себя, действительно ли работы советского академика являются бессодержательными. К счастью, Т. Д. Лысенко в 1958 г. издал свои «Избранные сочинения в двух томах» и можно понять, основываясь на его более ранних работах, что хотел сказать ученый.
А. И. Китайгородский привел начало параграфа о сущности наследственности. А где же продолжение. В представленном читателю отрывке ничего не говорится о наследственности. Почему А. И. Китайгородский не привел и, следовательно, отказался обсуждать определение наследственности, предложенное Т. Д. Лысенко. А оно могло бы многое объяснить в его позиции.
Т. Д. Лысенко, о чем мало кто знает, выступил с собственной оригинальной концепцией наследственности, которая является прямым развитием идей Ламарка. Эта концепция не перечеркивает хромосомную теорию наследственности, но включает последнюю в качестве своей составной части.
Казалось бы, чтобы понять, какой смысл вкладывает Т. Д. Лысенко в понятие среды, надо разобраться с предложенной им моделью наследственности, оценить ее исходные положения, прояснить, какие концептуальные инструменты он вводит, и тогда станет ясно, что понятие среды в его подходе имеет определенное научное содержание, связанное с другим ключевым для данной модели понятием – «потребностей». Но, нет! А. И. Китайгородский подошел к оценке термина «среда» с точки зрения обыденного языка, т. е. с точки зрения совершенно иной концептуальной модели. Поэтому в отношении Лысенко А. И. Китайгородский поступил также, как это сделал в свое время А. Вейсман, пытаясь объяснить позицию Ламарка с точки зрения своих умозрительных построений. А это некорректно. Такая критика будет вынуждена обращать внимание лишь на формальные, случайные для теории моменты, оставляя в стороне ее ключевые существенные положения.
В этом деле у меня имеется свой личный опыт. В 1978 г. я опубликовал статью с критикой кладистической систематики Вилли Хеннига (W. Hennig). Мне казалось, что в статье я нашел убедительные доводы против этого направления. Была уверенность, что к аналогичным заключениям придут и другие систематики. Поэтому, полагал я, век кладистики будет не столь долог. Реальность оказалась иной. С каждым годом кладистика укрепляла свои позиции. На западе появилось общество, которое стало издавать специальный журнал «Cladistics», выходили монографии, начали издаваться учебники. Мне стало ясно, что я поверхностно отнесся к изучению кладистики и не увидел в ней того научного содержания, которое открылось зарубежным ученым. Пришлось серьезно заняться кладистикой и в итоге пришел к выводу, что в отношении ее я проявил научную халатность, не поставив с самого начала перед собой задачу выяснить концептуальные основания кладистики, какой круг явлений она изучает и насколько ее методы позволяют решать поставленные ею проблемы.
К сожалению, к работам других мы зачастую относимся поверхностно, ищем в них свое, что нам в концептуальном плане ближе и в результате забываем поинтересоваться главным – их содержанием и теми идеями, которые авторы работ хотели бы до нас донести. Мне кажется, что в аналогичной ситуации оказался А. И. Китайгородский. Но его положение было намного более худшим. На него оказывало давление сложившееся в общественном сознании мнение о вопиющей безграмотности ряда наших ученых, доказывать которую нет необходимости – безграмотность и так очевидна для всех.
На такого рода недоказанных утверждениях о наших ученых, нередко просто выдуманных мифов, вбрасываемых в общественное сознание по политическим соображениям, выстраиваются сомнительные общие выводы по истории нашей страны. Так, С. Э. Шноль (2010, с 13) во введении сформулировал в виде политического лозунга как бы резюме содержания своей книги: «Уничтожение свободной науки в СССР – ступени гибели великой страны». Книга, однако, посвящена проявлениям несвободы науки сталинского периода, когда до гибели СССР было еще далеко. Я работал в науке позже и не нашел, чтобы ее как-то притесняли в идейном плане и ограничивали в выборе тем и средств. Т. е. ущербна сама исходная посылка о несвободе науки послесталинского периода. Но и в сталинское время при всей его сложности за науку не преследовали. А те трагические страницы истории нашей науки были связаны с борьбой между собой научных групп – борьбой, которую политики не преминули использовать в своих далеких от интересов науки целях.
Трагедию страны он связывает также с тоталитаризмом и отсутствием свободы. «Основа всего этого падения [СССР] – продолжает С. Э. Шноль (2010, с. 20) – угнетение научной мысли, разрушение могучего интеллектуального и нравственного фундамента, доставшегося нам из дореволюционных десятилетий. У нас существовала Академия наук – воплощение партийно-государственного регулирования и подавления свободной мысли. Достаточно представить себе контроль партии большевиков над исследованиями в области экономики, истории, этнографии, филологии, географии. Не меньше этот удушающий контроль был в биологии, химии, физике. Нашу науку сотрясали «сессии» по вопросам языкознания, истории, биологии, химии, физиологии. Независимость и самобытность особенно свойственна людям науки. Для уничтожения целых научных направлений собирали “сессии” – конференции с участием членов академий и профессоров. Там по указанию и под контролем партийных “вождей” произносили доклады доверенные лица из числа пошедших на это ученых. В этих докладах обличали “буржуазную реакционную науку и ее апологетов” – как правило, наиболее выдающихся и активных научных деятелей… Далее я рассказываю о таких “сессиях”. В таких условиях не могла существовать великая страна. И она распалась». Здесь что не предложение, то очередной миф. Я покажу, что трагедия генетики началась с попыток генетиков, используя политические рычаги, прикрыть целое научное направление – ламаркизм. Лишь с пятой попытки, в 1965 г. им удалось это сделать. Дальше мы будем касаться этих и других мифов. Сейчас же скажем свое мнение о причинах распада СССР.
В том же введении к книге С. Э. Шноль (2010, с. 17) нашел нужную и, на мой взгляд, точную и емкую формулу, поясняющую причины поражения социализма в нашей стране: «Есть несколько кардинальных причин гибели Великой страны. Самая общая – несоответствие романтических абстрактных идей и природы человека». Правда, следствия, которые С. Э. Шноль стал выводить из этой формулы ей, как мне кажется, не вполне соответствуют. Во всяком случае у меня в связи с этим возникли иные мысли.
Романтические абстрактные идеи применительно к России это марксизм с его несбыточной мечтой построения справедливого общества, в котором нет эксплуатации человека человеком. Природа человека диктует ему, что жить надо для себя и своих близких. Поэтому только в теории можно мечтать, что изгнав помещиков и капиталистов, можно искоренить эксплуатацию. Если изгнаны собственники предприятий, то возможность эксплуатации появляется у управленческого аппарата, да и у целого слоя хитрых людей, прожигающих жизнь под лозунгом – «работа дураков любит». И если такая возможность есть, то она непременно будет использована.
То, что марксизм был утопическим проектом, говорит и вовлеченность в его практическое воплощение в России влиятельных сторонних сил из числа наших экономических конкурентов. Реальное стремление к справедливому обществу было хорошо проплачено теми, кто вовсе не стремился создать у себя это царство справедливости. Что деньги в этом деле играли и играют решающую роль, мы теперь хорошо знаем на примере майданов и прочих современных «революций».
В XX веке в России на деньги запада восторжествовала новая коллективистская идеология развития страны. Если на революцию дают деньги, то она непременно свершится. Поэтому надо отдать должное большевикам, которые, взяв власть, стали революционные лозунги проводить в жизнь и тем самым свернули с уготованной деньгами дорожки на новый неизведанный путь развития к справедливому обществу.
Согласно новой идеологии, жить надо в первую очередь для людей, для страны. Жить для людей и жить для себя – вот главное противоречие общества, вступившего на путь социалистического строительства. Это противоречие разрешилось, к сожалению, не в пользу социализма. Человек живет для себя, сообразно своей природной сути. В то же время человек может отдать всего себя работе на страну и, следовательно, на благо живущих в стране, проникнувшись коммунистической идеологией. Но борьба за новое справедливое общество, даже если она присуща человеку, не является его первой жизненной потребностью. Ради нее он в общем случае не пожертвует личным и всегда найдет оправдание своему эгоизму какими-то высокими материями. Человек может разочароваться в коммунистической идеологии, столкнувшись с трудностями реальной жизни. Кроме того, нет гарантии, что он может передать свое отношение к жизни детям и внукам. Нужна большая мотивация, чтобы коллективистская идеология могла сдерживать своекорыстные интересы человека, определяемые его природой. Эта мотивация исчезла, когда Н. С. Хрущев связал коммунизм с очень большой потребительской корзиной, которую он обещал полностью наполнить в 1980 г. Стоило ли за эту корзину бороться, положив на алтарь победы миллионы жизней.
В 1977 г. с принятием новой брежневской конституции был нарушен основополагающий принцип справедливости. Большевики, захватившие власть в 1917 г. клялись, что они, став у власти, экспроприировали буржуазную собственность не для своей выгоды, но во имя блага народа. Этот момент был закреплен в Сталинской конституции. В ней, если кто помнит, распорядителями всех богатств страны были рабочие и крестьяне. В 1977 г. в новой конституции была узаконена так называемая общенародная собственность, владельцами которой был весь советский народ. Понятно, что ближе всех к этой собственности оказались не рабочие и крестьяне, но партийная элита и обслуживающие ее интересы интеллектуалы, которые по старой сталинской конституции не могли приватизировать в свою пользу собственность рабочих и крестьян. Наша элита заблаговременно стала готовиться к будущей перестройке, забыв о клятве, которую все коммунисты в обязательном порядке давали, вступая в Партию.
Если Вы меня будете уверять, что большевики, делавшие революцию, были другими, что они все как один думали не о себе, но только о благе рабочего класса, то я не поверю. Безусловно в любом обществе есть идеалисты. Но их, к сожалению, немного. Большинство шло в революцию либо бездумно в результате стечения каких-то обстоятельств, либо преследуя свои политические, национальные, корыстные и иные цели, далекие от целей борьбы за освобождение рабочего класса.
Но это так сказать внутренние факторы. А были еще внешние. Когда С. Э. Шноль (с. 17) говорит, что «эта могучая страна [СССР] сама, без внешних воздействий распалась всего 45 лет спустя после великой победы», то он лукавит, забыв упомянуть ключевого игрока мировой истории – Запад, для которого Россия-СССР-Россия была и будет соперником. Это на деньги запада была организована революция, которую, благодаря решимости и воли большевиков, ему не удалось направить по украинскому сценарию. Это на деньги запада был организован военный поход Гитлера с целью порабощения наших народов. К распаду СССР запад также приложил свою «щедрую» руку.
Могучую страну победили деньги – основа еще более ужасных тоталитарных режимов. Наши руководители устали жить во имя народа, им захотелось жить так, как живет сам народ, для себя, на пользу своих детей, родных и близких. Они имели всё, но их не устраивало то, что это «всё» было государственным, казенным, которое нельзя было передать своим детям. Когда они не имели ничего, они были в целом искренними революционерами. Когда после революции, двигаясь по революционным ступенькам к вершинам власти, они получили достаток и привилегии, то им захотелось спокойной жизни, хотелось отдохнуть от трудов праведных, свершенных во имя счастья народа. Самим захотелось этого уютного счастья, которое они «создавали» для народа. И ярким показателем того, что советская элита, бывшая когда-то революционной, перестроилась в своем мировоззрении, может служит хрущевское обещание создать коммунизм, т. е. изобилие всего, еще при жизни тогдашнего поколения советских людей. А что еще нужно для счастья? Оказывается для элиты материального счастья было мало. Во времена Н. С. Хрущева и позже она в отличие от народных масс уже жила, по существу как при коммунизме, т. е. распоряжаясь всеми материальными благами, которые были доступны на то время. Но представители элиты не могли гарантировать своим детям такую же жизнь в условиях коммунистического достатка. Дети также должны были двигаться по ступеням карьерного роста, и для этого, как и они в свою бытность, напряженно работать. Поэтому счастливая жизнь элиты была ущербной. И наибольшую озабоченность у нее вызывали дети, которые, живя в полном достатке, не очень стремились следовать родительскому примеру бескорыстного служению стране и народу. Революционный порыв, оказывается, не передается по наследственности.
Это ведь неслучайно так получилось, что новая революционная элита, захватившая власть, стала давать деньги на развитие евгеники. Так им хотелось стать кастой руководителей, т. е. сделать должности управленцев наследственными. И евгеника на их заказ моментально откликнулась – нашла генетические, т. е. научные основания для претензий новой элиты на власть для себя, своих детей, внуков и т. д. Но с евгеникой не получилось. Сталин, понимая, кто и для чего взращивал евгенику, запретил ее. Дело в том, что для спокойной жизни себе, своим детям, внукам и т. д. нужно не казенное имущество и казенные деньги, которые надо каждому лично заработать, но свое имущество и свои деньги. А распоряжались мировыми деньгами на Западе. Поэтому для тех наверху, кто хотел личного счастья и благополучия себе и своим детям, а таковых со временем становилось все больше и больше, нужно было получить разрешение на такую счастливую жизнь со стороны запада. Только запад мог им позволить владеть и распоряжаться мировыми деньгами. Для этого необходимо было демонтировать советскую систему хозяйствования, чтобы можно было встроиться в западную систему экономических отношений. И СССР перестроился на условиях, диктуемых Западом. Что вполне понятно. Не они просятся к нам, а мы к ним.
Из сказанного ясно, что из-за неодолимого желания счастья себе и своим близким, когда это желание охватывает большую часть общества, включая прежде всего элиту, крушение социалистического государства было делом времени.
Другой миф, пришедший к нам с запада, говорит о присущей нашему обществу несвободы, связывая ее с тоталитарной природой государственной власти России – СССР: «Вся история России была историей тоталитарных режимов» (Шноль, 2010, с. 16). Что это пропагандистский миф должно быть понятно, поскольку в нем не расшифровываются ключевые понятия, что такое несвобода и тоталитаризм и как они связаны с реальными свободами в так называемых нетоталитарных государствах.
«Особенно тяжело принимается новое знание в тоталитарном идеологизированном обществе. Это прежде всего относится к обществам с государственной религией. Это было и в дохристианское время – так были приговорены к смерти Анаксагор и Сократ. Так были осуждены-Дж. Бруно и Галилей. В Советском Союзе партийно-государственная тирания была вполне аналогична инквизиции. Но если бы, если бы все можно было «свалить» на государство! Главное препятствие новому знанию имеет в основном психологическую и нравственную природу. Мы сами (как правило!) противимся новому знанию. Противимся, если оно не соответствует нашему образованию и собственному жизненному опыту» (Шноль, 2010, с. 329). Вполне соглашусь, только с новым знанием, которому противились в то время генетики, выступал Т. Д. Лысенко, о чем также будет сказано. Мы можем по тем или иным соображениям противиться новому, но какое это имеет отношение к тем, кто это новое знание создает. Разве ученые имеют власть что либо запрещать. Для этого им надо обратиться к политикам. Тему политики и науки мы затронем в главе 5.
В очерке о Н. К. Кольцове С. Э. Шноль (с. 166) пишет «4 марта 1939 г. президиум АН СССР рассмотрел вопрос “Об усилении борьбы с имеющимися лженаучными извращениями” и постановил создать комиссию для ознакомления с работой Института Экспериментальной Биологии и его руководителя Н. К. Кольцова… Все это полная аналогия с судом инквизиции. Кольцов отстаивает высокий смысл медицинской генетики “родители должны подумать о детях, должны дать здоровое потомство…” Ему в ответ – “Если он не выступит открыто и развернуто с критикой своих прежних мракобесных писаний и не вскроет их теоретических основ, то оставлять его на высоком посту члена-корреспондента Академии наук СССР и академика ВАСХНИЛ, а также директором института нельзя, политически недопустимо”».
Это сейчас С. Э. Шноль упомянутые президиумом АН СССР лженаучные извращения назвал медицинской генетикой. А тогда они назывались по другому – евгеникой. И Советское правительство боролось не с медицинской генетикой, но с евгеникой – ложным представлением, что будто бы все признаки человека, в том числе и плохие, определяются генами.
И чтобы было понятно, что вопрос о евгенике в то время стоял очень серьезно, приведем мнение независимого эксперта медицинского генетика С. Г. Левита (1930, с. 122): «Но эти большие возможности [которые предоставляет нам современная генетика – с. 121] таят в себе и значительные опасности, преодолеть которые по плечу лишь методологии диалектического материализма[3]. Дело в том, что именно среди генетиков особенно процветает архиреакционное псевдонаучное учение, биологизирующее общественные отношения (и медицину в частности), пытающееся законами биологии оправдать классовый гнет, эксплуатацию трудящихся масс, варварские насилия над колониальными народами и пр. Речь идет о буржуазной евгенике. Нет более отвратительной «науки». Это от нее исходит учение о якобы генотипической неполноценности трудящихся масс и колониальных народов, это отсюда вытекает следствие о превосходстве буржуазии и дворянства над рабочим классом{4} и белых народов над цветными… Волна этой [политической – А. Ш. ] реакции не миновала и СССР».
Видите! На серьезном деле борьбы с реакционными взглядами создается очередной миф о возрождении в СССР судов инквизиции, в которых по указанию властей одни советские ученые вершили суд над другими. По мнению С. Э. Шноля (с. 169), который так назвал общественный суд над Н. К. Кольцовым, «определение “суд инквизиции” верно не только потому, что речь шла о смертельной опасности. Суд инквизиции – это когда человека судят и приговаривают за его взгляды, за убеждения, за мысли. Так что в словах “инквизиция” передержки нет. А то, что Кольцов вел себя бесстрашно – на то он и герой. А те, кто его обвиняли – инквизиторы».
Это за какие же мысли и взгляды обвиняли Н. К. Кольцова члены комиссии? Они его просили (призывали) открыто отмежеваться от евгеники, которая в 1920-30-е гг. стала научной базой фашизма. Мнение уважаемого ученого, каким был Н. К. Кольцов, оказало бы большую помощь в деле борьбы с фашизмом. Н. К. Кольцов не откликнулся на этот призыв. При всем этом я считаю, что комиссия сделала большое дело, указав на псевдонаучные корни фашизма в положениях евгеники. А то бы не миновать нам обвинений со стороны запада в идейной поддержке фашизма.
Видимо, евгенику имел в виду С. Э. Шноль (с. 17), когда писал: «Идейной основой уничтожения гуманитарных наук стала вульгаризированная философия исторического материализма – “истмата”. Идейной основой уничтожения наук естественных стала вульгаризированная философия диалектического материализма – “диамата”».
Если в преодолении евгеники действительно имеется заслуга диалектического материализма, как писал о том медицинский генетик С. Г. Левит, то я ничего не имею против такого диамата.
Вообще-то такого рода обобщения ничего не объясняют. Что касается борьбы научных направлений, то их следует оценивать по иным критериям. Нужно вернуться к Марксу и искать в действиях людей и их групп материальный интерес. Он часто не осознается, но им человек руководствуется на подсознательном, можно сказать, инстинктивном уровне. А вульгаризированная философия диалектического материализма является не более чем прикрытием материальных интересов.
Уже упоминавшийся философ В. С. Степин (1991, с. 432) в послесловии к книге Л. Грэхэма (1991) подчеркнул «положительную роль философов (Б. М. Кедров, И. Т. Фролов и другие) во второй волне сопротивления лысенковщине, борьбе, окончившейся на этот раз победой науки над политизированной пародией на естествознание». Вот только через двадцать с небольшим лет после этой победы известный советский генетик В. П. Эфроимсон (1989) с горечью констатировал: «Честно говоря, я думаю, что в настоящее время советская генетика находится в худшем положении, чем во времена Лысенко». Но меня здесь заинтересовало другое. Почему для В. С. Степина научные достижения Т. Д. Лысенко являются пародией на науку. Он не сказал, почему он так думает. Но есть ли у него хоть какие-то основания так утверждать. Или это очередной миф, созданный по результатам политической победы академических ученых над прикладниками из агробиологии, возглавлявшимися Т. Д. Лысенко. С этим мы также будем разбираться на страницах книги.
Вернемся снова к мифу о «советской инквизиции», будто бы ставшей реальностью в СССР в послевоенное время. С. Э. Шноль считает, что ее жертвой, кроме Н. К. Кольцова, стал генетик А. Р. Жебрак, который подвергся идеологической проработке на суде чести осенью 1947 г. Понятно, что суды чести, в которых С. Э. Шноль видит пример советских судов инквизиции, не были частной инициативой самих ученых, но организовывались по распоряжению руководства страны. Тогда почему С. Э. Шноль в своей книге «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки» (2010) злодеями называет ученых, но не власти, принимавшие конкретные решения по делу А. Р. Жебрака? Ученые не имеют властных полномочий и, если и заслуживают порицания, то самое большее за конформизм. Но и с этим не все так однозначно. А если ученый, выступивший на суде чести, солидарен с осуждающей позицией властей в отношении А. Р. Жебрака, то как к этому следует относиться. С. Э. Шноль (2010, с. 366) пишет: «30 августа 1947 г. в Литературной газете была опубликована статья трех авторов Алексея Суркова, Александра Твардовского и Геннадия Фиша “На суд общественности”» с осуждением антипатриотического поступка А. Р. Жебрака. «Статья в Литературной газете – продолжил С. Э. Шноль – была для нас потрясением. Главным было имя Твардовского среди авторов. Популярен был и Сурков… Для нас было поразительно, что именно Твардовский полагает дремуче невежественного и фанатичного Лысенко новатором в области физиологии растений и генетики». Почему этот поступок популярных советских поэтов удивил С. Э. Шноля и он стал искать ему «оправдание», предполагая, что их к этому вынудили власти. Я, конечно, не могу исключить такую возможность, но в равной мере допустимо предположение, что реакция наших поэтов была вполне искренней.
С. Э. Шноль (с. 365) говорит, что «после ареста и гибели Н. И. Вавилова и его соратников… борьбу за спасение истинной генетики пришлось возглавить оставшимся на свободе… [в частности] А. Р. Жебраку». К сожалению, эта борьба за свою науку была нацелена на искоренение даже не альтернативного, но дополняющего подхода, каким был ламаркизм, рассматривавшийся генетиками как лженаучное направление.
Эпистемолог Сергей Белозеров такого рода непримиримую «борьбу» за свою науку связывает с неосознанным переводом разделяемых ученым научных знаний как якобы «полностью подтвержденных» в разряд верований. Ну и что с того, если ученый становится верующим в отношении изучаемого им предмета и подозрительно относится ко всему другому. В нашей стране сосуществует несколько религий, но они как-то уживаются.
Дело не в восприятии научных «истин» в качестве источника веры. Основная проблема в политиках, которые не преминут использовать научные верования в своекорыстных целях, кстати, необязательно плохих. Ученые могут спорить между собой, некоторые из них, уверившие в непогрешимость разделяемых ими убеждений, могли бы желать искоренения направлений, продвигаемых их научными оппонентами. К счастью, они не имели и не имеют для этого властных полномочий. Поэтому не ученые, но политики могут выступать в роли «злодеев», вмешиваясь в споры ученых. Поддерживая одних ученых против других, они преследуют какие-то свои цели. Эти цели надо выявить, и только тогда станет ясно, действительно ли речь идет об инквизиции, т. е. о реальном запрете научного знания.
Итальянский философ эпохи Возрождения Джордано Бруно «смущал» умы тогдашнего общества, выступая против принятой христианской картины мироздания. Важно подчеркнуть, что власти независимо от мнения ученых богословов, с которыми Д. Бруно спорил, сами решали вопрос о том, имело ли со стороны философа искажение догматов церковного учения.
Эта ситуация кардинально отличается от событий, имевших место в СССР. Власть не могла выступать с экспертными заключениями по научным вопросам, выстраивая на этом основании свою политику в отношении ученых. Это не ее сфера деятельности. В судах чести, которые С. Э. Шноль уравнял с судами инквизиции, шел разговор о нравственной позиции ученых. А эти вопросы входят в компетенцию власти.
За борьбой ученых между собой часто стоят политики. Поскольку они не компетентны решать за ученых научные проблемы, то их поддержка одних исследовательских групп в ущерб другим связана с соображениями политической целесообразности. Это особенно показательно выступает в деле Т. Д. Лысенко. После войны борьбу с Лысенко возглавил не А. Р. Жебрак, как хочет нас убедить С. Э. Шноль, но Агитпроп. А уж какие цели Агитпроп при этом преследовал, об этом сейчас можно лишь гадать. Т. Д. Лысенко нашел защиту от Агитпропа у Сталина. Если бы за этой борьбой ученых между собой не стояли политики, то никакой сессии ВАСХНИЛ не было. Равным образом ее не было, если бы А. Р. Жебрак проявил осторожность и устранился от участия в антилысенковской кампании, как только стало ясно, что к этому делу проявили интерес политики. У политиков Агитпропа не было бы оснований для вмешательства в дела ученых, если бы те не показывали открытой вражды друг к другу.
Ученые могут желать запрещения деятельности своих научных противников. Но решают такие вопросы не они, но политики. Правда, политики зависят от ученых, те могут не позволить им использовать свои разногласия в далеких от науки целях, просто выйдя из противостояния с научными оппонентами. К сожалению, так не получилось. Развернувшаяся борьба ученых в СССР с так называемой лженаукой представляла очень удобную площадку для действий политиков на научном поприще. И они не преминули этим воспользоваться. А крайними в этой одобренной политиками борьбе ученых между собой, как свидетельствует наша история, оказывались сами ученые. Причины этого вполне понятны. Во-первых, политики стараются не быть на виду и не афишировать свою роль в спорах ученых. Во-вторых, ученым победившей стороны надо получить разрешение на критику политиков. А его могут не дать по тем же соображениям, чтобы не раскрывать участие политиков в делах ученых. Кроме того, политикам совсем не нужно, чтобы ученые лезли в их внутренние дела. Вот и остается последним демонизировать своих коллег, раз чужих не дозволяют. Из сказанного следует, что если какое-то знание ставится под запрет, то делается это по вполне серьезным для политиков основаниям, не для того, чтобы удовлетворить прихоть отдельных ученых, возжелавших свести счеты со своими научными оппонентами.
Что касается обвинения советской власти в том, что она будто бы заставляла ученых отказываться от своих научных убеждений, т. е. действовала как средневековая инквизиция, то это обвинение, на мой взгляд, является надуманным, представляя очередной антисоветский миф. Я просто не могу поверить, что советские политики могли открыто пойти на нарушение нравственных устоев советского общества. То, что в ту сложную эпоху никакого особого ущемления свободы в выражении научных результатов не было, что власть не вынуждала ученых поступиться научной истиной, об этом мы будем говорить на страницах книги.
Вернемся к книге А. И. Китайгородского «Реникса». Она ставит перед историками науки интересный и важный вопрос. Почему власть в свое время поддержала вызывающую ощущение «неловкости и позора» книгу Лепешинской, почему она одновременно поддержала «дремуче невежественного и фанатичного» Лысенко, а через некоторое время вдруг встала на сторону их оппонентов, объявив тех, кого она поддерживала ранее, лжеучеными? В. С. Степин (1991) объяснил это тем, что будто бы поначалу образовался союз невежественных руководителей и философов, который, надо думать, поддержал таких же невежественных ученых и откровенных карьеристов. Но ведь это надо доказать. Иначе сказанное превращается в очередной политический миф, не красящий нашу страну.
В контрасте с этим объяснением стоит позиция власти к некоторым течениям научной мысли, которые воспринимались в СССР негативно с самого их возникновения и эта оценка не менялась. Примером тому является номогенез Л. С. Берга.
В отношении Т. Д. Лысенко неполный ответ был дан в моей предыдущей книге (Шаталкин, 2015). Сталин защищал Лысенко от неправильных по его мнению действий своих товарищей по партии, развернувших против ученого идеологическую кампанию по его дискредитации и дискредитации возглавляемого им научного направления. К сожалению, организацией сессии ВАСХНИЛ в поддержку Лысенко занимались те, кто до этого активно выступал против него.
Т. Д. Лысенко в нашей стране представлял ламаркизм. Следовательно, речь шла о политической дискредитации по линии агитпропа ламаркизма. А отсюда возникает конкретный вопрос, какие политические цели преследовали, с одной стороны, советские идеологи, пытавшиеся искоренить ламаркизм, а с другой, Сталин, нацеленный на то, чтобы поддержать и сохранить советский ламаркизм как научное направление. Этим вопросом мы также будем заниматься.
Прежде чем перейти к основному содержанию книги, давайте кратко сформулируем, какие негативные утверждения в адрес советских биологов, как не имеющие научных оснований, следует отнести к политическим мифам.
Утверждалось, что в истории советской биологии были позорные страницы, когда власть выступила с открытой поддержкой лжеученых (1), продвигавших свои лженаучные учения (2) и вознамерившихся искоренить консенсусную (т. е. принятую большинством ученых) истинную науку (3); власти устраивали инквизиторские собрания, суды, сессии и т. д., на которых ученые должны были публично признать лжеучения (4) и одновременно осудить и отказаться от истинного знания (5). Уже из самого перечня должно быть понятно, что все эти обвинения советской власти являются политическими мифами.
ГЛАВА 1. Забытое научное совещание против засилья вирховианцев в советской науке
1. 1. Чему было посвящено совещание
Это «совещание по проблеме живого вещества и развития клеток» было организовано отделением биологических наук АН СССР и Академией медицинских наук при участии представителей ВАСХНИЛ. Проходило оно в Москве 22–24 мая 1950 г. На совещании присутствовало более ста человек; после вступительного слова А. И. Опарина были заслушаны четыре доклада О. Б. Лепешинской и сотрудников ее лаборатории; в прениях выступило 27 человек. Цель совещания – поддержать новую теорию ученого-коммуниста О. Б. Лепешинской о возможности происхождения клеток из живого вещества. Тем самым ставилась под сомнение коллективная критика этой теории, прозвучавшая ранее (7 июля 1948 г. ) со стороны 13 ленинградских ученых. По результатам совещания была принята Резолюция (Совещание, 1951, с. 177), в которой, в частности, утверждается, что «Вирховианская догма, согласно которой клетка происходит только от клетки, не соответствует действительности, и в корне противоречит всем принципам мичуринского учения…». В ряде постсоветских публикаций это совещание было охарактеризовано в крайне негативном ключе. Так, А. Е. Гайсинович и Е. Б. Музрукова (1991), связывая «господство лжеучений Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинской со сталинизмом, говорят о «позорных страницах “Совещания по проблеме живого вещества…” 1950 г. ».
Проф. В. Н. Сойфер в книге «Власть и наука» (2002, с. 47, сноска) пишет: «В моей книге Красная биология подробно рассмотрена история шаманства О. Б. Лепешинской, заявившей, что ею открыто образование клеток из бесструктурного “живого вещества”. Примитивная шарлатанка, будучи поддержана Сталиным и аппаратчиками из ЦК партии, добилась запрещения клеточной теории, увольнения с работы настоящих ученых» (выделено нами). Живое вещество в тексте Резолюции упоминается один раз и вот в каком контексте: «Своими работами они [О. Б. Лепешинская и ее сотрудники] экспериментально доказали, что клетки могут происходить не только путем деления, но также из живого вещества, не имеющего структуры клетки, что является крупным открытием в биологической науке» (выделено нами). Как видим, никто, ни Сталин, ни партаппаратчики, ни сама О. Б. Лепешинская клеточную теорию не запрещали. О бесструктурном веществе, тем более живом, ничего не говорится.
Я думаю, что В. Н. Сойфер писал книгу «Власть и наука» в расчете на американского читателя. Там очень любят слушать о нас негатив, который они, даже если бы захотели, не смогли проверить. Не знаю, по чьей инициативе смягчили название книги в русском издании, но английское название подчеркнуто антисоветское: «Коммунистический режим и наука».
В заключительной части Резолюции сказано: «Совещание считает необходимым всемерное расширение исследовательской работы в области изучения развития клеток и неклеточной формы жизни и рекомендует биологам различных специальностей непосредственно включиться в разработку этой прогрессивной области науки о жизни…».
Здесь я хочу обратить внимание на то, что в заключительной части используется нестрогое понятие «неклеточная форма жизни». Оно в то время не имело общепринятого понимания. Что такое вирусы? Являются ли они клетками? Можно ли их понимать в качестве неклеточной формы жизни? Эти вопросы и в XXI веке были предметом дискуссий. А что же говорить о тех временах. Являются ли бактерии клеточной формой жизни? Н. Ф. Гамалея, характеризуя бактерий, писал в книге «Инфекция и иммунитет» (1939, с. 26): «Видимого ядра у большинства бактерий нет. Они поэтому являются исключением из общего положения, что в основе организации всех живых существ положена клетка, состоящая из цитоплазмы и ядра». Отметив точки зрения на природу бактерий, не принятые наукой, Н. Ф. Гамалея (там же) продолжил: «Большинство же ученых придерживаются мнения Бючли, Шаудина и Гилльермонда, что в бактериях имеется ядерное вещество – хроматин, но что это вещество рассеяно в цитоплазме в виде зернышек, нитей или пыльцы. Вместе с тем возникает вопрос: каково отношение этой организации к клеточной теории? Являются ли бактерии деградированными клетками, или, наоборот, образованиями более примитивными, чем клетки?». Сейчас мы знаем ответ на этот вопрос. Прокариоты, включающие бактерий, эволюционно предшествовали эвкариотам, т. е. организмам с оформленным ядром в клетке. Это означает, что бактерии в понимании Н. Ф. Гамалея не были клеточной формой жизни.
Через 15 лет о том же говорил чл. – корр. АМН СССР П. В. Макаров (1954): «У большинства бактерий оформленное ядро отсутствует, поэтому, строго говоря, их нельзя считать клетками, Скорее – это доклеточная форма живого с распыленным ядерным материалом». Т. е. получается, что и само понятие клетки воспринималось в то время неоднозначно. П. В. Макаров здесь следует мнению Ф. Энгельса ([1950, с. 243] 1952, с. 72), приведенному в «Анти-Дюринге»: «… все органические тела, за исключением самых низших, состоят из клеток – маленьких, видимых только при сильном увеличении комочков белкового вещества с клеточным ядром внутри. Обыкновенно клетка образует и внешнюю оболочку, и тогда ее содержание оказывается более или менее жидким». Это мнение, как бесспорное, привел в своей книге «Диалектика и естествознание» философ А. М. Деборин (1929, с. 155). Он также сослался на еще одно развернутое мнение Ф. Энгельса из «Анти-Дюринга»([1923, с. 92] 1952, с. 74): «Наипростейший тип, наблюдаемый во всей органической природе, есть клетка, и она, действительно, лежит в основе всех организаций. Но в числе низших организаций мы находим множество таких, которые стоят еще значительно ниже клетки, напр., протамеба, простой комочек протоплазмы без всякой дифференцировки, затем – целый ряд других монер… Все они связаны с высшими организациями только тем, что их главной составной частью является белок и они поэтому совершают свойственные белку функции, т. е. живут и умирают».
Резюмируя точку зрения Ф. Энгельса на проблему организации жизни, А. М. Деборин пишет (там же): «Таким образом, клетка лежит в основе высших организаций, но имеются еще низшие организации, которые состоят из простого комочка белка, и, однако, эти стоящие ниже клетки существа обнаруживают все существенные явления жизни». О. Б. Лепешинская, как мы покажем, ушла далеко вперед от этого упрощения, рассматривая в качестве низшей доклеточной организации комплексы из белка и тимонуклеиновой кислоты.
Вот что написано в статье «клетка» во втором томе Энциклопедического словаря (том подписан к печати 6 апреля 1954 г. ): «Клетка, одна из наиболее общих форм организации живого вещества, лежащая в основе развития и строения животных и растительных организмов. Клетка состоит из цитоплазмы и ядра». Клетка лишь одна из форм живого вещества. Бактерии и вирусы, согласно этому определению, не являлись клетками. Но, видимо, представляют собой живое вещество. Хотя в том же словаре (т. 1, с. 134) читаем определение бактерий: «Бактерии, низшие растительные организмы, большей частью одноклеточные, не имеющие хлорофилла и дифференцированного клеточного ядра». Все же бактерии являются клетками, но состоящими, надо полагать, лишь из цитоплазмы.
Но вот в корне отличное мнение Отто Бючли (Butschli), который «определил бактерий как “ядерные элементы, лишённые протоплазмы или имеющие протоплазму, совершенно атрофированную или рудиментарную”» (Гапон, 2015, № 6, с. 50; внутренняя цитата из: Gedoelst, 1901). Т. е. бактерии в понимании Бючли не являются клетками, они соответствуют ядру эукариотической клетки. Это понимание в дальнейшем разрабатывалось в рамках симбиогенетических теорий происхождения эукариотической клетки, в которых ядро рассматривается в качестве потерявшего самостоятельность бактериального симбионта (см. например, Маргелис, 1983; Lake, Rivera, 1994; Gupta, 1998; Moreira, Lopez-Garcia, 1998).
Чтобы исключить понятийное смешение цитоплазматического и ядерного материала, Г. Шлегель (1987) в учебнике «Общей микробиологии» следующим образом переопределяет клетку (с. 23): «Всякая клетка состоит из цитоплазмы и ядерного материала, снаружи ее ограничивает плазматическая мембрана». Тоже не очень удачное определение, могущее создать ложное представление, что у предков бактерий ядро было.
А что же вирусы? О них в рассматриваемые времена было так мало известно, что в том же Энциклопедическом словаре их определили на иных основаниях (т. 1, с. 309): «Вирусы, возбудители инфекционных заболеваний, по размерам более мелкие, чем большинство известных микробов. Вследствие малых размеров вирусы проходят через бактериальные фильтры, отчего их называют фильтрующимися вирусами». Для симметрии, чтобы не подумали, что будто бы только советские ученые ничего не знали о вирусах, приведем мнение иностранного ученого.
Ф. Бойден (1952, с. 6; перевод с английского издания 1950 г. ) пишет: «Учение о вирусах и вирусных болезнях развивается в последние годы настолько быстро… однако у нас все еще нет общепринятого положительного определения понятия, обозначаемого словом “вирус”. Едва ли не лучшее, что мы можем сделать, – это обозначить термином “вирус” невидимое болезнетворное начало, но это никак не объясняет нам его специфической природы. И еще на следующей странице: «Из этого краткого обзора [смысловых значений слова “вирус”] видно, что почти единственной постоянной особенностью употребления слова “вирус” было то, что оно всегда связывалось с чем-то неизвестным; оно было удобным прикрытием незнания существа вопроса, и в значительной мере положение не изменилось до сих пор. Если говорить прямо, вирусами называют те болезни, причины которых достоверно не известны».
Таким образом, – подытоживает Ф. Бойден (с. 8–9) – хотя по целому ряду соображений кажется вероятным, что для вирусов характерен облигатный паразитизм [т. е. неспособность жить на искусственной среде], единственная особенность, несомненно свойственная всем вирусным болезням, состоит в том, что их возбудители мельче, чем остальные признанные патогенные микробы… [однако и здесь не все так просто] описаны фильтрующиеся формы ряда бактерий».
Не вполне ясно, в каком отношении к фильтрующимся вирусам находились, по мнению ученых тех лет, фильтрующиеся бактерии. Поль Одюруа (1936, с. 373) рассматривает их в качестве разных форм жизни: «Ультравирус – существо вполне определенное; фильтрующаяся форма видимой бактерии представляет собою другое существо, тоже вполне определенное». Первые «не имеют цикла развития… Что касается фильтрующейся формы бактерии, то она представляет собой фазу эволюционного цикла этой бактерии… фильтрующаяся форма обычно культивируется на употребительных в бактериологии средах… Оба определения может быть и несовершенны… но они (с. 374) противополагают отчетливо одну другой две разновидности живых существ, которые никак по нашему мнению нельзя смешивать». Н. Ф. Гамалея (1939, с. 35), ссылаясь на неназванную работу Поля Одюруа, отметил, что фильтрующиеся формы бактерий в целом крупнее фильтрующихся вирусов. Первые изменяются по величине от 700 до 500, вторые – от 500 нм и ниже.
Из слов П. Одюруа следует, что были в то время ученые, которые фильтрующиеся формы разной природы смешивали, т. е. считали их за одно и тоже. И действительно в Малой советской энциклопедии (1939, ОГИЗ РСФСР, т. 2, с. 427) читаем: «Вирус-общий термин для обозначения микробов – возбудителей заразных болезней и еще невыделенных возбудителей многих заболеваний, проходящих через мельчайшие поры бактериальных фильтров». Как видим, в предвоенной энциклопедии вирусы понимались как мельчайшие микроорганизмы, проходящие через бактериальные фильтры.
Здесь важно подчеркнуть еще один момент, на который обратил внимание П. Одюруа: бактерии в отличии от вирусов характеризуются циклом развития. Ученые искали их соответствие с одноклеточными эукариотами. И таких ученых было много. В частности, в СССР проблемой развития бактерий увлекся советский микробиолог М. Д. Утёнков (1941). Его идеи после войны были взяты за основу Г. М. Бошьяном, о научной судьбе которого мы будем говорить в следующей главе.
Г. Шлегель (1987) дает определение вирусов, опирающееся на сведения об их внутреннем строении, которые не были известны на рубеже 1950-х гг.
Молекулярная революция в биологии, начавшаяся примерно в это время, дала ответ на большинство вопросов, разделявших наших биологов, в том числе и по проблеме «живого вещества», природы вирусов и бактерий. Поэтому следует считать трагедией нашей науки, что биологи того поколения поддались на уговоры политиков и вступили в идеологические дискуссии по натурфилософским проблемам, многие из которых в результате молекулярного прорыва, перестали быть проблемами буквально в следующем десятилетии.
К этому надо добавить, что и в самой науке тех лет в силу ее неразвитости были основания для ошибок. Уже упоминавшийся Поль Одюруа (1936, с. 330) дает следующее свидетельство: «Очень много имеется “видимых вещей”, относительно природы которых установившегося мнения пока нет и которые появляются в протоплазме или в ядерном веществе. И очень часто автор, открывший их, принимает их за самих паразитов, к чему охотно присоединяются и другие; ультравирус оказывается видимым, можно определить его внешность и размеры, он обладает циклом развития, он является грибком или бактерией». Понятно, что он говорил об ошибках западных ученых. Но ведь и наши ученые не избежали подобных ошибок, примером чему могут служить исследования Г. М. Бошьяна.
Вернемся однако к совещанию. Чем оно отличалось от ранее прошедшей сессии ВАСХНИЛ 1948 г. ? Хотя основные предшествующие события развертывались в системе учреждений Академии Медицинских Наук, главным организатором совещания была большая Академия. Здесь, видимо, сказался упрек, который в свое время сделал министр высшего образования СССР С. В. Кафтанов руководству большой Академии. С. В. Кафтанов выразил недовольство властей политикой Академии, которая в истории противостояния генетики и мичуринской биологии плелась в хвосте событий, тогда как по статусу должна была возглавить борьбу с реакционным вейсманизмом-морганизмом. На этот раз АН СССР сыграла ключевую роль в деле борьбы с реакционным вирховианством.
Хотя АН СССР была главным организатором совещания, но оргвыводы по результатам совещания делала медицинская академия, причем в точном соответствии с разработанным партийными идеологами сценарием проведения дискуссий. По результатам дискуссии одна из сторон, не получившая поддержки научного сообщества, должна самокритично признать свои ошибки. Упорствующие могли подвергнуться административному наказанию с понижением в должности и вплоть до увольнения с работы. Сессия ВАСХНИЛ 1948 г. была отходом от принятого сценария, причины этого непонятны и требуют расследования.
1. 2. Предыстория
На волне идеализма во время бури в биологии, поднятой Т. Д. Лысенко, поднялась до того малоизвестная в науке Ольга Борисовна Лепешинская.
Грицман, 1993, с. 50.
Ю. Я. Грицман считает, что в противостоянии ученых по идеологическим вопросам именно Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинская были носителями идеалистических воззрений, а не их противники. Правда, сказано это было в период перестройки. Но сам по себе этот факт знаменателен. Он свидетельствует о большой гибкости идеологических установок, способности их адаптироваться и в своем крайнем выражении в зависимости от сложившейся политической конъюнктуры переходить прямо в свою противоположность. И вот на этом зыбком фундаменте разворачивалась в те далекие годы борьба одних ученых против других.
Теперь о существе противостояния между учеными. Немецкий ученый Рудольф Вирхов в работе «Целлюлярная (или клеточная) патология» (Virchow, 1859) выступил с новым учением, согласно которому «Вся патология есть патология клетки. Она краеугольный камень в твердыне научной медицины» (цитировано по Я. Л. Рапопорт, [1988] 2003, с. 262). С этим, конечно, трудно согласиться и ряд ученых критиковали Вирхова. Отметим И. М. Сеченова среди отечественных ученых. Вот что он писал в тезисах своей докторской диссертации в 1860 г.: «Клеточная патология, в основе которой лежит физиологическая самостоятельность клеточки, или, по крайней мере ее гегемония над окружающей средой, как принцип является ложной. Учение это есть не более как крайняя ступень развития анатомического направления в физиологии».
Нас в данном случае интересует другой результат работы Вирхова. В ней он детально проработал и обосновал положение, что всякая клетка происходит только от другой клетки.
Принцип Р. Вирхова по понятным причинам не мог учитывать всего многообразия новых фактов, полученных наукой позже. Тем не менее он особо не подвергался сомнению в научном мире. Но это означает, что в XX столетии вирховское положение, раз оно не отражало всю полноту накопленных новых знаний, превратилось в догму. В частности, оно не давало ответа на вопрос, откуда в этой преемственности клеток возникает новая (иная в материальном смысле) клетка. Этот вопрос возник с развитием генетических исследований. В XIX веке наследственность связывали со всей клеткой. Но вот генетики выяснили, что наследственность определяется детерминантами, локализованными в ядре. И отсюда возникла дилемма, разделившая ученых на два непримиримых лагеря: новая клетка возникает в результате изменения ядерных детерминантов (классическая генетика) или наряду с этим необходимо учитывать процессы материального влияния, имеющего внешний для рассматриваемой клетки источник (ламарковская перспектива, мичуринская биология в СССР). Принцип Р. Вирхова не давал ответа на этот вопрос, т. е. оказался устаревшей упрощенной схемой, не отражающей научных реалий XX века. Наследственность он связывал со всей клеткой и, следовательно, входил в противоречие с главным положение классической гене-тики согласно которому наследственность определяется генами ядра. Но одновременно он входит в еще большее противоречие с установками ламаркизма, согласно которому новая клетка продукт материального воздействия на нее ее клеточного окружения, а не только результат ее автономных внутренних изменений.
В 1945 г. советский ученый Ольга Борисовна Лепешинская опубликовала книгу «Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме». В своей книге она доказывала, что клетки могут образовываться из неклеточного вещества. Если это так, то речь шла о революционном открытии, кардинально меняющем биологию. О реакции ученых на эту новую теорию чуть позже. Сейчас же посмотрим, кто такая О. Б. Лепешинская.
О. Б. Лепешинская была на тот момент старейшим членом Партии, в которую она вступила в 1898 г. Вместе со своим мужем П. Н. Лепешинским она входила в круг близких друзей В. И. Ленина и Н. К. Крупской. До войны О. Б. Лепешинская работала в гистологической лаборатории Биологического института им. К. А. Тимирязева, а с 1939 г. в цитологической лаборатории Всесоюзного института экспериментальной медицины (Гайсинович, Музрукова, 1991). На момент конфликта (уже после войны) О. Б. Лепешинская возглавляла лабораторию цитологии в институте нормальной и патологической морфологии АМН СССР. Директором института с 1944 по 1951 г. был действительный член АН (с 1939 г. ) и АМН СССР (с 1944 г. ) Алексей Иванович Абрикосов (член КПСС с 1939 г. ). Заместителем директора по научной работе был Яков Львович Рапопорт, который оставил интересные и, я бы сказал, теплые воспоминания об О. Б. Лепешинской. Я. Л. Рапопорт был соседом О. Б. Лепешинской по дачному поселку и поэтому хорошо знал и ее мужа Пантелеймона Николаевича Лепешинского, который в довоенные годы директорствовал в музеях.
Научный штат лаборатории О. Б. Лепешинской в послевоенное время состоял из ее дочери, зятя и еще одного-двух сотрудников. Сама лаборатория размещалась в ее квартире в жилом «Доме Правительства» на Берсеневской набережной, у Каменного моста. По воспоминаниям Я. Л. Рапопорта ([1988] 2003, с. 260), посещавшего лабораторию в качестве заместителя директора по науке, «семейству Лепехинских, старых и заслуженных членов партии, были отведены две соседствующих квартиры, одна – для жилья, другая – для научной лаборатории… Разумеется, эта обстановка мало походила на обычную обстановку научной лаборатории, требующую сложных приспособлений, особенно для тех задач, которые ставила идейный вдохновитель коллектива».
Я хочу подчеркнуть, что это свидетельство Я. Л. Рапопорта говорит об огромном авторитете О. Б. Лепешинской, которая могла требовать невыполнимого для большинства граждан СССР. Это ведь не директор института А. И. Абрикосов дал Ольге Борисовне квартиру в престижном доме для организации в ней лаборатории. Кто надоумил ленинградских ученых выступить против человека, которому в то непростое время было позволено очень многое? Этим вопросом мы серьезно займемся дальше.
Лаборатория в научном плане мало чем могла похвастаться, контролировать ее работу по понятным причинам было невозможно, поэтому, по словам Я. Л. Рапопорта, парторганизация в лице Д. С. Комиссарука постоянно вступала в конфликты с О. Б. Лепешинской, хотя бы по вопросам той же дисциплины. Трудовая дисциплина в те времена была строгой. Фиксировался приход на работу, за опоздание могли наказать. А здесь такая вольница. И этот пример неминуемо расхолаживал сотрудников института.
С другой стороны руководство Института морфологии мало чего могло сделать, учитывая авторитет и большие связи О. Б. Лепешинской в партийных кругах. Возможно, благодаря этим связям институт получал какое-то уникальное оборудование. Я. Л. Рапопорту, когда тот посетил домашнюю лабораторию О. Б. Лепешинской, та похвасталась полученным недавно английским электрическим сушильным шкафом.
Что касается научных достижений, то Я. Л. Рапопорт описывает одно заседание Ученого совета института, на котором О. Б. Лепешинская докладывала об омолаживающем действии на организм содовых ванн, рецептуру которых она разработала, предлагая ванны отдыхающим правительственного санатория «Барвиха». Ничего от науки в этих изысканиях не было. Поэтому после доклада, как пишет Я. Л. Рапопорт ([1988] 2003, с. 264), «воцарилось тягостное молчание. А. И. Абрикосов предложил задавать вопросы докладчику и умоляющим взглядом обводил присутствующих, чтобы хоть кто-нибудь нарушил это гнетущее молчание. Я разрядил обстановку озорным вопросом в стиле моего обычного иронического отношения к творчеству Ольги Борисовны». Сложным человеком была О. Б. Лепешинская, но имела огромные связи в правительственных кругах, а ее содовые ванны пользовались одно время большим успехом.
Я. Л. Рапопорт упоминает, что под влиянием рекламы содовых ванн в какое-то время из московских магазинов исчезла сода.
Конфликты с партактивом института О. Б. Лепешинской в конце концов надоели и она перешла в 1949 г. в Институт экспериментальной биологии Академии медицинских наук, директором которого был действительный член АМН (с 1948 г. ) Н. Н. Жуков-Вережников, заместителем директора по науке проф. И. М. Майский. Я не думаю, что руководство этого института по собственному почину и с большой радостью взяло под свое крыло столь сложную личность, какой была О. Б. Лепешинская. Последняя наверняка действовала через партийные инстанции, которые «уговорили» Н. Н. Жукова-Вережникова и И. М. Майского. А те могли вытребовать для себя и своего института что-то полезное. Но тем самым они брали на себя защиту О. Б. Лепешинской в части ее научных результатов.
Сначала я предположил, что причиной перехода О. Б. Лепешинской в другой институт было принятое в верхних эшелонах власти решение о закрытии института, в котором работала О. Б. Лепешинская. Не могла же Ольга Борисовна остаться без работы. В. Н. Сойфер (1998) утверждает, что О. Б. Лепешинскую после письма 13 ленинградских ученых отравили на пенсию, т. е., надо полагать, уволили из института. Основание для увольнения вполне серьезное. Но это не объясняет, почему закрыли институт. Непонятно также, что стало с лабораторией О. Б. Лепешинской. Я. Л. Рапопорт об увольнении Ольги Борисовны и судьбе ее лаборатории ничего не говорит. Он намекает, что она сама из-за конфликтов с парторгом перешла в другой институт. Видимо, для Якова Львовича воспоминания об этом неприятны, если он старается не касаться истинных мотивов закрытия своего института. О том, что был закрыт институт особо не говорят и другие участники событий. Мы этого вопроса коснемся дальше.
1. 3. Реакция на книгу О. Б. Лепешинской
Какова была реакция на книгу О. Б. Лепешинской в научных кругах? А. И. Абрикосов и Я. Л. Рапопорт, на глазах которых совершалось это эпохальное открытие, промолчали, т. е. выбрали позицию невмешательства в той непростой ситуации. Если Вы не можете уговорить О. Б. Лепешинскую не печатать свои материалы и если у Вас нет возможности воспрепятствовать публикации, то лучше всё оставить на суд времени и прогресса, как говорил американский генетик Л. Денн. Промолчали и другие московские ученые. Критика книги О. Б. Лепешинской последовала со стороны ленинградских ученых. 7 июля 1948 г. в газете «Медицинский работник» появилась их критическая статья под названием «Об одной ненаучной концепции». Статью подписали: действительные члены АМН СССР Н. Г. Хлопин, Д. Н. Насонов, член-корреспондент АН СССР В. А. Догель, член-корреспондент АМН СССР П. Г. Светлов, профессора Ю. И. Полянский, П. В. Макаров, Н. А. Гербильский, З. С. Кацнельсон, Б. П. Токин, В. Я. Александров, Ш. Д. Галустьян, доктора наук А. Г. Кнорре, В. П. Михайлов. Подписали 13 ученых. Число роковое. Скорее всего, кого-то не удалось уговорить подписать письмо. Теперь по существу. Сначала о научной стороне дела.
С некоторыми научными положениями, высказанными в адрес О. Б. Лепешинской, трудно согласиться. Авторы пишут, касаясь научного значения работы: «Речь идёт, таким образом, о коренном пересмотре одного из основных и прочно установленных положений современной биологии, лежащих в основе наших представлений о строении, размножении и развитии организмов, в основе учения о наследственности». Никакого пересмотра старых принципов не было. О. Б. Лепешинская к положениям Р. Вирхова добавила дополнительное правило, которое, чтобы стать научной истиной для большинства исследователей, еще должно быть подтверждено независимыми исследователями.
«Считая яичный желток “живым веществом”, Лепешинская вступает в прямое противоречие с Энгельсом». «Живому веществу», о котором авторы критического письма говорят как о реальности, не давая, к сожалению, его определения, посвящена восьмая глава книги. В вопросе о сущности «живого вещества» О. Б. Лепешинская следует ряду зарубежных исследователей, считавших, что «не клетка есть последний морфологический элемент, способный к жизнедеятельности. . ». В таком случае пишет О. Б. Лепешинская (1945, с. 86), «идя логическим путем, мы должны притти к признанию существования живых молекул. Что это за живые молекулы? Какие такие молекулы мы можем назвать живыми? Чем они отличаются от неживых?» – спрашивает она и вот ее ответ. «Несомненно, те молекулы можно считать живыми, которые обладают способностью к обмену веществ, приводящему их не к гибели, и не только к сохранению, но и к размножению через переходные стадии роста». На следующей странице она приводит уточняющее мнение Джилио-Тоза (цитируемого по книге Вериго «Единство жизненных явлений». Одесса, 1912): <… молекулу вещества, способную под влиянием происходящих химических взаимодействий превращаться в две или несколько таких же молекул, мы могли бы признать живой и могли бы называть ее живой молекулой или биомолекулой». Из сказанного понятно, что яичный желток может считаться “живым веществом” только при наличии в нем биомолекул, как они определены выше.
Какова природа этих биомолекул? – об этом стало известно лишь через 10 лет. Это нуклеиновые кислоты и связанные с ними белки. Позже к их числу были отнесены липидные составляющие мембран, а затем прионы.
Не соглашаясь с мнением, что вирусы «происходят от существ, более близких к ним самим, а именно от видимых микробов», О. Б. Лепешинская пишет (1945, с. 88): «Вне всякого сомнения видимые микробы являются более поздней формацией по филогенетической лестнице, чем более простые ультравирусы, и, конечно, эти последние не могли произойти из видимых микроорганизмов более позднего происхождения. Вирусы есть несомненно биомолекулы, стоящие на границе между живым и мертвым. Это и есть “живое существо” и “неживое вещество”, которое только при определенных внешних условиях становится живым, способным к жизнедеятельности…».
Еще один пассаж из критического письма в газету. «В пользу своих представлений о самозарождении клеток и простейших существ она О. Б. Лепешинская приводит на стр. 11 слова Энгельса[4] о том, что “жизнь… есть самопроизвольно совершающийся процесс, присущий, врожденный своему носителю – белку”. Но “самопроизвольно совершающийся” не значит “самопроизвольно зарождающийся”, так что цитирование этой фразы в данной связи свидетельствует только о путанице понятий у самой Лепешинской».
Но почему же? – существенной разницы между этими выражениями я не вижу. При наличии белка жизнь, согласно Ф. Энгельсу, самопроизвольно возобновляется. Образование белка, следовательно, и будет процессом зарождения жизни. Это станет ясным, если продолжить прерванную цитату из «Анти-Дюринга» (1952, с. 77–78): “жизнь… есть самосовершающийся процесс, присущий, прирожденный своему носителю – белку, без которого не может быть жизни. А отсюда следует, что если когда-нибудь химии удастся искусственно произвести белок, то этот последний должен будет обнаружить явления жизни, хотя бы самые слабые”.
Как еще иначе можно интерпретировать высказывание Энгельса, если он субстратом жизни считал белок и, следовательно белок, по Энгельсу, и есть живое вещество. Ф. Энгельс ничего не мог знать о роли нуклеиновых кислот в явлении жизни. Ольга Борисовна одна из немногих в те годы поняла значение нуклеиновых кислот и дополнила Энгельса (естественно не афишируя этого): жизнь есть форма существования белковых тел и нуклеиновых кислот.
Среди подписавшихся специалистом по работам Ф. Энгельса был Б. П. Токин. Он уже до войны критиковал О. Б. Лепешинскую, которая, по его мнению, «неправильно истолковывая Ф. Энгельса, представляет его в роли своего сотрудника» (Токин, 19366, с. 167). В том же номере журнала «Под знаменем марксизма» Б. П. Токин (1936а, с. 118) подробнее коснулся ошибок авторов, обращающихся к классикам марксизма: «Некоторые авторы приводят некстати следующее известное место из работ Энгельса:
“Бесклеточные начинают свое развитие с простого белкового комка, вытягивающего и втягивающего в той или иной форме псевдоподии…” (нет необходимости воспроизводить всю цитату из «Диалектики природы», приведенную Б. П. Токиным).
«Известно, – комментирует Б. П. Токин – что некоторые иллюстрации замечательных мыслей Энгельса устарели, однако это нисколько не умаляет значения блестящих идей Энгельса».
Бесклеточные в понимании Ф. Энгельса и его современников – это формы, лишенные ядра, т. е. формы, соответствующие прокариотам. Поэтому ни в 1936 г., ни в 1948 г. Ф. Энгельс не ошибался. И это не могло укрыться от тех партийных покровителей О. Б. Лепешинской, которые стали заниматься ее делом. Я не исключаю, что подняли документы конца 1920-х гг., когда остро стоял вопрос о том, был ли Энгельс ламаркистом. В тех дискуссиях Б. П. Токин проявил себя с нелучшей стороны (см. гл. 5). В 1936 г. повторилось то же самое. Вместо защиты классика марксизма со стороны коммуниста, бессодержательные высказывания о нем, подрывающие его авторитет. Какие-такие замечательные мысли Энгельса иллюстрирует устаревшее понятие бесклеточных – об этом Б. П. Токин ничего не говорит. Если примеры, использованные Энгельсом, устарели, то и его замечательные мысли, лишившись иллюстративного обоснования, становятся пустыми. Короче несерьезное отношение к работам Ф. Энгельса проявил Б. П. Токин. То же самое повторилось еще раз в письме тринадцати.
По политическим соображениям О. Б. Лепешинская не могла сослаться на книгу А. М. Деборина (1929), который также, как и она, прочитал и понял Энгельса. А. М. Деборин (с. 163), придерживаясь точки зрения Ф. Энгельса о «живом» белке, пишет: «Жизнь есть особая категория для обозначения особого вещества с характерными для него свойствами и формами движения» (выделено в подлиннике). Видимо, также под влиянием работ Ф. Энгельса концепцию «живого» белка разрабатывал венгерский коммунист Э. С. Бауэр (Баур), работавший в нашей стране. Эту концепцию он изложил в своей знаковой на то время книге «Теоретическая биология» (1935). О. Б. Лепешинская также по политическим соображениям не могла сослаться на эту и ранее вышедшую (Бауэр, 1930) книги.
Теперь о политической стороне отзыва на книгу. В научных кругах все знали, кто такая О. Б. Лепешинская. Это очень хорошо знал и Б. П. Токин. В упомянутой выше рецензии на выступления Ю. Шакселя и О. Лепешинской о последней Б. П. Токин сказал всего лишь две фразы. Одну из них мы уже приводили, а вторая звучит так (1936, с. 167): «Поскольку речь идет об образовании de novo клеток современных организмов, являющихся продуктом длительного хода эволюции, дискутировать не о чем, так как такие идеи являются давно пройденным, младенческим этапом в развитии науки и стоят сейчас за её пределами».
Нет ничего удивительного в том, что редакция партийного журнала вынуждена была выступить в защиту старейшего члена Партии (От редакции ПЗМ, 1936, с. 169). Ею, в частности, отмечено, что «лаборатория О. Б. Лепешинской… находилась в составе Биологического института им. К. Тимирязева, директором которого состоял тов. Токин». Поэтому «тов. Токин несет ответственность за работы» О. Б. Лепешинской. «Вместо того чтобы ясно и четко признать эту ответственность, тов. Токин… дает противоречащие друг другу оценки работ Лепешинской… в № 4 «ПМЗ» за 1934 г. тов. Токин писал:
“Интерес представляет открытие О. Б. Лепешинской по вопросу о происхождении клеток из желточных шаров куриного эмбриона. О. Б. Лепешинская считает, что как неклеточные образования (синцитии, симпласты и т. п. ) могут быть дериватом клетки, так и обратно – в ходе онтогенеза многоклеточного организма клетка может возникать из неклеточных образований…(стр. 187)”. Теперь тов. Токин пишет о работах тов. Лепешинской, как о “давно пройденном, младенческом этапе в развитии науки” и что они “стоят сейчас за её пределами” (см. письмо Токина) или как о “возвращении к донаучной фантастике образования лягушек и рыб из тины” (Биологический журнал за 1935 год, стр. 811)… Спрашивается, что же изменилось за период с 1934 года…?».
Отметим важное заключение, сделанное от имени редакции (с. 170): «В то же время налицо попытки тов. Токина дискредитировать тов. Лепешинскую как научного работника. Самым недопустимым в этом отношении является немотивированная оценка работ тов. Лепешинской тов. Токиным в сборнике работ Биологического института им. К. Тимирязева, изданном на немецком языке и рассчитанном на иностранного читателя. Именно здесь тов. Токин, апеллируя к иностранному читателю, навесил ярлык на работы тов. Лепешинской как на “возвращение к донаучной фантастике образования лягушек и рыб из тины”. Лишь позднее эту немотивированную оценку работ тов. Лепешинской тов. Токин повторил в “Биологическом журнале”» (выделено нами).
Здесь я полностью стою на стороне редакции журнала «Под знаменем марксизма». В дополнение к сказанному, приведу положительную оценку работ Лепешинской ведущим советским гистологом Б. И. Лаврентьевым, помещенной также в замечаниях редакции (с. 170): «О. Б. Лепешинская… является высококвалифицированным исследователем. Работы ее, посвященные вопросам оболочек животных клеток и крайне трудному, запутанному о клеточных образованиях дробящихся меробластических яиц, представляет большой интерес. Работы эти, опубликованные на русском и иностранном языках, возбудили живую дискуссию… Следует подчеркнуть, что исследования эти оригинальны и показывают большую пытливость научно исследовательской мысли О. Б. Лепешинской».
Как видите, скандальная история с критикой О. Б. Лепешинской тянется с довоенных времен. Причем в отношении одного из подписавшихся – Б. П. Токина – было прямо сказано, что так, как он поступил, недопустимо. Эта ситуация очень напоминает эпизод с публикацией генетиком А. Р. Жебраком в журнале «Science» бездоказательной критики двух академиков, Т. Д. Лысенко и М. Б. Митина. Тогда, напомним, эта критика обернулась для А. Р. Жебрака судом чести. Как ленинградские ученые, зная по опыту, что за О. Б. Лепешинскую есть, кому постоять, отважились на политическое выступление против старейшего большевика?
О. Б. Лепешинская – заслуженный партийный человек. Говорят, что она стала заниматься проблемой «живого вещества» в 50 лет. Ведь можно было все объяснить ее возрастом, потерей на старости лет критического восприятия научных данных. Зачем нужно было выступать с уничтожающей, как написал В. Я. Александров (1993, с. 38), коллективной критикой малотиражной книги (1000 экз. ) и входить тем самым в конфликт с ее партийными покровителями и сочувствующими? В. Я. Александров (с. 38) приводит заключительный вывод, к которому пришли авторы критической статьи в газете «Медицинский работник» (выделено нами): «Выдавая совершенно изжитые и поэтому в научном отношении реакционные взгляды за передовые, революционные, Лепешинская вводит в заблуждение широкого читателя и дезориентирует учащуюся молодежь. Вопреки добрым намерениям автора, книга ее объективно могла бы только дискредитировать советскую науку, если бы авторитет последней не стоял так высоко. Ненаучная книга Лепешинской – досадное пятно в советской биологической литературе».
Чтобы потом не возвращаться к этому вопросу, сразу скажем, что в реакционных взглядах была обвинена не только О. Б. Лепешинская, но и Ф. Энгельс. Повторялась ситуация конца 1920-х гг., когда ламаркисты, прикрывая свое направление от нападок генетиков, апеллировали к работам Энгельса. Но тогда генетикам удалось обвинить ламаркистов в искажении взглядов Энгельса (см. гл. 5). Здесь же ситуация была прямо противоположной – ленинградцы неправильно поняли, и фактически исказили, поскольку не обратились за помощью к философам, взгляды Энгельса. Вернемся, однако, к избранной нами канве изложения.
Если институт нормальной и патологической морфологии АМН СССР, в котором работала О. Б. Лепешинская, допустил публикацию ее книги, значит книга, пусть и спорная имела право на жизнь и не была досадным пятном в советской биологической литературе, как утверждали ленинградцы. Если же из частных разговоров стало ясно, что книга О. Б. Лепешинской является ненаучной, то были непреодолимые причины, заставившие руководство института (директора академика А. И. Абрикосова и его заместителя по научной работе Я. Л. Рапопорта) промолчать по поводу этой книги. В таком случае непонятно, зачем ленинградцам нужно было испытывать на себе эти непреодолимые причины. Поэтому надо выяснить, кто из партийных функционеров побуждал ленинградцев выступить против О. Б. Лепешинской, причем в такой крайне политизированной форме.
Кроме приведенного выше заключения в основном тексте рецензии хватает уничижительных характеристик. Вот примеры: «Весь характер изложения “фактических данных” в книге Лепешинской не оставляет сомнения в том, что автор не только лишен элементарных навыков критического осмысливания фактов и толкования препаратов, но и весьма слабо знаком с биологией вообще и с особенностями изучаемых ею живых объектов, в частности». Или в другом месте: «Несмотря на эволюционную фразеологию, Лепешинская по существу не понимает исторической обусловленности организации живых существ, в частности – клеточной организации… Оперируя “диалектическими” фразами, Лепешинская, однако, проявляет беспомощность в попытках применения диалектического метода к познанию биологических явлений». Это о коммунисте со стажем, который по своему положению должен владеть диалектическим методом. Вот ещё: «советские биологи вполне разбираются в том, что в науке является передовым и прогрессивным, а что – отсталым и реакционным. Своим призывом – изучать “новообразование” клеток из “живого вещества” Лепешинская могла бы, если бы кто-нибудь ей захотел поверить, только толкнуть биологию на ложный путь, обезоружить ее, отвлечь внимание от действительно актуальной проблемы пролиферации клеток и тканей, лежащей в обнове процессов заживления ран, воспалительных и опухолевых разрастаний и т. п. ». Но и в приведенном выше заключении прямо сказано, что она обезоруживает и толкает на ложный путь «учащуюся молодежь». А это тянет на политическое обвинение.
Книга О. Б. Лепешинской вышла в 1945 г. Критика на книгу появилась в 1948 г., причем не в научном журнале, но в газете, т. е. критика кроме научной имела, как мы видели по приведенным выдержкам, политическую составляющую. 13 ученых в неприличной форме критиковали старейшего (с 1898 г. ) члена Партии, представляя его в недопустимой форме обыгрывания слов вместо революционера реакционером по своим взглядам, дискредитирующим советскую науку и тем самым Партию. И от кого идет критика? – в том числе от коммунистов, которые, вступая в Партию, давали клятву беречь ее авторитет. Короче, такая критика – открытый выпад против Партии. Вместо деловой критики по научному делу ругань в адрес О. Б. Лепешинской. Между коммунистами такого не должно быть в принципе.
Здесь мы должны сказать несколько слов о специфике советской науки того периода. В период развернутого строительства социализма в 1930-е гг. многие революционеры не сумели или не захотели перестроиться и оказались не у дел. Не найдя себя в деле строительства нового общества, они пошли в науку и, конечно, не рядовыми ее служителями. К сожалению, большинство из них не имело ни серьезных знаний, ни глубоких навыков практической работы, которые молодые ученые получали, работая под началом своих научных наставников. Между тем уверенность в том, что большевики могут всё, делало их амбициозными сверх меры. Но для этого «могут» надо напряженно работать и работать, что для большинства, учитывая их возраст и непомерные амбиции, составляло проблему. Отсутствие глубоких знаний и невозможность по возрасту их полноценного усвоения они «компенсировали» навыками политической борьбы. Ученые-большевики принесли в науку дух непримиримой борьбы с идеализмом и прочим мракобесием. Когда мы находим у Лепешинской идеологические обвинения в адрес других ученых, то это легко можно списать на ее революционное прошлое. Это стиль жизни революционеров. Но это не к лицу профессиональным ученым выступать с идеологическими обвинениями. Это не их сфера деятельности. В ней они могут ошибаться и ошиблись в понимании того, что хотел сказать Энгельс.
Вот как воспринял это критическое письмо в газету Я. Л. Рапопорт, хорошо знавший О. Б. Лепешинскую и по работе, и как сосед по даче: «В этом письме все исследования Лепешинской подверглись Уничтожающей критике. Они освещались, как продукт абсолютного невежества, технической беспомощности, в результате которой конкретные материалы Лепешинской лишены элементарного доверия».
А ведь чего проще в корректной форме и в научном журнале сказать, «что желточные шары – это, на наш взгляд, полноценные клетки, содержащие ядро и цитоплазму, загруженную желточными зернами, служащими материалом для развивающегося зародыша» (Александров, 1993, с. 38). Что «в живых желточных шарах и в клетках зародышевого диска на ранних стадиях развития отсутствие ядра может быть только кажущимся: большое количество желточных зерен в клетках скрывает ядра от глаз наблюдателя. По мере потребления желтка ядро постепенно выявляется» (это уже из рецензии). Что при растирании гидры могли остаться незамеченными мелкие клетки, которые и могли послужить материалом для последующей регенерации. Что полученные О. Б. Лепешинской результаты с такими серьезными выводами требуют дополнительной проверки и подтверждающих экспериментов на других организмах. Т. е. касаться лишь фактов, оставив политические оценки при себе.
Вот академик Н. Н. Аничков, президент Академии медицинских наук, нашел, что сказать (цитировано по Я. Л. Рапопорту ([1988] 2003, с. 269): «Конечно, желательно накопить как можно больше таких данных на разных объектах… Это – необходимое условие для перехода на принципиально новые позиции в биологии, а фактическая сторона должна быть представлена возможно полнее, чтобы новые взгляды были приняты даже теми учеными, которые стоят на противоположных позициях». Но ведь это было сказано после критики тринадцати, когда удалось разделить ученых на противоборствующие стороны и столкнуть их лбами в ненужной вражде.
Отметим, что комментарии Я. Л. Рапопорта к работе О. Б. Лепешинской отличаются от сделанных в письме тринадцати. Вот что он (с. 263) конкретно сказал о тех же результатах (выделено нами): «Основным объектом ее исследований были желточные шары куриного зародыша, не содержащие клеток и служащие питательным материалом для куриного эмбриона. И вот в этих желточных шарах О. Б. Лепешинская обнаружила образование клеток из «живого вещества». Просмотр ее гистологических препаратов убедил, что все это – результат грубых дефектов гистологической техники».
Так кто же был прав – ленинградцы, в своей рецензии утверждавшие, что Лепешинская просто не заметила ядра, или Я. Л. Рапопорт, сказавший, что желточные шары куриного зародыша не содержат клеток. Это отличается от того, что говорил о желточных шарах в 1954 г. П. В. Макаров, кстати, подписавший письмо и следовательно, до этого придерживавшийся первого мнения: «Желточные шары представляют собой округлые образования, состоящие из белка и жироподобных соединений – липоидов. В них, по данным ряда авторов, содержится ядерное вещество, так называемые нуклеопротеиды, находящиеся в распыленном, диффузном состоянии».
Из сказанного понятно, в чем ценность и необходимость чисто научных рецензий. Ведь если бы ленинградцы отправили рецензию в научный журнал, то в таком виде ее не пропустил бы главный редактор журнала, обычно человек ответственный. Только увидев, что авторы утверждают, что будто бы О. Б. Лепешинская не заметила клеточного ядра, он сразу же спросил, а вы сами-то это ядро видели, и если нет, то предложил бы дать ссылку на работу ученого, который это ядро видел. Понятно нежелание ученых признать теорию «живого вещества» О. Б. Лепешинской. Она не отвечала всему строю теоретической биологии. В конечном итоге ленинградские ученые оказались правы. Но они не сумели выяснить в чем конкретно с научной точки зрения ошибалась Ольга Борисовна. До войны об этом говорил Н. К. Кольцов, но и он не мог понять, в каком месте она ошибается и поэтому принял к публикации ее работу в своем журнале. Мы скажем об этом дальше.
Раз на то время не было научных оснований для критики, то лучше было бы вообще ничего не писать. Тем более, что время написания рецензии по горячим следам упущено. В рецензии сказано, что «монография объединяет и обобщает несколько ранее опубликованных работ». Значит критиковать работы О. Б. Лепешинской по живому веществу нужно было еще до войны. И такие работы были, но они, к сожалению, основывались во многом на теоретических соображениях и поэтому не могли поколебать уверенность О. Б. Лепешинской в ее экспериментальных результатах и, следовательно, в ее правоте. В 1936 г. Б. П. Токин писал по поводу работы О. Б. Лепешинской в журнале «Под знаменем марксизма» (с. 167): «Дискутировать не о чем». О. Б. Лепешинской надо было разъяснить содержание полученных ею экспериментальных результатов, а Б. П. Токин говорит, что здесь нет предмета для обсуждения.
Обстоятельный разбор работ О. Б. Лепешинской был дан в 1939 г. нашими ведущими гистологами А. А. Заварзиным, Д. Н. Насоновым и Н. Г. Хлопиным. Но и он грешит тем же недостатком, поскольку основное в нем – попытка показать теоретическую несостоятельность идеи происхождения клетки из живого вещества. Авторы (с. 85) отметили «ошибочное, методологически совершенно неправильное [со стороны О. Б. Лепешинской] противопоставление “живого вещества” клетке… проблема возникновения живого вещества есть одновременно и проблема клеточной его организации… Живое вещество в современной обстановке есть вещество клеточного тела в его так или иначе организованном виде. Всякое иное представление о живом веществе будет чистейшей метафизикой. Такая метафизическая посылка и лежит в основе всех работ О. Б. Лепешинской…». Или в другом месте (с. 89): «И вот этот-то фактический материал [О. Б. Лепешинской] призван ниспровергнуть одно из основных положений современной цитологии, согласно которому ядра преемственно происходят из ядер посредством их кариокинетического деления, и убедить нас в возможности новообразования ядер из цитоплазмы».
С этим теоретическим положением невозможно не согласиться. Но остается вопрос, как поступить с экспериментальными данными О. Б. Лепешинской. Вот что об этом пишут авторы критического довоенного выступления (с. 87). «Говоря о наблюдениях своей сотрудницы Тепляковой, пользовавшейся фельгеновской реакцией, Лепешинская совершенно забывает тот хорошо известный факт, что, наряду с нуклеальной реакцией, существует еще так называемая плазмальная реакция, даваемая некоторыми цитоплазматическими включениями, в частности, желточными зернами, которые не имеют ничего общего с хроматином ядра. Поэтому не приходится удивляться, что в некоторых желточных шарах, не содержащих ядра, получается диффузная положительная фельгеновская реакция. Делать вывод о наличии в протоплазме мелкораспределенного хроматина или тимонуклеиновой кислоты, по меньшей степени, неосмотрительно» (выделено нами).
Казалось бы вот на этом в первую очередь необходимо было заострить внимание и попытаться выяснить, какой же материал окрасила в желточных шарах сотрудница О. Б. Лепешинской – нуклеиновые кислоты или нечто иное. Но несколькими строчками ниже авторы снимают с повестки дня этот вопрос: «Наконец, ряд наблюдавшихся автором [т. е. О. Б. Лепешинской] картин может быть проще всего объяснен не как разные моменты пресловутого прогрессивного развития клеток из желточных шаров, а как разные стадии хорошо известного процесса дегенерации этих последних».
О. Б. Лепешинская, напомним, утверждала, что из желточных шаров с диффузным распределением ядерного материала в результате постепенной концентрации последнего в компактное ядро образуется клетка. Критики ее взглядов, напротив, говорят, что здесь имеет место постепенный распад клеток с дезинтеграцией ядра и потерей нуклеарного материала. Понятно, что авторы, говоря о специфике фельгеновской реакции и возможности распада желточных шаров, очертили научную проблему, которую они, к сожалению, сами решать не стали. И поэтому их критика не достигла цели.
Отметим также, что говорить о желточных шарах как клетках было ошибкой, что выяснилось в середине 1950-х гг. Иными словами, ошибались здесь обе стороны. Эта обоюдная ошибка уже после войны перекочевала в книгу О. Б. Лепешинской и в критическое письмо 13 ленинградских ученых в газету «Медицинский работник».
В разбираемой довоенной статье трех авторов также был высказан ряд ненаучных выпадов в отношении О. Б. Лепешинской. «Ее подход – пишут они (с. 94) – совсем не революционный, а просто невежественный». Вот еще (с. 93): «Таким образом, во всех этих работах [О. Б. Лепешинской] вместо точных научных фактов читателю преподносятся плоды фантазии автора, фантазии, стоящей на уровне науки конца XVIII или самого начала XIX века. Или в конце стать-и(с. 96): «Настоящей статьей мы выполняем… тот “долг каждого советского ученого”, который заключается в том чтобы не умалчивать [об ошибках], а немедленно сделать конкретные, вполне определенные в этом направлении и точные указания, чтобы государственные средства не тратились на “ненаучную фантазию”». Напомню, что после войны О. Б. Лепешинская за государственные средства разрабатывала рецептуры содовых ванн для жен высокопоставленных партийцев в санатории «Барвиха» и на это разбазаривание казенных средств снисходительно смотрели медицинские власти. Не исключено, правда, что кому-то эти ванны помогли.
Могут сказать, что Лепешинская также не выбирает выражений, которые у нее звучат еще более резко и часто с политическими обвинениями в адрес своих оппонентов. Но мы уже сказали, что для революционеров это стиль жизни и с этим надо просто смириться.
Прозвучал упрек и в адрес ученых работавших с О. Б. Лепешинской, а именно в том, «что своим попустительством те способствовали тому, что О. Б. Лепешинская могла развивать свою ненаучную деятельность столько времени, и не сумели направить её энергию по Руслу какой-нибудь другой, действительно научной проблемы». Мне понятны мотивы ученых, обвиненных в попустительстве: не хотели связываться, поскольку речь шла об уважаемом коммунисте. Но в таком случае, зачем нужно было возвращаться к этому? Если уже до войны всё нужное было сказано. И не было бы оснований партийным товарищам защищать О. Б. Лепешинскую и организовывать по этому поводу специальную научную сессию. А ведь по факту защищали они ее от политических нападок ученых, продемонстрировавших к тому же пример групповщины. Ведь и ленинградские партийцы примерно в это же время были осуждены, в первую очередь за групповщину.
Поскольку рецензия была напечатана в газете, то она не могла не получить одобрения партийных властей. И это наводит на мысль, что партийные власти и были заказчиками и организаторами запоздалого выступления 13 ленинградских ученых против московского ученого, которого по рекомендации тех же партийных властей возьмет под свою защиту руководство московского института, в котором станет с 1949 г. работать О. Б. Лепешинская. Научные рецензии дело индивидуальное. А здесь отчетливое проявление групповщины. Почему среди рецензентов не было московских ученых. Возможно, что организаторам научной сессии по живому веществу в Агитпропе важно было столкнуть между собой ленинградских и московских ученых. Не исключено, однако, и то, что партийным чиновникам не удалось склонить к этому А. И. Абрикосова, местью которому могло стать закрытие его института. В итоге только ленинградцев удалось спровоцировать на выступление, а москвичам, как считал Я. Л. Рапопорт, выкрутили руки, чтобы они поддержали критикуемого ленинградцами московского ученого.
Я думаю, что в разбираемом критическом письме ленинградских ученых главной мишенью была не О. Б. Лепешинская, но Т. Д. Лысенко. Дело в том, что Т. Д. Лысенко поддержал О. Б. Лепешинскую, написав к ее книге положительное предисловие. И непозволительная резкость и жесткость критических выпадов в отношении О. Б. Лепешинской имела своим адресатом Т. Д. Лысенко. Это не только О. Б. Лепешинская, но и Т. Д. Лысенко «выдает… реакционные взгляды за революционные…, вводит в заблуждение широкого читателя и дезориентирует учащуюся молодежь». Это Т. Д. Лысенко «дискредитирует советскую науку».
Когда после осечки с А. Р. Жебраком (см. Шаталкин, 2015), стало ясно, что генетиков больше не удастся склонить к выступлениям против Лысенко, то пришлось привлечь к борьбе с ним всех других биологов. В Москве уговорили выступить против Лысенко академика И. И. Шмальгаузена и других биологов по проблемам, не имевших к генетике никакого отношения. Ленинградских ученых убедили написать против О. Б. Лепешинской, сыграв на том, что их рецензия будет также говорить о невежестве Лысенко. Политики уговорили биологов вступить в борьбу с Лысенко. Неужели им стало обидно за советскую науку, оказавшуюся в руках невежды? Но этот ли мотив определял их действия, когда они убеждали, а то и принуждали биологов выступить против Лысенко? Я думаю, что Т. Д. Лысенко был не главной мишенью: удар наносился по Сталину как вождю советского народа. К этому вопросу мы вернемся в гл. 5.
Почему Т. Д. Лысенко решился поддержать книгу по теме, далекой от его собственных научных интересов. Отметим, что работы Т. Д. Лысенко не упоминаются в книге. Я не согласен с оценкой Я. Л. Рапопорта (с. 268), который, касаясь «открытия» О. Б. Лепешинской, сказал, что, «вероятно, единственным убежденным, верующим невеждой, был академик Т. Д. Лысенко (Кстати, убежденным сторонником О. Б. Лепешинской был проф. М. М. Невядомский, который с начала 1930-х годов развивал близкие идеи в изучении раковых клеток; лаборатория М. М. Невядомского была закрыта после смерти Сталина). «Открытия» О. Б. Лепешинской были состряпаны из тех же теоретических предпосылок и из той же системы Лысенко: эти два «корифея» нашли друг друга». На мой взгляд Т. Д. Лысенко просто подстраховался, заручившись поддержкой О. Б. Лепешинской и стоящих за ней высокопоставленных партийных товарищей и убежденных коммунистов, т. е. принципиальных в своих оценках старых большевиков. С 1944 г. Агитпроп через А. Р. Жебрака начал враждебную кампанию против Т. Д. Лысенко. В такой ситуации Т. Д. Лысенко ничего не оставалось как искать поддержки авторитетных коммунистов.
В. Н. Сойфер (1998) представил дело с книгой О. Б. Лепешинской так, что будто бы книгу еще в рукописи одобрил Сталин. При этом он ссылается на саму О. Б. Лепешинскую. Это как бы объясняет, почему предисловие к книге поспешил написать Т. Д. Лысенко. Это объяснение принял С. Э. Шноль (2010, с. 360–361): «В отравленной атмосфере гибели научной мысли стали появляться чудовища. (Офорты Гойи “Сон разума порождает чудовищ”) Безграмотная 80-летняя старуха Ольга Борисовна Лепешинская заявила, с одобрения Сталина, что ею давно открыто образование клеток из бесформенного “живого вещества”… Более 70-ти профессоров, протестовавших против этого бреда, были изгнаны из научных учреждений и университетов». Перед этим С. Э. Шноль разбирал воззрения Т. Д. Лысенко, которому, таким образом, и вменяется в вину уничтожение научной мысли. Значит, главным врагом науки в СССР в глазах нынешних комментаторов являлся Т. Д. Лысенко; выступление О. Б. Лепешинской было явлением вторичным. Поэтому мне кажется, что критическое письмо 13 имело адресатом в первую очередь Т. Д. Лысенко и лишь во вторую очередь О. Б. Лепешинскую. Протестовало 13 ученых; среди них были пострадавшие. Откуда взялись сведения о 70 изгнанных ученых я не знаю.
Я не склонен доверять словам О. Б. Лепешинской о роли Сталина в судьбе ее книги. Она заинтересованное лицо. Если бы история с книгой происходила так, как утверждала О. Б. Лепешинская, тогда партийные функционеры остереглись бы подталкивать ленинградских ученых к тому, чтобы те написали «уничтожающий» отзыв на ее книгу.
Критика О. Б. Лепешинской в газете появилась 7 июля 1948 г. А 31 июля того же года начала работать сессия ВАСХНИЛ, на которой были осуждены вейсманисты-морганисты. Ученые, подписавшие письмо против О. Б. Лепешинской не знали об этом, иначе они бы не стали подписывать письмо или отозвали свои подписи. Не исключено, что роковое число 13 появилось только потому, что один из подписавшихся что-то прослышав о грядущей сессии в письменной форме потребовал снять свою подпись. Чтобы подписавшиеся не разбежались, тем, кто в партаппарате курировал это дело, пришлось срочно публиковать письмо. Время составления письма также вызывает сомнения. Лето не самая удобная пора для коллективных писем, ученые в отпусках, сидят на дачах. После неудачного антилысенковского доклада перед секретарями обкомов по идеологической работе Ю. А. Жданов был отстранен от всех дел, связанных с мичуринской биологией. Кто в таком случае уговорил ленинградских ученых выступить с запоздалой критикой работы О. Б. Лепешинской летом 1948 г. Более вероятен сценарий, что письмо тринадцати было написано ранее, в период активных антилысенковских мероприятий, проводимых Агитпропом, т. е. зимой или ранней весной 1948 г. В этом случае письмо тринадцати было отправлено в газету с недобрыми намерениями по распоряжению тех партийных функционеров, которые уже знали, что будет сессия ВАСХНИЛ и какими будут ее последствия для ученых. В отсутствии А. А. Жданова они «убедили» ленинградцев опубликовать письмо. Поэтому и опубликовано письмо оперативно, в газете, а не в научном издании, издательский цикл которого растягивается на месяцы. Дело историков выяснить, кто уговорил ленинградских ученых выступить с критикой книги О. Б. Лепешинской, о которой к 1948 г. все, как бы, уже забыли.
Сами подписавшиеся лишь после августовской сессии ВАСХНИЛ поняли в какую неприятную и опасную историю они попали. 9 и 10 сентября 1948 г. состоялось расширенное заседание Президиума Академии медицинских наук СССР по итогам сессии ВАСХНИЛ. речь на этом заседании шла об очищении медицинских научных учреждений от вейсманистов-морганистов. По итогам заседания Президиум АМН принял решение «освободить проф. А. Г. Гурвича от обязанностей директора Института экспериментальной биологии… Пересмотреть структуру и направление научной деятельности Института экспериментальной биологии с позиций мичуринского учения».
На этом заседании выступила О. Б. Лепешинская с резкой критикой «идеалистических шатаний» вирховианцев в советской науке. Тон выступивших ученых, критиковавших ранее О. Б. Лепешинскую, теперь кардинально изменился. Так, академик Н. Г. Хлопин сказал, обращаясь О. Б. Лепешинской (цит. по: Сойфер, 1998, с. 84): «… нельзя приклеивать обидные ярлыки всем тем, кто не согласен с вами, кто дискутирует по поводу выдвинутых вами неверных теоретических положений. Я не согласился и не соглашусь с вашим мнением о том, что при существующих ныне условиях клетки могут возникать из какого либо бесструктурного вещества» (выделено нами). Н. Г. Хлопин безусловно прав, порицая практику навешивания обидных ярлыков в научных спорах. Но в этом он не самокритичен. Ведь чуть более двух месяцев назад обидные ярлыки в адрес О. Б. Лепешинской шли и от него. Он был также прав, что она исходила из неверных теоретических положений. Но в письме речь шла о том, что она не заметила клеточное ядро.
Резюмируем сказанное. Ленинградские ученые в письме в газету утверждали, что желточные шары должны иметь ядра. А. Л. Рапопорт говорил, что желточные шары не имеют ядер, т. е. в какой-то части солидаризировался с мнением О. Б. Лепешинской. И скорее всего А. Л. Рапопорт выражал не только свое личное мнение. Не исключено, что высказывались и другие суждения на этот счет. Т. е. опыты О. Б. Лепешинской требовали экспериментальной проверки независимыми экспертами. В порядке самокритики Д. Н. Насонов в июне 1950 г. говорил, что в своем письме в газету они ограничились «чисто словесной критикой Лепешинской, без приведения собственных экспериментальных данных по этому вопросу» (Александров, 1993, с. 41). В итоге опыты О. Б. Лепешинской начали экспериментально проверяться уже после смерти Сталина.
Но ведь с проверки опытов О. Б. Лепешинской, если Вы не согласны с ее выводами, и надо было начинать. Тогда критический вывод был бы принципиально иным и он не требовал бы привлечения к рецензии лиц, которые самой проверкой опытов О. Б. Лепешинской не занимались. Критики могли бы ограничиться простой констатацией фактов: проведенные нами проверочные эксперименты не подтверждают данные О. Б. Лепешинской, желточные шары содержат ядра. И тогда не надо было бы насыщать рецензию политическими выпадами против О. Б. Лепешинской, прямо обвинять ее в том, что она из революционера превратилась в реакционера.
В отзыве тогда была бы просто констатация научного факта, а именно, что мы, ленинградские ученые, не подтвердили результатов экспериментов О. Б. Лепешинской. Понятно, что из этого заключения не следует, абсолютная правота ленинградских ученых. Но сама проблема перешла бы в чисто научное русло – в сравнение и обсуждение московских и ленинградских результатов. И если бы при этом были выявлены какие-то методические погрешности в экспериментах О. Б. Лепешинской, то в этом не было бы чего-то такого недопустимого с политической точки зрения. В науке никто не застрахован от ошибок. Но в этом случае сама работа О. Б. Лепешинской уже не расценивалась бы как досадное пятно в истории советской науки. И не было бы трудных годов советской биологии, связанных с именем О. Б. Лепешинской.
1. 4. Московское совещание
Перейдем теперь к московскому совещанию по проблеме живого вещества и развития клеток и попытаемся понять, кто был организатором этой направленной против ленинградцев «научной» сессии, «какие силы – по словам Я. Л. Рапопорта (с. 271) – заставили подлинных ученых (не все среди выступавших были отпетые проходимцы и подонки) сыграть предложенную им позорную роль». «Здесь – продолжил повествование Я. Л. Рапопорт – действовали факторы и психологические, и социально-политические. Психологический заключался в отборе людей уступчивых воле государственных олимпийцев, не могущих ей противостоять, податливых на указания свыше и исполнителей их».
Я. Л. Рапопорт писал свои воспоминания как непосредственный свидетель горьких событий тех лет, которые затронули и его. При всем этом я не могу согласиться с его оценкой московского совещания. Необходимы серьезные доказательства того, что ученых заставили сыграть в этом совещании позорную роль. Я. Л. Рапопорт ([1988] 2003, с. 271–272) считает, что такова была общая политика государства, направленная на создание из общества, существовавшего на основе исторически сложившихся нравственных норм, управляемых «винтиков»: «Вовлечение в заведомо подлую роль было частным случаем системы массового развращения необходимых сталинскому режиму представителей науки, литературы, поэзии, живописи, музыки и др., ликвидации традиционных представлений о благородстве, доброжелательности, мужестве, честности, всего того, что входит в краткое, но емкое слово – совесть. Благодаря этой системе корона гениальности была возложена на вздорную, невежественную голову. Послушные воле организаторов спектакля, все единодушно признали исследования О. Б. Лепешинской доказательными для их революционизирующего значения в науке. Сама она признана великим ученым, что было подтверждено присуждением ей Сталинской премии 1-й степени и избранием в академики Академии медицинских наук. Так была оформлена революция в биологических науках, так завершился акт уже не индивидуального, а коллективного бесстыдства. Это торжество мракобесия произошло в 1950 году, в век атома, космоса и великих открытий в области биологии! “Живое вещество” победило разум».
Я. Л. Рапопорт вполне осознает, что подлинные ученые и навязанная им позорная (подлая) роль понятия несовместимые. Подлинные ученые не могут быть развращены политикой государства, направленной на это. А отсюда вытекает единственная альтернатива. Либо на совещании не было подлинных ученых, либо никакой позорной роли никто им не навязывал. Я склоняюсь к принятию второй альтернативы, но при этом не исключаю случаев, когда власти в своей внутригосударственной политике могли практиковать в том или ином объеме первую альтернативу. Позиция, с которой выступил Я. Л. Рапопорт, мне вполне понятна. Когда многого не знаешь, то поневоле начинаешь упрощать; в голову лезут недобрые мысли, созвучные с трагизмом ситуации.
Вот о том же пишет еще один автор (Романовский, 2004, с. 69); «Коммунисты все свои проблемы решали в точном соответствии с марксистско-ленинским учением… Уничтожили (физически) реальную и надуманную оппозицию в интеллигентской среде. Сделали интеллигенцию своей, трясущейся от страха, забитой и на все готовой. Иными словами, осуществили невиданный ранее процесс общегосударственной мутации интеллектуального слоя нации. Зная все это, не очень верится в слова мемуариста[5], бывшего даже живым свидетелем описываемых нами событий: “Страдали больше всего те, кто, обладая высокой нравственностью, чувством долга и тревожащей совестью, все же вынуждены были писать или произносить слова, антинаучная и вредоносная сущность которых была для них очевидна”. Главное, что они произносили эти “нужные” слова, произносили безропотно, а то, что они при этом “мучились совестью”, ничего не меняло. Это было их проблемой. Они уже были типичными советскими интеллигентами, к тому же “гнилыми”».
Мне такое отношение к своим, т. е. к нашей интеллигенции не нравится. Но если ты берешься обсуждать такие щекотливые темы, то надо самому разобраться, а не ссылаться на мемуариста. Я нисколько не сомневаюсь в искренности и правдивости свидетельств В. Я. Александрова. Но он имел в виду своих современников, которые в отсутствии информации также вынуждены были выстраивать наиболее простые и вместе с тем понятные для себя и других объяснения в духе борьбы плохих с хорошими.
По этой же теме высказался В. Н. Сойфер (2002, с. 735): «Поддержали Лепешинскую также многие грамотные ученые (например, биохимик С. Е. Северин вознес хвалу Лепешинской и ее идеям)… Недавно С. Э. Шноль (1997) даже пропел оду этим людям, восславил их угодничество перед ничтожными, но сильными в данную минуту людишками, назвал их “героизм” чуть ли не житейской мудростью. Если говорить о моральных ценностях, то с приводимыми Шнолем положительными сторонами конформизма согласиться невозможно».
Давайте посмотрим, что писал про конформизм советских ученых С. Э. Шноль в своей книге «Герои, злодеи, конформисты в российской науке» (2010). Вот его слова из Предисловия (с. 13):
«В истории российской науки драматические траектории движения мысли часто сочетаются с трагическими судьбами исследователей. Проблемы нравственного выбора, судьбы героев и преступления злодеев наполняют эту историю. Поэтому в первом издании эта книга имела название “Герои и злодеи российской науки” (1997). Но это название не вполне удачно. Жизнь науки не определяется лишь противоборством героев и злодеев. Возможно, в парадоксальном смысле истинными героями науки являются конформисты. Это особенно верно в условиях тоталитарных режимов… Выдающимися конформистами были президент Академии наук А. Н. Несмеянов, мои высокочтимые учители С. Е. Северин и В. А. Энгельгардт. Участь конформистов трудна. Им приходится сотрудничать со злодеями и терпеть неодобрение современников. Да и грань между героизмом, конформизмом и злодейством тонка.
Но утешеньем им может быть сознание выполненного долга – спасенье тех, кого такой ценой удается спасти, долга сохранения важного для всех нас “общего дела”. Я не раз буду далее обращаться к этой теме. Но сказанного достаточно, чтобы объяснить, почему во втором издании названием книги стало: “Герои, злодеи, конформисты в российской науке”. Название и в таком виде несовершенно. Не обязательно посвящать очерки всем злодеям. Не обязательно упоминать всех выдающихся конформистов. Но героев – героев надо бы назвать всех. Сколько бы не отмечать незаменимость конформистов, именно герои – первые фигуры в истории» (выделено нами). »
Конформизм бывает разный. В данном случае, однако, С. Э. Шноль ведет речь о конформистах, попустительствующих злодейству. Поэтому В. Н. Сойфер и высказал вполне справедливые, на наш взгляд, сомнения в отношении позиции С. Э. Шноля. Поскольку С. Э. Шноль проводил параллели между Дж. Бруно и Галилеем, ставшими жертвами папской инквизиции, и советскими учеными, ставшими жертвами «сталинской инквизиции», то этот конформизм, содействующий Распространению в обществе злодейства, ничем нельзя оправдать.
Рассмотрим проблему конформизма ученых, поставленную С. Э. Шнолем, с общих позиций. Сразу возникает вопрос. Не слишком ли упрощают картину жизни уважаемые авторы, рисуя мир в черно-белых тонах. Среди ученых тех лет они у нас видят лишь героев и злодеев. С. Э. Шноль позже добавил конформистов, да и те оказались на самом деле всего лишь разновидностью злодеев. Понятно, что такая картина, исполненная двумя цветами – черным и белым – не может иметь ничего общего с реальностью. А если ученый не желает быть революционером, т. е. не хочет воевать с властями и поэтому занимается исключительно наукой, значит он раболепствует перед ними. А если он считает, что конфликтующий с властями ученый не прав, и на этом основании встанет на сторону власти, то тогда С. Э. Шноль и В. Н. Сойфер назовут его злодеем, а выступавшего против власти по конфликтному вопросу героем. У властей может быть своя правда, которую борющиеся с властью не хотят понять, признать ее законной и, основываясь на этом, временно поступиться какими-то своими интересами или свободами. С. Э. Шноль называет Лысенко злодеем, а Жебрака героем. Но это не Лысенко боролся с Жебраком, а наоборот, второй в конце войны добивался от властей, чтобы те выгнали Лысенко с должности директора Института генетики на том основании, что тот придерживается давно опровергнутого ламаркизма и тем самым мешает развиваться реальной науке – генетике. Понятно, что если изгнать из Института генетики ламаркистов во главе с директором института Лысенко, то освободится много ставок для истинных ученых-генетиков. Власти тогда не поддержали требования Жебрака и, как теперь выясняется, были правы. Многие научные положения, защищавшиеся Лысенко, ныне получили признание или получат таковое позже, в чем я не сомневаюсь. Отсюда следует, что власти в 1964 г. совершили ошибку, запретив фактически мичуринскую генетику. Следуя С. Э. Шнолю, Т. Д. Лысенко и его последователей, боровшихся за истину и ушедших непобежденными, чему могут служить книги селекционера П. Ф. Кононкова (2010, 2013), можно считать героями, а генетиков, которые, как выясняется, боролись против истины, злодеями. Но это в системе упрощенных дистинкций С. Э. Шноля. Реальная жизнь такой простой быть не может.
Теперь посмотрим на затронутую проблему с другой стороны. Справедливо ли обвинение наших ученых в аморальном конформизме, связанном с попустительством и тем самым с поддержкой злодейства? Этот вопрос не может иметь общего решения, поскольку зло индивидуально и проявляется в конкретной ситуации. Отличить злодейство от незлодейства в тех случаях, когда и там, и там есть пострадавшие, можно, используя принцип справедливости. Понятно, что этот оценочный критерий не является строгим, неся в себе букет коннотаций от чисто психологических до общественно-политических. К тому же проблема злодейства слишком мифологизирована. И у нас нет уверенности, что можно выяснить, насколько справедливы обвинения тех или иных исторических лиц в злодействе. Поэтому сосредоточим внимание на конформистах. С ними разбираться проще. Нам всего лишь надо прояснить следующий вопрос – выступали ли они против истины ради, как полагает В. Н. Сойфер, «тепленьких местечек» или, как считает С. Э. Шноль, ради своего дела, т. е. ради науки, своих коллег по работе и своих учеников?
Нелицеприятные слова об академике С. Е. Северине, который нас, только что поступивших на Биолого-почвенный факультет МГУ встречал в Большой биологической аудитории 1 сентября 1960 г. приветственной речью и о котором у меня остались самые теплые воспоминания, проф. В. Н. Сойфер приводит и в другой своей книге о советских ученых (1998). Вот лишь одно из его осуждающих заявлений (с. 121):
«Сегодняшним читателям трудно, наверное, понять, зачем понадобилось людям типа академика С. Е. Северина восхвалять Лепешинскую и ее идеи, которые они, конечно, наедине с собой иначе как бредовыми называть не могли. Чтобы понять их, нужно объяснить, как слаб бывает человек, как влияла атмосфера тех лет на поступки людей и учила их уму-разуму, как страх потерять работу или, хуже того, оказаться в лагере диктовал многим из них соответствующий модус вивенди. Кое-кто, оглядевшись внимательно вокруг, понимал, что для того, чтобы преуспеть в занятии тепленьких мест и в получении жизненных благ, нужно ловко, без особого нажима, но и планомерно приторговывать совестью, идеалами, знаниями… Так шел социальный отбор под присмотром партийных начальников. Так получалось, что находились люди, вполне готовые к тому, чтобы без раздумий и копания в душе восхвалять бредовые идеи».
Но как быть тем же сегодняшним читателям, которые, пытаясь понять научное содержание этих бредовых идей, покрываемых и восхваляемых «людьми типа академика С. Е. Северина», не находили в книге В. Н. Сойфера их маломальский анализ. Уже то, что В. Н. Сойфер оставляет «людям типа академика С. Е. Северина» лишь борьбу За «тепленькие места», свидетельствует, что мы имеем дело с черной, злонамеренной пропагандой, направленной против советских ученых и советской науки.
Попробуем разобраться с этими обвинениями советских ученых. У меня сразу возникает вопрос. В отношении чего грамотные ученые, по словам В. Н. Сойфера, должны показывать конформизм, им осуждаемый. С какой такой неправдой их принуждали согласиться или от какой истины они должны были отказаться под нажимом властей, что им пришлось покривить душой. В. Н. Сойфер пишет (см. раздел 1. 1), что их заставили отказаться от клеточной теории, которую власти запретили. Но это же неправда и мы это показали в начале настоящей главы, приведя выдержки из резолюции Совещания по проблеме живого вещества.
В чем конкретно выражалась поддержка Лепешинской участников совещания. Ответов на этот вопрос я не нашел у В. Н. Сойфера. О. Б. Лепешинская считала, что есть не имеющее клеточного строения живое вещество, из которого могут возникать клетки. Живое вещество, таким образом, является центральным понятием доктрины О. Б. Лепешинской. О нем бы и надо рассказать читателю, раз взялся критиковать ученого. Но я не нашел в книгах В. Н. Сойфера (1998, 2002) ответа на вопрос, что такое живое вещество и как его понимала О. Б. Лепешинская.
В этой связи интересную и, я бы сказал, точную оценку второй книги В. Н. Сойфера (2002) дал нобелевский лауреат Джошуа Ледерберг (эта оценка приведена на обложке книги): «Я считаю, что никто лучше не подготовлен, чем Валерий Сойфер, для исследования трагического периода в истории СССР… Сойфер проявил экстраординарные научные качества историка, скрупулезность в документальном анализе и тщательность в раскрытии смысла сохранившихся документов и записей, а также в создании стиля, который буквально завораживает читателя». Ледерберг не упомянул, что Сойфер биолог и ничего не сказал о нем как историке биологии. Мое мнение таково, что В. Н. Сойфер как биолог не был в той же мере скрупулезным и тщательным в разъяснении научной несостоятельности концепций тех авторов, которых он взялся критиковать.
Может быть ученых, выступавших на совещании, заставляли признать как неоспоримый факт существование живого вещества, способного порождать клетки. И это неверно. Фактом концепция живого вещества станет лишь тогда, когда результаты О. Б. Лепешинской будут не только подтверждены наблюдениями других исследователей, но и найдут свое место в общей картине развития организма. В таком случае, на чем В. Н. Сойфер основывал свою критику Ольги Борисовны? Единственное, что я вычитал из его книг, так это его утверждение, что живого вещества нет, поскольку его никто не видел, разумеется, кроме О. Б. Лепешинской. Еще дальше пошли в оценке идей О. Б. Лепешинской некоторые другие ученые (из близких по времени работ см., например, книгу Ю. Я. Грицмана, 1993, с. 57), которые утверждали, что будто бы Лепешинская пытается возродить давно отвергнутую теорию самозарождения, т. е., если быть точным, идею возникновения живого из неживого. На майском совещании на этот момент обратил внимание академик Е. Н. Павловский (Совещание, 1951, с. 90). Не лишнем в этой связи будет привести его точные слова: «Критики, как уже указывалось, считали такую постановку проблемы [защищаемую О. Б. Лепешинской] возвратом к воззрениям о самопроизвольном зарождении организмов. Такое сравнение не ко времени и не к месту. Дело касается возможности становления клеточной структуры из ныне существующей живой материи, которая в своем образовании связана с тем или другим организмом. Складов живой материи, где-либо в природе возникшей самопроизвольно, вне участия живых организмов, мы не имеем, во всяком случае пока они не открыты. Следовательно отпадает и грубое сравнение произведенных исследований с опытами Парацельса, и попытка отбросить самую проблему куда-то назад, в средневековье» (выделено нами).
Вернемся к воспоминаниям Я. Л. Рапопорта. О психологических факторах, связанных с конформизмом ученых, он сказал достаточно подробно. В то же время при разборе социально-политических факторов ограничился двумя примерами. Он, в частности, привел два эпизода, которые недвусмысленно указывают на организаторов сессии. Эпизод, свидетелем которого был Я. Л. Рапопорт, связан с академиком Д. Н. Насоновым, который критиковал работы О. Б. Лепешинской и которому пришлось в конечном итоге сдаться и каяться. Д. Н. Насонов, по словам Я. Л. Рапопорта ([1988] 2003, с. 273), сидел «в холле Академии медицинских наук… и время от времени звонил в ЦК партии заведующему отделом науки Ю. А. Жданову, дожидаясь приема у него и рассчитывая на него». На все звонки Д. Н. Насонова секретарь Ю. А. Жданова отвечал, что тот вышел или на совещании, но обязательно будет. Поэтому любезно просил перезвонить через час. И так продолжалось весь рабочий день. Возникает вопрос, почему Ю. А. Жданов, который до этого лично общался с ленинградскими учеными, побуждая их выступить против Т. Д. Лысенко, вдруг стал недоступным бюрократом? Не был ли он как-то связан с письмом тринадцати и теперь не хотел встречаться с Д. Н. Насоновым, поскольку не мог ему сказать ничего утешительного. Не всё зависело от Ю. А. Жданова.
«Второй раз это было на сессии Академии наук летом в Доме ученых, когда он выступил с покаянием (на покаяние тоже надо было получить согласие власть предержащих, чтобы оно было принято). После покаяния он выскочил в фойе, закрыв лицо руками с возгласами: “Как стыдно!”» (с. 273–274). Значит летом была еще одна сессия, на которой надо было каяться в форме самокритики. Из сказанного ясно, что организовал и майскую, и летнюю сессии Агитпроп.
Мысль о том, что Ю. А. Жданов имел непосредственное отношение к письму тринадцати, косвенно подтверждает В. Н. Сойфер (1998, с. 141): «Оказывается, незадолго до первого совещания по живому веществу и, не зная, что оно готовится, Насонов посетил заведующего отделом науки ЦК партии Юрия Андреевича Жданова… Говорили о разных делах… но непонятно было Насонову, почему Жданов сворачивал разговор на колею, Насонову неприятную: на “труды” Лепешинской… Жданов настоятельно попросил Насонова изыскать время и силы на экспериментальную, самую тщательную перепроверку всего, о чем трубила Лепешинская…».
Эта встреча могла иметь место в конце зимы или весной 1950 г. Сразу возникает вопрос, зачем Д. Н. Насонов поехал в Москву к Ю. А. Жданову. Какие их связывали дела, которые были под силу решить крупному чиновнику Агитпропа. В. Н. Сойфер пишет, что «Во время этой встречи Насонов заручился устной поддержкой Жданова». В чем Д. Н. Насонов хотел заручится поддержкой Агитпропа и почему Ю. А. Жданов настоятельно советовал экстренно перепроверить опыты О. Б. Лепешинской? Ответ более или менее очевиден. Д. Н. Насонова, Ю. А. Жданова и О. Б. Лепешинскую связывало письмо тринадцати. Ю. А. Жданов уже знал, что недовольство в верхах письмом было связано с бездоказательностью критики, которая отвергла результаты опытов О. Б. Лепешинской по чисто теоретическим соображениям. Поэтому Ю. А. Жданов и говорил, что нужно срочно перепроверить эксперименты О. Б. Лепешинской. Д. Н. Насонов, возможно, по чисто русской расхлябанности, видимо, каждый раз находил «объективные» отговорки отложить это дело на следующий день и дождался того, что гром грянул, а материалов с проверкой опытов нет. Тем самым Д. Н. Насонов подвел Ю. А. Жданова. И что тому оставалось теперь делать, кроме как скрываться от Д. Н. Насонова, о чем поведал в своих воспоминаниях Я. Л. Рапопорт. В. Н. Сойфер пишет, Д. Н. Насонов написал несколько писем Ю. А. Жданову, на которые тот не ответил. И это понятно. Не мог Ю. А. Жданов ответить Д. Н. Насонову, что без прямых доказательств, опровергающих экспериментальные данные Лепешинской, помочь ленинградцам теперь не в его силах.
Обратимся теперь к самому совещанию. Вот как описывает подготовку к нему Я. Л. Рапопорт (с. 266). В совещании «приняли участие виднейшие ученые по специальному приглашению, причем выбор приглашенных был, несомненно, тщательно подготовлен и ограничен теми, на кого можно было заранее рассчитывать, что они поддержат признание работ Лепешинской величайшим достижением. Подготовка к конференции была произведена и в отношении документальных материалов Ольги Борисовны. Так как ее собственные препараты, на которых она делала свои сногсшибательные выводы, демонстрировать было нельзя ввиду отсутствия в них даже ничтожных признаков профессионального мастерства, то поручено было профессору Г. К. Хрущову приготовить удовлетворительные в техническом отношении гистологические препараты[6], которые можно было бы выставить для поверхностного обзора в микроскопе». Открыл совещание академик А. И. Опарин, ставший после снятия Л. А. Ор-бели главой отделения биологических наук. «Его выступление было увертюрой к этому спектаклю, разыгранному организованной труппой в составе 27 ученых в присутствии публики (тоже организованной) в количестве более 100 человек. Имена этих артистов заслуживают того, чтобы быть увековеченными; они увековечены в изданном Академией наук СССР стенографическом отчете (изд. АН СССР, 1950 г. ) об этом совещании, назначением которого было одарить мир величайшим научным открытием. Многие из них понимали, конечно, какая позорная роль была им навязана, которую они приняли, хотя и пытались в дальнейшем отмыться от этой грязи».
«Все 27 выступавших единодушно приветствовали направление Лепешинской, среди них академики АН СССР Е. Н. Павловский, Н. H. Аничков (президент АМН СССР, беспартийный), Т. Д. Лысенко (беспартийный), А. Д. Сперанский (член КПСС с 1943 г. ) и действительные члены АМН СССР Н. Н. Жуков-Вережников, И. В. Давыдовский, С. Е. Северин; члены-корреспонденты АН СССР А. А. Имшенецкий, В. Л. Рыжков, Н. М. Сисакян. Выступал и Г. М. Бошьян» (Александров, 1993, с. 33). К этому списку добавим микробиолога В. Д. Тимакова, онкопатолога М. М. Невядомского, цитологов – . А. Н. Студитского, Г. К. Хрущова, К. А. Лаврова, проф. М. А. Барона (заведующего кафедрой гистологии 1 – го Московского медицинского института), генетиков, сторонников Т. Д. Лысенко – А. А. Авакяна, И. Е. Глущенко, Н. И. Нуждина, медика В. А. Неговского, философов – В. И. Кремянского и П. П. Богдаренко, электронного микроскописта С. Л. Пупко.
С. Э. Шноль (2010, с. 528) в очерке о С. Е. Северине пишет: «В 1949 г. С. Е. [Северин] стал академиком-секретарем Медико-биологического отделения АМН СССР. Это была тяжелейшая должность. Это ему по должности приходилось… поддерживать безумные работы Лепешинской… Ему, естественно, ясна вздорность работ Лепешинской. Но он ничего против начальства не делает». Когда дают такого рода резкие характеристики, то, конечно, желательно пояснить молодому читателю – а книга адресована в первую очередь ему – в чем заключается эта вздорность работ Лепешинской.
В. Я. Александров (1993, с. 35) пишет: «Проф В. М. Карасик спросил Аничкова, как он все же мог выступить с восхвалением Лепешинской. На это Николай Николаевич, грассируя, ответил: “Давление на нас было оказано из таких высоких сфер, что мы извивались как угри на сковородке”». Здесь, конечно, надо подчеркнуть, что речь в данном случае идет о руководителях. И сопротивляться давлению это значит поставить под удар не только себя, но и учреждения, которыми руководили ученые. Памятные события августовской сессии ВАСХНИЛ и ее последствия для научного сообщества были у всех на глазах. Поэтому мне трудно согласиться с осуждающей позицией Я. Л. Рапопорта. Это одна сторона дела. Другая касается истинных взглядов ученых, выступавших на совещании. Если профессор Г. К. Хрущов, как пишет Я. Л. Рапопорт, сделал удовлетворительные в техническом отношении гистологические препараты, то это является свидетельством добротности наблюдений О. Б. Лепешинской. И как можно не верить результатам, подтвержденным независимым исследователем, с препаратами которого каждый мог ознакомиться на совещании. Я думаю, что и ленинградцы, если и проводили по просьбе Ю. А. Жданова проверку результатов О. Б. Лепешинской, должны были получить такие же препараты, которые показывал Г. К. Хрущов от имени Ольги Борисовны. Поэтому вряд ли можно принять утверждение, что «многие из них понимали, конечно, какая позорная роль была им навязана». Я думаю, что большинство вполне искренне положительно восприняло «открытие» О. Б. Лепешинской. А «отмывались» они, если такое было, под осуждающим давлением образованного общества. Проще сказать, что нас заставили чем объяснить свою позицию, которая заведомо не будет понята и принята, но станет предметом недобросовестного обсуждения на околонаучных посиделках.
Давайте посмотрим, в чем были не согласны с О. Б. Лепешинской ленинградцы в части проведенных ею экспериментов и наблюдений. Они пишут: «По ее [Лепешинской] данным, клетки “ново-образуются” из желточных зерен и желточных шаров при эмбриональном развитии севрюги и куриного зародыша. При этом автор детально изображает и описывает различные стадии дегенерации ядер богатых желтком клетках зародыша вплоть до полного их исчезновения и произвольно располагает эти стадии в обратном порядке, трактуя весь процесс, как “новообразование” ядер в первоначально безъядерных желточных шарах». Г. К. Хрущов, как было сказано, повторил ее опыты и на профессионально сделанных препаратах подтвердил результаты Ольги Борисовны, что имеет место не деградация ядра, но его образование. В этом пункте ленинградцы ошибались.
Второе их критическое замечание касалось «прижизненных наблюдений и съемки процесса новообразования ядер в первоначально безъядерных желточных шарах».
«Однако в данном случае – пишут далее ленинградцы – прижизненные наблюдения не более, а менее достоверны, чем картины на серии срезов. Дело в том, что в живых желточных шарах и в клетках зародышевого диска на ранних стадиях развития отсутствие ядра может быть только кажущимся: большое количество желточных зерен в клетках скрывает ядра от глаз наблюдателя. По мере потребления желтка ядро постепенно выявляется. Это вводило в заблуждение исследователей в середине прошлого столетия, но современному биологу едва ли простительно впадать в ту же ошибку». Оказывается и в этом пункте ленинградцы ошибались. Н. Н. Жуков-Вережников и И. Н. Майский подтвердили правоту О. Б. Лепешинской, проведя микрокиносъемку. Остается последний пункт критики, касающийся регенерации растертой гидры. Но его можно не принимать в рас-чет, поскольку критиками было высказано лишь предположение, что О. Б. Лепешинская могла не заметить мелкие клетки, которые и ста-ли основой регенерации. Сами ленинградские ученые, как явствует из письма, эти опыты с гидрой не проверяли.
Сказанное не значит, что О. Б. Лепешинская была права в своих выводах. Это лишь означает, что в своей критике ленинградские ученые были не правы, представив ошибочные доказательства. Речь таким образом, идет о недобросовестной критике экспериментов О. Б. Лепешинской. Но отсюда также следует, что научная проверка опытов, на основании которых О. Б. Лепешинская пришла к ошибочным заключениям, составляла на то время предмет открытия, которое, к сожалению, было сделано позже, через шесть лет после описываемых трагических событий.
Получается, что О. Б. Лепешинская ошибалась с точки зрения будущих открытий. Но тот же вывод справедлив и в отношении ленинградских ученых. Они ошибались с точки зрения будущих открытий (о них мы скажем в заключительном разделе главы).
Я думаю, что когда ошибки О. Б. Лепешинской были вскрыты, многие за давностью лет уже забыли, о чем писалось в письме 13, тем более в газете, которую специально не будешь искать. И новые результаты были восприняты большинством, как свидетельство правоты ленинградских ученых, пострадавших в глазах этого большинства за то, что осмелились критиковать сталинского протеже. Это накладывало свой отпечаток на воспоминания свидетелей тех лет, которые по существу говорили о своем восприятии тех трагических событий, участниками которых они были. Их повествование поэтому включает большую личностную составляющую, связанную с проявленной к ним или к близким им людям несправедливостью, мотивы которой им были непонятны.
Что касается историков, включая историков науки, то при рассмотрении сложных страниц нашей истории они, на мой взгляд, должны придерживаться канонов науки. Только на этом пути историки способны представить обществу объективную картину действий вовлеченных в конфликт сторон и оценить мотивы, которыми ученые и поддерживающие их политики могли руководствоваться. Между тем нередко историки оказываются заложниками сложившихся в общественном мнении политических мифов о вине конкретных лиц в конфликтах прошлого. Такой подход с наперед заданной политической установкой не имеет ничего общего с наукой. Он ставит под сомнение научную состоятельность разысканий историков и заставляет подозревать их в том, что вместо поиска истины они занимаются пропагандой. Дело в том, что ошибки в оценке исторических событий могут проистекать из-за недостаточной разработанности вопроса, т. е. силу научного «брака», что простительно, но могут быть «результатом» политического расчета, за которым нередко скрывается политический заказ.
Если дело о недобросовестной критике ленинградцев работы О Б. Лепешинской дошло до Сталина, то его реакция вполне прогнозируема. Сталин был нетерпим или, лучше сказать, суров к специалистам, которые берутся за дело, предварительно не изучив его. Поэтому, возможно, президент АМН СССР Н. Н. Аничков, говоря проф. В. М. Карасику об оказанном на него давлении сверху, имел в виду возмущение самого Сталина неквалифицированными действиями ленинградцев. Почему-то это давление пишущие об этом связывают с принуждением ученых поступиться истиной. Хотя имеются куда более простые, понятные для всех объяснения. Академик Н. Н. Аничков, когда в его ведомстве возник серьезный конфликт, наверняка попробовал как-то все уладить миром. Большинство руководителей действовало бы также в аналогичной ситуации. Но возможностей Н. Н. Аничкова оказалось недостаточно, почему он и говорил о серьезности оказанного на него давления.
1. 5. Что такое живое вещество?
С точки зрения современного понимания проблемы О. Б. Лепешинская говорила лишь о возможности возникновения структурированного живого вещества в форме эукариотической клетки из менее структурированного живого вещества, не имеющего форму клеток эукариот. Следует подчеркнуть, что различия между эукариотами и прокариотами не рассматривались в качестве базового представления тогдашней науки. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть работы по системе организмов. Уиттекер (Whittaker, 1959, 1969) в порядке обоснования самостоятельного статуса грибов разделил организмы на продуцентов, создающих органическое вещество, консументов, потребляющих органическое вещество, и редуцентов, разлагающих органику, причем в первую очередь недоступную животным. Этим трем экологическим группам соответствуют растения, животные и грибы. В своей первой системе организмов Уиттекер (Whittaker, 1959) не разделял прокариот и эукариот. Лишь в 1969 г. в новой системе организмов, ставшей, кстати, базовой (классической) для типологических классификаций, он устранил ошибку.
Понимание О. Б. Лепешинской живого вещества в отмеченном выше смысле, безусловно, ошибочно. Сейчас мы знаем, что живого внеклеточного вещества внутри многоклеточного организма нет. А знали ли об этом в описываемое нами время? Чтобы была понятна моя мысль, давайте рассмотрим понятие биологического поля, о котором много говорят, но не в стандартных учебниках. В нашей стране теорию биологического поля разрабатывал А. Г. Гурвич, который был директором Института экспериментальной биологии и которого после августовской сессии ВАСХНИЛ сняли с этой должности. Сам я придерживаюсь мнения о важности биологических полей, но затрудняюсь объяснить, что собой представляют эти поля, если бы меня об этом попросили рассказать. Первые работы по биологическому полю А. Г. Гурвича вышли еще до Октябрьской революции. Стала ли теория биологического поля составной частью физиологии или, например, генетики. Пока нет. Даже сейчас через сто лет после первой публикации А. Г. Гурвича биологическое поле обсуждается во многом как натурфилософское понятие.
Приведем еще один пример. В. Н. Сойфер (1998) характеризует лысенкоизм как псевдонауку. Вот что он конкретно сказал (с. 11): «Пример с [немецким биохимиком] Абдерхальденом отдаленно напоминает лысенкоизм, анализируя который я пытаюсь раскрыть феномен псевдонауки и роли огосударствления науки. Главный научный вопрос, на котором Лысенко и его последователи построили свои доктрины, был вопрос о наследовании благоприобретенных признаков». Принцип наследования признаков ввел в биологию в 1809 г. Ламарк. Надо ли полагать, что не только лысенкоизм, но и ламаркизм был псевдонаучным направлением в биологии, а сам Ламарк, как и Лысенко, псевдоученым? Говорят, что Ламарк лишь ошибался, что выяснилось примерно через сто лет после Ламарка. С другой стороны Т. Д. Лысенко упорствует, защищая ложный ламарковский принцип. Поэтому он лжеученый. Но вот в XXI веке было доказано наследование признаков. Надо ли теперь считать вейсманистов-морганистов, отрицавших принцип наследования, псевдоучеными? Наш ответ отрицательный. Ни Ламарк, ни Лысенко, ни генетики XX века не были псевдоучеными. Вопрос о наследовании признаков на то время не имел научного решения, поскольку данные о возможных механизмах наследования по причине неразвитости науки не могли быть получены. Иными словами, вопрос о наследовании признаков был по своему характеру на то время натурфилософским.
Но и живое вещество было во времена О. Б. Лепешинской такой же натурфилософской категорией. И то, что В. Н. Сойфер (1998), упоминая на многих страницах книги живое вещество, не может дать его характеристику, как раз и является показателем того, что мы имеем дело с натурфилософским понятием. Но и ленинградские ученые не дали разъяснения ключевого понятия критикуемой ими теории. В. Н. Сойфер в отличие от ленинградцев мог бы взять энциклопедический словарь и прочитать, как в нем определяли живое вещество. Читаем в Энциклопедическом словаре (год не указан, но сам (первый) том подписан к печати 9 сентября 1953 г. ): «Живое вещество, сложное, содержащее белок вещество, основным признаком которого является его постоянное самообновление, т. е. биологический обмен веществ; живое вещество составляет основную массу организма, образуя его клетки и неклеточные структуры. Новые клетки образуются не только благодаря делению уже имеющихся клеток, но и из неклеточного живого вещества, что впервые было доказано советским ученым О. Б. Лепешинской».
Живое вещество, согласно энциклопедии, это по существу белок. Так, кстати, оно воспринималось, конечно, не всеми, но многими биологами. Вот мнение А. И. Стукова и С. А. Якушева (1953, с. 141): «Физико-химическое состояние белковой молекулы само по себе является достаточным основанием для тех превращений вещества, которые имеют место в жизненном процессе. Белок не должен вступать в некоторую “надмолекулярную систему”, чтобы приобрести жизненные свойства, ибо он сам выступает в системе развития материи как живое вещество». Авторы здесь следуют известному мнению Ф. Энгельса.
О надмолекулярной белковой системе в качестве живого вещества в нашей стране говорил академик А. И. Опарин. Он также критически относился к идее рассматривать белок в качестве живой молекулы, но не особенно эту тему афишировал, опасаясь обвинений в ревизии взглядов Ф. Энгельса. Во всяком случае со стороны философов недовольство было (см., например, Скабичевский, 1953). Если вы скажете, что в этом как раз и проявился его конформизм, то на это я отвечу, какой же это конформизм, если на то время этот вопрос не мог быть решен. Ведь чтобы поставить точку в вопросе о «живом белке», нужно его синтезировать и посмотреть, будет ли он показывать свойства живого, как предполагал Ф. Энгельс.
Заметим, что А. И. Опарин (1957, с. 211) ошибочно считал, что Ф. Энгельс использовал понятие «белковые тела» не строго в химическом смысле, но как эквивалент термина «протоплазма». Здесь важно подчеркнуть, что живое вещество многими понималось именно в данном значении. Читаем в довоенном учебнике по микробиологии (Федоров, 1940, с. 27): «Протоплазма обладает характерными свойствами живого вещества. Она может беспрерывно обновлять свою внутреннюю структуру, синтетически превращая питательные вещества в сложную и специфическую структуру живого вещества». Но вот, например, Н. К. Кольцов ([1928] 1936, с. 463) эту точку зрения категорически отвергал: «Понятие о протоплазме как о живом веществе есть очевидный логический абсурд».
С точки зрения более поздних научных реалий Н. К. Кольцов был безусловно прав. Какое же это живое вещество, если в нем не представлены хромонемы (хромосомы). Но и точка зрения О. Б. Лепешинской не противоречила на тот момент научным данным. Она считала, что нуклеиновые кислоты, составляющие по ее мнению обязательный компонент живого вещества (против чего, заметим, ошибочно выступал Н. К. Кольцов, см. дальше), в некоторых особых случаях могли находиться в протоплазме в распыленном состоянии.
Вернусь к Н. К. Кольцову. Далее на той же странице следуют рассуждения Николая Константиновича, к сожалению краткие, о клетке, которые мне напомнили высказывания Иммануила Канта о «живом веществе» из его «Критики способности суждения» (см. раздел 6. 1 настоящей книги). Нашим бы ученым поумерить амбиции и поменьше воевать между собой, и я уверен, что советская наука по части интеллектуального прогресса была бы впереди всей планеты.
Примерно в это же время шли споры в отношении природы бактериофага. Ф. д’Эрелль (D’Herelle), открывший бактериофаг, отнес его к живым организмам, учитывая способность этого ультрамикроба к размножению. Другие авторы считали, что данный признак недостаточен для утверждения о живой природе бактериофага. Приведу цитату из того же учебника М. В. Федорова (1940, с. 18): «Полное разъяснение природы бактериофага требует экспериментального доказательства, что он способен ассимилировать из окружающей среды питательные вещества и перерабатывать их в органические соединения своего собственного тела. Такое доказательство пока еще не дано, по крайней мере, по отношению к чистой культуре бактериофага… В силу этого спор о его истинной природе пока еще может продолжаться, хотя объяснение д’Эрелля и является, по-видимому, наиболее остроумным». А. Д. Гарднер (1935, с. 86) скептически отнесся к возможности такого доказательства: «Поскольку бактериофаг не может размножаться в безжизненной среде [вне живой среды], У нас нет возможности доказать его живую природу».
Вот, что на эту тему писала О. Б. Лепешинская (1945, с. 88): «Вирусы есть несомненно биомолекулы, стоящие на границе между живым и мертвым. Это есть и живое существо и неживое вещество, которое только при определенных внешних условиях становится живым, способным к жизнедеятельности…». К этим словам добавим еще одно важное замечание А. Д. Гарднера (1935, с. 85–86): «Если бактериофаг возникает как частица живого вещества клеток, можно ли ожидать, что он заимствует их наиболее характерные свойства?». Значит, были микробиологи (упомянем немецкого ученого Г. Эндерляйна – Enderlein), которые считали, что микробная клетка не является наименьшей самостоятельной структурной единицей жизни.
В первой половине XX века, точнее до второй мировой войны, некоторые исследователи, включая О. Б. Лепешинскую, высказали мнение о ключевой роли нуклеиновых кислот в определении живого вещества. Н. К. Кольцов (1936, с. 628–629) упоминает в этой связи Демереца (Demerec, 1934), считавшего, «что все гены являются лишь вариантами или даже просто изомерами тимонуклеиновой кислоты». «Я – пишет Н. К. Кольцов – никак не могу с этим согласиться, так как молекулярная структура тимонуклеиновой кислоты слишком проста и однородна. Ведь это прежде всего не белковая молекула… У всех животных и растений нуклеиновая кислота одинакова или почти одинакова; думать о миллионах изомеров этой молекулы не приходится». Говоря о том, что «некоторые цитологи придают нуклеиновой кислоте особо важное значение» (с. 628), Н. К. Кольцов, возможно, имел в виду О. Б. Лепешинскую, поскольку ее модель с распыленной тимонуклеиновой кислотой, конденсирующейся впоследствии в ядроподобную структуру, не вписывалась в его понимание генонемы: последняя в силу белковой природы после ее распада, если бы такая стадия существовала, не смогла бы снова собраться в той упорядоченности.
С развитием генетики некоторые авторы пришли к заключению, что ключевым признаком жизни является способность воспроизведения биомолекул. Иными словами, жизнь возникла с появлением первого гена. Американский биохимик Леонард Троланд (Troland, 1914, 1917) предположил, что жизнь началась со спонтанного синтеза каталитических молекул, которые были способны катализировать другие молекулы (гетерокатализ) и одновременно собственное образование (само-или автокатализ). Такие каталитические молекулы, видимо, соответствуют РНК. Выдающийся американский генетик, работавший перед второй мировой войной в Советской России Т. Д. Мёллер выдвинул идею «живых генов», способных мутировать и эволюционировать, с которых началась жизнь (доложено на Ботаническом конгрессе в 1926 г. ).
В структурном плане живое вещество в рамках данного геноцентрического приближения понимали как апериодический кристалл, который связывали с хроматином (Шредингер, 1947). До Э. Шредингера эта идея серьезно прорабатывалась (с 1928 г. ) Н. К. Кольцовым, что было подчеркнуто в рецензии на книгу Э. Шредингера, написанной Джоном Холдейном (J. B. S. Haldane, Nature. 1945. Vol. 155. N 3935; см. Малиновский, 1947, с. 132–133). С геноцентрической точки зрения рассматривал природу бактериофага уже упоминавшийся нами Ф. д’Эрелль. Кстати, некоторые ученые (например, Уолман – Wollman) рассматривали бактериофаг в качестве генетического фактора, определяющего саморазрушение клеток и способного проникать в другие клетки, вызывая их автолизис.
Т. Д. Лысенко нередко использовал словосочетание «живое тело». На это критически отреагировал А. И. Китайгородский (1973, с. 113) в уже упоминавшейся книге «Реникса». «А что такое живое тело?» – спрашивает критик. «Имеется в виду хлебное зерно, насекомое или белковая молекула? Да нет. Мы не так ставим вопрос… Автор, без сомнения, имеет в виду Живое с большой буквы».
«Вообще, и живые и неживые тела – продолжил цитирование Т. Д. Лысенко А. И. Китайгородский (с. 113–114) – находятся в известных отношениях к окружающей их среде. Однако взаимоотношения организмов с внешней средой принципиально отличны от взаимоотношений неживых тел с той же средой. Главное отличие состоит в том, что взаимодействие неживых тел с окружающей средой не является условием их сохранения, наоборот – это условие уничтожения их как таковых». «Да, глубокие мысли» – вздыхает физик. «Вчитайтесь, и вы усвоите великие истины. Масло тухнет, а сырые бревна гниют потому, что им погода не подходит; желаете масло сохранить подольше – ставьте его в холодильник… Не разглядишь сразу пустословия. А видеть надо, и учить этому надо в школе».
Такое впечатление, что А. И. Китайгородский не читал знаковую книгу своего коллеги по физическому цеху Эрвина Шредингера «Что такое жизнь…». В этой книге все время говорится о живом веществе. А живое тело – это организованное живое вещество. Одним из примеров живого тела как раз и будет апериодический кристалл Э. Шредингера. Т. Д. Лысенко не исключал из категории живых тел хромосомы.
Теперь, что касается существа различий живого и неживого. Вряд ли первооткрывателем этой действительно «глубокой мысли», о которой говорил А. И. Китайгородский, являлся сам Т. Д. Лысенко. Жизнь является энергозависимой динамической упорядоченностью и может поддерживаться только в процессе взаимодействия со средой. И этим живое отличается от неживого, которое тем дольше сохраняется, чем лучше оно ограждено от разрушающего действия среды. Т. е. для неживого взаимодействие со средой «смерти» подобно. К сожалению, автор «Рениксы» не привел нужную цитату из работы Т. Д. Лысенко, говорящую о том, чем отличается взаимодействие живых тел с окружающей средой. Видимо, читатель сам должен догадаться. Поскольку ссылок на данную работу не было дано, то я не смог найти соответствующую цитату. И чтобы прояснить ситуацию, мне пришлось воспользоваться другими, более ранними работами Т. Д. Лысенко.
А что писали о живом веществе до «открытия» О. Б. Лепешинской? Читаем в первой Большой советской энциклопедии (1932, т. 25, с. 322).
Живое вещество, термин, который в современной биологии часто используют как синоним протоплазмы и всех ее структурных образований (ядро, центросома и др. ). Словоупотребление восходит еще к тому времени (конец 18 в. ), когда в биологии было распространено представление об органических веществах, как веществах, якобы образующихся в организмах под действием «жизненной силы». Эти вещества, в противоположность веществам, из которых состоят тела мертвой природы, суть живое вещество, «жизненное вещество», «жизненная субстанция». Виталистический оттенок термина «живое вещество» в настоящее время почти совершенно исчез и им пользуются как техническим термином.
Значит исходно живое вещество связывалось с особым типом структурирования под действием внутренних формативных сил, которые в наше время можно понимать в духе натурфилософских представлений французского ученого Шелдрейка (2005). Поэтому можно поставить вопрос о минимальном объеме вещества, которое может показывать свойства живого. Соответствует ли оно клетке? О тождестве живого вещества и клетки говорили, но также в рамках натурфилософских рассуждений. Может ли существовать живое вещество вне клетки, т. е. неограниченное клеточной мембраной. Этот вопрос ни в 1932 г., ни в 1940-50-е гг. не ставился. Позже он стал неактуальным просто потому, что само понятие живого вещества было вычеркнуто из языка науки. В силу идеологической нагруженности к этому понятию перестали обращаться и оно со временем перестало соответствовать научным реалиям прежде всего в натурфилософском объяснении явления наследственности.
В середине 1950-х гг. в биологии началась молекулярная революция и тема «живого и неживого» перестала быть актуальной. Это разграничение становилось делом соглашения, раз теперь биологи точно знают, что они имеют в виду, говоря о вирусах, фильтрующихся формах бактерий и других биологически значимых частицах, как известных, так и тех, которые могут быть открыты со временем.
Теория О. Б. Лепешинской, как и подобает натурфилософским представлениям, являлась сырой, с невнятным пониманием основных структурных особенностей живого вещества. В ее теории не нашлось места понятию наследственности, которое к тому времени было достаточно хорошо разработано. На это обратили внимание серьезные критики ее новых представлений о живом веществе, из которых в первую очередь следует упомянуть работу Н. К. Кольцова (1934). Единственное, что более или менее проверяемо в теории О. Б. Лепешинской, так это ее наблюдение над желточными шарами и опыты с гидрой. И уже это хорошо. Чтобы перевести гипотезу о возможности превращения живого вещества в клетку из разряда натурфилософских проблем в категорию научных вопросов, нужно было проверить наблюдения О. Б. Лепешинской над желточными шарами и ее опыты с гидрой. Но этого не было сделано ленинградскими критиками ни до войны, ни после войны.
Поэтому присутствовавшие на Совещании по проблеме живого вещества ученые не могли грешить, тем более осознанно, против какой-то научной истины. Они признали натурфилософское на тот момент понятие живого вещества. Признали также доказательность наблюдений О. Б. Лепешинской, подтверждающих справедливость ее теории. А как же иначе? Это исходная установка в науке – доверять результатам ученых, пока не будут получены отличающиеся данные независимыми научными экспертами. В этом случае, если повторные проверки гипотезы не дадут положительного решения и если сама гипотеза не будет развиваться и уточняться, то она так и останется в ранге натурфилософской. Она будет существовать на периферии науки, а может быть сойдет на нет сама собой.
Показателем того, что работу О. Б. Лепешинской следует считать натурфилософской, является широкое цитирование натурфилософских работ Ф. Энгельса. В 1951 г. большим тиражом в 143 тыс. экз. вышла стенограмма публичной лекции О. Б. Лепешинской «Происхождение клеток из живого вещества». Лекция была прочитана в Москве в Центральном лектории Общества по распространению политических и научных знаний. В лекции цитируются работы Ф. Энгельса Диалектика природы и Анти-Дюринг; кроме того, краткий курс Истории ВКП(б) и работа И. Сталина Вопросы ленинизма. И это всё. О. Б. Лепешинская не считала желточные шары, имевшие по ее данным в начале развития ядерное вещество в распыленном состоянии, клетками. На каком основании? На том основании, что она в понимании клетки следовала определению Ф. Энгельса. Последний в качестве признаков клетки указал наличие ядра и ничего не сказал об обязательном наличии «оболочек», отделяющих клетку от внешней среды. Вот что пишет о желточных шарах О. Б. Лепешинская (1945, с. 119): «Это есть, по нашему мнению, протоплазматические комочки, в которых рассеяно ядерное вещество в той или иной степени Дисперсности… На основании наших наблюдений, эти желточные шары обладают способностью давать псевдоподии и, таким образом, напоминают собой те “монеры”, о которых говорил Энгельс и которые он характеризовал как “белковый комок, вытягивающий и втягивающий в той или иной мере псевдоподии”, “современные монеры, наверное, очень отличны от первобытных, так как они по большей части питаются органической материей” [76, стр. 412 ссылка на работу; Энгельс, 1931]. Наши желточные шары, конечно, относятся к новым монерам и должны отличаться от первобытных монер».
Как видим, О. Б. Лепешинская не воспринимает желточные шары в качестве клеток[7]. Но как ей на это указать, если в этом своем мнении она следует устаревшей точке зрения Энгельса на понятие клетки. Ф. Энгельс в идеологическом государстве, каким был СССР, не подлежал критике. В те годы нельзя было сказать, что взгляды Ф. Энгельса не соответствуют уровню науки XX века и именно в том, что они не в состоянии отразить всю палитру сложности природы, раскрытой на тот момент наукой. Да и следует ли подлинному ученому пускаться в обсуждение натурфилософских вопросов? Для их серьезного рассмотрения существуют профессионалы в этом деле – философы. В качестве примера приведу вполне понятную реакцию Клинбергер-Нобель (1951, р. 93) в ее обзоре фильтрующихся форм бактерий на натурфилософскую книгу Эндерляйна (Enderlein, 1925): «Эндерляйновская книга Bakteriencyclogenie представляет собой скорее философский трактат, нежели обсуждение научных фактов, основанных на точных наблюдениях и поэтому эта книга не будет более здесь обсуждаться». Действительно, зачем в научной статье обсуждать натурфилософские вопросы, на которые ты сейчас не можешь дать научно обоснованные ответы.
Мы еще вернемся к теме желточных шаров. А сейчас попробуем уяснить, нужны ли работы натурфилософского плана. Как к ним следует относиться? На мой взгляд, такого рода работы важны. Они ставят ученых перед необходимостью еще раз критическим взором оценить пройденный наукой путь, но главное, они дают богатую пищу для размышлений как основы для взращивания новых научных идей и новых исследовательских подходов. С учетом сказанного, мне кажется, что ученые, выступившие на совещании по проблеме живого вещества, были правы в своей поддержке натурфилософских построений О. Б. Лепешинской. Ее идеи имели право на жизнь, раз не были опровергнуты полученные ею наблюдения и экспериментальные результаты.
Что же касается вменяемой ученым вины за трагическую развязку в «деле» Лепешинской (равно как и в «деле» Лысенко), то большой вины в том ученых нет. В идеологическом государстве вопросы оргвыводов решаются не учеными, но партийными и государственными инстанциями. Поэтому в вопросе «трудных лет советской биологии» надо расследовать в первую очередь «руководящую» роль партии в этом деле. А вместо этого нам показывают злодеев-ученых, пособничающих им конформистов, выступивших, хотя и по-разному, но единым фронтом против героев науки. И потом называют все это документальным историческим анализом. Кроме мифотворчества я там не вижу научного объяснения.
В книгах В. Н. Сойфера руководящая роль партии в жизни Советского Союза никак не отражена. Между тем ученые в описываемые времена хорошо знали об истинных причинах обрушившихся на них трагических событий, были осведомлены о мотивах выступления одних ученых против других. Выше (раздел 1. 4) мы приводили рассказ Я. Л. Рапопорта о безуспешной попытке Д. Н. Насонова добиться приема у Ю. А. Жданова. Ужели Яков Львович не обсуждал в кругу своих о целях визита в Москву ведущего ленинградского ученого, почему тот пытался лично встретиться с крупным партийным чиновником. А добивался он встречи, как пояснил В. Н. Сойфер (1998), по той причине, что Ю. А. Жданов не ответил на несколько его писем. Но это означает, что Ю. А. Жданов не хотел делать то, о чем его просил Д. Н. Насонов. И если последний стремится добиться приема, то это косвенно свидетельствует, что их связывали в прошлом какие-то общие дела. Таким делом могло быть письмо с критикой О. Б. Лепешинской, которое подписал, а может быть и организовал Д. Н. Насонов.
К сожалению, в нашем случае развития доктрины живого вещества этот естественный процесс перехода натурфилософской гипотезы в естественно-научную с целью решения вопроса о ее истинности или ложности был отягощен политической составляющей, которая не позволила провести проверку фактических данных О. Б. Лепешинской сразу, как бы по горячим следам. Результаты научной проверки данных О. Б. Лепешинской сдвинулись на середину следующего десятилетия. В работах А. Г. Кнорре (1955), Г. И. Роскина (1955), Л. Н. Жинкина и В. П. Михайлова (1955) и ряда других авторов экспериментальные результаты О. Б. Лепешинской не были подтверждены. Понятно, что такое запоздалое решение натурфилософской проблемы произошло по вине политиков. Их действия и мотивы нам и надо раскрыть, чего, кстати, даже не пытался сделать проф. В. Н. Сойфер. И это наводит на мысль, что издание его книг, если и не мотивировалось политическим заказом, то как-то было связано с его политическими пристрастиями.
1. 6. Заставляла ли коммунистическая партия выступать ученых против истины. Судьба А. Р. Жебрака
Что Партия кого-то заставляла выступать против истины, это безусловно пропагандистский миф. И его цель многоплановая. С одной стороны очернить Партию. Вот, как например, выставляет позицию Партии в деле Лысенко С. Э. Шноль (2010, с. 378–379): «В 1948 г. Лысенко пожаловался Сталину, что его, народного академика, притесняют сторонники буржуазной, антисоветской, антинародной, реакционной генетики – менделизма-вейсманизма-морганизма… И потому они опасны для советской власти. Нужно отменить буржуазную генетику и заменить ее мичуринским учением». Отметим, что здесь С. Э. Шноль повторяет миф, высказанный до него физиком А. И. Китайгородским в книге «Реникса», о стремлении лже-биологов «зачеркнуть то, что создавалось кропотливым трудом армии ученых предыдущих поколений».
Почему сторонники генетики опасны для советской власти? Почему буржуазная генетика является антисоветской, антинародной и реакционной? Что даст отмена буржуазной генетики в отдельно взятой стране? А выступал в те годы в нашей стране против Т. Д. Лысенко только один московский генетик-селекционер А. Р. Жебрак. Были еще письма против ученого в ЦК. Но в тех письмах, которые в наше время были опубликованы, ничего не говорится о притеснении писавшего со стороны Лысенко. Главным мотивом, заставлявшим ученых бить тревогу, было то, что Лысенко своими действиями дискредитирует советскую науку. Но ведь он дискредитирует не буржуазную, но советскую генетику. Чего же по этому поводу сторонникам классической (буржуазной) генетики звонить в колокола. А. Р. Жебрак выступал против Т. Д. Лысенко не как ученый по научным расхождениям, но как партийный функционер (см. подробнее: Шаталкин, 2015). Критической ситуация стала, когда ответственный в ЦК за науку Ю. А. Жданов, сын второго лица в государственной иерархии А. А. Жданова, обвинил прилюдно Лысенко во вредительстве. В таких условиях недоверия ему, беспартийному, со стороны Партии он вынужден был подать в отставку. Значит, сессия ВАСХНИЛ 1948 г. не была результатом научного противостояния ученых и в ее решениях нет даже намека о том, чтобы заменить буржуазную генетику на мичуринское учение. В решении всего лишь было сказано, что мичуринское учение является самобытной разработкой советских ученых проблем наследственности и не подлежит притеснению со стороны ретивых партийных чиновников.
С другой стороны, обвиняя тоталитарный режим в подавлении научной свободы, можно осудить нравственную позицию тех ученых, которые сами без давления со стороны, якобы, согласились поддержать наступление властей на истину. А это большинство советских ученых тех лет (в качестве наглядного примера смотри книгу B. Н. Сойфера, 1998).
С. Э. Шноль (2010, с. 378–379) видит в партийном диктате, которое он сравнивает со средневековой инквизицией, еще одно негативное последствие для нашей науки: «Мучила ли совесть инквизиторов? Кто знает. Мне не известны примеры их раскаянья…». Здесь C. Э. Шноль рассказывает о трагической судьбе генетика А. Р. Жебрака, которому под давлением властей будто бы пришлось отречься от научной истины. Личная судьба А. Р. Жебрака трагична. Ему пришлось пережить суд чести и сессию ВАСХНИЛ 1948 г. С. Э. Шноль продолжает: «Они [инквизиторы] не раскаивались, а с большой сноровкой приспосабливались к изменяющимся обстоятельствам… Впереди была сессия ВАСХНИЛ 1948 г. Впереди были “мероприятия” – сессии, совещания, пленумы, разрушавшие нашу науку физиологию, языкознание, химию, кибернетику, философию. “Мероприятия”, подорвавшие окончательно мощь великой страны. Антону Романовичу [Жебраку] пришлось продолжить борьбу. Он бесстрашно выступил на сессии ВАСХНИЛ. Он сделал все, что мог. После сессии ВАСХНИЛ ему пообещали от имени инстанций сохранить кафедру и лабораторию, если он, подобно Жуковскому, Полякову и Алиханяну, отречется от своих взглядов. Обещание было ложью – его судьба была решена (с. 379) на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1948 г. Его письмо “с отречением”, опубликованное в “Правде” 15 августа, ничего изменить не могло. Инквизиция в 1633 г. заставила отречься Галилея за то, что он “считал, будто можно держаться и защищать в качестве правдоподобного мнение после того, как оно объявлено и определено как противное священному писанию”. Жебрака заставили отречься с аналогичной формулировкой: в его письме сказано:
“я, как член партии, не считаю для себя возможным оставаться на тех позициях, которые признаны ошибочными Центральным Комитетом нашей партии”.
“Отречение” не спасло его. 1 сентября 1948 г. он… отчислен из Тимирязевской академии, а 4 сентября исключен из партии».
Я только из книги С. Э. Шноля узнал, что А. Р. Жебрак был исключен из партии. Спрашивается, за что? Неужели за научные взгляды, которых он придерживался. Давайте присмотримся к его отречению.
По моему мнению, то, что написал А. Р. Жебрак – это открытый политический демарш с его стороны, это обвинение Партии, что будто бы она утвердила своим решением, что считать в биологии истиной, а что ложью, и заставила коммунистов следовать этому решению. А. Р. Жебрак пишет, что он как коммунист вынужден был подчиниться и считать ложь за истину (отсюда напрашивающиеся параллели, которые С. Э. Шноль находит в судьбах Галилея и Жебрака).
Но ведь такая же политическая незрелость коммуниста А. Р. Жебрака была им проявлена до войны, во время дискуссии 1939 г., и об этом, видимо, не забыли коммунисты, когда решали партийную судьбу ученого. Выступая на этой дискуссии, А. Р. Жебрак сказал следующее (см. Колбановский, 1939, с. 98): «… современная классическая генетика во многих своих основных категориях является подтверждением законов диалектики и в первую очередь закона перехода количества в качество и обратно». А ведь речь шла не о генетике как таковой, а о преодолении ряда ее идеалистических и метафизических положений, связанных с учением Вейсмана. «… все достижения – продолжил А. Р. Жебрак (с. 99) – в сельскохозяйственной практике по селекции сельскохозяйственных растений, по существу, сделаны на основе генетики… в моих руках находится толстая книга “Руководство по апробации сельскохозяйственных растений”, где синтезированы все достижения селекции. В этом руководстве нет ни одного сорта, который был бы выведен методом критиков данной науки, а все они выведены методами генетики либо на основе законов Менделя, либо на основании учения Иогансена о чистых линиях. В этом руководстве имеется один сорт, выведенный акад. Лысенко, и тот также выведен методом генетики, т. е. методом скрещивания, а не методом перевоспитания или внутрисортового скрещивания».
Сказанное несерьезно. Такую болезненную для государства тему А. Р. Жебрак использует для своих теоретических разборок с Т. Д. Лысенко. Дискуссии 1936 и 1939 годов были организованы с целью, как сказал на первой из них президент ВАСХНИЛ акад. А. И. Муралов (1937, с. 5–6), «… помочь в скорейшем выведении новых сортов зерна и высокопродуктивных пород скота. Генетика должна дать научную методику этого дела». Если все сорта выведены методами генетики, то это означает, что генетика не справляется с решением задач в области селекции, поставленных Партией и Правительством. На самом деле речь шла о том, чтобы вывести селекционное дело, продолжающее жить по-старинке, на качественно новый уровень работы, который, как сказал на той же дискуссии акад. Г. К. Мейстер (1937, с. 407), позволил бы «изыскать кратчайшие пути к выполнению директив товарища Сталина о производстве в ближайшие годы ежегодно 7–8 млрд, пудов зерна».
С этой позиции от генетиков ждали, если и не новых идей, то по крайней мере помощи селекционерам в освоении западных инноваций. В своем заключительном слове на декабрьской дискуссии 1936 г. А. И. Муралов (1937, с. 476) сказал: «Мы можем констатировать, что несмотря на огромные достижения в работе по выведению новых сортов зерновых культур, работа эта отстает от требований нашего народного хозяйства и тормозит разрешение ряда важнейших задач, поставленных партией и правительством перед социалистическим с. -х. производством» (выделено нами). И вина за это ложится на лидеров генетики, на Н. И. Вавилова и А. С. Серебровского, которые, как оказалось, не смогли исполнить свои плановые обещания, тормозя тем самым работу других. А перед этим А. И. Муралов привел пример работы стахановцев-колхозников, которые восстановили запущенный сорт засухоустойчивой озимой пшеницы, который Дал 50,7 ц/га. «Я привел этот пример, – говорил А. И. Муралов (с. 475) – чтобы указать и нашим академикам и профессорам, и научным работникам, и селекционерам на необходимость более ускоренными темпами вести свою работу и иметь в виду, что для этой Работы они найдут исключительно благоприятную почву в лице стахановцев-колхозников», т. е. могут располагать большой армией помощников-энтузиастов.
Из выступления Н. И. Вавилова во время дискуссии 1939 г. можно заключить, что селекционерам по-прежнему нечем похвастаться.
Вавилов мало что сказал об успехах наших ученых, но более говорил о впечатляющих результатах мировой генетики. На это не преминул указать в своем заключительном слове М. Б. Митин (1939, с. 152): «Но именно потому, тов. Вавилов, что мы знаем Ваш авторитет, знаем ту работу, которую Вы провели и которая имеет значение для социалистического строительства и для науки, – именно поэтому мы к Вам предъявляем очень большие требования. Мы имеем право предъявить Вам подобные требования, мы хотим от Вас большего, настоящего приближения к практике[8], к жизни, мы хотим от Вас ликвидации разрыва между наукой и практикой». Понятно, что это не М. Б. Митин выражает свою неудовлетворенность работой Н. И. Вавилова, но Партия и Правительство. Более того, во время дискуссии вдруг выяснилось, что селекционеры уже 10 лет, а некоторые и более «внедряют» метод инцухта при выведении новых сортов, но безрезультатно. Ведь это генетики должны были обеспокоиться и выяснить причины неудач, если в США этот метод оказался успешным. Возможно все дело в том, что Россия, как говорил А. П. Паршев (2009), не Америка по своим климатическим условиям. Вот, Н. И. Вавилов (1937, с. 12) в своем докладе на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г. подчеркнул, что вся Америка живет на российских сортах озимых, а также на твердых пшеницах, которые еще до революции завезли туда наши духоборы. У нас эти сорта – так себе, а в Америке лучше их ничего не оказалось и они заняли первые мести и до сих по занимают не менее половины всей посевной площади под пшеницей (всего около 11 млн. га)».
Вернемся, однако, к делу А. Р. Жебрака. Недовольство его поведением во время дискуссии 1939 г. для нас, пытающихся разобраться в событиях тех лет, недвусмысленно говорило, что беда стучалась уже в 1939 г. И тем не менее А. Р. Жебрак неосмотрительно включился в антилысенковскую кампанию, начатую после войны некоторыми партийными идеологами. Не исключено, что его согласия в этом никто не спрашивал. Вернее сказали, что Лысенко порочит советский строй и советскую науку и это долг ученого-коммуниста выступить против научного мракобесия. Напомню, что писал в конце войны А. Р. Жебрак секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову: «если бы… не опорочивание генетики, которая была объявлена социально реакционной дисциплиной со стороны руководства дискуссией 1936 г. и дискуссией 1939 г. ». Первая дискуссия была организована по линии ВАСХНИЛ, а вот вторая – по линии Агитпропа. И «опорочивание генетики» шло со стороны философа М. Б. Митина, который был руководителем дискуссии 1939 г. Значит кто-то наверху крупно подставлял А. Р. Жебрака, вовлекая его в свои интриги против академика М. Б. Митина (см. Шаталкин, 2015). Между тем М. Б. Митин, если и озвучивал, по его утверждению, мнение редакции журнала «Под знаменем марксизма», то с полного одобрения со стороны ЦК партии.
Я подозреваю, что кто-то из партийных функционеров, ведя свою «игру», серьезно подставлял и самого А. Р. Жебрака, когда давал зеленый свет его так называемому «отречению». Чтобы понять, что никакого диктата со стороны Партии в отношении ученых не было, надо лишь ознакомиться с Постановлением сессии ВАСХНИЛ, принятом 7 августа 1948 г., с которым А. Р. Жебрак, как участник сессии, должен был ознакомлен.
В Постановлении сессии (Сессия, 1948, с. 533) сказано: «Менделевско-моргановское направление в биологии продолжает идеалистическое и метафизическое учение Вейсмана о независимости природы организма от внешней среды, о так называемом бессмертном “веществе наследственности”. Менделевско-моргановское направление оторвано от жизни и в своих исследованиях практически бесплодно» (выделено нами). Как видим, учения Г. Менделя и Т. Моргана признаются в качестве законных научных теорий, которые следует очистить от идеалистических натурфилософских наслоений А. Вейсмана. О чем идет речь? О том, что А. Вейсман по чисто натурфилософским соображениям разделил организм на «зародышевую плазму… которая обусловливает все развитие живых организмов» и соматическую плазму, которая «является как бы средой, в которой протекает процесс развития и размножения зародышевой плазмы. Внутренней, генетической связи между соматической и зародышевой плазмой, взаимных переходов между этими двумя субстанциями одного и того же организма не существует. Зародышевая плазма является чем-то изначальным, которое не подвержено воздействиям внешней среды, и все процессы, идущие в ней, являются как бы автономными… Внешнее влияние, оказываемое на организм, задевает только соматическую плазму, т. е. тело организма, но не задевает зародышевую плазму» (Жебрак, 1936, с. 257–258). Обращаю внимание, что эта серьезная критика взглядов А. Вейсмана шла не от И. И. Презента, но от сторонника менделевско-моргановского направления А. Р. Жебрака, который, начав борьбу с Т. Д. Лысенко, уже не мог признаться в 1948 г., что он с ним (с Лысенко) солидарен в оценке неприемлемости взглядов А. Вейсмана.
Исходя из этой умозрительной теории, А. Вейсман отверг ламарковский принцип наследования приобретенных признаков. А генетики некритично подошли к этому вопросу и ввели догму Вейсмана в свою аксиоматику.
Давайте посмотрим, что же пишет дальше А. Р. Жебрак о вейсмановской теории двух плазм: «… с точки зрения последовательно диалектического материализма вейсмановская концепция была дуалистической, потому что она разделяла организм на две субстанции и исключала взаимный переход между этими субстанциями одного и того же организма. Еще более удивительным является то обстоятельство, что данная методологическая концепция сохранялась очень долго в генетике и что некоторая часть даже современных генетиков стоит в основном на тех же методологических позициях, на которых стояли сторонники Вейсмана несколько десятков лет тому назад. Ошибочное понимание ими проблемы единства внешнего и внутреннего, проблемы взаимных переходов и взаимной связи между соматической и зародышевой плазмами вытекало из того, что многие исследователи свои эксперименты старались обобщать на основе теоретической концепции Вейсмана» (там же, с. 259). Мне кажется очень здравые мысли высказывал А. Р. Жебрак. Как в таком случае он из идеологического союзника попал в ряды непримиримых противников Лысенко?
Таким образом, западные учителя генетики, следуя А. Вейсману, придерживались неприемлемых для коммунистов, включая и самого А. Р. Жебрака, дуалистических взглядов. Об этом также обмолвился на сессии ВАСХНИЛ С. И. Алиханян (с. 525): «Мы сильно поддались полемическим страстям, которые разжигались в этой дискуссии нашими учителями». Ситуация для наших генетиков была не простой. Осудить Вейсмана, когда на западе его почитают, им не хотелось. Западные коллеги не поймут. Но с другой стороны прекратить борьбу с лженаучными теориями мичуринской биологии также нельзя. Примиренческая позиция может создать на западе впечатление, что истинные ученые согласны с лженаучными взглядами школы Лысенко. Вот так и получилось, что в результате преклонения перед западными авторитетами не было сил прекратить войну между собой.
Можно заключить, что осуждена была не генетика, но пронизывающий ее и идущий от Вейсмана идеализм и метафизика. Причем конкретно указано, что неприемлемо для мичуринской биологии. Осуждали формальных генетиков за приверженность чуждой, антипартийной идеологии, но не за науку. Поэтому от коммунистов-генетиков требовалось отмежеваться от идеалистических положений, выдвинутых западными генетиками, т. е. не от науки, но от, идеалистической натурфилософии, которая по факту выражалась в вейсмановской догме двух плазм и вытекающего из этого непризнания ламарковского наследования приобретенных признаков. Это не означает, что следует признать такое наследование научным фактом. В то время оно также основывалось на натурфилософских соображениях, которые (в отличие от вейсмановских) соответствовали положениям диалектического материализма.
Вот как это выразил в своем заявлении на сессии ВАСХНИЛ С. И. Алиханян (Сессия, 1948, с. 525): «Было бы наивно думать, что от нас требуется отказ от всего того положительного и полезного, что накоплено всем ходом развития науки. От нас требуется отказ от всего реакционного, неверного, бесполезного. И мы это должны сделать искренне и честно, как подобает настоящим ученым». Четко сказано, что ученый должен перестроиться, но последнее слово в его решении, что он должен сделать, остается за ним.
Вот мнение о вейсманизме независимого исследователя С. В. Мейена (2007, с. 234), который, как и я в то время, крайне отрицательно воспринимал Лысенко. Говоря об оценке, данной ему критиком номогенеза А. А. Яценко-Хмелевским (1974), Сергей Викторович отметил: «… я попал в неплохую компанию: “Берг, Любищев, Мейен и Ряд их последователей…”. Однако некоторые обратили внимание на то, что эта тройка имен может закрепиться в литературе наподобие вейсманизм-морганизм-менделизм”, поди потом докажи, что между Вейсманом и Морганом – пропасть, что солидарность людей может быть не на почве утверждений, но на почве отрицаний».
Кстати, сам я не считаю идеалистическую натурфилософию большим грехом. Но только в обществах, в которых не культивируется культ борьбы с лженаучными теориями. Формальные генетики стали жертвой идеологической борьбы, которую они сами развязали против, как им казалось, лженаучной теории ламаркизма. Это ведь не Т. Д. Лысенко начал борьбу с генетиками, но генетики выступили как они утверждали, против научного невежества, идущего от Лысенко и его сторонников. Вот что писал в своем письме генетик И. А. Рапопорт главному идеологу партии А. А. Жданову, защищая А. Р. Жебрака, которому грозил суд чести (цитировано по: Шноль 2010, с. 369):
«…ламарковская теория наследственности акад. Лысенко не просто устаревшая, а неправильная теория, не выдерживающая экспериментальной проверки. Если отождествлять это направление со всей советской генетикой, то возникнет впечатление о чрезвычайной отсталости у нас ведущей биологической дисциплины, сделавшей большие шаги вперед при участии именно русских ученых. Важно, чтобы высокий объективный престиж был не только у советской химии, советской физики, но и отечественной биологии» (выделено нами).
Кто же отождествлял ламарковскую теорию наследственности акад. Лысенко с генетикой, если тут же утверждается, что мировая генетика сделала большие шаги вперед при участии русских ученых? На западе были прекрасно осведомлены о существовании в СССР двух генетик – классической (формальной) и мичуринской. И этот факт – существование ученых, придерживавшихся ламаркистских положений – является впечатляющим показателем научной свободы в СССР, которую формальные генетики хотели упразднить на том основании, что будто бы ламаркистские взгляды Т. Д. Лысенко являются ошибочными.
Но я здесь обращаю внимание на другой факт, нашедший отражение в выделенных словах И. А. Рапопорта. Нашим генетикам надо бы гордиться, что в Советском Союзе наряду с их наукой сохраняется ламаркизм, а они боятся, что на западе советских ученых генетиков не поймут и обвинят в попустительстве неправильным теориям наследственности. Это и означает преклонение перед «иностранщиной», желание делать все также, как у них. Об этом преклонении руководство СССР стало настойчиво говорить после войны, о чем У нас еще будет речь.
С. Э. Шноль (2010, с. 369–370) приводит также слова Д. А. Сабинина в защиту А. Р. Жебрака из его письма А. А. Жданову: «… мог ли и должен ли был Жебрак… защищать величие Лысенко как генетика?… Не может биолог, считающий успехи в изучении составных частей клетки, ядра и хромозом одним из важнейших достижений последней четверти века, согласиться с заменой всех этих представлений положением о наследственности как свойстве клетки в целом и о том, что “каждая капелька протоплазмы обладает наследственностью”. С возмущением и стыдом закрываешь книгу (Лысенко “Наследственность и ее изменчивость”, 1943), где автор говорит о развитии как “закручивании и раскручивании”, где нет ни одной страницы, лишенной путаницы и противоречий» (выделено нами).
Разве положение о наследственности как свойстве клетки в целом заменяет или упраздняет аналитический подход в изучении наследственности и, в частности, роли хромосом. Конечно, нет. Точно также как аналитический поход не заменяет экологический подход в изучении наследственности, начало которому положил Ламарк, а продолжил в нашей стране Т. Д. Лысенко. Д. А. Сабинин считал, что ламаркизм, защищаемый Лысенко, не является наукой и с ним следует бороться. Но кто мешал советским генетикам выступать с критикой взглядов Лысенко. Д. А. Сабинин упомянул книгу Лысенко. Но ведь в СССР, в отличие от Запада, не было опубликовано ни одной критической рецензии на эту книгу. И поэтому для меня борьба с Лысенко, если иметь в виду озвученные мотивы, есть результат нашей полной зависимости от западной мысли, выражающейся в страхе, что о нас там, на Западе могут подумать плохо. Ведь там ламаркизм был искоренен задолго до войны.
Подчеркнем, что ламаркизм искоренялся генетиками в нашей стране не по научным, но по политическим соображением, под лозунгом борьбы с «механистической вульгаризацией марксизма» (по выражению Б. М. Завадовского – см. гл. 5).
«Это было как на войне – пишет С. Э. Шноль (2010, с. 365) – после ареста и гибели Н. И. Вавилова, и его соратников Г. Д. Карпеченко, Г. А. Левитского, Н. К. Беляева, расстрелянного после мучений и сошедшего от них с ума вице-президента ВАСХНИЛ Георгия Карловича Мейстера, после смерти Н. К. Кольцова – борьбу за спасение истинной генетики пришлось возглавить оставшимся на свободе. По своему положению и компетенции во главе этой борьбы в то время могли быть два человека – А. Р. Жебрак и Н. П. Дубинин» выделено нами). И у меня сразу вопрос – как они собирались спасать генетику от Лысенко и что они конкретно для этого сделали? Ведь прежде чем зачислять их в герои, необходимо оценить их подвиг.
Известно, что каждый из них написал письмо в американский журнал Science с обзором достижений советских генетиков. И за это А. Р. Жебрак был осужден на суде чести. Можно подумать, что в своем письме в американский журнал А. Р. Жебрак жаловался на притеснение в СССР генетики, в чем винил Т. Д. Лысенко. Почему и пострадал. Оказывается, что нет. На следующей странице книги С. Э. Шноль написал со слов А. Р. Жебрака, «что истинная генетика в стране жива, а направление, развиваемое Лысенко, состоит более в агрономических прикладных работах». Но в таком случае о каком спасении генетики говорит С. Э. Шноль, если той никто не угрожал, если генетики и Т. Д. Лысенко работали в разных областях и им в общем-то не о чем было спорить, если не считать расхождений по натурфилософским вопросам.
Ну не могут серьезные люди разменивать свою жизнь на разборки по натурфилософским проблемам. А ламаркизм лишь в XXI веке вышел на научный уровень изучения явления наследственности, а до этого пребывал в стадии натурфилософских предположений. Поэтому я и думаю, что за идеологической борьбой в генетике стояли какие-то свои более приземленные интересы, а натурфилософские разногласия были лишь прикрытием этой борьбы.
Возьмем в качестве примера систему образования. Первый учебник по мичуринской генетике появился через два года после сессии ВАСХНИЛ, в 1950 г. До этого издать его было невозможно. Не пропустили бы в Большой академии. Поэтому все студенты изучали лишь классическую (формальную) генетику. Это означает, что мичуринская генетика не входила в утвержденные правительством учебные программы институтов, техникумов и училищ, в которых изучалась генетика, т. е. она была вне системы государственного образования и, следовательно, не имела статуса базовой науки. Отсюда недовольство и жалобы сторонников Т. Д. Лысенко на их притеснение. Но с другой стороны понятно, что учебники по (формальной) генетике пишут (формальные) генетики, т. е. противники Т. Д. Лысенко, которые будут делать все, чтобы не пустить в свою вотчину мичуринцев. У формальных генетиков поэтому был мотив демонизировать мичуринскую биологию, представляя ее лженаукой. Другой обсуждаемый конфликт тех лет был связан с борьбой за институт генетики, которым волей обстоятельств стал руководить Т. Д. Лысенко. А. Р. Жебрак действительно положил много сил, убеждая руководство страны в необходимости снять Т. Д. Лысенко с поста директора института.
Но можно ли считать эту борьбу А. Р. Жебрака против Т. Д. Лысенко геройством, если он сам был первым кандидатом на освободившееся место директора (см. подробнее: Шаталкин, 2015).
Кстати, в борьбу за спасение истинной генетики от Т. Д. Лысенко кроме А. Р. Жебрака и Н. П. Дубинина активно включился второй человек в Агитпропе Д. Т. Шепилов, который написал об этом в своих мемуарах, вышедших в 2001 г. Отрывки из этих воспоминании были опубликованы ранее (1998). С. Э. Шноль об этом ничего не пишет, и это вполне объяснимо. В противном случае ему пришлось бы включить Д. Т. Шепилова в число героев или объяснить, почему этого нельзя делать. Жизненная судьба А. Р. Жебрака трагична. И эта его личная трагедия безусловно связана с борьбой против Т. Д. Лысенко. Не он, однако, был инициатором этой борьбы. Выступить против Т. Д. Лысенко его убедили, используя те же лозунги о защите истинной науки, идеологи из Агитпропа. Сценарий борьбы, который они предложили, оказался провальным. Это в первую очередь касается статьи А. Р. Жебрака в американский журнал Science, послужившей поводом для организации суда чести над ее автором. Я не уверен, что А. Р. Жебрак был подлинным автором всего текста, утвержденного партийными инстанциями. Но отвечать по полной программе пришлось только ему.
В связи со всем сказанным параллели с судьбой Джордано Бруно, которые выстраивает С. Э. Шноль, вводят читателя, как мне кажется, в заблуждение относительно истинных мотивов преследования ученых как в прошлом, так и в наше время. Джордано Бруно, как утверждают знающие, был казнен за принадлежность к тайным и, следовательно, запрещенным обществам, враждебным действующей власти, но не за приверженность новым научным идеям.
Вернемся к Постановлению сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Второй круг задач, определяемых постановлением, касается мичуринской биологии. Провозглашается (с. 533), что «Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина должна стать подлинным научным центром всесторонней и углубленной разработки мичуринского учения. Сессия Академии считает необходимым подчинить исследования, ведущиеся в институтах Академии, задачам помощи колхозам, машинно-тракторным станциям и совхозам, ведущим борьбу за дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства». Постановление, как видим, нацеливает работу ее сотрудников на решение исключительно производственных задач. Понятно, что за этим постановлением стоит государственная политика. Практическое воплощение этой государственной политики безусловно приведет к некоторому ограничению научной свободы, раз исследования ученых ВАСХНИЛ должны быть подчинены решению сугубо прикладных задач. Я думаю, что эта государственная политика мобилизации ученых на поднятие продуктивности сельского хозяйства была обусловлена чрезвычайными условиями послевоенной разрухи и обрушившимся на страну неурожаем.
В отношении ученых других академий в постановлении ничего не сказано. Поэтому вопрос о том, чем была вызвана политика перетряски научных кадров в институтах несельскохозяйственного профиля, не решен и требует дальнейшего изучения. Если государство начало перетряхивать научный персонал кафедр генетики, насыщая их селекционерами, в целях придать их работе большее прикладное значение, то это не из-за происков Лысенко. Это серьезная государственная политика чрезвычайного времени. Но я не исключаю, что под прикрытием этой политики преследовались и какие-то другие цели. Но в любом случае изменение тематики с акцентом на решение прикладных задач в области генетических исследований никак нельзя рассматривать как запрет генетики. Советский Союз был большой научно-производственной корпорацией. И как в любой корпорации руководство СССР, сообразуясь с конкретной исторической обстановкой, определяло научную политику по ключевым направлениям исследований. В условиях послевоенной разрухи и атомного шантажа со стороны запада у нас было мало средств, чтобы на равных с западом развивать все возможные направления научного поиска. Короче я не вижу чего-то неправильного в стремлении государства в условиях дефицита всего направить усилия ученых на решение тех, а не других заданий. Запрет генетики означал бы закрытие кафедр генетики, чего, однако, не было.
Из постановления следует, что мичуринская биология должна рассматриваться в СССР как нормативная наука. Только в этом решении можно усмотреть элемент насилия над частью ученых. Их заставляли признать наукой то, что до этого они считали псевдонаукой. Нет, их не заставляли признать эту «псевдонауку» истинной. Им запретили бездоказательно ее критиковать. Можно ли это считать как ограничение свободы ученых. Я так не считаю. Формальные генетики критиковали, имея цель запретить в СССР ламаркизм, как это было сделано на свободном западе. Иными словами, их критика была нацелена на ущемление научной свободы других. В таких ситуациях, раз свобода одних ведет к ущемлению других, надо жить придерживаясь народной мудрости: сам живешь и не мешай жить другим. После сессии ВАСХНИЛ никакого запрета генетики как науки не было. Но была переориентация генетических исследований на преимущественное решение производственных задач.
Позже, в брежневский период мичуринская биология была причислена к лженаукам. И снова открылась возможность ее критиковать, не приводя доказательств, ссылаясь на то, что речь идет о псевдонауке (лженауке), критиковать которую по научным критериям лишено смысла. Вот так и получилось, что критических работ по научному содержанию мичуринской биологии в нашей научной печати нет, но они есть в западных научных источниках.
С. Э. Шноль (2010, с 329) по поводу истоков борьбы с лженаукой высказался, на наш взгляд, совершенно правильно: «Трудное дело добыча нового. Вполне вероятны ошибки и заблуждения. Так постепенно вырабатывается непреодолимый скептицизм. Так формируются убежденные борцы с «лженаукой». Борьба с лженаукой это относительно легкий способ самоутверждения. Во всяком случае это легче, чем пробивать новые пути в попытках решить «неразрешимые» проблемы. С другой стороны для этих профессиональных борцов всегда есть легкая добыча – честолюбивые дилетанты, без должных оснований претендующие на эпохальные открытия». К этому стоит лишь добавить, что когда эта борьба «истинных ученых» с лжеучеными поддерживается политиками, беды не миновать. Не потому, что именно политики лучше знают, где, как говорил партийный функционер Д. Т. Шепилов (2001), «истинная наука и где непроходимая вульгарщина». Беды не миновать по той причине, что политики, обращаясь к ученым, решают за счет их какие-то свои задачи, далекие от нужд самой науки.
Кстати, американцы, видимо, изучив наш горький опыт, также негласно запретили внутриамериканскую научную критику. Чужих, пожалуйста, критикуйте сколько угодно. А своих нельзя. Критика, как показывает опыт, в большинстве случаев является не созидатель-ной, но разрушительной силой.
Мы продолжим тему науки и псевдонауки в заключительном разделе книги. А сейчас вернемся к письму ленинградцев с критикой О. Б. Лепешинской.
1. 7. Какой могла быть реакция властей на письмо ленинградцев с критикой О. Б. Лепешинской
Обычно говорят лишь о санкциях властей в отношении ленинградских ученых, выступивших с критикой О. Б. Лепешинской (см. Александров, 1993). Я. Л. Рапопорт обмолвился о ликвидации в 1951 г. Института нормальной и патологической морфологии АМН СССР, в котором работала О. Б. Лепешинская. Сведения о дате закрытия института расходятся. Называют 1950 и 1951 гг. В справке по Институту морфологии человека, являющемуся преемником Института нормальной и патологической морфологии АМН СССР, отмечается, что последний «просуществовал всего 5 лет и был необоснованно закрыт в 1950 г. в ходе перегибов культа личности под флагом борьбы с так называемым вирховианством. Через 10 лет 20 апреля 1960 г. под председательством академика-секретаря отделения медико-биологических наук Академии медицинских наук СССР академика АМН СССР Н. А. Краевского состоялось совещание специалистов-морфологов, на котором было принято важное решение о необходимости создания в системе АМН СССР единственного в своем роде Института морфологии человека…». С другой стороны в биографии директора Института нормальной и патологической морфологии академика А. И. Абрикосова отмечается, что он руководил институтом с 1944 по 1951 г.
Почему был ликвидирован московский институт. Все обходят стороной этот вопрос И это говорит о том, что в этом неординарном событии – ликвидации целого института, возглавляемого известным и заслуженным ученым, – следует видеть разгадку многих непонятных моментов в реакции властей на письмо ленинградцев, как она изображается в мемуарах и в современных комментариях.
Так, Я. Л. Рапопорт ([1988] 2003, с. 272) винит в первую очередь О. Б. Лепешинскую: «Ей хотелось, чтобы у ее ног был весь научный мир, особенно тот, который не признавал ее достижений. На эту часть мира услужливый аппарат власти обрушил свой тяжелый молот возмездия с разной степенью кары. В первую очередь это коснулось группы ленинградских ученых». Возмездие за критику. Получается, что власти пошли на поводу у О. Б. Лепешинской и, защищая ее, заставили 27 ученых признать ее так называемые «открытия», а критику ленинградцев признать необъективной, т. е. вынудили ученых говорить неправду. Я думаю, что такого в принципе не могло быть – власти тех времен не могли так подставиться. Никто не мог заставить ученых свидетельствовать против истины. Если бы такое было, то мы бы слышали об этом из многих источников. Чтобы там не говорили, в Партии в те времена были государственные люди, серьезные и ответственные.
Но это не отвечает на вопрос, почему закрыли институт, в котором работал Я. Л. Рапопорт. Он, правда, говорит о конфликте О. Б. Лепешинской с парторгом института Д. С. Комиссаруком[9]: «В результате всех конфликтов с партийной организацией лаборатория Ольги Борисовны вышла из состава Института морфологии, чего она мстительно не забыла до конца своей жизни» (с. 265; выделено нами). Надо ли понимать дело так, что институт закрыли из-за мести парторгу института. Видимо, нет, поскольку дальше Я. Л. Рапопорт (с. 276) рассказывает о приезде в их дачный поселок летом 1951 г. высокопоставленных гостей в связи с 80-летием Ольги Борисовны. «Как она мне потом рассказала при случайной встрече, – пишет Я. Л. Рапопорт – ее прославляли, пели дифирамбы, а она в ответном слове сказала: “Меня не признавали, мне мешали работать, а вирховианцы из Института морфологии меня вообще выгнали, но я все же победила”. Упоминание о вирховианцах из Института морфологии было, вероятно, надгробным камнем этого института. Вскоре после указанного торжества произошла его ликвидация…». Значит, все же выгнали, а то, по словам Я. Л. Рапопорта, получается, что это Ольга Борисовна увела из института 5 ставок, как минимум.
О ленинградских вирховианцах мы знаем многое. Почему же ничего не известно о вирховианцах из института морфологии и их борьбе с О. Б. Лепешинской? На самом деле никакой борьбы не было и об этом свидетельствует сам Я. Л. Рапопорт. Сказав о длительном конфликте О. Б. Лепешинской с парторгом, он продолжил: «Я, одна-ко, полагал, что Лепешинская своей прошлой деятельностью заслуживает известной снисходительности, что наука – это для нее не профессия, а хобби, что это – безобидная блажь, мешать которой не следует, тем более что сроки этой блажи ограничены возрастом (ей было около 80 лет)… Я был убежден, что ни один ученый не может вступить с ней в серьезную дискуссию за отсутствием в ее исследованиях маломальских серьезных материалов для дискуссии. События, однако, показали, что я был неправ». Надо полагать, что и другие ученые в Институте морфологии не слишком горели желанием вступать в научные дискуссии даже за дружеским чаем с О. Б. Лепешинской. Тогда почему ликвидировали институт?
В. Я. Александров (1993, с. 40) пытался представить критику тринадцати и московское совещание как независимые события: «Совершенно очевидно, что Лепешинская и ее окружение, получив полное признание высоко стоящих инстанций, правительственных и партийных, не могли оставить безнаказанными авторов разоблачительной статьи». К сожалению, в своей книге он обходит стороной вопрос, кто и с какой целью организовал московское совещание. Ничего им не было сказано о подготовке письма, чья это была инициатива, когда письмо было написано и почему по происшествии нескольких лет после издания критикуемой книги.
Мы уже видели по приведенным выдержкам, что письмо в газету ленинградцев может быть расценено как антипартийная политическая акция. Ведь с самого начала было ясно, что обвинение в безграмотности заслуженного коммуниста является чисто политическим делом, поскольку бьет по авторитету Партии. Поэтому партийные власти должны были серьезно заняться этим письмом. Два главных вопроса при этом следовало прояснить. Во-первых, кто из партийных функционеров надоумил ленинградских ученых через три года после выхода книги, когда многие успели о ней забыть, выступить с критикой книги, причем не в научном издании, но в многотиражной газете. Не исключено, что партийные функционеры, когда дело дошло до разбирательства, всё свалили на А. А. Жданова, который после смерти был вне критики. Само письмо было напечатано, когда А. А. Жданова спровадили на Валдай. Если бы А. А. Жданов был на рабочем месте, то такое политически ангажированное письмо, думаю, не было бы опубликовано, поскольку с него первого бы спросили по всей строгости.
Второй вопрос серьезнее. Если книга О. Б. Лепешинской действительно является в научном плане безграмотной, роняющей авторитет советской науки, как утверждали ленинградцы, то как оказалось, что она была опубликована. Кто в этом виноват. На титульной странице автор книги проф. О. Б. Лепешинская позиционирует себя как зав. Цитологической лаборатории Морфологического института Академии медицинских наук. Следовательно, в первую очередь могли обратиться к руководству института, в котором работала О. Б. Лепешинская. Т. е. к академику А. И. Абрикосову и его заместителю по науке проф. Я. Л. Рапопорту. Как в этой непростой ситуации, когда у партийных властей возникли серьезные вопросы к руководству института, поступить его директору академику А. И. Абрикосову. Признать свою вину. Но у всех были памятны события августовской сессии ВАСХНИЛ, когда выгоняли с работы, невзирая на академические звания и былые заслуги.
Претензии к академику А. И. Абрикосову могли быть следующего порядка. Если Ваш сотрудник проф. О. Б. Лепешинская написала безграмотную книгу, то как Вы, зная о книге, о том, что она в свое время была отклонена Медгизом, могли допустить ее публикацию. Если же это пусть и спорная, но научная книга, то Вам надо выступить и сказать об этом, т. е. тем самым вступить в научную полемику с ленинградцами. А. И. Абрикосов не выступил и в свое оправдание, возможно, сказал, что не особенно хорошо разбирается в проблеме живого вещества. Но если Вы не разбираетесь в том, чем занимаются Ваши сотрудники, тогда… И было принято решение закрыть Институт нормальной и патологической морфологии АМН СССР. Я. Л. Рапопорт утверждает, что институт был ликвидирован из-за происков О. Б. Лепешинской. Мне кажется, что и без ее активности основания (по тем временам) для оргвыводов в отношении академика А. И. Абрикосова были очень серьезные. В. Я. Александров (1993) в своей книге о тех событиях ни словом не упомянул о закрытии московского института и это симптоматично.
Дело здесь вот в чем. Институт открывают не для того, чтобы через несколько лет его закрыть, но для того, чтобы изучалась какая-то важная научная тема. Если директор института А. И. Абрикосов оказался в чем-то виновным, то его, но не институт, должны были наказать, например, снять с поста директора. Минздрав и АМН СССР должны были отстаивать необходимость научного направления, которым занимался институт. Когда закрывались лаборатории в ленинградских институтах в связи с письмом тринадцати, то предварительно шли широкие обсуждения, о чем мы знаем из многих публикаций. А здесь нет никакой информации. В. Я. Александров молчит о судьбе московского института, чтобы не объяснять причин его закрытия.
Проф. В. Н. Сойфер (1998, с. 84) утверждает, что О. Б. Лепешинскую после письма тринадцати спровадили на пенсию. Не знаю, насколько эта информация верна. Но если это так, то ситуация становится еще более скверной. Получается, что старейшего члена партии О. Б. Лепешинскую уволили на основании, как потом выяснилось, недобросовестного письма ленинградцев. Если увольнение было сделано по инициативе директора, А. И. Абрикосова, тогда это еще более усугубляет его вину: сначала позволил О. Б. Лепешинской напечатать безграмотную книгу, а потом на этом основании ее уволил.
Но может быть, дело не в академике Абрикосове, а в ком-то из крупных функционерах Минздрава. Тогда получается, что это Минздрав разрешил напечатать в своей газете скандальное письмо 13 ленинградских ученых против О. Б. Лепешинской, подставляя под возможный удар ленинградцев. Они могли и не знать, что через три недели начнется сессия ВАСХНИЛ. В министерстве безусловно были осведомлены в грядущих событиях. Затем на основании этого письма Минздрав распорядился уволить (по возрасту) О. Б. Лепешинскую. А потом, когда началось разбирательство, сделал крайним академика Абрикосова. Министерство де мол лишь просто реагировало на письмо ленинградцев, а почему академик Абрикосов и руководство возглавляемого им института не встало на защиту своего сотрудника, это надо у них спросить.
Вот у нас появился еще один след в этом запутанном деле – Минздрав. Против кого конкретно выступал Минздрав? Против ленинградских ученых или против Ольги Борисовны? А может быть против А. И. Абрикосова или кого-то в его институте. В двух следующих главах мы рассмотрим еще две скандальные истории, которые также связаны с «неправильными» действиями Минздрава. В чем выражается эта неправильность. Главная задача Минздрава состоит в том, чтобы обеспечить слаженную работу подведомственных ему учреждений. А для этого необходимо единство. По этой причине Минздрав должен был в первую очередь обеспокоиться и предпринять какие-то шаги, чтобы скандальное письмо не было опубликовано. Ведь оно сеяло вражду между учеными.
Если в конце 1948 г. или в 1949 г. было принято решение о закрытии Института морфологии, то для лаборатории О. Б. Лепешинской необходимо было найти новый институт. И в 1949 г. ее лабораторию перевели в Институт экспериментальной биологии АМН.
Если руководство Института морфологии не решилось взять на себя вину за выход скандальной книги, то возникли серьезные претензии к руководству АМН СССР. Что же такое творится в системе академии, если ее сотрудник выпускает книгу, к которой в самой академии неоднозначное отношение. Книга издавалась не подпольно. Первоначально О. Б. Лепешинская (1951, с. 14), по ее собственному признанию на московском совещании, отнесла (перед войной, судя по разным источникам) рукопись книги в Медгиз; рукопись получила отрицательный отзыв проф. 3-го Московского медицинского института А. В. Румянцева и была отклонена. Затем война и было не до книги. Только в конце войны О. Б. Лепешинская смогла начать хлопотать об издании рукописи.
По данным А. Е. Гайсиновича и Е. Б. Музруковой (1991) до войны, в конце 1938 г. издание книги поддержал заведующий кафедрой патологической анатомии 1-го Московского медицинского института профессор А. И. Абрикосов. В своем отзыве, датированном 3. IX. 1938 г., он писал: «По вопросу о допущении книги О. Б. Лепешинской к печати не может быть двух мнений. Тема в высшей степени интересна и вполне современна. Структура работы логически выдержана, собственные наблюдения в высшей степени важны, книга должна быть напечатана».
Во время войны О. Б. Лепешинская договорилась об издании книги в АН СССР. Высказывалось мнение, что ей это удалось сделать, благодаря заступничеству Т. Д. Лысенко (см., напр., Александров, 1993). На самом деле издание книги поддержал директор академического издательства, старейший член партии Ф. Н. Петров, который хорошо знал семью Лепешинских (Гайсинович, Музрукова, 1991). Эти данные скорее всего точны, учитывая что А. Е. Гайсинович был, как он сам пишет, научным редактором книги О. Б. Лепешинской. «Категорически не соглашаясь со всеми домыслами О. Б. Лепешинской, А. Е. Гайсинович не смог ее переубедить, и ему оставалось лишь формально выполнить свои редакторские функции». Когда рукопись была готова к печати, он «счел себя обязанным противодействовать изданию книги и направил письмо в Отдел науки ЦК ВКП(б), в котором обосновал тот вред, который нанесет издание книги О. Б. Лепешинской нашей науке и особенно биологии и медицине.
«Результатом этого письма явилась организация комиссии под председательством акад. Г. Ф. Александрова, которой было поручено решить вопрос о судьбе издания О. Б. Лепешинской. Комиссия ограничилась решением издать книгу тиражом лишь 1000 экземпляров» (Гайсинович, Музрукова, 1991).
Если А. Е. Гайсинович точен в изложении событий, то получается не очень красивая картина. Г. Ф. Александров с 1940 по 1947 г. был начальником Агитпропа. Значит, Агитпроп сначала разрешил книгу О. Б. Лепешинской, а через некоторое время инициировал критику этой книги ленинградскими учеными. Хотя с другой стороны, чему удивляться; это было в русле послевоенной политики Агитпропа, нацеленной на организацию общественных дискуссий по спорным вопросам искусства, науки и экономики. Дискуссии важны. По воспоминаниям А. Е. Гайсиновича, «однажды, когда дело с подготовкой рукописи шло к концу, О. Б. Лепешинская сокрушенно призналась, что ее просьба посвятить книгу И. В. Сталину, к которому она обратилась через В. М. Молотова, была отклонена. Как рассказывала О. Б. Лепешинская, В. М. Молотов сообщил ей, что, по мнению И. В. Сталина, такое посвящение может помешать свободному обсуждению ее книги». Действительно, кто же будет критиковать книгу, посвященную Сталину. Такие сведения о серьезных связях О. Б. Лепешинской в высшем руководстве страны, даже если она их специально распространяет, должны были насторожить ленинградцев. Я думаю, что они воспринимали наших руководителей, как людей дела, справедливых в том, что касается решения научных вопросов, по которым существуют разногласия.
С учетом сказанного у Агитпропа могла быть заинтересованность в издании спорной книги О. Б. Лепешинской. Но в данном случае речь могла идти лишь о разногласиях по чисто научным вопросам. Зачем же было нужно придавать критическому письму ленинградских ученых политическую направленность. Это кажется странным, если учесть, что разрешил издание безграмотной книги бывший начальник Агитпропа Г. Ф. Александров. Может быть его хотели обвинить в политическом просчете новые руководители Агитпропа, используя письмо 13-ти? Или политика Агитпропа не претерпела существенных изменений при смене руководства и он преследовал какие-то свои цели, кроме поиска научной истины?
А куда смотрели сами ученые? Почему А. Е. Гайсинович обратился с письмом в ЦК партии о запрете книги О. Б. Лепешинской. Разве это дело Партии быть арбитром в споре ученых? Почему А. Е. Гайсинович не написал рецензию на книгу после ее выхода, если он видел «ошибочность ее теоретических положений и экспериментальных доказательств, идущих вразрез с современными научными данными». Кстати, почему он не написал о том, кто дал положительный отзыв на рукопись книги. Может быть это снова был А. И. Абрикосов, только теперь в звании академика.
Если Академия медицинских наук солидарна с мнением ленинградцев, то почему не забила тревогу? Почему не попыталась урегулировать ситуацию до выхода книги. Почему не воспрепятствовала публикации рецензии в газете «Медицинский работник». Хотя бы на том основании, что критическое выступление по научным расхождениям слишком политизировано. Если это невозможно было сделать собственной властью, то почему не обратилась за помощью в партийные инстанции.
Может быть ленинградские академики АМН не известили руководство Академии о том, что они пишут резко отрицательную статью в газету на книгу О. Б. Лепешинской. Тогда это очень смахивает на недопустимую практику ленинградцев в высшем аппарате власти осуществлять свои дела, не ставя об этом в известность Политбюро.
Положительное предисловие к книге написал академик Т. Д. Лысенко. Оно небольшое, занимает менее половины страницы. Могли обратиться к нему. Т. Д. Лысенко в этом случае ответил бы словами предисловия. Книга О. Б. Лепешинской «представляет большой вклад в теоретические основы нашей советской биологии. Естественно, что для тех работников науки, которые еще не изжили в своем научном мышлении метафизических подходов, могут оказаться неприемлемыми не только теоретические предпосылки и выводы О. Б. Лепешинской, но они могут отрицать и достоверность фактической части ее работ, как не согласующихся с их теоретическими взглядами. Для людей же науки, стоящих на позициях подлинной теории развития, теории диалектического материализма, фактический материал О. Б. Лепешинской, по моему глубокому убеждению, вполне приемлем». Та-кое впечатление, что ленинградские ученые, выступившие с критикой книги О. Б. Лепешинской, не читали предисловие. Т. Д. Лысенко предвидел, что рецензенты, если таковые найдутся, в своей критике Лепешинской будут исходить исключительно из теоретических соображений и отрицать ее экспериментальный материал.
Книга была издана Большой академией. Отсюда и претензии к Пей. В 1945 г. руководителем академических биологов был академик Л. А. Орбели. Не известно, спрашивали его, но наверняка обратились за разъяснениями к новому главе отделения биологических наук академику А. И. Опарину. Тот мог разъяснять свою позицию примерно в том же ключе, что и академик Т. Д. Лысенко: теоретически он не считает то, что доказывает О. Б. Лепешинская, невозможным. Что касается экспериментов О. Б. Лепешинской, то как им не верить, если не было опровергающих опытов со стороны независимых исследователей. Ленинградские ученые эксперименты О. Б. Лепешинской не проверяли и их критика основывалась на теоретических заключениях.
В науке такая «критика» недопустима. Мы были свидетелями, когда по чисто теоретическим соображениям была отвергнута возможность наследования приобретенных признаков. Как теперь воспринимать эту «критику», испортившую в XX столетии многим крови, как сторонникам ламарковского принципа, так и его противникам.
Что касается московских лидеров медицины, то они, как показывает московское совещание, согласились с такой позицией, а может быть и сами приняли активное участие в ее выработке. Ведь если бы ленинградские ученые провели проверочные эксперименты и написали, что им не удалось подтвердить результаты О. Б. Лепешинской, то уже это было бы достаточным основанием отложить московское совещание и провести серию дополнительных экспериментов, чтобы поставить в этом деле окончательную точку.
С учетом сказанного я не согласен с мнением Я. Л. Рапопорта (с. 266), который пишет, что имена выступавших на Московском совещании «увековечены в изданном Академией наук СССР стенографическом отчете (изд. АН СССР, 1950 г. ) об этом совещании, назначением которого было одарить мир величайшим научным открытием» (выделено нами). Я, кстати, внимательно ознакомился с материалами совещания. На самом деле оно лишь с определенностью высказалось в отношении точки зрения О. Б. Лепешинской, что ее теория имеет право на существование. Величайшим научным открытием работа О. Б. Лепешинской стала бы лишь в том случае, если ее результаты были бы не только подтверждены (это как раз было), но и получили удовлетворительное объяснение с общебиологических позиций. С этим последним у Ольги Борисовны никак не получалось. Причина этого, как выяснилось позже, была связана с тем, что О. Б. Лепешинская неправильно интерпретировала результаты своих наблюдений. Но что же в этом зазорного. Тем более, что ошиблась не только она, но все тогдашнее научное сообщество, включая и ее ленинградских критиков. О чем мы скажем в последнем разделе главы.
1. 8. О скрытых целях идеологического сектора партаппарата в «деле» Лепешинской
Не было ли скрытых целей в сталкивании ученых в так называемых послевоенных дискуссиях. Насаждавшаяся в них атмосфера вражды между различными группами ученых делало последних управляемыми. Но только ли в этом была главная цель политиков.
Что бы было, если бы 13 ленинградских ученых свою отрицательную рецензию отправили в академический журнал. Ничего бы не было. Академия наук, по словам Л. А. Орбели (1948), «следила за тем, чтобы эти работы [речь идет о статьях по генетике] представляли известную ценность с научной точки зрения и не были выражением простых теоретических споров, в которых проводятся определенные идеологические воззрения без конкретного материала». Именно по этим основаниям была отклонена «Журналом общей биологии» критика Б. М. Завадовского работ Т. Д. Лысенко. Уверен, что при Л. А. Орбели в качестве руководителя академических биологов из критической статьи ленинградских ученых были бы убраны все политические выпады против О. Б. Лепешинской. Зачем ученым включаться в политическую борьбу. Ученые должны заниматься наукой.
Только функционеры партаппарата были заинтересованы придать этой критике со стороны ленинградских ученых политический характер. Хотя бы потому, что партаппарат в этом случае был бы также в деле, в качестве третейского судьи в борьбе противоборствующих научных групп. Если в научной критике, опубликованной к тому же в научном издании, нет политических моментов, то у идеологов отпадают всякие основания что-то говорить по части чисто научных экспериментов, т. е. они лишаются возможности вмешиваться и управлять борьбой научных мнений. До войны О. Б. Лепешинская опубликовала свои соображения по проблеме живого вещества в 1935 г. в журнале «Под знаменем марксизма». Позже в 1937 г. она опубликовала результаты научных экспериментов в журнале «Архив биологи-ческих наук». Эта и другие ее работы были критически рассмотрены А. А. Заварзиным, Д. Н. Насоновым и Н. Г. Хлопиным в статье, опубликованной в том же журнале. О чем уже было сказано. О. Б. Лепешинская ответила на критику в журнале «Под знаменем марксизма». Академик А. А. Заварзин не стал продолжать полемику в политическом журнале.
Ленинградским ученым, видимо, не удалось удержаться в рамках чисто научного формата критики. Э. И. Колчинский (2014) отметил, что «отечественные биологи с 1930-х гг. были не вольны в своих трудах и им часто вписывали в текст предложения против их воли». Поэтому я не исключаю, что политические выпады против О. Б. Лепешинской были вставлены в текст рецензии с подсказки идеологических функционеров партаппарата. Во всяком случае я этим объясняю недовольство рядовых подписавшихся, которые, возможно, увидели в своем критическом письме в газете «Медицинский работник» то, на что они не давали согласия. Речь идет об обвинении Д. Н. Насонова в недостаточном «разоружении» со стороны Б. П. Токина, которого поддержал проф. С. И. Гальперин из Ленинградского педагогического института им. Герцена, кстати, не подписавшийся под письмом (см. Александров, 1993). С этим, возможно, также связана открытая поддержка Т. Д. Лысенко со стороны заведующего кафедрой медицинской биологии СПбГМА им. И. И. Мечникова проф. П. В. Макарова. В 1949 г. он прочитал по линии общества «Знание» публичную лекцию «Несостоятельность цитологических основ вейсманизма-морганизма». Материалы лекции не получили в дальнейшем подтверждения. Но я считаю, что такого рода критические работы, если они написаны серьезным ученым, исключительно важны в деле развития критического мышления.
Вернемся к книге О. Б. Лепешинской. Её попытка издать рукопись книги в Медгизе не удалась из-за того, что рукопись получила отрицательный отзыв. Но О. Б. Лепешинская нашла тех, кто ее поддержал и смогла опубликовать книгу в Издательстве АН СССР. Что делают идеологи. Разрешив политическую критику О. Б. Лепешинской со стороны ленинградских ученых, они начинают искать виновных в издании провальной книги, роняющей авторитет советской науки и тем самым советской власти. Выражение «досадное пятно» в отношении выхода книги О. Б. Лепешинской, использованное в рецензии – это то же самое, что сказать «черное пятно». Кто позволил чернить советскую науку, дав зеленый свет на издание безграмотной книги?
Московские ученые отреагировали на эти попытки идеологов приписать им политику ожидаемым образом. Они отвергли критическое мнение ленинградцев в отношении книги О. Б. Лепешинской, как бездоказательное, основанное лишь на теоретических соображениях и неподкрепленное проверочными опытами. Об этом на московском совещании говорил Г. К. Хрущов (1951, с. 87): «Для цитолога и гистолога, кто имел возможность внимательно просмотреть препараты О. Б. Лепешинской, выставленные на этом совещании, совершенно ясно, что почти все, что было возможно и необходимо использовать из арсенала современной микроскопической техники, ею было использовано. Но тем не менее, как вы знаете, нашлись критики – цитологи и гистологи, которые… позволили себе опорочить именно этот фактический материал. Но у этих критиков нет в руках соответственного материала. Более того, с порога отвергая положения О. Б. Лепешинской, они не считают нужным и не желают повторить и проверить работы О. Б. Лепешинской. Это доказывает только то, что не фактический материал заставляет их отрицать положения, развиваемые О. Б. Лепешинской, а те теоретические установки вирховианства, которые они до сих пор разделяют».
А. Е. Гайсинович и Е. Б. Музрукова (1991), как бы осуждая Г. К. Хрущова, говорят, что этот верный защитник Лепешинской через 6 лет изменил свое положительное мнение о живом веществе. «Мы – пишут авторы – обнаружили в Архиве АН СССР отзыв профессора Г. К. Хрущова от 13. 07. 1956, направленный в Издательство АН СССР по поводу переиздания книги Лепешинской. Стоявший у истоков утверждения “учения” о “живом” веществе в 1950 г., шесть лет спустя Г. К. Хрущов уклончиво-дипломатично писал следующее: “Рукопись в таком виде не может быть издана. Она должна быть пересмотрена в свете решений XX съезда КПСС по вопросам борьбы с догматизмом и начетничеством и ликвидации последствий культа личности И. В. Сталина”». Но в этом факте нет ничего удивительного, поскольку за год до этого, в 1955 г. советский ученый Г. И. Роскин поставил точку в истории открытия «живого» вещества». Живое вещество, о котором говорила О. Б. Лепешинская и которое Г. К. Хрущов, как и другие на совещании, видели своими глазами, оказалось научным артефактом. Но об этом в конце главы.
Если ленинградские ученые не проверили в дополнительных экспериментах опыты О. Б. Лепешинской и основывали свою критику на теоретических аргументах, которые, как показало московское совещание, принимаются не всеми, то речь может идти о недобросовестной критике. У партийных властей возникли вопросы к тринадцати ленинградским ученым и к руководителям тех научных учреждений, в которых те работали. Кто позволил выступать с такой недобросовестной критикой, роняющей престиж советской науки.
При Сталине была идеологическая цензура, но зато не было научной цензуры. И именно это обеспечило расцвет науки в СССР. Решилась О. Б. Лепешинская опубликовать свои научные результаты и нашлись те, кто помог ей это сделать, несмотря на противодействие со стороны некоторых ученых. Если бы была чисто научная критика книги О. Б. Лепешинской, то не было бы ажиотажа вокруг ее имени. Книга при ее небольшом тираже осталась бы незамеченной научной общественностью, но без сомнения нашла бы сторонников среди части ученых. А дальше дело времени и прогресса – стала бы теория О. Б. Лепешинской новой вехой в развитии биологии. Решился Г. М. Бошьян опубликовать свою книгу (с неудачным названием «О природе вирусов и микробов», 1949), и нашлись те, кто помог ему в этом деле. Если бы не было ажиотажа, подогретого тремя дискуссионными сессиями, то и эта книга осталась бы незамеченной, как нарушающая сложившуюся парадигму. По книге высказались, если бы нашли это необходимым, специалисты. И на этом все бы кончилось. Эти два примера убедительно показывают, что в сталинском СССР была свобода научного творчества.
В послесталинское время эта научная свобода кончилась. Идеологи на этих же двух примерах предметно показали, что ученым еще рано давать свободу. Поскольку она может обернуться во вред советской науке пришедшими в нее шарлатанами, проходимцами и просто больными людьми, которые своими действиями могут создать крайне негативный образ советской науки, выставят ее на поругание ненавистниками нашей страны. Так может быть истинная цель партаппарата состояла в том, чтобы стать истинными руководителями науки, отняв эту функцию у академий и дирекций научных учреждений. А для этого надо опираться на ту научную группу, которая ведет активную ненаучную борьбу с другими группами. Время, когда можно было вмешиваться в научный поиск по идеологическим соображениям, уходило в прошлое. Ученых все труднее удавалось подловить на идеологических ошибках. Да и сложным и опасным делом являются идеологические обвинения. Намного безопаснее поддерживать научное мнение, идущее от самих ученых.
В качестве предварительного резюме, я даю следующую реконструкцию событий. Партийные идеологи из Агитпропа в порядке развернутой ими борьбы с Лысенко уговорили ленинградских ученых выступить с критикой книги Лепешинской. Как в это же время они уговорили или «заставили» проректора Ленинградского университета Ю. И. Полянского выступить на открытом собрании с критикой Лысенко, а П. М. Жуковского из Тимирязевской академии и ученых из Московского университета во главе с И. И. Шмальгаузеном осудить Лысенко за извращение дарвинизма. Здесь надо помнить, что в те времена коммунисты не могли критиковать беспартийного академика, не получив согласия на это партийных инстанций. Возможно, что именно те, кто уговорил ленинградцев, придали критике идеологическую направленность, пообещав, что в случае чего прикроют. Они, однако, не учли, что за О. Б. Лепешинскую вступятся старые большевики, которые в первую очередь обратят внимание на оскорбительный характер критики. И на любые доводы партийных функционеров они будут выступать со строго коммунистических позиций – никто в СССР не имеет права унижать человека. Борясь за справедливое отношение к человеку, они могли, как тогда говорили, до Сталина дойти и наверняка их принципиальная позиция была услышана. Идеологам из партаппарата пришлось забыть о своих обещаниях и спешно перестраиваться, выступив теперь в роли активных защитников О. Б. Лепешинской от недобросовестной критики, представляющей ученого коммуниста в качестве идеологического врага советского строя. Мы, таким образом, подходим к ленинградскому делу.
1. 9. Ленинградское дело
«В июне 1950 г. – пишет в своих воспоминаниях В. Я. Александров (1993, с. 36) – в Ленинград прибыли эмиссары Лепешинской – действительный член АМН СССР Н. Н. Жуков-Вережников и доктор биологических наук И. Н. Майский. На заседаниях Ученого совета Института экспериментальной медицины АМН СССР (21–23 июня) должны были выступить посланцы Лепешинской и подписавшие статью тринадцати, в первую очередь заведующие трех отделов Института: общей морфологии (в который входила руководимая мною лаборатория цитологии) – Д. Н. Насонов, экспериментальной гистологии – Н. Г. Хлопин и фитонцидов – Б. П. Токин. Перед собранием по поручению партбюро нас предупредили, что вопрос о сохранении или ликвидации отделов и лабораторий будет решаться в зависимости от того, как выступят авторы антилепешинской статьи и прежде всего Насонов, Хлопин, Токин».
Сразу поправим автора. В Ленинград прибыли не эмиссары О. Б. Лепешинской, но уполномоченные от Агитпропа, раз партийная организация Института экспериментальной медицины получила на этот счет четкие указания по своей партийной линии о том, как должны вести себя отмеченные выше руководители трех отделов ленинградского Института экспериментальной медицины.
Итак, отрицательная рецензия на книгу О. Б. Лепешинской (июль 1948 г. ), московское совещание в защиту О. Б. Лепешинской против ленинградских ученых (май 1950 г. ) и, наконец, подведение итогов в ленинградском Институте экспериментальной медицины были организованы партаппаратом. И это дело не было случайным эпизодом в работе идеологического сектора партаппарата. В послевоенное время партийные идеологи, видимо, руководствуясь метафорой, что в споре рождается истина, стали практиковать проведение открытых для общества дискуссий по важным для страны спорным проблемам. Главный идеолог Партии А. А. Жданов при обсуждении книги Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии» следующим образом сформулировал политику Партии в этом вопросе:
«Наша партия уже давно нашла и поставила на службу социализму ту особенную форму раскрытия и преодоления противоречий социалистического общества…, ту особенную форму борьбы между старым и новым, между отживающим и нарождающимся у нас в советском обществе, которая называется критикой и самокритикой. В нашем социалистическом обществе… развитие от низшего к высшему происходит не в форме борьбы антагонистических классов и катаклизмов, как это имеет место при капитализме, а в форме критики и самокритики, являющейся подлинной движущей силой нашего развития, могучим инструментом в руках партии. Это безусловно новый тип движения, новый тип развития, новая диалектическая закономерность. »
Дискуссия по проблеме живого вещества – это полностью постановочное мероприятие Агитпропа. Сначала уговорили Ленинградских ученых выступить с критикой О. Б. Лепешинской (в газете «Мединский работник»). Затем подготовили ответное слово московских ученых, которое признали более весомым. В этой ситуации по прописанному для всех дискуссий сценарию ленинградским ученым ничего не оставалось как в порядке самокритики разоружиться и признать свою неправоту.
Если московских ученых в их защите О. Б. Лепешинской и ленинградских ученых в их покаянии заставили выступить против истины, тогда точку в этом деле еще рано ставить. Нужно понять, изучая партийные документы той эпохи, почему партийные идеологи вынудили ученых свидетельствовать против истины. Мне, однако, этот сценарий, кстати, активно поддерживаемый западным агитпропом, кажется невозможным. Я уже писал об этом. Но есть необходимость об этом еще раз напомнить, поскольку ставятся принципиальные вопросы, связанные с репутацией советских ученых и самой страны.
Я не могу принять, что все 27 человек, выступивших на Совещании, поддались на уговоры властей лжесвидетельствовать в пользу О. Б. Лепешинской. Что же это за коммунисты, которые заставили ведущих ученых Советского Союза кривить душой, грубо говоря, врать. В это я также не могу поверить.
С высоты наших нынешних знаний, недвусмысленно говорящих о том, что О. Б. Лепешинская действительно ошибалась, нам кажется, что ученых заставили говорить неправду. На самом деле тогда ситуация с проблемой живого вещества не воспринималась столь однозначно. Мнения были самые разные. Некоторые, если и не принимали теорию О. Б. Лепешинской, то не могли выдвинуть против самой идеи порождения клеток из неклеточного вещества серьезных возражений. Были и такие, кто сочувственно отнеслись к идеям О. Б. Лепешинской, хотя и могли считать недостаточными представленные ею доказательства. Наконец, многие не будучи специалистами, полагались на мнения специалистов, положительно охарактеризовавших результаты О. Б. Лепешинской. Мы не случайно привели мнения о желточных шарах ленинградцев и Я. Л. Рапопорта, на глазах которого развертывалась работа О. Б. Лепешинской. Эти мнения диаметрально противоположны. Не исключено, что это мнение об отсутствии в желточных шарах ядра сформировалось у Я. Л. Рапопорта позже, под влиянием работ московского цитолога Г. И. Роскина, с которым он был хорошо знаком, в том числе по совместной работе по клиническим испытаниям противоопухолевого препарата «КР» в конце 1940-х гг. (см. главу 3). Исследования Г. И. Роскина в середине 1950-х гг. наряду с другими работами этого периода разъяснили, в чем ошибалась О. Б. Лепешинская, закрыв тему живого вещества как неподтвержденную ее опытами. Но мы забежали немного вперед. Вернемся назад, ко времени развертывания трагических событий, когда восприятие идей О. Б. Лепешинской не было однозначным.
В. Я. Александров (1993, с. 41) пересказывает самокритичное выступление Д. Н. Насонова, который «сослался на авторитеты академиков Аничкова, Павловского, Сперанского, Северина, профессора Хрущова, которые на майской сессии заверили, что приведенные Лепешинской факты и выставленные новые препараты вынудили их признать правильность ее теоретических положений. Исходя из этого Насонов считал необходимым пересмотреть старые доктрины и признал ошибкой авторов статьи тринадцати чисто словесную критику Лепешинской, без приведения собственных экспериментальных данных по этому вопросу» (выделено нами). Т. е. Д. Н. Насонов признал, что критика тринадцати исходила из чисто теоретических соображений и, следовательно, не была убедительной, чтобы закрыть вопрос о происхождении клеток из живого вещества. Это очень важный момент. Никак нельзя согласиться с мнением, что будто бы под давлением партийных кругов ленинградских ученых вынудили признать ошибочную теорию Лепешинской. Это сейчас мы знаем, что теория О. Б. Лепешинской оказалась ошибочной. В той исторической ситуации речь могла идти лишь о принятии теории О. Б. Лепешинской, как не противоречащей экспериментальным данным и сложившейся на тот момент научной парадигме.
В обсуждаемой нами истории удивляет еще один момент – замедленная реакция партаппарата. Почему он отреагировал на письмо ленинградцев в газету не сразу по горячим следам, а почти через два года. Поскольку само письмо с критикой О. Б. Лепешинской было одобрено партаппаратом, то надо выяснить, что же случилось за эти два года, что позиция партаппарата резко изменилась? Ответ напрашивается сам собой.
В 1949 г. и в начале 1950 г. стало разворачиваться так называемое «Ленинградское дело» о коррупции в верхнем эшелоне власти. Началу «Ленинградского дела» положило Постановление Политбюро от 15 февраля 1949 г. о незаконной организации Всесоюзной оптовой ярмарки председателем Совета Министров РСФСР тов. Родионовым М. И. вместе с ленинградскими руководящими товарищами при содействии члена ЦК ВКП(б) тов. Кузнецова А. А. В постановлении отмечается, что эти и ряд других неправильных действий коммунистов «являются выражением антипартийной групповщины, сеют недоверие… и способны привести к отрыву Ленинградской организации от партии, от ЦК ВКП(б)». А. А. Кузнецов был освобожден от обязанностей секретаря 28 января 1949 г. и в феврале 1949 г. назначен секретарем Дальневосточного бюро ЦК ВКП(б). В ленинградской партийной организации были вскрыты факты фальсификации результатов выборов на объединенной областной и городской партийной конференции (25 декабря 1948 г. ). Объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома партии 22 февраля 1949 г. одобрил решение ЦК об отстранении от должности первого секретаря Ленинградского обкома и горкома П. С. Попкова, объявил выговор Я. Ф. Капустину, наложил партийные взыскания на других лиц, причастных к фальсификации результатов выборов. Практика кумовства и другие серьезные нарушения были выявлены в Госплане СССР, возглавлявшемся Н. А. Вознесенским. 7 марта 1949 г. он был снят с государственных постов и выведен из состава Политбюро ЦК; 12 сентября 1949 г. Н. А. Вознесенский был выведен из состава ЦК ВКП(б). Суд над проходившими по «Ленинградскому делу» состоялся 29–30 сентября 1950 г.
Какая связь между «Ленинградским делом» и письмом тринадцати? Самая прямая. Коллективное письмо с политическими выпадами не могло не получить предварительного одобрения партийных руководителей ленинградской организации, а, возможно, и центра, со стороны агитпропа, который курировал А. А. Жданов. Центральным было обвинение проходивших по «Ленинградскому делу» в групповщине, в попытках противопоставить ленинградцев как особый Центр внутри СССР, «в попытках создать средостение [т. е. создать помехи открытым внутрипартийным отношениям] между ЦК ВКП(б) и Ленинградской организацией и отдалить таким образом организацию от ЦК ВКП(б)». Обращаю внимание на последнюю часть предложения. Руководители Ленинградской организации пытались создать атмосферу нездорового противостояния между ленинградскими и московскими учеными, позволив, а может быть и организовав критику О. Б. Лепешинской в столь уничижительной форме.
Заключая свое повествование о деле О. Б. Лепешинской, Я. Л. Рапопорт ([1988] 2003, с. 277) пишет: «Восстановлением норм общественной и политической жизни сопровождалось и восстановлением (хотя и весьма нелегким) норм подлинной науки, для дискретизации которой трудно было придумать более подходящий персонаж, чем О. Б. Лепешинская. Эта позорная страница в истории советской науки и вообще советской общественной жизни уходила в прошлое, хотя и не забыта окончательно. Однако не следует клеймить позором только О. Б. Лепешинскую. Позор тем деятелям, которые дали безграничный простор ее больному честолюбию, организовали гнусный спектакль с ее посвящением в гении, сделали всеобщим посмешищем старого человека, заслуженного деятеля Коммунистической партии, выставив его на позор и поругание вместе с советской наукой, и не только не понесли никакого наказания, но благополучно почивают на лаврах из шутовского венца О. Б. Лепешинской».
Я могу лишь отчасти согласиться с такой оценкой. Она мне кажется односторонней, поскольку видит во всем происшедшем лишь вину ученых. Ученые безусловно виновны в том, что использовали против своих коллег ненаучные, в том числе политические обвинения, т. е. были виновны в том, что сеяли вражду в рядах ученых, прикрывая это разговорами о необходимости защитить науку от невежд, лжеученых и научных проходимцев. Это прямо-таки бьет в глаза в скандальной истории с О. Б. Лепешинской. Но вражда и скандалы в научной среде ни в каком случае не могут идти на пользу науке. «Досадным пятном в советской биологической литературе» оказалась собственно не сама «ненаучная книга Лепешинской», но тот скандал, который сотворили ученые вокруг этой книги, скандал, продолжающийся благодаря усилиям западного агитпропа до сих пор.
О. Б. Лепешинская лишь повод для вмешательства западного агитпропа в наши дела.
С другой стороны политические обвинения, с которыми выступали ученые против своих коллег, по тем временам не казались чем-то экстраординарным. Это был, так сказать, привычный стиль жизни тех необычных лет. Поэтому не нам, живущим другой жизнью, порицать ученых. Но если мы рассматриваем поведение ученых как нормальное для тех лет, тогда и всё остальное, что было в той жизни следует рассматривать как норму и наши сетования по поводу печальной судьбы генетики уже нельзя признать справедливыми, и именно потому, что оценивают тот период с точки зрения норм жизни другой эпохи.
И как только мы встанем на эту точку зрения, то сразу станет ясно, что не ученые, но политики определяли стиль жизни, включая и стиль так называемых научных дискуссий, сеявших в то время лишь состояние вражды между учеными.
Поэтому, когда Я. Л. Рапопорт говорит, что это ученые «сделали всеобщим посмешищем старого человека, заслуженного деятеля Коммунистической партии», то он запамятовал о том, что сказал до этого, что даже «на покаяние надо было получить согласие власть предержащих, чтобы оно было принято». «Всеобщим посмешищем старого человека, заслуженного деятеля Коммунистической партии» сделали свои, такие же как она коммунисты. Когда академик Н. Н. Аничков говорил, что давление на нас (т. е. не только на него одного) было оказано из таких высоких сфер, то надо полагать, что он и другие, вовлеченные в это дело, доходчиво объясняли, к какому позору и потере престижа советской биологии это может привести. Возможно, что Н. Н. Аничков объяснялся теми же словами, с которыми выступил Я. Л. Рапопорт. Но это не было принято во внимание. И, следовательно, там в высоких сферах проводилась какая-то своя «политика» и проводников этой политики личная судьба О. Б. Лепешинской и судьба советской науки по большому счету не интересовала. Историки должны выяснить, какими мотивами там наверху руководствовались и какие цели при этом преследовали. Если, конечно, там есть, что выяснять. Мне этот сценарий принуждения ученых к лжесвидетельству кажется наименее вероятным, о чем я уже говорил.
В целом историю взлета и падения О. Б. Лепешинской нельзя считать конфликтом между учеными. Он является результатом спланированной акции коммунистических верхов, т. е. является внутренним делом коммунистов. Сам я лично полагаю, что поскольку работа О. Б. Лепешинской, против которой выступили 13 ленинградцев, получила одобрение со стороны Т. Д. Лысенко, который написал к ее книге предисловие, то ее дело было раздуто в качестве одного из элементов борьбы с Т. Д. Лысенко. Т. е. жестко критикуя О. Б. Лепешинскую, ленинградские ученые имели своей главной целью борьбу с Т. Д. Лысенко. И это было главной причиной, побудившей их выступить с общественной (т. е. через газету) коллективной критики работы О. Б. Лепешинской. Еще раз подчеркну, что застрельщиками в этом деле были политики, но не сами ученые. И мы знаем, что борьбу с Т. Д. Лысенко в то время активно вел Агитпроп.
В. Я. Александров в своих воспоминаниях приводит такой эпизод (с. 36): «В середине 50-х годов на мой недоуменный вопрос, адресованный К. М. Завадскому (известный эволюционист, будущий заведующий кафедрой дарвинизма ЛГУ): “Как Вы могли в своей статье, описывая регенерацию листьев бегонии, утверждать, что меристематические клетки возникают из неклеточного живого вещества?” – он ответил: “Я солдат партии”». А ведь К. М. Завадский отчасти прав. Вопрос о живом веществе был научной проблемой, но перестал быть таковой, когда ленинградские ученые выдвинули в адрес О. Б. Лепешинской политические обвинения. После этого научная проблема в ее деле отошла на второй план, а само дело стало заботой Партии, поскольку в нашей стране только Партия имела монополию обсуждать политические и идеологические вопросы. А они решаются на иных основаниях, часто исходя из принципа партийной целесообразности. Вот, например, что сказал на совещании по живому веществу микробиолог В. Д. Тимаков (Совещание, 1951, с. 133): «Эти примеры характеризуют, что идеи О. Б. Лепешинской развиваются на основе учения Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина и рисуют ее как исследователя, ведущего борьбу за партийность в науке». Но и западная наука в этом отношении небезгрешна. Именно руководствуясь этим принципом (только в данном случае буржуазной партийностью) на западе в свое время был искоренен ламаркизм.
Поэтому К. М. Завадский был прав. Да и сам В. Я. Александров в своей книге именно таким образом понимал сложившуюся после сессии ВАСХНИЛ ситуацию, когда отметил, что мичуринская биология стала партийной платформой и что он, будучи коммунистом, обязан ей следовать. Здесь только надо уточнить, что естественная наука не может быть партийной платформой. Речь собственно идет о признании мичуринской биологии в качестве науки, коль не доказано обратное. А если это наука, то и ее критика должна быть научной и не строиться только на мнении западных ученых. Их критика наших ученых, как показала скандальная история вокруг публикации американского ученого Сакса, грешит политическими обвинениями.
Теперь о так называемом поругании советской науки, о котором говорил Я. Л. Рапопорт. Если это не прикрытие групповщины, не попытка искоренить неординарные мнения, тогда это является свидетельством незрелости советской науки, раз возникают комплексы в отношении того, что могут подумать о наших ученых зарубежные коллеги. Ничего не подумают, промолчат как воспитанные люди, если, конечно, в их отрицательном мнении о нас не будут заинтересованы политики, которые всегда найдут тех ученых, которые будут им помогать в борьбе против нашей страны. Как это случилось в так называемых отзывах на перевод книги Т. Д. Лысенко «О наследственности и ее изменчивости». В угоду политикам в этой книге было переведено с полным искажением смысла ключевое определение наследственности, так что само оригинальное понятие наследственности, предложенное Т. Д. Лысенко, т. е. главное в его подходе, оказалось вне поля зрения критиков, которые обыгрывали второстепенные вопросы.
Говорить о престиже советской науки могло бы иметь какой-то назидательный смысл лишь в идеальных обществах. В мире, в котором правит не согласие, но бесконечная вражда, в котором постоянно организуются войны, в том числе и против нас, будет лицемерием ожидать справедливого и сочувственного отношения запада к нашим неурядицам. И это еще надо выяснить не было ли в наших послевоенных неустройствах руки запада, как это оказалось в истории так называемой борьбы с научным шарлатаном Т. Д. Лысенко. В реальных обществах многое определяет пропаганда. Поскольку мы для запада являемся опасными экономическими конкурентами, то все события в нашей истории на протяжении вот уже тысячелетия искажались западными пропагандистскими центрами и возвращались к нам в виде злонамеренных исторических мифов. Мы живем в атмосфере не нами придуманных мифов; из них скроена наша история. Куда это годится, что российская история написана на западе, нашими историческими недругами (немцами, шведами, поляками) в качестве идеологического прикрытия их попыток поработить наш народ. Теперь вот и новейшая история с теми же враждебными в отношении нас целями пишется англосаксами.
Когда рецензенты пишут, что Лепешинская (почему без инициалов?) вводит в заблуждение широкого читателя и дезориентирует учащуюся молодежь, то они использовали не ту площадку для обращения к широкому читателю и молодежи.
Трудно понять, что имел в виду Я. Л. Рапопорт, когда говорил о восстановлении норм подлинной науки в послесталинском СССР. Я этого восстановления не увидел. Групповщина как процветала, так и процветает. Политические выступления ученых против других ученых как были, так и есть. И они заменяли ученым, объединенным клановыми связями, научную критику своих противников. Просто теперь политические выступления осуществлялись в тесном союзе с властью, почему и выставлялись как справедливые, как торжество науки в ее борьбе против научного мракобесия и лженауки. После-сталинская наука скатилась к тоталитаризму. И это одна из главных причин оскудения советской науки. Сталинские профессора были свободны в своем научном творчестве и поэтому действительно делали большую науку. Их успехи были результатом настоящей свободы творчества. А теорию О. Б. Лепешинской, если она была результатом ошибок, можно отнести к издержкам свободы творчества. Научная свобода предполагает право на ошибки даже по невежеству. Когда же ученые, захватившие научную власть в послесталинские времена, стали диктовать всем, что является наукой, а что лженаукой, то тем самым был поставлен заслон свободному творчеству, которое включает в себя не только большие открытия, но и досадные промахи.
Критика с политическими обвинениями является эффективным инструментом в борьбе с инакомыслием в тоталитарной науке.
1. 10. Г. И. Роскин – выдающийся советский ученый, закрывший проблему живого вещества
В. Н. Сойфер (1998) в своей книге, резко критикуя О. Б. Лепешинскую за понятие живого вещества, представил дело так, что за этим понятием нет никакого реального содержания. «Она же [Лепешинская] – писал он (с. 56) – всё более настойчиво утверждала, что в природе существует особое живое вещество, которое до нее никто даже не замечал, а, оказывается, из него могут возникать живые нормальные клетки!» (выделено нами). Такое впечатление, что В. Н. Сойфер не читал книгу О. Б. Лепешинской. А ведь в книге есть специальная глава, которая называется также как и раздел 1. 5 нашей книги: что такое живое вещество? Упомянем также книгу Э. С. Бауэра (1935), первая часть которой называется «Общая теория живой материи». В этой части есть специальная глава «Проблема “живого белка”». Во времена О. Б. Лепешинской, оказывается, были большие ученые, размышлявшие над проблемой живого вещества, сводимого ими чуть ли не к отдельной белковой молекуле. О. Б. Лепешинская говорила о возможности существования внеклеточного живого вещества в организмах. Складов живой материи где-либо в природе, по выражению Е. Н. Павловского, нет.
Мы уже говорили, что О. Б. Лепешинская (1945, с. 87), следуя дореволюционным авторам, понимала под живым веществом «биомолекулы, способные к ассимиляции, способные расти и размножаться». Но это теоретическое, правильнее сказать, натурфилософское определение. Мы, однако, отметили, что конкретным выражением живого вещества в ее построениях являлись желточные шары куриного яйца. Как особые структуры, отделимые от других подобных структур, О. Б. Лепешинская понимала желточные шары по аналогии с бактериальной клеткой, только на два порядка большей. В них она различала цитоплазму, набитую желточными зернами, и ядерное вещество, находящееся в распыленном состоянии.
В 1934 г. О. Б. Лепешинская опубликовала в кольцовском Биологическом журнале большую статью с изложением своих результатов исследования по живому веществу. Приведем ее заключение (с. 251): «Все наши наблюдения говорят за то, что желточные шары, не будучи клетками, являются жизнедеятельными, способными к формативным процессам и даже преобразованию в клетки». Н. К. Кольцов (1934), оценивая результаты О. Б. Лепешинской, высказал сомнение в отношении того, что у высших организмов все ядерное вещество может находиться в распыленном состоянии. Как «столь сложно организованная система, как хромосома, – пишет Н. К. Кольцов (с. 259), – может распасться, раствориться и перейти в неоформленное вещество, а затем заново сложится в такую же хромосомную систему. В хромосомном комплексе – тысячи генов, и все занимают определенное место. Если они разойдутся и смешаются в однородном веществе (как хромидии гертвиговской школы), то вероятность того, что при новом синтезе они сами собой попадут на свои прежние места, будет ничтожно мала…».
О. Б. Лепешинской следовало бы прислушаться к мнению авторитетного ученого с тем, чтобы попытаться найти другие возможные объяснения наблюдавшихся ею картин изменений внутри желточных шаров. Но, видимо, желание опровергнуть великого Вирхова было столь неуемным, что лишило О. Б. Лепешинскую самокритичного восприятия своих результатов.
Я привел мнение большого ученого, каким был Н. К. Кольцов, чтобы подчеркнуть, что никакой фальсификации со стороны О. Б. Лепешинской своих результатов, о чем иногда пишут нынешние комментаторы, не было. Николай Константинович не усомнился в том что О. Б. Лепешинская действительно наблюдала концентрацию распыленного ядерного материала в единую структуру, которую она сочла ядром. Он эти результаты признал и принял саму статью к публикации в своем журнале. Его сомнения были теоретического плана.
Близко к этому критически оценил работу О. Б. Лепешинскую гистолог М. С. Навашин (1936, с. 133), отметивший в подстрочном примечании, что теоретическая несостоятельность ее идей «ясна уже из того, что здесь не дается никакого… объяснения явлений наследственности на основе самозарождения клетки и ее ядра, т. е. мы встречаемся с полным отрывом от научной теории». «В истории науки – продолжил М. С. Навашин – мы знаем десятки примеров, когда "сенсационные открытия” являлись плодом простых ошибок наблюдения» (цитировано по: Гайсинович, Музрукова, 1991). Надо думать, что в отличие от Н. К. Кольцова М. С. Навашин считал ее наблюдения результатом экспериментальных ошибок.
По иному к оценке результатов О. Б. Лепешинской подошли ленинградские рецензенты ее книги. Они усомнились в ее результатах, утверждая, что автор из-за большого количества желточных зерен просмотрел наличие в желточных шарах ядра. По мнению рецензентов, когда желточные зерна стали расходоваться зародышем в качестве питательного материала, то в какой то момент развития ядро стало видимым, что и зафиксировал автор. Утверждалось это безоговорочно, как факт, раз рецензенты ссылались на аналогичные заблуждения ученых прошлого века: «… отсутствие ядра может быть только кажущимся… Это вводило в заблуждение исследователей в середине прошлого столетия, но современному биологу едва ли простительно впадать в ту же ошибку». Поскольку это преподносилось как научный факт, то политические кураторы письма тринадцати постарались придать научной критике О. Б. Лепешинской политический характер.
Но уже через полтора года после критического письма в медицинскую газету выясняется, что ленинградские рецензенты, утверждая о наличии ядра в желточных шарах, исходили в своей критике из непроверенных фактов. А это в корне меняло дело, поскольку речь в этом случае шла о голословных политических обвинениях старого заслуженного коммуниста, что для самих партийных организаторов письма тринадцати могло кончиться весьма плохо с серьезными оргвыводами по партийной линии. Как только это стало ясно, партаппарат и Ю. А. Жданов, как отвечающий за науку, начали активно поддерживать О. Б. Лепешинскую, а сам Ю. А. Жданов стал настоятельно просить ленинградцев проверить опыты О. Б. Лепешинской.
Вполне возможно, что ленинградцы проверили наблюдения О. Б. Лепешинской, но получили те же результаты, что и она. Значит, нужно было и им прислушаться к авторитетному мнению Н. К. Кольцова, который предположительно связывал ошибочные выводы в работе О. Б. Лепешинской с несовершенством гистологической техники. Вот что он писал в своей «рецензии» на упомянутую предвоенную работу О. Б. Лепешинской (Кольцов, 1934, с. 259): «Ошибка цитологов, пытающихся оспаривать это основное положение современной генетики [о необычайной сложности хромосом, которые в силу этого не способны распадаться и также легко воссоздаваться], заключается в том, что они чрезмерно переоценивают точность своей техники и микроскопического наблюдения, еще в высшей степени несовершенную. Еще до сих пор, вместо того чтобы изучить судьбу организованных морфологических структур – хромосом… говорят об ядерном веществе хроматине, которое можно охарактеризовать крайне несовершенными, нестойкими и не имеющими сколько-нибудь прочной теоретической основы красочными реакциями… Как же при таких условиях, т. е. при всей недостаточности микроскопической техники, цитологи могли бы привести нам достаточные доказательства в пользу самозарождения ядра и хромосом, доказательства, которые перевесили бы всю теоретическую невероятность подобного явления?»
Н. К. Кольцов прямо говорит, что он не верит гистологическим Доказательствам самозарождения ядра, и что ошибочность соответствующих выводов является результатом несовершенства микроскопической техники окрашивания. Поэтому его послание адресовано не только О. Б. Лепешинской и ее послевоенным сторонникам, но в равной мере и ленинградским критикам.
То, что Ю. А. Жданов имел к письму тринадцати прямое отношение, на это меня наталкивают следующие соображения. В 1944 г. Агитпроп, руководимый в то время философом Г. Ф. Александровым, вовлек профессора Тимирязевской академии А. Р. Жебрака в борьбу Лысенко (см. подробнее: Шаталкин, 2015). Перипетии борьбы сложились так, что самому А. Р. Жебраку стал грозить «суд чести», мера наказания в виде общественного порицания, введенная в послевоенное время. Вместо того, чтобы молча принять удары судьбы коммунист А. Р. Жебрак (5 сентября 1947 г. ) пожаловался второму лицу в Партии А. А. Жданову, утверждая, что в деле Лысенко его вины нет, что он делал все правильно. Но если ученый не виновен, тогда ответственность лежит на курировавших его деятельность работниках Агитпропа. В итоге через 12 дней был снят со своего поста начальник Агитпропа Г. Ф. Александров, а сам агитационный аппарат был усилен назначением в качестве руководителя М. А. Суслова, одного из секретарей ЦК. Я не исключаю, что последующие мытарства А. Р. Жебрака были результатом его письма-жалобы. Он неосмотрительно подставил человека партаппарата.
Заинтересованность судьбой ленинградцев у Ю. А. Жданова могла быть связана с опасением, что как бы не вскрылась его вовлеченность в дела, связанные с письмом тринадцати. Чем могли воспользоваться недоброжелатели младшего Жданова. В то же время я не сомневаюсь в том, что Ю. А. Жданов приложил максимум усилий, чтобы смягчить оргвыводы в отношении ленинградцев. По тем временам все могло быть и хуже.
Но мы отвлеклись от главной темы – о биологической природе желточных шаров. Ленинградцы утверждали, что желточные шары содержат ядро, которое из-за большого количества желточных зерен могло быть невидимым. «Кроме того, – писали ленинградские ученые, – независимо от потребления желтка, первоначально невидимое ядро может стать видимым, если оно сместится из центра шара (или клетки) на его периферию, или, если клетка, способная (по наблюдениям самой же Лепешинской) к амебоидным движениям, сместится по отношению к фокусу фотоаппарата». Это последнее предположение было опровергнуто в докладе Н. Н. Жукова-Вережникова на совещании по проблеме живого вещества. Вот, что он конкретно сказал (Совещание, 1951, с. 94–95): «… в Лаборатории цитологий Института экспериментальной биологии АМН была предпринята цейтраферная микрокиносъемка[10] культуры желточных шаров. В начале и в конце процесса объекты съемки просматривались мною и И. Н. Майским на всю глубину путем поворота микрометрического винта. Было установлено, что исходный объект (желточный шар) не обнаруживает клеточной структуры ни в одной оптической плоскости Однако в конце процесса в том же исходном объекте обнаружилась клеточная структура [т. е. ядро], а самый объект признан гистологами несомненной клеткой». Эта проверка подтвердила результаты О. Б. Лепешинской и одновременно неправоту ленинградских критиков. Как в такой ситуации поступить другим ученым? Ничего не остается делать, как признать научную правоту О. Б. Лепешинской. Конечно, сомнения остаются, но чтобы их рассеять, необходим принципиально иной взгляд на всю проблему в целом. А это уже должно рассматриваться как научное открытие принципиального значения, коль скоро оно должно поставить точку в проблеме живого вещества.
В 1955 г. вышла статья советского гистолога Г. И. Роскина, содержащая интересные результаты изучения желточных шаров. Во введении автор пишет (с. 112), что «такой существенный компонент плазмы яйцеклеток, как желток…. был неоднократно предметом многосторонних и очень детальных исследований. Появление работы О. Б. Лепешинской (1950) натолкнуло и нас на постановку ряда цитологических и цитохимических наблюдений…». Сразу подчеркнем, что Георгий Иосифович рассматривал работу Ольги Борисовны как вполне научную, более того, как имеющую эвристическую ценность. Сама книга, видимо, привлекла его внимание после 1950 г., когда ситуацию с пониманием желточных шаров (а именно, являются ли они примером живого вещества или нет) можно охарактеризовать как научный тупик. С одной стороны сомневаться в результатах О. Б. Лепешинской нет оснований, а с другой стороны с ее выводами трудно согласиться по теоретическим соображениям, одно из которых и очень серьезное было высказано еще до войны Н. К. Кольцовым, о чем мы уже говорили. Г. И. Роскин, заметим, был учеником Н. К. Кольцова.
В исторической справке Г. И. Роскин отметил существование трех точек зрения в понимании желточных шаров.
1. «… элементы желтка (желточные зерна, пластинки, шары) являются мертвыми, образуя вместе с зернами крахмала, каплями жира и т. п. так называемые парапластические элементы клеток.
2. «… желточные компоненты протоплазмы обладают рядом свойств, отличающих их от инертных, мертвых парапластических включений.
3. «… гипотеза М. Д. Лавдовского (1901) о происхождении некоторых эмбриональных клеток не от клеток предшествующей генерации, а из желточных шаров».
Изучение ферментов в желточных шарах показало наличие них пероксидазы. Следовательно, первая точка зрения может быть оставлена как противоречащая экспериментальным данным.
Второй цикл исследований Г. И. Роскина был связан с выявлением ядерных или ядроподобных образований в желточных шарах «Исследования желточных шаров на фиксированных и различно окрашенных препаратах… не дали ничего нового по сравнению с тем что было описано ранее другими исследователями, начиная с М. Д. Лавдовского (1899)[11], Гиса (1868)[12] и кончая О. Б. Лепешинской» (с. 114) Это означает, что О. Б. Лепешинская в своих наблюдениях за желточными шарами была точна.
Одновременно Г. И. Роскин обратил внимание на старые данные французского гистолога Форе-Фремье (1910; в списке литературы эта работа не приведена), который обнаружил, что «важнейший компонент желтка – лецитин (жироподобное вещество, фосфолипид) может давать такой же эффект окрашивания так называемыми ядерными красителями (в том числе железным гематоксилином), как и типичные ядерные структуры…». Сходные результаты были получены Провачеком (Prowazek, 1913) на разных препаратах лецитина.
Понятно, что наличие лецитина, окрашиваемого сходно с ядроподобными материалами, не является доказательством отсутствия нуклеиновых кислот в желточных шарах. Поэтому были проведены исследования с целью выяснить, содержат ли желточные шары тимонуклеиновую кислоту (ДНК). «По данным О. Б. Лепешинской, желточные шары содержат тимонуклеиновую кислоту, так как дают положительную реакцию Фельгена (чрезвычайно серьезный аргумент в пользу ядерной природы «ядроподобных» включений в желточных шарах). Таким образом, считается доказанным присутствие ядерного вещества в желточных шарах и на основе этого доказывается теория образования клеток из желточных шаров» (с. 116).
Как ведущий в нашей стране специалист по микроскопической технике Г. И. Роскин отметил, что при проведении своих экспериментов по выявлению тимонуклеиновой кислоты с помощью реакции Фельгена О. Б. Лепешинская не провела контрольные опыты с целью определения временных границ предварительного гидролиза желточных шаров в соляной кислоте. Для типичной реакции Фельгена длительность гидролиза не должна превышать 25 минут. Проведенные Г. И. Роскиным эксперименты показали, что желточные шары дают красно-фиолетовое окрашивание с реактивом Шиффа в реакции Фельгина без предварительного гидролиза, так и при гидролизе продолжительностью от 5 минут до 24 часов. «Это доказывает, что красно-фиолетовое окрашивание зависит не от присутствия дезоксирибонуклеиновой кислоты, а от альдегидов, входящих в состав желточных шаров».
И окончательный вывод, который делает ученый (с. 116). «Таким образом, надо считать доказанным, по всей совокупности наших цитологических наблюдений и гистохимических данных, что в желточных шарах нет ни ядер, ни ядроподобных веществ, ни диффузно распределенного ядерного вещества» (выделено нами). Этот вывод находит поддержку в результатах, полученных В. Н. Ореховичем с сотрудниками (1954), которые показали (с. 612), используя меченные аминокислоты, что «белки желточных шаров в отличие от белков тканей развивающегося куриного эмбриона не участвуют в процессах обновления и не способны к развитию. Таким образом, предположение о возможности развития из белка и желтка куриного яйца клеточных элементов кажется маловероятным».
Сделав вывод об отсутствии в желточных шарах ДНК, Г. И. Роскин ставит следующий вопрос: какие факторы вызывают появление в желточных шарах «ядроподобных» образований. Ответ был дан польским исследователем Гродзинским (Grodzinski, 1949, 1950), который показал, что желточные шары являются осмометрами, чувствительными к изменениям осмотических условий среды. При изменении этих условий «гомогенный белково-липидный комплекс, каким является желточный шар, распадается на раздельные белковые и липоидные компоненты… образуются весьма многообразные по морфологической картине структуры. Наблюдаемые изменения в желточных шарах представляют собой хорошо известный процесс коацервации (с. 117–118). Не исключено, что Гродзинский занялся изучением желточных шаров под влиянием работ О. Б. Лепешинской.
Итак, из исследований Г. И. Роскина вытекает, что желточные шары, если и содержат ДНК, то не в том количестве, достаточном образования ядра. О. Б. Лепешинская ошибалась. Вместе с ней ошибались и ее квалифицированные сторонники. Но одновременно ошибались в своем критическом письме в газету «Медицинский работник" ленинградские ученые, утверждавшие, что ядро в желточ. шарах есть и что на ранних этапах оно просто плохо различимо из-за большой плотности желточных зерен. Являлась ли это результатом слабого знания литературы. По-видимому, нет. Г. И. Роскин (с. 116) сослался на пять работ, включая собственную книгу, в которых разбирались те тонкости проведения реакции Фельгена на дезоксирибонуклеиновую кислоту, несоблюдение которых может привести к ошибочным заключениям. Из этих пяти работ одна датирована 1949 г. ; другие опубликованы в 1951–1954 гг. О. Б. Лепешинская своей книгой поставила проблему, связанную с техникой окрашивания, за решение которой и взялись отмеченные Г. И. Роскиным исследователи. Решение этой проблемы показало, в чем заключалась ошибка О. Б. Лепешинской. Но на момент выхода ее книги (1945 г. ) эта ошибка не воспринималась учеными в качестве таковой.
Что именно в таком ключе рассматривалась работа О. Б. Лепешинской, об этом свидетельствует в своей книге активный участник тех трагических событий ленинградский ученый З. С. Кацнельсон (1963, с. 290): «Проверка данных О. Б. Лепешинской и ряда ее последователей показало их полную теоретическую и методическую ошибочность, а теоретический разбор ее работ обнаружил их методологическую несостоятельность». З. С. Кацнельсон ссылается на работы, включая статью Г. И. Роскина, вышедшие в 1955 г. и позже. Значит, до выхода этих работ доказательств ошибочности «открытия» О. Б. Лепешинской не было. Хотя нельзя исключить того, что ее открытие многими воспринималось как ошибочное, но по теоретическим основаниям, т. е. предположительно.
В связи со сказанным уместно привести мнение Нобелевского лауреата по физике (2003 г. ) В. Л. Гинзбурга о соотношении ложных и псевдонаучных (лженаучных) утверждений в науке. «Лженаука – это всякие построения, научные гипотезы и так далее, которые противоречат твердо установленным фактам. Я могу это проиллюстрировать на примере. Вот, например, природа теплоты. Мы сейчас знаем, что теплота – это мера хаотического движения молекул. Но это когда-то не было известно. И были другие теории, в том числе теория теплорода, состоящая в том, что есть какая-то жидкость, которая переливается и переносит тепло. И тогда это не было лженаукой, вот что я хочу подчеркнуть. Но если сейчас к вам придет человек с теорией теплорода, то это невежда или жулик. Лженаука – это то, что заведомо неверно».
Применяя этот важный критерий к исследованиям О. Б. Лепешинской, мы должны сказать, что используемая ею методика выявления ДНК в желточных шарах была нестрогой и в силу этого ее заключение о формировании ядра из распыленного внутри желточного шара ядерного материала было ошибочным, но не лженаучным утверждением. Но в равной мере было ошибочным утверждение ленинградских критиков О. Б. Лепешинской, что желточные шары содержат нормальное ядро на всех стадиях их существования. Это ошибочное мнение повторили как истинное Л. Н. Жинкин и В. П. Михайлов (1955), но тогда оно еще не приобрело статуса псевдонаучного утверждения. Но вот то, что его некритично воспринимают как истинное современные комментаторы тех событий, в том числе и проф. В. Н. Сойфер (1998), ставят их работы по ключевым утверждениям в разряд лженаучных, согласно критерия В. Л. Гинзбурга. Мы вернемся к теме соотношения науки и лженауки в конце книги.
Была ли только О. Б. Лепешинская введена в заблуждение «коварством» техники гистологического окрашивания. Оказывается, что нет. Г. И. Роскин отметил, что «известный итальянский гистолог Камилло Гольджи… опубликовал в 1923 г. наблюдения над желточными шарами, которые он рассматривает как элементы, имеющие все характерные свойства клеток… Сейчас нетрудно выяснить, что Гольджи был введен в заблуждение применяемым им методом серебряной импрегнации, который, как мы теперь хорошо знаем, может давать разнообразные артефакты, имитирующие центросомы, митохондрии или хромосомы. Пиерантони (Pierantoni, 1927, 1932, 1951) в ряде работ развил идеи Гольджи. Для Пиерантони желточные шары – это автономные существа субклеточной природы, живущие на только в яйцеклетке, но и способные жить и размножаться на искусственной полужидкой среде» (выделено Г. И. Роскиным).
Camillo Golgi, выдающийся врач и гистолог, лауреат Нобелевской премии (1906 г. ); его именем назван так называемый комплекс Гольджи внутри клеток эукариот. Umberto Pierantoni, итальянский зоолог, академик Папской академии. Он изучал кольчатых червей, двукрылых, а также занимался, как следует из статьи Г. И. Роскина, проблемами общей биологии. Насколько я могу судить, никакого ажиотажа вокруг отмеченных ошибочных работ итальянских ученых, обвинения их в безграмотности, в пропаганде лженаучных теорий, в том что они роняют престиж итальянской науки и Папской академии не было. Значит, нам надо разобраться в причинах общественного ажиотажа вокруг ошибочных работ советских авторов, пропагандистской шумихи, продолжающейся, к сожаления, до сих пор.
Попробуем реконструировать возможный ход событий, связанных с исследованиями О. Б. Лепешинской.
Важной отправной точкой в этих наших усилиях понять объективную заданность событий являются свидетельства А. Е. Гайсиновича (Гайсинович, Музрукова, 1991), который, по его признанию, бьл научным редактором книги О. Б. Лепешинской. Не соглашаясь со многим из того, что защищала в своей книге Ольга Борисовна, А. Е. Гайсинович послал письмо о своем несогласии в отдел науки Агитпропа. Возможно, что не только А. Е. Гайсинович сигнализировал о научной несостоятельности книги. Тем не менее Агитпроп, как было сказано, разрешил опубликовать проблемную книгу О. Б. Лепешинской. В самом этом факте нет ничего такого, чтобы заострять на этом внимание. Книга по своему идейному содержанию не вписывается в сложившиеся представления в данной области биологии. Но с другой стороны фактические данные, выводы из которых противоречат этим общепринятым представлениям, пока вне критики. Н. К. Кольцов (1934) в этой непростой ситуации встал на сторону сложившейся в научном сообществе парадигмы, заподозрив неладное в гистохимических методах окрашивания. И он оказался прав, но выяснилось это лишь через двадцать лет, в 1955 г., когда с разъяснениями по этому вопросу выступил Г. И. Роскин.
Как Н. К. Кольцов счел нужным опубликовать в своем журнале проблемную статью О. Б. Лепешинской, так и Агитпроп разрешил публикацию проблемной книги Ольги Борисовны в 1945 г. И оба решения, я считаю, были совершенно правильными. Проблемные публикации следует печатать. Они важный источник саморазвития науки, ее поступательного движения. Трудные годы советской биологии в послевоенное время не были связаны с публикацией поддержанных властью «псевдонаучных книг» О. Б. Лепешинской и Г. М. Бошьяна, против которых выступили прогрессивные ученые. Они были результатом идеологической политики нашего государства.
После войны в высшем эшелоне власти возникла идея проведения широких гласных дискуссий по самым разным вопросам жизни общества. Главная цель дискуссий – повысить активность масс в деле строительства социализма. Параллельно предполагалось развернуть борьбу с групповщиной в обществе, борьбу против попыток руководителей административно зажимать, а то и подавлять инициативные предложения, идущие снизу или со стороны от активных членов общества. Действенным инструментом этой борьбы должно былопо мысли партийных руководителей, развертывание критики снизу и самокритики сверху.
Сейчас мы знаем, что ничего хорошего из этой политики демократизации советского общества, насаждаемой сверху, не получилось. В науке эти так называемые дискуссии обернулись глубокой враждой между учеными. И эта посеянная когда-то вражда внутри советского общества продолжается, к сожалению, до сих пор, ныне подогреваемая зарубежными грантами.
Думаю, что в какой-то момент развертывания кампании по критике и самокритике в Агитпропе вспомнили, что они в свое время разрешили публикацию проблемной книги О. Б. Лепешинской. Вот хороший повод провести научную дискуссию по проблеме живого вещества. Но ученые, взять хотя бы того же А. Е. Гайсиновича, не очень спешат с критикой О. Б. Лепешинской. Значит надо помочь им в этом деле и ненавязчиво посоветовать выступить против безграмотной работы, роняющей честь советской науки и советских ученых. В Москве, видимо, желающих не нашли. Возможно, что А. И. Абрикосов и Я. Л. Рапопорт убедили других оставить Ольгу Борисовну в покое. До войны работу О. Б. Лепешинской критиковали Б. П. Токин, Н. Г. Хлопин, Д. Н. Насонов. Значит нужно просить ленинградских товарищей. Опыт был. До этого, в 1947 г. «убедили» ученых Московского университета выступить против новаций Т. Д. Лысенко в дарвинизме. Но в Ленинград не наездишься. Поэтому скорее всего просили местных коммунистов посодействовать. Но дело шло туго и его удалось сдвинуть с приходом в Агитпроп Ю. А. Жданова, который как бы был из своих и которого убедить в научной отсталости Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинской не составляло трудностей. Итог появление письма тринадцати в медицинской газете.
А дальше ситуация вышла из под контроля Агитпропа. Ленинградцы, понадеявшись на защиту младшего и старшего Ждановых, не представили убедительных доказательств неправоты О. Б. Лепешинской. И вместо дискуссии между ленинградскими и московскими медиками, в которой, по замыслу, должны были бы «найти» истину грянула кампания по осуждению ленинградцев.
Заключение. Ключевым событием, запустившим развитие ситуации вокруг О. Б. Лепешинской по крайне негативному сценарию, было письмо 13 ленинградских ученых в газету «Медицинский работник» с политизированной критикой в ее адрес. Здесь ни в коей мере не отрицается необходимость и значимость контроля за научной продукцией со стороны ученых. Критиковать нужно и это полезно для самих критикуемых. Но ведь они критиковали работу О. Б. Лепешинской не за ее реальные ошибки, но только потому, что ее работа не вписывалась в сложившуюся систему знаний, т. е. по чисто теоретическим соображениям. Я не могу понять, что заставило ленинградцев выступить в такой политизированной форме с чисто теоретическими возражениями, которые, кстати, в газетном формате невозможно было раскрыть.
И главное, надо сообразовывать свою критику с конкретной ситуацией и с учетом этого решать, кого и в каком формате следует критиковать, а кого не стоит затрагивать, т. е. воздержаться от критики. Я зримо представляю себе Я. Л. Рапопорта, который московским критикам О. Б. Лепешинской говорил – разве Вам не жалко такую милую старушку, а потом уже серьезно добавлял: возможно, что у нее будут какие-то неприятности, но больше их будет у нас. Если, как явствует из рецензии, ленинградцы не видели в О. Б. Лепешинской ученого, то не было особой необходимости в критике ее книги.
В СССР только государство давало деньги на науку. И если оно пристроило О. Б. Лепешинскую в науку, то значит руководители страны опасались доверить ей другую работу в сфере государственного строительства. Это ведь не случайно, что ей выделили вторую квартиру в престижном правительственном доме для организации лаборатории. Заслуженный большевик. Что не сделаешь ради того, чтобы она чувствовала к себе внимание и заботу. И это от научного окружения зависело направить ее энергию на решение реальных научных проблем. Но сделать было это практически невозможно, раз О. Б. Лепешинская работала в полном отрыве от научного коллектива.
И вот группа ленинградских ученых квалифицирует книгу О. Б. Лепешинской как ненаучный и безграмотный труд. Кто виноват в том, что этот безграмотный труд, написанный старейшим и уважаемым коммунистом, был опубликован. В первую очередь руководство того института, в котором работала О. Б. Лепешинская. Т. е. вина лежит на академике А. И. Абрикосове и его заместителе по научной части проф. Я. Л. Рапопорте.
Возникает вопрос, почему у подписавших критическое письмо и в первую очередь у коммунистов не возникла мысль, что обвиняя старейшего и уважаемого члена Партии в научном невежестве, они наносят удар по авторитету самой Партии. О. Б. Лепешинская партийный символ. И если она сделала ошибку по безграмотности, то в ее безграмотности, выставленной напоказ, виновны ученые, которые ее окружали. Они в этом деле проявили беспечность. Приходит и другая мысль, не было ли это дело раздуто с целью дискредитации старейшего члена Партии. Нельзя исключить и того, что Агитпроп проводил свою политику, нацеленную на подчинение ученых своему контролю. Видите, сколько напрашивается неприятных вопросов. Почему же ленинградские ученые проявили вопиющую политическую близорукость?
Я предполагаю, что те в Агитпропе, кто понукал ленинградцев написать письмо против О. Б. Лепешинской, представили это дело так, что главной мишенью критики будет Лысенко, написавший положительное предисловие на антинаучную книгу. Ленинградские ученые только не приняли во внимание тот факт, что за честь старейшего революционера в стране было, кому постоять. Я уже говорил о такой возможности. Это, во-первых. Во-вторых, Т. Д. Лысенко не являлся специалистом по гистологическим препаратам и поэтому вынужден доверять фактическим данным О. Б. Лепешинской. А поддержал он ее наряду с другими причинами также потому, что в ее концептуальных представлениях он нашел поддержку своим идеям. В-третьих, ленинградские ученые проявили в этом деле недопустимое научное высокомерие, считая, что только они владеют истинной и по этой причине имеют право бездоказательно отвергать работы, которые они признали ошибочными.
И еще одно замечание. Любые попытки обсуждать трудные годы советской биологии будут неполными, если не будут высвечены личные и групповые интересы ученых в борьбе тех лет. А они были, о чем в свое время говорил академик Л. А. Орбели (1948). Он, в частности, упомянул о попытке захвата группой Жебрака-Дубинина Института цитологии, гистологии и эмбриологии «Нам, – подчеркнул Л. А. Орбели (с. 35) – руководителям Отделения, пришлось провести два больших 6-часовых заседания в Институте, добиваясь того, чтобы гистология и эмбриология, механика развития как важные разделы науки о развитии оставались в системе Института и продолжали бы свободно разрабатываться. Эта борьба продолжается в Институте о сих пор, и на долю дирекции Института досталась очень тяжелая задача…». За спиной генетиков тогда стоял Агитпроп и в слу-чае реального захвата Института в нем не нашлось бы места его директору проф. Г. К. Хрущову, гистологу по специальности. У Г. К. Хру-щова в такой ситуации не было иного выбора как искать защиты и поддержки со стороны Т. Д. Лысенко.
ГЛАВА 2. Эта странная история о сенсационных открытиях Г. М. Бошьяна в области микробиологии
2. 1. С чего началась история о сенсационных открытиях
«Мы считаем неверным и ненаучным мнение о том, что фильтрующиеся вирусы и авизуальные формы (фильтрующиеся формы) бактерий не имеют между собой ничего общего. Фильтрующиеся вирусы и авизуальные формы бактерий – это лишь различные формы существования микробов, различные стадии развития микроорганизмов»
Бошьян, 1949, с. 11.
Забегая вперед, сразу скажем – никаких открытий не было. Были лишь декларации об открытиях, которые в отсутствии конкретных данных невозможно было ни повторить, ни проверить. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в своих экспериментах Г. М. Бошьян наблюдал конкретный, на то время слабо изученный в микробиологии феномен, которому он, к сожалению, дал неправильное объяснение.
Г. М. Бошьян к моменту объявления о своих сенсационных открытиях в области микробиологии был заведующим отдела биохимии и микробиологии Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) Министерства сельского хозяйства СССР. Он занимался много лет изучением возбудителя инфекционной анемии лошадей. В 1949 г. в Медгизе вышла его книга «О природе вирусов и микробов», в которой он утверждал, что (с. 5) возглавляемым им коллективом ученых «…доказаны три основные закономерности, являющиеся общебиологическим законом развития вирусов и микробов.
1. Фильтрующиеся вирусы способны превращаться в микробные формы, которые затем могут быть превращены в фильтрующиеся вирусы.
2. Микробные формы способны превращаться в фильтрующие-ся формы (вирусы), которые снова могут быть превращены в фильт-рующиеся вирусы и микробные формы.
3. Фильтрующиеся вирусы и микробные формы способны пре-вращаться в кристаллические формы, которые снова могут быть превращены в микробные формы».
Собственно с этой книги все и началось. В предисловии к ней директор ВИЭВ проф. Н. И. Леонов так охарактеризовал работу Г. М. Бошьяна (с. 3): «Открытие автором закономерности превращения вирусов в визуальную бактериальную форму, а также превращения вирусов и бактерий в кристаллическую форму… означает подлинную революцию не только в микробиологии, но и во многих других областях биологической науки».
Пример с Г. М. Бошьяном, если не видеть в нем политической составляющей, о которой мы выскажемся позже, – это свидетельство неразвитости науки, в данном случае микробиологической ветеринарии. С другой стороны это свидетельство необычайно быстрого роста советской науки, которая по призыву И. В. Сталина и других партийных руководителей вознамерилась в короткие сроки и по существу с нуля догнать науку развитых стран. Вот как эту задачу сформулировал И. В. Сталин (2004а, т. 3, с. 272) в речи перед избирателями Сталинского округа г. Москвы 9 февраля 1946 г.: «… особое внимание будет обращено… на широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов[13] (аплодисменты), могущих дать возможность науке развернуть свои силы (Бурные аплодисменты). Я не сомневаюсь, что если окажем должную помощь нашим ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны. (Продолжительные аплодисменты)».
Развитие науки в нашей стране сопровождалось быстрым ростом численности научного персонала и, к сожалению, потерей на первых порах общего уровня научных исследований. В ситуации постоянного ожидания со стороны гражданского общества научного прорыва и могли получить признание, в том числе у руководителей, заведомо ошибочные идеи, «опровергающие» научные устои. Таковы были реалии роста советской науки того периода. Этот момент был подчеркнут проф. Н. И. Леоновым в том же предисловии к книге Г. М. Бошьяна (с. 3–4): «Книга Г. М. Бошьяна – новый ценный вклад в передовую советскую науку, незыблемо утверждающий приори-тет нашей родины в крупном биологическом открытии. Нет никаких сомнений в том, что эта книга положит начало потоку новых исследований (в первую очередь в микробиологии и изучении иммунитета), которые не только подтвердят парадоксальные… факты неопровержимо установленные автором, но и приведут в ближайшее время к дальнейшим открытиям первостепенного теоретического и практического значения (выделено нами).
К сожалению, книга Г. М. Бошьяна далека от научного стандарта, а в самом его деле обнаруживается ряд темных мест, требующих объяснения. Во-первых, странным кажется перевод Г. М. Бошьяна из ветеринара (он окончил Ереванский ветеринарный институт) в медики. Вот что пишет в этой связи В. Я. Александров (1993, с. 109–110) «9 августа 1949 г. за подписью министра здравоохранения СССР Е. И. Смирнова был издан приказ, одобренный заведующим сельхо-зотделом ЦК КПСС А. И. Козловым, о создании в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР (НИИЭМ) лаборатории по изучению изменчивости микробов во главе с Г. М. Бошьяном». Кто такой Г. М. Бошьян и что он сделал в науке, никто не знал. Его книга была подписана к печати 28 декабря 1949 г. Поэтому с ней к моменту зачисления Г. М. Бошьяна в институт микробиологии никто не мог ознакомиться. В самой книге нет ни одной ссылки на предшествующие работы Г. М. Бошьяна, имеющие отношение к его открытиям. Вообще, это удивительная работа по части цитирования научных источников. Авторы упоминаются иногда с инициалами, но чаще без них, и лишь иногда с указанием года издания; конкретные ссылки на литературу даны лишь два раза, и оба на работы классиков марксизма: К. Маркс, Ф. Энгельс Избранные письма на с. 7 и Энгельс Диалектика природы на с. 105 (почему-то в этом случае приведена лишь фамилия).
2. 2. Что писали и пишут о Г. М. Бошьяне
В нашей исторической науке, связанной с изучением послево-енного развития советской биологии, утвердилось мнение о Г. М. Бо-шьяне как о научном шарлатане и мошеннике. Одним из первых об этом сказал В. П. Эфроимсон в своей критике Лысенко, написанной в 1950-х гг., но опубликованной лишь в 1989 г. «Многолетним успехом пользовался перенос этого шарлатанства [новой теории образования видов Лысенко] в бактериологию (Бошьян). Опираясь на идеи акад. Лысенко и О. Б. Лепешинской, поддержанных профессорами А. Студитским, Жуковым-Вережниковым, Леоновым и некоторыми другими «ведущими» бактериологами Советского Союза, Бошьян опубликовал сенсационное сообщение о превращении множества видов микробов в другие виды, в вирусы, в кристаллы и обратно» (Эфроимсон, 1989, с. 104–105; выделено нами). Здесь необходимо уточнить – идея Т. Д. Лысенко о возможности превращения одних видов в другие не могла служить путеводной звездой для Г. М. Бошьяна, поскольку соответствующая работа Т. Д. Лысенко «Новое в науке о биологическом виде» вышла позже его книги. Г. М. Бошьян говорил о широкой изменчивости микробов, одной из стадий существования которых является фильтрующаяся форма. Но он не говорил о превращении одних видов бактерий в другие.
Я. Л. Рапопорт ([1988] 2003, с. 260–261) характеризует Г. М. Бошьяна как мистификатора: «Ярким примером могут служить научные открытия мистификатора Бошьяна. По его утверждению он “открыл закономерности превращения вирусов в визуальную бактериальную форму, а также превращения их в кристаллическую форму, способную к дальнейшей вегетации”. Автор провозгласил свои открытия революцией в микробиологии и в других областях биологии. Однако быстро было установлено, что все его “открытия” – плод глубочайшего общего невежества и элементарного пренебрежения техникой биологического исследования, необходимость соблюдения которых известна даже школьникам. Попервоначалу, до разоблачения Бошьяна, как мистификатора и невежды, его “открытие” произвело оглушающее впечатление в стиле “открытий” Лысенко и Лепешинской». Для свидетелей тех лет Бошьян был олицетворением невежества. Но, может быть, исходя из этого, Агитпроп и проталкивал Бошьяна в великие ученые советской страны. Видите, какая в результате получилась интересная троица выдающихся представители советской науки – Лысенко, Лепешинской и Бошьян – троица, вторая по сложившемуся тогда у части научного сообщества мнению могла служить эталоном невежества, троица, за которой маячи-ла покровительствовавшая ей фигура Сталина. Может быть Сталин и был главной мишенью кураторов Агитпропа, точно также как во второй половине 1920-х гг. он мог оказаться главной мишенью вернувшейся борьбы марксистских диалектиков против ламаркис. тов (см. гл. 5). Вернемся из области догадок к делу Бошьяна.
Вот что пишет о Г. М. Бошьяне В. Я. Александров (1993) в своей известной книге о тех временах: «Учение Бошьяна также, несмотря на полную абсурдность, на несколько лет вошло в понятие “передовой советской мичуринской науки”» (с. 32). Хорошо бы прояснить кто включил учение Бошьяна в мичуринскую биологию. У самого Т. Д. Лысенко о Г. М. Бошьяне нет ни слова. Мы об этом будем говорить дальше. Вот еще одно высказывание в виде обобщающего заключения (с. 109): «Правильно оценив обстановку, сложившуюся в биологии в результате лысенковской деятельности, Бошьян с энергичной помощью директора ВИЭВ Н. И. Леонова решил пробиваться в лидеры микробиологии и иммунологии. Достижения Бошьяна, полностью отвергающие основы современной “буржуазной” науки, были вполне созвучны блестящим победам мичуринской биологии, и поэтому Леонову и Бошьяну быстро удалось заручиться безоговорочной поддержкой в Министерствах здравоохранения и сельского хозяйства СССР». Мы с такой оценкой категорически не согласны. Не Г. М. Бошьян стал энергично пробиваться в лидеры советской науки, а его стали проталкивать в ряды выдающихся мировых ученых, превратно, видимо, поняв упомянутый выше призыв И. В. Сталина.
А вот как В. Я. Александров характеризует Г. М. Бошьяна в личностном плане: «В предыдущих разделах записок было рассказано о том, как удалось избавиться от шарлатанства Бошьяна, на короткий срок вынырнувшего на поверхность лысенковской мути» (Александров, 1993, с. 145). В другом месте Г. М. Бошьян характеризуется как аферист (с. 237): «Когда появилась книжка афериста Бошьяна, вздорность которой была ясна всякому биологу, Студитский сразу разразился тремя статьями с восхвалением этого “блестящего открытия”». И еще о Г. М. Бошьяне как научном аферисте (с. 252–253): «Лысен-ковщина создала условия, сделавшие возможным кратковременную, но нанесшую большой вред деятельность афериста Г. М. Бошьяна и инспирировала организацию “Быковской” сессии 1950 г., “Быковская” сессия разрушила работу ряда научных коллективов и надолго задержала развитие многих важнейших разделов физиологии».
А вот как характеризует Г. М. Бошьяна историк науки В. Н. Сой-фер (1998, с. 192): «Орехович нашел два показательных примера которые убедительно продемонстрировали главный феномен, сопро-вождавший научную работу Бошьяна-его мелкое шулерство… Орехович поймал неуклюжего махинатора на том, что он переделал на свой лад фразу Ленина… Бошьян был проходимцем в науке, человеком малограмотным… Здесь же [в критике Ореховича] речь шла о другом – о действиях, возможно, обычных среди жуликоватых рыночных торговцев, но абсолютно неприемлемых в науке». Дополним эти характеристики Г. М. Бошьяна мнением о нем как фальсификаторе. «Недавно вышла книга Г. М. Бошьяна, в которой содержится обширный материал по вопросу о неклеточных формах существования микробов… Нет надобности здесь напоминать тот огромный вред, который нанесло советской медицине и здравоохранению это “открытие”. Важно лишь отметить, что возможность появления подобных невежественных фальсификаций науки была обусловлена длительным господством в нашей стране антинаучных измышлений Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинской» (выделено нами).
О том, что имели в виду биологи, говоря о неклеточных формах жизни, мы подробно говорили в первой главе. Приведем в дополнение довоенное мнение академика Б. А. Келлера. Говоря об этапности развития жизни на земле, он (1936, с. 14) выделил третий этап, связанный с возникновением «организмов вроде бактерий, которые проще клетки». А несколькими абзацами ниже читаем: «Между тем бактерии – существа доклеточные. Что касается ядра…. то, конечно, оно у бактерий совершенно отсутствует. А обозначать или подтягивать под термин ядра всякие отдельные крупинки хроматина совершенно недопустимая “обезличка и уравниловка”». Не было в то время среди образованных биологов консенсуса в отношении того, что считать клеткой и как понимать бактерии – как существа клеточные или, следуя Энгельсу, как существа доклеточные.
В то, что коммунист Г. М. Бошьян был аферистом, шулером, махинатором, в общем проходимцем – в это я не могу поверить. Г. М. Бошьян возглавлял большой коллектив ученых. В книге упомя-нуто 11 только старших научных сотрудников, работавших в отделе, возглавляемом Г. М. Бошьяном. Невозможно представить, что все они были пособниками афериста и махинатора Бошьяна. Да и глядя на фотографию Геворга Мнацакановича я вижу в нем серьезного и, под-черкнем, стеснительного человека.
Более убедительной мне кажется противоположная версия, что Г. М. Бошьян не был научным мошенником, но оказался жертвой не-преодолимых обстоятельств. И поэтому у меня нет желания кидать камни ни в Г. М. Бошьяна, ни в Н. И. Леонова, директора Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии, в котором Г. М. Бощь-ян работал, ни в тех лиц в министерствах, которые раскрутили его «открытия», обеспечившие ему путь наверх.
Как было сказано, сенсационные результаты Г. М. Бошьяна стали доступны научной общественности реально в начале 1950 г., после того, как самого ученого перевели из ветеринаров в медики (август 1949 г. ). Отсюда и неясность, за какие такие заслуги для Г. М. Бошьяна организовали лабораторию в престижном московском институте эидемиоло-гии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея АМН СССР. Но ведь это не все. По данным В. Н. Сойфера (1998, с. 179–180), Бошьян сохранил за собой заведование биохимическим отделом в ВИЭВ, «сумел организовать еще одну лабораторию в том же институте, одновременно возглавил лабораторию во Всесоюзном Институте экспериментальной медицины имени Горького Минздрава СССР (деятельность этой лаборатории была тут же засекречена, а у дверей отсека, где разместился Бошьян с помощниками, стоял часовой с оружием)… Под началом Геворга Мнацакановича уже в 1950 году, его триумфальном году, работало несколько сотен научных работников – целый институт».
А. И. Китайгородский (1973, с. 116), характеризуя книгу Г. М. Бошьяна, писал: «Графики, таблицы, фотографии, описания опытов: что и говорить, книга серьезная… А может, несерьезная? Может быть, все-таки, враки? Может быть, Г. Бошьян – неграмотный работник?». Вряд ли можно усомниться в том, что те, кто начал раскручивать Бошьяна через Минздрав, показали также свою неграмотность. Ими как раз был показан высокий профессионализм в своем деле: подняли ученого на научный Олимп, по существу на пустом месте, когда у того еще не было ничего серьезного, что можно было бы предъявить научной общественности, а потом отдали его на «съедение» этой самой научной общественности.
Давайте попробуем реконструировать возможный ход событий. В ВИЭВ работает группа сотрудников во главе с Г. М. Бошьяном, которым, как им кажется, удалось показать переход вирусов в бактерии и наоборот. Если это верно, то полученные результаты действительно будут представлять научную сенсацию. Поэтому у руководства института и у самого Г. М. Бошьяна имеются вполне понятные опасения, что это может быть не так, что полученные ими данные могут оказаться следствием ошибки, связанной с какими-то неучтенными факторами. Ввиду этого проведенные эксперименты и их результаты обсуждаются пока лишь внутри института и не выносятся на суд широкой научной общественности, т. е. не публикуются. Приглашаются сторонние ученые, но свои. На с. 105 книги упомянута комиссия в составе проф. Леонова, акад. Перова, проф. Иванова, проверявших работу Г. М. Бошьяна. Обратите внимание – фамилии приведены без инициалов. Кто такой проф. Иванов теперь и не скажешь, хотя, возможно, это гистолог В. Г. Иванов, упомянутый на с. 18 книги. Или М. М. Иванов, получивший в 1949 г. вакцину против паратифа поросят. Перов – это скорее всего академик ВАСХНИЛ биохимик по специальности С. С. Перов. В комиссии нет микробиолога. Это может косвенно свидетельствовать, что сам Г. М. Бошьян не был микробиологом, раз не мог привлечь для обсуждения своих результатов знакомых микробиологов.
И вот к «открытиям» Г. М. Бошьяна, которые еще обсуждаются в кругу своих, проявило огромный интерес чужое ведомство, Министерство здравоохранения СССР. Оно вдруг объявило Г. М. Бошьяну, что он сделал эпохальные открытия в области микробиологии и предложило ему перейти в престижный институт эпидемиологии и микробиологии и возглавить в нем новую лабораторию. А поскольку это направление работ является необычайно перспективным, то сами работы следует засекретить, дабы западные ученые при их более мощной научно-технической базе не смогли перейти дорогу советскому ученому. Возможно, что это дело с раскручиванием Г. М. Бошьяна поначалу пытались провернуть через Министерство сельского хозяйства СССР, в системе которого работал ученый. А может быть с самого начала исключили такой вариант. Научную сторону там курировал Т. Д. Лысенко, который первым делом бы спросил – покажите работы этого новоявленного претендента в выдающиеся советские ученые. А показывать в то время было нечего.
Как бы то ни было Г. М. Бошьяна стали раскручивать через Минздрав. Для этого чиновники из Минздрава предложили ему срочно написать по результатам своих исследований книгу. Г. М. Бошьян не был готов к написанию книги. Он располагал лишь материалами по возбудителю инфекционной анемии лошадей, что было явно мало для написания обобщающей монографии. Но, видимо, уговорили, возможно, под предлогом зафиксировать приоритет советских уче-ных, пообещав помочь с публикацией книги в Медгизе. В Сельхоз-гизе изданию книги мог воспрепятствовать Т. Д. Лысенко.
О. Б. Лепешинской, работавшей в системе Минздрава, не удалось, как мы писали выше, опубликовать свою книгу в этом издательстве. Рецензенты не пропустили. В случае Г. М. Бошьяна, видимо, обошлись без рецензентов, на выходных данных его книги они не значатся. Более того, рукопись О. Б. Лепешинской, с которой ознакомились специалисты, была опубликована небольшим тиражом в 1000 экземпляров. Книга Г. М. Бошьяна сразу вышла большим тиражом в 25 тысяч экземпляров. С книгой еще не успели толком ознакомиться заинтересованные ученые, а тут через полгода вышло второе стереотипное издание (подписано к печати 6 июня 1950 г. ) тиражом в 100 тысяч экземпляров. Это контрастирует с издательской судьбой книги О. Б. Лепешинской. После того как она получила признание, ее книгу Медгиз переиздал тиражом всего лишь 20 тысяч экземпляров. Уже на этих, как бы мелочах, можно понять, что Г. М. Бошьяна специально раскручивали.
В этой связи можно лишь частично согласиться с мнением В. Я. Александрова, который писал в своей книге (1993, с. 116): «Бошьяновская эпопея могла возникнуть и какое-то время процветать лишь на почве, возделанной Лысенко, при полном игнорировании мнения ученых микробиологов, вирусологов и иммунологов со стороны министерских чиновников и соответствующих партийных инстанций». Здесь надо только понять, почему министерские чиновники и функционеры из соответствующих партийных инстанций игнорировали мнения ученых микробиологов, вирусологов и иммунологов? У меня ответ на этот вопрос есть. Они игнорировали мнения ученых, поскольку преследовали собственные цели, раскручивая личность Бошьяна как выдающегося ученого и опасались, что ученые, если выступят раньше времени, помешают им.
Сейчас об этих целях мы можем лишь гадать. Но что они были, в этом не может быть сомнения. Как бы партийные инстанции поступили, если бы требовалось просто помочь Г. М. Бошьяну в продвижении его открытий. Они бы организовали слушания по этим открытиям с привлечением к обсуждению авторитетных микробиологов и иммунологов. Эта обычная практика: прежде чем принять партийным руководителям управленческое решение, надо выяснить мнение на этот счет специалистов. Если помогать с публикацией книги, то также в этих же целях – с тем, чтобы после выхода книги выяснить мнение ученых и уже тогда решить, следует ли расширить соответствующие исследования или все оставить, как было, т. е. разрешить продолжить исследования в рамках поисковой темы.
Почему партийные инстанции стали раскручивать Бошьяна до выяснения мнения ученых? Какие цели они могли преследовать? Мы вернемся к этим вопросам позже, а сейчас попробуем понять позицию, занятую Г. М. Бошьяном.
Поскольку материалов для обобщающей книги было мало, то Г. М. Бошьяну пришлось провести большое число экспериментов летом 1949 г. На эту непонятную и вредную при проведении научных экспериментов спешку обратил внимание в своей критической статье проф. В. Н. Орехович (1950). Мы же полагаем, что Г. М. Бошьяна начали продвигать с весны 1949 г. и ему как коммунисту было поставлено жесткое условие написать книгу в такие сроки, чтобы ее можно было опубликовать в 1949 г. Меня не оставляет ощущение, что «дело» Бошьяна как-то связано с «делом» Лепешинской, которое подготавливалось также в 1949 г. Вернее, что Г. М. Бошьяна специально, причем в срочном порядке подготавливали для участия в «деле» Лепешинской.
Что в такой сложной ситуации должен был сделать Г. М. Бошьян, понимая, что он вовлечен в какую-то «игру» верхов, смысл которой и его роль в этом деле он не понимает. В первую очередь не сказать лишнего в своей книге. Раз его личного опыта недостаточно, чтобы понять и оценить свои результаты, то надо изложить их так, чтобы исключить в случае, если он действительно ошибся, возможность профессиональной критики, т. е. обвинения самого Г. М. Бошьяна в научном невежестве. По моему мнению, Г. М. Бошьян перестраховался и встал на неправильный путь. В книге он сделал заявку на открытия, утаив главное – как были получены результаты, составляющие фактическую основу этих открытий. И теперь соотносить его результаты с данными других исследователей можно лишь предположительно. И безусловно прав был проф. В. Н. Орехович (1954), когда указал на беспочвенность и бесплодность «идей» Бошьяна, к которому вполне применимы процитированные В. Н. Ореховичем слова И. П. Павлова: Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил Ваш взор своими переливами этот мыльный пузырь, он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у Вас не останется. Ключевые теоретические новации Г. М. Бошьяна, ошибочные с точки зрения сегодняшней науки, строились на результатах, которые непонятно как получены.
Давайте прочитаем, что пишет Г. М. Бошьян о переходе вируса инфекционной анемии лошадей в бактерию (с. 15–16): «С помощью особой, разработанной нами методики мы получили на искусственных питательных средах из фильтрующегося вируса культуру видимого под микроскопом микроба, проследили и зафиксировали основные стадии его развития и доказали, что полученный нами микроб является всего лишь другой формой фильтрующегося вируса инфекционной анемии» (выделено нами).
А далее говорится (с. 16): «Это открытие… дало возможность совершенно по-новому поставить вопрос об изучении вирусных и микробных инфекций». И это всё. А где же описания самих экспериментов, в которых получены такие сенсационные результаты. Их нет в опубликованном виде, на что обращали внимание критики тех лет в частности один из наиболее авторитетных критиков директор Института биологической и медицинской химии АМН СССР проф. В. Н. Орехович. Да и сама книга это подтверждает (с. 16): «Результаты наших исследований за первые три года этого десятилетия (1939–1941) – изучение вируса анемии лошадей, патогенеза заболевания и диагностики – опубликованы нами в 1940, 1941 и 1947 гг. ». Из приведенного текста можно заключить, что опубликованные работы к новым открытиям, излагаемым в книге, отношения не имеют.
Вот как излагаются результаты по получению бактериальной формы вируса псевдочумы птиц (с. 63): «Установив возможность и закономерность превращения фильтрующегося вируса инфекционной анемии лошадей в бактериальную форму и доказав, что эти формы являются лишь различной формой существования возбудителя, мы применили этот принцип и по отношению к фильтрующемуся вирусу псевдочумы птиц… (с. 64). Опыты по превращению вируса в микроб проводились нами как с нефильтрованным, так и с профильтрованным (через стерилизующие бактериальные фильтры) вирусом псевдочумы птиц. В обоих случаях обнаружена микробная культура».
Здесь ссылка идет на декларированные результаты по вирусу инфекционной анемии лошадей, о которых мы говорили выше. Там было сказано о разработанной группой Г. М. Бошьяна «методике получения на искусственных питательных средах из фильтрующегося вируса… микробов». Что это за методика – об этом ни слова. Но главное, в книге нет никаких доказательств превращения фильтрующегося вируса в бактериальную форму. Пока это всего лишь гипотеза. Ведь если бы работа Г. М. Бошьяна развертывалась нормальным для науки образом с предварительным обсуждением полученных результатов, то наверняка нашлись бы те, кто посоветовал бы ученому сосредоточиться на результатах и оставить смелые гипотезы на потом. А эти результаты Г. М. Бошьяна были бы сами по себе интересны, но только в том случае, если бы было известно, как они получены.
А вот декларативные заключения по вирусу чумы свиней (с. 66): «руководствуясь данными, установленными нами ранее, при изучении вируса инфекционной анемии лошадей и псевдочумы птиц, мы совместно с сотрудниками нашей лаборатории М. С. Шабуровым и М Н. Поповьянц получили микробную культуру из крови больных чумой свиней».
Сходным образом декларировано получение микробных форм вирусов ящера, инфекционного энцефаломиелита лошадей, бешенства, осеннего энцефалита человека, сыпного тифа и инфлюэнцы свиней (с. 72–74). На этой же странице утверждается о получении микробных форм из предположительно вирусных возбудителей рака: «Убедившись в опытах с различными вирусами в наличии общей закономерности выделения визуальных микробных форм при применении нашей методики и основываясь на широко распространенной гипотезе о вирусной этиологии злокачественных опухолей, мы провели ориентировочные исследования фильтрата сывороток крови и фильтрата опухоли раковых больных. Из пропущенной через стерилизующую пластинку фильтра Зейтца сыворотки крови трех больных с карциномой желудка и двух с карциномой слизистой рта и мочевого пузыря, а также фильтрата опухоли грудной железы была получена однородная культура мелких палочек. Микробная культура была также выделена из фильтрата сыворотки крови человека, тяжело больного лейкемией» (выделено нами). Что эта за методика также осталось за кадром.
Проф. В. Н. Орехович (1950, с. 240) в связи с «открытиями» Г. М. Бошьяна в области изучения рака пишет: «Одно это открытие может быть названо выдающимся событием в науке. Однако Г. М. Бошьян особенного значения этому открытию не придает и говорит о нем вскользь, в нескольких строках. В действительности же это – важнейший вопрос, и ради него следовало бы бросить все остальное, чтобы разрешить, наконец, проблему, которой занимаются практически безуспешно в течение десятков лет сотни ученых во всем мире». Можно полностью согласиться с ученым. Раз получена микробная культура мелких палочек, надо было бы в первую очередь заняться ими и выяснить таксономическую принадлежность этих палочек. А не придает он «особенного значения этому открытию» лишь потому, что его полностью захватила ложная идея таксономического тождества вирусов и бактерий. И здесь, кстати, снова будет полезным напомнить приведенные выше слова И. П. Павлова. Печаль-но, что в последующие пять лет, когда Г. М. Бошьяну были предоставлены большие возможности для проведения научных исследований, ничего не было сделано в плане практической реализации написанной декларации по возбудителям рака.
Проф. В. Н. Сойфер (1998, с 181–182), приведя мнение В. Н. Ореховича, сопроводил его такими комментариями: «Орехович открыто сказал о безграмотности Бошьяна, о том, что ничего, кроме артефактов, в труде, претендующем на эпохальность, нет… с юмором рассказал об открытии Бошьяном микробной природы рака… Разве – ??? продолжил В. Н. Сойфер на следующей странице – выдумки про истоки рака были более кощунственными, чем лысенковское табу на гены?». Книга В. Н. Сойфера имеет подзаголовок «Псевдонаука в СССР». Речь, следовательно, идет о псевдонаучных выдумках Бошьяна.
Но вот что интересно. Примерно в эти же годы (1947–1950) Вирджиния Вилер [позже Wuerthele-Caspe, еще позже Livingston-Wheeler] (Wheeler, 1948; Wuerthele-Caspe, Allen, 1948; Wuerthele-Caspe et al., 1950; Livingston-Wheeler, 1950) вместе с помощниками обнаружила (впервые в науке) связанных с раком бактерий (впоследствии определенных как микобактерии), которые имели фильтрующиеся формы. В США Вирджинию Ливингстон-Вилер никто не обвинял в псевдонаучных выдумках. Она уважаемый ученый. Более того, тема о бактериальной природе некоторых заболеваний рака до сих пор не снята с повестки дня в США и в Европе. Возможно, что Ливингстон-Вилер ошибалась. А вдруг нет. И тогда на результаты Г. М. Бошьяна, которые датируются 1949 г., придется смотреть совсем другими глазами и сожалеть об упущенных нашим ученым возможностях.
Все нами сказанное означает, что в книге Г. М. Бошьяна, если говорить лишь о его главных идеях, закономерностях перехода вирусов в бактерии и бактерий в вирусы, нет предмета для научного обсуждения, нет открытия, которое можно проверить, лишь заявление об открытии. Это примерно аналогично тому, что в систематике называют Nomen nudum – «голое название», т. е. имя таксона, которое было введено без указания отличительных признаков, по которым этот таксон может быть опознан среди множества других. Здесь же речь идет о «голых экспериментах», о которых ничего нельзя сказать по существу и которые, следовательно, нельзя повторить.
Таким образом, основываясь лишь на этом уведомляющем по своему характеру описании проведенных группой Г. М. Бошьяна опытов невозможно доказательно объяснить, какой феномен наблюдали ученые. Поэтому ничего нельзя определенно сказать о причинах ошибок в построениях Г. М. Бошьяна, очевидных с высоты нынешних наших знаний о ключевых особенностях бактерий и вирусов. Можно лишь строить догадки на этот счет.
2. 3. Какие научные результаты могли скрываться за опытами Г. М. Бошьяна
Давайте оценим, оставив в стороне гипотезы, конкретные результаты экспериментов Г. М. Бошьяна. Во-первых, им получены фильтрующиеся формы бактерий, которые он ошибочно принял за вирусы. В то время это можно было не считать серьезной ошибкой. Вирусы многими определялись по признаку фильтруемости через бактериальные фильтры (т. е. по размерным отличиям) и внутриклеточному паразитизму. Вот определение А. Д. Гарднера (1935, с. 34; английское издание – 1931 г. ): «При современном состоянии наших знаний вирус следует определить как “возбудитель инфекции, размеры которого лежат за пределами разрешающей способности микроскопа”». В книге Ф. Бернета (1947, перевод с издания 1946 г. ) вирусы понимаются собственно также, как крошечные бактерии. Но одновременно Ф. Бернет (с. 41) приводит интересные соображения, рассматривая вирусы в качестве внутриклеточных паразитов, утерявших в результате целой серии регрессивных мутаций «способность синтезировать химические компоненты питания… Известные нам вирусы являются представителями различных стадий такого постепенного приспособления [к внутриклеточной жизни]. Организм достигнет теоретической конечной точки этого процесса, когда останется только голая нуклеопротеиновая молекула, еще способная производить себе подобных, но получающая необходимый материал и энергетические ресурсы для размножения целиком и полностью за счет метаболической активности клетки хозяина». Это понимание настолько объемлющее, что под него вполне могут быть отнесены ультрамикроскопические формы, теряющие (временно) в силу своей малости некоторые структуры и функции. Заметим, что к вирусным заболеваниям Ф. Бернетом отнесены (с. 23) дифтерия, сифилис и малярия (скорее всего описка).
Фильтрующиеся бактериальные формы (т. е. формы, проходящие через бактериальные фильтры) были обнаружены у туберкулезной микобактерии (Fontes, 1910). В последующем их находили у многих бактерий, как патогенных, так и сапрофитов. В нашей стране до войны ими активно занимался В. В. Сукнев (1935; Сукнев, Тимаков, 1937). Выходили отдельные статьи других авторов. Отметим, в частности, Н. И. Жукова-Вережникова, Н. Н. Красильникова, В. А. Крестовникову, М. Д. Утёнкова, В. Д. Тимакова. После войны по фильтрующимся формам бактерий вышло несколько обзорных работ Г. П. Калины (1949,1951) и С. Н. Муромцева (1950,1951,1953). В этом плане книга Г. М. Бошьяна вполне дополняет эти работы.
Бактерий делят на две большие группы грамположительных и грамотрицательных по признаку окраски методом Грама. В основе этого деления лежат различия в строении клеточной стенки (см. подробнее: Шаталкин, 2004). Клетки организмов отделены от окружающей среды или других клеток (у многоклеточных форм) плазматической мембраной. У типичных грамотрицательных бактерий над плазматической мембраной расположены опорный тонкий пласт (толщиной 2–7 нм) из пептидогликана (муреина), а над ним дополнительная наружная мембрана (двупленочные организмы, или дидермы-термин предложен Gupta, 1998, 2011). У грамотрицательных архебактерий наружная мембрана и пептидогликановый каркас отсутствуют. Вместо этого над плазматической мембраной имеется слой белковых или гликопротеиновых субъединиц (S-слой).
У типичных грамположительных бактерий (вторая) наружная мембрана отсутствует (однопленочные организмы, или монодермы). Пептидогликановый (муреиновый) каркас у них тостый (порядка 20–80 нм), отчетливо превышающий толщину плазматической мембраны. К тому же он пронизан молекулами тейхоевых и липотейхоевой кислот, представляющих собой полимеры из перемежающихся остатков фосфатов и глицерина (или рибита). Тейхоевые кислоты пронизывают пептидогликановый слой на разную глубину. Липотейхоевые кислоты одним концом полимерной цепи заякориваются в мембране. Грамположительные архебактерии характеризуются наличием псевдомуреина в своих стенках. Однако при окрашивании псевдомуреин часто разрушается. Поэтому лишь некоторые метаногены (например, Methanobacterium formicicum) имеют грамположительную окраску. Благодаря толстому слою пептидогликана окраска (после обработки кристаллическим фиолетовым) удерживается у форм, почему они и были названы грамположительными бактериями.
Что в этом плане показывают бактериальные формы вируса, полученные в экспериментах Г. М. Бошьяна. Указано, что бактериальная форма вируса псевдочумы птиц является грамположительной. Бактериальные формы вируса инфекционной анемии лошадей более разнообразны. Среди них представлены грамположительные структуры в виде мелкой зернистости, переходящие в грамположительные клетки коккоидной и шаровидной формы, которые могут объединяться в клеточные пакеты, напоминая сарцин; представлены также грамположительные и грамотрицательные формы в виде мелких и крупных палочек и, наконец, бактерии, образующие мицелиальную структуру (рис. 41–49). Сходные данные получены при изучении «микробной культуры» вируса чумы свиней (с. 66): «В первых генерациях культура имела вид грамположительной зернистости. При последующих генерациях получены грамотрицательные коккобактерии». Кроме того, были получены «культуры микробов типа актиномицетов… коротких и тонких грамположительных и грамотрицательных палочек.
Эти «результаты» определенно свидетельствуют, что Г. М. Бошьян ошибался в своих сенсационных заключениях. То, что он и его группа получали, возможно, представляли собой L-формы бактерий, не имеющие отношения к вирусам. Если, конечно, под вирусами понимать то, что понимается под ними ныне, а не любые фильтрующиеся формы, как они исходно были определены. L-формы были открыты в 1935 г. Эмми Клинебергер (Klienberger, 1935) в культуре Streptobacillus moniliformis. Фильтруемость L-форм была показана в 1949 г. (Klienberger-Nobel, 1949). Фильтрующиеся бактериальные формы регистрировались многими авторами, о чем мы уже говорили. До войны они признавались не всеми. Читаем у А. Д. Гарднера (1935, с. 15): «Благодаря французским авторам… в недавнее время возродилась теория существования микробов ультрамикроскопической фазы развития; эти авторы утверждают, что им удалось констатировать наличие фильтрующихся форм у палочки туберкулеза и что они получили многочисленные подтверждения этого факта. Однако в Англии, Германии, Америке все попытки проверить эту работу дали одинаково отрицательные результаты». Я не нашел указаний, что данные Клинебергер-Нобель о фильтруемости L-форм были опровергнуты. Советские критики Г. М. Бошьяна вопрос о «восстановлении» бактерий из фильтрующихся форм в его опытах не подвергали сомнению.
Клинебергер-Нобель (Klienberger-Nobel, 1951) суммировала данные по L-формам бактерий в обстоятельном обзоре в престижном журнале Bacteriological Reviews. В том же году и в том же журнале был опубликован еще один обзор – Dienes, Weinberger, 1951.
Возникновение L-форм бактерий связано с полной или частичной утратой ими способности синтезировать клеточную стенку. В силу этого они часто показывают неупорядоченный рост в длину и ширину и поэтому могут принимать различную форму, в частности, гранулярную размером от 1 до 5 мкм, шаровидную, палочковидную, колбасовидную, нитевидную длиной до 200 мкм и диаметром от 0,06 до 10 мкм, в виде элементарных телец размером от 0,2 до 1,0 мкм, в виде больших неопределенной формы клеток с размерами от 5 до 50 мкм. Поэтому L-формы способны проходить через бактериальные фильтры. Большинство из этих форм зафиксированы, на наш взгляд, в экспериментах Г. М. Бошьяна. При сохранении способности синтеза клеточной стенки L-формы могут реверсировать в исходную бактериальную форму, которая в зависимости от типа клеточной стенки может быть грамположительной или грамотрицательной. Но превращение грамположительных клеток в грамотрицательные как раз и было показано Г. М. Бошьяном. L-формы, способные к размножению, сохраняют, как показано недавними исследованиями, возможность синтеза пептидогликана. Он имеет какое-то значение для успешного размножения.
Среди L-форм широко представлены микроорганизмы, проходящие через бактериальные фильтры (фильтрующиеся формы бактерий). Поэтому нельзя исключить того, что группа Г. М. Бошьяна наблюдала фильтрующиеся формы бактерий, связанных не только с L-формами, но и с распадом бактерий и другими близкими феноменами, открытыми в последующие годы.
Какие можно еще привести доводы в пользу того, что Г. М. Бошьян и его сотрудники работали с бактериями и их L-формами? На с. 104–105 книги Г. М. Бошьян приводит данные о том, что кипячение и автоклавирование при 120 °C не убивает возбудителя инфекционной анемии лошадей. Устойчивость к действию высоких температур – это характерная черта L-форм бактерий. Сошлемся на работу болгарских ученых (Markova et al., 2010), которые показали, что при автоклавировании при 134 °C в течение 15 минут колонии Escherichia сoli выживают за счет превращения нормальных бактериальных клеток в L-клетки.
В этой связи можно привести мнение С. Н. Муромцева (1951, с. 166), выступившего с критикой книги Г. М. Бошьяна: «Выводы книги Г. М. Бошьяна следует признать неправильными в своей основе. Его исходная концепция, что микробы не убиваются ни высокой температурой, ни дезинфицирующимися веществами, не погибают и в организме зараженных животных и растений, не научна». Если Г. М. Бошьян выделял L-формы, то последние действительно устойчивы ко многим веществам, включая антибиотики, ингибирующие рост клеточной стенки (например, пенициллин и циклосерин).
При этих превращениях в L-формы в порядке защиты от температурного стресса, также может иметь место образование микрокристаллов ДНК, связанной с особым белком Dps (Cole, 1968; Wolf et al., 1999; Frenkiel-Krispin, Minsky, 2002). В книге Г. М. Бошьяна также говорится о появлении кристаллических форм, которые он ошибочно связывал с вирусами и бактериями. Критики книги высказали мнение о неорганической природе «кристаллов» Г. М. Бошьяна, и, скорее всего, так оно и есть для большинства показанных им кристаллов (см. Орехович, 1952, который суммировал критические замечания в адрес Г. М. Бошьяна). В то же время нельзя исключить того, что в некоторых случаях (см, например, с. 87 его книги) речь могла идти о реальной биокристаллизации. Но истину теперь уже, видимо, невозможно установить.
Если Г. М. Бошьян получал L-формы каких-то бактерий, то какова их роль в развитии инфекции, учитывая, что последняя вызывается, по общему признанию, каким-то определенным вирусом, но не бактериями? Поскольку Г. М. Бошьян считал вирусы фильтрующимися формами бактерий, то этот вопрос у него не мог возникнуть. В то же время определенного ответа на этот вопрос пока нет. Можно строить лишь правдоподобные объяснения. Монтаньер (Montagnier, Blanchard, 1993; Montagnier, 2000), обсуждая вирус иммунодефицита предположил, что некоторые бактерии могут действовать как кофакторы вирусных инфекций. Более того, он полагал, что эти бактериальные кофакторы и являются главной причиной тяжелого недуга, каким является спид. «Мы можем – говорил он в интервью в 2009 г. (цит. по: MacAllister, 2011) – подвергаться риску приобрести вирус иммунодефицита много раз без того, чтобы стать хронически больными. Если у вас хорошая иммунная система, то она способна освободиться от вируса в течение немногих недель». Собственно и Г. М. Бошьян говорил примерно то же самое, а именно, что активная фаза вирусного заболевания может определяться бактериальными формами (наш ученый, напомним, смешивал вирусы и фильтрующиеся формы бактерий). Предположение Монтаньера было поддержано Линн Маргулис (Lynn Margulis), которая в качестве такого кофактора указывала на спирохет с их поразительной способностью противостоять действию антибиотиков. Другие авторы называли микобактерий в качестве агентов, осложняющих течение заболевания. Сложная природа некоторых вирусных инфекций – одно из возможных объяснений результатов, полученных Г. М. Бошьяном. Об этом, в частности, говорил крупнейший отечественный вирусолог Л. А. Зильбер при обсуждении его опытов (см. дальше). Отметим, что для ряда вирусных инфекций показано сопряженное развитие бактериальных заболеваний. Но последние обычно трактуются как вторичные инфекции.
Теперь о главном. Тогдашняя критика работы Г. М. Бошьяна полностью обошла ключевую тему его книги о якобы выявленных им закономерностях превращения вирусов в бактерии и бактерий в вирусы. Я это связываю с тем, что в описываемое время природа вирусов была неизвестна. Если мы откроем книгу о вирусах Ф. Бернета (1947), поступившую в продажу, судя по выходным данным в конце декабря 1947 г. или в начале следующего года, то в ней вирусы трактуются как сверхкрошечные бактерии, проходящие через бактериальные фильтры. В пользу этого понимания говорит «наличие почти непрерывных рядов промежуточных форм между типичными патогенными бактериями (например, стрептококками или тифозными бактериями) и мельчайшими вирусами» (с. 38). Я думаю, что Г. М. Бошьян исходил из этого представления о природе вирусов.
В тоже время многие авторы (того времени) считали эту точку зрения «упрощенной и односторонней». В их понимании «сформировавшаяся микробная клетка представляет безусловно более позднюю форму в сравнении с предклеточными формами жизни, какими являются ультравирусы» (Муромцев, 1951, с. 169). Вирусы, следовательно являются самостоятельной формой жизни. Некоторые авторы, особенно среди ботаников, при этом отрицали живую природу вирусов (см. Гамалея, 1939; Федоров, 1940).
Ввиду того, что в рассматриваемое время ни одна из точек зрения на природу вирусов не могла быть строго доказана или опровергнута, микробиологи не были категоричны в оценке альтернативных приближений, не разделявшихся ими. Так, С. Н. Муромцев (1951, с. 169), хотя и видел в вирусах отличную от бактерий форму жизни, тем не менее считал «вполне возможным допустить, что некоторые ультравирусы генетически связаны с видимыми микробами».
За исключением работ по инфекционной анемии лошадей все другие «опыты» по получению микробных форм из вирусов, в том числе возбудителей рака, проводились летом 1949 г. Результаты этих опытов не могли быть известны. Тогда встает вопрос, на каком основании Минздрав оказал поддержку Г. М. Бошьяна и организовал для него этим же летом лабораторию. Проф. В. Н. Орехович (1950) в своем критическом отзыве на книгу Г. М. Бошьяна отметил, что такие «темпы [в проведении экспериментов] не могут не вызвать изумление у всякого, кто знает, какую кропотливую и трудоемкую задачу представляет изолирование и идентификация культуры каждого отдельного микроорганизма. Кроме того, в этот же период получено в кристаллическом состоянии 40 видов микробов и вирусов. Вирусы “рака” и лейкемии превращены в микробы».
Коснемся теперь критики книги Г. М. Бошьяна. Начнем с современных авторов. Меня удивил разоблачительный характер нынешних оценок. Вот что пишет проф. В. Н. Сойфер(1998,с. 93): «В 1949 г. Г. М. Бошьян… описал превращение не видов или родов, а, ломая все “предрассудки” ученых, переход вирусов (неклеточных форм) в микроорганизмы (клеточных форм) через стадию кристаллов».
В 1998 г. такое утверждение безусловно может быть сочтено предрассудком. Но было ли оно таковым в 1949 г. Ведущий советский вирусолог, много занимавшийся проблемами онкологии, Л. А. Зильбер (1952, с. 98–99), видимо, не знал, что вирусы в отличие от бактерий являются неклеточными формами. Поэтому не уличил Г. М. Бошьяна в невежестве. При всем этом он не принял его гипотезу и предложил свое объяснение полученных им результатов: «Изучение явлений симбиоза вирусов и микробов дает существенные материалы для понимания ошибок тех исследователей, которые, выделяя при вирусных заболеваниях различных микробов, являющихся носителями вирусов, принимали их [микробы] за возбудителей этих заболеваний. К этой же категории явлений относятся и сообщения о пре-вращении вирусов в микробы. Достаточно посмотреть микрофотографии, приводимые в книге Бошьяна (1950), чтобы убедиться в том что, например, формы, описываемые им в качестве шаровидной фор. мы возбудителя инфекционной анемии лошадей, представляют собой дрожжи[14]. Поскольку дрожжи не могут быть возбудителем этого заболевания, их специфическую инфекционность можно объяснить только тем, что они являлись носителями вируса инфекционной анемии».
Безусловно, это всего лишь недоказанная гипотеза, попытка дать иное толкование результатов, полученных Г. М. Бошьяном. Отталкиваясь от этого объяснения, легко представить ситуацию, когда носителем вируса будут какие-то патогенные бактерии, например, микобактерии. И тогда идеи Л. А. Зильбера о симбиозе бактерий и вирусов будут созвучны с высказываниями упомянутого выше французского вирусолога Монтаньера и ряда других авторов. В эти представления легко впишутся результаты Г. М. Бошьяна.
Вот критическая статья авторов из Черновицкого медицинского института (Калина, Фихман, 1952). Авторы пишут (с. 528), что в своей книге Г. М. Бошьян выдвинул «положения, очень интересные по своей сущности, но малообоснованные экспериментально… микробы и вирусы, находящиеся в тесном генетическом родстве, могут переходить друг в друга; и те, и другие, при известных условиях, превращаются в кристаллы, – образования, “чрезвычайно устойчивые к всевозможным физическим, термическим и химическим воздействиям” (стр. 92)… способность к кристаллизации и особая устойчивость микробов в этом состоянии – единственные из всех положений, выдвинутых в книге, которые могут быть приписаны самому автору. Все остальное – наличие у микробов фильтрующихся форм, вероятная генетическая связь вирусов с так называемыми “микробами-попутчиками”, роль фильтрующихся форм в поддержании нестерильного иммунитета – было известно и до Бошьяна и в одних случаях может считаться давно установленным (фильтрующиеся формы), в других – уже на протяжении десятков лет являлось предметом оживленных дискуссий (генетическая связь вирусов с “микробами-попутчиками”)».
Как видим, эти эпохальные псевдооткрытия кажутся таковыми с нынешних научных высот. В то время в них не находили ничего такого сенсационного. Как еще могли в то время интерпретировать данные о превращении грамположительных бактерий в грамотрицательные формы, кокков в палочки или в древовидные формы актиномицетного вида. Ведь в то время систематика бактерий основывалась на отмеченных признаках при разграничении видов, родов и таксонов более высокого ранга. Еще не было филогенетических классификаций, начавших свое триумфальное шествие в работах Карла Воеза (C. R. Woese) конца восьмидесятых годов прошлого века. Не было известно, что L-формы представляют собой бактерий, частично или полностью лишенных клеточной стенки, которые в силу этого становятся грамотрицательными и могут принимать разнообразную форму.
«…Г. М. Бошьян – пишет С. Н. Муромцев (1951, с. 172) – полностью отрицает глубокие видовые различия между ультравирусами и видимыми микробами, утверждая возможность легкого перехода всех микробов в ультравирусы и обратно ультравирусов в микробы [напомним, что в отдельных случаях такой переход С. Н. Муромцев (с. 169) допускает]. Больше того, на с. 78 он сообщает, что из одного и того же вируса можно получить в сущности любой вид микроба: “коккобактерии, микобактерии, бактерии, бациллы, актиномицеты”». Об этом Г. М. Бошьян пишет на с. 77. Но он нигде не говорит о превращении одного вида в другой или в разные виды. Вот что конкретно написал Г. М. Бошьян: «В наших экспериментах удалось из одного и того же вируса[15] при разных условиях выращивания получить морфологически разные формы бактерий. Они начинают расти из видимых мельчайших зернышек в виде крошечных кокковидных форм, затем превращаются в кокковидные цепочки, нитчатые структуры и структуры типа сарцин. Затем из этих форм образуются коккобактерии, микробактерии[16], бактерии, бациллы, актиномицеты и различные другие формы».
Это С. Н. Муромцев, придерживаясь типологической концепции вида, решил, что Г. М. Бошьян говорит о превращении видов. Но к чести Г. М. Бошьяна он так не считал, иначе не преминул бы об этом сказать. В свете нынешних данных и сказанного выше речь в экспериментах Г. М. Бошьяна не шла о превращении одних видов в другие. Г. М. Бошьян получал L-формы, клетки которых в отсутствии клеточной стенки могли приобретать самые разные очертания, в том числе уподобляться дрожжевым клеткам, на что обратил внимание Л. А. Зильбер (1952).
Г. П. Калина опубликовал в 1949 г. книгу по изменчивости патогенных микроорганизмов, в которой показал возможность изменения у бактерий признаков, используемых при разграничении видов и надвидовых таксонов. Не зная истинных причин такой широкой изменчивости, он предположил возможность превращения одного вида в другой из некоторого круга выделяемых систематиками видов. Заметим, что возможность превращения вирусов в бактерии он не рассматривал и заговорил об этом после прочтения книги Г. М. Бошьяна. Г. П. Калина, как стало очевидным к середине 1950-х гг., ошибался в своих предположениях относительно превращения одних видов в другие. Речь у него как и у Г. М. Бошьяна шла о L-формах.
Но я хочу обратить внимание на предисловие к книге Г. П. Калины, написанное от имени редакции. В нем, в частности, сказано относительно того, с чем редакция не согласна с автором (с. 5): «Но автор в своей книге допустил и ряд неправильных с точки зрения редакции положений. Наиболее существенным из них является допущение возможности перехода одного вида бактерий в другой, уже существующий вид и, следовательно, возможности возникновения инфекции эндогенным путем… Читателю необходимо помнить, что явления, которые автор пытается объяснить со своей точки зрения, могут иметь и другое объяснение». К сожалению редакция не предложила читателю, хотя бы, какое-то одно из альтернативных объяснений полученных Г. П. Калиной данных. Я думаю, что в то время таких объяснений просто не было, если, конечно, не отрицать сами результаты, полученные Г. П. Калиной. Через несколько лет, когда учение о L-формах вошло составной частью в микробиологию, вопрос о переходе одних видов в другие отпал сам собой.
Заметим, что о возможности возникновения инфекции эндогенным путем одним из первых заговорил немецкий биолог Г. Эндерляйн (Enderlein, 1925). Так что эта идея не является безграмотной выдумкой наших ученых, причем сама идея все еще жива и обсуждается в научном сообществе.
Наряду с радикальными изменениями формы имеет место превращение грамположительных клеток в грамотрицательные (микоплазмоподобные). Собственно микоплазмы скорее всего произошли от бактерий, которые лишились клеточной стенки. Так, считают, что Acholeplasma произошли от форм, близких к клостридиям Clostridium innocuum и Cl. ramosus. К настоящему времени форм с хорошо развитой клеточной стенкой, которые показывают отчетливые филогенетические связи с микоплазмами, известно много. Упомянем род Solobacterium с единственным видом S. moorei, изолированным из фекалий человека и который, кроме того, отмечен в качестве патогена при гингивальных воспалениях. Mycoplasma genitalium и М. сарricolum филогенетически связаны с тремя немикоплазменными родами, Erysipelothrix, Holdemania и Bulleidia. По крайней мере первые два рода отличаются особым типом В-пептидогликана. Во втором издании «Руководства Берги» они включены в микоплазмы. Е. rhusiopathiae является возбудителем заболевания свиней, овец и домашней птицы. Ранее заболевание отмечалость лишь у свиней под названием эрисипель. С 80-х годов заболевание получило более широкое распространение. Болеет и человек, обычно в мягкой форме, реже с осложнениями в виде септисемии и эндокардита. H. filiformis населяет кишечник человека. Bulleidia extructa, видимо, связан с периодонтитом, поскольку был выделен из пораженных дентоальвеолярных участков. Наконец, в самое последнее время выяснилось, что некультивируемые лишенные клеточной стенки патогенные бактерии родов Haemobartonella и Eperythrozoon, поражающие эритроциты, связаны с микоплазмами. Ранее их сближали с риккетсиями (из альфапротеобактерий). Бартонеллы впоследствие были сближены с ризобиями, а упомянутые выше роды отнесены к микоплазмам.
С неодобрением о Г. М. Бошьяне пишет в своей книге о героях и злодеях С. Э. Шноль (2010, с. 361): «… вскоре некто Бошьян опубликовал книгу “О происхождении вирусов и микробов”. Он сообщил в ней, что вирусы превращаются в бактерий, а бактерии и низшие грибы могут превращаться в… антибиотики. Из пенициллина образуется Пенициллум – плесневый гриб. Нет, тогда Земля не разверзлась. На заседаниях ученых советов компетентные профессора и маститые академики обсуждали проблемы “живого вещества” Лепешинской. Несчастная страна! Мы – студенты, как и положено в легко-мысленном веселом состоянии третьекурсников – пошли к заведующему кафедрой микробиологии профессору (академику) В. Н. Шапошникову с книгой Бошьяна. Мы предвкушали удовольствие. “А, очень интересно, – сказал Владимир Николаевич. – Очень интересно. Не могли бы вы оставить мне эту книгу – я познакомлюсь с ней. " Мы пришли через неделю. “Простите, пожалуйста, сказал нам Владимир Николаевич, не могли бы вы дать мне эту книгу, мне надо бы прочесть ее”. Когда он получил от нас третий экземпляр книги, пообещав в ближайшее время высказать свое мнение, мы отстали. Спектакль не состоялся».
Вот еще один уважаемый советский ученый оказался в числе тех, кто якобы попустительствовал злодеям советской науки. Если это искренне и серьезно, то нужно было хотя бы освежить в памяти что конкретно писал Г. М. Бошьян. Нигде у него в книге не написано что бактерии и грибы могут превращаться в антибиотики, что из пенициллина образуется плесневый гриб, из которого этот антибиотик получен. О чем в его книге идет речь? Г. М. Бошьян (1949, с. 124–125) утверждал, что «современное представление о мертвой природе антибиотических веществ ошибочно и научно не обоснованно. Антибиотические вещества представляют собой не что иное, как фильтрующуюся форму тех микроорганизмов, из которых они получены». А что у него написано про антибиотики, в том числе синтетические (с. 139): «Все эти вещества не уничтожают в организме микробов, а лишь переводят их в другие формы – зернистую, вирусную, фаговую, которые затем связываются с белками».
Иными словами, антибиотики индуцируют переход болезнетворных бактерий в фильтрующееся (микоплазмоподобное, как выяснилось позже) состояние; фильтрующиеся стадии бактерий (не тождественные, как выяснилось позже, вирусам и фагам) в свою очередь запускают процессы перехода других бактериальных клеток в фильтрующуюся форму (стадию); последняя в отличие от исходных материнских клеток не является болезнетворной.
Известные микробиологи д’Эрелль и Одюруа считали, что аналогичный переход микроба в ультрамикроскопическую фазу может происходить под действием бактериофага, с чем был категорически несогласен Гарднер (1935, с. 15), который, напомним, отрицал саму возможность существования фильтрующихся форм бактерий. На мой взгляд, именно с такого рода переходами бактерий из фильтрующейся формы в видимую и обратно связан один из механизмов развития хронических инфекций.
Что касается образования плесневого гриба из пенициллина, о чем будто бы поведал ученому миру Г. М. Бошьян, то соответствующее место в книге (с. 124) читается так: «… мы выделили из отечественных и американских патентованных препаратов пенициллина, стрептомицина, ауромицина и других антибиотиков живые культуры исходных микробов, доказав тем самым живую природу этих лечебных препаратов… Нами выделены культуры грибков Penicillium из следующих серий препаратов: № 1548 (завод № 40) и Penicillium crystalline № 375 (New York 1. N. V. ). Нами выделены культуры грибков из следующих серий препаратов стрептомицина: № 7 Московского завода № 40 и Dihydrostreptomycin Merk N. 815… Ауромицин – сухой аморфный лимонно-желтого цвета порошок. Из этого препарата нами выделена культура золотистого грибка» (т. е. культура Streptomyces aureofaciens).
На мой взгляд необычайно интересный результат, который – и в этом я не могу согласиться с Г. М. Бошьяном – не исключает возможности прямого негативного действия антибиотиков на бактериальные клетки. Кстати, ключевые идеи о действии «грибков» на бактерии были сформулированы Г. Эндерляйном (Enderlein, 1925; см. также английский перевод 1981 г. ). В нашей стране они активно разрабатывались советским микробиологом с трагической судьбой М. Д. Утёнковым. Об этом пишет в своей критической статье С. Н. Муромцев (1951, с. 166): «Как можно согласиться с мнением Г. М. Бошьяна и ранее высказанным таким же мнением М. Д. Утёнкова, что бактериальные токсины являются фильтрующимися стадиями микробов только потому, что в образцах токсинов удается обнаружить исходную культуру. Эти находки никак не могут поколебать твердо установившееся и правильное представление о том, что токсины есть продукт жизнедеятельности микробов». Чуть ранее по тексту С. Н. Муромцев сказал: «В настоящее время синтезированы антибиотики (в частности, пенициллин, грамицидин, хлоромицетин) чисто химическими методами, без участия микроорганизмов». Этим вопрос о возможном лечебном действии на возбудителей болезней их фильтрующихся форм может быть закрыт. Хотя сама проблема осталась – откуда взялись в промышленных препаратах антибиотиков, полученных естественным путем, грибы (Penicillium) и бактерии (Streptomyces), из которых эти антибиотики получены. Эти результаты предполагают, что сами микроорганизмы в форме каких-то устойчивых, некультивируемых (на известных средах) состояний сохраняются при производстве антибиотика. И отсюда следующий вопрос. Что делают в нашем организме эти устойчивые в своем фильтрующемся (вирусоподобном) состоянии некультивируемые формы? Какова их дальнейшая судьба? Не отягощают ли они наш организм хроническими заболеваниями, протекающих в виде частых недомоганий?
Кто такой М. Д. Усенков, лженаучными идеями которого воспользовался Г. М. Бошьян? О его трагической судьбе было рассказано недавно (Белокрысенко, 2014). Михаил Дмитриевич Утёнков (1893–1953) – создатель, возможно, первой в мире, «техники непрерывного культивирования микроорганизмов, широко применяемой и сегодня незаменимой в биотехнологии и промышленной микробиологии». М. Д. Утёнков еще в 1929 г. запатентовал «аппарат, названный автором “микрогенератор”, главной функцией которого является возможность непрерывного культивирования микроорганизмов в изолированном стерильном стеклянном сосуде “культиваторе”, обеспеченном ручной системой непрерывного добавления свежей питательной среды, регулированием pH, аэрацией и оттоком избытка среды с культурой. Это и есть ферментёр в первичном исполнении, запатентованный за 20 лет до известных основополагающих публикаций 1950 года…». 28 августа 1953 г. М. Д. Утёнков покончил жизнь самоубийством вместе со своей женой М. К. Утёнковой. С. Белокрысенко не выяснил, а может быть не захотел сказать о причинах семейной трагедии. Я же могу предположить, что весной или летом 1953 г. была ликвидирована лаборатория М. Д. Утёнкова, т. е. дело всей его жизни было представлено как псевдодело. Об этом решении было сказано в постановлении декабрьской восьмой сессии общего собрания АМН СССР. Одновременно были ликвидированы лаборатории еще четырех ученых, в том числе Г. М. Бошьяна (см. дальше).
Мнение С. Н. Муромцева для нас важно, учитывая, что он микробиолог. В его критике Г. М. Бошьяна нет и намека на те поспешные выводы, которые сделали студенты из чтения книги Г. М. Бошьяна, что будто бы тот доказывал возможность превращения «низших грибов» (собственно грибов и бактерий у Бошьяна) в антибиотики и наоборот.
Я не смог прояснить для себя вопрос об истоках мифа о возможности превращения бактерий в антибиотики, будто бы доказанной Г. М. Бошьяном. Не исключено, что этот миф связан с ошибочным прочтением критических замечаний В. Н. Ореховича (1950, с. 242). Последний писал в рецензии на книгу Г. М. Бошьяна, что тот «стремится резко разграничить живое и неживое. Для того, чтобы оправдать возведение пенициллина, стрептомицина, ауромицина в ранг живых существ, он грешит против фактов, утверждая, что указанные антибиотики “являются фильтрующимися формами определенных грибков” (стр. 12)». Ради точности приводим все предложение из книги Г. М. Бошьяна: «Антибиотики – пеницилин, стрептомицин, ауромицин и др. – являются фильтрующимися формами опреденных грибков».
Можно предположить, что, отталкиваясь от этого заключения Г. М. Бошьяна, его критиками было сделано следующее формальное умозаключение: если бактерии способны превращаться в фильтрующиеся формы и если последние являются антибиотиками, то, следовательно, бактерии способны превращаться в антибиотики. Вот мнение физика М. В. Волькенштейна (1975, с. 75), которое отчасти как бы подтверждает наше предположение: «Такой сенсацией было сочинение Г. М. Бошьяна “О природе вирусов и микробов” (Медгиз, 1950), в котором утверждалось, что антибиотики превращаются в вирусы, вирусы – в бактерии, бактерии – в кристаллы». В этом заключении критика сделано сразу несколько ошибок. Г. М. Бошьян говорил о превращении фильтрующихся форм бактерий в бактерии, из которых эти фильтрующиеся формы образовались. В этом своем заключении Г. М. Бошьян не ошибался.
Но он, однако, ошибочно утверждал, что фильтрующиеся формы бактерий тождественны вирусам. Читаем на с. 11 его книги: «Мы считаем неверным и ненаучным мнение о том, фильтрующиеся вирусы и авизуальные формы (фильтрующиеся формы) бактерий не имеют между собой ничего общего. Фильтрующиеся вирусы и авизуальные формы бактерий – это лишь различные формы существования, различные стадии развития микроорганизмов». На эту ошибку, насколько я могу судить по изученным источникам, никто, ни тогда, ни сейчас не обращал внимание. Причина этого заключается в том, что большинство ученых, если и слышало что-то относительно авизуальных форм бактерий, то не связывало их с вирусами. Поэтому вирусы, указанные Г. М. Бошьяном в названии своей книги, не являются вирусами систематиков. Это у М. В. Волькенштейна вирусы систематиков превращаются в бактерии. У Г. М. Бошьяна речь фактически идет о превращении авизуальной формы бактерии в тот же вид бактерий, но видимый в обычный микроскоп.
С учетом сказанного легко понять ошибку критиков, приписавших Бошьяну мнение о возможности превращения антибиотиков в вирусы. Сам Г. М. Бошьян об этом нигде не пишет. В приведенной выше цитате, взятой со страницы 12 его книги, он только лишь отметил что антибиотики являются фильтрующимися формами определенных грибков, т. е. бактерий и истинных грибов. Но если вирусы (в понимании Бошьяна) = антибиотикам, то последние никак не могут превращаться в то, чему они равны. К сожалению, при обсуждении антибиотических свойств фильтрующихся форм Г. М. Бошьян был немногословен. Единственное, что я понял из его кратких разъяснений (см., напр., с. 139), так это то, что фильтрующиеся формы способны переводить бактерии, из которых они возникли, также в фильтрующиеся формы.
В. Н. Орехович (1950), дав развернутую критику книги Г. М. Бошьяна, не согласился с его пониманием природы рассмотренных им антибиотиков. Он вполне справедливо указал (с. 242–243), что упомянутые им антибиотики «не являются живыми существами. Они представляют относительно простые соединения, и их химическое строение хорошо изучено» (в рецензии приведены формулы, выделено нами). Нигде в отзыве В. Н. Ореховича не говорится о способности бактерий или вирусов превращаться в эти простые соединения – положение, будто бы защищавшееся, со слов физиков, Г. М. Бошьяном.
Современные комментаторы, включая С. Э. Шноля, обвиняют Г. М. Бошьяна в том, о чем тогдашние критики молчали. А молчали они относительно ключевого предположения Г. М. Бошьяна, считавшего возможным переход бактерий в вирусы и обратно. Значит, это его предположение не было по тем временам безграмотным бредом. Г. Эндерляйн шел в своих допущениях еще дальше, считая, что микроорганизмы проходят в своем развитии вирусоподобную стадию, бактериальные стадии в виде кокков, палочек и других форм, и заканчивают развитие на стадии грибов (включая их эукариотические виды). И если книга Эндерляйна была в 1981 г. (через 56 лет) переведена на английский язык, а затем переиздана в мягкой обложке в 1999 г., то не для того, чтобы ее нынешние читатели посмеялись над невежеством немецкого ученого. Некоторые исследователи, сошлись на том, что Эндерляйн мог видеть нитевидные бактериальные L-фор-мы, которые он принял за гифы грибов. Вот бы нашим поучиться у иностранцев отношению к своим ученым. Ученые могут ошибаться. Но идущие за ними оценивают их роль по положительному вкладу в науку, отсеивая ошибки, как не имеющие отношения к делу поиска научной истины.
И почему студенты уверовали в то, что фильтрующиеся формы бактерий и фильтрующиеся вирусы имеют разную природу, когда доказательство этого еще только предстояло получить. В такой ситуации, что мог ответить наш выдающийся ученый В. Н. Шапошников студентам? Не мог же он им сказать, что это дело не имеет пока твердо установленного однозначного решения. Насколько помню себя студентом, я, нахватавшийся научных вершков, также был не в меру категоричным в суждениях. С возрастом мы приходим к пониманию, что жизнь куда более сложнее наших представлений о ней, тем более почерпнутых из учебников и околоучебной литературы. Понятно, что в них пишут не всё, что можно написать.
В. Н. Сойфер (1998, с. 188–189), касаясь третьей конференции по «проблеме живого вещества», открывшейся 5 мая 1953 г., пишет: «Эта конференция ярко высветила способности многих официальных руководителей науки в СССР манипулировать своими взглядами от изменения конъюнктуры. Подобно хамелеонам они меняли свою окраску, нисколько не заботясь о своем добром имени. Так, А. А. Имшенецкий, директор Института микробиологии АН СССР, теперь встал в позу борца с “антинаучными извращениями”, не обмолвившись даже словом о том, что он в недавнем прошлом восхвалял Бошьяна и ему подобных, и сам публиковал липовые доказательства существования живого вещества и превращений микроорганизмов. Он стал отрицать саму возможность перехода вирусов в бактерии, за которую еще продолжали цепляться Г. П. Калина и В. А. Крестовникова, якобы все еще видевшие в своих опытах подобные превращения».
И это пишет биолог, позиционирующий себя в качестве историка науки. Превращение бактерий в фильтрующееся вирусоподобное состояние было показано не только отечественными авторами, включая Г. П. Калину и В. А. Крестовникову, а также Г. М. Бошьяна, но и зарубежными микробиологами. Только через несколько лет было научно доказано, что фильтрующиеся вирусы не имеют ничего общего с фильтрующимися формами бактерий. Поэтому я не вижу ничего преступного в том, что А. А. Имшенецкий стал со временем склоняться к мнению об отсутствии «связи между фильтрующимися формами вирусов и фильтрующимися формами бактерий». К этому принуждала не новая конъюнктура в верхах (откуда верхи могут знать о состоянии дел в науке), но поступательный ход развития самой науки. Г. П. Калина и Б. А. Фихман (1952) предприняли специальное исследование по поставленной Г. М. Бошьяном проблеме образования кристаллов в культурах бактерий. Вот их вывод (с. 538): «… мы считаем, что Бошьян, не изучивший описанных им кристаллов ни химически, ни кристаллографически, не привел в своей работе доказательств кристаллизации живого микробного белка. Сходство приводимых им… кристаллических конгломератов и отдельных кристаллов с кристаллами изучавшимися нами, не подлежит сомнению Однако эти кристаллы, как нами установлено, образуются в бактериальных культурах в результате обмена веществ и ничего общего с кристаллизацией живого микробного белка не имеют» (выделено нами). Обратите внимание: авторы свободно говорят о живом белке как понятии, принятом тогдашней наукой.
Книга Г. М. Бошьяна имела определенную эвристическую ценность, раз она стимулировала проведение проверочных опытов, которые сами по себе интересны в научном плане. По выявлению термофильных форм в 1950-е гг. были проведены работы как в нашей стране, так и за рубежом (см. Калина, 1962). Один из таких проверочных экспериментов по термальной устойчивости бошьяновских бактерий был осуществлен уже в нашем тысячелетии (Markova et al., 2010), о чем мы уже говорили.
Книгу действительно было за что критиковать. Она, как было сказано ранее, написана в большой спешке, конспективно, как отметил в предисловии проф. Н. Леонов, и скорее всего не была показана знакомым специалистам, которые могли бы снять вопиющие ошибки. Поэтому книга Г. М. Бошьяна грешит многими ошибками и полна противоречивых и даже безграмотных утверждений. Приведу лишь один пример. Так, Г. М. Бошьян пишет на с. 86: «Наши эксперименты показывают ошибочность утверждения, что вирусы могут развиваться только в присутствии живых клеток. При известных условиях вирусы с большим успехом развиваются в плазме крови, в сыворотке, в соках тканей и органов». На следующей странице мы читаем: «Вирус не имеет самостоятельного обмена, а живет и размножается за счет обмена веществ живых клеток». А вот, что написано на с. 89: «Вирусы представляют собой не что иное, как частицу живой материи, способной к жизни, к обмену веществ, к размножению».
Ошибки в работе Г. М. Бошьяна, в том числе и грубые, действительно были. Но я не случайно привел пример описки в книге Ф. Бернета, зачислившего в вирусные заболевания малярию. С кем не бывает. Я, правда, не проверял английское издание. Возможно, что ошибка произошла по вине переводчиков, а редактор этой книги не заметил. Но мы же не будем из-за такого рода накладок отбрасывать огромное позитивное содержание книги австралийского ученого.
В случае с нашим ученым это произошло. Критики выискивали Бошьяна только огрехи. Но задача критики заключается не только в этом. Критика должна быть позитивной, не унижать автора, но помогать ему. А для этого она должна начать с оценки экспериментальных данных и того нового, что сделал автор, а потом уже переходить к ошибкам автора. В книге Г. М. Бошьяна приводится новый материал по изменчивости бактерий, который никуда не денется от того, что мы укажем на грубые недочеты и ошибки в тексте. Раз это новый материал, то именно его надо было в первую очередь осмыслить. Ничего этого в критических рецензиях нет. А ведь было, что обсуждать. Разве изменение типа окраски, определяемой по методу Грамма, не представляло на то время действительно неожиданные и интересные результаты. А данные по той же экстремальной термальной устойчивости, которые были повторены уже в наше время, через 60 лет. А те же результаты по «кристаллам Бошьяна». Критики, основываясь на своем опыте, стали утверждать, что бошьяновские кристаллы имеют неорганическое происхождение. Но ведь не были в этом плане проверены сами кристаллы. А кто теперь поручится, что Г. М. Бошьяна не наблюдал процессы биокристаллизации нуклеиновых кислот у бактерий, находящихся в состоянии зернистости (гранулярности).
Американцы на этот счет быстро сориентировались. Как только у нас в 1950 г. заговорили о новом эпохальном открытии ветеринара Г. М. Бошьяна, сразу два обзора были опубликованы по L-фор-мам в 1951 г. в одном и том же престижном журнале Bacteriological Reviews. Кстати, один обзор так и назывался «L-формы бактерий» (Dienes, Weinberger, 1951); другой обзор, появившийся чуть раньше, вышел под заголовком «Фильтрующиеся формы бактерий», но посвящен фильтрующейся L-фазе бактерий (Klienberger-Nobel, 1951). Я думаю, что эта синхронность была связана с книгой Г. М. Бошьяна, с борьбой за научные приоритеты. По личному опыту и опыту своих коллег знаю, что американцы оперативно отслеживают работы наших авторов, даже если те написаны на русском языке. Не является случайностью и то, что наши ведущие журналы до сих пор переводятся на английский язык. Так легче отслеживать состояние, реальные возможности и перспективы научных исследований в нашей стране. Все же, чтобы там не говорили, мы по-прежнему остаемся очень серьезными соперниками, в том числе и в научной области.
Я думаю, что если бы Минздрав не вмешался и не увел в свою систему Г. М. Бошьяна, где тот был обвинен в безграмотности, и все последующие пять лет пребывания в системе Минздрава боролся за выживание, то исследования ученого по L-формам имели бы продолжение. В этом случае рано или поздно были бы выявлены параллели с зарубежными исследованиями по L-формам и от гипотез, с которыми первоначально выступил Г. М. Бошьян, пришлось бы отказаться. Но одновременно фактическая сторона исследований ученого обрела бы новую жизнь, а сам ученый вошел бы в число пионеров в деле изучения L-форм.
2. 4. Политическая составляющая открытий Г. М. Бошьяна
Теперь о политической составляющей, сыгравшей большую роль в судьбе Г. М. Бошьяна. Я вижу здесь параллели с нелегкой судьбой генетика-селекционера А. Р. Жебрака, которого партийные идеологи «уговорили» начать борьбу с Т. Д. Лысенко и с этой целью стали раскручивать его по политической линии. Напомню (см. Шаталкин, 2015), что москвич А. Р. Жебрак был избран в Верховный совет Белоруссии, стал президентом АН Белоруссии и был послан в США в составе белорусской делегации на подписание учредительных документов об организации ООН. Через три года А. Р. Жебрак лишился всего, что с такой легкостью получил от идеологов партии. Но то же мы видим в судьбе Г. М. Бошьяна. Он еще не получил признания в научном мире. Его книга в 1950 г. была подвергнута серьезной критике. Тем не менее в январе 1951 г. его выдвигают в Верховный Совет РСФСР как достойного представителя науки (Московская правда от 25 января 1951 г. № 21 (9394)). Расплата пришла также через три года, если считать от 1951 г. Лаборатории Г. М. Бошьяна закрыли, а его самого лишили степени доктора медицинских наук. Я не нашел сведений о дальнейшей судьбе ученого. Отметим такой факт. В Википедии дана биография О. Б. Лепешинской. А о Г. М. Бошьяне сведений нет. Хотя его фигура как научного «афериста» как нельзя лучше подходит в пропагандистских целях. Я думаю, что это связано с тем, что Г. М. Бошьян получил ценные на то время научные результаты, которые ставили его в ряды пионеров научного поиска. И в такой ситуации лишний раз привлекать внимание к личности ученого широкой аудитории было бы неосмотрительным.
Если эксперименты действительно проводились, то что-то было получено. Но на доказательство того, что соответствующие бактерии органически связаны с вирусами, времени уже не было. Это может означать, что данные эксперименты были осуществлены по просьбе тех, кто торил для Г. М. Бошьяна дорожку наверх. Спрашивается с какой целью.
Итак, ключевую роль в судьбе Г. М. Бошьяна сыграли государственные и партийные инстанции. Утверждение о том, что он получил поддержку Т. Д. Лысенко и О. Б. Лепешинской ни на чем не основаны. Партаппарат предпринимал усилия пристегнуть Бошьяна как своего выдвиженца к передовой мичуринской биологии. Об этом пишет В. Я. Александров (1993, с. 32): «Учение Бошьяна также, несмотря на полную абсурдность, на несколько лет вошло в понятие “передовой советской мичуринской науки”. Академик АМН СССР Н. Н. Жуков-Вережников, И. Н. Майский и Л. А. Калиниченко в статье, опубликованной в журнале “Большевик” (1950. № 16), писали: “Большое значение имеют положения Г. Бошьяна, относящиеся к проблеме кристаллизации живого вещества. Нет сомнений, что теперь, после опубликования работ О. Лепешинской и Г. Бошьяна, окончатся робкие блуждания вокруг этого вопроса, разработка которого имеет первостепенное значение для микробиологии и биологии в целом”». Но В. Я. Александров понимает, что об этой связи с мичуринской биологией говорят лишь в Академии медицинских наук, но молчат в ВАСХНИЛ. Более того, академик ВАСХНИЛ С. Н. Муромцев (1951) открыто выступил с критикой Г. М. Бошьяна в тот момент, когда того выдвигали в Верховный Совет РСФСР от подмосковной науки. Надо полагать, что если бы Т. Д. Лысенко поддерживал Г. М. Бошьяна, то этой критики бы не было. Поэтому В. Я. Александров (с. 107) ищет другие причины быстрого падения Г. М. Бошьяна: "К “передовой мичуринско-павловской” биологии примыкал и Г. М. Бошьян, совершавший перевороты в микробиологии и иммунологии. Однако он не очень заботился о консолидации с основными направлениями передовой науки, полагаясь, по-видимому, на пробивную силу собственных открытий».
Г. М. Бошьян в своей книге один раз на с. 90 коснулся работы О. Б. Лепешинской. Он, в частности, считал свои декларируемые результаты подтверждением ее выводов: «Теперь уже можно считать доказанным, что даже от самых мельчайших белковых частиц возникает и формируется новая клетка как микроорганизмов, так клетка растений и животных. Подтверждением этого являются наши опыты с возбудителями заболеваний вирусной и микробной этиологии, а также опыты О. Б. Лепешинской с желточными шарами». Г. М. Бошьян придерживался общераспространенного в то время и ошибочного мнения о белковой природе наследственного вещества. Из наших ученых это мнение активно защищалось Н. К. Кольцовым в его концепции генонемы. В то же время Г. М. Бошьян, видимо, невнимательно читал книгу О. Б. Лепешинской. У нее «живое вещество» представляет собой взаимодействующую систему из белков и нуклеиновых кислот. Поэтому ей такие незваные научные помощники, искажающие ее ключевые положения, были хуже открытых противников. С учетом сказанного, я и думаю, что О. Б. Лепешинской участие Г. М. Бошьяна в майской сессии по живому веществу навязали чиновники Минздрава. Сама бы она его не пригласила.
О. Б. Лепешинской ближе были идеи Г. П. Калины (1954), считавшего, что фильтрующиеся формы бактерий являются примером живого вещества. В вышедшем в 1962 г. первом томе «Многотомного руководства по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней» проф. Г. П. Калина (1962, с. 442), кстати, один из редакторов этого тома, писал: «Подавляющее большинство исследователей в СССР и за рубежом в настоящее время твердо стоят на позиции признания фильтрующихся форм как живого вещества неклеточного строения, способного к развитию в новые клеточные формы. Мы уже говорили, что в то время еще не было консенсуса в понимании клетки. Многие под клеткой понимали эукариотическую клетку, относя прокариот к доклеточным формам. Точка зрения Г. П. Калины ближе к современному пониманию. Бактерии представляют особый тип строения клетки, но вот их фильтрующиеся стадии можно считать «живым доклеточным веществом» (с. 452). На то время я не вижу в этом заявлении Г. П. Калины вопиющей безграмотности.
Возвращаясь к теме политической составляющей в «деле Бошьяна», мы можем лишь высказать предположения о целях, которые могли преследовать партийные идеологи, проталкивая в качестве выдающегося достижения советской науки сомнительные идеи и результаты, которые ввиду полного отсутствия информации о проведенных экспериментов невозможно повторить и проверить.
1. Борьба с Т. Д. Лысенко. В своих воспоминаниях Д. Т. Шепи-лов (2001, с. 129), бывший вторым человеком в Агитпропе, написал, что после войны Агитпроп боролся с Т. Д. Лысенко и что он продолжил эту борьбу и при Н. С. Хрущеве. «Я всем существом моим – пи-сал Д. Т. Шепилов – жаждал конца лысенковщины, дискредитировавшей и нашу науку, и мою Отчизну». Сталин, однако, не понял мотивы Д. Т. Шепилова и не поддержал борьбу Агитпропа с Т. Д. Лысенко. И Д. Т. Шепилову пришлось вместо борьбы с Т. Д. Лысенко организовывать августовскую сессию ВАСХНИЛ в его защиту. Это серьезный удар по престижу Агитпропа. Поэтому можно предположить, что борьба Агитпропа против Т. Д. Лысенко после сессии ВАСХНИЛ не прекратилась, но приняла скрытые формы. Т. Д. Лысенко в числе прочего обвинялся в научном невежестве. «… чем глубже внедрялись мы в научную литературу, – вернемся снова к воспоминаниям Д. Т. Шепилова – чем больше беседовали с истинными учеными, тем тверже убеждались, где истинная наука и где непроходимая вульгарщина. Вульгарщина, прикрытая громкими фразами, что человек должен быть активным преобразователем природы, а не пассивным приспособленцем к ней; что довольно по десять лет корпеть над одним сортом пшеницы, надо делать это за год и т. д. » (с. 128). Научная вульгарщина – это, по мнению крупного идеолога партаппарата, каким был Д. Т. Шепилов, родовая черта лысенковщины. К сожалению, Д. Т. Шепилов в своих воспоминаниях не сказал главного, не поделился опытом, как он отличал истинных ученых от ложных. Сейчас нам бы это очень пригодилось.
Вот на фоне этого временного поражения идеологов партаппарата стало известно о Г. М. Бошьяне, который носится с революционными идеями, но боится их представить на суд ученых. Значит надо помочь Г. М. Бошьяну. Если за экспериментами ученого лежат серьезные открытия, то Агитпроп от активного участия в этом деле определенно выиграет. Если же за работой Г. М. Бошьяна нет никакого открытия, то его дело можно представить как детище лысенковщины, показать, что монополия в биологии научного шарлатана Лысенко оказалась питательной средой для появления и процветания научных проходимцев типа Бошьяна.
В связи с этим непонятна позиция историков науки. Обыгрывая тему сенсационных открытий Бошьяна, они обвиняют в этом самих ученых и тем самым скрывают роль политиков в этом деле. Ученые в этом деле второстепенная сторона. Вся история с открытиями Бошьяна является детищем политиков. Иначе и не могло быть в СССР. Партийные идеологи не плелись в хвосте событий, но сами управляли, руководствуясь своими, не всегда идущими на пользу науки целями.
А как, если думать иначе, объяснить тот факт, что советские ученые еще ничего не знают об эпохальных открытиях Г. М. Бошьяна, а эти открытия и их автора уже начинают раскручивать. Напомним – за полгода до появления книги в продаже. Как только книга появилась в продаже в начале 1950 г. ученые единодушно выступи-ли против основных положений автора. Это объясняет поведение функционеров в Минздраве – почему они не решились подождать полгода, чтобы после выхода книги Г. М. Бошьяна начать его раскручивать. Значит понимали, что эта книга не найдет поддержки среди ученых.
И действительно научная критика прозвучала в адрес Г. М. Бошьяна со стороны ведущих ученых СССР. Отметим в числе критиков директора института эпидемиологии и микробиологии АМН СССР В. Д. Тимакова, директора Института вирусологии АМН СССР М. П. Чумакова, директора Института биологической и медицинской химии АМН СССР В. Н. Ореховича, академика АМН СССР Ф. Г. Кроткова, академика ВАСХНИЛ С. Н. Муромцева. По настоянию ученых в 1950 г. (в октябре и декабре) работали по делу Бошьяна две комиссии АМН СССР, в решениях которых работа Г. М. Бошьяна получила отрицательную научную оценку. Критические рецензии появились в научных журналах (Александров, 1993).
Но Агитпроп проиграл также и в деле О. Б. Лепешинской. Уговорив ленинградских ученых выступить против нее, Агитпропу затем пришлось резко поменять свою позицию, встать на ее сторону и осудить тех, кто ему доверился. Поскольку мнение о вопиющей безграмотности О. Б. Лепешинской и Т. Д. Лысенко активно поддерживалось в научной среде, то для закрепления этого «образа» советских ученых в их компанию стали навязывать еще одного корифея науки, созданного, как мы теперь понимаем, трудами политиков. И вся эта «безграмотная троица» связывалась с фигурой Сталина.
2. В декабре 1953 г. состоялась восьмая сессия общего собрания АМН СССР. В ее постановлении был одобрен следующий пункт: «В связи с отсутствие контроля со значительным опозданием была вскрыта бесперспективность работы лабораторий, руководимых [М. Д. ] Утёнковым, [В. Н. ] Шкорбатовым, [И. С. ] Глезером, [М. М-] Невядомским, [Г. М. ] Бошьяном» (см. Александров, 1993, с. 112). Не это ли было еще одной целью пропаганды «открытий» Г. М. Бошьяна. Чтобы под шумок последующей борьбы с ним закрыть другие лаборатории. Тогда получает объяснение, почему ветеринару Г. М. Бошьяну дали лабораторию в системе Минздрава, почему в своей книге Г. М. Бошьян описывает наскоро выполненные летом 1949 г. «эксперименты» с возбудителями болезней человека, включая предполагаемых возбудителей рака. В. Н. Орехович выразил сомнение в отношении того, что такие эксперименты вообще проводились. Я не думаю, что это так и было. Слишком много свидетелей пришлось бы посвящать в закулисные махинации.
Я не смог найти сведений о научной деятельности В. Н. Шкорбатова и И. С Глезера. М. Д. Утёнков, как мы уже говорили, был пионером в области разработки методов непрерывного культивирования микроорганизмов, о чем у нас стало известно лишь совсем недавно, когда швейцарский ученый Стюарт Шапиро стал писать очерк по истории развития этих технологий и пытался получить хоть какие-то сведения о нашем первопроходце (см. Белокрысенко, 2014). Книга М. Д. Утёнкова «Микрогенерирование» имеется в Ленинской библиотеке (в Химках).
М. Д. Утёнков был сторонником идеи широкого плеоморфизма бактерий, т. е. считал, что бактерии проходят определенный жизненный цикл, состоящий из последовательных стадий, различающихся морфологически и физиологически. Отсюда возникло предположение, что разные бактерии, встречающиеся в природе, могут представлять всего лишь разные стадии жизненного цикла одного вида. В Германии идею плеоморфизма бактерий под названием бактериальной циклогении разрабатывал энциклопедист XX века Гюнтер Эндерляйн, который собственно и был автором термина «плеоморфизм». До войны поисками жизненного цикла микроорганизмов занимались также американские (Lohnis, 1921; Mellon, 1925) и английские (Hort, 1917) микробиологи.
Антитезой плеоморфизма является мономорфизм, который основан на трех положениях, сформулированных Пастером. Все микроорганизмы неизменны, так что болезнь может вызывать определенный тип бактерии (1), у здорового человека кровь и ткани стерильны (2), болезни, связанные с бактериями, не могут возникать в организме спонтанно, все они имеют своим источником экзогенных бактерий, попадающих в организм из внешней среды.
Эндерляйн выдвинул предположение, что организм человека насыщен собственными микроорганизмами – эндобионтами, которые у здорового лица находятся в партнерском балансе, как между собой, так и с телом человека. Нарушение симбиотических отношений, связанное с изменением условий обитания микроорганизмов в организме человека, является источником многих хронических болезней. Эндерляйн, таким образом поставил вопрос об эндогенном источнике некоторых болезней.
Генеральная стратегия борьбы с инфекцией, определяемая школой Пастера, заключается в нахождении эффективных средств уничтожения вторгнувшихся в организм бактерий, вызвавших болезнь. По отношению к чужим микроорганизмам эта стратегия вполне оправдана. Но насколько она нужна в отношении своих собственных микробов, которые вдруг создали проблемы у организма? В оздоровляющей стратегии Эндерляйна расчет делается на создание благоприятных условий для полноценного проявления защитных потенций организма, дающих ему возможность самому справится с инфекцией. Понятно, что обе стратегии борьбы с болезнями не исключают друг друга. В какие-то периоды жизни человека без обращения к антибиотикам невозможно вылечиться, но это не исключает одновременное участие человека в программах по повышению иммунитета, исключающих использование антибиотиков. Для самой медицины между этими подходами нет противоречия. Но ситуация выглядит совершенно по иному для фирм, производящих лекарства. Их финансовое благополучие находится в прямой зависимости от нездоровья населения. Чем больше больных, тем больше денег. Поэтому для них «врагами», покушающимися на их прибыль, являются все, кто не признает безоговорочно или как-то умаляет авторитет Пастера в медицинских делах. Поэтому борьба с нетрадиционными методами лечения на Западе прогнозируема.
Принимая ключевые идеи Г. Эндерляйн в отношении плеоморфных отношений бактерий, М. Д. Утёнков считал, что при использовании стандартных бактериальных сред раскрыть жизненный цикл микроорганизмов невозможно. Поэтому он стал разрабатывать технологию (микрогенератор) для изучения микробной культуры в постоянно обновляемой питательной среде. В 1928 г. он создал такую установку, запатентовал ее и далее совершенствовал. На ней ему удалось показать переход бактерий в фильтрующиеся формы и обратный переход последних в морфологически различные бактериальные формы. У бактерий, по его данным, есть вегетативный рост, заканчивающийся простым делением клеток, и развитие, связанное с переходом от одной или нескольких вегетативных стадий к половой, заканчивающейся «половым процессом»[17]. Соответственно следует различать полиморфизм бактерий – морфологическое разнообразие в пределах одной стадии (например, палочковидные и коккоидные формы Arthrobacter) и их плеоморфизм – морфо-физиологическое изменение, связанное с переходом от одной стадии развития к следующей. Поскольку филогенетические классификации в то время не строились, а виды определялись на основе сходства в морфологических и физиологических особенностях, то многим казалось, что в явлении плеоморфизма бактерий речь идет о превращении одних видов организмов в другие, что, конечно, неверно.
Вся жизнь М. Д. Утёнкова – это служение науке, это подвиг во имя науки. Не он боролся против власти и соперничающих исследовательских групп, таковых просто не было; с ним боролось ученое сообщество. Причины этого я не могу понять. Если только не считать, что для его коллег борьба с ним – это повод заявить о своей научной состоятельности, т. е. не своими открытиями подтвердить свой высокий научный статус, что, вообще-то говоря, не так просто, но критикой других, покушающихся на научный консенсус.
К 1941 г., к моменту защиты диссертации и публикации ее отдельной книгой метод непрерывного поддержания культуры микроорганизмов в замкнутой системе существовал 16 лет. За это время, как пишет М. Д. Утёнков (1941, с. 24), метод «пережил периоды полного отрицания его, сомнения в стерильности работы микрогенератора и, наконец, опровержения подмеченного нами циклического развития, с безосновательным утверждением того, что якобы в микрогенераторе происходит процесс дегенеративного развития микробов».
Утверждалось о «возможности, а иногда и неизбежности загрязнения при работе с микрогенератором», пока, наконец, через 11 лет, «в 1936 г. специальная комиссия… дала заключение, подтверждающее стерильность работы микрогенератора». Тут же нашлось новое теоретическое возражение, что «при микрогенерировании якобы наблюдается не циклическое развитие, а дегенерация… Не представляет ли сама поточность среды нечто вроде “ошеломляющего ниагарского водопада” или “постоянного душа” над телом микроба, которые создают “постоянное беспокойство”, механическое встряхивание и чуть ли не “травму роста”, приводящие к дегенерации» (с. 25, выделено в оригинале). На что М. Д. Утёнков отвечал – «разве они (бактерии) в реках и океанах не подвержены этим стрессам и все дегенерируют и вымирают».
«Если допустить, – продолжали критики, – что ваши формы не случайно попавшие микробы, а действительно образовавшиеся из самой культуры, то все же они подлежат сомнению, поскольку появление этой “необычной формы” непосредственно глазом не прослежено. Поэтому нет основания говорить, что она получилась из исходной формы»(с. 25–26, выделено в оригинале). Подумайте, читатель, что бы Вы могли сказать на это возражение. Критики, о которых говорит М. Д. Утёнков, реальные ученые, я просто не привожу их фамилий.
В чем принципиальное отличие подхода М. Д. Утёнкова от аналогичного приближения Г. Эндерляйна? На наш взгляд – в меньшей зависимости развиваемой теории плеоморфизма от натурфилософских допущений. Очень сложными получились у Г. Эндерляйна циклы развития микроорганизмов при скудном обосновании фактическими наблюдениями. Те же вирусоподобные формы он понимал в духе его времени как белковые комплексы, названные протитами, которые при определенных обстоятельств способны превратиться в бактерии. Сейчас некоторые его последователи соотносят протиты с прионами. Но я думаю, что Г. Эндерляйн видел в протитах мельчайшие существа, наделенные реальной наследственностью. Их аналогом можно считать нуклеопротеиновые комплексы О. Б. Лепешинской[18].
М. Д. Утёнков разрабатывал более простую версию плеоморфизма, приближенную к реально известным на то время данным и наблюдениям. Бактерии в норме проходят цикл развития, слагающийся как минимум из двух стадий – стадии вегетативного роста и размножения простым делением, сменяемой стадией полового размножения. Переход к половой стадии связан с ухудшением условий существования микроорганизмов.
Идейная зависимость работ Г. М. Бошьяна от исследований М Д. Утёнкова и Г. Эндерляйна очевидна. Поэтому мы мало что можем узнать по делу Г. М. Бошьяна, пытаясь выяснять лишь причины закрытия его лаборатории. Необходимо также выяснить реальные причины закрытия лаборатории М. Д. Утёнкова. А закрыли его лабораторию только потому, что он был отечественным плеоморфистом. А чем же не угодили наши плеоморфисты. Оказывается они покушались на авторитет великого Пастера. М. Д. Утёнков в ответ – да, нет же; я всего лишь придумал установку, на которой, изменяя условия, можно определить пределы полиморфизма бактерий. А ему в ответ (на микробиологическом съезде в Ленинграде в 1928 г. ): «… пока не будет точного эксперимента и подтверждения [в отсутствии загрязнения и дегенеративных изменений], мы не можем согласиться с теорией М. Д. Утёнкова, а его прибор вряд ли нужен, так как метод Пастера и Коха, давший нам такие открытия, нас удовлетворяет» (Утёнков, 1941, с. 24). Это ведь не один профессор выступил против открытия М. Д. Утёнкова; на него ополчились многие. А потом говорим, почему же так мало наших имен в перечне мировых открытий. Потому что заслуженного профессора удовлетворяет, то что есть, и ему не нужны лишние хлопоты с открытием, на которых нет авторитетного положительного заключения от западных специалистов.
В те же годы аналогичная ситуация сложилась в отношении отечественных механоламаркистов (см. гл. 5). Они говорят, что изучают длительные модификации, т. е. приобретенные изменения, которые длятся по затухающей на протяжении нескольких поколений. А генетики им в ответ: вы покушаетесь на авторитет нашей науки, вы нарушаете сложившийся в ней консенсус; генетика не признает на-следования приобретенных признаков. В итоге прикрыли работы по длительным модификациям.
На самом деле М. Д. Утёнков не покушался на авторитет Пастера и Коха. Если руководствоваться указаниями К. Маркса и копнуть глубже, то он и его коллеги на западе покусились на деньги фармацевтических фирм. Вот, на мой взгляд истинная причина гонений и умалчивания взглядов плеоморфистов на западе. В СССР эта чисто коммерческая причина борьбы с плеоморфистами отсутствовала. Но было неуемное желание поддерживать научный консенсус, чем и воспользовались политики, которые сначала подняли на научный олимп Г. М. Бошьяна, затем под «напором» научной критики сбросили с пьедестала, не забыв при этом закрыть еще четыре лаборатории.
Этот второй сценарий предполагает заинтересованность в этом деле сторонних сил, в первую очередь бывших наших союзников по антигитлеровской коалиции. Пример такой активной заинтересованности мы имеем в деле Лысенко, когда после войны против него выступил так называемый «второй западный фронт» ученых (Шаталкин, 2015). В этом отношении показательно то, что стремительный путь Г. М. Бошьяна наверх развертывался по тому же сценарию по которому развивались исследования советских ученых Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина по антираковому препарату «круцину». А там замешанность сторонних сил была явной. Рассмотрим эту историю подробнее.
ГЛАВА 3. Дело Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина – история, более похожая на шпионскую
3. 1. Что писали и пишут об этом деле и возникающие в связи с этим вопросы
«Свои выводы [по лечению рака у человека] Клюева и Роскин сделали, исходя из результатов опытов на животных, но никакой эксперимент не может воспроизвести точную копию естественно развивающейся болезни у человека… их опыты разделили судьбу многих других, не подтвердившихся при переносе в клиническую практику»
Я. Рапопорт, 1988, с. 106
В 1931 г. советские ученые Г. И. Роскин и Е. Экземплярская (Roskin, Ekzemplyarskaya, 1931; см. также их работу 1932 г. на русском языке) опубликовали статью о возможном антагонизме между заболеваниями рака и болезнью Чагаса, распространенной в некоторых районах Южной Америки. В последующем были выявлены противораковые свойства трипаносомы Tripanosoma cruzi Chagas, паразитического простейшего, вызывающего болезнь Чагаса. Болезнь передают триатомовые «поцелуйные» клопы (Triatoma), которые предпочитают кусать в губы спящих людей.
В лаборатории Г. И. Роскина были освоены тонкости ведения культуры трипаносом, из которых удалось получить препарат “КР” с противоопухолевыми свойствами, названный по первым буквам фамилий авторов препарата – Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Позже препарат получил название «круцин». Н. Г. Клюева в 1939 г. стала женой Г. И. Роскина и с этого времени работа по круцину стала их общим делом.
В 1946 г. учеными была подготовлена к печати рукопись книги «Биотерапия злокачественных опухолей». В этот же год академик-секретарь Академии Медицинских наук В. В. Ларин во главе делегации медиков, куда входят и крупные советские онкологи, был командирован в США. Он прибыл туда 4 октября 1946 г. и привез эту рукопись с целью ее публикации предположительно с устного разрешения министра здравоохранения Г. А. Митерева. «Там он принимает участие в специальной сессии ООН о международном сотрудничестве, где доклад делает Молотов. Парин, посоветовавшись с Молотовым, передает 26 ноября 1946 года в Американо-русское медицинское общество уже принятую к печати в СССР рукопись книги Роскина и Клюевой и образец круцина (который к этому времени давно утратил свою активность). “Вот и все, что было”, -как поется в песне. Но этот невинный взаимный жест был аранжирован затем как передача большого секрета, государственной тайны и послужил поводом к аресту Парина вскоре после его возвращения и к организации “суда чести”» (Голубовский, 2003, с. 142).
Хотя рукопись и была передана американским ученым ее перевод не был опубликован. В. В. Парин был арестован в феврале 1947 г. по обвинению в шпионаже и осужден 8 апреля 1948 г. решением Особого Совещания по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну» (Обухов, 2004). В. В. Парин был приговорен к 10 годам лишения свободы[19]. Н. Г. Клюева, Г. И. Роскин и Г. А. Митерев были осуждены общественным «Судом чести».
Вот как описывает предшествующие события С. Э. Шноль (2010, с. 324): «… в марте 1946 г. сообщение о препарате КР обсуждалось на заседании Президиума Академии медицинских наук. Президиум отнесся к сообщению с интересом, но рекомендовал до клинических испытаний продолжить лабораторные исследования. На заседании были журналисты (из газеты “Известия” и журнала “Огонек”). Их публикации вызвали сенсацию. Об этой работе узнали в США. В это время от опухоли погибал Г. Гопкинс (Harry Lloyd Hopkins) – ближайший соратник президента Ф. Рузвельта, бывший во время войны его специальным посланником на переговорах со Сталиным. К Клюевой обратился посол США с просьбой дать препарат. Н. Клюева написала письмо Сталину, жалуясь на бюрократизм Президиума АМН, в ответ была создана высокопоставленная комиссия (в ее составе два члена Политбюро), постановившая создать для Н. Г. и Г. И. специальную лабораторию и срочно издать их монографию. (Не надо бы обращаться с просьбами к тиранам! Их первоначальная “милость” обязательно кончается репрессиями…). Рукопись этой монографии и привез Парин в США. Об этом говорили даже на заседании Объединенных Наций. Об этом писали под огромными заголовками американские газеты. А Сталин этого не знал. Лечение рака – государственная задача! Отдать такое достижение американцам… Когда ему доложили – он рассвирепел. Как только Парин прилетел в Москву, 17 февраля 1947 г., его вызвали в Кремль. Были вызваны также Роскин и Клюева и министр здравоохранения Митерев. Сталин держал в руках книгу Роскина и Клюевой с множеством пометок. Он был страшен. Спросил Клюеву и Роскина: доверяют ли они Парину? Они сказали, что доверяют. “А я Парину не доверяю” – сказал тиран. Министр Митерев плакал и говорил, что он ничего не знал и не разрешал (врал). В. В. Парин пришел домой и сказал жене, что его, наверное, арестуют. Ночью за ним пришли. Его ждали издевательства и пытки. В ледяном карцере после избиений он навсегда потерял здоровье. “Суд” состоялся лишь в апреле 1948 г. Его осудили на 25 лет каторги[20]. Но продержали в тюрьме (а не на каторге) до октября 1953 г. ».
В этом отрывке полная неясность в отношении главного в этом деле. Разрешило ли Советское правительство передать противоопухолевый препарат «КР» для спасения Г. Гопкинса. Я так полагаю, что СССР в принципе не мог передать препарат, не прошедший клинических испытаний. В таком случае, почему на упомянутое выше мартовское заседание Президиума АМН позвали журналистов, если к клиническим испытаниям еще не приступили и сочли, что это пока преждевременно. Зачем устраивать шумиху, когда еще нечего показывать. Нет ни книги, ни разрешенного лекарства для лечения больных раком. Я не исключаю того, что их позвали с той целью, чтобы посол США, прикрываясь личной трагедией Г. Гопкинса, мог обратиться напрямую к Н. Г. Клюевой. В этом случае поведение посла надо расценивать как провокацию против советских профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Из приведенного выше текста С. Э. Шноля можно понять, что Н. Г. Клюева откликнулась на просьбу посла помочь умирающему Г. Гопкинсу. Н. Г. Клюева обратилась с просьбой послать препарат в Президиум АМН, но бюрократы это дело по спасению американского политика стали тормозить, так что ученому пришлось для ускорения дела обратиться лично к Сталину.
Со слов С. Э. Шноля получается, что это на Западе началась массированная пропаганда несуществующего лекарства и жертвой этой пропаганды стал Сталин, который повелся на пропаганду, уверовав в огромные лечебные возможности препарата «КР». Если это действительно было, то это может означать, что против нашей страны в США была проведена спецоперация с целью внесения раздора между властями и учеными, с одной стороны и между самими учеными с другой.
Я не оспариваю того, что нашими учеными было сделано открытие (см., напр., Бродский, Калинникова, 1988). Но следует также согласиться, что проверенного препарата для лечения рака не было и, следовательно, показывать было нечего. Приведу профессиональное мнение Ю. Я. Грицмана (1993, с. 92), который в описываемое время был аспирантом в клинике проф. И. Г. Руфанова, где в 1946–1947 гг. проводились клинические испытания препарата «КР». Сам аспирант, по его словам, был непосредственным свидетелем проводившихся испытаний, раз его посылали сделать инъекцию препаратом умирающему больному. Важно подчеркнуть, что И. Г. Руфанов руководил общехирургической клиникой. Почему Н. Г. Клюевой не удалось договориться с онкологической больницей – ответа на этот важный вопрос у меня нет. Оценивая состояние работ Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина по биотерапии рака, выполнявшихся в то время, Ю. Я. Грицман пишет, что, во-первых, «все их эксперименты были поставлены на мышах» и, во-вторых, ученые работали с пересаженной опухолью. «Поскольку у человека мы никогда не имеем дела с пересаженной опухолью, а всегда со спонтанно развивающейся и врачи никогда не видели опухоли ранее чем через много месяцев, а может быть, и лет после их появления, то рассчитывать на клинический успех ни в коем случае не приходилось» (с. 97–98).
Да и опыты с пересаженной опухолью (на мышах) давали зримый эффект, «если препарат начинал применяться для лечения спустя 1–2 суток после трансплантации опухоли…» (с. 97). При более поздних сроках проведения экспериментов с препаратом «редко удавалось достигнуть полного рассасывания опухоли при весьма интенсивном и длительном курсе введения увеличенных доз препарата». Это дает основание сделать Ю. Я. Грицману (с. 92) следующий вывод: «Казалось бы, авторы доказали, что при развитой опухоли, с которой всегда (я это подчеркиваю! – Ю. Г. ) мы имеем дело в клинике, препарат не действует» или действует слабо, добавил бы я.
Этот вывод мы можем дополнить авторитетным мнением Я. Л. Рапопорта (1988, с. 102). «Авторы “КР” апробацию препарата организовали сами», заручившись поддержкой знакомых специалистов в разных клиниках. Но клинические испытания это утвержденная практика с четкой системой регистрации всех клинических проявлений и убедительной статистикой, разработанной применительно к испытанию новых медицинских средств и методов. Возможно, поэтому Н. Г. Клюева не решалась проводить клинические испытания в онкологической больнице, где ее участие будет сведено к минимуму и где, как ей казалось, онкологи в порядке местничества могут чинить разного рода препятствия в продвижении ее препарата.
С этим, видимо, также были связаны ее письма А. А. Жданову, в которых она жаловалась на будто бы мешающих ей чиновников. Это очень интересный момент. А. А. Жданов, когда беседовал с Н. Г. Клюевой, выясняя обстоятельства передачи рукописи и препарата американцам, отметил, что Минздрав давал негативную оценку работы Н. Г. Клюевой и Г. М. Роскина: «в Министерстве здравоохранения старались представить дело таким образом, что открытие Клюевой и Роскина малоценно и что американцы легко могут сами производить то же самое. Клюева в ответ признала, что возможно эта позиция министерства здравоохранения повлияла на то, что так легко было решено передать американцам книгу и образцы препарата» (цит. по: Левина, 2016).
У А. А. Жданова были скорее всего свои источники информации и он, возможно, был прав, говоря о негативной позиции Минздрава. Но она вполне объяснима и без обращения к конспирологическим сценариям. В работе Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина до этого изучались в основном биологические аспекты проблемы рака на мы-шах, крысах и некоторых других животных, медицинская сторона в их работе была пока очень и очень скромная, так что говорить о каких-то результатах и тем более успехах в деле биотерапии рака представлялось преждевременным. Раз Минздрав ничего не мог сказать определенного в отношении лечебных перспектив препарата, то, следовательно, не с его подачи стали раскручивать «открытие» Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Если за этим делом стоял Агитпроп, то мы снова приходим к вопросу о целях, которые он мог преследовать, сталкивая между собой ученых, занимавшихся раковыми заболеваниями.
3. 2. Роль А. А. Жданова в деле «КР»
Агитпроп тех времен курировал А. А. Жданов, второе лицо в Партии после Сталина. А. А. Жданов в апреле 1946 г. провел через Секретариат ЦК ВКП(б) постановление о помощи Н. Г. Клюевой в организации работ по биотерапии рака. В результате в Институте эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР (с 1949 г. Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи) была открыта специальная лаборатория. С этого момента А. А. Жданов следил за работой профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина.
Серьезным мотивом, направлявшим деятельность А. А. Жданова в «деле КР» могла быть перманентная борьба за власть между идеологами социализма и строителями социализма. Скорее всего, по этой причине А. А. Жданов действовал не через правительство, но непосредственно через министра здравоохранения Г. А. Митерева, показывая тем самым, что он не проявил себя нужным образом в ведомстве, которое возглавлял. Позже выявились серьезные нарушения в работе Минздрава и самого правительства. Это ведь с согласия строителей, предположительно с согласия В. М. Молотова (председателя Совета министров и министра иностранных дел) в нарушение действующих правил препарат и рукопись книги были переданы американцам.
Что реально передали американцам. По мнению строителей передали описание экспериментов на мышах и их спекулятивное (как пишет Ю. Я. Грицман, 1993, с. 97), а я бы сказал, натурфилософское обсуждение. По этой причине, как мне кажется, американцы и не стали делать перевод книги Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Но ведь ее наши идеологи представили как новое слово в лечении рака и убедили в этом Сталина. Я. Л. Рапопорт (1988, с. 103) пишет: «Ходили слухи, что в ООН раздались обвинения в адрес Советского Союза, который, будто, имея в своем распоряжении новый активный противораковый препарат, не передал его на пользу всего человечества, а держит в качестве крупного козыря в политической игре». А в книге никаких ярких примеров излечения от рака мы не увидим, а сами клинические испытания, о которых рассказывается в книге, Я. Л. Рапопорт (с. 105) назвал «кустарщиной». Американские онкологи эту кустарщину не стали переводить, а опыты на мышах, видимо, их не заинтересовали.
Идеологи настояли на том, чтобы засекретить исследования по «КР». Возможно, что это было сделано с целью иметь основания для привлечения к ответственности лиц, передавших за рубеж сведения, составляющие государственную тайну. А виновные в нарушении законов – строители. Идеологи, таким образом, подставили строителей. Это «скандальное» дело о передаче якобы секретных сведений, полученных советскими профессорами Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскиным, послужило поводом для организации, так называемых «судов чести». Но если никакой передачи секретных сведений за их отсутствием не было, то получается, что первые два суда чести над профессорами Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, а также над разжалованным союзным министром здравоохранения Г. А. Митеревым были организованы на гнилой основе. Я думаю, что это в конце концов дошло до Сталина. Но спросить было уже не с кого. А. А. Жданов летом 1948 г. умер. Практика «Судов чести» была продлена на 1949 г. Но в биологии никаких общественных судов, кроме прошедших 1947 г., не было. Короче, практика «Судов чести» продержалась лишь два года и была тихо спущена на тормозах еще при жизни Сталина.
Я почему думаю, что атака на ученых была одним из инструментов борьбы идеологов со строителями. Дело в том, что А. А. Жданов, узнав о том, что американский посол Смит заинтересовался противоопухолевым препаратом «КР» и посетил Институт эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, где этот препарат производился, затребовал относящиеся к этому посещению материалы. На отчете чиновника из Отдела управления кадров он наложил резолюцию: «… Я не думаю, что Смита нужно было пускать в Институт» (Левина, 2000). Т. е. А. А. Жданов усмотрел в действиях правительственного сектора проступок. Значимость этого проступка прямо пропорциональна значимости открытия. Возможно, поэтому он полностью «доверился» письмам Н. Г. Клюевой и не стал выяснять мнение независимых экспертов. Вместо того, чтобы прислушаться к их мнению и получить более полное представление о состоянии и перспективах биотерапии рака, А. А. Жданов начал раскручивать препарат «КР», положительно зарекомендовавший себя при испытании на мышах, как эффективное средство лечения рака у людей. Слушая только Н. Г. Клюеву, он не стал искать компромиссного решения, учитывающего позицию Минздрава и, следовательно, мнение ученых онкологов, несогласных с Н. Г. Клюевой. Это означает, что позиция А. А. Жданова определялась на тот момент более политическими мотивами, но не интересами дела. Если бы дело обстояло иначе, то А. А. Жданов должен был бы информировать Сталина как председателя Совета министров о том, что американцы очень интересуются противоопухолевым препаратом, полученном нашими учеными. В этом случае ни о какой передачи рукописи книги Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, а также препарата «КР» не было бы речи. О скрытых мотивах А. А. Жданова также свидетельствует и тот факт, что первоначально суды чести планировалось проводить против нерадивых и «нечестных» чиновников министерств и ведомств, т. е. в целом против строителей. Ситуация, однако, вышла из под контроля, изменившись таким образом, что идеологам пришлось отложить войну со строителями.
Следует подчеркнуть, что шумиха вокруг нового средства борьбы с раком развертывалось, как и в случае с Г. М. Бошьяном, по близкому сценарию – внезапно возникших разговоров, идущих из высших эшелонов власти, о крупном открытии, за которым реальных практических достижений еще не было. И в том, и в другом случаях не были опубликованы материалы с полным изложением результатов и сути открытий, с которыми могла бы ознакомиться и дать свои заключения медицинская общественность. И опять мы приходим к вопросу о целях, которые могли преследовать идеологи, раскручивая ученых фактически на пустом месте.
Для пропаганды «открытия» нового метода лечения рака – открытия, которое еще предстояло сделать, были мобилизованы журналисты. Вот что пишет об этом С. Кремлев (2010, с. 87) уточняя и дополняя сведения С. Э. Шноля: «13 марта 1946 года Клюева сделала доклад на заседании Президиума Академии медицинских наук СССР на тему “Пути биотерапии рака”. Несмотря на то, что сообщение Клюевой было чисто научным, уже 14 марта “Известия” поместили “сенсационную” статью о “КР”. Сообщили о заседании в АМН СССР и другие издания, в том числе и газета «Московский большевик», и в тот же день эта информация была передана по радио на зарубежные страны. А 9 июня в том же “Московском большевике” была опубликована большая, расхваливающая “КР” и Роскина с Клюевой, статья Бориса Неймана». Что кается сообщения об открытии по радио, то речь, видимо, идет об «интервью, данном директором Института микробиологии им. Мечникова Л. Г. Вебером Центральному радио после сенсационного доклада Н. Г. Клюевой в Академии, [интервью] было той же ночью ретранслировано в США и вызвало большой интерес, подогретый последующими публикациями в общей и специальной (Бюллетень посольства СССР в Вашингтоне) прессе» (Левина, 2000, Исаков, Левина, 2005). Л. Г. Вебер был директором института, в котором работала Н. Г. Клюева до того, как после ее писем А. А. Жданову она получила поддержку в организации большой лаборатории на базе Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней.
Понятно, что это не проф. Н. Г. Клюева позвала на свой научный доклад корреспондентов из «Известий» и «Огонька», не она распорядилась дать о себе и своем муже литературный материал в газете «Московский большевик» и не она попросила посольство СССР в США опубликовать информацию о своем открытии. Вопрос о приглашении журналистов находился в то время в компетенции советских органов пропаганды и агитации и без их ведома не мог быть решен. В таком случае, какую цель преследовал Агитпроп, пропагандируя и тем самым проталкивая в жизнь сырые, незаконченные научные проекты с еще неясной перспективой практического внедрения.
Раскроем книгу Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина «Биотерапия злокачественных опухолей». Она была подписана к печати 25 декабря 1946 г. и появилась в продаже в феврале 1947 г. А раскручивать открытие авторов книги стали с весны 1946 г. В книге подробно разбираются эксперименты по канцеролитическому (разрушающему раковые клетки) действию препарата «КР» на различные типы опухолей у мышей и других животных. Вот их заключение (с. 205):
«В наших опытах как с саркомой, так и с раком, если препарат начинал применяться для лечения спустя 1–2 суток после трансплантации опухоли, удавалось достигнуть полного эффекта, т. е. полного исчезновения опухоли, в 60–70 % и более. Если этот же препарат мы начинали применять на 8-9-й день после трансплантации опухоли, то удавалось достигнуть лишь частичного уменьшения опухоли, редко – полного ее рассасывания при весьма интенсивном и длительном курсе биотерапии увеличенными дозами препарата».
Вот что авторы пишут об испытании препарата при лечении рака у человека (с. 127): «В течение 1939–1941 гг., 1945 и 1946 годов инъекции были произведены 57 больным; из них 26 больным инъекции продолжаются, у 4 больных окончены, у 27 прекращены». Прекращены по разным причинам, в том числе, возможно, ввиду начала войны. О состоянии четырех больных, прошедших курс лечения, ничего не сказано. Как видим, полученные результаты пока не дают оснований говорить о прорыве в деле лечения рака у человека. Этот момент отражен в окончательном выводе авторов, приведенном под номером 3 в «Заключении» (с. 218): «Путем биологической и химической обработки простейших – Schizotryранит cruzi – можно получить препарат, безвредный для здоровых тканей, избирательно разрушающий злокачественные клетки раковой опухоли человека». «Можно получить», но не сказано, что мы получили препарат, который излечивает, поскольку клинические испытания еще не закончены.
Вывод, как видим, получился достаточно скромным. Поэтому необходимы дальнейшие клинические испытания при одновременном совершенствовании как препарата, так и способов его применения. Следовательно, оснований для каких-либо победных реляций в деле лечения рака тогда не было.
Я. Л. Рапопорт (1988, с. 103) в этой связи совершенно правильно констатировал, что «проблема “КР” перестала быть чисто медицинской. Шумиха и ажиотаж вывели эти вопросы за пределы медицинского мира». Но то же самое мы видели в истории с Г. М. Бошьяном. Более того, как и в случае с Г. М. Бошьяном профессор Н. Г. Клюева была выдвинута кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. Ю. Я. Грицман (1993, с. 104) приводит слова проф. Б. И. Збар-ского из его выступления на предвыборном собрании, опубликованного в газете 9 января 1947 г.: «Последние открытия профессора Клюевой Н. Г. в области профилактики и терапии рака сделали ее имя известным во всем мире». Но ведь пока не было никакого открытия в области профилактики и терапии рака. Все это плод фантазий журналистов. И мы снова возвращаемся к вопросу о целях этой шумихи, разворачиваемой в СССР (Агитпропом) и в США.
Есть, однако, серьезное отличие двух научных проектов, проталкиваемых предположительно Агитпропом. В деле Г. М. Бошьяна не было видимого участия Госдепа США. Напротив, главным застрельщиком дела «КР», закончившегося для Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина «Судом чести», а для В. В. Парина большим сроком заключения, был прибывший 28 марта 1946 г. в СССР новый посол США Уолтер Беделл Смит.
3. 3. Центральная роль американского посла У. Смита в деле «КР»
Кто такой Уолтер Беделл Смит (Walter Bedell «Beetle» Smith)? Оказывается, кадровый разведчик. В Первую мировую войну служил в военной разведке на французском театре военных действий. Во Вторую мировую войну он находился в штабе генерала Эйзенхауэра, и вел, в частности, переговоры о капитуляции сначала с итальянцами, потом с немцами. В английской версии Википедии утверждают, что служба Смита в должности посла была неудачной. Он был отозван из Москвы и в марте 1949 г. вернулся в США. 7 октября 1950 г. У. Смит стал директором ЦРУ США. Видимо, все же его деятельность послом США в СССР была достаточно успешной, раз удостоился серьезного повышения по службе. Для разведчика стать директором ЦРУ это вершина профессиональной карьеры. Справедливости ради стоит заметить, что У. Смит два раза отказывался от этого поста. На счету У. Смита удачные перевороты в Иране, когда был свергнут премьер-министр страны М. Мосаддык, и в Гватемале (за-вершена операция при А. Даллесе).
На время нахождения У. Смита в СССР приходятся скандальные истории с академиком Т. Д. Лысенко, профессорами Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина; история взлета О. Б. Лепешинской начала разворачиваться в негативном ключе с лета 1948 г. Да и дело Г. М. Бошьяна подготавливалось, скорее всего, в 1948–1949 гг.
Миф, который нам преподносят, показывает американского разведчика как искреннего человека, озабоченного судьбой больных действующего, может быть не всегда правильно с точки зрения дипломатической службы, но как бы в благородных целях, во имя спасения больных тяжелым недугом. Может ли такое быть?
Вот какую характеристику дал У. Смиту советский разведчик работавший в «Интеллидженс Сервис», Гарольд Ким Филби в своей книге «Му Silent War» («Моя тайная война»): «У него [у Смита] были холодные рыбьи глаза. Во время нашей первой встречи я принес ему на рассмотрение англо-американские планы ведения войны, документ, состоящий из двадцати с лишним абзацев. Он мельком проглядел план, отбросил его в сторону и вдруг стал обсуждать со мной его положения, каждый раз называя номера абзацев. Я успевал за ходом его мысли лишь потому, что перед этим потратил все утро на то, чтобы заучить документ наизусть» (цит. по: Кремлев, 2010, с. 89). Генерал В. Д. Соколовский писал из Германии Молотову о Смите: «Трудно сказать, как будет вести себя в новой роли… Несомненно, будет вести активную разведку по сбору информации как по вооруженным силам, так и по экономике. В его штабе в Германии это дело было поставлено чрезвычайно искусно» (Кремлев, там же, с. 88–89). Поэтому не вызывает удивления назначение У. Смита на ключевую должность директора ЦРУ.
С. Кремлев (с. 91), ссылаясь на монографию В. Есакова и Е. Левиной о судах чести, приводит выдержку из мемуаров посла У. Смита, в которых тот касается поведения профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина в деле «КР»: «Они заверили меня, что первый же стабильный препарат будет отправлен в США. Они добавили, что доктор Василий Васильевич Парин, главный ученый секретарь Академии медицинских наук, вскоре возглавит группу советских медиков с официальной миссией дать полный отчет медикам Америки…. Кроме того, мне были обещаны все данные, которые они подготовили и опубликовали…».
Я бы остерегся доверять перу разведчика. Все разговоры ученых с послом осуществлялись на официальном уровне, т. е. в присутствии не только руководства института, но и представителей особого отдела, а также по меньшей мере в одном случае в присутствии журналиста из «Огонька» Э. Финна, отсылавшего отчеты в партийные органы, скорее всего в агитпроп. А иначе, откуда бы взялась записка «Об обстоятельствах посещения американским послом Смитом института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний», подписанная заместителем начальника Управления кадров в ЦК ВКП(б) Е. Е. Андреевым, в которой сообщалось: «…Разговор Смита с профессорами Роскиным и Клюевой происходил в кабинете директора института… И Смит и его переводчик были хорошо осведомлены об открытиях профессоров Клюевой и Роскина и об их работе. Из вопросов, грамотного и правильного употребления узкоспециальных терминов было видно, что Смит хорошо знает историю открытия и его значение…».
Борьба с раком это не только помощь больным. Это еще и огромные деньги, которые готов отдать больной человек за исцеление от тяжелого недуга. Поэтому первая мысль, которая приходит в голову при анализе действий американского посла, что с его стороны это была попытка заполучить данные, составляющие коммерческую тайну, не затратив при этом ни цента денег. Этот вариант никак нельзя исключить, но профессиональный разведчик обычно имеет в своем арсенале несколько разработок, чтобы в нужный момент переключиться на другой сценарий ведения дела. О них мы будем говорить при рассмотрении соответствующих свидетельств участников дела «КР».
Если идеологи, ведомые А. А. Ждановым, осуждают низкопоклонство и раболепие части советской интеллигенции и в качестве примера ссылаются на работающих профессоров Н. Г. Клюеву и Г. И. Роскина, то надо выяснить, в чем выражалось их низкопоклонство и раболепие и к каким негативным последствиям это привело, что потребовало проведения публичных слушаний в так называемом Суде чести с общественным осуждением ученых. Между тем все пишущие на эту тема обходят эту сторону проблемы, возможно, потому, что такая постановка проблемы связывает личную трагедию ученых с действием в первую очередь сторонних сил (низкопоклонство перед иностранцами). Эти сторонние силы прямо указаны в решении Суда чести как структуры «иностранной, и в первую очередь американской, разведки». Следовательно, советские ученые, которым посчастливилось сделать открытия мирового значения, должны быть защищены от провокаций американской разведки. Почему была выбрана такая форма защиты, как осуждение антипатриотических поступков, проявления нашими учеными низкопоклонства и раболепия?
Если вот так запросто посол США приехал к нашим ученым (20 июня 1946 г. ), поговорил с ними об умирающем Гарри Гопкинсе, о возможности оснащения их лаборатории импортным (американским) оборудованием и ученые тут же изъявили готовность предоставить препарат, более того, настаивали на этом в министерстве в полной уверенности, что посол США был искренним в отношениях с ними. На встрече ученых с послом присутствовал, скорее всего, по поручению Агитпропа, журналист из «Огонька» Э. Финн, который послал отчет об этой встречи своему начальству, а то – в секретариат ЦК (Кременцов, 1995, с. 279). В этом документе «Финн писал, что Смит пригласил Клюеву и Роскина посетить США для ознакомления с работами по раку проводимыми американскими исследователями, а также предложил свою помощь в обеспечении лаборатории необходимым оборудованием и материалами и просил разрешить американским ученым посетить лабораторию» (Кременцов, 1995, с. 278). «Спустя несколько дней после визита, – продолжает Н. Л. Кременцов (там же, с. 278–279), – Смит обратился в министерство здравоохранения с официальным предложением организовать совместные советско-американские исследования по препарату “КР”. Он предложил полное финансирование работ американской стороной. Послу удалось договориться и о посещении лаборатории Клюевой двумя американскими исследователями в августе текущего года». Очень спешил У. Смит. А посылали они специалистов, чтобы посмотреть на месте, в каком состоянии находятся исследования русских и как быстро они могут и могут ли вообще добиться успеха (тоже исключительно важная информация для принятия политических решений).
В связи со сказанным повторим вопрос, который до этого был адресован В. В. Ларину. Почему наши ученые изъявили готовность предоставить американской стороне противоопухолевый препарат? Для советских людей того времени ответ очевиден: если мы можем помочь в лечении страшного недуга, то мы должны и обязаны помочь. В данном конкретном случае это надо сделать в порядке ответного шага на приглашение американского посла посетить США для ознакомления с работами по раку, проводимыми американскими исследователями. Если американцы готовы поделиться информацией по раку, то как мы можем отказать им в том же. Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин воспринимают американцев как наших союзников, которым надо помочь. У них и в мыслях не было, что американцы и тем более посол великой страны могут не ответить им взаимностью, что они могут преследовать какие-то свои и, следовательно, корыстные цели.
Давайте внимательно посмотрим проект соглашения о совместной работе по биотерапии рака между нами и американцами. Этот проект так и остался проектом и не вышел за стены Минздрава СССР.
Настоящее соглашение заключено между Министерством Здравоохранения СССР, с одной стороны, и Посольством США, с другой стороны, в том, что:
1. Министерство Здравоохранения СССР, учитывая гуманные цели борьбы со злокачественными опухолями, предоставляет Посольству США исчерпывающую информацию о противораковом препарате Клюевой-Роскина (“КР”), в частности о технологии процесса изготовления препарата. В дальнейшем Министерство Здравоохранения СССР предоставляет в распоряжение научных онкологических учреждений США все материалы о могущих быть усовершенствованиях этого препарата.
2. Правительство США со своей стороны представляет Министерству Здравоохранения СССР информацию о новых противоопухолевых препаратах, выработанных или могущих быть выработанными в США.
3. Работу по биотерапии рака считать совместной советско-американской работой над препаратом “КР”, при сохранении и в дальнейшем его названия.
4. Для совместного изучения препарата “КР” и обмена опытом по изготовлению подобных препаратов США командируют в СССР научных сотрудников для работы в институтах и лабораториях, изучающих проблему рака.
США принимает на себя обязательство по дооборудованию лабораторий и институтов СССР, изучающих проблему рака, по специальному списку [РГАНИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 619; цит. по: Левина, 2000, с. 11].
Этот юридически безграмотный проект свидетельствует о несерьезном отношении посла к тем нашим руководителям медицины, к которым он приехал договариваться. Е. С. Левина (2000, с. 10) пишет, что «родившийся в результате обсуждения вариант соглашения больше напоминал “протокол о намерениях”, чем строгий договор о научном сотрудничестве». Мне же кажется, что договор о намерениях был лишь с американской стороны. Мы же в гуманных целях, как записано в проекте, должны были предоставить американцам полную информацию по конкретной научной разработке, имеющей, по мнению наших властей, мировое значение в деле лечения рака. О каких, спрашивается гуманных целях идет речь, если американцы приобретают открытие за деньги в виде медицинского оборудования. В Соглашении упоминается Правительство США в качестве договаривающейся стороны, но не указано Правительство СССР в том же качестве. Соглашение почему-то должно быть заключено между Минздравом СССР и посольством США. Но посольство США не является медицинской службой. Что, было трудно приехать в СССР Главному хирургу США? Не поверю. Зачем их министерству включаться в чужой проект с туманными перспективами практического приложения. А сам посол США. Не имея на то полномочий, начинает вести переговоры в тайне от Правительства СССР, которые по этой причине ни к чему не приведут. В таком случае, зачем посол затеял переговоры?
Е. С. Левина позже в книге, написанной совместно с В. Д. Есаковым, изменила свою точку зрения. Вот, что ими сказано (Есаков, Левина, с. 98–99): «Текст проекта свидетельствовал о недостаточной его проработанности и явном ущербе, наносимом авторам открытия, поскольку советская сторона брала на себя конкретные обязательства, в то время как обязательства американской стороны были весьма расплывчаты. Опытный разведчик и дипломат У. Смит одержал победу над советскими учеными и чиновниками, заручившись их согласием предоставлять информацию о ходе работы над важным открытием. Именно так позже было квалифицировано случившееся». Последней фразой авторы как бы ставят под сомнение, что сказанное ими ранее является их собственной точкой зрения. Что это не они, но власти смотрят на это дело под таким углом зрения. Поэтому давайте еще раз оценим «документ».
По факту наши руководители медицины настолько растерялись перед наглостью американского посла, что готовы выполнить все, что он им говорит. Более того, в этой истории не увидели ничего серьезного сотрудники министерства Госбезопасности СССР, присутствовавшие на переговорах посла с нашими медиками. В записке от 3 августа 1946 г. на имя секретарей ЦК ВКП(б), составленной Е. Е. Андреевым о посещении американским послом института, отмечено: «Заместитель министра Госбезопасности СССР т. Огольцов считает, что беседа Смита с профессорами Клюевой и Роскиным организована была нормально» (цитировано по: Есаков, Левина, с. 47). Организована она была, возможно, и нормально, но вот ее результаты были ненормальными.
В. Д. Есаков и Е. С. Левина по этому поводу пишут (с. 47): «Казалось бы, какие после этого могут быть претензии к ученым, если они не входили сами в контакт с американским послом, а лишь откликнулись на предложение вице-президента АМН СССР А. И. Абрикосова и министра СССР Г. А. Митерева, если встреча была согласована с МИДом, признана нормальной всесильным МГБ и не вызвала возражений Управления кадров ЦК ВКП(б)». Вот это и прискорбно, и к ученым здесь менее всего претензий. Когда позже, где-то в декабре Сталин узнал обо всем этом, он, я думаю, за голову схватился. По наивности и робости перед авторитетом «Европы» наши люди вот так запросто могут просто передать все советские секреты.
Поэтому наше руководство и усомнилось в том, что активность посла США вокруг наших ученых, раз она была несерьезной, не преследовала какие-то свои цели. Что это так, об этом свидетельствуют факты, о которых пишущие на эту тему историки науки не говорят. Дело в том, что исследования по биотерапии рака в их активной фазе начались практически одновременно в СССР и в США. По данным Вебера (см. Есаков, Левина, 2005, с. 33), директора Института вакцин и сывороток им. Мечникова, в котором проводились исследования Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, те начали свои эксперименты на мышах 3 февраля 1945 г. В США аналогичные исследования на мышах (позже на кроликах) были начаты в марте 1945 г. протозоологом Теодором Хаушка (из Института раковых исследований – Institute for Cancer Research, Lankenau Hospital, Philadelphia, Pennsylvania) c использованием нескольких линий трипаносом, выделенных из человека, обезьян, броненосца и триатомовых клопов. Позже к этим работам присоединились еще несколько исследовательских групп. Смотрите, как оперативно в США, узнав о наших исследованиях в области терапии рака, тут же бросили на решение этой проблемы несколько исследовательских групп. Из нижеследующего абзаца можно понять, что над проблемой биотерапии рака работало по меньшей мере четыре исследовательские группы.
Первые результаты казались обнадеживающими для некоторых линий трипаносом. Но в целом были получены отрицательные результаты. Приводим перевод заключения Теодора Хаушки и Маргарет Гудвин (Hauschka, Goodwin, 1948, р. 602): «Относительно работы Роскина и Клюевой пока еще рано ставить окончательный вердикт, но в виду почти полностью отрицательных результатов наших экспериментов (Hauschka, 1947а, Ь), и опытов других исследователей (Engel, 1944, Cohen et al., 1947, Belkin et al., 1948) неизвестный «эндотоксин» из T. cruzi, следует пока признать, не внушает (hold out) больших перспектив в деле противоопухолевой терапии», «C марта 1945 г. были испытаны 8 различных линий Т. cruzi против 5 форм раковых опухолей у более 1300 экспериментальных мышей».
Не подтвердили американские специалисты и другое открытие наших ученых (там же, р. 600): «Паразиты не показывали “положительный туморотропизм” [т. е. поражение преимущественно раковых клеток], как установлено русскими исследователями… Под нашими экспериментальными условиями собственно раковые клетки редко заражались. Инфекция была слабо представлена в строме опухолей, высокая концентрация паразита отмечена в сердце, печени, селезенке, почках, в тонких кишках и скелетных мышцах». Для сравнения, вот что писала Е. С. Левина (2016): «По состоянию работы на июль 1947 г., зафиксированном в опубликованной к этому времени монографии, была доказана лишь принципиальная возможность использовать феномен туморотропизма отдельных штаммов T. cruzi как биологическую основу специфической онкотерапии, что уже было предметом открытия».
По данным заведующего лабораторией клеточной биологии Петербургского института ядерной физики РАН М. В. Филатова, в 1950 г. NCI (National Cancer Institute в США) не возобновил грант, для продолжения исследований Хаушки (Hauschka) по биотерапии рака с использованием Т. cruzi. Другие исследователи также потеряли интерес к изучению противоопухолевого действия простейших. Не исключено, что это сыграло определенную роль в решении, принятом на правительственном уровне, закрыть в 1951 г. эти работы и в нашей стране.
Таким образом, проект соглашения, под которым должна стоять подпись посла США, был откровенно мошенническим. Мы передаем американскому послу открытие, а они нам лишь намерение что-то показать. Самое неприятное, что в этом деле на главных ролях был замешан посол США. Т. е. мошенничество развертывалось со стороны США по государственной линии.
В жизни всякое случается. И посол, тем более из кадровых разведчиков может повести себя не так, как принято. Но ведь мошенническая деятельность У. Смита в отношении граждан СССР была одобрена Госдепом США, раз его выдвинули на повышение. В этом эпизоде американцы смотрели на наших граждан как на туземцев, у которых они, даже не за бусы, но лишь за обещание их им дать, пытались заполучить реальные ценности. Это сейчас на горьком опыте разрушенной страны мы знаем, чем для советских людей обернулась мошенническая деятельность запада под лозунгом демократизации жизни нашего общества. Вот эта уязвимость советских людей, воспитанных на принципах уважения, добрососедства и доверия друг к другу, и которых поэтому легко обмануть, и открылась нашему правительству в деле профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Ну ладно, если бы попались на мошенническую удочку ученые. Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин были полностью поглощены своей многолетней и поэтому изматывающей работой. Но ведь наивность и преступную доверчивость проявили министерские работники вплоть до министра. А ведь им по статусу положено стоять на страже государственных интересов. И как бы не хотел А. А. Жданов, их нельзя осудить за эту доверчивость и беспечность, не подорвав при этом доверия к самой власти.
В деле Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина необходимо ответить на два вопроса. Имело ли место нарушение законов СССР со стороны ученых. Иными словами, были ли они осуждены по закону, или это был политический произвол. В последнем случае нам надо выяснить мотивы, которыми могли руководствоваться власти. Второй вопрос касается производственной и медицинской готовности противоопухолевого препарата в качестве эффективного средства лечения больных раком.
Н. Г. Клюева написала два письма А. А. Жданову, уверяя его об исключительной перспективности полученного препарата в борьбе с раком (первое письмо в апреле 1946 г. ). Заинтересованность американской стороны в получении сведений об этом препарате, видимо воспринимались как серьезное свидетельство того, что Н. Г. Клюева не ошибалась в своей оценке практических возможностей «КР».
???бы то ни было, органы власти откликнулись на призыв Н. Г. Клюевой о помощи и организовали лабораторию, штат которой к ноябрю 1946 года увеличился до 99 человек. 23 декабря 1946 г. Сталин подписывает Постановление «О мероприятиях по оказанию помощи лаборатории экспериментальной терапии профессора Н. Г. Клюевой». Постановление было секретным и опубликованию не подле-жало. В США, напомним, пошли по иному пути, начав параллельное финансирование нескольких исследовательских групп.
Вот выдержка из Решения Суда чести Министерства здравоохранения Союза ССР, из которой видно, что перспективы использования препарата «КР» в борьбе с раком оценивались в то время исключительно высоко: «Профессора Клюева и Роскин, работая в течение больше чем 15 лет над созданием противораковой вакцины, добились первых, весьма успешных результатов. Ими создан препарат “КР”, первые опыты применения которого для лечения некоторых форм рака дают основание полагать, что дело идет об открытии величайшего научного значения, способном произвести переворот в деле лечения рака, болезни, для излечения которой мировая наука до сих пор не могла предложить ни одного действенного средства».
Я не знаю, были ли отрицательные отзывы в отношении практических перспектив использования полученного Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскиным противоопухолевого препарата. Если и были, то в них могли быть возражения теоретического плана. До проведения широких клинических испытаний, не было материала для профессионального обсуждения. Из самой книги ученых, как мы уже сказали, никаких конкретных выводов о лечебных достоинствах препарата пока сделать было нельзя.
Перейдем теперь к вопросу о вине ученых. Давайте посмотрим, в чем они обвинялись, если исходить из решении Суда чести: «Недостойные поступки профессоров Клюевой и Роскина состоят в том, что Клюева и Роскин своими действиями способствовали рассекречиванию препарата “КР” и передаче его американцам. Еще в 1945 г. и в начале 1946 года, когда определились первые успехи в применении препарата “КР” для лечения больных раком, Клюева и Роскин, вместо того чтобы обеспечить секретность своих работ, поскольку открытие находилось в зачаточном состоянии и не прошло всесторонней клинической проверки, встали на путь афиширования своих работ и продвижения сведений о них за границу с целью личной славы. Тем самым к опытам Клюевой и Роскина и к работе их лаборатории было привлечено усиленное внимание иностранной, и в первую очередь американской, разведки» (цит. по: Есаков, Левина, 2002, с. 112, выделено нами).
Из решения Суда следует, что ученые виновны в том, что не побеспокоились обеспечить секретность своих работ. С таким обвинением невозможно согласиться. Во-первых, еще нет никаких поло-жительных клинических результатов, которые бы «давали основание полагать, что дело идет об открытии величайшего научного значения, способном произвести переворот в деле лечения рака». Во-вторых, лечение рака является мировой проблемой. И если действительно наметились реальные успехи в его лечении, то в условиях нарастающего понимания необходимости международного сотрудничества такую информацию нельзя скрывать. Вернее должны быть веские и понятные основания для этого. Но пока исследование Н Г. Клюевой и Г. И. Роскина находилось на стадии доклинических испытаний, то скрывать собственно было нечего.
Следовательно, мы приходим к самому темному моменту в деле “КР”, к обвинению ученых в пропаганде своих исследований, в том числе за рубежом с целью, как записано в решении Суда, личной славы. С этим обвинением также никак нельзя согласиться. Разве Н. Г. Клюева пригласила на свой служебный доклад журналистов; разве это она упросила корреспондентов, вещающих за рубеж, информировать о своем открытии мировую общественность; разве она напросилась на встречу с американским послом, пригласив на эту встречу Э. Финна из журнала «Огонек». Во всех трех случаях такие связанные с пропагандой решения принимались тогда на государственном уровне. Это прерогатива идеологического отдела партаппарата. Отчет Э. Финна о встрече Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина с американским послом был направлен в ЦК (Кременцов, 1995). Значит инициатива в «афишировании работ ученых и в продвижении сведений о них за границу» шла от Агитпропа. А вот зачем идеологи это сделали, свалив в последствии вину на самих ученых, с этим необходимо разбираться.
По данным Н. Л. Кременцова (1995, с. 281) «зимой 1946 г. Генеральный Хирург США [должность, соответствующая нашему министру здравоохранения] пригласил академика-секретаря АМН В. В. Парина “совершить большую ознакомительную поездку по американским больницам и двенадцати крупнейшим центрам, ведущим исследования в области рака”[21]. В качестве примера отечественных исследований в этой же области Парин взял с собой в Америку рукопись книги Клюевой – Роскина и несколько образцов препарата “КР”. Пытаясь договориться об издании книги в США, он передал рукопись и образцы американским коллегам». Видите как все синхронно получается. Зимой приглашают В. В. Парина[22] в ознакомительную поездку по раковым центрам США. Весной Агитпроп провел пропагандистскую кампанию о достижениях наших ученых Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина в области борьбы с раком. Об этом узнали в Америке и в середине лета посол США нагрянул в «гости» к нашим ученым с предложением о сотрудничестве. Осенью В. В. Ларин отправился в ознакомительную поездку по раковым центрам США и в порядке любезности захватил показать американцам рукопись Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина и образцы их препарата.
И вот теперь главный вопрос, который комментаторы старательно обходят. Зачем В. В. Ларин взял с собой в США рукопись книги и противоопухолевый препарат, т. е. неопубликованные и незащищенные патентами (если, конечно, там было что защищать) конкретные результаты исследований по раку. Разве американцы также обещали ему показать конкретные результаты их разработок по раку. Нет. Видите, какой с самого начала был запланирован неравноценный обмен: они требуют от нас конкретные результаты наших разработок, а нам обещают показать лишь то, что сочтут нужным. Кроме того, В. В. Ларин не является специалистом по биотерапии рака, чтобы профессионально объяснить то, что у него спросят и оценить то, что ему покажут. И отсюда еще один вопрос, почему вместе с В. В. Лариным не послали в США Л. Г. Клюеву, которая могла бы рассказать о своих работах и сама задать американским коллегам вопросы, связанные с ее профессиональной деятельностью как онколога.
Вот как сам В. В. Ларин объясняет свой поступок (см. Рапопорт, 1988, с. 108 [Из архива В. В. Ларина]): «Исходя из смысла постановления Совета Министров Союза ССР о моей командировке в США и принимая во внимание, что я должен был получить там, и в самом деле получил, не только печатные научные труды, но и новые лекарственные препараты, химикалии, приборы, инструменты и другие вещественные материалы, я очевидно, имел основания в порядке взаимности передать американским научным учреждениям аналогичные вещественные образцы. Таковыми были вакцина “КР”, предложенная проф. Клюевой и проф. Роскиным для лечения рака, и препарат эритрин, открытый проф. Зильбером» (выделено нами).
Из объяснения В. В. Ларина следует, что это он сам решил передать «КР» американцам. Возможно, что он согласовал свое решение с министром здравоохранения Г. А. Митеревым, возможно, что попросила его передать препарат проф. Клюева. При всем этом действовал он не по приказу (пусть и устному, как утверждают некоторые) министра Г. А. Митерева, но, как он сам говорил, по своей личной инициативе, обменивая неофициальным порядком то, что ему не принадлежит.
Если бы В. В. Ларин передавал американским коллегам готовый лекарственный препарат, то в этом не было бы никакого проступка. Но он передавал препарат, с которым еще предстоит работать, чтобы получить из него эффективное лекарственное средство от рака. Эти его действия могут квалифицироваться как классический экономический шпионаж. Представим себе, что «КР» после его доведения до рабочего состояния действительно оказался эффективным средством лечения рака у человека. Американцы при их лучшей технической оснащенности могли бы опередить нас и первыми запустить производство препарата против рака. Более того, начать продажу лекарства в другие страны, в том числе и в СССР. Конечно, первое время они бы не отрицали того факта, что идея получения чудо-лекарства принадлежит советскому ученому Г. М. Роскину. Но само лекарство – это детище американских ученых. Это они создали чудодейственный препарат. Сами русские не способны были его сделать и надо еще выяснить, не купили ли они секреты производства лекарства у американских ученых, польстившихся на легкие и неправедные деньги.
О такой возможности говорил в частных разговорах на Всесоюзной онкологической конференции (15–20 января 1947 г., Ленинград) научный руководитель Центрального института акушерства и гинекологии проф. Л. И. Мандельштам, ссылаясь на академика Ю. Ю. Джанелидзе, побывавшего в США в составе делегации онкологов, возглавляемой В. В. Лариным: «Наши возможности в области научных работ, с точки зрения технической, сильно отстают от американской и если мы не перевооружим наши научные лаборатории современной техникой, то нам не догнать американцев, а наоборот они будут использовать и доводить до конца наши идеи, наши теоретические труды и открытия» (цит. по: Есаков, Левина, 2005, с. 94) Так что опасения руководителей СССР были небеспочвенными.
Если передача препарата “КР” была как бы личной инициативой В. В. Парина, то он действовал, надо думать, по просьбе Н. Г. Клюевой. Если бы Н. Г. Клюева была против передачи препарата специалистам в США, то у В. В. Парина не было бы оснований везти препарат в Америку. Можно поэтому допустить, что предварительная договоренность о передаче препарата «КР» была. И проект соглашения о совместной работе по биотерапии рака, текст которого был приведен ранее (с. 193) и который так и не был претворен в жизнь, это подтверждает.
Я думаю, что в этих действиях ученых не было какого либо злого умысла. Когда В. В. Парина пригласили в США, то заинтересованные лица собрались в министерстве и стали думать, чем ответить на американскую любезность предоставить нам информацию о новых лекарствах и передать сами лекарства. Во время войны культурные контакты были на низком уровне. Американская делегация медиков, посетившая до этого СССР, наверняка пообещала помочь с новой литературой, с какими-то химикалиями, образцами лечебной аппаратуры. Нам похвастаться перед американцами особо было нечем. Во время войны практически не издавались книги по медицине. В более или менее готовом виде была рукопись по биотерапии рака Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Поэтому и возникла идея передать через В. В. Парина эту рукопись, а также «Справочник Академии медицинских наук СССР», и, кроме того, препараты «КР» для лечения рака и эритрин. На этом и остановились. Наверняка спросили мнения ответственных лиц в правительстве и министерстве иностранных дел. В любом случае должны были заручиться поддержкой должностных лиц, не увидевших в этом факте чего-то неправильного.
И тут вдруг неожиданно для всех вовлеченных в это дело ситуация резко изменилась. Принятое на неофициальном уровне решение о передаче материалов вызвало большое неудовольствие на самом верху. В. В. Парину инкриминировали разглашение и передачу секретных материалов. «Из числа этих материалов – писал в объяснительной записке уже после освобождения В. В. Парин (см. Рапопорт, 1988, с. 108 [Из архива В. В. Парина]) – мне особо инкриминируется передача «Справочника Академии медицинских наук СССР»--Считаю необходимым добавить, что ко времени моей поездки за границу справочник нашей Академии… являлся изданием открытого типа». Надо, следовательно, полагать, что справочник стал закрытым во время трехмесячного пребывания В. В. Парина в США. То же самое, видимо имело место в случае с препаратом «КР». Работы по нему, возможно, также были засекречены после отъезда В. В. Парина в США. В. В. Парин в итоге был осужден как шпион, а В Г. Клюева и Г. И. Роскин, а также уволенный бывший министр ГА. Митерев получили общественное порицание в суде чести. По итогам суда чести в партийные организации было направлено закрытое письмо о проступке Клюевой и Роскина, в котором «излагалось существо их открытия и его величайшее научное и практическое значение». Указывалось, что «движимые тщеславием, честолюбием и преклонением перед Западом, они поторопились оповестить о своем открытии весь мир, использовав для этого сомнительного посредника в лице Парина»; «… в письме говорилось, что на заседании в Кремле Клюева показала себя “сомнительным советским гражданином”» (Рапопорт, 1988, с. 108).
Некоторую разгадку дела В. В. Парина мы получаем из его объяснения, данное секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову 3 февраля 1947 г. В. В. Парин утверждал, что передать рукопись и препарат американской стороне его попросил Г. А. Митерев. Так ли это было или нет, сейчас не решишь. Г. А. Митерев отказался это признать. Однако давайте внимательно рассмотрим опубликованные по этому делу материалы.
3. 4. Запутанная история с передачей рукописи и ампул с препаратом «КР» американцам
Теперь о самой передаче рукописи и препарата. В. Д. Есаков и Е. С. Левина (2005, с. 63) пишут: «В литературе и архивных документах факт получения В. В. Лариным перечисленных препаратов имеет различные трактовки. Остановимся на той из них, которая была высказана Н. Г. Клюевой в беседе с А. А. Ждановым 28 января 1947 г. Клюева, как свидетельствует запись этой беседы, говорила: “Парину перед отъездом его в Америку объявили в Министерстве здравоохранения, что можно рассекретить открытие Клюевой и Роскина и в Америке он может о нем рассказать. Дали ему рукопись книги Kлюевой и Роскина”… При этом в Министерстве сослались на то, что будто бы запросил книгу и образцы препаратов В. М. Молотов».
Соответствующий запрос В. М. Молотова, адресованный в Москву Деканозову, был найден. В. М. Молотов находился осенью 1946 г на генеральной ассамблеи ООН, где он выступил с программной речью «Советский Союз и международное сотрудничество». 7 ноября он устроил большой прием, на котором присутствовал В. В. Парин, сумевший переговорить с В. М. Молотовым и просить того разрешить передать американцам рукопись и препараты. Запрос В. М. Молотова заслуживает того, чтобы его воспроизвести (цит. по: Есаков, Левина, 2005, с. 65).
«ДЕКАНОЗОВУ
Находящийся здесь секретарь-академик медицинских наук Парин считает желательным удовлетворить просьбу американцев и передать им печатающуюся уже у нас рукопись книги «Биотерапия рака», а также препарат Клюевой-Роскина для лечения рака. Парин не считает нужным делать секрета из этого, по его мнению, несовершенного и недоработанного препарата и имеет на это согласие Митерева, а американцы настаивают на его получении, получив сведения о нем из нашей печати… Парин, однако, сообщил, что Зарубин предупредил о недопустимости передачи американцам препарата и деталей его приготовления. У меня не имеется ясного представления по этому вопросу, но думаю, что Парин, пожалуй, прав. Прошу информировать. 8 XI. 46 г. В. Молотов. »
Я думаю, что когда В. В. Парин за месяц своего пребывания в США убедился в том, насколько серьезно ведут американские коллеги работы по биотерапии рака, он понял, что это им надо утаивать данные при получении положительных результатов, нам пока нечего скрывать. И эту мысль, я думаю, он донес до В. М. Молотова. Отметим, что В. В. Парин, возможно, имел в виду американского посла в Москве Смита, который действительно просил передать американцам рукопись для публикации в США и препарат. В. М. Молотов, следовательно, должен был учитывать и этот момент, имеющий политическую составляющую.
Я почему-то думал, что В. В. Ларин, отправляясь в США, взял с собой рукопись и препараты. Но вот что мы читаем в книге В. Д. Исакова и Е. С. Левиной (2005, с. 66): «Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин узнали о запросе Молотова 11 ноября 1946 г. в Министерстве здравоохранения СССР, где им сообщили, что “Вячеслав Михайлович Молотов прислал указание выслать в США по его адресу нашу книгу”».
Вы что-нибудь понимаете? По одним данным рукопись книги находится у В. В. Ларина, пребывающего в это время в США. В. В. Ларин ищет в Нью-Йорке встречи с В. М. Молотовым, чтобы решить вопрос о возможности передачи рукописи американской стороне. По другим данным рукопись находится в Минздраве, в Москве и ее собираются выслать в США по запросу находящегося в Нью-Йорке В. М. Молотова.
Ниже я даю еще одну интересную информацию из книги В. Д. Есакова и Е. С. Левиной (2005, с. 69). По их данным, 25 ноября 1946 г. у А. А. Жданова состоялось совещание по «КР» с участием всех заинтересованных лиц. Сразу после его завершения заместитель Кузнецов отправил ответ Молотову, что Минздрав не возражает против передачи американцам рукописи (без главы о технологии) и препарата «КР». Из этого следует, что рукопись книги все же была на руках у В. В. Ларина.
Этот факт подтверждается следующим документом. 29 ноября 1946 г. А. С. Павленко и завотделом Управления кадров ЦК ВКП(б) БД. Петров направили А. А. Жданову еще одну записку «О неправильном отношении министра здравоохранения СССР т. Митерева к разработке противоракового препарата “КР” профессоров Клюевой и Роскина». В числе прочего в ней подтверждалась разрешение на передачу американцам препарата (Есаков, Левина, 2005, с. 72): «Заместитель министра здравоохранения СССР т. Кузнецов дал согласие на передачу выработки препарата в США представителем Министерства здравоохранения».
Итак, 25 ноября разрешили передать рукопись и препарат. 26 ноября В. В. Парин это сделал. Значит, рукопись была у него на руках. Собственно это он сам подтверждает в своем письменном объяснении, которое он дал секретарю ЦК А. А. Жданову. Текст объяснения приведен в книге В. Д. Есакова и Е. С. Левиной (2005, с. 94–96). Здесь мы приводим только ключевые для понимания нашей темы выписки из объяснения В. В. Парина:
«В 10-х числах июля [1946 г. ] по моем возращении из Венгрии… министр здравоохранения СССР Г. А. Митерев сообщил мне о том, что имеется предварительное распоряжение соответствующей инстанции о направлении меня в США… При этом Г. А. Митерев сказал мне, что… даст мне два поручения, а именно, во-первых возглавить группу наших ученых – специалистов по раку, направляемых в то время в США, во-вторых, предоставить американцам в порядке взаимного обмена подробную информацию о работах профессоров Клюевой и Роскина по лечению рака. Он предложил мне детально проштудировать работу Клюевой и Роскина для того, чтобы иметь возможность сделать доклады от их имени в научных организациях, и взять с собой рукопись и вакцину».
Давайте остановимся и проанализируем текст. По данным Н. Л. Кременцова (1995, с. 281), В. В. Парина и только его одного пригласил Главный хирург США. В разрешении о направлении В. В. Парина в США говорится только о нем. Можно предположить, что эта его поездка не была связана с делегацией онкологов. Об их направлении в США договорились позже и скорее всего на меньший срок, не на три месяца. Встает вопрос, почему в делегацию онкологов не включили Н. Г. Клюеву. Ответить на этот вопрос не представляет труда тем, кто жил в советское время. Поездка на запад была мечтой для многих. И поэтому если появлялась возможность, то ехали свои. Н. Г. Клюева, очевидно, не входила в число своих, раз попросили В. В. Парина рассказать интересующимся американским ученым о ее работах. Таким образом, по заявлению В. В. Парина, он в деле «КР» был сторонним человеком. С направлением делегации онкологов в США и передачей рукописи и препарата договаривался кто-то из подчиненных Г. А. Митерева. В. В. Парина в этом случае подставляли, возможно, неумышленно, но серьезно, если что-то пойдет не так. Пошло, к сожалению, не так. Вот и Г. А. Митерев на всякий случай, но очень удачно ушел в отпуск в период пребывания В. В. Ларина в США. Я ничего не хочу сказать, но кроме как на В. В. Ларина возложить вину было больше не на кого. Так драматически сложилась ситуация. Однако продолжим изучение объяснительной записки В. В. Ларина.
«Накануне моего отъезда, 4 октября, я был в МИДе у Зарубина… и во время разговора с т. Зарубиным случайно поднялся вопрос о “КР’\ причем т. Зарубин сказал мне, что имеется наше решение не давать по этому поводу никакой информации заграницу. Я сказал, что это для меня неожиданно, так как я имею от т. Митерева противоположное указание – предоставить американцам полную информацию, вплоть до образцов вакцины, и сказал, что буду просить уточнения указаний у Г. А. Митерева. Тотчас из МИДа я зашел к Г. А. Митереву и сообщил ему об этом разговоре. Григорий Андреевич сказал мне, что не нужно давать американцам технологию, а остальное можно предоставить. Т. к. все у меня было уже сложено, а перед отъездом я, как всегда бывает, имел очень хлопотный день и устал, то я решил не распаковывать большой сверток с книгами, которые я вез с собой и в котором была рукопись книги Н. Г. Клюевой с главой о технологии, и решил, что я сдам эту часть рукописи на хранение в Нью-Йорке в наше консульство, что я и сделал немедленно по прибытии Нью-Йорк. По дороге, однако, у меня возникли сомнения в отношении всего вопроса в целом, вследствие чего я решил сдать в консульство и вакцину и не предпринимать никаких шагов до уточнения всего дела, решив обратиться для этого к В. М. Молотову, который, как известно, был в это время в Нью-Йорке. Я обратился к В. М. Молотову и изложил ему обстоятельства дела 7 ноября в личном разговоре. Тов. Молотов сказал, что этот вопрос надо согласовать с Москвой и обещал телеграфно запросить Москву и известить меня о результатах запроса… 24 ноября, по возращении из Филадельфии в Нью-Йорк, я был информирован в консульстве, что меня 2 дня ищет т. Подцероб… По моем приезде [на следующий день] к т. Подцеробу, он прочел мне по записке, которую он вынул из своего кармана, примерно следующий текст: “разрешено передать рукопись без главы о технологии, при условии перепечатки на машинке, и вакцину, указать, что срок ее годности кончился” (вакцина сохраняется только 10 дней, срок привезенной мной вакцины кончился 14 октября)». В тот же день, т. е. 26 ноября В. В. Ларин передал рукопись и просроченную вакцину.
Борис Фёдорович Подцероб с 1943 по 1949 г. был старшим помощником наркома иностранных дел. Кто такой упоминаемый здесь ответственный сотрудник МИДа Зарубин не вполне ясно. В дипломатическом словаре приводятся краткие сведения о Георгие Николаевиче Зарубине, который был послом СССР в Канаде (с 1944 г. до 28 сентября 1946 г. ), затем в Великобритании (с 28 сентября 1946 г. до-1952 г. ) и в США (1952–1958).
Итак, снова проанализируем изложенное В. В. Париным. Он зашел в МИД, чтобы выяснить, нельзя ли долететь до Парижа мидовским самолетом, и случайно узнает, что передавать рукопись и препарат запрещено. Неужели запретили и забыли уведомить об этом Минздрав? Не поверю. Могли по телефону информировать, сказав что решение вышлют позже. Значит, кому-то в Минздраве нужно было, чтобы В. В. Парин не знал об этом решении. Если Г. А. Мите-рев не знал о запрете, то после того, как услышал об этом от В. В. Ларина, должен был оперативно выяснить, что можно делать и чего нельзя. В. В. Парин вот-вот должен вылететь. Вместо этого он стал нести отсебятину. В. В. Парин поначалу поверил в его объяснения. Но, видимо, за долгие часы раздумий в полете он пришел к мысли, что здесь что-то не так, и с передачей материалов следует повременить до тех пор, пока он не выяснит через В. М. Молотова, как ему поступить.
Отметим расхождение во времени. Разрешение передать материалы американцам было получено нашим посольством в США самое позднее 23 ноября (за 2 дня до 24 ноября – дня возвращения В. В. Парина в Нью-Йорк). Но совещание у А. А. Жданова, на котором было принято решение о передаче материалов, состоялось 25 ноября. Но это не всё, что вызывает вопросы и недоумения.
Вспомним свидетельство Н. Г. Клюевой, которая была уверена, что рукопись находится в министерстве. Имеется еще один документ. А. С. Павленко и завотделом Управления кадров ЦК ВКП(б) Б. Д. Петров в связи с делом «КР» проверяли работу центральных органов Министерства здравоохранения СССР. В рамках этой проверки А. С. Павленко попросил Н. Г. Клюеву и Г. И. Роскина дать информацию о книге и о том, как они собираются поступить с разделом по технологии производства биопрепарата. 30 ноября 1946 г. авторы книги направили свой ответ. Приводим выдержку из этого ответа (цит. по: Есаков, Левина, 2005, с. 72–73):
«После отъезда В. В. Парина в США Н. Г. Клюева, будучи на приеме у Г. А. Митерева, спросила о судьбе нашей книги, отданной В. В. Парину, и получила разъяснение, что им, Г. А. Митеревым, было дано указание В. В. Парину материалы с собой не везти и технологии не рассекречивать. Мы остались при убеждении, что здесь оставлено приложение, касающееся технологии изготовления препарата, а вся книга увезена в США. В ноябре месяце проф. Н. Н. Приоров сообщил нам о том, что получено письменное указание от тов. В. М. Молотова решить вопрос о засекречивании и книгу выслать тов В. М. Молотову в США. (с. 73). Таким образом выяснилось, что экземпляр, отданный В. В. Парину, оставался в Москве. Где он – нам не известно. К этому надо добавить, что полученное в 1945-46 году от В. В. Ларина и Г. А. Митерева указание не сообщать заграницу технологии изготовления препарата, что мы и выполнили. Но одновременно по приказу Г. А. Митерева мы ознакомили с производством препарата специально к нам командированных микробиологов из Ленинграда, Харькова и Киева. Кроме того, Г. А. Митерев разрешил готовить препарат в московском Мечниковском институте. Нам казались эти мероприятия несколько преждевременными».
Зачем Г. А. Митерев убеждал Н. Г. Клюеву и Г. И. Роскина в том, что В. В. Ларин уехал в США без рукописи, которая находится в министерстве? Проф. Н. Н. Приоров был заместителем Г. А. Митерева и он обманывал ученых, поддерживая версию о том, что книга находилась все время в Москве и была послана В. М. Молотову в США лишь по его указанию в ноябре 1946 г. Зачем? Возможно, что те в министерстве, кто стоял за этим враньем не хотели, чтобы Н. Г. Клюева, неуправляемая и вхожая наверх, сорвала передачу В. В. Лариным препарата и технологии американцам. Заинтересованные в передаче материалов лица боялись того, что Н. Г. Клюева может не то что жаловаться, в том числе и А. А. Жданову, об опасности передачи материалов американцам, поскольку те в силу их лучшей материальной оснащенности способны обойти советских ученых, но просто обмолвиться в ненужном месте, что рукопись и вакцина увезены Лариным в США. Эти сведения могли бы дойти до ушей сведущих в этом деле людей, которые, зная, что это незаконно, через посольство запретили бы Ларину передавать материалы.
А это предполагает, что решение ничего не передавать американцам было принято на самом верху до отъезда В. В. Ларина в США. В. В. Ларин об этом узнал случайно и благодаря этому оттянул передачу препарата, который в результате испортился. Чувствуя подвох, он не передал сразу по приезде рукопись с разделом по технологии. А книга без технологической части американцев не интересовала, почему они и не стали ее переводить, как об этом вроде бы договаривались ранее. В итоге получается, что за делом «КР» стоит банальная шпионская история с попыткой кражи перспективного противоопухолевого препарата. Который, стоит добавить, оказался пустышкой.
Теперь о вине В. В. Парина. Он, конечно, не был шпионом, его подставили, представив шпионом. При всем этом его вина в деле «КР» очевидна. Зарубин его недвусмысленно предупредил, что передавать материалы нельзя. И, как увидим в следующем абзаце, объяснил, почему этого нельзя делать. Тем не менее В. В. Парин не послушался.
Уже упоминавшиеся мной работники аппарата ЦК ВКП(б) А. С. Павленко и Б. Д. Петров в записке на имя А. А. Жданов от 29 ноября 1946 г. сообщили следующее (цит. по: Есаков, Левина, 2005 с. 74): «Перед отъездом в США секретарь Академии медицинских наук т. Парин был в Министерстве иностранных дел у т. Зарубина который предупредил его, что американцы, как надо ожидать, будут интересоваться препаратом Клюевой, Роскина и способом его изготовления. Он подчеркнул, что ни он [т. е. Парин], ни другие наши врачи никакой информации об этом препарате, хотя бы в устной форме, не должны давать американцам. На это т. Парин заявил, что вопрос о препарате Клюевой-Роскина решен Министерством здравоохранения и что он имеет согласие Т. Митерева передать американцам препарат и описание технологии его изготовления. Тов. Зарубиным было указано, т. Парину, что Министерство здравоохранения не может само решать этот вопрос. На передачу препарата и его технологии т. Митереву необходимо получить разрешение у соответствующих органов. Как выяснилось в дальнейшем, Министерство здравоохранения игнорировало высказанное мнение по данному вопросу и разрешило т. Парину вывезти из СССР рукопись книги и препарат, что оно не имело право делать» (выделено нами).
Что должны подумать те, кто занимался делом В. В. Парина. Ему четко было сказано, что его министерство не может самостоятельно решать такие вопросы и за разрешением должно обратиться в уполномоченные на то органы. В. В. Парин утверждал, что он получил (устное) разрешение от Г. А. Митерева. Но тот, естественно, отказался от того, что он что-то разрешал В. В. Парину. И этот отказ от своих слов, если он был, вполне объясним, поскольку министр не имел полномочий давать такого рода разрешения, о чем он, как министр, должен был знать. В итоге Парину было предъявлено обвинение в сознательном антигосударственном действии.
3 октября 1946 г. по предложению Сталина вышло постановление, расширяющее права Комиссии по внешнеполитическим вопросам, которая с этого момента должна была заниматься внутриполитическими вопросами, связанными с внешней политикой (Есаков, Левина, 2005, с. 70). Ларин встречался с Зарубиным 4 октября. Зарубин скорее всего знал об этом постановлении, а, возможно, каким-то образом участвовал в его подготовке. Поэтому он и предупредил В. В. Парина: то, что они собираются делать, будет нарушением государственной дисциплины. А за это тогда очень жестко спрашивали. Министр Г. А. Митерев собирался руками В. В. Ларина осуществить внешнеторговый обмен, который в узаконенную деятельность Министерства здравоохранения СССР не входит. Поэтому Минздрав должен был получить разрешение скорее всего от Министерства внешней торговли или от упомянутой выше Комиссии. Минздрав этого не сделал. А должен был сделать. Ведь просит В. В. Ларина передать оказией не свои личные вещи, но государственное имущество. Чего проще получить разрешение на обмен научными материалами. Тогда бы и посыльный (в лице В. В. Ларина) не потребовался. Не было бы в этом случае никаких нарушений нашего законодательства. Незадолго до этого В. В. Ларин получил новую культуру трипаносомы для Н. Г. Клюевой из Англии. Наверняка на это было получено официальное разрешение соответствующих органов. Ведь почему В. В. Ларин пошел Министерство иностранных дел проситься на дипломатический рейс до Парижа? Потому что вез образцы «КР» контрабандой, не имея на то разрешения органов, контролирующих перемещение через границу биологических материалов.
Что должен был сделать В. В. Ларин, когда услышал мнение ответственного сотрудника Министерства иностранных дел о недопустимости такой передачи научных материалов. Отказаться брать ответственность на себя. А ему, видимо, было неудобно перед министром Г. А. Митеревым. Как же, обещал. В. В. Ларин оказался заложником своей добропорядочности и не обратил внимание на то, что она входит в нарушение с его государственным долгом. Т. е. личное, связанное с его пониманием порядоченности, он поставил выше государственного. Об этом собственно и шла речь в письме по делу Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина.
Я думаю, что дело с подставой В. В. Парина обстояло следующим образом. Чтобы вывезти рукопись и препарат, Минздраву в любом случае нужно было получить разрешение, которое могли не дать. Поэтому в Минздраве скрыли от В. В. Парина тот факт, что он повезет материалы без разрешения. Это выяснилось в последний день перед отлетом из разговора с Зарубиным. В. В. Ларин бросился к Г. А. Митереву и тот ему сказал, чтобы он не волновался, а разрешение на передачу материалов министерство получит и вышлет. Почему я думаю, что было именно так. Это же не Парину нужно было иметь разрешение на вывоз, а министерству. Не имея разрешения В. В. Парин совершил преступление. Если бы не было осечки с Зарубиным, то В. В. Парин в первый или же на второй день по приезде в США передал бы американцам и рукопись, и не успевший испортиться препарат. И его положение было бы совсем безнадежным. Ведь американским коллегам по прибытии в США он должен был что-то сказать о рукописи и препарате. Скорее всего сказал, что материалы привез, но ждет разрешения на их передачу. Прошел месяц, а разрешения нет. И не должно быть, поскольку никто в министерстве не собирался получать разрешение задним числом. В итоге В. В. Парин забеспокоился и обратился к В. М. Молотову. Но обратился он к нему 7 ноября, тогда как прилетел в США 6 октября. За это время препарат испортился. В Москве его спросили бы, почему вы целый месяц ждали В. М. Молотова. Есть посольство, через которое всегда можно сделать нужный запрос. В. В. Ларин, возможно, не хотел писать в объяснительной А. А. Жданову, что ему обещали выслать разрешение. Это кто же будет подписывать разрешение на уже вывезенный материал? А кто поручится, что незаконно вывезли именно то, на что просят разрешение. Если В. В. Парин ждет разрешения, то зачем вовлекать в это дело стороннего человека, не знающего существа дела?
Сказанным я не перекладываю вину с В. В. Парина на Г. А. Митерева. Так просто в шпионских историях не бывает. Г. А. Митерев сам скорее всего оказался жертвой аппаратных войн политиков, имевших своих постовых не только в Минздраве, но и в Министерстве иностранных дел. Ведь кто-то дал ложную информацию помощнику В. М. Молотова, подставив тем самым не только В. В. Ларина, но, как выясняется, и самого министра иностранных дел.
В. Д. Есаков и Е. С. Левина (2005, с. 65) сетуют на то, что даже В. М. Молотов, третий человек в советской иерархии, не отважился взять на себя ответственность разрешить В. В. Ларину передачу американцам научных материалов. Видимо, боясь гнева Сталина, решил подстраховаться, переложив ответственность на первое лицо в СССР «Если даже Молотов не мог разрешить этот вопрос, то каково было положение руководителей Министерства здравоохранения СССР когда им пришлось отвечать на молотовский запрос о возможности передачи американцам сведений об открытии Клюевой и Роскина.
Ситуация осложнялась тем, что министр Митерев находился в отпуске и его обязанности временно исполнял заместитель министра А. Я. Кузнецов. Для разрешения этого вопроса он принял, пожалуй, единственно возможный в то время ход – обратиться непосредствен-но к Сталину. Кузнецов подготовил для отправки ему 14 ноября 1946 г. следующую шифрограмму», в которой изложил суть дела, закончив шифрограмму следующими словами: «Просим дать Ваши указания».
Но ведь вы же пишете на следующих страницах что этот вопрос был взят на рассмотрение Комиссией по внешнеполитическим вопросам. Значит не Сталину, но этой комиссии надо было адресовать вопрос о разрешении. Если А. Я. Кузнецов этого не знал, то должны же быть в министерстве здравоохранения специалисты, которые ранее подобными вопросами занимались, по крайней мере подготавливали соответствующие бумаги и возили их на утверждение.
По данным В. Д. Есакова и Е. С. Левиной именно эта комиссия приняла к рассмотрению вопрос о передаче американской стороне рукописи и препарата. В связи с этим 27 ноября Деканозов сообщил Молотову, что пока Комиссия не рассмотрела всех обстоятельств, связанных с «КР», ни рукопись Клюевой и Роскина, ни препараты американцам не давать. Кто же тогда разрешил передачу? В. Д. Есаков и Е. С. Левина (с. 69) пишут о А. Я. Кузнецове. Но ни Кузнецов, ни Митерев, ни любой другой представитель министерства здравоохранения, как до этого было сказано Зарубиным, не имели полномочий решать такие вопросы. И действительно, разрешение, как мы выяснили, было получено Подцеробом в Нью-Йорке раньше, и от кого оно шло неизвестно, но точно можно сказать, что не от А. Я. Кузнецова. В этом заключается главная неясность по делу Клюевой и Роскина.
Говоря о сути сообщения Деканозова, В. Д. Есаков и Е. С. Левина пишут (с. 70), что оно «содержало некую информацию о складывающемся мнении, которое лишь выносилось на рассмотрение, а решения по нему еще не было. Несмотря на это, факт передачи рукописи и препаратов, осуществленный без “высочайшего благословения”, был признан криминальным, а интерес американцев к работам по биотерапии рака стал основным поводом для осуждения ученых и организации дела “КР”».
Авторы хотят сказать, что еще не было запрета на передачу материалов и поэтому фактически никакого проступка со стороны ученых, за что их можно было бы судить, не было. С такой оценкой никак нельзя согласиться. Из слов Зарубина, приведенных в их книге ранее, ясно, что министр Г. А. Митерев не имел полномочий решать такие дела и, следовательно, материалы были вывезены В. В. Париным незаконно.
В. М. Молотов был опытным политиком, просчитывающим в своих решениях все возможные ходы. То, что после разговора с В. В. Париным он послал запрос о возможности передачи рукописи и вакцины американцам, свидетельствует о том, что он как министр, отвечающий за внешнюю политику СССР, считал необходимым это сделать. Напомню, что в конце запроса он добавил, «что Ларин, пожалуй, прав».
Ведь В. М. Молотов вполне мог сказать В. В. Парину, то, что сказал тому еще в Москве Зарубин: без разрешения соответствующих органов передавать материалы нельзя. В этом случае В. В. Парин мог с чистой совестью, что он самолично никого не подвел, не передавать материалы. И не было бы тогда дела, которое мы сейчас разбираем, не было бы судов чести над Клюевой, Роскиным и Митеревым, не было бы также обвинения В. В. Парина в шпионской деятельности.
Чем мог руководствоваться В. М. Молотов, намекая на желательность передачи американцам материалов, связанных с «КР». Я думаю, что В. В. Ларин ему объяснил, что передается сырой материал, лечебные перспективы которого еще не совсем ясны, и результаты не следует ожидать в ближайшее время. Наверняка В. В. Ларин сказал В. М. Молотову о проводимых в США с марта 1945 г[23]. аналогичных исследований, не имеющих пока обнадеживающих положительных результатов. Но шумиха в США почему-то была поднята вокруг исследований по биотерапии рака лишь советских ученых. Ужели американские журналисты не удосужились выяснить, что делается в этом направлении американскими учеными. Значит эта шумиха была поднята с политическими целями. Если отказаться от передачи сведений об исследованиях наших ученых, то американцы могут затеять пропагандистскую кампанию против СССР, обвиняя нас в том, что открыв эффективное средство от рака, мы стали скрывать его от всех нуждающихся в помощи в других странах.
Помните приведенное выше высказывание Я. Л. Рапопорта (1988. с. ЮЗ) о слухах, ходивших в ООН относительно чудо-лекарства русских «КР», в секрет которого Сталин не хочет посвящать никого. Были еще более удивительные слухи. Так, Г. В. Костырченко (2001), говоря о попытках Сталина заполучить секреты атомной бомбы, пишет: «Судя по всему, увлекшись этой политической игрой, советский вождь решил в качестве дополнительного аргумента в торге с американцами за доступ к атомным секретам использовать препарат КР, представляя его как возможную панацею от онкологических заболеваний, вызванных в первую очередь радиоактивным заражением… В декабре 1946 г. стало окончательно ясно, что договориться с американцами не удастся. Вашингтон явно не желал расставаться со своей ядерной монополией. Таким образом, стремление сделать “КР” козырем в достижении ядерной сделки с американцами оказалось несостоятельным». Надо полагать, что В. В. Парин сорвал сталинские планы заполучить атомную бомбу, почему и был объявлен американским шпионом.
В. М. Молотов был прав. Чтобы упредить возможные антисоветские выпады, обыгрывающие противоопухолевое чудо-лекарство, будто бы созданное русскими, надо это «лекарство» американцам дать, т. е. показать, что у нас нет ничего такого, о чем западная пропаганда шумит. Н. Л. Кременцов (Krementsov, 2009), обсуждая вопрос о засекречивании исследований по «КР», приводит мнение на этот счет посла У. Смита:
«Не уведомляя западных ученых, в 1947 г. Советские власти отнесли исследования по “КР” к числу совершенно секретных и четыре года спустя их полностью прекратили. Мы можем только предполагать о том, как конкретно американские исследователи интерпретировали отсутствие информации из Советского Союза относительно “КР”, но кажется логичным допущение, что этот когда-то разрекламированный препарат, оказался неудачным и не отвечал исходно возлагавшимся на него надеждам; ситуация, достаточно обычная в исследованиях рака и в этом частном случае, возможно, недалека от истины. Американские исследователи возможно ожидали (небеспричинно), что, если бы Клюева и Роскин доказали эффективность их препарата, то Советские власти не упустили бы возможности ведения пропаганды, основанной на таком успешном развитии событий. Определенно, что именно таким образом Посол Смит просчитал ситуацию. Как он объяснил в письме американскому Госсекретарю весной 1947 г., “советское Правительство и советская Академия Медицинских наук чувствуют, что они могут стоять накануне получения важных научных результатов, честью открытия которых они не желают делиться с кем либо из иностранцев, несмотря на жгучее желание получить из этого выгоды”».
Посол уверен, что без американской помощи мы не сможем быстро получить желаемые результаты, и обвиняет нас в желании скрыть важную информацию по лечению рака, которой мы на тот момент не обладали и неизвестно, будем ли такой информацией обладать. Так что опасения В. М. Молотова были не беспочвенными, поскольку дело представлялось так, что у нас уже есть результаты, а у американских исследователей пока нет. Послу надо было бы добавить, что у нас, в США работы по биотерапии рака активно проводятся и мы в этом плане не отстаем от русских.
По поводу участия В. М. Молотова в деле «КР» В. Д. Есаков и Е. С. Левина (2005, с. 76) пишут: «Итак, частный случай традиционного международного научного взаимодействия, когда ученые различных стран информировали своих коллег о достигнутых результатах, становится предметом рассмотрения политического руководства СССР и его внешнеполитического ведомства. И это в условиях международного сотрудничества, как только что провозглашал Молотов в ООН…». Во-первых, В. М. Молотов лишь призывал к сотрудничеству. Во-вторых, в деле, в которое ему пришлось вмешаться, это международное сотрудничество шло с нарушением законодательства СССР, в котором был замешан американский посол. Как политик В. М. Молотов считал необходимым передачу материалов. Поэтому и послал запрос в Москву. Но те неизвестные лица в Москве, которые через Подцероба разрешили это сделать, серьезно подставили В. В. Парина. Последний узнал о том, что с этой передачей материалов не все благополучно, раз этим заинтересовались на самом верху, от В. М. Молотова приблизительно 14 декабря. В. В. Парин, однако, не захотел стать невозвращенцем, и это снимает с него все подозрения в шпионаже.
По большому счету В. В. Парин на последнем этапе дела «КР» пострадал из-за решения В. М. Молотова, положительно смотревшего на передачу материалов. Но Вячеслав Михайлович руководствовался защитой интересов своей страны. Поэтому и В. В. Парин пострадал, защищая интересы СССР, если это как-то может смягчить боль родных Василия Васильевича. Нужно помнить, что шла война, теперь уже холодная с нашими бывшими союзниками и она не выбирает своих жертв.
3. 5. Суды чести
28 марта 1947 г. по инициативе Сталина Политбюро утвердило постановление Совета Министров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) «О Судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах». Постановление определяет:
«1. В целях содействия делу воспитания работников государственных органов в духе советского патриотизма и преданности интересам Советского государства и высокого сознания своего государственного долга, для борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника, в министерствах СССР и центральных ведомствах создаются Суды чести. 2. На Суды чести возлагается рассмотрение антипатриотических, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий, совершенных руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и центральных ведомств, если эти поступки и действия не подлежат наказанию в уголовном порядке…» (цит. по: Кремлев, 2011, с. 85, выделено нами).
Речь идет о патриотическом воспитании работников государственных органов и на первое место поставлены руководящие работники. И это понятно, поскольку антипатриотические проступки простых работников, т. е. подчиненных возможны лишь при попустительстве их руководителей. Но позже, видимо, сочли нежелательным выдвигать обвинения в потере чести в адрес руководителей, поскольку это может подорвать веру советских людей в искренность Руководителей. В итоге виновными оказались ученые. Это они оказывается заставили своих начальников совершить антипатриотический поступок – передачу американцам секретных материалов.
Раз мы говорим о судах чести, то надо выяснить, какое содержание вкладывают в понятие чести, а также в другие близкие понятия упоминаемые в тексте постановления. Большинство, пишущих на тему судов чести, обходят этот вопрос и никак не разъясняют эти понятия, из которых, однако, они исходят, давая политические и нравственные оценки деятелям той эпохи. С. Кремлев (2011), в этом смысле является исключением. В частности, он пишет, к сожалению, слишком кратко (с. 85–86), как менялось исторически представление о чести.
В. Даль определяет честь как «достоинство человека, доблесть честность, благородство души и чистая совесть». В словаре Ожегова честь – это «достойные уважения и гордости моральные качества и этические принципы личности». К сожалению, не разъяснено, какие такие моральные качества и этические принципы достойны уважения и гордости. В последнем третьем томе Энциклопедического словаря (том подписан к печати 31 марта 1955 г. слово «честь» отсутствует, но есть слова «долг», как этическое понятие и «достоинство». А ведь последнее слово идет в связке – «честь и достоинство». Есть ли между честью и достоинством смысловое различие? Достоинство по тому же Энциклопедическому словарю (1953, т. 1, с. 577) определяется как осознание человеком своего общественного значения. По Далю оно входит в понятие чести. Достоинство в социалистическом обществе – это осознание себя в качестве активного строителя нового общества. Если советский человек не осознает себя в этом качестве, то он становится беззащитным перед иностранцами.
Ю. Я. Грицман (1993, с. 128) приводит определение чести, взятое им из дореволюционной статьи 1903 г. (к сожалению не приведена ссылка): «Честь… – понятие, трудно поддающееся формулировке. Необходимость ее… всеми сознается, но ее существо остается почти неуловимым. Понятие чести не есть понятие правовое. Оно коренится исключительно в нравственном самосознании и, не имея формального основания, представляется столь же относительным, как и принципы нравственности. Но оно не есть нравственный принцип, по крайней мере в существенной своей части оно не совпадает с этикой… Каждая социальная группа имеет свою особую корпоративную честь, которая служит связующим началом для ее членов и потому является одним из условий существования данной группы, выражая степень сплоченности ее членов в одно целое…».
Касаясь понятия чести, С. Кремлев ссылается также на забытую повесть Антона Макаренко «Честь». В повести белогвардейский полковник Троицкий и арестованный поручик-большевик Алексей Теплов ведут разговор о России, о жизни и о чести. «Макаренко – пишет С. Кремлев (с. 78) – устами поручика Теплова очень точно определил суть понимания чести советским человеком. Тот, кто не стесняясь, считая это в порядке вещей, живет за счет или эксплуатации других, или за счет обслуживания эксплуататоров, в том числе интеллектуального обслуживания, чести иметь не может – как бы он себя и окружающих не уверял в обратном».
Мы, следовательно, можем соединить с понятием чести два интегральных признака: жизнь своим трудом на благо народа в обществе единомышленников. Производительный труд, направленный на благо людей определяет все те качества, которые В. Даль соотнес с понятием чести. После революции понятие чести было вычищено из словарей, видимо, как ненужный буржуазный пережиток.
Сталин вернул это понятие в нашу жизнь. В политическом отчете Центрального Комитета XVI съезду ВКП (б), зачитанном 27 июня 1930 г., он (см. Сталин, 1936, с. 393) следующим образом высказался о значении организованного Партией массового социалистического соревнования и ударничества: «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот, во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства». «Ничего подобного, – продолжил Сталин – нет и не может быть в капиталистических странах. Там, у них, у капиталистов, самое желанное дело, заслуживающее общественного одобрения – иметь ренту, жить на проценты, быть свободным от труда, считающегося презренным занятием».
И. В. Сталин, как можно видеть, отметил третью ключевую особенность, неразрывно связанную с понятием чести. Всякий производительный труд так или иначе направлен на благо людей. Важно осознание необходимости труда на благо людей. Только в этом случае действия человека приобретают нравственное звучание как основы его нравственного самосовершенствования. Итогом будет развитие потребности в служении народу. Это означает, что потребность в труде в качестве нравственной нормы имеет адресную направленность. Потребность в труде на благо семьи, предприятия, родины, т. е. на благо тех, кто рассматривается в качестве своих, но не чужих, от которых можно пострадать.
Относительно организационной стороны судов чести написал причастный к ним тогдашний министр здравоохранения Е. И. Смирнов в своих воспоминаниях (1989). Реакция большинства, пищущих на тему «КР», в отношении судов чести была резко отрицательной. Вот что пишет об этом Я. Л. Рапопорт (1988, с. 105): «Наряду с закрытым письмом сочли необходимым более широкое мероприятие “суд чести”-в назидание советским гражданам. Надо было удержать их от космополитических шагов и соблазнов, которые могли бы привести к моральному падению. Назначение “суда чести” – не столько наказать, сколько раскрыть аморальный характер поступка недостойного советского гражданина». Т. е. суды чести имели самостоятельное значение в качестве политического средства, имеющего целью приструнить свободолюбивую интеллигенцию. А дело Клюевой и Роскина было использовано как повод развернуть намеченную до этого программу подавления интеллигенции.
Близкое мнение высказал М. Голубовский (2003): «Замысел драматурга и режиссера-садиста [имеется в виду Сталин] был более масштабен, чем простая физическая расправа над двумя учеными. Главное – запуск всесоюзной кампании по борьбе с космополитизмом, идеологический всеохватный террор в виде “воспитания и перевоспитания”». Вот мнение Ю. Я. Грицмана (1993, с. 115): «… трагедия академика Василия Васильевича Парина произошла только потому, что кому-то из окружения Сталина или ему самому был нужен предлог для очередных гонений и репрессий».
Мне трудно согласиться с такими оценками. Я не могу принять утверждение о немотивированных гонениях и репрессиях, развязываемых с тем, чтобы держать в страхе советских людей. Вопрос идет не о моральном падении, если иметь в виду христианские ценности, и не о космополитизме, как особой форме восприятия мира. Какой центральный факт в деле «КР» вызвал наибольшее недовольство наверху? В чем выражались прозвучавшие в письме упреки в адрес ученых в отсутствии у них гордости, в раболепии перед Западом и т. д.
Главным в деле «КР» был факт передачи американской стороне рукописи и противоопухолевого препарата. Е. С. Левина (2000) так комментирует эту передачу: «Эпизоду, обычному в практике между-народного научного сотрудничества, была дана неожиданно острая политическая оценка, позволившая использовать случившееся в целях, далеких как от науки, так и от задач здравоохранения». По существу тоже утверждается в более поздней работе (Есаков, Левина, 2005, с. 64): «… открытию Роскина и Клюевой суждено было стать важным событием в политической игре, но не столько на международной арене, сколько в проведении идеологического диктата в отношении советских ученых, всей советской интеллигенции». Мое возражение заключается в том, что авторы просто отмахнулись от рассмотрения возможной политической составляющей в деле «КР» и поэтому не попытались хотя бы понять и объяснить, почему наше руководство усомнилось в правомерности действий ученых.
Теперь, что касается международной политической игры, от обсуждения которой отказываются авторы. Мое мнение здесь таково: открытие Роскина и Клюевой не стало пропагандистским козырем в политической игре против нашей страны только потому, что мы передали американцам и рукопись и препарат «КР» и тем самым показали, что никакого открытия в борьбе именно с раком у человека о котором можно говорить повсеместно и тем более с трибуны ООН, пока не сделано.
Вот близкое мнение М. Д. Голубовского (2003, с. 144): «Обычное в науке поведение трансформируется до неузнаваемости на языке партийного новояза: интерес посла – демарш американской разведки, приглашение к сотрудничеству – подкуп, передача машинописи уже сданной в печать книги (причем без главы о технологии) коллегам в США – низкопоклонство перед иностранцами и разглашение государственной тайны. Совсем как в доносе Шарикова на профессора Преображенского».
Возможно, что М. Д. Голубовский не знал, что американский посол по своей главной специальности был кадровым разведчиком. Но наше руководство это хорошо знало. Поэтому и заинтересовалось действиями посла-разведчика в деле наших ученых Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина. Тем более как выяснилось из мемуаров бывшего посла, опубликованных в 1951 г., он определенно наговаривал на наших ученых, рассказывая о том, что они сами предложили ему препарат. Это же откровенная ложь и попытка подставить наших Ученых. Кого покрывал У. Смит, бросая тень предательства на наших ученых? У нашего правительства не было оснований верить американскому послу. И эти опасения еще более усилились, когда в начале 1947 г. стали разбираться в том, что же произошло в действительности.
Надо сказать, что посол США не был особенно искренним по отношению к нашим ученым. В Америке, как оказалось, были развернуты широкие исследования по биотерапии рака. Но посол, выспрашивая наши секреты, не счел нужным рассказать нашим ученым о том, что в США проводятся аналогичные исследования с Т. cruzi. Во всяком случае указаний на это в советских источниках, включая свидетельские показания самих ученых, нет. В августе 1946 г. по протекции посла в СССР прибыли американские ученые, микробиолог президент Американо-советского медицинского общества Стюарт Мадд (Stuart Mudd) и издатель журнала «Американский обзор советской медицины» Роберт Лесли (Robert Leslie). Безусловно, если говорить об интересах дела, то наиболее заинтересованным во встрече с советскими учеными был протозоолог Теодор Хаушка (Theodore S Hauschka) или кто-то из его лаборатории. Они практически занимались биотерапией рака с использованием Т. cruzi. Но тогда бы вскрылось, что американцы не отстают от наших ученых и что они также пока не могут похвастаться обнадеживающими результатами. Поездка Хаушки (вместе с двумя другими онкологами,) была запланирована на 1947 г. И в декабре 1946 г. ученые стали оформлять через советское посольство документы на двухнедельную поездку в СССР в порядке ответного визита на пребывание в США трех онкологов из СССР.
Но дело застопорилось и «4-го февраля 1947 г. посол Смит представил длинное письмо Советским властям относительно “культурного обмена” между двумя странами. В письме он снова поднял вопрос о возможности посещения тремя указанными выше американскими онкологами лаборатории Клюевой и Роскина. Отмечая, что “достижения Докторов Клюевой и Роскина в области изучения рака вызывают исключительно большой интерес в Соединенных Штатах”, Смит подчеркнул, что “мои беседы с Докторами Клюевой и Роскиным, так же как и с другими членами советской Академии Медицинских Наук, создали впечатление, что их недавний вклад в борьбу против рака может иметь очень важные последствия”. Он заключил что, “народ и правительство Соединенных Штатов будут очень благодарны, если просьба американских ученых о посещении лаборатории Клюевой могла бы положительным образом удовлетворена”».
Необычайная активность посла США лишь усилила подозрение наших властей, что его летнее посещение наших ученых Клюевой и Роскина могло иметь целью экономический шпионаж или про-вокацию против нашей страны. Дело в том, что посол проявил активность там, где она не требовалась. И он это обязан был знать. Взаимные визиты делегаций медиков могли официально осуществляться и осуществлялись в результате договоренностей на правительственном уровне через посредничество Американо-советского медицинского общества отделения в обеих странах могли просить свои правительства разрешить им принять делегацию ученых из дружественной страны. На посольства в этом случае возлагалась лишь техническая работа по оформлению соответствующих документов.
Вернемся однако к вопросу о мотивах, которыми могли руководствоваться власти СССР, принимая решение об организации судов чести. Давайте посмотрим, что же написано в «Закрытом письме ЦК ВКП(б) о деле профессоров Клюевой и Роскина» от 16. 07. 1947 г., что вызвало особую озабоченность советского правительства. Начинается письмо следующими словами.
«Центральным Комитетом ВКП(б) за последнее время вскрыт ряд фактов, свидетельствующих о наличии среди некоторой части советской интеллигенции недостойных для наших людей низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной и современной реакционной культурой буржуазного Запада». Далее говорится о деле профессоров, и совершенном ими проступке, вызвавшем озабоченность советского правительства.
«Профессора Клюева и Роскин, при попустительстве бывшего министра здравоохранения Митерева и при активной помощи американского шпиона – бывшего секретаря Академии медицинских наук Парина, передали американцам важное открытие советской науки – препарат для лечения рака. Будучи сомнительными гражданами СССР, руководствуясь соображениями личной славы и дешевой популярности за границей, они не устояли перед домогательствами американских разведчиков и передали американцам научное открытие, являющееся собственностью советского государства, советского народа».
Что шпионский след в этом деле прослеживается, серьезные подозрения на это имеются. И по-видимому кадровый, по слухам, уже тогда ходившим, лучший американский разведчик У. Смит появился неслучайно около наших ученых. Связывать эту шпионскую акции только с попыткой выкрасть наши секреты, это, значит, недооценивать наших вчерашних союзников. Ну и, конечно, В. В. Парин к шпионской стороне дела никакого отношения не имел. Для разоблачения шпионского следа пока нет достаточных информационных оснований. Но мы должны понимать, что в наших взаимоотношениях со странами запада как были наши разведчики, так были и их шпионы, работающие против нас. И в разбираемом нами письме на этот момент было обращено внимание.
Обратим также внимание на проводимую в письме связку шпионского следа с желанием ученых личной славы и дешевой популярности за границей. В этом желании славы нет ничего такого ненормального. Опасным оно может стать, если на этой почве возникнет конфликт между страждущими славы. В таких тонких межличностных делах нужно быть очень осмотрительным и руководствоваться христианской мудростью, осуждающей погоню за славой; если ты достоин славы, то она сама тебя найдет. Такого рода конфликты вокруг открытий и изобретений могут привлечь политиков, в том числе и зарубежных, которые будут преследовать свои цели, далекие от интересов конфликтующих сторон.
В деле «КР» такой конфликт был, в частности, между Н. Г. Клюевой и директором Института вакцин и сывороток им. Мечникова Л. Г. Вебером, в лаборатории которого проводились эксперименты на мышах по выяснению действия препарата «КР» на раковые клетки. Конфликт был связан с тем, Л. Г. Вебер и старший научный сотрудник кандидат биологических наук А. Ц. Бобрицкая, участвовавшие в проведении этих экспериментов были исключены из соавторов работы. Выяснилось это на заседании президиума Академии медицинских наук, на котором 13 марта 1946 г. Н. Г. Клюева сделала свой доклад по биотерапии рака.
18 марта Л. Г. Вебер и А. Ц. Бобрицкая направили письмо-жалобу президенту Академии медицинских наук Н. Н. Бурденко и академику-секретарю АМН В. В. Парину (см. подробнее о конфликте и как он разрешился: Есаков, Левина, 2005, с. 33–39). Суть жалобы в том, что, написав монографию по биотерапии рака, Клюева и Роскин не включили подателей письма в число соавторов, хотя вся основная исследовательская работа, начатая 3 февраля 1945 г., была проведена Вебером и Бобрицкой. По мнению Л. Г. Вебера, когда Н. Г. Клюева 9 марта представила ему рукопись монографии за авторством ее и Роскина, то фактически это был лишь «подытоженный по моему поручению материал наших опытов для первичного рассмотрения».
Мне понятна обеспокоенность Н. Г. Клюевой, когда через год директор приютившего ее института стал требовать своих дивидендов с их совместной с Г. И. Роскиным работы; более того, стал настаивать на исключении Г. И. Роскина из основных авторов. В. Д. Есаков и Е. С. Левина (2005, с. 36) об этом пишут так: «Прочитав рукопись, он [Вебер] уже из первоисточника, а не из устных рассказов авторов, узнает о сущности проблемы биотерапии злокачественных опухолей, знакомится с путями и методами изготовления, оценки и применения препарата. Оценив значение работы и возжелав стать полноправным автором работы Л. Г. Вебер сразу же» заявил о правах возглавляемого им института и, следовательно, о своих правах. В этом я не вижу ничего плохого. Ведь это не где-нибудь, но в Институте Мечникова было сделано крупное открытие, к которому Л. Г. Вебер прямо причастен.
Защищая свое открытие, Н. Г. Клюева договорилась, возможно, через В. В. Парина, о своем докладе по подготовленной рукописи монографии на заседании президиума Академии медицинских наук, состоявшегося, как было сказано, 13 марта 1946 г. Конфликт между учеными понятен. Как из него можно было выйти с наименьшими потерями, я не знаю. Лучшая стратегия в таких деликатных делах – не шевелиться и продолжать работать. Тем более, что был получен пока сырой и предварительный материал.
Об этом, кстати, на мой взгляд, справедливо сказали в своем письме-жалобе Л. Г. Вебер и А. Ц. Бобрицкая (цитировано по: Есаков, Левина, 2005, с. 33): «По ходу работы я [Л. Г. Вебер] считал и сейчас считаю, что выступление, которое, к сожалению, уже создало нездоровую сенсационность вокруг этой работы – является еще преждевременным. Тем более, что наиболее важная экспериментальная часть исследования – опыты со стандартными опухолями – нами не была проведена. Что касается клинических наблюдений (т. е. решающего звена работы), то они носят настолько ориентировочный и общий характер, что не могут служить научным основанием для суждения ни о механизме действия, ни о специфической эффективности препарата. Несмотря на это, минуя институт, где проводится работа, без ведома и согласия моего, как заведующего лабораторией, как участника работы, и, наконец, как директора института, доклад был вынесен на заседание Президиума АМН СССР, на которое ни я, ни тов. Бобрицкая не были приглашены» (выделено нами).
Напомню, что в книге Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина изложены результаты экспериментов на привитых опухолях у мышей. Видимо, были запланированы эксперименты на естественно возникающих опухолях, которые из-за конфликта интересов не были проведены. Именно поэтому Л. Г. Вебер и говорит, что доклад и, следовательно, издание книги было преждевременным. Кстати, вот Вам еще один немаловажный мотив для засекречивания работ, имеющих предположительно важное практическое значение и выполняющихся большим коллективом ученых. Чтобы не было конфликтов интересов подобных описанному. Обделенные общественным признанием ученые не будут активно работать на общее дело, а могут ставить палки в колеса этому делу и их не остановят никакие наказания.
Лично я здесь на стороне Л. Г. Вебера. Раз работа по изучению действия препарата на мышах, составляющая основное содержание книги, была общей, то еще можно сомневаться в отношении научного вклада самого Л. Г. Вебера, но А. Ц. Бобрицкая, вынесшая на себе основную экспериментальную работу, непременно должна была быть в числе соавторов. В итоге начавшаяся борьба остановила исследования на наиболее важном цикле экспериментов по изучению стандартных опухолей. Параллельно работавшие с нашими учеными американские онкологи получали неустойчивые результаты, экспериментируя с естественными опухолями подопытных животных. Т. е. американцы были впереди наших ученых, которые еще не приступали к работе с естественными опухолями.
Логика борьбы за свои научные интересы, и деловые и репутационные (имиджевые), претензии заставила Н. Г. Клюеву и Г. И. Роскина искать поддержки в разных инстанциях, в том числе у политиков из партаппарата, за которыми было в то время решающее слово. Через хорошего знакомого инспектора городских больниц В. Н. Викторова Н. Г. Клюева смогла выйти на А. А. Жданова. В итоге «Секретариат ЦК ВКП(б) 4 апреля постановил: “Поручить т. Митереву рассмотреть письмо т. т. Викторова, Клюевой и Роскина по существу, принять по нему необходимые меры и о результатах сообщить ЦК”… Министр весьма оперативно отреагировал на данное поручение. Уже 22 апреля 1946 г. Г. А. Митерев сообщил секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о принятых мерах» (Есаков, Левина, 2005, с. 41). Среди них упомянем следующую: “Сообщаю, что для обеспечения изготовления препарата проф. Клюевой Н. Г. и Роскина Г. И. организована и приступила к работе спец, лаборатория при Центральном институте эпидемиологии и микробиологии”. Надо полагать, что интересы Л. Г. Вебера и А. Ц. Бобрицкой в этом ответе не были отражены. Более того, Л. Г. Вебер, судя по его дальнейшему послужному списку, оказался в числе пострадавших в части своего карьерного роста.
Г. И. Роскин направил письмо с разъяснением ситуации вокруг “КР” В. В. Парину и параллельно (23 марта 1946 г. ) Б. Д. Петрову, завотделом Управления кадров ЦК ВКП(б), курировавшему учреждения Минздрава. Результатом было создание комиссии АМН СССР, которая в числе прочего занималась претензиями Л. Г. Вебера и А. Ц. Бобрицкой на соавторство. Результаты комиссии были заслушаны 17 апреля по докладу В. В. Парина. Комиссией было «установлено, что т. Вебер в научной части работы проф. Н. Г. Клюевой не участвовал» (Есаков, Левина, 2005, с. 37–38).
Мы с Вами также знаем, что никакого препарата для лечения рака еще не было. Передавался препарат, который показал относительно хорошие результаты при лечении пересаженных опухолей у мышей. Об этом говорил и сам В. В. Парин в объяснительной записке, написанной через 10 лет после описываемых событий, когда он уже вернулся из заключения и был полностью реабилитирован и восстановлен в Партии и в должности: «Проф. Клюевой и проф. Роскину были предоставлены самые широкие возможности для работы, для них был создан специальный институт с большим штатом сотрудников, неограниченно снабжающимся всем необходимым. За ряд лет своего существования этот институт не дал, однако, никаких реальных результатов… В конце концов авторитетной правительственной комиссией было признано, что работа института бесплодна, а так называемое открытие проф. Клюевой и проф. Роскина научно необоснованно и практически не оправдалось… институт был реорганизован и работает сейчас в новых направлениях». Кроме того, В. В. Парин в декабре 1958 г. написал письмо председателю Комиссии партийного контроля Н. М. Швернику, в котором есть такие слова: «Трезво оценивая существо работы Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, я считал раньше и считаю сейчас, что их опыты отнюдь не являются решением огромной и сложной проблемы лечения рака… Прошедшее с 1947 г. время показало, что никакого ущерба советской науке передачей сведений о работе Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина нанесено не было. Никто нас в этом отношении не обогнал, нигде на базе открытия этих авторов не создано препаратов, излечивающих рак, которые превосходили бы то, что имеется в СССР» (там же, с. 111).
Преступления как такового не было. Доказательств шпионской деятельности В. В. Ларина также не было, раз его после смерти Сталина реабилитировали. В. В. Парин самое большее мог быть подвернут общественному осуждению через суд чести.
Вернемся к письму. Основанием для общественного осуждения было проявление низкопоклонства перед заграницей, которое характеризуется в письме в качестве «дурной опасной болезни». «Где же коренятся источники этой болезни? – ставится вопрос в письме. Как могли найтись в нашем советском обществе люди, способные пойти на национальное самоунижение, на потерю сознания собственного достоинства, на коленопреклонение перед самыми ничтожными и продажными слугами иностранных капиталистов?».
В письме утверждалось, что эти качества достались нам в наследие от царского режима: «Корни подобного рода антипатриотических настроений и поступков заключаются в том, что некоторая часть нашей интеллигенции еще находится в плену пережитков проклятого прошлого царской России. Господствующие классы царской России, в силу зависимости от заграницы, отражая ее многовековую отсталость и зависимость, вбивали в головы русской интеллигенции сознание неполноценности нашего народа и убеждение, что русские всегда-де должны играть роль «учеников» у западноевропейских “учителей”». Низкопоклонство насаждалось в царской России, т. е. было направленной политикой царей, выгодной западным странам. Достаточно сказать, что нашу историю нам написали немцы, поляки и шведы. А в этой истории народы России представлены не в лучшем виде. Ведь Гитлер, призывая немцев очистить восточные территории от неполноценных в расовом отношении народов, ссылался в своей культовой книге «Моя борьба» на нашу историю, т. е. на историю, написанную для нас немцами, в которой мы действительно предстаем людьми второго сорта. А отсюда проявления низкопоклонства, насаждавшегося в обществе Романовыми и поддерживаемого деньгами иностранного капитала.
В советском обществе, подчеркнуто в письме, были устранены объективные основания для проявления низкопоклонства. «Великая Октябрьская Социалистическая революция освободила народы России от экономического и духовного порабощения иностранным капиталом. Советская власть сделала нашу страну впервые свободным и самостоятельным государством. Создав могучую социалистическую индустрию и передовое колхозное сельское хозяйство, советское государство добилось экономической самостоятельности. Осуществив культурную революцию и создав свое собственное советское государство, наш народ разбил цепи материальной и духовной зависимости страны от буржуазного Запада. Советский Союз стал оплотом мировой цивилизации и прогресса. В Великой Отечественной войне социалистический строй продемонстрировал всю свою силу и превосходство перед капиталистическим строем. Как же перед лицом всемирно-исторической роли, которую играет Советский Союз, могут сохраняться еще в порах могучего советского организма позорные явления пресмыкательства и неверия в силу своего народа? Как могли иметь место в таких условиях настроения раболепия и преклонения перед иностранщиной?» (выделено нами).
Через 60 лет мы с этим же неверием в производительные силы нашего народа встречаемся в книге В. Д. Есакова и Е. С. Левиной (2005, с. 64): «Иллюзии, что под мудрым руководством большевистской партии советская наука способна занять первенствующее положение в мире, были в полной мере присущи сталинскому руководству». Но почему же это было иллюзией. Мы вышли на второе место в мире по экономическому потенциалу. Соответственно и наша наука, по крайней мере, по ключевым направлениям научного поиска вышла на вторые роли в мире, а по некоторым позициям мы обогнали США. И не вина народа, что после прихода Н. С. Хрущева СССР стал постепенно переходить к капитализму, почему и обанкротился через несколько десятилетий.
Ранее авторы так прокомментировали уверенность Сталина (1946, с. 51: см. главу 2) в том, что советские ученые «сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны».
«В стране, где создано первое в мире социалистическое государство… должна быть и самая передовая в мире наука. Народ-победитель обязан быть первым во всём» (Есаков, Левина, 2005, с. 27; выделено нами).
На наш взгляд выделенное нами утверждение авторов является надуманным. Откуда это следует, что народ-победитель должен быть первым во всём. Никакой общей теории на этот счет нет. Английский народ также был победителем в той войне. Но никто его не призывал быть первым. Речь у Сталина идет о социалистическом государстве. А оно в полном соответствии с заветами К. Маркса позиционировало себя как более совершенное общество, идущее на смену капиталистической формации. И наша победа как раз и свидетельствовала о превосходстве социалистического строя. И если бы мы не свернули в 1950-е гг. с социалистического пути развития на капиталистические рельсы, социалистический СССР действительно был бы первым во всем. Что в этой вере во внутренние возможности развития общества, свободного от эксплуатации, может вызвать внутреннее несогласие?
Осуждая послевоенную политику СССР, В. Д. Есаков и Е. С. Левина (2005, с. 53) приводят такой довод: «Уже в начале 1946 г., особенно после речи Сталина 9 февраля и предвыборных выступлений советских государственных деятелей с их призывом к опоре на собственные силы, становилось очевидным, что надежды на обеспечение длительного мира в результате победы во Второй мировой войне себя не оправдали, и в отношениях между победителями стали преобладать идеологические аспекты, обострявшие намечавшиеся противоречия между бывшими союзниками» (выделено нами).
Это как понять утверждение, высказанное в 2005 г., что надежды на мир не оправдались. Вторая мировая война началась через 20 с небольшим лет после окончания Первой мировой войны. Я родился во время Великой отечественной войны и поэтому ее не знаю. Но врага на своей территории не видели и миллионы других граждан СССР. Можно сказать, что целое поколение советских людей благодаря мудрой послевоенной политике не знало войны.
Вот еще одно утверждение из их книги (Есаков, Левина, 2005, с. 27), с которым трудно согласиться: «Победная эйфория и непререкаемость высказываний генералиссимуса и “отца народов” застилали глаза и разум даже самых прозорливых политиков и ученых. Они еще не осознавали, что Сталиным в этой речи [на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. ] фактически провозглашены стратегия отхода политического руководства СССР от процессов мирового развития, политика разрыва связей с союзниками по антигитлеровской коалиции и курс на складывание “социалистического лагеря”».
Спрашивается, о каком отходе от процессов мирового развития можно серьезно говорить, если социализму не по пути с капитализмом. Капитализм – это источник войн, что мы, кстати, наблюдаем в нынешнем мире. В 1990 г. мы пошли по пути процессов мирового развития. И что в итоге получили – разоренную страну с обнищавшим населением, в которой естественно нет денег на развитие науки. От таких «друзей», которые вооружили и натравили на нас Гитлера лучше держаться в стороне и, боже упаси, дружить с ними. Наш последний царь не то что дружил, даже породнился с вершителями мировой истории, надеясь, что это оградит его и его страну от бед. Не помогло. Британские родственнички по родственному уговорили его начать войну со своим немецким родственником.
Поэтому лучшая стратегия, когда имеешь перед собой таких друзей – по возможности сторониться их. А это означает – опору исключительно на собственные силы.
Ядерный шантаж, который начали США при президенте Трумэне после показательного уничтожения японских городов Хиросима и Нагасаки, определил новую стратегию СССР, нацеленную в первую очередь на образование вокруг своих границ союзных государств. Гитлер смог выйти к нашим границам и напасть на СССР только потому, что государства, разделявшие СССР и Германию, которые он захватывал, не захотели или не решились защищать свою государственность. Учитывая это, Советский Союз после войны сделал следующее предложение окружающим его государствам Восточной Европы: если Вам в одиночку сложно защитить свою государственность, то мы берем на себя эту функцию. Тем самым был обеспечен долгий мир в Европе, который, к сожалению, подходит к концу, причем по вине тех, кто организовал две предыдущие мировые войны.
Кстати, тема раболепия в среде наших ученых подымалась еще до войны. Об этом, в частности, говорил Б. М. Завадовский (1937, с. 169) на IV сессии ВАСХНИЛ в декабре 1936 г.: «Так как мы уже слышали неоднократно попреки советской науке, осмелившейся поставить под сомнение каноны формальной генетики, в недостаточном знании современного состояния этой науки и даже предостережения о том, что скажут о нас наши иностранные коллеги, мы готовы временно сделать уступку этому раболепию наших генетиков перед импортной наукой». А вот мнение, высказанное тремя годами позже: «Н. И. Вавилов рассказывал нам разные хорошие вещи о достижениях мировой науки… Но этого рассказа было мало. Нужно было по каждому пункту… дать серьезный критический анализ, и не следовало вам раболепствовать перед зарубежной наукой… Вы сделали сами значительно больше Бэтсона. Но почему-то в вашем выступлении Бэтсон и другие играют очень большую роль и продолжают затушевывать достижения нашей науки» (Поляков, 1939, с. 169).
Вернемся, однако, к письму ЦК ВКП(б). Дальше в нем говорится о науке: «Наука в России всегда страдала от этого преклонения перед иностранщиной. Неверие в силы русской науки приводило к тому, что научным открытиям русских ученых не придавалось значения, в силу чего крупнейшие открытия русских ученых передавались иностранцам или жульнически присваивались последними. Великие открытия Ломоносова в области химии были приписаны Лавуазье, изобретение радио великим русским ученым Поповым было присвоеено итальянцем Маркони, было присвоено иностранцами изобретение электролампы русского ученого Яблочкова и т. д. ».
Причины этого в сознательной политике запада: «Все это было выгодно для иностранных капиталистов, поскольку облегчало им возможность воспользоваться богатствами нашей страны в своих корыстных целях и интересах. Поэтому они всячески поддерживали и насаждали в России идеологию культурной и духовной неполноценности русского народа. Русская наука и культура, равно как и наука и культура других национальностей в царской России, развивались и выковывались в беспощадной борьбе со всеми попытками лишить их самостоятельного значения, поставить их на задворках западноевропейской культуры» (выделено нами). А в XX веке запад стал говорить о физической неполноценности русских и связанной с этим их агрессивности и склонности к несвободе. А отсюда призывы к необходимости защитить западную цивилизацию от агрессивной силы с востока. Зачистку от неполноценных народов, населяющих территорию СССР, пытался осуществить Гитлер. Но не получилось. И это является свидетельством того, что СССР в качестве наследника царской России, которую грабили все, кому не лень, предстает теперь в совершенно новом качестве как ведущая экономически самостоятельная держава мира, которой и вести себя следует сообразно этому новому состоянию.
Раз СССР после войны стал великой державой, то и советские граждане должны перестроиться с учетом этой новой реальности. Великие державы на то и великие, что могут позволить себе самостоятельные действия по многим вопросам, в том числе действия, симметричные по отношению к действиям других великих держав. Симметричность в действиях означает не делать того, что не делают они. Правильно ли это или нет, я не берусь судить. Вопрос этот дискуссионный. Но логику в действиях нашего партийного руководства можно понять. Давайте в этой связи рассмотрим решение (от 16 июля 1947 г. ) о прекращении выпуска в СССР научных изданий на иностранных языках.
До войны ученые великих держав печатали результаты научных работ на своих национальных языках. Ни у кого такая практика не вызывала особых возражений. Мы публикуем результаты исследований в первую очередь для своих читателей, и лишь во вторую очередь для иностранных. И такая позиция имеет оправдание в том, что деньги на исследования нам дают не иностранцы. В то же время, если наши ученые желали напечататься за рубежом, то печатались они на языке той страны, которая издавала соответствующий журнал. До войны, следуя дореволюционной традиции, советские ученые печатались преимущественно в журналах, издаваемых на немецком языке.
С чем была связана такая практика. Во-первых, в этом случае наши ученые получали признание научной общественности экономически более развитой страны. В этом нет ничего такого зазорного и постыдного. Здесь нет погони за славой, поскольку действительно выдающиеся работы не всеми пишутся, а у крупного исследователя это штучный результат. Известность ученому приходит не сразу. И в большинстве случаев она выстрадана долгим упорным трудом. Если наш ученый получил международную премию, то этим гордится не только он, но и мы вместе с ним.
Во-вторых, публикация советского ученого в журналах экономически развитой страны была свидетельством того, что его работа отвечает мировому уровню. Раньше наиболее важные результаты советские ученые печатали в немецких журналах. И это понятно. Германия была высокоразвитой промышленной державой. Мы учились, в том числе и у нее. После разрушительных последствий перестройки наша наука существенно отстала в некоторых направлениях от уровня развития науки на Западе. Нам снова приходится учиться у Запада. И в такой ситуации стало престижным писать работы для западных научных журналов.
Итак, после войны правительство пришло к мнению, что для СССР период ученичества ушел в прошлое. Мы стали великой державой и принцип симметричности в действиях требовал от нас перестать издавать научные журналы на иностранных языках. 16 июля 1947 г. Политбюро утвердило решение Секретариата о прекращении издания трех журналов на иностранных языках: «Конт-рандю – Доклады Академии наук СССР», «Физико-химический журнал» и «Журнал по физике». В этих журналах печатались выборочные статьи, которые одновременно издавались на русском языке.
Какие возражения ныне выставляются против этой акции. Вот одно из них, высказанное В. Д. Есаковым и Е. С. Левиной (2005, с. 227): «Выдавая издание и распространение этих журналов только как угодничество перед заграницей, никто из причастных к принятию данного решения, включая двух академиков (Александрова и Вознесенского) и одного члена-корреспондента (Федосеева), не думал о том, что бесплатная рассылка журналов весьма выгодна, она экономит валюту и приводит к оперативному получению научными библиотеками нашей страны практически всей основной и наиболее значимой научной периодики из наиболее развитых стран мира. Более того, публикация информации о достижениях советских ученых на английском языке реально подтверждала приоритет советской науки в разработке многих направлений мировой науки».
А разве издание на русском языке результатов исследований это не подтверждает. Ведь Вы же сами пишете, что американцы внимательно следили за исследованиями Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина и публиковали резюме их работ в журнале «Американский обзор советской медицины». Если мы действительно (а не в бумагах политиков) являемся экономическими соперниками Запада, то ему так или иначе придется отслеживать проводимые в нашей стране исследования, точно также, как и нам. В США была налажена система переводов основных советских научных журналов. Но и у нас при некоторых библиотеках и институтах существовали бюро переводов. Что касается потери валюты, то, когда речь идет о престиже страны, о таких вещах не вспоминают. По моему личному наблюдению работы в центральных московских библиотеках поступление научной зарубежной литературы почему-то резко сократилось по интересовавшим меня направлениям с 1968 г., а после войны в этом отношении все было в порядке.
Заканчивается письмо важным призывом к советскому человеку: «Если мы хотим, чтобы нас уважали и считались с нами, мы должны прежде всего уважать самих себя. Задача заключается в том, чтобы наши люди научились держать себя с достоинством, как подобает советским людям».
Что же является антитезой низкопоклонства и раболепия перед заграницей. Вот мнение А. А. Жданова (цитировано по: Есаков, Левина, 2005, с. 91): «Линия министерства [здравоохранения СССР] во всем этом деле выглядит не как линия защиты государственных национальных интересов, а как линия низкопоклонства и раболепия перед заграницей». Речь, следовательно, идет о защите государственных национальных интересов, т. е. о патриотической линии поведения советской элиты, о чем мы будем говорить в следующей главе.
Но это не все, раз в самом факте передачи материалов советской стороной было что-то такое, что этим стал заниматься сам Сталин? Сталина могло возмутить неподобающее для великой страны поведение ее граждан, которые за бусы согласились передать американцам настоящие ценности, как тогда казалось нашим руководителям высшего эшелона власти. Напомню, что препарат «КР» позиционировался как у нас, так и в США в качестве чуда-лекарства, «способного произвести переворот в деле лечения рака». И вот это чудо-лекарство мы решили передать лишь за обещание, что-то нам показать и что-то нам дать.
Наши руководители безусловно пытались понять мотивы, которыми могли руководствоваться ученые и министерские работники. Пытались объяснить поступок Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина тем, что ими двигало непомерное тщеславие и жажда славы, которые перевесили их гражданскую позицию советских людей[24]. Поступок В. В. Парина вообще не поддается разумному объяснению. Говорят, что в целях пропаганды за рубежом достижений отечественной науки было решено передать рукопись книги Клюевой и Роскина для параллельного издания в США, что соответствовало духу взаимодействия стран – союзников в недавней войне и вообще не было исключительным событием в практике международного научного сотрудничества.
Я в этом не вижу особой проблемы. Более того, у меня возникли по этому поводу вопросы. Почему в целях пропаганды за рубежом наших достижений необходимо было передать им рукопись. Чего проще ускорить издание книги Клюевой и Роскина в СССР. А там уж американцы пусть решают, нужен им перевод вышедшей у нас книги или обойдутся без этого. Поскольку американцы, заполучив Рукопись, не сделали ее перевод, то значит, они, просмотрев книгу, не нашли в ней чего-то особенного, имеющего значимость с научно-практической точки зрения. Еще сложнее объяснить факт передачи препарата «КР». Н. Г. Клюева утверждает, что он уже через сутки потерял свои лечебные свойства, превратившись в «воду». Тогда зачем просить В. В. Парина взять с собой в Америку препарат, если известно, что передаст он им лишь воду. Это разве красит наших ученых, которые, пообещав американцам препарат, подсунули им «воду». Поэтому наши руководители в правительстве и в партаппарате не поверили Н. Г. Клюевой, что нашло отражение в закрытом письме ЦК.
В деле «КР» советский человек столкнулся с принципиально новой для него ситуацией, возникшей в связи с возможностью открытого общения с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Советский человек, воспитываемый в духе интернационализма, воспринимал и воспринимает наших союзников, с кем плечом к плечу сражался против фашизма, как братьев, для которых ничего не жалко. Искренне веря в их добрые намерения, выказывая признаки отзывчивости и доброжелательности, советский человек простодушно открылся перед теми, кто считает эти его качества проявлением второсортности, рабской психологии и бог знает еще чего, кто видит в советском человеке белого туземца, которого законно обмануть и ограбить. И если им сказать об этом, то не поймут. Как! Мы им, наоборот, помогаем. Без нашей помощи и нашего участия они ничего не доведут до конца. Это и есть идеологическое выражение расового превосходства Запада, которым тот грешил на протяжении своей письменной истории, грабя под предлогом приобщения к цивилизации все народы мира.
Могут сказать, что никаких ценностей советские ученые не передавали. Ожидания, которые связывали с «КР» в решении проблемы рака, не оправдались. Но ведь были ожидания. И не ученые, но руководители СССР уверовали в чудодейственную силу препарата «КР», когда американские газеты запестрели заголовками, что русские решили проблему рака. Не исключено, что через газеты американцы отрабатывали новые технологии холодной войны, побудив простодушных русских, «поверивших» американским газетам, сосредоточиться на разработке тупиковых тем. Но это не меняет существа дела. Раз с препаратом связывали большие надежды.
В своей оценке этих событий некоторые авторы исходят из предвзятой идеи, что цель действий властей заключалась в «подавлении очагов свободомыслия в обществе» (Левина, 2016), наиболее сильно проявлявшееся в кругах интеллигенции. «Главной целью кампаний [силового насаждения в обществе патриотических чувств] было не наказание отдельных “шпионов” или “врагов”, а дискредитация в глазах населения наиболее дееспособной, высокообразованной и независимой в суждениях группы – советской интеллигенции. Кампания вносила в общество, консолидировавшееся в условиях войны с фашистским агрессором, новый раскол, противопоставляя творческих, научных и научно-технических работников рабочим, служащим и трудовому крестьянству» (Левина, там же).
Для этой цели были придуманы суды чести. «Суды чести, – писала Е. С. Левина (2016) – практиковавшиеся в 1947-49 гг., были инструментом советской инквизиции сталинского времени, придуманным властью для подавления вспыхнувшего в послевоенном обществе естественного чувства раскрепощения». Е. С. Левина не поясняет, в чем выражалось это чувство раскрепощения, которое власти хотели подавить. Равным образом непонятно, о каком свободомыслии идет речь.
В чем выражалась предвзятость идеи подавления очагов свободомыслия в обществе? Автор, говоря о фактах подавления ученых, в них же видит причину этого подавления. Т. е., по существу отказался от поиска реальных причин преследования части ученых в те годы.
Многие упоминают вовлеченность в дела наших ученых посла США. Это же посол первой державы мира. А его роль в принятии советским правительством политических решений никак не оценивается. Или проблема взаимоотношения ученых с руководителями Минздрава с одной стороны и идеологами партаппарата, с другой. Минздрав пока не видит в результатах Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина по биотерапии рака большого открытия, имеющего отношение к медицинской науке. Напротив, А. А. Жданов придерживается противоположной точки зрения. Отсюда важный вопрос – как это разное понимание, исходящее от идеологов и строителей, сказывается на правительственных решениях, в том числе и в отношении ученых. Или взаимоотношения внутри самого научного сообщества. Когда сегодня говорят о свободомыслии ученых, то под этим имеют в виду их антисталинское единомыслие. Сейчас трудно судить о том, насколько широко были распространены в рядах интеллигенции антисталинские настроения. Но я все же думаю, что свободомыслие у большой части советской интеллигенции сталинского периода имело созидательную направленность и выражалось в активном поиске оптимальных решений проблем социалистического строительства. Говоря об этом, я хочу всего лишь указать, что в идеологическом плане сообщество ученых не было монолитным. Но точно также не был монолитным и партаппарат. В нем также шла подспудная борьба за власть между строителями социализма, нацеленными на созидание, и идеологами социализма, отодвинутыми при Сталине от ключевых рычагов власти, и пытающимися вновь заполучить ее. Понятно, что война наверху осуществлялась руками низовых партийных работников. Но идеологическая заданность еще с хрущевских времен негативной оценки деятельности Сталина и его окружения мешает увидеть эти и другие аналогичные вопросы, выводящие исследователя на путь реального изучения событий той сложной эпохи.
Видите, сколько привходящих обстоятельств, определяющих реакцию властей на действия научной интеллигенции. Ничего заданного в этой реакции не было.
Н. Л. Кременцов (1995, с. 290) сходным образом, хотя и в несколько расплывчатых выражениях, оценивает политическое значение «дела» профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина: «“Дело КР”, открывшее новую идеологическую кампанию, обозначило серьезные изменения в общей идеологической атмосфере – первый серьезный “заморозок” холодной войны, обрушившийся на советскую науку. В ситуации растущей конфронтации с бывшими союзниками ученые стали очевидной мишенью для атаки. Можно предполагать, что все “дело КР” было организовано с целью “преподать урок” интеллигенции, в первую очередь, научной».
Почему в ситуации растущей конфронтации именно ученые стали очевидной мишенью для атаки. Какой урок ученым собиралась преподать власть, в чем она хотела убедить ученых, от чего по ее мнению ученые должны были освободиться? Из текста статьи вытекает, что осуждением Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина власть хотела преподать ученым предметный урок патриотизма, заклеймить «низкопоклонство и раболепие» части нашей интеллигенции перед западом. В то же время автор не стал пояснять, как эта пропагандистская кампания «за советский патриотизм» была связана с обострением отношений между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. В результате сказанное им создает впечатление какой-то несерьезности нашей власти, поступающей как эгоистичные дети в своих взаимоотношениях с другими детьми. У нас испортились отношения с союзниками, так в отместку мы отыграемся на нашей интеллигенции, перекроем ей возможность свободного самовыражения, раз на американцев надавить не получается.
Н. Л. Кременцов рассматривает историю с круцином как чисто внутреннее дело СССР. Между тем в «деле КР» явственно просматривается рука Госдепа, представленная послом в СССР – кадровым военным разведчиком, ставшим через короткое время начальником ЦРУ. И казалось бы анализ действий американского посла в истории с круцином должен предшествовать разбору реакции нашего правительства, вылившейся в кампанию поддержки патриотических настроений в советском обществе. Но Н. Л. Кременцову эту тему, видимо, не хочется подымать и это прямо сказывается на бессодержательности его заключительных выводов по «делу КР».
Возможные выводы должны учитывать все обстоятельства «дела КР», в том числе и участие в нем наших союзников и реакцию на это наших властей. Напомним, что в решении Суда чести четко и однозначно сформулировано обвинение ученых: «Клюева и Роскин, вместо того чтобы обеспечить секретность своих работ, поскольку открытие находилось в зачаточном состоянии и не прошло всесторонней клинической проверки, встали на путь афиширования своих работ и продвижения сведений о них за границу с целью личной славы». Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин, как вытекает из решения суда, не нарушили законы СССР. Поэтому оснований для привлечения их к уголовной ответственности нет. Тем не менее из-за того, что личное перевесило общественное, последнее могло понести определенный ущерб, конечно, в том случае, если бы открытие состоялось. При этом ущерб был бы нанесен не только СССР, но и авторам открытия. Социалистическое государство при таком повороте событий обязано было выступить в защиту своих ученых, защищая тем самым и себя. Такова, на мой взгляд, была возможная позиция властей в деле открытия Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина.
Отсюда задача, которая встала перед советской властью в связи с делом Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина – как уберечь наших ученых, простодушных в своем большинстве, искренне верящих в добропорядочность людей с запада от возможного мошенничества. Ведь как бы мы не объясняли нашим ученым, что запад видит в нас людей второго сорта и поэтому не имеет в отношении нас никаких нравственных запретов, не поверят этому. Будут в своем кругу говорить, что это пропаганда, попытка очернить американцев, что среди них, конечно, есть и плохие люди, но не все же.
История профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, которую партийные идеологи решили использовать в деле воспитания патриотических чувств, для этих целей не только не годилась, но дала обратный эффект. И причина этого понятна. В самой истории не было главного – реального успеха в деле лечения рака. Поэтому серьезных оснований осуждать ученых не было. Здесь я полностью стою на стороне ученых. Годы непростой жизни они отдали научному поиску и потерпели горькую неудачу. И по существу за эту личную трагедию ученых их еще и осудили.
Ученики и последователи Г. И. Роскина и Н. Г. Клюевой утверждают, что препарат «КР» имел хорошие перспективы в качестве противоракового средства, но что неспокойная обстановка вокруг ученых, вмешательство политиков, которые то закрывали работы по биотерапии рака, то снова их открывали, не способствовали исследованиям и не позволили доработать препарат до того уровня, чтобы он мог конкурировать на равных с цитостатиками (веществами, блокирующими клеточное деление).
Здесь мы приведем недавнее взвешенное мнение заведующего лабораторией клеточной биологии ПИЯФ М. В. Филатова – мнение, с которым можно согласиться: «В имеющейся околонаучной литературе… имеется множество намеков на то, что не доработали, не до-исследовали. А вот если бы… По-моему такая постановка вопроса мало приемлема. Раз не удалось получить реально воспроизводимые результаты, значит, уровень понимания проблемы недостаточен, а возможно и неверен…».
Но ведь воспроизводимые результаты не получались не только у нас, но и у американцев. Зачем же тогда нужно было разворачивать в пропагандистских целях дело профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина, если в их работе не было реального успеха в лечении рака. Если суд чести над профессорами был затеян в качестве некой профилактической меры, то нужно было найти иные решения, понятные для большинства. Ведь если действия профессоров объективно не могли нанести вреда интересам государства, то получается, что их осудили за их научную неудачу, как не оправдавших ожиданий власти получить чудо-лекарство. С течением времени, когда постепенно приходило понимание, что возлагавшиеся на ученых надежды не оправдались, необходимость в суде чести над Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскиным становилась все более сомнительной.
Да и второй суд чести над генетиком А. Р. Жебраком оказался также сомнительным мероприятием. В нем рассматривался конфликт между двумя учеными, тогда как интересы государства, требующие защиты, если и рассматривались, то не в самую первую очередь. А учитывая, что агитпроповский накат на Т. Д. Лысенко продолжался и после суда чести над А. Р. Жебраком, то у меня нет уверенности, что это осуждение Жебрака было направлено на защиту Лысенко. Для зашиты чести и достоинства существует гражданский суд, в который Т. Д. Лысенко мог бы подать заявление. Я думаю, что такое заявление он никогда бы не написал. Поэтому защиту его чести и достоинства Т. Д. Лысенко навязал партаппарат и надо выяснить, с какими целями это было сделано.
В целом я считаю, что в судах чести судили советского человека с его особым миросозерцанием, с его философией делания добрых дел, с его открытостью и искренним желанием помочь нуждающимся. Все это, составляющее, хочу надеяться, суть большинства людей, стало частью «жизненного устава» советского человека. Советский человек, столкнувшись с суровой реальностью, оказался беззащитным против обмана и мошенничества. Я не думаю, что это серьезное основание для изменения (которое, на мой взгляд, будет лишь ухудшением) сути советского человека. Власти, как мне кажется, быстро это поняли и через год свернули суды чести.
Партийные руководители проведением слабо мотивированных судов чести провалили послевоенную политику патриотического воспитания в среде советской интеллигенции. Меня не оставляет ощущение, что в этом провале не обошлось без «руки помощи» со стороны американского посла У. Смита, что в конечном результате наши политики в этом деле проиграли американским.
Предпринятые меры по устранению недостатков в работе по патриотическому воспитанию в нынешних публикациях получили неоднозначную, во многом отрицательную оценку. С чем вполне можно согласиться, если говорить о конкретных послевоенных мероприятиях. Я однако не думаю, что эти негативные оценки ставят под сомнение саму необходимость и важность воспитания патриотического чувства. Давайте рассмотрим с этих общих принципиальных позиций тему советского патриотизма.
ГЛАВА 4. Советский патриотизм, интернационализм, космополитизм и национализм
4. 1. Советский и буржуазный патриотизм
Начнем эту тему со следующего высказывания С. Э. Шноля (2010, с. 688) о жизни в СССР: «Существует понятие “интересы страны” – с такими словами можно было обращаться в высокие инстанции, чтобы наладить лекционную работу в школах, предохранить от распашки пойменные земли, организовать международный научный симпозиум, поддержать новое научное направление, добиться издания “приоритетной” книги. Было куда обращаться! В Серпуховский горком КПСС, Отдел Науки ЦК КПСС, Президиум АН СССР, в Министерства, в… КГБ. Пароль-“интересы страны”. Знание этой структуры, действия с учетом этого знания и есть “конформизм”».
Что это за такое волшебное слово «интересы страны», которое приводило в действие руководящие и контролирующие инстанции Советского Союза. Оказывается, что за этим волшебным словом стоял патриотизм наших руководителей. С. Э. Шноль говорит о важности в общественном развитии патриотических чувств и патриотизма. Но он эти чувства почему-то не связывает со своими «хождениями» по инстанциям, например в тот же Серпуховский горком КПСС, и положительными решениями, которые принимались этой и другими инстанциями по тому или иному вопросу. Он рассматривает советскую власть как враждебную силу, если обращение к ее властным структурам оценивается им как конформизм т. е. приспособленчество. Отметим, что описываемая ситуация разительно отличается от нынешней, когда, чтобы сдвинуть решение вопроса с мертвой точки и в нужном направлении, необходимо «подмазать» инстанции. Личное во многих случаях стало более приоритетным, чем общественное. Безусловно, чиновник всегда может сказать, что нынешний проситель не бескорыстно начинает хлопотать о деле, имеющем общественнную пользу, но сообразуясь со своей личной выгодой.
«Что составит основу патриотического чувства, чем будут гордиться будущие поколения? – спрашивает С. Э. Шноль и отвечает: "У нас единственный, бесценный предмет гордости – наш интеллект, наша история, наша уникальная многонациональная культура, наша уникальная природа, наша традиция дружеского общения, наш язык. Они – основа нашего патриотического чувства. Они – условие выживания, возрождения и процветания нашей страны». При таком восприятии патриотизм не идет дальше уровня «патриотизма» футбольных фанатов. Получается, что у жителей многих стран, особенно небольших и недавно возникших, которым пока еще особо нечем гордиться, не может быть патриотических чувств.
Отметим, что первым предметом гордости, о котором говорит С. Э. Шноль, является наш интеллект. Но поскольку он горой стоит за ту формальную генетику, о которой мы ведем здесь повествование, то «наш интеллект» в его понимании определяется генами и, следовательно, он примешивает к светлым патриотическим чувствам евгенику с ее молчаливо подразумеваемой гордостью за то, что у нас есть ценные гены, которых нет у других. Это и есть главный источник расизма и ксенофобии, причем обосновывавшийся положениями тогдашней генетики.
На наш взгляд, главное в патриотизме – быть достойными в своих делах лучших представителей своего народа, быть активными продолжателями дела старших поколений. Сопричастность к созидательным делам страны, ее ушедших поколений и твоих современников, и составляет предмет гордости. Гордятся своими и их делами. Вряд ли мы будем гордиться делами людей чужой страны, если к этим делам мы сами не имеем никакого отношения. Осознание того, что в больших делах твоих современников есть и твоя крупица вклада, является здоровой основой развития патриотического настроений в обществе.
Суть патриотического чувства хорошо выражена в прекрасной песне о тревожной молодости Александры Пахмутовой на слова Льва Ошанина:
«Забота у нас простая, забота наша такая: жила бы страна родная и нету других забот»
Главная забота патриотов, чтобы жила и процветала страна. Следовательно и жить патриоту надо так, чтобы было хорошо стране. А если будет хорошо стране, то это пойдет на пользу подавляющей части населяющих ее граждан. Здесь общественное так или иначе содействует личному.
Как определяет патриотизм энциклопедия. Читаем в Энциклопедическом словаре (1954, т. 2, с. 616):
«Патриотизм, любовь к родине, отечеству, “одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств” (В. И. Ленин). Благородное чувство патриотизма, любовь к родине и преданность ей издавна присущи народным массам. Движимые этим чувством, трудящиеся поднимались на борьбу против чужеземных завоевателей и всех угнетателей. В основе патриотизма трудящихся лежит преданность своему народу, стремление отдать все силы защите его интересов».
Это определение овеяно недавно закончившейся тяжелевшей войной советского народа против фашистской Германии. Акцент в нем сделан на борьбе против чужеземных завоевателей. Можно ли считать, что немцы по призыву Гитлера пришли на наши земли грабить и убивать из патриотических побуждений? Безусловно, нет. Поскольку эти их действия привели к разгрому их собственной страны и ее оккупации, продолжающейся до сих пор. Патриотическое чувство не должно сеять вражду между народами. Если мы патриоты своей страны, то мы должны уважать патриотические чувства других народов. Те, называющие себя патриотами, которые нарушают этот принцип, действуют во вред своей стране и своему народу и, следовательно, не могут считаться патриотами. Принцип уважения патриотических чувств других народов сформулирован в рассматриваемой статье о патриотизме в Энциклопедическом словаре (там же) в следующей редакции:
«Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей социалистической Родине, братское содружество трудящихся всех наций Советской страны. Советский патриотизм неразрывно связан с интернационализмом и глубоко гуманен в своей основе. Он в корне противоположен буржуазному национализму и космополитизму».
Обратим внимание, что патриотизм противоположен национализму и космополитизму. Следовательно, патриотизма, о котором говорили у нас, на западе не было. Почему и пришлось отличать советский патриотизм от буржуазного, граничащего с национализмом. Итак, советский патриотизм был связан с двумя ключевыми характеристиками – служением стране (народу) и уважением патриотических чувств других народов. Отметим, что в более поздних формулировках эти два принципа не всегда выдерживались.
Для сравнения приведем определение патриотизма из Большой советской энциклопедии (1975, т. 19, с. 282), предложенное после 20 лет мирного развития СССР:
«Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа».
Определение размыто и в нем уже нет второго признака патриотизма, связанного с уважением патриотических чувств других народов. Но признак служения Отечеству отмечен. Почему же этот, на мой взгляд, ключевой признак патриотического чувства не упомянул С. Э. Шноль? Оказывается не все придерживаются данного выше определения патриотизма. Вот как определили это понятие в немецкой версии Википедии:
«Под патриотизмом обозначают тесную эмоциональную связь со своим народом… Эта связь также называется национальным самосознанием или национальной гордостью и она может соотноситься с самыми разными отличительными чертами нации, например, с такими важными ее сторонами как этническая, культурная, политическая или историческая составляющие. В отличие от историко-культурных скреп (со своим народом) конституционный патриотизм (Verfassungspatriotismus) связан с положительным признанием международных основных этических и политических прав и представлений о ценностях, зафиксированных в государственной конституции. Они коренятся в традиции западных правовых государств не поступаться человеческим достоинством (честью) и вытекающем из этого правами человека, получивших универсальное значение… Сегодня патриотизм в общем отличается от национализма и шовинизма в том отношении, что патриоты связывают себя (идентифицируют себя) с собственной страной и народом без того, чтобы… даже в мыслях принижать другие народы».
В этом определении отсутствует представление о патриоте как активном строителе и защитнике своей родины, осознающем себя в этом качестве. Следовательно, и уважение патриотических чувств других народов представляет собой лишь идеологическое ограничение, которого должны придерживаться все граждане, не только патриоты. Для последних в необходимости вести себя «цивилизованно» нет никакого ограничения и как бы принуждения со стороны государства, поскольку уважение других составляет суть (советского) патриотизма и внутреннюю потребность патриота. Отметим еще одну особенность немецкого патриотизма, его зависимость от государства. Немцев на государственном уровне принуждают быть патриотами, т. е. придерживаться конституционных норм.
Определение в английской версии Википедии только в первых пунктах совпадает с только что рассмотренным:
«Патриотизм, в общем смысле, есть эмоциональное чувство привязанности (преданности – attachment) к стране, которую человек признает в качестве своей родины. Эта привязанность, также известная как национальное чувство или национальная гордость, может рассматриваться применительно к различным особенностям собственной страны, выражающим ее этнические, культурные, политические или исторические аспекты. Патриотизм охватывает ряд концепций, которые близко связаны с защищаемыми национализмом. Избыток патриотизма в защиту страны (народа) называют шовинизмом; другой близкий термин – "джингоизм"». [25]
В этом определении опущены обе отмеченные выше ключевые характеристики (советского) патриотизма.
Стивен Натансон (Nathanson, 1993, р. 34–35) в характеристику патриотизма включает четыре признака: 1. Личная привязанность к собственной стране; 2. Ощущение личной сопричастности (отождествление себя – personal identification) со своей страной; 3. Определенное беспокойство за судьбу, благополучие своей страны; 4. Готовность к самопожертвованию собой, если это идет на пользу стране.
В этой характеристике отсутствует второй признак, из упомянутых нами, касающийся уважения патриотических чувств других народов. Из-за этого патриотические выступления часто трудно отделить от националистических выпадов против других народов. Защитить интересы Родины и своего народа невозможно, если при этом попираются патриотические чувства других народов. Поэтому патриотизм основан на присущем большинству людей чувстве справедливости.
В рамках данного ограниченного и идеологически ущербного определения получает смысл известное афористическое высказывание критика и поэта, составившего «Словарь английского языка», Самуэля Джонсона (Samuel Johnson 1709–1784): «Патриотизм есть последнее прибежище негодяев». В английской версии статьи «Патриотизм» в Википедии об этом высказывании Джонсона сказано следующее:
«Эта линия критики [Джонсона], как широко признано, касалась не патриотизма вообще, но ложного использования термина “патриотизм” первым графом Четэма Уильямом Питтом (William Pitt, 1st Earl of Chatham), патриот-министром, и его сторонниками. Джонсон в общем выступил против “самозваных (мнимых – self-professed) патриотов”, объяснив, что он считает “истинным” патриотизмом».
У. Питт – один из создателей колониальной британской империи, консолидировал общество под патриотическими (псевдопатриотическими, по Джонсону) знаменами. Патриотом, согласно словарю Джонсона, будет любой, «чьей руководящей страстью является любовь к своей стране». Формально У. Питт отвечает этому определению, даже если его патриотическая страсть является показной, неискренней. Ведь проверить это мы никак не сможем. Следовательно по английским понятиям, зафиксированным в словаре, У. Питт является патриотом. Но любя своих, он одновременно организовал (через войны) ограбление и уничтожение чужих, т. е. был в глазах Джонсона негодяем, прикрывающим свои преступные действия патриотической риторикой. По нашим (советским) понятиям У. Питт не является патриотом. Не могут организаторы войн и грабежа других народов быть патриотами.
Заметим, что в Стэнфордской электронной энциклопедии (Stanford Encyclopedia of Philosophy) в статье «Патриотизм» объемом 14 страниц С. Джонсон вообще не упоминается. Причина, возможно, связана с желанием избежать неудобных вопросов относительно традиционного (буржуазного) определения патриотизма – в чем его недостаток, если оно допускает возможность отнести к патриотам не самых лучших людей, вплоть до откровенных фашистов. С этой точки зрения С. Э. Шноль следует буржуазному определению патриотизма.
Итак, английский патриотизм трудно отграничить от национализма, который и будет скрываться за вывеской так понимаемого патриотизма. Но в данном выше определении советского патриотизма последний противопоставляется не только национализму, но и космополитизму. В чем это проявляется конкретно.
4. 2. Космополитизм
Давайте сначала выясним, как это понятие определяется в словарях.
Энциклопедический словарь (1954, т. 2, с. 163) дает следующую формулировку: «Космополитизм, реакционная проповедь отказа от патриотических традиций, национальной независимости и национальной культуры. В современных условиях агрессивный американский империализм пытается использовать лживую идеологию космополитизма для морального разоружения народов и установления мирового господства. Космополитизм является оборотной стороной и маскировкой буржуазного национализма».
Отказа в пользу чего или кого? Очевидно в пользу более развитой страны. Космополитизм в этом понимании – есть одна из форм национального угнетения, что и подчеркнуто в определении. Сказанное требует серьезного обоснования. Но у нас пока нет положительного определения космополитизма, чтобы решить этот вопрос.
Википедия (российская версия) предлагает следующую формулировку: «Космополитизм (от др. – греч. космополитос(; (kosmopolites) космополит, человек мира) – идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации или государства и рассматривающая человека как свободного индивида в рамках Земли».
Это определение является чисто идеологическим конструктом, навязываемой человеку нормы поведения. Чувство патриотизма имеет определенные биологические предпосылки в системах распознавания организмом своих и чужих. Кроме того, это чувство выстрадано одними реально, другими по преданию общей историей народа в его взаимоотношениях с другими народами.
У евреев идея «космополитизма» выстрадана непростой исторической судьбой их народа, вынужденного во многом из-за гонений жить в рассеянии. Но назвать это космополитизмом в отмеченном выше смысле нельзя. Это особая форма патриотизма. Ведь многие из русских и украинцев, вынужденных в свое время эмигрировать в Америку, открыто выказывают свои патриотические чувства предрасположенности своим соплеменникам на Украине и в России. Разве можно в этом случае говорить об их космополитизме? Конечно, нет.
В английской версии Википедии читаем: «Космополитизм – идеология, утверждающая, что все люди принадлежат к единой общности, основанной на общей морали. Человека, который придерживается идеи космополитизма в любой ее форме, называют космополитом. Космополитическое сообщество могло бы быть основано на взаимосогласованной морали, общих экономических отношениях, или политической структуре, которая охватывает различные народы. В космополитическом сообществе индивидуумы из различных мест (в частности, из разных национальных государств) строят свои отношения на принципе взаимного уважения».
«Космополитизм может быть определен в качестве глобальной политики, которая, во-первых, строит общество исходя из общих политических обязательств всех людей на земном шаре, и, во-вторых, предлагает, чтобы соответствующее общественное устройство по этическим или организационным соображениям имело бы приоритет над другими формами социальности».
Вот определение из Стэнфордской философской энциклопедии-«Слово “космополитический”, которое происходит из греческого слова kosmopolites (‘гражданин мира’), использовалось, чтобы описать широкий спектр важных представлений в этике и в социополитической (socio-political) философии. Их не вполне ясная суть, разделяемая всеми космополитическими представлениями, связана с идеей согласно которой все люди, независимо от их политических пристрастий, являются (или могут и должны быть) гражданами единого сообщества. Различные версии космополитизма рассматривают это сообщество по-разному; некоторые фокусируют внимание на [общих] политических учреждениях, другие на этических нормах или отношениях, а иные на [возможность существования] общих рынков или общих форм культурного проявления. В большинстве версий космополитизма, универсальное сообщество граждан мира функционирует как положительный идеал, к которому следует стремиться создавая такое общество, но существует несколько версий, в которых оно служит главным образом как основание для того, чтобы отрицать существование особых обязательств перед местными формам политических организаций. Версии космополитизма также изменяются в зависимости от принятого понятия гражданства, включая и те случаи, когда понятие “мирового гражданства” используется буквально или метафорически. Философский интерес в космополитизме лежит в его вызове традиционно проявляемым чувствам преданности к своим согражданам, к своей стране, к своей местной культуре и т. д. »
Космополитизм, согласно этому определению, может входить в противоречие с патриотическими чувствами и, следовательно, быть идеологическим оружием в борьбе более развитых и экономически богатых стран против других. Т. е. космополитизм является философией империализма.
В мире, в котором ради корысти поддерживается вражда между народами, организуются мировые войны, только борьба за справедливое мироустройство может быть задачей космополитизма. Все остальные действия под флагом космополитической философии сведутся так или иначе к поддержке потенциального мирового агрессора. Почему?
Мировой агрессор – это страна, которая, достигнув волей обстоятельств экономического и военного превосходства в мире, начинает топить своих экономических конкурентов, в том числе путем организации войн и революций, которых сами они избегают. Эта стратегия стравливания своих потенциальных конкурентов отрабатывалась, в частности, Англией во время Семилетней войны в Европе как раз при уже упоминавшемся английском патриоте-министре Уильяме Питте. Сама Англия, пока в Европе дрались, сосредоточилась на колониальных захватах. Только у мирового агрессора государственные национальные интересы простираются на весь мир. Только он задает, тайно или открыто тренды мирового развития. Поэтому любые действия космополитов, кроме борьбы за справедливость в мире, будут находиться в русле политики мирового агрессора. Да собственно и сама философия космополитизма была придумана идеологами мирового агрессора для противодействия распространению (истинно) патриотических и интернационалистических настроений в мире. Интернационализм отличается от космополитизма тем, что он конкретен. Предлагать и оказывать помощь, содействие можно только конкретному адресату.
В борьбе с нашими патриотическими настроениями наши недруги пытаются внедрить в сознание еще одну альтернативу, а именно ложное представление, что будто бы личные успехи граждан делают успешной и саму страну. Личное в этом случае должно содействовать общественному. На самом деле такое возможно лишь при условии, что там наверху сидят патриоты, которые корректируют и, если надо, сдерживают личные устремления граждан, чтобы они не слишком сильно ударяли по интересам других, короче, чтобы страна от личных амбиций ее граждан не пошла в разнос.
Показательным примером может служить развитие западноевропейского рабочего движения в XIX веке. В первой половине столетия и даже позже условия жизни пролетариата были столь ужасны, что Карл Маркс был убежден в скором крахе капитализма. В «Манифесте коммунистической партии» (1848 г. ) говорится: «С развитием крупной промышленности из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Она производит прежде всего своих собственных могильщиков. Ее гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны». К. Маркс считал, что накопление капитала и связанное с этим ухудшение экономического положения рабочих будут продолжаться. А поскольку число обездоленных будет с развитием капитализма постоянно расти, то революционное сопротивление рабочих будет также нарастать, что в конце концов приведет к победе пролетариата. Маркс не дожил д0 того времени, когда зарплата рабочих на западе в последней трети XIX века стала расти и их условия жизни стали ощутимо меняться к лучшему (см. Пикетти, 2015). Этому могли способствовать и какие-то объективные причины. Но главным все же было консолидированное решение верхов ограничить алчность капиталистов. Англия вообще смогла пройти этот опасный период первоначального накопления капитала без революционных потрясений, имея за счет ограбления колоний дополнительные ресурсы для поддержки нищающего населения, которыми другие страны не обладали.
Российские верхи не захотели или не смогли обуздать алчность собственного и иностранного капитала. Николай II, к сожалению, не был патриотом России, был себялюбцем, не интересовался делами России и жил во многом для себя. Это ведь он вместе со своим немецким родственником Вильгельмом развязал первую мировую войну. Начав ненужную России войну, Николай II самоустранился, не захотел взять на себя тяжелое бремя ответственности за руководство войной: есть для этого генералы, пусть они и воюют. Не захотел руководить страной в этот ответственный для ее судеб момент: есть чиновники, пусть они и выполняют свои обязанности. Война нашего царя, судя по его дневникам, не интересовала, более того, она его тяготила, поскольку отвлекала от привычного времяпровождения. Итог известен. Вернемся однако к послевоенной истории СССР.
4. 3. Послевоенное возрождение патриотического чувства советских граждан
Почему сразу после Великой Отечественной войны возникла потребность в возрождении патриотического чувства советских граждан. Ответ известен. Причиной была тяжелейшая для нашего народа война. Марксизм с его призывом к «пролетариям всех стран объединяться» не выдержал проверку временем. Немецкие пролетарии не проявили солидарности с российскими братьями по классу. Сам призыв не имел под собой серьезных оснований, был полностью оторван от жизни и на поверку оказался всего лишь пропагандистским лозунгом, одурманившим наш народ и, к сожалению, разоружившим его перед угрозой порабощения европейским фашизмом. Не захотели европейские рабочие соединяться в защите своих социальных прав с русскими трудящимися. Более того, их легко убедили отправиться в грабительский поход на восток. Не ровня немецким труженикам оказались рабочие СССР, если их можно было, отринув даже христианские заповеди, беззастенчиво убивать и грабить во имя наживы.
Война фашисткой Европы против СССР показала полное банкротство марксистской идеологии и необходимость перестроиться, чтобы не потерять доверие народа. Сталин после войны начал ревизию марксистских догм. И была возможность представить этот процесс как дальнейшее развитие марксизма применительно к новым условиям победившего в стране социализма. Пришедшие к власти после Сталина марксисты вернулись к марксизму столетней давности. Им не было нужды беспокоиться по вопросам строительства коммунизма. Они и так жили как при коммунизме.
Патриотическое чувство естественно для народов. И попытки его вышучивать применительно к нашему случаю представляются мне дымовой завесой, призванной отвлечь внимание от банкротства марксизма, выставляемого до сих пор в качестве серьезной научной доктрины. Но вины К. Маркса здесь меньше всего. Он не виноват, что политики использовали его авторитет для достижения своих корыстных целей.
Почему же марксизм оказался не отвечающим реальной жизни. Давайте посмотрим, что по этому поводу написал Томас Пикетти (2015, с. 27), Маркс XXI столетия, как его называют. «Главный вопрос, которым они [коммунисты и социалисты XIX века] задавались, был простым: зачем нужно развивать промышленность, зачем нужны все технические новинки, весь этот тяжелый труд, вся эта массовая миграция, если и после полувека промышленного роста массы находятся все в той же нищете и если дело доходит до того, что приходится запрещать труд детей младше восьми лет на фабриках? Несостоятельность существующей экономической и политической системы казалась очевидной. Следующий вопрос звучал так: что можно сказать о долгосрочной эволюции этой системы?».
В ответе на этот вопрос, К. Маркс по мнению Т. Пикетти, дал ошибочный ответ, предполагая очень мрачное будущее капитализма. Но оно, как показала история, не наступило. Для Европы и Америки это стало ясно уже в конце XIX века, о чем мы уже говорили. Но К. Маркс не мог предвидеть возможность управления экономическим развитием в ручном режиме.
Таким образом, коренная ошибка К. Маркса заключалась в попытке чисто натуралистического представления исторического процесса, в его необоснованной объективизации, т. е в сведении к чисто природным явлениям. А поскольку последние развертываются необходимо по определенным естественным законам, то начался поиск особых исторических законов. Успехи естественных наук в XIX веке придали мощный стимул к поискам аналогичных природных законов определяющих историческое развитие. Теперь после длительного периода безуспешных попыток обосновать придуманные Марксом и его последователями исторические законы и закономерности стало очевидным, что в развитии общества велика роль управляющих сил. Они и меняют кажущиеся «объективными» тенденции, лежащие в основе исторического процесса. Кстати, нынешние либералы впали в ту же ошибку, считая, что общество, свободное от управленческих ограничений объективно способно к саморазвитию в лучшую сторону.
Собственно и сам коммунистический проект был показательным примером действия управляющих сил в лице коммунистов, оседлавших исторический процесс в целях построения нового общества.
В поисках общественных законов К. Маркс искусственно свел всю сложность жизни к абстрактной однофакторной схеме, в которой, к тому же, поставил историческое развитие в зависимость от не самых главных управляющих игроков, какими являлись пролетариат и трудящиеся в целом. Дело в том, что для любого политического процесса требуются деньги. Но как раз у пролетариата их нет. Поэтому самое большее на что он способен – так это на спонтанные бунты. В итоге появилась объективная возможность использовать бунтарскую активность масс теми, кто распоряжается деньгами. Раньше это скрывалось. Сейчас открыто обсуждается сколько денег было потрачено на оранжевые революции и сколько получали в день рядовые ее участники в пик «революционной» активности.
Понятно, что деньги на революционную деятельность дают не из альтруистических побуждений, но руководствуясь какими-то своими целями с тем, чтобы потом эти деньги вернуть с избытком. Соответственно спонсировать марксистскую революцию захотят и начнут многие. Но в любом случае действовать они будут не сами, но через революционные организации, борющиеся как бы за дело рабочего класса. В этой ситуации ни спонсоры революционного движения, ни сами революционеры, получавшие деньги от спонсоров, не могли раскрыть свои истинные намерения. Для всех со стороны они выставляли себя в качестве истинных марксистов, борющихся исключительно за дело освобождения рабочего класса от гнета капиталистов.
В итоге под одной марксистской вывеской оказались «революлюционеры» с самыми разными политическими намерениями, преследовавшие нередко прямо противоположные цели. В частности, в на-шей пролетарской революции сошлись интересы самых разных сил, оседлавших рабочее движение. Здесь и собственно марксисты, искренние продолжатели дела Маркса, интернационалисты и государственники, борцы с монархией, и колониализмом (с колониальным гнетом эрбинов), националисты разного толка, западники (франко-и англофилы, германофилы и т. д. ) и славянофилы, демократы, наконец, просто авантюристы и случайные люди. Алексей Меняйлов в своей сталиниаде утверждал, что и Сталин не был случайной фигурой в революции, а был посланцем законспирированных сил, выступавших против колониального захвата России эрбинами. И на все это накладывался интерес развитых промышленных государств, для которых Россия выступала в качестве экономического конкурента, которого надо потопить.
Поскольку основные деньги на освобождение российского пролетариата от гнета фабрикантов давали марксистам, то к ним присоединились самые разные революционные силы, ставившие перед собой и иные цели. А уж какая из этих сил, выступавших под крышей марксизма, возьмет верх после захвата революционерами власти, наперед трудно было предсказать. Проигравшим в этой «борьбе за счастье рабочих» ничего не оставалось делать, как продолжить отрабатывать деньги и вести борьбу, но теперь уже с победившими «марксистами». Это и является свидетельством того, что борьба российских «марксистов» за дело рабочего класса была не более, чем поводом для реальной борьбы по совершенно иным мотивам.
Что речь в этом случае шла не о теоретических спорах, но о реальной политике, затрагивающей не только нас, но и другие страны, имеется масса примеров. Лев Троцкий, выдвинул идею перманентной революции, желая помочь пролетариату Западной Европы, в которой революционное движение было подавлено. Он, таким образом, хотел с помощью российских штыков «осчастливить» чужих. Если бы у него это получилось, то это был бы очень сильный повод ненавидеть русских жителями тех стран, в которых социалистический строй был бы установлен силой. Критикуя теорию перманентной революции, Иосиф Сталин сказал, что чужие пусть сами думает, что им конкретно нужно, как им обустроить свою жизнь, чтобы стать счастливыми. Никому нельзя навязывать свое счастье. Это не приведет ни к чему хорошему. На этот счет существует известная народная мудрость: не делай (чужим) людям добра, не получишь от них зла. Если действительно хочешь помочь, то не трезвонь об этом. Полезно напомнить слова освободителя от испанского господства ряда стран Южной Америки генерала Симона Боливара, сказанные им 15 февраля 1819 г. перед Вторым Национальным конгрессом в Ангостуре (ныне Сьюдад-Боливар, Венесуэла), на котором он был избран президентом Венесуэлы:
«Никогда не надо забывать, что преимущество того или иного правления состоит не в его теории, его форме или его механизме, а в том, насколько оно соответствует природе и характеру Народа, для которого оно предназначено».
Вот этого не было в марксизме. И это сильно влияло на устремления многих в России ревизовать европейский марксизм с учетом национальных российских условий.
Возвращаясь к теме послевоенного патриотизма, мы должны еще раз повторить, что Великая отечественная война нашего народа против фашизма поставила крест на любых интернационалистских проектах совместно с западом, в том числе и под марксистскими лозунгами. Это как же надо не уважать своих союзников по борьбе с фашизмом, если открыто утверждалось, что пусть они, т. е. русские, и немцы уничтожают друг друга. Такое не проходит бесследно для народного самосознания. И об этом свидетельствовало широкое распространение после войны хулиганских матерных песен об успешном противостоянии русских своре убийц и палачей с запада. Среди этой своры, получивших русских «кренделей», и так любимый марксистами западный пролетариат.
4. 4. Почему же так мало наших имен в перечнях открытий
«Почему же так мало наших имен в перечнях открытий и научных сенсаций?» Такой вопрос поставил С. Э. Шноль (2010, с. 12) в своей в целом интересной и поучительной книге. «Говорят, – продолжил он – дело в дискриминации российских авторов их “западными” коллегами-конкурентами. Отчасти это так». Если иметь в виду самих западных биологов, но не политиков, то это, на мой взгляд, совсем не так. Западному ученому, особенно представителю великой державы, нет необходимости оглядываться на научные достижения в других странах. Их научное сообщество самодостаточно и способно выполнить любые научные проекты. Они задают научную моду в науке. По этой причине они не интересуются нашей наукой, а раз так, то им нет необходимости думать о нас как о конкурентах. Об этом, если кто и думает, то только их политики. Наша наука по отношению к западной вторична. Поэтому зачем ученым великой страны знать иностранные языки. Чтобы общаться с коллегами из других стран, например, на конференциях или симпозиумах? Но зачем общаться с учениками на их языке. Пусть ученики учат язык учителей. А если не захотят, то пусть остаются на обочине поступательного движения науки.
Западные ученые не просят нас, чтобы мы пропагандировали их успехи. Так почему же мы желаем, чтобы о наших успехах говорили западные ученые. Не говорит ли это об определенной несамостоятельности наших ученых, их зависимости от западного мнения, то что после войны называли раболепием перед западом. Западные ученые являются патриотами своей страны, но не нашей. И поэтому в первую очередь будут говорить об успехах своих ученых. А об успехах русских ученых пусть беспокоятся русские патриоты, если они действительно являются патриотами. И если наши патриоты об этом не говорят, то в чем же здесь вина западных ученых.
Кроме своей родины никто наше научное подвижничество не оценит. Вопросы научного престижа, приоритета и т. д. не являются предметом науки; они поле активности политиков. И если на западе будут признавать кого-то из России, то сообразуясь в первую очередь со своими политическими интересами. А их постоянные интересы, это наши постоянные заботы и хлопоты, поскольку конкуренцию и борьбу за связанные с наукой выгоды никто пока не отменял. Если наши политики являются патриотами, то они будут защищать интересы российских ученых, в том числе вопросы приоритета, при любой открывшейся возможности. Но это при условии, что сами ученые являются патриотами своей страны. Активным патриотом советской державы был академик П. П. Капица.
Почему западные ученые не просят нас пропагандировать их успехи? Потому что для науки это не нужно. Ученые занимаются поиском истины. Истину невозможно сокрыть. И если перед ученым встала задача представить исторический обзор развития своей науки, то он постарается собрать все доступные материалы, чтобы дать объективную картину. Т. е. искажать сознательно истину ученый не может по определению, уже хотя бы из опасения, что правда так или иначе вскроется, если и не сразу, так с течением времени. Но это конечно, при условии, что полученные ученым результаты не вступают в конфликт с политическими установками страны. Наконец, сам ученый в оценке событий может ошибаться.
В интересных и необычайно познавательных очерках об Д. И. Ивановском (Гапон, 2015а, б) показаны перипетии борьбы в защиту приоритета российского ученого в открытии вирусов. Сомнения в приоритете Д. И. Ивановского были высказаны, в частности, в капитальном руководстве «Handbuch der Virusforschung», вышедшем в 1938 г. Эта попытка получила должный отпор с нашей стороны, в статье советского патриота Х. С. Коштоянца (1942). Через два года американский ученый У. М. Стенли (Stanley, 1944), нобелевский лауреат 1946 г., поддержал нашу позицию. То, что мы были союзниками с американцами в борьбе с фашизмом, предопределило в этом случае невмешательство политиков в дела ученых. Но в близкой ситуации периода холодной войны Линн Маргулис, автор симбиогенетической теории происхождения эукариотической клетки (см. Маргелис, 1983), фактически лишилась работы и доступа к американским научным журналам, когда она открыла для американских ученых работы пионера в этой области К. Мережковского (Мережковский, 1909; Mereshkowsky, 1910). В 2010 г. Л. Маргулис организовала перевод и издание книги Б. М. Козо-Полянского (1924; Kozo-Polyansky, 2010) по симбиогенезу (см. подробнее Фет, 2012). МакАлистер (MacAllister, 2011) писал после смерти своего учителя: «Когда Линн Маргулис умерла от удара в ноябре 2011 г., многие некрологи создали впечатление, что после ее двух первых достижений (accomplishments): выходе замуж за [известного астронома] Карла Сагана и публикаций знаковой работы «Происхождение митозирующих клеток» (Sagan, 1967) она затратила большую часть своей жизни как научный слепень (gadfly). Журнал «Science» (Mann, 1991) в форме шовинистической карикатуры, которая заставила бы покраснеть Лоуренса Саммерса (Lawrence Summers), назвал ее неуправляемой земной матерью в науке. После возмущения на выпад из засады Маргулис не получила извинения. Публикатор сказал ей, что статья была хорошо проплачена (“good for sales”). Я не исключаю, что эта была реакция собственно не против самих работ российских авторов, но против того, что в своем противостоянии с неодарвинистами Л. Маргулис обратилась за помощью к русским ученым.
Но в целом, повторяю, у ученых нет особых причин выступать против истины, если, конечно, это не затрагивает их личных научных достижений. Мы уже рассказывали о швейцарском ученом Стюарте Шапиро, который работал над очерком о первопроходцах, разрабатывавших методы непрерывного культивирования микроорганизмов. Где-то он услышал о советском ученом Утёнкове, будто бы работавшим по этой теме и предпринял специальные розыски. Достал копию книги Утенкова «Микрогенерирование» (на русском языке) из Армейской медицинской библиотеки США, выяснил, что М. Д. Утёнков является тем ученым, о ком следует сказать в очерке, и послал просьбу нашему ученому С. С. Белокрысенко помочь в получении биографических сведений об М. Д. Утенкове и любой информации о его работах.
А вот другой пример, свидетельствующий что авторство большого открытия, сделанного нашим ученым, иностранным коллегам нет необходимости утаивать.
4. 5. Т. Д. Лысенко
Американский ботаник Д. Чамовиц опубликовал в 2012 г. популярную книгу под интригующим названием «Тайные знания растений». Эта книга стала бестселлером, вошла в десятку лучших книг по науке за 2012 г. и была переведена на 15 языков мира, в том числе на русский язык в 2015 г. В главе «Что помнит растение» Д. Чамовиц пишет (2015, с. 172): «Трофим Денисович Лысенко – выдающийся советский ученый». На следующей странице автор объясняет, почему он так считает: «… в 1928 г. Лысенко совершил знаменательное открытие, которое сегодня влияет на развитие биологии». [26] «Конец 1920-х годов-продолжил Д. Чамовиц (с. 173) – стал кошмаром для сельского хозяйства СССР. Аномально теплые зимы погубили большую часть урожая пшеницы и вместе с этим лишили пропитания миллионы людей». Т. Д. Лысенко выяснил, что растения озимой пшеницы не прошедшие в зимний период стадии низких температур не способны выколоситься. Т. Д. Лысенко предложил агроприем весеннего посева озимой пшеницы, семенами, предварительно выдержанными определенное время на холоде. Этим бы обеспечивалась полное выколашивание пшеницы независимо от погодных условий зимой. Т. Д. Лысенко назвал этот прием яровизацией. «Таким образом, – заключает автор (с. 173) – он [Лысенко] обеспечил крестьянам возможность сеять пшеницу весной и спас страну от голода».
Сам Т. Д. Лысенко ничего не говорит о голоде, связывая предлагаемый им прием весеннего посева яровизированными семенами с возможностью управления сроками вегетации в качестве средства борьбы с суховеями, что в целом может дать более высокий урожай. О голоде тогда не разрешалось говорить. Но в работе «Теоретические основы яровизации» Т. Д. Лысенко ([1936] 1948, с. 9) сообщает, что по его просьбе отец, Д. Н. Лысенко, в 1929 г. засеял свой участок на Полтавщине яровизированными семенами озимой пшеницы «украинка» и получил «полное и дружное выколашивание», давшее хороший результат в 24 ц урожая. Значит проблема неполного и растянутого выколашивания тогда стояла остро, если об этом опыте заговорили в печати.
Безусловно в том голоде, который потряс нашу страну, соединилось одновременно много причин. Аномально теплые зимы привели не только к неполному и растянутому колошению озимых, да, возможно, и яровых, которые также проходят стадию яровизации. Широкое распространение получили грибные заболевания, в первую очередь ржавчина, о чем были сообщения. Некоторые заболевания не могли быть в то время диагностированы, например, вирусные поражения. В истории нашей страны были примеры опустошительных последствий вирусных эпифитотий. Весной 1961 г. карликовость пшеницы, передаваемая цикадками, была причиной массовой гибели озимых в Краснодарском и Ставропольском краях (Развязкина, 1975). На Украине выявлено близкое вирусное заболевание пшеницы – бледно-зеленая карликовость. Эпифитотии наступают вслед за продолжительными теплыми осенне-зимними периодами. Как раз такие условия создались в неурожайные годы начала 1930-х гг. Нет необходимости говорить о политических причинах, усугубивших обрушившееся на страну несчастье; они обсуждались многими.
Сам феномен яровизации – необходимость пониженных температур в жизни многих растений для нормального прохождения ста-цветения – был известен и до Т. Д. Лысенко. Д. Чамовиц отмечает, что об этом, например, было написано в отчете Департамента сельского хозяйства штата Огайо за 1857 г. Но в то время понятие наследственности еще только устанавливалось, а генетики как науки не существовало. Поэтому отмеченное явление оставалось лишь фактом. Скорее всего и практической значимости в данных по яровизации, что в США, что в Западной Европе не было. В отличие от СССР эти территории не находились в зоне рискованного земледелия, в которой урожаи в разные годы могут различаться на порядок и более. Неурожаи ведут к голоду, но и большие урожаи доставляют одни проблемы из-за неготовности к приему и хранению урожая.
Немецкий ученый Гаснер пришел к заключению, что озимые сорта нуждаются в холодовом воздействии в своем раннем развитии. Заслуга Т. Д. Лысенко в том, что он всесторонне изучил процесс яровизации, показал, что он необходим для всех полевых культур и яровых, и озимых, выявил сроки и пороговые температуры холодового воздействия для успешного прохождения стадии яровизации, открыл световую стадию в развитии растений и разработал технические приемы яровизации при весеннем посеве озимых. Важно подчеркнуть, что до этого в яровизации видели лишь физиологический феномен и никто не связывал ее с наследственностью. Эту связь выявил Т. Д. Лысенко. Изучение яровизации заставило его усомниться в некоторых положениях генетики и привело к разработке собственного учения о наследственности.
Итак, какое отношение открытие Т. Д. Лысенко имело к генетике? Оказывается самое прямое. Генетики в то время утверждали, что гены являются самостоятельными и независимыми определителями фенотипа. Благодаря открытию Т. Д. Лысенко оказалось, что и на гены есть управа со стороны среды. В 1928 г. он показал, что фактор среды, несвойственный природе растения, его наследственности, может нарушить нормальный ход развития, т. е. с точки зрения генетики заблокировать работу генов.
Другой вывод, который следует из его работы также очень интересен. Оказывается фактор среды может определять физиологические процессы не сразу, но по истечении некоторого времени после воздействия этого фактора на растение. Холодовое воздействие на стадии семян или проростков сказывается на наследственные особенности, проявляющиеся в развитии в конце жизни растения. Значит, растения все это время между воздействием фактора и морфологической ответной реакцией на этот фактор должны были помнить о событии их ранней жизни. А раз речь идет о памяти, то должен существовать молекулярный механизм, эту память обеспечивающий. С генетической точки зрения речь может идти о передаче каких-то структур от материнских клеток дочерним при их делении в процессе развития от семени до взрослого растения. Этот механизм не связан с изменениями генов и, следовательно, является функцией фенотипа. Отсюда логично заключить, что структуры, обеспечивающие память о былом холодовом воздействии, и передающиеся от материнской клетки дочерним, не являются генами. Так ли рассуждал Т. Д. Лысенко или по-другому, но он пришел к заключению, что наследственность определяется не только генами, но и какими-то фенотипическими механизмами, рассматриваемыми в их неразрывном единстве.
В то время об этих фенотипических механизмах ничего не было известно. Сейчас картина проясняется. Молекулярные механизмы яровизации (данные по Arabidopsis) связаны с изменением хроматиновой структуры (через деацетилирование и метилирование гистонов) гена Flowering locus С (FLC), который в активном состоянии является репрессором цветения. Это изменение начинается с деацетилирования двух лизиновых остатков (К9 и К14) гистона НЗ в результате индуцированной холодом экспрессии гена VinЗ (Vernalization insensitives 3). Деацетилирование гистонов, как правило, ведет к полному или частичному транскрипционному глушению соответствующих генов. В итоге создаются условия для метилтрансферазной активности белков, кодируемых генами Vrnl/Vrn2 (Vernalization). Эти белки метилируют лизиновые остатки в 9-м и 27-м положениях гистона НЗ в хроматине FLC (Sung, Amasino, 2004; 2005). Весной с наступлением тепла VinЗ прекращает экспрессию. Метилированные состояния НЗ в хроматине гена FLC устойчиво передаются при клеточных делениях и без участия VinЗ. В отсутствие экспрессии FLC начинает работать комплекс генов под общим названием флоральных интеграторов, регуляция которых определяется длиной светового дня (световая стадия Т. Д. Лысенко). Эти гены определяют пере-ход генеративной меристемы в цветковую. Реальная картина скорее всего намного сложнее, в особенности если иметь в виду пшеницу, сроки яровизации которой по разным сортам колеблются от нескольких дней до двух месяцев и разнятся по пороговым температурам.
Могут сказать, какое отношение ко всему этому имеет Лысенко, если в процессах яровизации участвуют все те же гены, что все упирается в их активность. Т. Д. Лысенко ничего не хотел слышать о генах. Коль скоро Т. Д. Лысенко субстратом наследственности признавал клетку, то уже по этой причине он не мог отрицать значимость в явлениях наследственности хромосом и генов. В нашем случае речь идет собственно не о генах, но о влиянии условий среды на эволюционно сложившийся аппарат управления генами, в частности через процессы модификации гистонов. Эти процессы наряду с другими (например, метилированием ДНК) несут функцию управления генами и, следовательно, в том или ином виде должны передаваться или воспроизводиться при делении клеток. Речь, таким образом, идет об особом типе наследственности, получившей название эпигенетической. Соответственно материальный субстрат эпигенетической наследственности, т. е. упомянутый выше аппарат управления генами через процессы модификации хроматина, был назван эпигеномом. Обычные факторы среды не могут изменять гены, но они способны изменять и, следовательно, нарушать работу эпигенома, который, как было сказано, является особым субстратом наследственности наряду с геномом.
В том же 1928 г., когда Т. Д. Лысенко заявил о своем открытии, Е. А. Богданов опубликовал результаты своих исследований по воздействию на личинок синей мясной мухи различных отравляющих веществ, а также низких температур и других критических факторов. Вышедшие мухи показывали примеры различных уродств, которые в тех немногих случаях, когда удавалось скрестить мух, давали уродливое потомство. В кругах генетиков эта работа получила резко отрицательную оценку. А. С. Серебровский писал (1929, с. 53): «… исследования профессора Е. А. Богданова, несмотря на большое количество труда, положенного на его проведение, представляет собой в своих выводах более чем сомнительное произведение…». По существу результатов ничего не было сказано. Между тем в опытах Ученого речь скорее всего шла о нарушениях работы эпигенома, продолжавшиеся какими-то нарушениями в потомстве мух. В тот же год были опубликованы результаты опытов П. П. Сахарова о влиянии голода на наследственные изменения у комнатной мухи. По тому, что сейчас известно, эти опыты также вписываются в эпигенетические механизмы. Продолжения этих опытов не было, хотя не мешало бы их проверить на теплокровных. К сожалению, все такого рода работы выходили под шапкой ламаркизма. А ламаркисты тех дней вдруг оказались главной идеологической угрозой марксистской диалектики в биологии и им вскорости стало не до опытов (см. гл. 5).
Исходя из своих работ по яровизации Т. Д. Лысенко подошел к принципиально новому пониманию наследственности. Если существуют факторы среды, препятствующие нормальному ходу развития, т. е. нормальной работе генов с точки зрения генетики, то можно в первом приближении отсеять эти факторы среды. Тогда останутся факторы, при которых развитие растения осуществляется без нарушений и наследственные задатки растения реализуются полностью Появляется объективная основа для сравнения наследственности родственных форм. В итоге Т. Д. Лысенко ([1943] 1948, с. 343) предложил следующее определение наследственности: наследственность есть «свойство живого тела требовать определенных условий для своей жизни, своего развития и определенным образом реагировать на те или иные условия». Речь следовательно идет об условиях существования, к которым растение приспособлено.
Могут сказать, какое же это определение наследственности, если в нем ничего не сказано о наследственной передаче признаков в ряду поколений. Можно легко убедиться, что условие наследственной передачи будет автоматически выполняться для тех условий, к которым растения приспособились. Ведь именно для этих условий наследственность реализуется полностью. Если растение озимой пшеницы не выколосилось из-за аномально теплой зимы, это же не говорит, что это растение обладает иной наследственностью в сравнении с теми же растениями пшеницы, прошедшими яровизацию. В явлении наследственности значение имеет не только передача наследственных потенций в ряду поколений, но и то, насколько эти потенции будут реализованы в развитии организма. А отсюда возникает задача определения нормальной (полной) наследственности. Поэтому Т. Д. Лысенко и предлагает говорить о наследственности, рассматриваемой лишь относительно той совокупности факторов среды, к которым организмы приспособлены, чем и будет определяться полнота раскрытия наследственных задатков.
Встает вопрос, что можно сказать о наследственности, рассматриваемой в отношении тех условий, к которым у растений еще нет приспособленности. Будет ли она отличаться от нормальной наследственности и в чем. Во времена Т. Д. Лысенко ответа на этот вопрос не было; да и сейчас мы мало что можем сказать по этому поводу. Но одну возможность советский ученый предложил. Несвойственные природе организма факторы могут нарушать нормальный ход развития. С точки зрения генетики это означает, что соответствующие факторы могут частично и полностью заблокировать работу нужных генов или, наоборот, включить гены, работа которых в данный момент не нужна. А это в свою очередь может привести к нарушению работы других генов. Контроль за этим лежит на эпигеноме. Иными словами, под действием среды возможно нарушение эпигенома, что будет выражаться в дезорганизации нормальной работы генов. Эти процессы можно назвать наследственным дисбалансом. Упомянутые выше работы Е. А. Богданова и П. П. Сахарова были как раз связаны с изучением наследственного дисбаланса. Почему использовано такое название, а не словосочетание «генетический дисбаланс»? Чтобы не создалось ложного впечатления, что речь идет о каком-то нарушении генов. Эпигенотип по разработанной генетикой системе понятий не является генотипом и, следовательно, представляет собой одну из составляющих фенотипа.
Ничего этого в классической теории гена нет. Гены там понимаются как действующие в автоматическом режиме. Функция среды заключается лишь в том, чтобы с упреждением или по факту включать нужные гены. А том, что среда может не включить нужный ген или, наоборот, включить, но не в том месте и в ненужное время, об этом генетики в то время просто не думали.
Не все, возможно, согласятся с такой предельно положительной оценкой научных достижений Т. Д. Лысенко. Но если его вклад в развитии науки признан зарубежными специалистами (см. подробнее Животовский, 2014), то почему наши ученые не хотят поддержать их в этом. Более того, говорят о Т. Д. Лысенко как о создателе лженаучного направления, предлагая тем самым вычеркнуть из перечня открытий то, которое он сделал. В этой связи могут напомнить об августовской сессии ВАСХНИЛ и разгроме генетики, в котором так или иначе был замешан Лысенко. А что пишет по этому поводу Даниел Чамовиц? Читаем (2015, с. 172–173): «Советское руководство было настолько воодушевлено работами Лысенко, что с 1948 по 1964 год несогласие с его выводами было противозаконно».
На мой взгляд вполне трезвая и взвешенная позиция зарубежного ученого в отношении нас. Более того, создается впечатление, что американский ученый, прежде чем писать о Т. Д. Лысенко, изучил постановление августовской сессии. А в нем сказано, что мичуринская биология поддерживается на государственно уровне, т. е. становится в нашей стране нормативной наукой, которую критиковать как дисциплину нельзя. О чем и сказал Д. Чамовиц. Второе, что следует из его оценки, касается меры ответственности: не ученый Лысенко повинен в бедах генетики, но советское руководство. Если правительство поддержало Т. Д. Лысенко, то на это были какие-то важные политические причины. Их надо в первую очередь понять, а потом уже выяснять роль в этом деле Лысенко и других действующих лиц из числа ученых.
Д. Чамовиц (с. 172) отметил, что Т. Д. Лысенко «отверг классическую генетику Менделя… и продвигал идею о формировании характеристик организма под воздействием окружающей среды…Он также утверждал, что эти приобретенные свойства передаются последующим поколениям». Д. Чамовиц, однако, не увидел в этих воззрениях чего-то странного, что следует непременно осудить и тем более доказывать, что Лысенко ошибался. Не он один придерживался этих ламаркистских взглядов. Они связаны с определенной традицией, которая насчитывает уже более двухсот лет. Мы почитаем ушедших ученых не за их ошибки, но за положительны знания, которые двигают науку вперед. Это в равной мере касается и критиков. Какие положительные знания принес бы в науку Д. Чамовиц, если бы показал в очередной раз, что в отношении Менделя и его открытий Лысенко определенно намудрил. Безусловно этот момент может заинтересовать историков науки, если они захотят выяснить действительные причины принятия большим ученым такого решения, а не будут заниматься политическими обвинениями и уличать его в безграмотности и других грехах.
Так может быть причина борьбы с Лысенко не имеет никакого отношения к науке, а связана с политической борьбой в верхах. Политическое руководство в СССР поддержало Т. Д. Лысенко. Но оно в то время руководствовалось директивами и установками тов. Сталина. Так может быть главной мишенью борьбы в биологии был не Лысенко и тем более не научные разногласия в области генетики, но фигура Сталина. Т. Д. Лысенко и Сталина объединяло то, что оба они были ламаркистами. О ламаркистских взглядах Т. Д. Лысенко напоминает Д. Чамовиц в приведенной нами выше цитате. Но мы и без этого напоминания знаем об этом.
Если Сталин в 1906 г., не будучи биологом, касается борьбы между ламаркистами и неодарвинистами, вставая однозначно на сторону первых, то это означает, что эти далекие от революционной деятельности вопросы активно обсуждались в социал-демократической среде, коль скоро Сталину не требовалось пояснять для своих, кто такие ламаркисты и неодарвинисты. Должны знать это. Позиция Сталина не была на тот момент общепринятой и наверняка обсуждалась среди большевиков, меньшевиков и других групп революционеров как в России, так и за рубежом.
Тогда в борьбе генетиков и ламаркистов в СССР многое становится понятным. Во второй половине 1920-х гг. группа марксистских диалектиков, возглавляемая А. М. Дебориным, вдруг объявила, что главная идеологическая опасность в биологии исходит от ламаркистов, механистически извращающих основы материалистической диалектики. И это при том, что несколькими годами ранее большинство из них придерживалось ламаркистских взглядов. Так, может быть, главной мишенью в этих обвинениях ламаркистов был неназванный Сталин, который мог именно так расценить это дело, когда понял, что за этими обвинениями стоят политики. А. М. Деборин, судя по его работам, был крайне осторожным в своих выводах философом. Учитывая свое меньшевистское прошлое, он, судя по всему, хотел бы остаться вне политической борьбы и не выступал с новыми идеями, которые можно было бы расценить как новое развитие марксистской диалектики. Но его соратники вынуждены были перестроиться в борцов с ламаркизмом, т. е. выступить с идеологическими обвинениями Сталина. Результат известен: сторонники А. М. Деборина были осуждены как меныпевиствующие идеалисты (эта тема подробно будет обсуждена в следующей главе).
Когда А. Р. Жебрак в конце войны выступил против Т. Д. Лысенко, обвиняя того в числе прочего в ламаркизме, то тем самым он подрывал авторитет Сталина как вождя советского народа. Что это за вождь, который ошибается и не признает своих ошибок.
Сталин не вмешивался в споры самих ученых. Напомним, что все 1930-е гг. шли ожесточенные споры между генетиками и сторонниками Лысенко, которых обвиняли в ламаркизме. Сталин не принимал борьбу с ламаркизмом на свой счет: ученые занимались поиском истины. Но когда он увидел, что повторяется ситуация конца 1920-х гг., что за выступлением А. Р. Жебрака против ламаркизма стоят политики, то это он принял на свой счет. Если политики в научном споре поддерживают одну из сторон, значит преследуют какие-то свои далекие от науки цели. Итогом была августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. Сталин, как мы знаем, заставил политиков, до этого побуждавших ученых выступить против Лысенко, встать на сторону последнего против тех ученых, которые им (политикам) доверились.
С точки зрения рассматриваемого сценария общий вывод о трудных годах советской биологии будет совсем другим: политическая борьба против Сталина, в которую партийные функционеры вовлек ли ученых биологов, обернулась для последних и биологии в целом тяжелыми потерями. Т. Д. Лысенко – трагическая фигура в нашей биологии, оказавшийся в состоянии перманентной войны по любым в том числе и просто надуманным поводам из-за полученной им поддержки со стороны Сталина. Но судьба его антипода – Н. К. Кольцова, которого не жаловали власти, представляется еще более трагичной.
4. 6. Н. К. Кольцов
С. Э. Шноль в очерке о Н. К. Кольцове (2010, с. 156) говорит о нем как одном из выдающихся биологов первой половины XX века. «Своей нравственной позицией, своим, в точном смысле слова, героическим поведением он служит эталонам, примером мужества и бескомпромиссности в отстаивании истины. Кольцову – пишет С. Э. Шноль (с. 156) – принадлежит «главная идея XX века в биологии» – идея матричного размножения биологических макромолекул. Мало кто за пределами России знает это. Мне это важно не из чувства «национальной гордости», а как свидетельство уровня науки в нашей стране. Уровня, так и оставшегося нереализованным из-за партийно-государственного давления. Когда я учился на Биологическом факультете Московского университета в 1946–1951 гг., имя Кольцова публично не произносилось. О том, что в стране был великий биолог Кольцов, мы, студенты, не знали. Объясняется это бесстрашной принципиальной позицией Кольцова в 1930-е годы. Он не сдался. Он погиб непобежденным» (выделено нами).
Этот пример как раз и подтверждает сказанное мной. Наука, чтобы там не говорили против, национальна, поскольку делается патриотами своей страны. Наши власти отказались поддержать своим авторитетом роль советского ученого. А возможности для этого всегда были и есть, например, через организацию посольствами юбилейных выставок. Но кто же будет это делать, когда о Кольцове пишут, что «он не сдался» партийно-государственным властям и «погиб непобежденным» (Шноль, 2010, с. 156; см. также Гайсинович, Россиянов, 1989). Я читаю эти строки и не могу понять, за что боролся Н. К. Кольцов с властями? За новые научные идеи? Но зачем перед властями бескомпромиссно отстаивать свои идеи? Для этого есть научные журналы. Насколько я знаю, Н. К. Кольцов широко публиковался как в нашей стране, так и за рубежом.
Лишь из дальнейшего изложения главы становится понятно, что бесстрашная принципиальная позиция Н. К. Кольцова связана с его работами по евгенике. В нашей стране, пишет С. Э. Шноль (2010, с. 156), «евгенику в 1930-е годы демагогически стали отождествлять с фашизмом – с расизмом». Я не могу согласиться со сказанным, поскольку именно народы нашей страны стали жертвой геноцида, обосновываемого фашистами по евгеническим соображениям.
Вот как была изложена позиция руководства страны по вопросу евгеники в докладе академика Н. П. Горбунова на общем собрании АН СССР 20 мая 1937 г. Его слова были адресованы руководству Института генетики, возглавлявшемуся Н. И. Вавиловым. «… некоторые теоретические положения представителей так называемой классической… школы генетиков являются по своему социальному (политическому) содержанию научной базой фашистской политики о неравноценности отдельных рас, национальностей, народностей и противоречат национальной политике коммунистической партии и советской власти, зафиксированной в Сталинской конституции… Генетический институт Академии наук не только не раскритиковал фашистские бредни проф. Кольцова, но даже не отмежевался от его “теорий”, льющих воду на мельницу расистских теорий фашизма» (цит. по: Соловьев, 1994).
Все работы Н. К. Кольцова по евгенике вышли до того, как к власти в Германии пришли фашисты. Расистские теории фашизма напрямую касались народов, населяющих нашу страну, в первую очередь русского народа, рассматривавшегося фашистами в качестве низшей агрессивной расы, подлежащей искоренению. Для обоснования этих расистских измышлений о народах нашей страны фашисты использовали некоторые, как теперь выяснилось, ошибочные положения генетики, которые были некритически восприняты евгеникой как принципиальные установки в их планах по улучшению человечества. Но ведь фашисты также планировали улучшить человеческий материал, в частности, собирались освободить человечество от плохих генов, которые несут не поддающиеся европейской Цивилизации «мусорные народы», используя лишь более радикальные средства, включая геноцид.
В нашей стране в 1930-е гг. в вавиловском институте генетики работал американский генетик Герман Джозеф Мёллер, ставший впоследствии нобелевским лауреатом. Мёллер не занимался евгеникой. Тем не менее 5 мая 1936 г. он обратился к Сталину с письмом о необходимости практического развертывания евгенических исследований в СССР. Кто надоумил и уговорил Мёллера ходатайствовать перед руководителями Советской страны в пользу евгеники. Предположительно, это мог быть американский генетик Чарльз Давенпорт или кто-то из его окружения. Давенпорт – главный авторитет в области евгеники, видимо, в желании получить государственную поддержку 17 декабря 1936 г. обратился к Государственному секретарю США с письмом, в котором указывал на приоритет русских в развитии евгеники, от которых американцы будто бы отстали. Вот что он конкретно писал госсекретарю (Вавилов Ю., 1992, цит. по: Романовский, 2004, с. 59): «Я часто рассказываю американским студентам по специальности “генетика человека” о том, что Россия ушла далеко вперед по сравнению с США в этих исследованиях». А в это время Мёллер предпринял аналогичную попытку привлечь внимание к евгенике у нас.
Поставьте себя на место руководителей СССР, которые вдруг узнают, что их страна по части евгенических разработок впереди всей планеты, что это оказывается в СССР активно разрабатывалась научная база фашизма. Что это не генетики СССР бездумно копировали дурной опыт запада, но наоборот, по авторитетному мнению западных ученых, именно СССР был главным разработчиком «научного» обоснования фашистской идеологии по искоренению неперспективных народов. И это при том, что в СССР в отличие от США и фашистской Германии не проводили евгенических экспериментов над собственным народом. А потом удивляемся, почему западные интеллектуалы ставят СССР и фашистскую Германию в один ряд. Но ведь это мы сами им поддакиваем, как же – они нас похвалили по части вклада наших ученых в мировую евгенику.
Советское правительство, на мой взгляд, поступило мудро, запретив в нашей стране евгенику и открыто объявив об этом всему миру. Нашему примеру вынуждены были последовать и США, которые стали сворачивать свои евгенические проекты, раз в СССР их сочли в качестве однозначно фашистских.
Между тем вину за эти решительные действия Советского правительства часто возлагают на Т. Д. Лысенко. Вот строки из письма д. р. Жебрака секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову (цит. по: Сонин, 2000; см. также Шаталкин, 2015, с. 264–265): «Не приходится сомневаться, что если бы не грубое административное вмешательство со стороны ак. Лысенко… и не опорочивание генетики, которая была объявлена социально реакционной дисциплиной со стороны руководства дискуссией 1936 г. и дискуссией 1939 г., то в настоящее время мы были бы свидетелями огромного расцвета генетической науки в СССР и ее еще большего международного авторитета». Вообще-то социально реакционной была объявлена евгеника. Но научной базой евгеники являлась генетика. По данным А. С. Сонина, письмо было отправлено в конце 1944 г. или в самом начале 1945 г. Поэтому А. Р. Жебрак был не прав, обвиняя Т. Д. Лысенко и организаторов дискуссий в том, что из-за них остановилось развитие советской генетики. Тяжелая война нашей страны с фашистской Германией приостановила многие научные исследования, в том числе в генетике.
Вот еще одно мнение (Романовский, 2004, с. 59): «Поразительно то, что Лысенко – тщедушный (в научном смысле) человек – сумел не только практически остановить развитие биологической науки, генетики прежде всего, но и отбросить ее на долгие десятилетия на задворки мировой научной мысли». Как пример, подтверждающий эту мысль, С. И. Романовский приводит далее выдержку из письма Чарльза Давенпорта госсекретарю о будто бы имевшем место первенстве советских ученых в евгенике. Мы уже обсуждали это письмо американского ученого. Но Т. Д. Лысенко обвиняется в еще большем грехе, а именно в том, что он, ничего не сделав в науке, отбросил на долгие десятилетия советскую биологию «на задворки мировой научной мысли». Вот Вам и ответ на вопрос С. Э. Шноля (2010, с. 12): почему же так мало наших имен в перечнях открытий и научных сенсаций? Лысенко виноват, говорит С. И. Романовский.
А как сам С. Э. Шноль отвечает на поставленный им вопрос. Его мнение о негативной роли партийно-государственного давления мы уже приводили. В развернутом виде он дает следующий ответ (с. 12): «Велик и ярок творческий потенциал многих жителей моей страны. Но десятилетия и столетия очень – очень немногим удавалось реализовать свой потенциал. В результате великая страна теряет свое место в мире. А при всем этом многие жители России стали знаменитыми после эмиграции в другие страны. Достаточно назвать Ипатьева, Сикорского, Леонтьева, Добржанского, Гамова, Ваксмана. Меня волнует это. Я хочу, чтобы российские имена звучали не только после эмиграции в другие страны. Я пытаюсь найти всему сказанному объяснение. Оно, это объяснение – в истории страны» (выделено нами). И это все. Правда, во Введении, следующем после Предисловия, С. Э. Шноль начинает с утверждения, что вся история России (включая историю СССР) была историей тоталитарных режимов. Можно предположить, что отсутствие наших имен в перечнях открытий и научных сенсаций является следствием практикуемой в тоталитарных режимах политики подавления свободы. И примеры шести наших соотечественников, добившихся на свободном западе больших успехов на научном поприще, как бы подтверждают это заключение. В СССР истинному ученому было трудно пробиться. Как результат, процветали псевдоученые и научные шарлатаны.
На самом деле неверна исходная посылка – что будто бы в СССР и в России «немногим удавалось реализовать свой научный потенциал». По своему экономическому потенциалу СССР вышел после войны на второе место после США. Следовательно, по крайней мере на ключевых направлениях научного поиска мы не должны были отставать от США. Безусловно могли быть случаи, когда из-за трагического стечения обстоятельств тем или иным ученым не удавалось реализовать свой научный потенциал. Но в целом наука в нашей стране развивалась. И я, проработавший в качестве советского ученого двадцать лет, могу твердо утверждать, что в избранной мной области мы нисколько не отставали от запада, а по части новых идей были, возможно, вне конкуренции. Если, конечно, рассматривать все многоцветие нашей науки, а не только ведущие в данный исторический отрезок времени направления.
Что касается генетики, то с самого своего возникновения она взяла курс на подавление всех других подходов к пониманию явления наследственности. И это не проходит бесследно. Вот строки из письма Н. К. Кольцова к президенту ВАСХНИЛ А. И. Муралову. «Нам – говорил Н. К. Кольцов – и сейчас стыдно за то, что мы ничего не можем сделать против тех антинаучных тенденций, которые считаем вредными для страны…потому-то я не хочу и не могу молчать…». Н. К. Кольцов и, видимо, другие генетики считали ламаркистские воззрения Т. Д. Лысенко вредными для страны. Здесь напрашивается два вопроса. Почему чьи-то воззрения, даже если они ошибочные являются вредными для страны? И почему о научных разногласиях надо писать А. И. Муралову и в партийные инстанции? Уже-ли партийно-государственные инстанции решат за ученых, кто прав их научных спорах. Безусловно не решат. Значит, расчет делается на то, что эти инстанции поверят одной из конфликтующих сторон и волевым решением запретят «антинаучные тенденции», вредные для страны по уверению какой-то группы ученых.
Когда С. Э. Шноль (2010, с. 165), приводя эти слова Н. К. Кольцова в письме А. И. Муралову, называет их замечательными, то у него нет ни малейшей тени сомнений в том, что ученый может ошибаться. И даже если бы Н. К. Кольцов был прав в части научной, остается политический аспект проблемы, который в таких деликатных делах, как взаимоотношения с другими учеными, неминуемо возникнет. Зачем со своей критикой, пусть и верной, выступать в области знания, в которой ни ты, ни твои коллеги не работают и не собираются работать. Зачем нести смуту в чужое дело, прикрываясь заботой о стране. Селекционеры сами между собой разберутся, так ли они работают или надо строить работу по-новому. Тем более, что их деятельность не является отвлеченной, но жестко нацелена на конкретный практический результат – получение более урожайных и более зимостойких сортов.
Причины неэффективности науки не в кознях конкретно Т. Д. Лысенко, но в попытках отдельных групп ученых стреножить научную мысль, присвоив себе монопольное право говорить от имени науки, кто в ней прав, а кто не прав. Добиться для себя такого права судить других, можно, лишь получив поддержку властей (административный ресурс). Поэтому они и писали письма в партийные инстанции против других ученых, которые не разделяли их взглядов. Эта борьба, особенно если она умело разжигается верхами, отнимает у ученых не только время и силы, но и лишает их разума.
Поэтому если бы Н. К. Кольцов и хотя бы часть генетиков, занимающихся академическими темами, например, тот же Н. П. Дубинин сказали, что Т. Д. Лысенко имеет право на свое особое мнение и мы это мнение уважаем, и на этом основании отказались бы участвовать в сессии ВАСХНИЛ 1936 г., то в этом было бы больше пользы для развития отечественной генетики. И на критику генетики со стороны Т. Д. Лысенко и поддерживающих его философов можно было бы ответить: согласны и пересмотрим с учетом критики натурфилософские положения западной генетики. И на этом пути наши генетики могли бы совершить прорыв и действительно занять передовые позиции в мировом сообществе ученых. Но история распорядилась иначе.
Дело в том, что после революции в науку пришло много революционеров, по своим внутренним убеждениям нетерпимых к инакомыслию. Вот вторая главная причина борьбы между учеными на уничтожение своих противников, борьбы, обескровливавшей нашу науку (третья причина – иностранное вмешательство). Сначала диалектики, ведомые историком М. Н. Покровским и марксистским философом А. М. Дебориным, начали борьбу за перестройку естествознания на основе марксистской диалектики. В рамках этой кампании они предприняли наступление на механицизм (антидиалектику) ламаркизма и вроде бы искоренили это лженаучное учение в умах академических и университетских ученых. Затем выяснилось, что для позиции диалектиков «характерна недооценка Ленина как философа, как теоретика, непонимание того, что в ленинизме мы имеем новый этап в развитии диалектического материализма. Вместо использования в естествознании философских работ Ленина – Маркса-Энгельса… во многих коренных философских вопросах, в вопросах диалектики природы мы имеем скатывание на позиции идеалистической гегельянщины» (Токин, 1931, с. 12–13). Эта позиция «игнорирования Ленина как теоретика, как философа» при одновременном преклонении перед Гегелем была осуждена как меньшевиствующий идеализм. Борьба с ламаркизмом «биологов и особенно генетиков, оказавшихся в плену буржуазных идей и скатившихся… к меньшевиствующему идеализму» (с. 9), оказалась в силу этого неэффективной. Возникла настоятельная необходимость вести «борьбу на два фронта в биологии с упором в сторону механистов. Механистическая ревизия диалектического материализма в области биологии является дополнением к общей цепи механистических извращений марксизма-ленинизма, что давало и дает теоретическое обоснование правому оппортунистическому уклону» (там же, с. 17). А позиция диалектиков группы А. М. Деборина (куда, по данным Б. П. Токина, входили Агол, Левин, Левит и др. ) давала обоснование левому оппортунистическому уклону. Видите, как все завязано на политиках. Борьба последних между собой, втягивала в их разборки и самих ученых биологов.
В итоге борьбы в биологии на два фронта преодолели и меньшевиствующий идеализм и ламаркизм. [27] Но через несколько лет благодаря усилиям Лысенко ламаркизм вдруг заявил о себе в сельскохозяйственной науке. Начался новый этап борьбы биологов с ламаркистским поветрием. Но в итоге не смогли одолеть Лысенко и сами оказались в тяжелом положении. Потом, когда изменились приоритеты, одержали победу над Лысенко. Но логика революционной борьбу за истину задает свои стереотипы поведения. И после победы над Лысенко начали с той же революционной непримиримостью делить победу между собой.
Вот что пишет по этому вопросу С. И. Романовский (2004): «Как считает свидетель событий тех лет, при Брежневе опять появился непререкаемый лидер, “безгранично честолюбивый” академик Н. П. Дубинин». Этим свидетелем событий был советский генетик В. П. Эфроимсон (1989). В интервью журналу «Огонек» он следующим образом охарактеризовал сложившуюся в генетике ситуацию:
«Честно говоря, я думаю, что в настоящее время советская генетика находится в худшем положении, чем во времена Лысенко. И это совершенно не случайно. Большая статья академика Г. П. Георгиева в “Правде” очертила многими горькими словами современное состояние генетики, но в ней не дано никаких объяснений тому поразительному факту, что диктатура Лысенко была свергнута в конце 1964 года, а “воз и ныне там”».
«А почему за это время – спрашивает ведущий интервью – отечественная генетика не смогла восстановить свою былую силу? Почему этого не произошло?» Читаем ответ:
«И не могло произойти!… В любой отрасли науки, в том числе и в биологии, должно всегда развиваться несколько направлений. В этом залог успешного развития науки. Как только появляется поддержка одного направления, как только один ученый становится вне критики, получает полноту власти, тут же возникает перекос, зажим других направлений, что в целом сказывается на исследованиях губительно. Вот почему монополизм в науке столь страшен – он ведет к неизбежной деградации. Первой книгой, посвященной истории генетики, оказалась выпущенная в 1973 году в Политиздате автобиография Николая Петровича Дубинина “Вечное движение”… В книге академика Дубинина история с Лысенко показана так, что и винить-то в сущности, было некого. В ней нигде, ни на одной странице вы не найдете слов о самом главном – о мошенничестве и фальсификациях. Такое ощущение, что Лысенко искренне заблуждался… Борьба Лысенко с генетиками – вроде как научный спор. Это был прекрасный подарок Суслову, которого при моей постановке вопроса могли бы и лично спросить: “А где же вы сами-то были?” Так начался новый этап отечественной генетики. Место лидера в ней отдали Николаю Петровичу Дубинину. Недаром его книгу “Вечное движение” в генетической среде переименовали в “Вечное выдвижение”… Вот профессор Лопашов в “Литературке” пишет: “Думаете, главное в лысенковщине – неверные научные представления? Если бы. Они вполне устранимы. Главное – стремление любыми путями захватить власть, командные высоты в науке”…
Я недавно встретился с одним зарубежным коллегой и спросил его, знает ли он, что в Советском Союзе имеется “Лысенко № 2”. Без всяких раздумий он ответил: “Дубинин”. Мне оставалось лишь кивнуть головой» (выделено нами).
Из текста интервью все предельно ясно, что произошло. Добили в конце концов Лысенко, но тут же появился новый дракон советской науки – академик Н. П. Дубинин. Начали воевать с ним. Так что дело не в личности Лысенко, если Дубинин стал вторым Лысенко в плане войн между учеными. А ведь если почитать публикации некоторых ученых, то выяснится, что в нашей генетике перед перестройкой появился «Лысенко № 3».
«В любой отрасли науки, в том числе и в биологии, должно всегда развиваться несколько направлений» – говорит В. П. Эфроимсон. Но зачем же тогда в советской науке искореняли ламаркизм? Оказывается ламаркизм – лженаучное направление в науке. А кто решает, где наука, а где лженаука. Оказывается сами ученые. Круг замкнулся.
В чем причина перманентной борьбы в генетике. Причину мы назвали – приход в науку революционеров, для которых наука стала ареной бескомпромиссной борьбы за идеологическую «истину»-«Многие генетики – пишет С. И. Романовский (2004) о довоенной ситуации – почувствовали, что сила побьет-таки знания, и дрогнули. Н. П. Дубинин напоминал комсомольского вожака, он с легкостью наклеивал ярлыки идеалистов и на Вавилова и даже на сторонников Лысенко. Н. К. Кольцов обвинил Вавилова в том, что тот… не знает генетики. Г. К. Мейстер восхищался “силой доводов” Лысенко и бил ими своих же товарищей. Это, как пишет Э. Д. Маневич (1991), “не укладывается в голове”».
Я как сторонник учения К. Маркса об определяющей роли материального фактора в жизни людей считаю, что в целом не за научные идеи боролись в нашей стране ученые, но за «кресла» и другие материальные преференции, в этой борьбе большую роль играли групповые интересы, на которые также возлагали надежды, что в конечном итоге они могут вылиться в нечто полезное для человека. Сам С. Э. Шноль с этим согласился, когда сказал, что многие ученые с готовностью переходят на работу научными критиками, поскольку она проще и предполагает меньшую научную ответственность. В настоящем научном поиске ты можешь «ославиться», сказав что-то не так. Поэтому надежнее заниматься чем-то известным. В этом можно видеть еще одну причину того, что не так много имен советских биологов получили мировое признание.
ГЛАВА 5. Кто и почему назначил ламаркизм в качестве главной идеологической опасности в биологии?
5. 1. Политика и наука в СССР
Стратегия победы в политике – в идейном единстве, стратегия победы в науке – в идейном разномыслии (идейном разброде). Послереволюционный приход в науку революционеров (политиков) в силу отмеченных разнонаправленных тенденций в развитии политики и науки привел к тем трагическим событиям в жизни советского общества, понять которые мы пытаемся в данной книге.
Именно революционеры начали наставлять специалистов, что они не так, как положено идейным советским ученым, работают. По ним, А. Г. Гурвич враждебен советской науке, поскольку протаскивает вульгарный механицизм, сдобренный изрядной долей идеализма, Л. С. Берг не подходит, поскольку также внедряет чуждый нам идеализм в форме витализма; их обоих покрывает своими рассуждениями идеалист А. А. Любищев; Н. И. Вавилов погряз в механицизме лотсианского толка, Н. К. Кольцов ([1928] 1936, с. 463) проповедует «машинистический детерминизм», видя в клетке всего лишь физико-химическую машину, механоламаркисты Е. С. Смирнов, Ю. М. Вермель и Б. С. Кузин стоят на позициях еще одного механистического искажения материализма; в механицизме обвинялся также М. М. Завадовский; оказалось, что генетики Ю. А. Филипченко и А. С. Серебровский проповедуют идеалистическую концепцию автогенеза и, кроме того, вместе с М. Л. Левиным защищают реакционера Вейсмана, Б. М. Завадовский под видом борьбы на два фронта, против механицизма и идеализма, за подлинную марксистскую диалектику на самом деле смущает умы учащейся молодежи самой настоящей эклектикой. Даже такие научные авторитеты, как И. П. Павлов и покойный И. И. Мечников подверглись идеологической проработке, первый, в частности, за отрицание качественной грани между физиологией и психологией.
Как же в такой ситуации идеологического осуждения практически всех видных биологов того времени не поскользнуться начинающему ученому, не ошибиться в выборе правильной линии научного поиска. Это какая же трудная задача стояла перед учеными – правильно понять диалектический материализм, если даже профессионалы в этом деле, марксистские диалектики, возглавляемые А. М. Дебориным и обучавшие по общему мнению правильному материализму ученых-естественников, сами оказались идеологически не совсем правильными.
В стране, значительная часть населения которой считала себя революционерами, в том числе в деле построения нового социалистического общества, приход политиков в науку был неизбежен. Как, кстати, и сама революция в нашей стране была неизбежностью из-за непреодолимого иностранного вмешательства. И к этой неизбежности приходилось подстраиваться. С. Э. Шноль (2010) говорит о конформизме ученых, пасующих перед властями. На самом деле, если и можно говорить о конформизме, то о конформизме перед неизбежным, перед непреодолимым. Ведь и тем, кто находился у власти, приходилось быть «конформистами» в условиях мировой вражды, действовать осмотрительно, с учетом неизбежности того давления, которое оказывалось на революционную Россию, а потом на строящийся Советский Союз, нацеленный на то, чтобы догнать передовые западные страны. Идейное единство в нашей стратегии выживания было неизбежностью. С. Э. Шноль безусловно прав, когда положительно оценивает этот так называемый конформизм в деле сохранения страны и науки.
Раз власть в России взяли революционеры, то они неизбежно пришли в науку. И с революционной решимостью стали строить советскую науку, искореняя буржуазные предрассудки, проявлявшиеся в идеализме, метафизике и других идейных грехах. Начавшись в 1920-х гг., эта война с научным мракобесием продолжается до сих пор. Через десять лет будем справлять столетие этой войны в науке. Какая же созидательная работа возможна во время войны? Она невозможна. Вот одна из главных причин нашего отставания в науке. На Западе ученые работают, а у нас они борются между собой за некие натурфилософские приоритеты и из-за этой натурфилософской свары у них просто не хватает времени на то, чтобы сделать хоть что-то нужное для науки.
Почему биология стала жертвой активности революционеров???
Э. И. Колчинский (1997, с. 39) пишет: «Среди естественных наук биология в наибольшей степени испытала воздействие жесткого административно-государственного управления наукой и оказалась восприимчивой к различным политическим и идеологическим влияниям. Расовая гигиена, евгеника, антропология в нацистской Германии и мичуринская биология в СССР показали, как ради политических целей наука идеологизируется и превращается в свою противоположность. Стремление понять механизмы подобного превращения породили обширную литературу о биологии в Германии при Гитлере и в СССР при Сталине» (выделено нами).
Понятно ради каких политических целей внедрялись в фашистской Германии расовая гигиена и евгенические проекты. В СССР некоторые ученые также носились с идеей создания через евгенические механизмы новых каст людей специально приспособленных к делу построения социализма. Советское правительство (в отличие от немецкого) осудило и, проявив свою тоталитарную сущность, запретило евгенику. Что касается мичуринской биологии, то ей на западе соответствовал ламаркизм. И здесь ситуация была прямо противоположной. На западе ламаркизм активно искоренялся и в конце концов прекратил свое существование как научное направление. Безусловно, что за этой политикой ведущих западных государств стояли вполне определенные политические цели. В СССР ламаркизм в форме мичуринской биологии до середины 1960-х гг. поддерживался правительством. Искать в этом какие-то политические причины нет необходимости. Советское правительство в равной мере поддерживало и любые другие науки и научные направления. Между тем в ранней истории советской науки был период, связанный с так называемой диалектизацией биологии, когда ламаркизм и ламаркисты подвергались гонениям. Здесь безусловно надо искать политические причины попытки искоренения ламаркизма в советской науке.
Мне понятно, что имел в виду Э. И. Колчинский, когда говорил о превращении в нацистской Германии евгеники в свою противоположность, т. е. в социальную антинауку. Но я даже гипотетически не могу представить, в какую антинауку могли превратиться ламаркизм, а после его искоренения мичуринское учение из-за вмешательства властей. Поэтому мне кажется надуманной попытка историка науки искать параллели в развитии биологии в Германии при Гитлере и в СССР при Сталине, видя их общий источник в тоталитаризме, якобы процветавшем в этих странах: «Особой популярностью при объяснении этого феномена [идеологизации науки и превращении ее в свою противоположность] пользуется концепция тоталитаризма, побуждающая исследователей искать черты сходства и различий в поведении научного сообщества в целом, его отдельных групп и ученых в условиях тоталитарного режима».
Итак, политические причины попытки искоренения в СССР ламаркизма нам пока не вполне ясны, но они напрямую связаны с проводившейся в конце 1920-х гг. диалектизацией биологии. Поэтому нам надо выяснить политические цели диалектизации биологии. Возможно, что мы найдем ответ на вопрос, который неявно поставил Э. И. Колчинский, не дав, правда, на него ответа. Почему именно «биология в наибольшей степени испытала воздействие жесткого административно-государственного управления наукой и оказалась восприимчивой к различным политическим и идеологическим влияниям».
На вторую часть вопроса легко ответить, если, конечно, говорить не о всей биологии, но лишь о дисциплинах, так или иначе связанных с эволюционным учением. В центре внимания последнего стоит изучение и вскрытие законов развития органического мира. В этом эволюционное учение сближается с марксизмом, передовым учением, уже открывшим закономерности развития общества. Успех пролетарской революции в России вселил уверенность в правильности марксистского учения в понимании путей общественного развития. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие философы и биологи, убежденные как бы самой практикой в преимуществах методологии марксизма, в первую очередь философии диалектического материализма, призывали к ее изучению и активному использованию в естествознании. «С материалистической точки зрения, – писал в своем пробном очерке контакта эволюционной теории и материалистической диалектики Б. М. Козо-Полянский (1925, с. 11) – со стороны учения о взаимоотношениях различных отраслей знания, биология стоит ближе всего других наук о природе к социологии, где материалистическая диалектика возникла и где она уже приобрела огромное влияние. Биология наиболее родственна социологии (в широком смысле слова) по свойствам своего объекта». Поэтому, перефразируя высказывание Каутского (там же, с. 12), как не ей использовать «прогресс в методах наблюдения и понимания явлений в области» социологии для «усовершенствования методов наблюдения и понимания явлений» в собственной области. И далее (с. 13): «. . в области общественных наук Маркс произвел революцию, а естествознание ждет своего Маркса (Тимирязев-сын) – ждет своего обновления в духе материалистической диалектики».
Можно понять Б. М. Козо-Полянского и других биологов, связывавших обновление биологии с диалектическим материализмом. Плохо лишь то, что борьба за материалистическую биологию началась раньше времени, когда в биологии еще не появился свой Маркс, в отстаивании идей которого можно было бы сплотиться. Сами биологи не обладали необходимым запасом знаний и авторитетом, чтобы разобраться в истинных замыслах политиков, пришедших в биологию: не преследуют ли те какие-то свои политические цели, далекие от научных интересов, побуждая биологов выступать против тех или иных направлений в науке. Вот и мы задались вопросом, почему вся история биологии в СССР шла и продолжает идти в постсоветской России под знаменем борьбы с ламаркизмом.
Б. М. Козо-Полянский ясно выразил надежды биологов найти в диалектическом методе ключ к успешному решению проблем биологии. А какую цель могли преследовать политики, поддерживая эти настроения у биологов в огромном эвристическом значении марксистской методологии?
Политики, поддерживающие те или иные группы ученых, конечно, борются не с самими учеными, но с такими же политиками, которые волей судеб оказались у власти. И прямо напрашивается мысль, что они пришли в науку, чтобы «заловить» в свои идеологические сети ученых, в большинстве своем крайне наивных, верящих, что все без исключения политики только и думают о рабочих и о том, как сделать тех счастливыми. Почитайте тогдашние выступления. Все говорили о деле рабочих много, но кто может сказать, что они при этом думали на самом деле. Ведь тот же Ю. А. Филипченко открыто выражал опасения, что приход рабочих в науку приведет к ее деградации, и в связи с этим ратовал за необходимость евгенической поддержки научной элиты. Значит, все это с еще большей откровенностью обсуждалось на тогдашних «кухнях» при участии политиков, поддерживавших эти идеи в среде ученых.
Поскольку речь шла о сколачивании политиками своих групп поддержки в научной среде, то понятно, почему в 1920-е гт. как грибы после дождя стали появляться различные политические общества и объединения биологов (см. Колчинский, 1997, 2012). Понятно также, почему политики, как отметил Э. И. Колчинский, начинали с поддержки ламаркистов, а потом с тем же революционным рвением встали на сторону генетиков. Генетиков и им сочувствующих стало к концу 1920-х гг. просто больше, и среди них было много известных ученых.
Сталину не нужны были все эти общественные группы идеологической поддержки со стороны ученых. Ему нужно было активное участие ученых в строительстве социализма. Ученые должны заниматься наукой, тому, чему они обучены и в чем они должны непрестанно повышать свою квалификацию. Возможно ли в принципе повысить свой научный уровень на разного рода непрофессиональных философских диспутах. И он эти идеологические общества марксистов, диалектиков, материалистов и т. д. прикрыл в первой половине 1930-х гг.
5. 2. Научные споры между генетиками и ламаркистами в свете идеологических установок
В своем программном докладе на общем собрании[28] Общества биологов-материалистов его новый председатель Б. П. Токин (1931, с. 16–17) в качестве главной задачи стоящей перед обществом обозначил борьбу с механистами:
«Для всех биологов-материалистов должна быть ясна необходимость самой решительной борьбы с механистами как с главной опасностью в настоящий момент. Нынешняя дискуссия поможет поднять борьбу с механистами на новую ступень, неизмеримо более высокую, чем те гегелевские позиции, с которых велась борьба с механистами – т. Дебориным и его единомышленниками. Некоторые искренне не понимают, что имеются глубочайшие основания говорить о борьбе на два фронта в биологии с упором в сторону механистов… в области использования биологии в социалистическом строительстве мы имеем в лице механистов величайший тормоз… механисты (и не только профессионалы биологи) протянули руки ламаркистам, тем животноводам, растениеводам, врачам, которые или вследствие своего невежества, или сознательно консервативно настроенные, борются против реализации достижений теоретической биологии, в частности генетики».
Мысль изложена предельно ясно. Стихийные ламаркисты в сельском хозяйстве и медицине находятся под дурным влиянием механистов-биологов, и это тормозит перестройку их работы на правильной научной основе. Понятно, что Б. П. Токин излагал не свою собственную точку зрения. Во всяком случае его доклад подлежал утверждению где-то там, наверху. На этот доклад и последующую дискуссию по нему были вызваны для проработки[29] главные теоретики профессионалы биологи Е. С. Смирнов и Ю. М. Вермель. Это значит, что именно они были обвинены в том, что своими идеями смущают широкие круги практиков (животноводов, растениеводов, врачей) и тем самым тормозят социалистическое строительство. Обвинение по тем временам очень серьезное. В работе собрания теме вредительства было уделено внимание. Об этом, в частности, сказал во вступительном слове П. П. Бондаренко (Против…, 1931, с. 7): «Борьба реакционных сил происходит не только в форме идеологического вредительства, но и на фронте социалистического строительства». П. П. Бондаренко в своем выступлении также подчеркнул необходимость «проводить принцип партийности в нашей науке, осуществляя борьбу на два фронта: против механистов как главной опасности и меньшевиствующего идеализма, новой ревизии, оформившейся на философском фронте, а также на фронте нашей науки».
Общество биологов-материалистов было организовано при Коммунистической Академии в 1927 г. В нем главную роль играли диалектики, противники всякой метафизики и механицизма. «Особое значение – пишет историк науки Э. И. Колчинский (1997) – имела деятельность генетика и философа И. И. Агола, врача и генетика С. Г. Левита, философа М. Л. Левина в Москве, эмбриолога Е. А. Финкельштейна в Харькове, философа и генетика В. Н. Слепкова в Казани и др. Они возглавили основные марксистские организации, связанные с разработкой философских проблем биологии». До этого в биологии, причем с дореволюционных времен, шли научные споры между генетиками и ламаркистами, выступавших с научной аргументацией. Теперь на эти споры взглянули с диалектико-марксистских позиций и тут же выяснилось, что ламаркизм в разных его формах идейно подпитывает и тем самым внедряет в общество враждебные идеалистические, метафизические и механистические взгляды.
Э. И. Колчинский (1997) отметил интересный исторический факт – кардинальное изменение взглядов диалектиков-биологов на ламаркизм. «Вначале они были уверены, что признание наследования приобретаемых признаков необходимо для марксистов… Знакомство с генетикой изменило их взгляды. Отныне они доказывали, что только теория естественного отбора и хромосомная теория наследственности соответствуют диалектическому материализму». Трудно поверить, что они с самого начала не удосужились внимательно проштудировать генетику, воевавшую с защищаемым ими ламаркизмом.
Позже оказалось, что и диалектики (по крайне мере некоторые из них) сами были не без греха, что в их рядах в целом царит ненужный в период созидательного напряжения всех сил страны разброд и шатания. Группа диалектиков, возглавляемая А. М. Дебориным, искала поддержку своим взглядам исключительно в трудах Гегеля, игнорируя работы Ленина, Маркса и отчасти Энгельса, внесших большой вклад в разработку вопросов диалектики природы. Эти философы и связанные с ними биологи были подвергнуты проработке как меньшевиствующие идеалисты. С. Э. Шноль (2010) высказал недоумение по поводу самого обвинения. И мне оно кажется надуманным и каким-то несерьезным. А. М. Деборин широко цитировал Энгельса. Более того, несколько работ он посвятил разъяснению естественно-научных взглядов Энгельса. И если у него и была некоторая недооценка философских работ В. И. Ленина, то это дело легко исправимое. Между тем А. М. Деборин перестал после проработки заниматься проблемами марксистской диалектики. Это может означать, что за формальными обвинениями диалектиков стояли более серьезные проступки, о которых в то время было нежелательно говорить.
Что касается обвинений в механицизме ламаркистов, то в этом деле также много неясного. Ведь еще совсем недавно вся страна со-переживала нелегкой судьбе австрийского механоламаркиста Пауля Каммерера, готова была его принять, чтобы он мог продолжить свои эксперименты по доказательству наследования приобретенных при-знаков. У нас не так часто в те годы создавались фильмы. И один из них, «Саламандра», был посвящен трагической судьбе П. Каммерера. И вот через несколько лет покойный П. Каммерер был причислен к идеологическим противникам диалектического материализма.
Давайте посмотрим, что конкретно вменялось в вину ламаркистам по линии механистического искажения марксизма. И. И. Агол (1930а) опубликовал специальную книгу, посвященную критике витализма и механистического материализма. В механицизме он уличает ботаника Лотси (с. 117) и Н. К. Кольцова (с. 180–181). О Н. К. Кольцове речь у него идет в связи с полемикой со Степановым, который сослался в поддержку своих механистических воззрений на статью Николая Константиновича «Биология» в Большой советской энциклопедии. Говоря об этой статье, И. И. Агол заметил (с. 180), что «Проф. Кольцов… излагает свою обычно вульгарно механистическую точку зрения на проблему “сведения”. В этой статье он говорит о сведении жизненных явлений к физике и химии и о каузальном объяснении этих явлений». Критикуется Н. К. Кольцов также за попытку «механистически перенести биологические закономерности в социологию» (с. 181). В той же связи упоминается (в очень корректной и уважительной форме) И. П. Павлов с его попытками «объяснить сложнейшие общественные отношения своим методом безусловных и условных рефлексов» (с. 182). И это всё. Ламаркисты, придерживающиеся механистической ереси, не упомянуты.
В том же 1930 г. у И. И. Агола вышла программная статья «Задачи марксистов-ленинцев в биологии» в журнале «Под знаменем марксизма». Она интересна тем, что в ее первой части И. И. Агол говорит о классовой борьбе в биологии. По нему (с. 95), «Вне человеческого общества нет науки. Вот почему и наука неизбежно отражает общественную борьбу, мировоззрения, желания и стремления создающего его класса. Все отрасли науки, даже самые специальные, проникнуты классовым содержанием». Во второй части статьи И. П. Агол говорит о необходимости продолжения борьбы на два фронта – против витализма и механицизма, которые в признании «учения об унаследовании приобретенных признаков… борются единым фронтом против дарвинизма, дающего отрицательное решение этой проблемы(с. 10З). Речь, конечно, идет о неодарвинизме, не дарвинизме как таковом, поскольку Дарвин, как известно, признал ламарковский принцип наследования и это нисколько ему не мешало признавать также важную роль естественного отбора как важнейшего фактора эволюции.
В процессах формообразования в витализме вместо отбора действует творческая «жизненная сила». «“Жизненный фактор”, если это окажется нужным, реализует в потомстве приобретенный родителем признак. Все без исключения виталисты являются сторонниками передачи по наследственности приобретенных признаков (выделено в оригинале). Механо-ламаркизм дает такой же положительный ответ на этот вопрос, хотя и отвергает учение о жизненной силе. Такая его позиция объясняется смешением качественно различных связей – генетических и физиологических. Механо-ламаркист, кроме физиологических закономерностей в живом организме, ничего не видит. Поэтому и генетическая связь в его глазах идентифицируется с физиологической».
Сначала я подумал, что И. И. Агол имеет в виду передачу по наследству физиологических изменений. Ведь среда, изменяя организм, так или иначе изменяет его физиологические параметры. Однако, нет; речь идет о другом. «… сходство между родителями и детьми – поясняет И. И. Агол (с. 103–104) – объясняется не тем, что телесные клетки родителей и его половые клетки, из которых впоследствии развились его дети, в родительском организме находились в физиологической связи, а тем, что у этих клеток одно общее происхождение. Никто не станет утверждать, что постоянная физиологическая связь, существующая, например, между легкими и сердцем, сделает органы похожими друг на друга, между тем чего-то подобного требуют механисты, когда утверждают, что физиологическая связь между телесными и половыми клетками адекватно индуцирует изменение от одних к другим».
Ничего такого они не требовали. Физиологическая связь между телесными и половыми клетками, о которой говорил И. И. Агол, является произвольной конструкцией противников ламаркизма, постулируемой в связи с искусственным разделением единого организма на две части – половые и телесные клетки, изменяющиеся независимо друг от друга. А потом спрашивают, каким образом изменившиеся телесные клетки могут изменить половые. Приходится придумывать некую физиологическую связь и затем доказывать, что такая связь невозможна. Вот где сплошная метафизика, связанная с чисто умозрительными построениями. Организм реагирует на среду не по частям, а как целое. Будут ли при этом затронуты половые клетки и в какой форме, сказать об этом заранее нельзя. Это должен решить эксперимент.
Если метафизически не разделять организм на части, будто бы обладающие собственной реакцией на среду, то отпадет необходимость поиска каких-то физиологических связей между телесными и половыми клетками. Это не проблема ламаркизма. Основная задача механоламаркизма заключается в том, чтобы посмотреть, скажутся ли факторы среды, в том числе и вредные, действующие на организм, на его потомках. И вот на этой простой научной проблеме все 1920-е гг. выстраивали умозрительные обвинения механоламаркистов в том, что они будто бы извращают диалектический материализм, смыкаются в отдельных пунктах с идеализмом, отрицают дарвинизм, признают изначальную целесообразность, смешивают физиологические и генетические связи. И это, возможно, не окончательный список обвинений.
Главный идеолог борьбы с механистическим материализмом А. М. Деборин (1929) в своей книге разбирает серьезные философские темы – соотношение случайности и необходимости, проблему несводимости высших уровней организации к низшим, скачки в развитии, реальность общественно-политических классов и т. д. Генетики и ламаркизма он не касается, хотя такая возможность у него была. Он (с. 166 и далее, а также с. 187), в частности, разбирает статью Энгельса «Роль труда в процессе очеловечивания обезьяны», опубликованную в 1896 г., через 20 лет после ее написания. Давая высокую оценку этой работе, А. М. Деборин обходит молчанием проблему влияния трудовой деятельности человека на его наследственные черты, включая и психические особенности. И это странно. Данная тема постоянно подымалась в спорах между генетиками и ламаркистами, которые в конце концов пришли к согласию, что Ф. Энгельс был ламаркистом и, следовательно, для первых он ошибался, для вторых был прав. То, что А. М. Деборин старался не касаться проблем генетики, я связываю с отмеченным выше мнением, видевшем в Энгельсе стихийного ламаркиста. В этом случае сложно было бы обвинять ламаркистов в механистическом материализме, не задев при этом авторитет самого Энгельса.
Некоторую ясность в вопрос об идеологической ущербности ламаркизма внес С. Г. Левит (1930, с. 116–117): «Но механическое миропонимание… находит свою конкретизацию… в отрицании дарвинизма (в особенности, селекционной теории), в ламаркистских концепциях всех толков и направлений (в частности, в наивной вере в наследование благоприобретенных признаков) и в пренебрежительном отношении к достижениям современной генетики… Остановимся… на отношении ламаркизма (не психо-, а механо-ламаркизма) к идеализму. Верно ли, что механо-ламаркизм есть на нынешнем этапе наших знаний действительно материалистическая теория, гарантирующая от идеалистических шатаний и могущая (как многие товарищи склонны, например, интерпретировать значение опытов Каммерера) служить нам боевым знаменем в борьбе с идеализмом?» (выделено нами). Прервем цитирование. Для ученого, оказывается, мало чести делать просто открытия, ему следует делать такие открытия, которые бы позволяли бороться с идеализмом. Но разве это дело ученого бороться с идеализмом, о котором большинство могут иметь представление на любительском уровне. Для этого существуют специалисты в этом деле – профессиональные философы и политики.
Продолжим цитирование. «На этот вопрос мы себе не только позволим ответить отрицательно, но скажем больше: в настоящее время механо-ламаркизм перерастает в идеализм, смыкается с последним (выделено в оригинале). Смычка эта идет, главным образом, по линии проблемы органической целесообразности… Отрицание же роли естественного отбора в происхождении приспособительных изменений организмов ведет к одному из двух путей: или к абсурдному отрицанию самого факта существования целесообразных структур и функций, или же к идеализму, поскольку заставляет предполагать наличие у животных и растений имманентной способности к целесообразному реагированию на воздействия среды… В этом пункте механо-ламаркизм смыкается с имманентной телеологией» (выделено нами).
Я всё надеялся, что С. Г. Левит приведет нужные цитаты из работ механо-ламаркистов. Ан, нет. Цитируется только «Номогенез» Л. С. Берга. Но вряд ли можно причислить механоламаркистов к сторонникам Л. С. Берга. Я во всяком случае об этом не слышал. Если всё же некоторые из них стали склоняться в сторону идеализма, то в этом случае надо говорить о борьбе с идеалистами, а не механиста-ми. Все ламаркисты были дарвинистами и как они могли отрицать значение естественного отбора. Это генетики за ламаркистов придумали, что те в соответствии с их взглядами по логике не должны признавать дарвиновский отбор.
Далее, механоламаркисты не могли утверждать, что изменения организмов под действием среды непременно должны быть целесообразными. Конечно, если сводить ламаркизм, как это делает С. Г. Левит, к наследованию исключительно благоприобретенных признаков, т. е. к наследованию только полезных признаков, тогда может создаться видимость признания изначальной целесообразности. Но выше мы приводили мнение И. И. Агола из того же номера журнала «Под знаменем марксизма». В ней он говорил о наследовании приобретенных признаков и, следовательно, принципиально по-иному должен был интерпретировать точку зрения механоламаркистов на проблему целесообразности. Приобретенные признаки (в отличие от благоприобретенных свойств, о которых говорил С. Г. Левит) охватывают не только полезные, но и вредные признаки. Поэтому ставить вопрос о какой-то их изначальной целесообразности не приходится. Организмы унаследовавшие вредные признаки, будут устраняться отбором; останутся те из них, что унаследовали благоприобретенные признаки.
Механоламаркисты исходили не из умозрительных рассуждений, но реальных фактов изменения организмов под влиянием тех или иных условий среды. Эта реакция организма на среду безусловно является наследственной. Но будут ли связанные с ней изменения организма целесообразными или нет, это должно решаться в каждом конкретном случае. И еще не факт, что этот вопрос может быть решен в положительном смысле. Будет ли изменение окраски цветков Primula sinensis с красной на белую целесообразной реакцией растения на изменение температуры? У генетиков не было понятийного аппарата для решения такого рода вопросов. Но мы можем условиться и считать целесообразной реакцию организма на тот спектр условий, к которым он наилучшим образом приспособлен. Значит, к остальным условиям он будет менее приспособлен, что может выражаться в изменении жизненных показателей, в снижении плодовитости, уменьшении сроков жизни, средних размеров и т. д.
Понятие целесообразности, о котором говорили генетики, имело в то время лишь натурфилософское содержание, поскольку не было экспериментально показано, что именно за счет случайных мутаций обеспечивается целесообразное устройство организма, а, скажем, не за счет их внутренней переработки, о чем несколькими годами позже стал говорить И. И. Шмальгаузен. Генетики чисто умозрительно связывали ответную реакцию на действие среды исключительно с генотипом, не представив серьезных экспериментальных доказательств этого. Когда Эрвин Баур (Бауэр) говорит (1913, с. 8), что «наследуется всегда только определенный, специфический способ реакции на внешние условия», то он забыл указать, «кем наследуется»? – организмом или генотипом. Если генотип, как считают генетики, не может измениться под действием среды, то, следовательно, изменяется, т. е. реагирует на среду фенотип. Поэтому «специфический способ реакции на внешние условия» связан с фенотипом, в случае яйцеклетки – с ее фенотипическими компонентами ядра и цитоплазмы. Последние также являются носителями наследственности, что в то время было описано в феномене длительных модификаций.
Я не считаю аргументацию И. И. Агола и С. Г. Левита в отношении идеологических изъянов механоламаркизма убедительной. И подтверждение этому я нахожу в выступлениях на уже упоминавшемся общем собрании Общества биологов-материалистов весной 1931 г. Давайте внимательно присмотримся к тому, как оценивались на этой дискуссии механистические ошибки ламаркизма.
5. 3. Прения по докладу Б. П. Токина (весна 1931 г. )
Напомним, что на собрании общества шла в числе прочего проработка механистов, представленных ламаркистами, и так называемых меньшевиствующих идеалистов. Из последних на собрании присутствовали М. Л. Левин и А. С. Серебровский. Оба признали свои ошибки. М. Л. Левин (Против…, 1931, с. 35) «как на основной грех… указал на отрыв практической работы от актуальных задач, стоящих перед нашей социалистической стройкой. Я лично считаю, что на мне лежала наибольшая ответственность и наибольший грех в этом отношении. Я это говорю не для того, чтобы каяться, а для того, чтобы выяснить и себе самому и вам, насколько необходимо теснейшим образом связываться с практикой, с повседневной классовой борьбой пролетариата, чтобы не делать таких промахов, как делал я». Вот это, видимо, и было главной причиной недовольства партийных верхов работой общества. Время абстрактных дискуссий кончилось Необходима практическая отдача, раз вся страна начала строиться. На с. 5 упомянутого сборника от имени редакции сделано следующее заявление: «Перед марксистами-ленинцами в биологии стоят огромные задачи. Зерновая проблема, проблема преобразования озимых в яровые, борьба с засухой, подбор сортов пшеницы, проблема хлопковой и каучуковой независимости, проблема садоводства и т. д. » Комментировать нет необходимости.
«Огромным нашим недостатком – продолжил М. Л. Левин (с. 35–36) было и то, что мы… не разрабатывали того наследия, которое оставили нам Маркс, Энгельс и Ленин. Это тем более позорно, что мы во всех статьях, и в частности в борьбе с механистами, как раз считали себя последователями того диалектического материализма, который развивался Марксом, Энгельсом и Лениным». Это также имело непосредственное отношение к призыву Партии перейти к практическим делам. А диалектики отвлекали биологов от решения этих задач социалистического строительства, организуя по всей стране кружки по изучению Гегеля, но не практических дел.
А. С. Серебровский – один из ведущих генетиков, и его восприятие сложившейся политической ситуации для нас важно. «Вкратце-сказал он (Против…, 1931, с. 38) – наши ошибки, и мои в том числе, характеризуются как меньшевиствующий идеализм. Фактически они выражались прежде всего в том аполитичном характере, который носила деятельность нашего общества, в отрыве его деятельности от злободневных насущнейших очередных задач социалистического строительства, которые в течение этих лет, и особенно последний год, стояли перед нами, в известной замкнутости круга интересов… который может быть охарактеризован формалистским, во всяком случае крайне односторонним». Короче, А. С. Серебровский, как и М. Л. Левин, признает, что было много слов и мало дел, что недопустимо в условиях начавшейся форсированной модернизации страны. Возможно, когда-то и меньшевикам был брошен упрек, что те много говорят и мало делают. Но для российского общества это привычное состояние, с которым решили бороться большевики.
«Несколько сложнее, в частности для меня лично, – продолжил А. С. Серебровский (с. 39) – стоял вопрос об идеалистическом характере моей деятельности. Формула, примененная для характеристики нашей ошибки, – меньшевиствующий идеализм, и мы должны осознать и эту сторону нашей ошибочной деятельности. Сейчас я понимаю эту сторону своих ошибок следующим образом. Чем вызвана была та необыкновенно односторонняя деятельность нашего общества, и в частности моя, целиком направленная на борьбу механическими тенденциями в биологии и которая совершенно в стороне оставляла борьбу с главной опасностью за пределами нашей партии, с опасностью идеалистической? (выделено нами)… Мы были худо или хорошо (а по существу недостаточно хорошо) воинствующими диалектиками, поскольку мы обрушивались в нашей борьбе на механистические тенденции в биологии, но поскольку мы, и я в особенности, оставили в тени борьбу с идеализмом… поскольку мы обнаружили явно примиренческое отношение к этой главной идеалистической опасности, очевидно уживаясь с ней, не чувствуя настойчивой потребности в постоянной яростной борьбе в этом направлении. И в этом смысле, раз мы не являлись воинствующими материалистами, мы тем самым скатывались к идеализму, к примиренчеству».
Безусловно, А. С. Серебровский должен был поинтересоваться официально или через хорошо осведомленных знакомых, каким образом он, специалист-генетик оказался среди меньшевиствующих философов-идеалистов. И судя по его выступлению, ему намекнули, что он не там ищет главную идеологическую опасность. В таком случае мы снова стоим перед нерешенным вопросом, кто же, по выражению Б. М. Завадовского (Против…, 1931, с. 45), представил «ламаркизм в качестве агентуры механицизма в биологических проблемах, с которым поэтому мы должны вести непримиримую борьбу».
Что в этом отношении нам могут рассказать сами ламаркисты. Вот отрывок из выступления Е. С. Смирнова (Против…, 1931, с. 42), вызванного в связи с его механистическими взглядами на «проработку». «Вопрос о наследовании приобретенных признаков… разумеется не тождественен с ламаркизмом, и я могу только присоединиться к теперешней новой оценке Левиным и Серебровским Энгельса… Энгельс, как было здесь сказано, считался с наследованием приобретенных признаков как с фактом. Тов. Левин заявил, что этот вопрос спорный[30]. Генетики говорят, что этот вопрос решается отрицательно. [31] Я считаю, что Энгельс и в этом отношении, объективно говоря, нисколько не устарел».
Прервем цитирование. Чем было вызвано смятение М. Л. Левина, когда речь зашла об Энгельсе? М. Л. Левин, по его же словам (см. дальше), был одним из инициаторов борьбы с ламаркизмом как механистической опасностью. А тут генетики и ламаркисты уверяют всех, что Энгельс был ламаркистом. Надо, следовательно, как-то выходить из неприятного положения с обвинением Энгельса в механистическом уклоне.
Вот какое решение предложил М. Л. Левин (Против…, 1931. с. 37) «Энгельс стоял на точке зрения теории наследования приобретенных признаков, но не всякое согласие с теорией наследования приобретенных признаков есть ламаркизм. Дарвин тоже стоял на точке зрения наследования приобретенных признаков. Для Ламарка не это характерно. Ламарк – большой эклектик. Для Ламарка характерно сочетание идеи совершенства, идеи лестницы существ, идеи echeile des etres с идеей чисто механического толкования всех процессов, происходящих в организме, с учением о флюидах… Я не говорил, что Энгельс ламаркист, уже хотя бы потому, что ламаркизм есть определенная концепция либо самого Ламарка, либо психоламаркистов Копа, Бетлера, Паули, Франсе и др., либо механоламаркистов, которые не являются чистыми ламаркистами в смысле самого Ламарка. Ни в том, ни в другом, ни в третьем смысле Энгельс не являлся ламаркистом».
По логике М. Л. Левина получается, что и московские ламаркисты, представленные на совещании Е. С. Смирновым и Ю. М. Вермелем, на самом деле не являются ламаркистами, хотя и признают наследовании приобретенных признаков. И эта логика не вписывается в то, что говорили о наследовании приобретенных признаков и механоламаркистах И. И. Агол и С. Г. Левит. Видите, в какую политическую западню загнали себя ученые, когда чисто научные споры перевели в русло философских дискуссий. Но ведь и ламаркисты оказались теперь в еще большей опасности, поскольку их теперь могли обвинить в злоумышленном искажении взглядов Ф. Энгельса. Вот чтo говорил в своем докладе Б. П. Токин (1931, с. 18): «… безусловно необходимо разоблачать попытку ламаркистов спрятаться за спиной Энгельса, причислить его к своим, к своему ведомству. Е. Смирнов и др. ссылаются на статью Энгельса “О роли труда в процессе очеловечения обезьяны”. Они говорят, что в этой статье Энгельс – ламаркист. А наши друзья из старого биологического руководства вместо последовательного разоблачения ламаркистов дают им козырь в руки. Серебровский, Левин и др. соглашаются с ламаркистами в толковании статьи… (с. 19). Ни те, ни другие не понимают, что мы имеем в вопросе о происхождении человека, о роли труда в этом вопросе, проблему не столько биологическую, сколько общественно историческую». Вот так легко проблема была «решена» чисто политически. «Но, конечно, – закончил Б. П. Токин – мы не должны идти ни по пути ламаркистов, деборинцев, ни по пути Б. М. Завадовского, который, как мне передавали, в своей программе по курсу биологии умудрился окончательно увековечить Энгельса как ламаркиста». С мнением Б. М. Завадовского вполне можно согласиться.
Закончим цитату из Е. С. Смирнова: «Если понимать вопрос о наследовании приобретенных признаков так, как я предлагаю это делать, то необходимо считать его положительно разрешенным. Я имею в виду проблему длительных модификаций. Наличность таковых доказана совершенно точно, возражать против этого не приходится. Можно, разумеется, объявить длительные модификации ложной наследственностью, но дело от этого не изменится».
Из зала было сказано под смех в аудитории: «Что же по-вашему, человек есть просто длительная модификация обезьяны?». На что Е. С. Смирнов сказал: «К сожалению, я не расположен сегодня острить…». Сейчас бы мы сказали, что человек встал на ноги, т. е. сделался двуногим созданием, и приобрел другие полезные качества, связанные с трудовой деятельностью, через длительные модификации. Но вернемся к тем далеким дням.
Есть научная проблема – длительные модификации. Есть ламаркисты, которые этой проблемой занимаются. Когда ламаркистов разогнали, то и научную проблему, касающуюся длительных модификаций, стало некому изучать. Другие ученые ее свели к абсурду. Отметим обеспокоенность Е. С. Смирнова, который понимает, что идет не научный спор, но политическая проработка. А раз нельзя заниматься длительными модификациями по политическим соображения, то надо перейти к изучению других научных проблем. В итогe Е. С. Смирнов ушел в систематику.
По иному сложилась судьба другого известного ламаркиста Ю. М. Вермеля. Он не осознал, что в постреволюционных условиях продолжающейся политической борьбы ученому не следовало бы искать истину в политических вопросах. Она (политическая борьба) развивается по своим правилам, определяемым во многом целесообразностью. Если критикуемые из обоих лагерей, в частности, братья Б. и М. Завадовские, М. Л. Левин, А. С. Серебровский, Е. С. Смирнов в той или иной форме признали свои идеологические ошибки то Ю. М. Вермель отнесся к этой политической проработке как ученый, т. е. стал выяснять, насколько справедливы выдвигаемые против ламаркизма обвинения. Поучительно посмотреть, что он сказал конкретно (с. 46–47): «Из доклада [Б. П. Токина] вытекает, что нет ни одного живого человека в аудитории, ни одного направления, которое не наделало бы массы грубых ошибок. Старое руководство признано неудовлетворительным. Мы с этим согласны. Теперь необходимо новое руководство. Но кто же его составит, если все, кто работал, оказались неправы?»
Выделенную нами фразу, конечно, не нужно было произносить, поскольку далее из выступления Ю. М. Вермеля выясняется, что никто из присутствующих биологов не знает, в чем заключаются ошибки старого руководства. И это несправедливо в отношении Б. П. Токина, поскольку тот все хорошо разъяснил в своем докладе.
В чем изъян такого отношения к делу? На наш взгляд, в ложном представлении, что будто бы это Б. П. Токин навязывает всем присутствующим биологам установки по идеологической борьбе на два фронта. Ю. М. Вермель понимает, что это не так, когда говорит: «Далее, нужно ответить на вопрос: как же правильно понимать те или иные биологические вопросы с философской точки зрения. Большинство шедших на доклад ожидало не голой критики, а думало, что будет дана установка, основанная на положительных данных. Но положительного нет. Правда, т. Токин предупредил, что он не может этого сделать, так как он еще ищет. Но ведь и мы ищем. Это очень трудно. И это значит, что нас нельзя окончательно заклеймить».
Здесь Ю. М. Вермель противоречит сам себе. В отношении поддержки старым руководством «грубых ошибок» генетиков он согласен, что тех следует заклеймить, т. е. он считает, что их правильно осудили. Но за собой как ламаркистом он не видит идеологических ошибок, поскольку все, включая Б. П. Токина, не знают, в чем заключаются эти ошибки.
«Называть наши выступления – продолжил Ю. М. Вермель – маневрами, как это делает Б. М. Завадовский, совершенно нелепо и бессмысленно. Я повторяю, что нас интересует только истина… Вывод: удовлетворительного руководства мы пока не имеем. Поэтому мы предлагаем совместно с нами и другими биологами работать в общем направлении и отыскивать правильную позицию».
Но как, скажите, биологи, не имеющие философской подготовки могут «отыскивать правильную позицию». Они и объединились в общество биологов материалистов, чтобы иметь возможность изучить правильную философию, которая в силу этого, как они надеялись, должна им помочь в их научном поиске. Далее, какую истину собирался искать Ю. М. Вермель, если речь идет о практике устранения допущенных учеными идеологических ошибок. Их следует только признать, чего не сделал, к сожалению, большой ученый Ю. М. Вермель.
Итогом этого стало политическое осуждение Ю. М. Вермеля, а также Н. К. Кольцова, прозвучавшее в заключительном слове Б. П. Токина (с. 83): «На речи Вермеля можно было бы не останавливаться, но она важна вот почему: слова Вермеля прозвучали политически, и речь Н. К. Кольцова прозвучала также сугубо политически. Ни речь Вермеля, ни речь Н. К. Кольцова не верны. Их постановку вопроса мы должны разоблачать». Кроме ламаркиста Е. С. Смирнова в заключительном слове больше никто не был упомянут, даже меньшевиствующие идеалисты.
Н. К. Кольцов в своей речи (с. 49) поставил перед обществом вопрос: «С чем должны идти биологи-материалисты на строительство сельского хозяйства: с генетикой или с ламаркизмом». И призвал генетиков идти в социалистическую практику, посетовав, что те Работники, которые хотели бы войти в это прямое дело строительства, были оставлены в несколько беспомощном состоянии», т. е., надо Думать, не получили поддержки руководства общества на данном совещании. «Я думаю – сказал далее в своей речи Н. К. Кольцов – что я правильно понял т. Токина и согласен с его установкой по поводу генетики… я уверен, что я правильно его понял: он считает, что генетика должна быть положена в основу селекционной работы… Я-то его понял, но боюсь, что не все поняли т. Токина так, как он хотел. Мне передавали, что со стороны ламаркистов были высказаны соображения… что, дескать, мы были правы, когда говорили, что генетика не выполнит той задачи, которую вы на нее возлагаете».
Что в этих словах могло озадачить Б. П. Токина. Я думаю попытка Н. К. Кольцова решить за селекционеров, как те должны работать, и предложение навязать им это решение, используя политические рычаги. Кроме того, как заявил в своем заключительном слове Б. П. Токин (с. 79), эти предложения идут «со стороны людей деятельность которых мы не можем считать олицетворением единства теории и практики… но эти люди пытались предстать несколько «левее» и докладчика и тех из выступавших, которые солидаризировались с докладчиком. Эти люди, в частности Н. К. Кольцов, даже пытались возглавить позицию единства теории и практики». Смысл сказанного ясен – легко давать рекомендации по практическому делу, которым сам не занимаешься и за которое не отвечаешь.
Н. К. Кольцов был старейшим московским революционером и его не дали бы в обиду товарищи по революционной борьбе. За Ю. М. Вермеля некому было заступиться.
Ю. М. Вермель неявно указал на негативную роль политиков в трагическом исходе научного противостояния ученых. Сами биологи, как он утверждает, недостаточно сильны в философских науках, чтобы выступать с идеологическими обвинениями от своего имени. Даже Б. П. Токин, понятным языком объяснивший в своем докладе, в чем заключаются ошибки меньшевиствующих идеалистов, затруднился сказать, как это связано с проблемами биологии. Это в равной мере касается и ламаркизма. Полемика между генетиками и ламаркистами с самого начала развертывалась в традиционном для ученых ключе и касалась сугубо научных вопросов. Но вот в их споры вмешались воинствующие диалектики, которые увидели в ламаркизме проявление механицизма. Споры из научной сферы, претендующей, самое большее, на поиск истины, переместились в область идеологии, дающей возможность выдвигать в адрес своих научных оппонентов политические обвинения. С этого момента началась история другого ламаркизма как идеологически враждебного учения, из которого «рождаются метафизика и идеализм» и которое «теоретически оправдывает реакционные взгляды значительного слоя специалистов – врачей, животноводов, полеводов, что наносит прямой вред социалистическому строительству» (Токин, 1931, с. 18).
Сразу возникает вопрос, какие цели преследовали диалектики, вмешиваясь в научные споры ученых. Э. И. Колчинский (2012, с. 509), изучавший этот вопрос, пишет: «В апреле 1929 г. руководитель Комакадемии историк М. Н. Покровский заявил о прекращении мирно-го сосуществования с немарксистами естественниками и изживании “фетишизма перед буржуазными учеными”» (Торбек, 1929, с. 270). Официальную поддержку получила идея А. М. Деборина о перестройке естествознания на основе материалистической диалектики, что давало возможность запрещать любую научную концепцию как несовместимую с марксизмом. Позиция Деборина была поддержана многими генетиками и прежде всего И. И. Аголом (Задачи марксистов…, 19306, с. 105), который призывал «очистить Комакадемию от чуждых марксистской идеологии элементов», «покончить с разбродом, царящим в ее стенах» (там же, с. 270), и превратить «современное естествознание в марксистское» (выделено нами).
Речь, следовательно, шла о попытке консолидировать ученых вокруг определенных идеологических установок. Но заданный нами вопрос остается без ответа. Зачем была необходима идеологическая консолидация ученых, направленная почему-то против именно ламаркизма? Идеологические установки озвучиваются определенными людьми, за которыми стоят политики. Следовательно, речь идет о консолидации ученых вокруг конкретной группы политиков. В эту группу, очевидно, не входили Сталин и его окружение, поскольку Сталин был ламаркистом. В те времена, видимо, еще не изучали в обязательном порядке работы Сталина. Поэтому биологи, исключая, может быть, И. И. Презента, не знали о ламаркистских симпатиях Сталина, утверждавшего, что за Ламарком будущее. В противном случае генетики остереглись бы выступать против ламаркизма, что было бы равнозначно выступлению против вождя советского народа. Вот подтверждающее нашу мысль мнение М. М. Местергази (1930, с. 152): «У ламаркистов все в прошлом, автогенетики владеют еще настоящим, генетикам-эктогенетикам принадлежит будущее».
Таким образом, Сталин не был причастен к гонениям на ламаркистов. В таком случае почему противостоящие ему политики решили начать эти гонения, придумав для прикрытия самой кампании необходимость социалистической «перестройки естествознания на основе материалистической диалектики»? В поисках ответа на этот вопрос я стал выяснять, кто первым «пристегнул» ламаркизм к механистическому материализму.
Одним из признавшихся в этом был бывший комиссар Баваркой республики, возглавивший в СССР Общество биологов-материалистов М. Л. Левин, снятый со своего поста в связи с обвинениями в меньшевиствующем идеализме. Вот что он сказал в свою защиту по вопросу о ламаркизме (Против…, 1931, с. 36): «Думаю, что старые члены общества, которые вместе с нами боролись с ламаркизмом и слышали мои выступления, – а я всегда участвовал в этой борьбе против ламаркизма и даже являлся одним из зачинщиков этой борьбы, – смогут подтвердить, что я никогда не отождествлял генетику с диалектическим материализмом»[32].
Итак, руководство Общества биологов-материалистов боролось против ламаркизма. М. Л. Левин далее поясняет по каким вопросам шла борьба с ламаркизмом. «Разрешите указать еще одно положение, в отношении которого я хотел бы внести поправку к тому, что говорил здесь т. Токин. Это – вопрос об Энгельсе и ламаркизме. Тов. Токин упомянул здесь, что Левин, Левит, Агол и Серебровский считают Энгельса ламаркистом. В отношении себя… я могу сказать, что никогда не говорил, что Энгельс ламаркист» (с. 36).
Ламаркистов обвиняют в механистическом извращении марксизма. Если Энгельс ламаркист, то, следовательно, с него и началось извращение работ К. Маркса. Такого быть не может в принципе. Поэтому упомянутые Б. П. Токиным марксисты что-то путают. И. И. Агол (1930а) издал книгу с критикой витализма и механистического материализма. Но в ней я не нашел обвинений ламаркизма в механистическом искажении материализма. Да и с чего им взяться: И. И. Агол, если и не был ламаркистом, то некоторое время сочувственно к нему относился. Во всяком случае он принял деятельное участие в судьбе гонимого у себя на родине, в Австрии ламаркиста Пауля Каммерера, последователями которого были московские ламаркисты во главе с Е. С. Смирновым. Позже И. И. Агол резко критиковал ламаркизм, но только за его идейную связь с витализмом, за «допущение наличия в организме какой-то сознательно действующей силы», обеспечивающей адекватное изменение генетических детерминантов в ответ на соматические изменения под действием среды. «И недаром – продолжил И. И. Агол (1930а, с. 114) – все без исключения виталисты отстаивают эту ламаркистскую мистику[33]. История биологии после-дарвиновского периода еще не знает ни одного виталиста, который не придерживался бы ламаркистской эволюционной теории». «Механистическую точку зрения – отметил И. И. Агол (с. 117) – развивает в настоящее время ботаник Лотси, когда он, отрицая процессы новообразования, пытается одними комбинациями вечно неизменных генов объяснить весь эволюционный процесс». И это по существу все, что было сказано в адрес биологов-механистов, интересовавшихся проблемой наследственности.
Механическое толкование всех процессов в организме Ламарк взял у французских материалистов XVIII века. Наука с тех времен ушла далеко вперед, чтобы кто-то придерживался механистического (в духе метафоры «человек – машина») понимания организма. Равно как представления о лестнице совершенства и учение о флюидах были оставлены в том далеком прошлом, воспринимаемые, однако, как важные вехи развития науки.
В чем же тогда выражались механистические ошибки наших советских ламаркистов, с которыми боролось Общество биологов-материалистов, переименованное в 1931 г. в Общество биологов-марксистов?
Ламарк был ученым энциклопедистом и так или иначе касался проблем физики, химии и почти всех сколько-нибудь важных разделов биологии. Но под ламаркизмом мы не имеем в виду оригинальную концепцию строения вещества Ламарка или его спор с Лавуазье о том, что тот придумывает фиктивные химические элементы. Ламаркизм мы связываем с дарвинизмом как его антитезу для одних или как его дополнение для других, включая самого Дарвина. И центральный пункт, разделявший ламаркистов и генетиков, касался проблемы наследования приобретенных под действием среды признаков. Генетики отвергали возможность влияния «нормальных» факторов среды на гены и, следовательно, на наследственность. Ламаркисты признавали такую возможность, хотя и не могли ничего сказать о механизмах такого наследования.
Проблема наследования изменений, обусловленных действием среды, включает два разных вопроса: (1) Влияет ли среда на наследственность? (2) Отвечают ли организмы какой либо наследственной реакцией на изменение своих жизненных параметров, обусловленное действием среды?
На второй вопрос в то время не было ответа. На первый вопрос ответ был. Наследуются мутации, вызванные, например, действием радиации, и так называемые длительные модификации, сохраняющиеся некоторое число поколений и после того, как прекратил действие модифицирующий фактор. Следовательно, генетику мы можем связать с изучением мутаций, ламаркизм – с изучением длительных модификаций. Вспомним, что сказал Е. С. Смирнов (Против…, 1931, с. 42) на совещании Общества биологов-материалистов: «Если понимать вопрос о наследовании приобретенных признаков так, как я предлагаю это делать, то необходимо считать его положительно разрешенным. Я имею в виду проблему длительных модификаций. Наличность таковых доказана совершенно точно, возражать против этого не приходится». Формально в длительных модификациях есть факт наследования изменений, механизм которого, правда, не был известен на то время. На что генетики говорят, что при длительных модификациях нет изменения в генах. Поэтому они не являются примером истинного наследования.
Как видим, спор в случае с нашими ламаркистами идет о словах, о толковании феномена длительных модификаций. Есть ли в так понимаемом реальном, а не выдуманном, ламаркизме основания для его осуждения в качестве механистического искажения истинного, т. е. диалектического, материализма. На наш взгляд, нет. С этим мнением фактически согласился новый председатель Общества биологов-марксистов Б. П. Токин (1931), который в своем докладе и в заключительном слове не смог объяснить суть обвинений ламаркистов в механицизме. Но ведь и бывший председатель общества М. Л. Левин также не знает, что конкретно вменить ламаркизму по линии механистического извращения материализма. Возможно, поэтому он на рассматриваемом совещании счел нужным сказать, что наследование приобретенных признаков не является проблемой ламаркизма. Значит, осуждение ламаркистов как носителей главной идеологической опасности продавили неназванные политики.
Некоторый интересный нюанс в этот вопрос внес Е. С. Смирнов (Против…, 1931, с. 42): «В свое время, будучи механо-ламаркистами, мы имели в виду главным образом борьбу с витализмом, и как раз эта приставка «механо» означала антитезис к «психо» и вообще всякой виталистической разновидности ламаркизма. А разновидностей имеется достаточное количество».
Это заявление Е. С. Смирнова перекликается с мнением И. И. Скворцова-Степанова (1925, с. 15), сказанным на обсуждении его книги «Современное естествознание и исторический материализм» в совете Государственного тимирязевского научно-исследовательского ин-та 8 февраля 1925 г.: «Следует отметить, что противники [механистического материализма] не схватывают, какое расстояние отделяет современное механистическое понимание от механического материализма XVIII века. Ухватившись за сходство названий они просто повторили критические замечания Энгельса против механического материализма XVIII века» (выделено нами).
Неужели ламаркистов включили в число сторонников механистического извращения материализма по ошибке, по созвучию слов «механо-ламаркизм» и «механистический материализм»? В это трудно поверить. Сила политиков заключается в том, что они действуют, сообразуясь с определенными целями и в достижении их тщательно продумывают все свои шаги. Значит, за идеологическим прикрытием надо искать реальные причины попыток искоренения ламаркизма в СССР во второй половине 1920-х – в начале 1930-х гг. Эта попытка, как мы знаем, частично удалась. Ламаркизм был вычищен из академической и университетской науки.
5. 4. Был ли Фридрих Энгельс ламаркистом?
Энгельс, как и большинство марксистов был стихийным ламаркистом. Советские марксисты, по словам А. С. Серебровского (1929, с. 53), «старались связать ламаркизм с марксизмом в нечто запечатленное одной курьезной опечаткой – “ламарксизм”». «Ссылаясь на Энгельса-продолжил А. С. Серебровский-некоторые товарищи Договариваются до того, что якобы исторический материализм не мыслим без ламаркизма, а т. Луначарский в кинофильме «Саламандра» еще более решительно расставил классовые элементы вокруг этой проблемы: за наследование благоприобретенных признаков – революционная интеллигенция, Наркомпрос РСФСР и пр., а против – клерикалы, банкиры, фашисты и фальшивомонетчики. По Луначарскому, именно ламаркистские опыты призваны разрушить веру в существование наследственной аристократии, которая поэтому так и вооружается против доктрины Ламарка». Мнение А. В. Луначарского показательно и оно возникло не на пустом месте. В предисловии мы отметили немецкого генетика Л. Плате (Plate 1925, S. 156; цит. по: Агол, 1930а, с. 129), провозгласившего «аристократический принцип, по которому имеют право выживать наиболее дельные». Рабочие и крестьяне к этим дельным, очевидно, не относились.
В той же работе А. С. Серебровский (1929, с. 71) обсуждает отношение Ф. Энгельса к проблеме наследования приобретенных признаков. «Действительно, – пишет он – чтение хотя бы известной статьи о роли труда в очеловечении обезьяны показывает, что Энгельс стоял на точке зрения унаследования приобретенных признаков. Так мы читаем, например, следующее:
Рука, таким образом, является не только органом труда. Она также его продукт. Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям, благодаря передачи по наследству достигнутого таким путем особенного развития мускулов, связок и за более долгие промежутки времени также и костей, так же как благодаря все новому применению этих передаваемых по наследству усовершенствований к новым, все более сложным, операциям – только благодаря всему этому, человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини (Архив Маркса и Энгельса, II, с. 91 [Диалектика природы, 1934, с. 51])».
Замечательные слова, характеризующие Ф. Энгельса как выдающегося ученого. Освобождение рук для использования орудий труда заставило человека встать на ноги. Ф. Энгельс пишет в той же работе (с. 50): «Чтобы прямая походка могла стать у наших волосатых предков сначала правилом, а потом и необходимостью, нужно было, чтобы руки уже раньше специализировались на других функциях [другой вариант перевода: Если прямой походке у наших волосатых предков суждено было стать сначала правилом, а потом и необходимостью, то это предполагает, что на долю рук тем временем доставалось все больше и больше других видов деятельности]». И далее на следующей странице: «Но решающий шаг был сделан, рука стала свободной и могла [теперь усваивать себе всё новые и новые сноровки] совершенствоваться в ловкости и мастерстве, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству и умножалась [возрастала] от поколения к поколению». Последний отрывок можно понимать двояко: (1) от поколения к поколению увеличивалась сноровка рук через механизм длительных модификаций; (2) в ряду последовательных поколений все большее и большее число членов сообщества первобытных людей достигало определенного уровня совершенства (опять же через механизм длительных модификаций).
Проблема анатомо-морфологических изменений при становлении двуногости изучена на ряде показательных примерах. И. И. Шмальгаузен (1982, с. 157; см. также Чайковский, 2006, с. 187) рассмотрел пример молодой собаки с дефектом передних лап, в силу чего она была вынуждена передвигаться лишь на задних лапах. Как результат собака по мере роста все более уподоблялась тушканчику (или кенгуру). Сходные адаптации описаны у молодого козленка, рожденного без передних конечностей. Последний пример подробно разобран М. Вест-Эберхард (West-Eberhard, 2003, 2005). Козленок был обучен ходить и бегать на задних конечностях. В результате «у него возникли различные поведенческие и морфологические специализации, сходные с таковыми кенгуру и других двуногих млекопитающих, включая способность быстро прыгать при вспугивании, увеличенные задние ноги, изогнутый позвоночник и необычно большая шея… дорсовентральное уплощение туловища и длинная седалищная кость очень сходны с найденными у кенгуру, тогда как широкая грудина напоминает таковую орангутанга» (West-Eberhard, 2003, р. 51–52). К сожалению через год козленок случайно погиб. Понятно, что все эти изменения и уподобление кенгуру не было связано с мутациями.
Пример с двуногим козленком – это реальная модель возникновения приспособительных изменений при становлении двуногости у человека. Можно предположить, что эволюционное становление двуногости было двухэтапным процессом и осуществлялось через фенотипическую аккомодацию (физиологическое приспособление организма к хождению на задних конечностях), которая впоследствии становится наследственной через механизм генетической ассимиляции (аккомодации), открытый Конрадом Уоддингтоном.
«Генетическая аккомодация просто является одной из форм естественного отбора (т. е. дифференциальной выживаемости), встречающейся внутри контекста нового селективного режима, вводимого фенотипом» (Moss, 2008, р. 54, выделено нами). В силу ключевой роли измененного фенотипа, к которому приспосабливается генотип, сопряженные процессы фенетической и генетической аккомодации составляют ламарковский механизм наследования приобретенных признаков, как он определен во втором законе самим Ламарком. Важно также подчеркнуть, что при длительных модификациях происходит не просто повторение модификации, но ее усиление (углубление) от поколения к поколению, конечно, до определенного предела. Но этот предел не остается постоянным и по мере изменения генотипа сдвигается, давая организмам дальше изменяться через механизм длительных модификаций.
Становление двуногости у человека как-то связано с неотеническими процессами, на что было давно обращено внимание. Безусловно, дети как растущие организмы, обладают большими фенотипическими возможностями встать на ноги и совершенствоваться в двуногости, чем взрослые. Возможно, что физиологическая аккомодация в этом случае была направлена на то, чтобы по возможности дольше сохранить эту лучшую детскую предрасположенность к двуногому состоянию.
Таким образом, формирование человека произошло только потому, что у его предков возникла потребность (необходимость – словами Энгельса) в использовании орудий труда и он вынужден был встать на ноги и жить в таком двуногом состоянии. Этому современному пониманию проблемы полностью отвечает точка зрения Энгельса, высказанная им в конце XIX века. Но это и есть ламаркизм в чистом виде. Поэтому неудивителен вывод, который делает А. С. Серебровский (с. 71): «Энгельс выступает как определенный сторонник наследования приобретенных признаков».
Согласившись с мнением, что Энгельс был ламаркистом, А. С. Серебровский тут же стал ставить под сомнение свое заключение. «Однако, – пишет он (с. 71–72) – необходимо помнить, в какой обстановке Энгельс эту позицию занял… Статья написана в 1876 г., т. е. в то время, когда даже А. Вейсман был сторонником наследования благоприобретенных признаков… Иными словами, это было время, когда даже крупнейшие биологи-специалисты не обнаружили существенных противоречий между Дарвином и Ламарком…
И поэтому не удивительно если Энгельс, отнюдь не будучи специалистом-биологом, но следя за прогрессом эволюционной теории, лишь стремился быть на уровне с наукой того времени. И когда, например, в 1878 г. в примечаниях к Анти-Дюрингу он пишет; «Естествознание, признав наследственность приобретенных свойств…» и т. д. (там же, с. 135), то ответственность за это конечно ложится не на Энгельса, а на биологию того времени». «Поэтому – заключает А. С. Серебровский (с. 72) – ссылка на Энгельса как на сторонника ламаркизма против неодарвинизма является недоразумением.
А. С. Серебровский хотел сказать, что если бы Энгельс дожил до того времени, когда А. Вейсман выступил против принципа наследования приобретенных признаков, то он бы принял эту новую точку зрения биологов на ламарковскую проблему. Я же думаю, что Энгельс с блеском раскритиковал бы вейсмановские выводы в специальной статье или даже книге, которую, следуя традиции, он мог бы назвать Анти-Вейсман.
А. С. Серебровский не заметил, что принятие вейсмановской позиции делает трудовую теорию происхождения человека, выдвинутую Ф. Энгельсом, просто несостоятельной. Признав, следуя тогдашним биологам, наследование приобретенных признаков, Энгельс именно с этих позиций объяснил эволюционное становление человека. И его объяснение актуально до сих пор. Лучшего пока никто не придумал. На ошибочность статьи А. С. Серебровский, пытавшегося оправдать ламаркизм Энгельса ссылкой на то, что в то время все были ламаркистами, обратил внимание Ф. Дучинский (1930).
Ф. Дучинский (с. 208) начинает с того, что пытается понять какой дарвинизм защищает А. С. Серебровский. Сам он придерживается точки зрения К. А. Тимирязева, который защищая дарвинизм Дарвина от нападок неоламаркистов и неодарвинистов (вейсманистов), сказал следующее: «Новейшие дополнители и совершенствователи дарвинизма – неоламаркисты и вейсманисты – взаимно уничтожаются. Первые желали бы упразднить дарвинизм в пользу ламаркизма, вторые своей поправкой дарвинизма доказывают невозможность ламаркизма. Один только трезвый дарвинизм уделяет ламаркизму принадлежащее ему по праву место в науке».
«Трудовая теория происхождения и развития человека – пишет Далее Ф. Дучинский (с. 209) – обоснованная Энгельсом…. отвергался им [Серебровским] как ложная и научно несостоятельная… Она – незрелый продукт времени безраздельного господства дарвинизма [в смысле Дарвина и Тимирязева]… Она – результат донаучных воззрений в области проблемы наследственности… За созданную Энгельсом трудовую теорию развития человека и за признание им наследственности приобретенных признаков “ответственность ложится, конечно, не на Энгельса, а на биологию того времени” Энгельс не виноват, виноваты биологи, внушившие ему ложные взгляды и направившие работу его мысли в области решения чрезвычайно важной проблемы антропогенеза по ошибочному пути».
Обвинение по тем временам серьезное. И если бы А. С. Серебровский признал свою ошибку и вместе с другими генетиками стал бы более терпимо относиться к ламаркистам, раз за ними стоит непререкаемый по тем временам авторитет, то и развитие генетики в СССР пошло бы по иному неконфронтационному пути. Но история распорядилась иначе.
В описываемые годы все интересовались марксизмом. Поэтому для нас работа Ф. Дучинского интересна также тем, что в ней даются ссылки на Энгельса, Маркса и других видных теоретиков марксизма. В частности, он (с. 210) приводит следующее высказывание К. Маркса из первого тома «Капитала: «Действуя на внешнюю природу и изменяя ее, он [человек] в то же время изменяет и свою собственную природу». А вот мнение Г. В. Плеханова (из его книги К вопросу о развитии монистического взгляда на историю): «В орудиях труда человек приобретает как бы новые органы, изменяющие его анатомическое строение».
В своем ответе Ф. Дучинскому А. С. Серебровский (1930, с. 219–220) называет его статью клеветнической. «Мы считаем неважным для марксизма не вопрос о роли труда, а вопрос о том, как представлял себе Энгельс влияние труда на руку, механизм наследственности в ту эпоху, когда этот механизм не был известен и биологам. Если вы нас обвиняете, то потрудитесь дать цитаты, где бы мы громили не ламаркизм, а марксизм. Иначе сами выпады мы будем считать клеветой. Чем иным являются ваши слова: Попытка оторвать процесс эволюционного развития от развития орудий труда и т. д. ? Где сказано у меня хоть полслова на эту тему? Кто дал вам право монополизировать для ламаркизма объяснения явлений? Кто дал вам право всех несогласных с ламаркизмом зачислять в ревизионисты? Это действительно клевета. Серебровский взгляда Энгельса на ведущую роль труда в эволюции человека не только не ревизует, но всецело разделяет. Весь разговор идет только о том, как представить себе механизм влияния труда на эволюцию человеческой руки» (выделено в оригинале).
Тон безусловно не совсем подобающий, но возможно был вызван суровыми реалиями постреволюционного времени. Здесь надо помнить, что ламаркизм был в то время главной идеологической опасностью в биологических науках. И если А. С. Серебровский утверждает, что он полностью разделяет взгляды Энгельса на роль труда, то обвинение его самого в ревизии марксистских положений – это не только клевета на него, но и серьезный выпад против взглядов Энгельса, их механистическое искажение.
Почему же Ф. Дучинский пришел к мысли, что Энгельс ламаркист, если А. С. Серебровский это отрицает. Но он это отрицает в своем ответе Ф. Дучинскому. И по тем временам такой поступок можно понять. Мы привели две его выдержки из первой статьи, в которых утверждается, что Энгельс ламаркист. Для большей убедительности приведем вторую из этих цитат в более широком формате (1930, с. 71): «Весь процесс эволюции человека Энгельс представляет себе здесь как чисто физиологический процесс: изменение питания на почве изменения пищи или изменения количества работы ведет к изменению органа и этот процесс из поколения в поколение усиливается. Здесь таким образом Энгельс выступает как определенный сторонник наследования приобретенных признаков».
А. С. Серебровский утверждал, как мы видели, что механизм наследственности в ту эпоху не был известен; «сама биология ничего толкового по этому поводу не знала», поэтому «от того или иного изменения в этих взглядах Энгельса [на механизмы наследования] конечные выводы его статьи ни сколько не изменяются». Это, конечно, не так. В ту эпоху был известен лишь один механизм изменения наследственности – ламарковский. Механизм изменения наследственности через мутационный процесс стал известен лишь XX веке. Поэтому Энгельс, как и большинство его современников, признававших эволюцию, был ламаркистом.
Теперь давайте рассмотрим вопрос, стал бы Энгельс противником Ламарка в том случае, если бы ключевые открытия в генетике произошли при его жизни. Посмотрим, как объясняет А. С. Серебровский происхождение человека с позиций генетики. Вот что он по этому поводу пишет (1929, с. 224, выделено в оригинале):
«Тезис “труд влияет на эволюцию человеческой руки” можно понимать двояко: как процесс физиологический, или как процесс исторический (или, как я выразился точнее, окольно причинный),[34] в первом случае механизм этого влияния предполагается таким: рука упражняется в труде, от этого возникают какие-то влияния со стороны руки на половые клетки, клетки эти меняются, отчего оказывается измененным и ребенок трудящегося, в частности рука его оказывается измененной в том же направлении, в каком изменилась и рука его родителя».
«Во втором случае механизм влияния труда на эволюцию руки представляется так: так как условия жизни предка человека требовали от него труда, то те особи, руки которых на почве наследственной изменчивости подходящим образом изменялись, оказывались в более выгодных условиях борьбы за существование и выживали чаще, чем их менее удачные соперники, а так как здесь речь идет о наследственной изменчивости, то дети этих индивидуумов оказывались носителями таких же (качественно) изменений, как и их победившие отцы».
Сразу следует сказать, что это второе объяснение никуда не годится ни с позиций биологии, ни с точки зрения социальных наук. Оно не отражает специфику описываемого эволюционного процесса и в этом смысле пригодно на все «случаи жизни». А раз так, то это объяснение ничего не дает для понимания именно данного конкретного примера процессов перехода от обезьяны к человеку. Это находится в резком контрасте с тем, как подходит к решению проблемы Энгельс. Он конкретно разбирает, какие изменения и в какой последовательности могли иметь место при становлении человека; показывает сложный характер изменений, как взаимообусловленных, так и разнородных, идущих параллельно: становление двуногости и прямой походки, преобразование передних конечностей в руки, изменением режима питания и, как результат внутреннего химизма, увеличение гортани.
Каким образом могла возникнуть в первобытном обществе борьба за существование и отбор «профессионалов» в деле лучшего владения орудиями труда. Почему в первобытном обществе должны вымирать менее искусные в труде сочлены. Они вполне могут восполнить свой недостаток, просто затрачивая на работу больше времени или каким-то другим способом. Эта явная биологизация социальных отношений. И такая позиция А. С. Серебровского удивляет. Ведь годом раньше он эту позицию осуждал. Говоря о попытках Л. С. Берга в Номогенезе свести филогенез к физиологии он пишет (1929, с. 57): «Поэтому как Ламарк, так и Берг должны быть классифицированы как представители физиологизма в эволюционном учении. Их позиция в биологии оказывается совершенно подобной позиции биологизма в социологии, пытавшегося все социальные явления истолковывать в терминах биологии (борьба за существование, отбор наиболее приспособленных и пр. ), и должна быть поэтому подвергнута той же самой критике» (выделено в оригинале).
Или он полагал, что в первобытном обществе система социальных отношений еще не сформировалась и через отбор еще только шло генетическое становление будущих классов. Модель, которую предлагал в то время А. С. Серебровский, лила воду на мельницу евгеники с ее генетическим объяснением превосходства властной, экономической, военной и т. д. элит, с ее проектами (выдвигавшимися, как это не покажется странным, именно в СССР) создания генетических типов, специализирующихся в области управления, на занятиях наукой, на работе у станка и на пшеничном поле. Как А. М. Деборин пропустил такую статью, не выдерживающую критики ни с биологических, ни с марксистских позиций.
Неодарвиновское объяснение, предложенное А. С. Серебровским, находится в резком контрасте с точкой зрения Энгельса, который дал непротиворечивое и вместе с тем содержательно понятное описание перехода от обезьяны к человеку. О чем и говорил в своей статье Ф. Дучинский. Поэтому, возможно, не беспричинно А. М. Деборин обвинялся в непримиримости к одним и примиренчестве с другими.
Первый тип объяснения является ламаркистским, второй – неодарвинистским. «Ламаркистский метод объяснения – пишет дальше А. С. Серебровский – надо признать механистическим, поскольку он утверждает сводимость филогенетического процесса к физиологии и отрицает качественную специфичность филогенеза, неодарвинистический же способ толкования надо признать диалектическим, поскольку он проводит эти качественные границы [между физиологией и филогенией] и ищет специфических факторов, адекватных специфическому процессу филогенеза».
«Повторяю, – заключает ученый (с. 224) – только об этом механизме и идет речь в моей статье [1929 г. ], а вовсе не о том – влиял ли или не влиял труд на эволюцию руки. И поэтому нужно не клеветать, а перечитать, напр., последнюю страницу моей статьи, где в разрядку набрано, что “в том примере, который разбирал Энгельс физиологический метод объяснения не встречался ни с какими противоречиями”. Отсюда, очевидно, вовсе не следует, что если физиологический метод объяснения этого явления (т. е. влияния труда на эволюцию руки) сейчас надо считать устарелым, то отпадает и сам тезис “труд влияет на эволюцию руки”. Откуда такой логический скачок? Когда мы говорим, что шея жирафы удлинилась не потому, что жирафы из поколения в поколение вытягивали, свою шею, стараясь дотянуться до высоких ветвей деревьев-это не значит, что мы отрицаем то, что жирафа действительно произошла от нормальношеих предков».
Как это сравнение помогает понять сказанное в отношении человека. Ведь если следовать логике, то в первом случае надо было сказать: «это не значит, что мы отрицаем тот факт, что рука человека возникла в результате эволюционного преобразования передней конечности обезьяны». Поэтому вопрос о том, как все же “труд влияет на эволюцию руки” остается у А. С. Серебровского (но не у Энгельса) по-прежнему без ответа. Не приняв ламарковское объяснение, использованное Энгельсом, и дав свое, которое просто не выдерживает критики, А. С. Серебровский по существу отверг энгельсовскую теорию происхождения человека, о чем и говорил Ф. Дучинский.
Между тем в той же статье, в которой А. С. Серебровский говорил об Энгельсе, он по существу описал возможный механизм закрепления генетических изменений в процессе становления человека. Он (1929, с. 70), остановился на известной мутации безглазости (eyeless) у дрозофилы и отметил, что «в старых культурах наблюдается некоторый, иногда почти полный возврат к нормальной внешности… Элементарными опытами скрещивания можно доказать, что… мутация безглазости сохранилась в том же совершенно неизменном виде, как была и раньше, и что изменение признака, вернее его возврат к старому состоянию, вызван накоплением многих, обычно мелких других мутаций, которые своим совокупным действием подавляют проявление гена безглазости и снова дают возможность глазу развиваться нормально».
Из этого А. С. Серебровский делает следующий вывод, с которым можно согласиться: «Следовательно один и тот же фенотип может быть реализован и действительно реализуется при совершенно различных генотипах. Тем самым делается ясным, что эволюция генотипа может идти не отражаясь на фенотипе». Немного изменить ракурс рассмотрения и мы получим эволюционно значимый вывод: в некоторых случаях генотип приспосабливается к фенотипу. И становление двуногости у человека как раз может быть таким случаем, когда генотип приспосабливается к новой приобретенной физиологической норме. К сожалению, генетики просмотрели такое решение, но его увидел И. И. Шмальгаузен, а решение последнего – американцы, опубликовавшие перевод книги советского ученого (в 1949 г. ), а впоследствии переиздавшие ее (Schmalhausen, 1986). И после этого идеи И. И. Шмальгаузена так и остались невостребованными нашими генетиками.
Энгельс говорил о сложных системных изменениях, которые имели место в процессе становления современного человека. «Но рука – подчеркнул он (1934, с. 51–52) – не была чем-то самодовлеющим. Она была только одним из членов целого, необычайно сложного организма. И то, что шло на пользу руке, шло также на пользу всему телу, которому она служила, и шло на пользу в двояком отношении. Прежде всего, в силу того закона, который Дарвин назвал законом соотношения роста… Постепенное усовершенствование человеческой руки и идущее рядом с этим развитие и приспособление ноги к прямой походке несомненно оказали, также и в силу закона соотношения, обратное влияние на другие части организма… Наши обезьяноподобные предки, как уже сказано, были общественными животными… развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало ясней польза этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе орган: неразвитая гортань обезьяны преобразовывалась медленно, но неуклонно путем постепенно усиливаемых модуляций, и органы рта постепенно научались произносить один членораздельный звук за другим». Кроме того, Энгельс разбирает вопрос о биохимических предпосылках становления человека.
А. С. Серёбровский пытается эти сложные системные адаптации свести к постулируемым мутациям, связанным с изменением руки. Это и есть пример механистического упрощения сложного эволюционного процесса.
Давайте теперь посмотрим, насколько правильно изображает позицию ламаркистов, включая Энгельса, А. С. Серебровский. Начнем с одного его ошибочного утверждения, уходящего своими корнями в натурфилософские построения А. Вейсмана. По А. С. Серебровскому, чтобы изменения в руке, возникшие под действием труда, могли быть переданы потомству, необходимы «какие-то влияния со стороны руки на половые клетки». Этот метафизический механизм независимого от всего организма действия руки на половые клетки придумал не Ламарк, но его противник А. Вейсман (у того вместо руки речь шла о влиянии хвоста на половые клетки). У Ламарка, как и у его последователей ламаркистов на среду реагирует весь организм в его целостности, а уж в какие конкретно надклеточные, внутриклеточные и молекулярные механизмы это может вылиться – решить данный вопрос чисто умозрительно, как пытались это сделать А. Вейсман и А. С. Серебровский, невозможно.
Теперь о механистическом смешении физиологии с филогенезом, о которой говорил А. С. Серебровский. Приведем еще раз второй его тезис: половые клетки, по мысли ламаркистов, у родителя под действием труда меняются, поэтому рука его ребенка «оказывается измененной в том же направлении, в каком изменилась и рука его родителя». Но ведь это опять придумали за ламаркистов генетики с той, видимо, целью, чтобы проще было критиковать ламаркистов.
В самом простом случае ребенок, обучающийся труду, также как и его родители, но независимо от них приспосабливается к трудовой деятельности. Здесь говорить о какой либо передачи физиологических изменений руки от родителя детям не приходится. Вполне можно было бы ограничиться только этим для примирения между ламаркистами и генетиками. В этом случае физиологическое приспособление канализует поток мутаций, фиксируя через отбор те из них, которые генетически поддерживают это новое физиологическое состояние. Т. е. принять теорию органического отбора Дж. Болдуина, который предположил возможность замещения ненаследственной изменчивости наследственной через отбор мутаций, дающих сходный фенотип. Это решение в свое время поставило в тупик Симпсона. Как же может среда (в нашем случае труд) влиять на организм (в нашем случае на эволюцию руки), если мутационный процесс идет независимо от действия среды на организм? Симпсон поэтому отверг (Simpson, 1953, р. 112) теорию органического отбора; она ему казалась излишним усложнением. Ошибка Симпсона и генетиков была связана с тем, что они чисто умозрительно решили, что эволюция идет исключительно за счет мутаций (в значении поломок) генов, происходящих случайно и действующих независимо. Но приведенный выше пример с геном безглазости показывает, негативное действие гена может быть сведено на нет большим числом мелких мутаций, которые если и происходят случайно, то в силу их малости с большей частотой. Только два исследователя пытались выйти из этого тупика – И. И. Шмальгаузен (в нашей стране) и Конрад Уоддингтон на западе (см. подробнее Шаталкин, 2015).
Отметим еще один важный для понимания темы момент. Ламаркисты обнаружили, что физиологическая реакция на казалось бы один и тот же фактор среды усиливается (имеет какие-либо новые нюансы) в ряду последовательных поколений. Это изменение реакции, проявляющейся при всем ее сходстве по разному у родителей и детей, получило название длительных модификаций. Характерным их признаком является то, что при снятии средового воздействия организмы возвращаются в старую норму не сразу но в течение нескольких поколений. У организмов, размножающихся бесполым путем, например, у тлей это последействие может продолжаться в течение 10 поколений. При половом процессе последействия может не быть, но не всегда. Это означает, что длительные модификации обеспечиваются разными наследственными механизмами.
Почему в данном случае можно говорить о наследственных механизмах? Потому что физиологическая реакция дочернего организма на действующий фактор имеет больший отклик, если сравнивать его с морфо-функциональным состоянием материнского организма, на который действует тот же фактор. Поскольку физиологическая реакция не может изменяться от поколения к поколению; в пределах родственной линии потомков она должна быть однотипной, то соответствующие различия не являются источником физиологических процессов, а определяются передачей дочернему организму того морфо-функционального состояния, которого достиг под действием факторов среды материнский организм. Никакого сведения (смешения) филогенеза к физиологии в этом случае, конечно, нет.
Рассмотрим еще один аспект той же проблемы. А. С. Серебровский (с. 227) приводит следующую выдержку из работы Ф. Дучинского (с. 218): «Что между физиологическим и филогенетическим процессами может существовать не противоречие (а я говорю все время не о противоречии, а о качественном различии. А. С. ), а полная одинаковая направленность в развитии, видно из следующего примера: Между развитием грудных мышц и киля грудной кости и развитием крыльев у птиц существует коррелятивная связь и зависимость. Чем сильнее развиты крылья, тем сильнее грудные мышцы и киль. У птиц с рудиментарными крыльями отсутствует киль и слабо развиты грудные мышцы, но зато… Описанное явление объясняют (! А. С. ) тем, что упражнение крыльев приводило… к более сильному развитию грудных мышц и грудного киля, неупотребление крыльев приводило к обратному результату. Увеличение крыльев представляло селекционную ценность и подлежало действию отбора, физиологический и филогенетический процессы шли в данном случае в одном и том же направлении, усиливая и ускоряя и не в малой мере не исключая друг друга».
А. С. Серебровский говорит, что сказанное Ф. Дучинским не имеет отношения к спору о качественном различии физиологии и филогенеза. «В жизни индивида имеет место первое [т. е. физиология], в жизни вида – второе. Механисты пытаются смазать эту разницу, как и в тысяче других примеров, распространить физиологический процесс на историю вида».
Здесь мы хотим обратить внимание на другое. Ф. Дучинский подошел к открытию органического отбора Дж. Болдуина, о котором ни он сам, ни А. С. Серебровский, видимо, мало что знали, раз о нем не упомянули. Теория органического отбора, предложенная Д. Болдуином и Ллойд Морганом, и независимо от них Г. Осборном (см. подробнее: Шаталкин, 2009), предлагает возможность унаследования (ненаследственных) модификаций через отбор совпадающих вариаций, т. е. мутаций, которые по своему фенотипическому выражению совпадают с модификациями. В данном Ф. Дучинским объяснении необходимо пояснить, что увеличение крыльев просто так в силу возникновения подходящей мутаций скорее всего не будет иметь филогенетических последствий для вида. Пока нет потребности в связи с изменившимися природными обстоятельствами к большим полетным нагрузкам, нет и необходимости в мутациях, обеспечивающих на генетическом уровне эти возможности.
И еще об одном искажении ламаркистских взглядов. «Дучинский… – пишет А. С. Серебровский (1930, с. 225) – счел почему-то нужным сослаться на опыты Гаррисона и Гаррета, получивших якобы наследственное изменение (“черная окраска крыльев”) бабочки Selenia кормлением гусениц солями марганца… так как в этих опытах никакой адекватности раздражителя и реакции нет, то для ламаркистского истолкования механизма влияния труда на эволюцию руки человека они ничего не дают» (выделено нами).
Откуда А. С. Серебровский взял, что ламаркисты, признавая возможность наследования адекватных изменений, должны отрицать аналогичные случаи наследования слабо адекватных, индифферентных и просто вредных изменений. Это же лишено какой либо логики – признать наследование положительных изменений и не признавать все другие случаи. Я такую позицию генетиков связываю с тем, что в этом случае ламаркистов легко обвинить в признании изначальной целесообразности и в смыкании по этому вопросу с идеалистами. И в своем ответе Ф. Дучинскому А. С. Серебровский (с. 226) это подтверждает: «… развитие генетики показало, что между данными современной науки и ламаркистскими толкованиями явлений имеется решительное противоречие и что для истолкования явлений в ламаркистском стиле необходимо в ряде пунктов допустить участие мистического принципа». А. С. Серебровский в поддержку своей точки зрения ссылается на статью М. М. Местергази «Эпигенезис и генетика», о которой мы скажем в разделе 5. 6. Конечно, если признавать вслед за А. С. Серебровским, что наследуются только благоприобретенные признаки, а все другие изменения не наследуются, тогда придется допустить, что организм чудесным образом осведомлен в том, что ему по жизни нужно, чтобы не забыть это нужное передать потомству. Но у Ламарка ничего такого нет.
Итак, заключаем. То, что в наше время активно обсуждается в качестве научной модели основных этапов очеловечивания наших обезьяньих предков можно с полным основанием назвать теорией Фридриха Энгельса, о которой на западе скорее всего не подозревают. Энгельс по своим взглядам был ламаркистом. А. С. Серебровский сначала признал это, а потом, когда стало понятно, что это чревато обвинением Энгельса в механистическом искажении марксизма, начал поиск оправдывающих доводов, обвиняя ламаркистов в клевете на него.
Теперь попробуем оценить позицию политиков в отношении споров биологов в понимании разбираемой работы Ф. Энгельса. Удивляет позиция А. М. Деборина. Почему он, приняв к публикации статью Ф. Дучинского, решил дать ответное слово А. С. Серебровскому, т. е. тому, кого критиковал Ф. Дучинский. В нормальной ситуации научного противостояния так и должно было быть. Но здесь речь идет о политике. А. М. Деборин возглавляет отряд воинствующих диалектиков, которые ведут непримиримую борьбу с механистическим искажением марксизма. Речь идет об обвинении в механицизме классика марксизма Ф. Энгельса. А он самоустранился от этого дела предоставив самому А. С. Серебровскому выходить из щекотливого положения, в котором оказались диалектики. Но А. С. Серебровский не мог убедительно объяснить, почему Ф. Энгельса нельзя считать ламаркистом. Следовательно, А. М. Деборин должен был сказать свое авторитетное мнение, интересующее практически всех членов Партии и не только. Для них это жизненно важно. И прямая обязанность руководителя философского фронта помочь рядовым партийцам разобраться в этом сложном вопросе о позиции Ф. Энгельса.
Давайте войдем в положение А. М. Деборина. Вот Ф. Дучинский принес ему статью, которую нельзя отклонить по формальным соображениям. Статья касалась взглядов Энгельса, одного из вождей марксизма. А. М. Деборин считался специалистом по творчеству Энгельса. И приняв к публикации статью, он вдруг стал сомневаться в выводах автора по вопросу о ламаркистских взглядах Энгельса. И под предлогом, что речь идет о научной полемике, он дал высказаться противоположной стороне в лице генетика А. С. Серебровского.
Речь, однако, шла не о научных спорах, но о политическом вопросе – был ли Ф. Энгельс механистом. К тому времени механисты проиграли в своих спорах с диалектиками. И тут возникло новое препятствие. Высказывается мнение, что Ф. Энгельс является приверженцем ламарковской доктрины, только что осужденной диалектиками как механистическое искажение марксизма.
По идее А. М. Деборин, если принял к публикации статью Ф. Дучинского, должен был сам написать на нее отзыв, не передоверять это дело биологу, раз вопрос касался репутации вождя марксизма. Ответное слово А. С. Серебровского оказалось слабым по своей аргументации. Хуже то, что А. С. Серебровский обвинил Ф. Дучинского в клевете на него и тем самым на Энгельса, закрыв в результате полемику. Кто же после этого будет указывать А. С. Серебровскому на логические и предметные изъяны в его объяснении точки зрения Энгельса. В итоге интереснейшую тему, доставшуюся нам как бы по наследству от коммуниста Фридриха Энгельса, положили на долгие годы под сукно. Вина за это ложится на А. М. Деборина. Он позволил А. С. Серебровскому использовать недозволенные приемы в полемике. А ведь эта тема могла бы обеспечить согласие между наши-ми генетиками и ламаркистами и вывести их на новый уровень обобщений в описании явления наследственности. В этой связи можно вспомнить об интересных опытах И. А. Аршавского (1976, 1982), которые так и остались невостребованными, возможно, по причине их концептуальной связи с ламаркизмом. И. А. Аршавский (1976, 1982) выявил ключевую роль физиологического стресса – напряженной двигательной активности животных и человека, не переходящей норму, в повышении основных жизненных показателей, связанных с ростом и развитием. Он, в частности, заставлял крольчат подолгу плавать. В итоге они выросли, обретя заячий облик, и, как результат, не могли спариваться с кроликами. Изменения коснулись не только габитуса, но и многих физиологических параметров. Главное, что необходимо подчеркнуть, так это уподобление кролика зайцу. Получилось не какое-то там уродливое создание, а животное, похожее на зайца. И это, как особо подчеркнул Ю. В. Чайковский (2006, с. 265), имеет непосредственное отношение к эволюции: адаптивно сбалансированные формы в процессе эволюции могут измениться в новые, но столь же сбалансированные организмы. Но вернемся к рассматриваемой здесь теме.
Итак, у нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему А. М. Деборин поддержал А. С. Серебровского, давшего никуда не годное с марксистских позиций неодарвиновское объяснение перехода от обезьяны к человеку. Ведь ни до этого, ни после он старался не высказывать свою позицию по вопросу о так называемых ламаркистских «заблуждениях» Энгельса, хотя и обсуждает соответствующую работу Энгельса, правда, все по каким-то иным проблемным вопросам.
В таком случае снова возвращаемся к нашему вопросу. Почему А. М. Деборин своей позицией поддержал А. С. Серебровского? (для воинствующего материалиста невмешательство в дело, его касающегося, означает молчаливое согласие с ним). Чей политический заказ он выполнял? Видимо, разговоры об этом шли по всей Москве, что вынудило его сказать на совещании Президиума Комакадемии, проходившем 17–20 октября 1930 г., что он не имеет отношения к спорам генетиков и ламаркистов. На этом совещании как раз критиковалась позиция А. М. Деборина, получившая название «меньшевиствующего идеализма». Вот что конкретно сказал А. М. Деборин в своем заключительном слове (Разногласия…, 1931, с. 265): «Я принимаю то, в чем действительно повинен, и не могу принять того, к чему я отношения не имею. Я, конечно, не несу ответственность за естествознание вообще, я даже не несу ответственность за «Естествознание и марксизм». Членом редакции я не состою, никакого отношения к этому журналу не имею».
Поводом послужила критика А. М. Деборина на том же совещании со стороны И. И. Скворцова-Степанова (Разногласия…, 1931, с. 232–233), который выразил недовольство тем, что «никуда не годная в области общественных наук преформистская теория в настоящее время очень усиленно поддерживается в биологии школой т. Деборина (С места. Неправда) и приводит к очень печальным последствиям. С чего началось дело? Дело началось с того, что полтора года тому назад в органе Коммунистической академии, издававшемся под непосредственным влиянием философского руководства, а именно в журнале «Естествознание и марксизм» появилась статья т. Серебровского, в которой подвергается критике и ревизии взгляд Энгельса. ив первую очередь положение Энгельса о том, что рука есть не только орудие труда, но и продукт труда. Вот с чего началось. А к чему это привело? К тому, что весной этого года в медико-биологическом журнале появилась статья т. Серебровского «Антропогенетика и евгеника в социалистическом обществе», которую раскритиковал в пух и прах Демьян Бедный».
Сказав, что он не несет никакой ответственности за журнал «Естествознание и марксизм», в котором была напечатана проблемная статья А. С. Серебровского, А. М. Деборин, однако, забыл упомянуть о продолжении дискуссии по этому вопросу на страницах журнала «Под знаменем марксизма», который к нему как раз имел самое прямое отношение.
Но ведь не только он один забыл об этом. Вот что сказал М. Л. Левин (Разногласия…, 1931, с. 240) на том же совещании: «Я мог бы привести много наших ошибок. Что касается ошибок в работе Серебровского, то я должен сказать, что Серебровский затронул важнейшую теоретическую тему, от которой нельзя отмахнуться словечками, как это сделал Максимов в своей рецензии, ссылаясь просто-напросто на слова Энгельса. Вопрос сейчас стоит не о естествознании 1876 г. [года написания работы по происхождении человека], а о естествознании 1930 г., когда реконструкция животноводства и растениеводства требует строжайшего развития точных методов генетики».
М. Л. Левин забыл упомянуть серьезную критику работы А. С. Серебровского, с которой выступил Ф. Дучинский, обратив внимание совещания лишь на слабую критическую работу Максимова. Обращаясь с трибуны к Максимову, он сказал (с. 238): «… одна опасность заключается в том, что мы либо ударяемся в узкую специализацию, либо будем витать в области общих абстрактных фраз и общей формальной критики, как это замечательно ярко показывает совершенно неверная статья т. Максимова в отношении критики ошибок Серебровского. Вы, т. Максимов, сути проблемы не понимаете». Если упомянутым критиком А. С. Серебровского был физик А. А. Максимов, тогда ничего удивительного нет в том, что его критика могла быть слабой.
Совещание было посвящено разбору политических ошибок, вменяемых сторонникам А. М. Деборина. Темы ламаркизма в повестке совещания не значилась. Биологи на этом совещании если и присутствовали, то не выступали. Тем не менее вопрос о А. С. Серебровском с его особым мнением об обсуждаемой нами работе Энгельса был у всех на слуху, если М. Л. Левин счел необходимым на совещании поддержать ученого, а А. М. Деборин открыто отмежевался от спорных с марксистских позиций высказываний А. С. Серебровского.
Генетики имеют право и должны защищать свои научные позиции, равно как и ламаркисты – свои. Но когда политики и философы в СССР, стоявшие до середины 1920-х годов и даже позже на ламаркистских позициях, вдруг переходят на противоположные позиции безоговорочной поддержки генетиков в их противостоянии с ламаркистами и не объясняют понятно свои действия, то этому следует искать какие-то серьезные политические мотивы. Давайте посмотрим, что можно сказать по этому поводу.
5. 5. Позиция И. В. Сталина как главного политика СССР тех дней
Почему Сталин вмешался в споры философов? Говорят, что как Диктатор он хотел подчинить своему контролю все сферы общественной и государственной деятельности. Понятно, что такой ответ ничего не объясняет, поскольку исходит из ничем не доказанной посылки наличия в характере Сталина отрицательных черт, сделавших его, когда он достиг власти, тираном.
Начальной точкой развертывания борьбы с группой А. М. Деборин послужило выступление Сталина 27 декабря 1929 г. на конференции аграрников-коммунистов. В своей речи Сталин (1936 [1929], с. 299), в частности, сказал: «Но если мы имеем основание гордиться практическими успехами социалистического строительства, то нельзя то же самое сказать об успехах нашей теоретической работы в области экономики вообще, в области сельского хозяйства в особенности. Более того, надо признать, что за нашими практическими успехами не поспевает теоретическая мысль, что мы имеем некоторый разрыв между практическими успехами и развитием теоретической мысли. Между тем необходимо, чтобы теоретическая работа не только поспевала за практической, но и опережала ее, вооружая наших практиков в их борьбе за победу социализма» (выделено Сталиным).
В конце 1930 г. состоялась беседа бюро парторганизации ИКП (Института красной профессуры) со Сталиным по тому же вопросу об отставании теории от реальной практики социалистического строительства. Критике подверглось «антипартийное идеалистическое извращение марксизма группой Деборина и др., проводившей борьбу против линии партии в философии и воскресившей вреднейшую догму II Интернационала – отрыв теории от практики» (из Краткого философского словаря, 1940, с. 166). Заявления Сталина были закреплены рядом постановлений ЦК ВКП(б) и Правительства, т. е. имели серьезное государственное обеспечение, обязывающее коммунистов к неукоснительному их выполнению.
В. П. Милютин на уже упоминавшемся совещании Президиума Комакадемии сделал доклад в котором перечислил основные претензии к работе философов и к руководимым ими учреждениям. Содокладчиком и защищающейся стороной был А. М. Деборин.
Вот что говорил В. П. Милютин (Разногласия…, 1931, с. 3) о главной опасности: «Тут опасность имеется очень серьезная, потому что и в работе этих учреждений [Коммунистической академии и других “которые являются штабом нашей философской мысли”] и в произведениях руководящей головки этих учреждений начинают проявляться и формалистического характера тенденции, сущность которых заключается в отрыве теории от практики». Значит, Сталин на конференции аграрников-марксистов призвал интеллигенцию повернуться лицом к практике. Вот его основная забота как руководителя строящегося государства.
Другой опасностью является «… недооценка Ленина как философа, недооценка наследства Ленина в области философии… замалчивание роли Ленина как философа» (с. 4).
Третья опасность – недооценка троцкизма: «Если они [философы] прошли мимо троцкизма, то троцкизм мимо них на прошел… Тот факт, что Институт философии прошел мимо троцкизма, – это не случайность. Далее, Институт философии прошел мимо и правого уклона… Что механисты уходят корнями в богдановщину, что механисты явились по существу основой для правого уклона – это обосновывать сейчас не приходится… Троцкисты и правый уклон растут в сущности из одного корня. Сейчас даже формально отличить троцкизм от правого уклона становится трудно» (с. 9).
Я привожу эти данные, чтобы было понятно, что для ученых-естественников были поставлены ясные и вполне выполнимые ограничения в их научной деятельности: повернуться лицом к практике и не лезть в политику, причем ни на стороне Партии, ни на стороне ее противников. В то же время философы обязаны поддерживать политику Партии в их борьбе с различными «антипартийными уклонами». В этом заключается их практический вклад в дело построения социализма. А они стараются этого не касаться, споря с теми, кто не представляет опасности для социалистического государства и даже являются по факту его защитниками.
Этот момент был подчеркнут в следующих словах В. П. Милютина (с. 10): «Следующее – это борьба с кондратьевщиной, которая ведется уже давно, борьба с базаровщиной. Велась ли эта борьба в какой бы то ни было степени? Не велась совершенно… Это также показывает отрыв философии от конкретной политической борьбы. До сих пор молчат по этому поводу. До сих пор посвящают журнал “Под знаменем марксизма” критике Митина, Ральцевича и др., а базаровщину и кондратьевщину не освещают».
Марксисты-теоретики, начав свободную борьбу против несогласных с ними, неминуемо могли затронуть в своей критике тех, к которым по мнению стоящих у власти политиков они отнеслись предвзято. Эта так называемая марксистская критика по определению не могла быть объективной и не только по причине разной, нередко низкой подготовленности идеологов, т. е. из-за субъективных моментов. Куда хуже, что за этой критикой могли стоять и часто стояли чьи-то политические интересы и необязательно государственные. Вот эту идеологическую вольницу власти и решили запретить. Теперь государство сочло необходимым возглавить идеологическую борьбу и решать, против кого и в каком формате можно и нужно выступать с политической критикой, т. е. навели в этом деле государственный порядок, который почему-то рассматривается как тоталитаризм.
Суть новой государственной политики, связанной с грандиозными планами социалистического строительства, можно выразить следующей сентенцией: пора сосредоточить внимание не на критике, но на деле, а если критиковать, то только под контролем государства. Об этом хорошо сказал авторитетный политик Емельян Ярославский (Разногласия…, 1931, с. 134), выход которого на трибуну кажется, единственного из выступавших, был встречен аплодисментами: «… основные ошибки правильно подмечены теми молодыми товарищами [речь идет об упомянутых выше Митине, Ральцевиче и др. ], которые набрались храбрости в 1930 г. выступить с критикой. Основная ошибка заключается в разрыве теории и практики, в отставании в том, на что указал Сталин на конференции аграрников-марксистов и на что не реагировали по-настоящему и до сих пор, по существу дела. И до сих пор в переходе от рассуждений о том, что Сталин прав, – к практическому исправлению того, о чем говорил Сталин, – даже через полгода почти ничего не сделано» (выделено в оригинальном тексте).
Еще один момент отметил Е. Ярославский, важный для понимания новой политики Сталина, которую, к сожалению, не удалось воплотить в жизнь. Обращаясь к критикуемым партийцам, он сказал (с. 141): «Но если вы возьмете отношение Ленина к ошибкам, то вот например Ленин считал т. Деборина в 1921 г. марксистом, а т. Деборин, т. Стэн и др. отказываются признавать т. Сарабьянова, т. Скворцова-Степанова и. д. ». Это, я думаю, не личная инициатива Е. Ярославского, но высказанное через него пожелание Сталина сбавить показную воинственность и непримиримость в спорах между своими. Возможно, что Сталин хотел во внутренней политике следовать прагматичной американской практике, сводящейся к тому, что своих без разрешения не ругаем и не позволяем это делать чужим, но чужих ругать по делу не возбраняется.
Сказанное можно подкрепить выдержкой из постановления ЦК ВКПП(б) от 21 января 1931 г. о журнале «Под знаменем марксизма»: «Журнал “Под знаменем марксизма” должен быть боевым органом марксизма-ленинизма, вести решительную борьбу за генеральную линию партии, против всяких уклонов от нее… В области философии журнал должен вести неуклонную борьбу на два фронта: с механистической ревизией марксизма… так и с идеалистическим извращением марксизма группой… Деборина и др. Важнейшей задачей “Под знаменем марксизма” должно быть… разработка ленинского этапа развития диалектического материализма, беспощадная критика всех антимарксистских и, следовательно, антиленинских установок в философии, общественных и естественных науках. Журнал должен разрабатывать теорию материалистической диалектики, вопросы исторического материализма в тесной связи с практикой социалистического строительства» (Справочник партийного работника, 1934, Вып. 8, с. 340; выделено нами).
В постановлении ясно сказано, что теперь задача философов в политике должна быть связана с решительной борьбой за генеральную линию партии. Из текста постановления также следует, что группа Деборина не вела или плохо вела борьбу в отстаивании интересов партии. Отставание теоретической работы от запросов практики выразилось в том числе в беспрепятственном распространении антимарксистских, антиленинских теорий, о которых сказал Сталин в своей речи перед аграрниками-коммунистами. Он, в частности, критически разобрал теории «равновесия», «самотека», «устойчивости» мелкокрестьянского хозяйства, для оценки которых у марксистов диалектиков не нашлось времени, не в пример выдвинутого против ламаркизма обвинения в механицизме.
Этой практики действия философов по своему усмотрению постановлением положен конец. Почему группа Деборина присвоила себе право указывать другим, как надо правильно философствовать. Это несправедливо. Если вводятся ограничения на свободу мнений (а они во всех странах имеются), то эти ограничения должны идти только от имени государства, но не от каких-то групп, решивших подменить собой государство. Е. Ярославский в своем выступлении, упомянутом выше, рассказал, как в 1921 г. он обратился к В. Н. Ленину с просьбой разрешить привлечь А. М. Деборина к чтению лекций по основам марксизма. В. И. Ленин эту инициативу поддержал. Более того, он разрешил привлечь к работе Л. И. Аксельрод, кандидатура которой была отвергнута низовыми организациями. По мнению В. И. Ленина, их опыт и богатые знания по теории марксизма безусловно надо использовать, но одновременно приглядывать за ними. А. М. Деборин решил, что этот контроль за приглашенными спецами его не касается и стал лезть в политику.
Теперь, с принятием постановления Партия определяет и решает, что считать уклоном, отходом от марксизма-ленинизма, но не сами философы, как это практиковалось ими раньше. Это новая политика в области идеологии помогла спасти ламаркизм от полного искоренения. Что касается самих ученых-естественников, то провозглашенная в постановлении «беспощадная критика всех антимарксистских установок в естественных науках» не является их задачей и если они по мнению философов, т. е. теперь как бы по решению государственной власти идеологически оступились, то это надо принять к сведению и исправиться. Ученые должны заниматься наукой и не лезть в идеологические споры, т. е. в политику. Если уж им это так хочется то на это надо получить разрешение со стороны государственной власти, самодеятельность в этом деле теперь не поощрялась. В этой связи поучителен пример биохимика С. С. Перова. Когда его стали вынуждать покаяться как ламаркиста в механистических ошибках, то он отверг все обвинения как субъективные, идущие от меньшевиствующих идеалистов. В правительственных постановлениях ни о ламаркизме, ни обо мне лично ничего не сказано. Поэтому укажите конкретно, в чем я ошибался, а уж упорствовать в неприятии самокритики я не буду. Мы уже видели, что никаких серьезных обвинений ламаркистов со стороны идеологов не было. Кто же в новых условиях решится снова выдвинуть политические обвинения против ламаркистов. Теперь надо получить на это разрешение сверху, а самодеятельность в этом деле может быть строго наказана. Поди определи, с какими целями низовые организации начали идеологическую кампанию против ученого. И от С. С. Перова отстали.
Все, о чем мы сейчас говорим, это выражение политики И. В. Сталина как руководителя государства. Но Сталин был не только руководителем СССР. В эти годы шло его становление как вождя советского народа и как творца нового этапа в развитии марксизма-ленинизма. Поэтому когда возникла полемика вокруг ламаркистских «заблуждений» Энгельса, то нет сомнений, что Сталин мог проявить к этим спорам живой личный интерес, пытаясь разобраться в существе споров и понять – ошибся Энгельс в своем объяснении происхождения человека или нет. Этот вопрос был важен для него как ведущего на нынешнем историческом этапе теоретика марксизма. И вопрос теперь касался даже не столько Энгельса, сколько его лично – не ошибся ли он сам, предрекая в 1906 г. будущее за ламаркизмом, который должен одержать победу над неодарвинизмом.
Сталин поэтому следил за настроениями теоретиков марксизма. И когда он увидел, что они во второй половине 1920-х гг. резко и немотивированно изменили свою позицию от открытой поддержки ламаркизма на противоположную, начав с ним бескомпромиссную борьбу, то это не могло его не удивить, во всяком случае привлекло его внимание. Нельзя же признать за серьезный мотив то, что к это-времени они удосужились прочитать учебники генетики и убедились в правоте приводимых в них результатов. Сразу встает вопрос, почему они раньше не изучили эти учебники?
Несерьезность и слабая обоснованность критики ламаркистов со стороны тогдашних генетиков и философов бросается в глаза. И это могло вызвать у него подозрение, что за сменой курса в отношении ламаркистов и за их идеологическими обвинениями стоит политический заказ. Если я по истечении многих лет увидел в бессодержательности дискуссий и групповщине в нападках друг на друга противостоящих сторон слишком много политики, то от него, внимательно следившего за развитием дискуссии, это тем более не могло укрыться и по тем оргвыводам, которые были сделаны, виновными в этом он признал деборинцев.
Представляю удивление Сталина, когда он вдруг понял, что деборинцы, ранее безоговорочно признававшие ламаркизм, вдруг немотивированно перестроились и стали обвинять ламаркистов и тем самым его, Сталина, в механистическом искажении марксизма. Пытаясь уяснить существо дела, он увидел, что эти обвинения несерьезны, ничего не стоят, можно сказать, притянуты за уши, и это могло означать, что внедрялись они по каким-то политическим, но негосударственным соображениям, раз он сам не был поставлен в известность. В те времена в общении между коммунистами поддерживался дух партийного товарищества. Поэтому я не исключаю, что при случае Сталин мог напрямую спросить А. М. Деборина, кому из вас пришла в голову мысль представить товарища Сталина главным врагом марксистской диалектики, кто надоумил М. Л. Левина встать на защиту неприемлемых установок А. С. Серебровского, направленных против Ф. Энгельса, и почему А. М. Деборин не внес ясность в этот важнейший для коммунистов политический вопрос. Как никак речь идет о политической репутации классика марксизма и не только его, а, как теперь выясняется, и самого Сталина.
Не могла укрыться от внимания Сталина синхронность антиламарковских выступлений и действий политиков на западе и в нашей стране. Казалось бы какое дело политикам до споров в науке. Интерес, однако, кроется не в самой науке, а в тех выводах практической Направленности, которые она делает. Когда ламаркисты говорят, что порочная жизнь родителей может негативно сказаться на их потомстве, по меньшей мере отразиться на здоровье детей и внуков, то они вступают в конфликт с теми, кто обогащается на этих людских пороках. В нашей стране эти причины борьбы политиков с ламаркистами в те годы отсутствовали. Так, чтобы искоренить ламаркизм были вброшены идеологические мотивы и сам ламаркизм был представлен чуть ли не главной идеологической опасностью в биологии. Поэтому и встает вопрос, случайно это произошло или по чьему-то умыслу, завязанному на политику.
Что в такой ситуации немотивированного выступления философов, преследующих какие-то свои политические цели, должен был сделать Сталин. Запретить бесконтрольную критику со стороны философов. Говорят, что это Сталин придумал для деборинцев эпитет «меньшевиствующие идеалисты». Если это так, то произошло в порядке взаимной «любезности» за то, что деборинцы увидели в Сталине главную идеологическую угрозу на тот момент.
Вызывает удивление то упорство, с которым политики старались искоренить ламаркизм, зная, что Сталин ламаркист. До войны это сделать не удалось. После войны была предпринята еще одна попытка. Политики упросили выступить А. Р. Жебрака против ламаркистских заблуждений Т. Д. Лысенко, позорящих, как они говорили, нашу страну и нашу науку. Пообещали ему организовать институт генетики (см. Шаталкин, 2015). А. Р. Жебрак, возможно, не осознавал, что политики фактически уговорили его выступить против Сталина, ставшего к тому времени классиком марксизма. От Сталина также не могла укрыться послевоенная синхронность выступлений против Т. Д. Лысенко, представлявшего в нашей стране ламаркизм, западных и наших политиков. У Сталина были возможности выяснить, в чем здесь дело, и почему события во второй половине 1920-х гг. повторились во второй половине 1940-х гг.
5. 6. Являлся ли механоламаркизм механистическим упрощением действительности?
В кратком философском словаре (1940) нет статьи о механоламаркизме. Но есть статья «Ламаркизм» (с. 123): «Ламаркизм, являющийся предшественником дарвинизма, был важнейшим шагом в развитии биологии. Всецело основываясь на материалистической философии XVIII в., ламаркизм объяснял все явления жизни, в том числе и психические, исключительно физико-химическими процессами, протекающими в организмах». Механицизм того ламаркизма понятен; диалектического материализма в качестве законченного учения тогда еще не было. В статье «Механистический (или механический) материализм» в том же словаре нет ни слова о ламаркистах. Можно заключить, что в поздние 1930-е гг. ламаркизм не связывали с механицизмом.
Читаем статью «Механоламаркизм» в послевоенном Энциклопедическом словаре (1954, т. 2, с. 381). «Механоламаркисты рассматривали организмы как инертные тела, пассивно изменяющиеся под воздействием внешних сил… Сторонники механоламаркизма утверждали, что наблюдаемая в живой природе целесообразность не является результатом творческой роли отбора. Тем самым они становились на позиции витализма, пропагандирующего взгляд о наличии изначальной целесообразности…». Если вспомнить приведенную нами ранее выдержку из работы С. Г. Левита, то ясно, что это обвинение перекочевало из тех времен. Упомянутый нами философский словарь следующим образом осветил решение ламаркизмом проблемы целесообразности (1940, с. 123): «Согласно ламаркизму, среда, окружающая организм, способствует развитию его органов, вырабатывая в них целесообразные приспособления, обеспечивающие его самосохранение». Как видим, ни о какой изначальной целесообразности речь не идет. Те организмы, у которых целесообразные приспособления выработались, получат селективные преимущества в сравнении с теми своими родственниками, у которых эти приспособления не оформились окончательно или оказались менее эффективными. Дарвиновский отбор в этом случае сохраняет свое значение.
Важно также подчеркнуть, что в Энциклопедическом словаре ничего не сказано о том, что механоламаркизм является реакционным учением. Напротив, в статье «Витализм» (т. 1) подчеркнуто, что это «реакционное идеалистическое учение». Иными словами, механоламаркизм позже не рассматривали в качестве серьезной идеологической опасности.
Кто же увидел ранее в нем опасность, с которой следует решительно бороться. Мы уже предложили возможный ответ – то были политики, противостоявшие Сталину. Сталин еще с дореволюционных времен сочувственно относился к ламаркизму. А вот что он (2004в, т. 3, с. 294) написал 31 октября 1947 г. в письме к Т. Д. Лысенко: «Что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что мичуринская установка является единственно научной установкой. Вейсманисты и их последователи, отрицавшие наследственность приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго распространяться о них. Будущее принадлежит Мичурину» (выделено нами).
О наследовании приобретенных свойств одним из первых заговорил Ламарк. Сталин однозначно связал мичуринскую биологию с ламаркизмом, при всем этом, конечно, не отождествляя их, рассматривая первую как нечто самостоятельное, во многом новое, имеющее своим источником обобщение новаторских результатов теоретико-практических трудов И. В. Мичурина в нашей стране. В 1906 г. Сталин (2004а, т. 1. с. 73) говорил о значении «в биологии теории неоламаркизма, которой уступает место неодарвинизм». В 1947 г. он уже говорит о появлении в нашей стране продолжателя дела Ламарка – И. В. Мичурина, за которым в науке будущее.
Это мнение Сталина хочется дополнить высказыванием зарубежных специалистов, сделанным годом раньше. Хадсон и Риченс (Hudson, Richens, 1946, р. 4), говоря о вкладе в развитие генетики советских ученых, указали на трех наших исследователей, выступивших с принципиально новыми идеями: «Едва ли здесь есть необходимость указывать на большой вклад, который уже внесли российские генетики в мировую генетику. Фитогеографические исследования Вавилова относительно происхождения хлебных злаков, пионерская работа (pioneer work) Мичурина по отдаленной гибридизации и исследования Лысенко по вернализации представляют собой такое содействие в развитие биологии, которое с лихвой превышают любые дискуссионные разногласия». Это ведь наши ученые сделали все, чтобы предать забвению выдающиеся работы наших соотечественников, которые тогда признавались иностранцами как новаторские.
Но вернемся к нашей теме идеологического осуждения механоламаркистов. Мы уже приводили мнение А. С. Серебровского о сочувственном отношении большинства марксистов к ламаркизму. С 23 декабря 1930 г. по 6 января 1931 г. на заседаниях президиума Коммунистической академии прошла дискуссия по вопросам борьбы с меньшевиствующим идеализмом в естествознании. Выступивший на этой дискуссии А. С. Серебровский (За поворот… 1931, с. 61) отметил «что Агол и Левит тоже занимали ламаркистскую позицию». Последний придерживался ее осенью 1926 г., о чем он заявил, выступая в прениях по докладу М. М. Местергази «Эпигенезис и генетика», заслушанному 23 ноября на заседании кружка биологов-марксистов в Коммунистической академии (Местергази, 1927, с. 224–225): «Я почти целиком согласен с докладчиком [т. е. с М. М. Местергази и, следовательно с генетиками], поэтому возражать по существу я не буду… Докладчик очень хорошо здесь отделяет то, что есть существенного и главного в дарвинизме, от тех примесей, которые не играют существенной роли. Но то же следует сделать и с ламаркизмом. Ламаркизм состоит из разных частей, и если нужно откинуть стремление к правильной градации, о которой писал Ламарк, если нужно откинуть наследование упражнения органов, если, как вполне правильно тов. Серебровский выставил еще в прошлом году это положение, поиски всюду адекватных изменений попахивают витализмом, то этим еще ламаркизм, как таковой, не исчерпывается, необходимо помнить, что принцип влияния внешней среды на организм наиболее четко и рельефно выражен все же в ламаркизме. И в этом смысле говорить о ламаркизме, как о чем-то включенном в дарвинизм, безусловно следует. Как будто докладчик и не говорил против этого, а только дает некоторую другую формулировку» (выделено нами).
С. Г. Левит, видимо, прослушал интересующий его момент в докладе М. М. Местергази. Последний определенно считал ламаркизм инородным включением в дарвинизм (с. 190): «Безусловно, неправильно считать, что дарвинизм включает в себя ламаркизм, как это делает, например, тов. Дучинский в одной из статей в «Под знаменем марксизма». Чистый ламаркист, профессор Комаров, в этом вопросе более прав. То, что имеется общего у Дарвина и Ламарка, не является существенным для дарвинизма, в то время как основные принципы его глубоко отличны от ламаркистских. Блеск дарвинизма тускнеет от разведения его ламаркистской водицей». В заключительном слове М. М. Местергази (с. 232) сказал: «Выступление С. Г. Левита меня очень порадовало. Не разделяя всех защищаемых мною положений, он все же отнесся сочувственно к постановке проблемы и правильно понял мой подход к вопросу о синтезе марксистской теории и данных современной биологии». Т. е. ламаркистская постановка проблемы, предложенная С. Г. Левитом, по мнению докладчика вполне вписывается в генетическую парадигму. Тогда почему же возникла и шла непримиримая борьба генетиков с другими ламаркистами? Может быть, потому, что те были чужими, т. е. входили в другую научную группу, а С. Г. Левит был как бы свой. Вернемся однако, к самому выступлению С. Г. Левита.
С. Г. Левит говорит, что он не против генетики, равно как и не против ламаркизма, очищенного, конечно, от идеалистических и механистических наслоений. И далее С. Г. Левит сделал важное пояснение относительно того, как следует ставить вопрос о наследовании приобретенных признаков, чтобы ламаркистская точка зрения не противоречила генетической (с. 225): «… точка зрения докладчика, если я ее правильно понял, не говорит против постановки этого вопроса [о наследовании приобретенных признаков]. Она говорит лишь против такой постановки вопроса, как это делают ламаркисты, которые всюду ищут адекватных изменений… Теория адекватности не только виталистична, но и механистична. Нам никак нельзя представить себе эту адекватность реакции, как только мысля организм, как некоторую количественную арифметическую сумму отдельных органов. Если представлять себе организм, как некоторую количественную сумму отдельных органов, тогда будет логически правильно предполагать, что воздействие на данный орган даст изменение обязательно того же органа. Но ведь мы говорим об организме, как о некоторой единой системе, в которой отдельные органы и ткани связаны между собой не только механически, но и целым рядом связей биологического характера» (выделено нами).
Иными словами, изменяется под действием среды не отдельный орган, но организм как целое. В этом случае отпадает как некорректный вопрос, поставленный на самом деле не ламаркистами, но А. Вейсманом, о том, каким же образом измененный орган находит адекватное выражение в зародышевой плазме. Адекватность правильно соотносить со всем организмом. Я думаю, что здесь С. Г. Левит имел в виду А. Вейсмана, который стал опровергать мнение, будто бы разделявшееся ламаркистами, что изменение хвоста у мыши непременно приведет к изменению хвоста у ее потомков. Итак, если изучать в генетическом плане влияние среды на организм, рассматриваемый в качестве целостной системы, то так понимаемый ламаркизм вполне совместим с генетическим подходом. Учитывая, что речь идет о наследственности, то этим утверждается, что организм также может быть носителем какой-то формы наследственности, несводимой к генам. А иначе не понять, зачем все эти разговоры о целостности, в рамках которой, по С. Г. Левиту, только и допустимо ставить вопрос о наследовании приобретенных признаков.
О существовании разных категорий наследственности говорили и ламаркисты. В частности, Е. С. Смирнов выделял в самостоятельную категорию длительные модификации, которые не сводимы к изменениям генов. На том же докладе М. М. Местергази в прениях выступил М. В. Волоцкой, который также обратил внимание на длительные модификации (с. 228): «Что же касается временных наследственных изменений, вызванных влияниями окружающей среды, то они столько раз описывались различными авторами, это значит идти против фактов… я позволю задать тов. Местергази вопрос: почему он в своем докладе совершенно не коснулся многократно подтвержденного и ни разу не опровергнутого факта длительных модификаций… и каково его отношение к этому факту?» (выделено нами).
«…длительные модификации-последовал ответ М. М. Местергази (с. 232) – не являются истинными мутациями. Непосредственная зависимость потомства от фенотипа матери приводит часто к тому, что перемены, произошедшие в нем, отзываются в ряде поколений». Можно ли принять такой ответ? Был задан конкретный вопрос. Почему, говоря о наследственности, докладчик не упомянул длительные модификации. Ответ был дан на совершенно другой вопрос: «являются ли длительные модификации истинными мутациями». Конечно, нет. Но ведь этот факт никто, насколько я знаю, не оспаривал. Докладчика спрашивали, следует ли относить «временные наследственные изменения» к проявлениям наследственности. Он этот вопрос решил обойти. Но поскольку само явление наследования существует, то несколькими строчками ниже М. М. Местергази этот факт непроизвольно подтверждает, вводя для феномена длительных модификаций специальное название «фенотипической наследственности» (с. 232–233): «Относительно опытов Иоллоса с инфузориями могу сказать, что считаю их совершенно неубедительными в отношении интересующего нас вопроса о фенотипической наследственности (выделено нами). Ведь, простейшие являются аналогами половых клеток; и зародышевая плазма подвергается здесь непосредственному воздействию; с другой стороны, и вся остальная масса родительского организма у них прямо переходит к потомкам, а стало быть все, пережитое предками не может не сказаться на следующих поколениях».
Смотрите, как понятно и доходчиво разъяснил противник ламаркизма М. М. Местергази суть явления фенотипической наследственности. Последняя имеет своим субстратом остальную (за вычетом зародышевой плазмы) массу родительского организма и поэтому у одноклеточных эукариот передается со всеми полученными изменениями от родительской дочерним клеткам.
Скорее всего в этом же плане понимал ламаркистский подход к явлению наследственности и С. Г. Левит, раз он призывал рассматривать только целостный организм в его взаимоотношениях с окружающей средой. И их позиция мало чем отличалась от точки зрения ламаркистов, особенно в той его версии, которая защищалась московскими биологами во главе с Е. С. Смирновым. Более того, создается впечатление, что как умеренный ламаркист, боровшийся с антиматериалистическими крайностями в учении Ламарка, С. Г. Левит продвигал идею о консолидации усилий генетиков и ламаркистов в изучении наследственности. Возможно, что и И. И. Ашл придерживался той же линии на консолидацию. Но вмешалась политика. С. Г. Левиту как и другим диалектикам деборинской группы пришлось выступить против ламаркизма, придумывая на ходу, в чем могли заключаться его идеологические изъяны. Отсюда, видимо, и проистекает удивившая меня слабость выдвигавшихся против ламаркизма политических обвинений. Это, видимо, заинтересовало и Сталина, увидевшего в действиях группы А. М. Деборина навязанные им со стороны (и, следовательно, им самим ненужные) политические решения.
Мы снова приходим к мысли, что объективных оснований для противостояния между ламаркистами и генетиками не было. А раз так, то сама борьба с ламаркизмом имела какие-то ненаучные мотивы, прикрытием которых обычно являются поддерживаемые в научной среде мифы, дающие искаженное представление о взглядах тех, против кого выступают политики. В докладе М. М. Местергази такие ложные положения, приписываемые ламаркизму, имеются. Давайте кратко рассмотрим эти мифы, выдаваемые за истинные взгляды Ламарка и его последователей.
«Надо помнить, – пишет М. М. Местергази (1927, с. 188–189) – что утверждение о наследовании фенотипических изменений не является теорией, выдвинутой Ламарком или кем-либо из других эволюционистов. Это общепринятое мнение, освещенное тысячелетней давностью (так сказать, обывательское), само собой подразумевалось, и Ламарк при построении своего учения принимал его как данное. Дарвин также признавал его…». Дарвин, возможно, и следовал в вопросе о наследовании приобретенных признаков бытующим в обществе представлениям. Ламарк же пошел дальше, акцентировав внимание на активности организма, изменяющего себя в ответ на действие факторов среды. Именно в такого рода ситуациях проявляются целостные свойства организма, реагирующего на вызовы среды, о чем говорил С. Г. Левит.
Это новое понимание Ламарк сформулировал в «Философии зоологии», в своем втором законе. И надо же, так получилось, что второй закон был переведен в немецком и английском изданиях главного труда Ламарка с такими серьезными искажениями, что от новаций первого эволюциониста ничего не осталось. Столь же неудачными были первые переводы на русский язык, выполненные Н. А. Холодковским ([1895] 1923, с. 28) и А. С. Фаминцыным (1898, с. 171). В итоге возник миф, озвученный М. М. Местергази, что Ламарк в вопросе о наследовании фенотипических изменений придерживался бытовавших до XX века предрассудков, с которыми генетика повела решительную борьбу. Этот миф был подробно нами рассмотрен ранее (Шаталкин, 2009, гл. 6; 2015, раздел 1. 6), и здесь мы не будем его касаться. Но чтобы читателю было ясно, о чем конкретно идет речь, мы приводим поясняющий рисунок, заимствованный нами из нашей предыдущей книги (2015, с. 134, рис. 5).
Куполообразная кривая на рисунке определяет зависимость интегрального биологического параметра, в данном случае плодовитости, от значений фактора среды, например температурного режима, в котором воспитывается некоторая гипотетическая популяция. Ламарк говорит, что ответная реакция организмов на действие среды будет выражаться в двух планах. Во первых, в непосредственном, часто неблагоприятном действии на организм фактора среды. Неблагоприятные последствия такого воздействия могут, например, сказаться на уменьшении средней плодовитости. Наряду с этим может измениться большое число морфофункциональных признаков. Во-вторых, ответная реакция организма на внутренний дисбаланс, вызванный действием фактора среды. В нашем случае показателем внутреннего дисбаланса является снижение плодовитости. Значит, организм отвечает не только прямым изменением (изменение I порядка), но и вторичным изменением (II порядка) на уменьшение плодовитости и другие нарушения морфо-физиологического плана (т. е. на изменения I порядка). Морфофункциональные изменения I порядка будут иметь разный характер в зависимости от силы действующего фактора и, возможно, от его сдвигов слева и справа от области оптимальных значений.
Рисунок. Пояснение ключевых понятий в концепции наследственности, предложенной Т. Д. Лысенко.
о1 – о2 – диапазон значений фактора, к которым наиболее приспособлена популяция некоторого вида.
Плато на кривой между точками о1и о2 определяет диапазон значений фактора, к которым организмы наилучшим образом приспособлены. Поэтому вслед за Т. Д. Лысенко допустимо говорить о потребностях организма (потребностях I) в определенных факторах среды, при которых его наследственность проявляет себя с наибольшей полнотой.
Вторичные изменения нацелены на то, чтобы устранить внутренний дисбаланс. Если физиологические механизмы не справляются с этой задачей, то включаются механизмы изменения наследственности, совокупность которых Ю. В. Чайковский (1976, 2006) назвал «генетическим поиском». Ламарк в этом случае говорил о возникновении новых потребностей (потребностей II) в таком морфо-функциональном состоянии, которое бы соответствовало новому сочетанию факторов среды. Организм в этом случае будет приспосабливаться к новым факторам среды, используя наработанные в процессе длительной эволюции механизмы генетического поиска. Потребности II через отбор канализуют генетические изменения в нужном направлении. Коль скоро включается программа генетического поиска в ответ на внутренний дисбаланс, то последний имеет не только физиологическую, но и генетическую составляющую. В этом случае следует говорить о наследственном дисбалансе. Некоторые изменения I порядка при этом могут сохраняться, создавая иллюзию наследственного закрепления приобретенного признака. На самом деле признак не может беспричинно из ненаследственного стать наследственным. В организме должно что-то еще измениться, чтобы изменения I порядка стали устойчиво наследоваться после прекращения действия индуцирующего их средового фактора.
Из рисунка легко понять в чем суть возражений Т. Д. Лысенко по поводу чистых линий Иогансена. Последний рассматривал флюктуационную изменчивость растений, выращиваемых в константных условиях, отвечающих вершинному плато на нашей кривой. Отбор флюктуаций, как показал Иогансен, ничего не даст. Т. Д. Лысенко рассматривал организмы во всем диапазоне действия факторов среды, в том числе такие, которые вызывают негативное изменение жизненных показателей. Понятно, что в этом случае могут происходить изменения II порядка, включая наследуемые, и отбор в этом случае может быть значимым, как это показали эксперименты Уоддингтона.
Заметим, что Ламарк не говорил и не мог даже гипотетически говорить о механизмах наследования приобретенных признаков. Поэтому, если предполагать, что изменения II порядка осуществляются только за счет случайных мутаций, то все равно это будет отвечать ламарковскому подходу, поскольку эти мутации будут канализированы и, следовательно, сохранены благодаря первичным изменениям (изменениям I порядка). В противном случае эти мутации, как ухудшающие приспособленность организмов, в сравнении с немутантными особями, будут устраняться отбором.
М. М. Местергази (1927, с. 190) отмечает, что «многие марксисты не могут отделаться от традиционных представлений… Какая существенная причина заставляет многих марксистов защищать наследование изменений, происходящих под влиянием среды?… Если факты давят на наши научные представления… Но где эти давящие факты?… Научно проверенные факты говорят против наследования фенотипических изменений».
В последнем предложении сформулирован еще один миф, существовавший как неоспариваемая истина весь XX век. Но в XXI веке выяснилось, что некоторые научно проверенные факты говорят за наследование фенотипических изменений (см. Шаталкин, 2015).
«Но быть может, обратно, – продолжил М. М. Местергази (с. 191) – наши научные представления не мирятся с отсутствием такого наследования? Не надо забывать, что мы говорим сейчас об изменениях организма, вызывающих адекватные перемены в составе зародышевой плазмы, определяющей особенности нового организма. Здесь дело идет не о простом влиянии тела на заключенные в нем половые клетки, а о таинственных соответственных изменениях зародышевой плазмы, следующих за изменениями частей тела. Такое адекватное изменение совершенно не вяжется с нашими научными представлениями… Ни теория, ни факты не требуют от нас признания чудесного явления перестройки зародышевой плазмы по образцу фенотипических изменений».
Разве Ламарк и его последователи придумали такую адекватную передачу информации о соматических изменениях от органов в зародышевую плазму. Разве это они заговорили о возможности такой чудесной перестройки зародышевой плазмы по образцу фенотипических изменений? Нет, это А. Вейсман за них решил, что будто бы так они должны думать. И эту придуманную им как бы от имени ламаркистов «теорию» он взялся опровергнуть и опроверг своими опытами на мышах. Этот миф получил безоговорочную поддержку практически всех генетиков, поскольку они, следуя А. Вейсману, точно также восприняли позицию Ламарка, не имеющую с истинными взглядами Ламарка ничего общего.
В более поздней работе М. М. Местергази (1930, с. 33–34), казалось бы, подошел к пониманию истинной позиции ламаркистов: «Защитники наследования приобретенных признаков стараются доказать, что отрицание адекватного влияния равносильно отрицанию влияния вообще, что, разумеется, не соответствует действительности. Е. С. Смирнов во что бы то ни стало хочет навязать дарвинистам отрицание роли организма как среды в отношении элементов зародышевой плазмы (идиоплазмы): “Изменение сомы на отражаются на генах, почему и не оставляют следа на свойствах последующих поколений. Таким образом, свойства каждой новой генерации – производные идиоплазмы, но обратное влияние сомы на гены отсутствует (Смирнов, 1929, с. 75)”. На самом деле нами решительно отвергается не влияние организма вообще, а зависимость соответствующих частей зародышевой плазмы от отдельных участков тела, вызывающих в них якобы адекватные изменения». Е. С. Смирнов как механоламаркист признает влияние организма на зародышевые клетки. То же самое признает М. М. Местергази. Если вывести за скобки вейсмановские адекватные изменения, о которых говорится в выделенной части предложения, то позиции обоих ученых совпадают.
В своем заключительном слове М. М. Местергази (1927, с. 232) высказал следующую мысль: «… я должен еще раз подчеркнуть, что я безоговорочно возражаю не против участия внешних агентов в изменении наследственных признаков, а против возможности получения изменений зародышевой плазмы, адекватных переменам в соответствующих частях фенотипа». Докладчик, таким образом, выступил против вейсмановского мифа и, следовательно, как и С. Г. Левит, признает ламаркизм, если тот очистить от навязываемых ему искажений.
Впоследствии в качестве нового и окончательного опровержения ламаркизма была предложена «молекулярная версия» вейсмановского мифа. Здесь также ламаркистам в качестве их мысли навязывалась теория, согласно которой внешние условия будто бы способны изменить первичную структуру белка, а вот передать эту информацию от измененного белка нуклеиновым кислотам не удастся, поскольку нет таких механизмов, способных такую передачу осуществить. Но ведь прежде чем озвучивать молекулярную догму, надо было выяснить, нужна ли она, действительно ли белки меняют свою первичную структуру при изменении среды, в которой существует организм.
Этот миф проистекает из центрального мифа генетики, утверждающего, что будто бы среда всегда действует на генотип, который собственно и определяет ответную фенотипическую реакцию организма на изменение среды. Безусловно, генотип, раз на нем лежит синтез белков, в большинстве случаев является ключевым элементом в ответных реакциях организма на действие среды. В этом смысле вполне оправдано говорить об определяющем влиянии генотипа на фенотип. Но с другой стороны, если клеточные белки синтезированы, то они сами могут быть объектом воздействий среды. Кроме того, если речь не идет о повреждающих воздействиях, то среда действует на гены через фенотипические посредники.
Данный миф является многоплановым. В одном «случае спор идет о месте первоначальной наследственной изменчивости (безразлично от ее характера) и сводится к вопросу – фенотипы или зародышевая плазма?» (с. 201). Иными словами, генотип сначала изменяется, давая измененный фенотип, или возможно независимое изменение фенотипа под действием среды. Последнее предположение входит в противоречие с центральным утверждением генетики, согласно которому генотип определяет фенотип. Но это означает, что сам генотип все же способен изменяться под действием среды, результатом чего будет изменение фенотипа. Для генетиков это также неприемлемо, поскольку генотип по определению должен быть устойчивым в качестве субстрата наследственности, передаваемого в ряду последовательных поколений. В конечном итоге М. М. Местергази склоняется ко второму решению о независимом изменении фенотипа, дав следующий поясняющий пример (с. 232).
«Фенотипические изменения не могут быть, по нашему мнению, первоисточником новообразований у потомков. Характер звуков, издаваемых инструментом определенного строения, зависит от акустических условий помещения; однако, изменение звука, вызванное переменой среды, не влечет за собой адекватных изменений в строении соответствующих частей самого инструмента. Можно ли отсюда сделать вывод, что инструмент абсолютно независим от среды? Разумеется, нет – в сыром помещении различные части инструмента могут заржаветь или покоробиться, что повлечет за собой (внутренние причины) зафиксированные перемены в качестве издаваемых звуков».
Вот прекрасный пример, чтобы понять, что введенное генетиками понятие нормы реакции генотипа на самом деле является понятием из арсенала ламаркистов, что это понятие, ставшее после искоренения ламаркизма как бы бесхозным, было искусственно введено в концептуальный аппарат генетики.
Если считать инструмент фенетическим продуктом работы мастера, то понятно, что не мастер реагирует на среду, но созданный им инструмент. Как пример реакции генотипа на среду в учебниках часто приводят влияние температуры на китайскую примулу, которая, развиваясь при температуре 20 °C, дает красные, при 30 °C – белые цветки. Скорее всего это же не ген изменяется под действием температуры, но химические реакции, связанные с образованием пигмента, т. е. элементы фенотипа. В первой трети XX столетия активно изучалось влияние среды на процессы пигментообразования. Е. С. Смирнов (1929, с. 79) приводит результаты биологических экспериментов немецкой исследовательницы Брехер, которая, изучая куколок капустной белянки (Pieris brassicae), «установила, что повышенная температура затрудняет или даже останавливает реакцию образования меланина, в то время как пониженная оказывает обратное действие».
Чтобы инструмент в плохих условиях хранения не пострадал, мастер мог бы укрепить отдельные детали, придумать специальные покрытия и смазки, изготовить для инструмента дополнительный защищающий футляр с запасом вложенных в него соединений, поглощающих влагу. Аналогом этому в примере с организмом могут быть его физиологические защитные реакции во время заболевания, например при простуде, направленные на выздоровление. Но если природа смогла создать для организма такого рода защитные механизмы, то нельзя исключить, что и для более сложных случаев за долгие годы эволюции она выработала и включила в свой арсенал механизмы адаптации к новым условием среды. Одним из них, возможно, наиболее простым будет повышение уровня подвижности генома.
Резюмируем сказанное. Как только генетики сказали, что гены определяют спектр морфологических состояний в зависимости от факторов среды, они тем самым перечеркнули хранительскую функцию генома, которая возможна лишь при устойчивости генов против средовых воздействий. Ведь чтобы ген мог определить красную окраску цветков в результате снижения температуры до 20 °C он должен как-то сам измениться. Или надо допустить, что окраска цветков определяется разными генами. Но и в этом случае переключение работы с одного гена на другой будет определяться фенотипом, поскольку только он через биохимические реакции в состоянии зафиксировать произошедшие изменения в условиях обитания. Такого рода соображения лежат в основе альтернативного положения, согласно которому признаки определяются на фенетическом уровне. Могут спросить, а что же гены в этом не участвуют. Конечно участвуют, но под контролем фенотипа. Гарольд (Harold, 2001, р. 69) на этот вопрос отвечает так: «гены специфицируют клеточные строительные блоки; они поставляют сырой материал…». Поставляют, очевидно, по запросу фенотипа, который и решает, какие гены и в каких клетках следует включить в данное время.
Мысль о раздувании мнимых ошибок механоламаркистов политиками, которых никак нельзя назвать сторонниками Сталина, была высказана до нас в работе Р. А. Фандо (2006). В ней автор говорит о философской дискуссии в генетике, детально обсуждая, кто и с какой позиции выступал; он отметил механистические ошибки генетиков, в частности Н. К. Кольцова. Однако об ошибках механоламаркистов автор промолчал, возможно, как и в свое время Б. П. Токин, не зная, что по этому поводу сказать. Но его заключение интересно (с. 89): «В отличие от номогенетических и сальтационных построений концепция механоламаркизма прочно утвердилась в нашей стране. Причиной этому стало политическое вмешательство в ход философских дискуссий. И. В. Сталин самолично ратовал за процветание “… той науки, [люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций,] которая имеет смелость, решительно ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы и новые установки”[35]. В лагерь механоламаркистов вошли М. Б. Митин, Лысенко, Кольман, В. К. Милованов (ВИЖ), Г. Н. Шлыков (ВИР), А. Ф. Юдин (ТСХА), А. С. Филипов (Институт картофельного хозяйства), Авакян (ТСХА), Б. П. Бахраш (Институт философии АН СССР)».
Нам здесь интересна фигура философа М. Б. Митина. Он был активным борцом с меньшевиствующим идеализмом и собственно на этом поднялся как философ. Начало было положено статьей философа П. Юдина в газете «За ленинские кадры» (№ 2 от 15 мая 1930 г. ). 7 июня в газете «Правда» появилась статья М. Митина, В. Ральцевича и П. Юдина «О новых задачах марксистско-ленинской философии», в которой критиковались философы, группировавшиеся вокруг А. М. Деборина. Последние опубликовали ответ в тот же год в журнале «Под знаменем марксизма». Из этой статьи мы узнаем, в чем конкретно обвинялись А. М. Деборин и его сторонники.
«Перечисляя ошибки, – пишет А. М. Деборин с соавт. (1930, с. 140–141) – допущенные на философском фронте, основную из них П. Юдин определяет следующим образом: “В первую очередь надо признать крупнейшей ошибкой то, что развитие философской мысли за последнее время шло до некоторой степени в стороне от коренных задач социалистического строительства. Философский фронт не сумел своевременно перестроить свои ряды и бросить необходимые силы на разработку важнейших проблем переходного периода. Получается, что философия, занимаясь безусловно нужным делом – разработкой вопроса материалистической диалектики, борьбой с механистами и т. п., оставила в стороне вопросы социалистического строительства”» (выделено П. Юдиным).
В ответ на критику авторы пишут (с. 141): «Тов. Юдин в этой цитате пересматривает, – вероятно незаметно для самого себя, – основные ленинские лозунги в философии и действительно поворачивается спиной к итогам и результатам борьбы с механистами». «С ошибкой т. Юдина – продолжили авторы (с. 144) – в этом отношении связан второй основной порок эклектической установки тт. Юдина, Митина, и Ральцевича. У них остается в тени задача борьбы с примиренчеством по отношению к механистам (выделено в оригинале). Почему на примиренчестве к механистам не сосредоточили в должной мере своего внимания тт. Юдин, Ральцевич и Митин? Потому, конечно, что у них нет правильной перспективы борьбы с механистами».
В таком случае не было ли реальной причиной осуждения марксистских диалектиков группы А. М. Деборина их безосновательная и немотивированная борьба с ламаркизмом. Биологи могли не знать и скорее всего в то время не знали о ламаркистских взглядах Сталина. Иначе бы они не преминули указать на этот факт, раз они это сделали, узнав о ламаркистских взглядах Ф. Энгельса, высказанных им в «Диалектике природы». Но то, что могли не знать ученые, обязаны были знать политики, поскольку речь шла о возможной реакции их вождя на те идеологические обвинения в отношении ученых, с которыми они выступали. А раз они обязаны были знать, то, следовательно, сознательно пошли на обострение внутрипартийных отношений в высшем руководстве, подставляя при этом под политический удар ученых.
Очень подозрительным в этой связи кажется то, что политическая борьба с ламаркизмом началась почти синхронно на западе и в СССР. Здесь уместно также вспомнить о втором западном фронте борьбы против ламаркиста Лысенко. Фронт возник сразу после окончания великой отечественной войны как бы в помощь генетикам будто бы страдающим в СССР от действий Лысенко. На самом деле генетиков никто не притеснял и, главное, они не просили помощи ни себе, ни тем более в борьбе с Лысенко. В том послевоенном конфликте между генетиками и ламаркистами на стороне первых и также под надуманными предлогами выступили советские идеологи (см. подробнее: Шаталкин, 2015). Налицо однонаправленная синхронность действий политиков запада и части политиков в СССР.
Вывод из сказанного удручает. Политиками в СССР была инициирована поддерживалась борьба между генетиками и ламаркистами. В 1920-е гг. состояние вражды между учеными возникло фактически на пустом месте – на споре о том, следует ли считать длительные модификации проявлением наследственности или нет. Ученые безусловно могут обсуждать такого рода вопросы. Но почему политики вмешались в их споры на стороне генетиков? Мы объяснили (раздел 5. 1) это тем, что политики в то время просто приняли сторону тех, чья позиция разделялась в нашей стране большинством ученых и находилась в согласии с мнением западных генетиков. Но это не объясняет проводившуюся политику искоренения ламаркизма. В 1930-е гг. ламаркизм заявил о себе в сельскохозяйственной науке. Были организованы две неудавшиеся попытки искоренить ламаркистские идеи в среде селекционеров и животноводов. В дискуссии 1936 г. вместо заявленного обсуждения поисков путей повышения продуктивности сельского хозяйства генетики при попустительстве политиков свернули дискуссию в русло обсуждения научной обоснованности ламаркизма, который стал поддерживать Т. Д. Лысенко. Я напомню, чем закончились в 1920-е гг. дискуссии в генетике – по существу осуждением всех спорящих сторон, которые забыли о деле и тратят драгоценное время, которого в условиях надвигающейся угрозы агрессии со стороны запада было отпущено очень и очень мало, на пустопорожние разговоры по натурфилософским проблемам. Вот и в декабрьской дискуссии 1936 г. вместо дела разговоры, тянущиеся без каких-либо положительных сдвигов уже более 10 лет.
В конце тридцатых годов 10 ленинградских биологов пожаловались на обструкционистскую позицию Т. Д. Лысенко тогдашнему начальнику Агитпропа А. А. Жданову. По данным Н. Л. Кременцова (1997), ученые жаловались на «попытки лысенковцев дискредитировать генетику и генетиков (1); административную борьбу против генетики (2); попытки захватить преподавание генетики (3); недостоверность экспериментальных исследований сотрудников Лысенко (4); несовместимость лысенковских идей с дарвинизмом и международным консенсусом в генетике (5)».
Три первых вопроса решаются чисто административно. Давайте факты несправедливых действий Лысенко и его сторонников, и по ним будут приняты необходимые решения. В двух последних пунктах позиция Лысенко просто отметается как ненаучная. Тем не менее А. А. Жданов принял решение провести дискуссию. Хотя у него была возможность не проводить ее по формальным соображениям. Разве возможна какая либо полноценная дискуссия, когда одна из конфликтующих сторон не признает достоверность научных результатов другой и тем самым ставит под сомнение любые выводы и обобщения, как основанные на этих ошибочных результатах.
Итог этой дискуссии при таком отношении к ней генетиков ни в каком случае не мог их удовлетворить. Им нужно было лишь подтверждение со стороны организаторов дискуссии их обвинений Т. Д. Лысенко по пунктам 4 и 5. А поскольку этого не произошло, то вину за это генетики возложили на руководителя дискуссии академика М. Б. Митина, будто бы подыгрывавшего Т. Д. Лысенко и его сторонникам.
Может быть в другой ситуации М. Б. Митин и выступил бы на стороне Т. Д. Лысенко, но эта дискуссия была под контролем ЦК, и философу нужно было показать максимальную объективность. Мы вернемся к этой теме в следующей главе.
Что еще вызывает недоумение. Попытку философов того времени абсолютизировать частное явление, и эту абсолютизацию приписать ученым. Разве механоламаркисты отрицали роль мутаций, чтобы их обвинять в признании изначальной целесообразности?
ГЛАВА 6. Мифы о мичуринской биологии
6. 1. Вводные замечания
Общество биологов-материалистов (позднее: марксистов), видевшее одну из главных своих целей борьбу с ламаркизмом, было чисто городской организацией и по вполне понятной причине не имело большого влияния на положение дел в сельскохозяйственной науке. Там ламаркизм удержался. Но поскольку выступать под флагом Ламарка до середины 1930-х гг. было опасно, то ламаркизм в сельскохозяйственной науке стал связывать себя с работами И. В. – Мичурина, получив название мичуринской биологии (генетики). Можно сказать, что мичуринская биология это ламаркизм, изучающий наследственность главным образом объектов растениеводства и животноводства и ставящий себе задачу управления наследственностью с целью получения новых более продуктивных сортов растений и пород животных. Сама эта задача является для ламаркизма новой и была поставлена в практическую плоскость И. В. Мичуриным. Поэтому название «мичуринская биология» более чем оправдано. Т. Д. Лысенко в своей научно-практической работе следовал заветам И. В. Мичурина. И слова Ивана Владимировича, обращенные к селекционерам, – «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача» – касались именно этой возможности овладения искусством управления наследственностью.
Из сказанного следует, что задачи механоламаркизма и мичуринской биологии, если и пересекались, то только в плане изучения наследственности. Поскольку классическая генетика связывала наследственность только с генами, то для нее мысль об управлении генами, казалась абсурдной, а согласиться с возможностью существования негенетической наследственности генетики никак не хотели. И это удивительно. Ведь еще Кант в Критике способности суждения ([1790] 1966, с. 399–400) прозорливо указывал на возможность такого негенетического наследования: «… органическое тело не есть только машина, отличающаяся лишь движущей силой, оно обладает и формирующей силой самовоспроизведения (fortpflanzende), которую оно передает своим элементам, не имеющим ее; оно, фактически, организует их и это нельзя объяснить одной только механической способностью к движению» (перевод дан в нашей редакции; выделено нами). Иными словами, объект определенного, достаточно высокого уровня организации как целое обладает способностью к самовоспроизведению, а его элементы этой способности лишены. О возможном существовании различных категорий наследственности говорил Е. С. Смирнов (1929, с. 73).
В разделе 5. 6 мы приводили положительное мнение зарубежных ученых о работах И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко. Мифы о них и мичуринской биологии стали слагаться на западе сразу после войны, в период охлаждения отношений бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Переломным моментом был 1948 г. С этого года на западе стал распространяться политический миф, что в СССР запретили науку генетику. Я также длительное время находился под действием этого мифа, пока не задумался над вопросом, почему наши советские политики поддерживали этот миф, который прежде всего ударял по авторитету государства и авторитету их собственной власти, с которой они кормились.
И тут же стало ясно, что особой правды в этих обвинениях нашего государства и советской власти в запрете генетики нет. Кафедры генетики продолжали работать. Институт генетики как был, так и остался. Безусловно, изменилась тематика. В административном порядке поощрялись работы практического плана, в первую очередь по селекции. Сообразно этому генетические кафедры укреплялись селекционерами. Безусловно были перегибы, сведение личных счетов и другие крайне негативные моменты, связанные с ожидаемым изменением научной тематики. Я сам прошел это, когда лаборатория вирусологии, в которой я работал, в связи со смертью ее руководителя и моего второго наставника Г. М. Развязкиной была закрыта, а нас раскидали по разным лабораториям с другими темами. Но ведь лаборатории могли закрыть или перенацелить на другие темы и при действующих руководителях. В той же Америке это делается запросто по решению тех государственных инстанций, которые определяют научную политику. Я лично знаю европейских ученых, которые сделав блестящую работу по близкой мне теме, вдруг исчезали из моего поля зрения. Потом выясняется, что они никуда не пропали просто их перебросили на другой фронт работ. Если говорить об исследованиях, связанных с хромосомной наследственностью, то они не могли быть запрещены. Цитологическое изучение хромосом продолжалось. Молекулярное изучение белков и нуклеиновых кислот также как шло, так и продолжалось.
Для того, чтобы этот миф о запрете генетики приобрел реальность, нужно было представить мичуринскую генетику в качестве псевдонауки, как антинауку. Тогда действительно можно говорить о запрете генетики в СССР. Но чтобы эта политическая акция осуждения мичуринской биологии состоялась, одних усилий западного агитпропа недостаточно. Нужно было, чтобы и в нашей стране мичуринскую генетику признали лженаукой. А сделать это могут только политики, находящиеся у власти в СССР, поскольку только они решали, что и как должно быть в СССР. Ведь вот смотрите. Если бы не затеял отечественный агитпроп писать ответ на обвинение Т. Д. Лысенко со стороны К. Сакса (Sax, 1944), который представил нашего ученого в качестве приводного ремня тоталитарного механизма в СССР, то не состоялся бы второй западный фронт ученых против народного академика. Не было бы и августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
Отметим, что в этом деле осуждения мичуринской генетики нельзя было особо афишировать ее связь с ламаркизмом. Поскольку в этом случае была бы сильная оппозиция со стороны французов, которые наотрез бы отказались считать ламаркизм лженаукой. Это нам подтверждает и Википедия. По ней мичуринская генетика – лженаука, а ламаркизм особое течение научной мысли, которого до сих пор придерживается часть ученого мира.
Таким образом, поддержали эту западную пропаганду о запрете генетики в нашей стране наши собственные политики и именно те, которые эту августовскую сессию с ее жесткими оргвыводами и организовали. Я не хочу думать, что это была сознательная акция, продуманное решение во вред стране нашей партийной и государственной элиты. Я думаю, что в борьбе элит наши оказались не на высоте и проиграли западным политикам. Возможно, что этот провал связан с ущербностью идеологии марксизма, в которой не нашлось места для оправдания необходимости и важности патриотических скреп для нормального развития общества.
6. 2. Два мира – две идеологии в биологии
Это положение, взятое нами в качестве названия раздела, было выдвинуто Т. Д. Лысенко (1948, с. 10) в его докладе на августовской сессии ВАСХНИЛ. Конкретно речь у него шла о вейсманизме и его продолжении в менделизме-морганизме. «Вейсман назвал свою концепцию неодарвинизмом, но по существу она явилась полным отрицанием материалистических сторон дарвинизма и протаскивала в биологию идеализм и метафизику». Вейсманизму противостоял ламаркизм, о котором А. Вейсман (1905, с. 294) сказал, «что такая [ламарковская] форма наследственности не только не доказана, но что она немыслима и теоретически… [исходя из этого] была объявлена война принципу Ламарка, прямому изменяющему действию употребления и неупотребления, и действительно, с этого началась борьба, продолжающаяся и до наших дней, борьба между нео-ламаркистами и нео-дарвинистами, как были названы спорящие партии» (цит. по: Лысенко, 1948, с. 11).
Объявив войну неоламаркизму, А. Вейсман не удосужился прочитать Ламарка. Иначе он бы поостерегся ставить свои «решающие» опыты с отрезанием хвостов у мышей, будто бы опровергнувшие ламаркизм. Ламарк (1935, с. 205–206; 1955, с. 357–358) объяснил результаты вейсмановских опытов почти за 80 лет до того, как они были проведены (Шаталкин, 2015, с. 68–69; см. также Шаталкин, 2009). Значит и те критики Ламарка, которые вспоминают про девственную плеву и обрезание, также не читали Ламарка. Но ведь критикуют Ламарка, пытаясь внушить ложную мысль, что тот об этих вещах просто ничего не знал.
Философ И. Т. Фролов (1968, с. 10–11), рассматривая положение Т. Д. Лысенко о двух идеологиях, отметил, что «идеологическая сфера неправомерно сводилась им целиком к философской и соответственно утверждалось, что мичуринское учение – “по своей сущности материалистическо-диалектическое”, а менделистско-морганистское учение – “по своей сущности метафизическо-идеалистическое”». С этим мнением философа можно согласиться. Но отсюда никак не следует, что существование двух генетик в СССР, «построенных якобы на разных, принципиально несовместимых философских и даже социально-политических основаниях», является, как убеждает читателя И. Т. Фролов (с. 10), мифом. В главе 7 мы покажем, что эти две генетики основаны на разных научных основаниях, т. е. изучают и описывают разный круг явлений, связанных с наследственностью. Поэтому мифом является не сам факт существования двух генетик, но попытка представить мичуринскую биологию как ненаучное направление, обосновываемое, исходя из философских и даже социально-политических установок.
В той же книге И. Т. Фролов (с. 65) приводит слова Н. П. Дубинина (1929, с. 135), сказанные им по итогам победы классической генетики над ламаркизмом на рубеже 1930-х гг.: «между ламаркизмом и морганизмом никакого синтеза быть не может, ибо основные концепции генетики абсолютно противоречат ламаркизму. Морганизм и ламаркизм – это два противостоящих мировоззрения (выделено нами), попытка их соединения может привести только к эклектике, борьба между ними должна пройти до конца и победит что-нибудь одно: или ламаркизм, или морганизм… Нужно надеяться, что ламаркизм не победит»[36]. «Это предсказание – продолжил И. Т. Фролов – Н. П. Дубинин неосмотрительно уточнил, однако, в своей статье, опубликованной в том же году, заключив: “Да ведь борьба (между ламаркизмом и морганизмом) собственно, и закончена”. Разумеется, говорить так было преждевременно, и это показал весь последующий ход дискуссий в генетике. Но в одном отношении – резюмировал И. Т. Фролов – это было правильно – ламаркизм как течение, противопоставляемое генетике, полностью исчерпал себя уже в то время. Тем более “парадоксальным” было стремление оживить его, которое обнаружилось в последующие годы» (выделено нами). Следовательно, оживить его, по И. Т. Фролову, можно было бы лишь на философских и даже социально-политических основаниях.
Н. П. Дубинин в 1929 г. полемизировал с механоламаркистами, в частности с Е. С. Смирновым. Это означает, что о двух антагонистических мировоззрениях заговорили еще до того, как в большой науке появился Лысенко. И на том этапе развития науки о наследственности победило мировоззрение морганистов. Победило чисто политическими средствами. Н. П. Дубинин, конечно, не мог предвидеть, что в 1948 г. маятник политической победы в области идеологии качнется в сторону советского ламаркизма, возглавляемого в то время Т. Д. Лысенко. Но поскольку в 1948 г., также как и на рубеже 1930-х гг. победила не научная мысль, но одно из противостоящих мировоззрений, то эта политическая победа оказалась временной и закончилась со сменой у власти политиков. Здесь важно отметить, что подмена науки мировоззрением предстает как бы своего рода традицией в жизни социалистического государства. Ее корни следует искать в постреволюционной борьбе различных политических групп за власть или близость к власти. Напомним, что под одной марксистской крышей объединились разные группы единомышленников, преследовавшие не только декларируемые марксистами цели освобождения от эксплуатации рабочего класса, но и какие-то свои групповые интересы. Борьба после революции этих групп была неизбежной. И мировоззренческие вопросы были одной из площадок этой борьбы за умы будущих своих сторонников.
Встает вопрос, стояли ли за этими противостоящими мировоззрениями научные направления. С точки зрения Н. П. Дубинина, с мнением которого согласился И. Т. Фролов, в то время существовали две генетики. Что касается того, что ламаркизм исчерпал себя уже в то время, то «говорить так было преждевременно» и в 1960-е гг., и, как выяснилось, в XXI веке. Причины этого вскрыл еще до войны академик Б. М. Завадовский (1937, с. 176): «Уже в 1932 г. в Лондоне на Международном конгрессе по истории науки и техники в своем докладе “Физическое и биологическое в процессе органической эволюции” я указал на механистичность теоретических концепций проф. Г. Г. Мёллера, который рисовал себе возможность мутационного изменения гена лишь в порядке механистического удара электрона по биологической молекуле, не представляя себе более сложных и многообразных форм взаимодействия наследственной основы организма со всей окружающей средой». Об этом же говорил в своем заключительном слове философ М. Б. Митин (см. раздел 6. 4), подводя итоги дискуссии по вопросам генетики и селекции, организованной в 1939 г. журналом «Под знаменем марксизма».
Отметим, что Б. М. Завадовский считал и ламаркизм механистическим учением и был одним из его жестких критиков. В той же работе в разделе, озаглавленном «Угрожает ли нам рецидив ламаркизма?», он говорит (с. 179) о предпринятой формальными генетиками атаке на Т. Д. Лысенко, обвиненного в приверженности ламаркизму. Но Б. М. Завадовский мог пользоваться неудачными дореволюционными переводами Ламарка, т. е. критиковал и порицал механицизм не самого Ламарка, но его мифологизированные представления. Собственно по этой причине и Т. Д. Лысенко мог на первых порах не отождествлять свою позицию с ламаркизмом. Тем более, что он вместе с И. И. Презентом (1936, с. 31, 42) рассматривали приспособительные реакции организма как исторический процесс, тогда как Ламарк, как им казалось, не шел дальше идеи прямого приспособления – «плоского эволюционизма», находившего поддержку в материалистических воззрениях французского трансформизма XVIII века.
Сегодня мы отмечаем проявление нового интереса к ламаркизму теперь уже во всем мире. Так что и Н. П. Дубинин, и И. Т. Фролов ошибались, предрекая научное поражение ламаркизма. Ламаркизм не сдает своих позиций вот уже более двухсот лет. И это является косвенным свидетельством основательности эволюционных идей, с которыми в начале XIX века выступил Ламарк. Но вернемся к мифу, утверждающему, что никаких двух генетик не было.
6. 3. «Миф» о двух генетиках
В своей автобиографической книге Н. П. Дубинин (1975, с. 175) пишет: «Развивая свои идеи, в том же, 1938 году Т. Д. Лысенко закладывает первые камни в создание мифа о том, что он создает особую мичуринскую генетику». В этой же книге он рассказывает, что после дискуссии 1939 г. им по заданию редакции журнала «Под знаменем марксизма» была написана статья о работах И. В. Мичурина, которая не была опубликована. «Основным выводом статьи – пишет Н. П. Дубинин (с. 227) – гласил тезис, что не может существовать особой, мичуринской генетики, противопоставляемой классической генетике как ныне существующей науке. Есть единая материалистическая наука – генетика, изучающая законы наследственности и изменчивости организмов, частью этой науки являются реальные достижения И. В. Мичурина».
Понятно, почему статья Н. П. Дубинина не могла быть опубликована. Он винит в этом И. И. Презента. Но я думаю, что и без него было кому возмутиться в редакции журнала «Под знаменем марксизма». Только что закончилась под эгидой журнала дискуссия, одной из сторон которой выступали мичуринцы. И вот в этот журнал Н. П. Дубинин пытается протолкнуть статью, в которой отказывает мичуринцам в праве на существование как самостоятельному научному направлению. Я думаю, что предложение написать о И. В. Мичурине шло от М. Б. Митина, руководителя дискуссии 1939 г. Митин протягивал руку дружбы наиболее яркому представителю генетики, которую Н. П. Дубинин неосмотрительно, скорее всего по молодости отверг. Очень жаль. История генетики могла бы пойти совсем иным путем. Мы продолжим эту тему в следующем разделе.
Реальные достижения И. В. Мичурина, очевидно, не могут быть мифом. Значит мифом является, по Н. П. Дубинину, то, что создает под названием «мичуринской генетики» Т. Д. Лысенко. Если «мичуринская генетика» в понимании Н. П. Дубинина является мифом, тогда представление о двух генетиках также следует расценивать как миф. Я однако не уверен, что миф о двух генетиках берет свое начало с довоенных времен. Тогда никто не сомневался, что Т. Д. Лысенко выступает в качестве руководителя особого научного направления, по своему содержанию, отличного от классической, или формальной генетики.
В. Н. Столетов (1966, с. 500), один из влиятельнейших сторонников Т. Д. Лысенко, после снятия последнего, высказал сомнение в необходимости видеть за понятием «мичуринская генетика» самостоятельную науку. «Это понятие – отметил он – весьма неудачное, а в конечном счете глубоко ошибочное. Оно неотвратимо ведет к признанию существования «немичуринской генетики». А отсюда – к признанию двух-трех (а может и больше) генетик. Следовательно неизбежно допущение существования в науке нескольких истин. А при допущении возможности существования нескольких истин объективный характер научной истины становится иллюзией».
С таким выводом В. Н. Столетова можно было бы согласиться, если бы мичуринское и немичуринское направления исходили из одного и того же понимания наследственности. Но ведь сам автор детально анализирует и обосновывает в этой работе нестандартное определение наследственности, предложенное Т. Д. Лысенко. Да и в классической генетике не было единства в понимании того, что считать наследственностью. Наследственность в ней связывают с геном, который, как исходно считали определяет признаки: «Ген – маленький участок хромосомы, обладающий определенной биохимической функцией и оказывающий специфическое влияние на свойства особи» (Мюнтцинг, 1963, с. 455). А вот альтернативное определение (Седжер, Райн, 1964, с. 45): «Мы определяем ген в самом широком смысле как наследственный детерминант, альтернативные формы которого ответственны за различия в определенном признаке» (выделено нами). Альтернативное состояние во многих случаях определяется мутацией, т. е. поломкой гена. Эффект поломки гена мы однозначно можем связать с отличием мутантной формы от нормальной. Однако, основываясь только на этом, сказать, какие признаки определяет нормальный (немутировавший) ген, мы в большинстве случаях не сможем. Но если мы не способны связать нормальный аллель с признаком, то это означает, что определение признака имеет место на каком-то ином уровне организации живого, не на уровне гена, как нас убеждает А. Мюнтцинг.
В. Н. Столетов, возвращаясь к поставленной им теме, предлагает говорить в данном случае не о науке, но о направлении: «В отличие от понятия “мичуринская генетика” понятие “мичуринское направление” имеет иной смысл. Понятие “мичуринское направление” используется как понятие “научная школа”… Когда говорят наука, имеют в виду объективную истину, систему научных объективных знаний, систему научных решений. Объективная истина – основа науки, ее фундамент. Когда же заходит речь о направлении в науке, рождается ассоциация о той или иной еще не решенной, но разрабатываемой сегодня научной проблеме, о той или иной совокупности решаемых вопросов». .
И. Т. Фролов (1968, с. 121), касаясь этого вопроса пишет: «Значит, направления в науке – это реальность, которую в принципе нельзя отрицать, что называется, с порога. Но и принимать ее без выяснения того, что вкладывается в понятие направления, также было бы неосмотрительным. Однако нас интересует не только и не столько то, что имеет место в принципе, а вполне конкретная ситуация в генетике… Можно ли было утверждать, что в генетике “сосуществуют” направления, одно из которых имеет в своей методологической основе синтетический подход, а другое – аналитический? Ответ на последний вопрос является основой ответа и на первый, и он может быть, на мой взгляд, только отрицательным».
И. Т. Фролов здесь критикует другого философа Г. В. Платонова (1965, с. 154), который, разделяя точку зрения В. Н. Столетова, считал, что «изучение живых тел на молекулярном уровне способствует преодолению многих противоречий, ранее раздиравших биологию, в особенности генетику. Речь идет о противоречиях между дарвиновско-мичуринским и вейсмановско-моргановским направлениями». «Г. В. Платонов – говорит И. Т. Фролов (с. 118–119) – лишь несколько “уточняет” мысль Н. В. Турбина и дает наименование двум направлениям в генетике, называя первое “синтетическим”, а второе – “аналитическим”. Он считает, что “оба эти направления различаются между собой не только по своему подходу к изучению организма, но и по характеру решения тех или иных теоретико-методологических проблем”. Но если речь идет о синтетическом (мичуринская генетика) и аналитическом (классическая генетика) подходах в изучении наследственности, то их совмещение в единую науку генетику лишь дело времени».
И. Т. Фролов в качестве одного из ведущих партийных философов того времени не может согласиться с такой примиренческой позицией. Это противоречило бы политике партии, которая в это время встала однозначно на сторону классической генетики против Лысенко[37]. Поэтому И. Т. Фролов считал, что противостояние двух направлений в генетике было временным, как результат младенческого максимализма: «если на первых порах развитие познания наследственности и изменчивости и приняло направление, противопоставляемое идеям и концепциям Ч. Дарвина, а затем также и И. В. Мичурина, то в последующем – и тем более в современных условиях – положение изменилось радикальным образом… Генетика органически впитала в себя дарвиновско-мичуринские идеи, причем зачастую – внешне независимо от них, как результат собственного развития» (с. 121).
В связи со сказанным ведущим на то время философом важно подчеркнуть три момента. Во-первых, И. Т. Фролов признает, что в начальный период своего развития генетика была антидарвиновской и антимичуринской, но что со временем она повернулась лицом к дарвинизму. Надо полагать, что эта временная антидарвиновская направленность генетики давала основание ее противникам в лице прежде всего Лысенко говорить о двух генетиках, правильной и неправильной. Во-вторых, речь у И. Т. Фролова идет лишь о мичуринских идеях. Воззрения Т. Д. Лысенко здесь выводятся за скобки, как ненаучные. Т. е. философ «спасает» (как оказалось временно) лишь одного И. В. Мичурина, отделяя его от Лысенко. К моменту переиздания свой книги (Фролов, 1988) можно было бы немного смягчить ее тон. Но к этому времени Т. Д. Лысенко был полностью «уничтожен» и как ученый, и как человек. В этих условиях любая позитивная информация о нем могла бы быть неправильно истолкована образованным обществом.
В-третьих, встав на сторону классической генетики, идеологи, среди которых И. Т. Фролов был не последним человеком, воскресили стародавнюю политику конца 1920-х – начала 1930-х гг., когда из советской науки выпалывался ламаркизм. В то время будущий лидер советских генетиков Н. П. Дубинин писал (1929, с. 73): «Принятие хромосомной теории наследственности нацело устраняет всю концепцию ламаркизма». Однако какие факты заставляют нас считать, что хромосомная теория в общих чертах может считаться окончательно доказанной? Приведя доказывающие соображения, Н. П. Дубинин (с. 88) заключает: «Генетика и ламаркизм являют собой два противостоящих мировоззрения, всякая попытка их синтеза может привести только к эклектике, борьба между ними должна пройти до конца. Да ведь борьба собственно, и закончена. Но не нужно забывать, что борьба закончена главным образом по линии экспериментальной науки».
Но, конечно, были ученые, которые верили в возможность синтеза двух направлений в будущем. Вот выдержка из выступления Н. П. Кренке (Спорные вопросы… 1937, с. 304) на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г.: «Если исходить из положений Моргана, то в пределах взглядов самой генетики я нахожу все тропинки, чтобы подойти к объяснению ряда (но не всех) опытов Т. Д. Лысенко и И. В. Мичурина».
На каких мировоззренческих соображениях И. Т. Фролов основывал свое мнение, что разных генетик не было и не могло быть ни в форме самостоятельных наук, ни в качестве отдельных направлений? Т. Д. Лысенко и его сторонники, по мнению философа (с. 161), «выдвинули, в частности, дилемму: наследственность – “вещество” или “свойство”? В зависимости от того, какую альтернативную форму ответа они конструировали, осуществлялась “классификация” взглядов на научные, диалектико-материалистические и ненаучные, метафизические и даже идеалистические. В свете сказанного выше о диалектическом соотношении, единстве структуры и функции, субстрата (“вещества”) и свойств совершенно очевидна ложность самой этой дилеммы. Весьма поучительно, однако, рассмотреть те доводы и ход мыслей, которые приводили к столь абсурдной постановке вопроса о материальных основах наследственности, а также теоретические и философские выводы, которые из них следовали».
Классическая генетика рассматривалась как аналитическое приближение, которое, по мысли мичуринцев, налагало определенные ограничения в понимании и описании явления наследственности. «Критика этих ограниченностей, – пишет И. Т. Фролов (с. 161–162), – подчеркивание необходимости изучения целостных процессов клетки и организма в его связи со средой могла бы, естественно, стимулировать развитие, углубление и уточнение основ хромосомной теории наследственности, концепции гена. Однако Т. Д. Лысенко и его сторонники пошли по пути абсолютизации целостных подходов, отрицания структурных основ наследственности, ее специфической локализации в особых генетических системах. В итоге родилась концепция, определяющая наследственность как некое материальное свойство, оторванное от своего материального субстрата».
О том же писал другой известный философ Б. М. Кедров (1966, с. 545–546): «Сторонники Т. Д. Лысенко оспаривали тезис о том, что у биологических свойств и процессов, в том числе у свойства наследственности, могут быть и должны быть свои специфические материальные носители».
По мнению уважаемых философов спор между генетиками и мичуринцами был пустопорожним. Т. Д. Лысенко просто оторвал свойство наследственности от материального субстрата. Так ли это? Неужели Т. Д. Лысенко никто не подсказал, что он делает грубую ошибку, рассматривая голое свойство изолированно от того субстрата, который собственно это свойство и определяет. Но ведь это же не так. И, например, И. Т. Фролов чуть дальше (с. 163) об этом пишет: «Наследственной основой организма является, по мнению Т. Д. Лысенко, клетка и организм в целом». Т. е. минимальным субстратом свойства наследственности Т. Д. Лысенко считал клетку. И это действительно так, если под наследственностью понимать сходство родительского и дочернего организмов. Что касается так называемых структурных основ наследственности, связанных с изучением генов то это надо было доказать, что изначальная функция генов состоит именно в том, чтобы определять сходство родителей и их потомков Это ведь ни тогда, ни до сих пор не доказано.
В следующей главе мы кратко охарактеризуем основные положения, по которым расходились классическая генетика и мичуринская биология Т. Д. Лысенко. Это необходимо прояснить в первую очередь потому, что в нашей критической литературе нет сколько-нибудь связного изложения точки зрения Т. Д. Лысенко. А без этого нельзя понять, почему именно генетика оказалась в нашей стране под ударами политиков. Противники мичуринской биологии показывали и показывают упорное нежелание видеть в ней хотя бы какое-то научное содержание. Для одних она политизированная пародия на науку, для других – псевдонаучный миф.
Вот мнение свидетеля тех лет Н. П. Дубинина, частично приведенное нами в начале раздела, высказанное им в своей автобиографической книге (1975, с. 175): «Развивая свои идеи, в том же, 1938 году Т. Д. Лысенко закладывает первые камни в создание мифа о том, что он создает особую мичуринскую генетику. Он широко использует авторитет И. В. Мичурина для достижения своих целей. Свои теоретические положения он называет мичуринскими и заявляет, что необходимо перестроить все обучение в высшей школе “на основе мичуринского учения, решительно выкорчевывая все лженаучные «теории», глубоко проникшие в агрономические науки, в особенности в разделе учения о наследственности”[38]. Особо упорно Лысенко развивает мысль о том, что при помощи прививок у растений якобы можно получить гибриды, равноценные возникающим при скрещивании… под флагом мичуринской теории он выдвигает свои необоснованные приемы направленного воспитания наследственности у сортов зерновых» (выделено нами).
По поводу необоснованных приемов направленного воспитания наследственности приведу выдержку из доклада Н. П. Дубинина на дискуссии 1939 г. (1975, с. 214): «Метод ментора, конечно, позволяет управлять воспитанием гибридов… Убедившись в ошибке теории акклиматизации, Иван Владимирович перешел к широчайшей гибридизации разных форм, что и привело его к синтезу многих совершенных сортов. Воспитание же гибридов лишь дополняло главную работу Ивана Владимировича по гибридизации». Вот вам реальная платформа для примирения: генетика изучает основные механизмы наследственности, а воспитание наследственности и другие тонкости мичуринского подхода безусловно также значимы, но находятся на периферии изучения явления наследственности. Но они важны, поскольку дополняют общую картину, рисуемую генетикой.
Что мешало нашему ведущему генетику разъяснить основные положения мичуринской генетики. О каких лженаучных «теориях», глубоко проникших в агрономические науки, говорил Т. Д. Лысенко. Об этом тоже надо было бы сказать читателю. Обратите внимание: Т. Д. Лысенко защищает агрономические (агробиологические) науки, т. е. практику, от ложных, как ему кажется, теоретических положений генетики. Думается, что он имел на это полное право, поскольку именно он был назначен руководителем этой практической работы в сельском хозяйстве и отвечал за ее результаты, в отличие от генетиков. В такой ситуации генетикам нужно было бы прислушаться к совету М. М. Завадовского (1936, с. 22–23), который писал в статье «Против загибов в нападках на генетику»: «Генетика как дисциплина, преподаваемая в вузах, строится по типу так называемых теоретических дисциплин. Лысенко не генетик, он работает в области фитотехники»[39] (с. 22). И самое важное (с. 23): «Наряду со всем сказанным, Лысенко прав в том, что современная генетика оторвана от запросов практики… Представители генетики в СССР допустили ту ошибку, что они сочли теоретическую науку о явлениях наследования (генетику), построенную по типу изучения объективно существующей в природе формы движения (науку, вскрывающую закономерности наследования, науку университетского типа) достаточно созревшей чтобы положить ее в основу не только фито- и зоотехнических исследований, не только в основу биотехнической науки как организованной системы знаний, но и основу руководства к действию в построении сельского хозяйства». Н. П. Дубинин (1975, с. 175), приведя последнюю выдержку, счел это высказывание М. М. Завадовского ошибочным, отметив, правда, что оно возникло не на пустом месте, а было связано с «провалом обещаний [по развитию сельского хозяйства], данных Н. И. Вавиловым и А. С. Серебровским на пятилетие (1932–1937 годы)».
М. М. Завадовский предлагал очень мудрое решение, обеспечивающее разъединение и мирное сосуществование двух направлений – теоретического и биотехнического. Ведь Т. Д. Лысенко не лез и не собирался лезть в теоретическую биологию. Его интересы, как главного агронома страны, были сосредоточены на агрономических науках и создаваемой на их базе новой дисциплины – агробиологии. Но так получилось, что теоретики стали вмешиваться в биотехнику, считая, что Т. Д. Лысенко и его сторонники работают не по канонам генетики, т. е. неправильно. Но предложи теоретикам попробовать вывести новые породы скота по их правильным канонам – обидятся. У биотехников есть свои секреты успеха, которым, к сожалению, из книг нельзя научиться.
Философ Б. М. Кедров (1966, с. 562), являясь сторонним и посему в какой-то мере объективным наблюдателем, подтверждает тот факт, что никто в нашей стране не проявил интереса к научному анализу взглядов Т. Д. Лысенко: «… любую теорию, гипотезу, любое открытие, понятие можно толковать здесь и в духе материализма и в духе идеализма… Исключение не составляет и так называемое мичуринское учение («так называемое» потому, что никто сейчас не может сказать, что это такое и что в него входит, а главное – что в него не входит…)».
Вообще-то удивительная позиция. Ведущий философ Советского Союза признается, что ни он, ни биологи не знают в чем заключаются ошибочные положения мичуринского учения. Как можно критиковать, не разобравшись с тем, что критикуешь. Было несколько изданий «Агробиологии» Т. Д. Лысенко. Вышло двухтомное собрание его работ. На западе было опубликовано большое число рецензий на его книгу о наследственности, включая одну монографию (Hudson, Richens, 1946). Материалов, в том числе с критикой более чем достаточно, чтобы составить представление о мичуринской биологии.
6. 4. Дискуссия по проблемам генетики 1939 г. Неудачная попытка примирения
Мы уже писали, что эта дискуссия была инициирована ленинградскими учеными, недовольными действиями Т. Д. Лысенко. Дискуссия проходила с 7 по 14 октября 1939 г. в Москве под эгидой журнала «Под знаменем марксизма». Руководителем дискуссии был академик М. Б. Митин.
Н. П. Дубинин (1975, с. 224) положительно оценил роль М. Б. Митина в этой дискуссии: «… я лично, – отметил он – слушая речь М. Б. Митина на дискуссии 1939 года, почувствовал локоть друга. Я услышал одобряющие слова о том, что и наша работа нужна, что мы должны и обязаны иметь свою точку зрения и, имея свои научные позиции, бороться за социализм. Я должен высказать здесь эту точку зрения еще и потому, что М. Б. Митин в дискуссии 1948 года и позже по отношению к генетике занял неверную позицию. Этим он сам затруднил оценку его деятельности, связанной с генетикой». При всем этом, продолжил Н. П. Дубинин, «Мы не имеем права забыть позицию философского руководства в 1939 году, которая явилась преградой для монополизма Т. Д. Лысенко. Это, безусловно, сыграло большую роль, во многом сохранив кадры генетиков и определив этим успех возрождения генетики, которое началось в 1956 году. Наша борьба за генетику получила в этой позиции М. Б. Митина и других философов серьезнейшую реальную поддержку». Обращаю внимание на то, что по словам непосредственного участника трагического развития событий в генетике, ее возрождение началось в 1956 г.
Для меня, также как и для Н. П. Дубинина важными для понимания того исторического момента явились следующие слова М. Б. Митина (1939, с. 175): «Надо бороться против профессорской кастовости, замкнутости, нелюбви к новому, неприязни к самокритике, которые имеют место со стороны формальных генетиков. Но вместе с тем мы будем бороться, как этому учит нас наша партия, и против всякого рода даже самых ничтожных проявлений махаевского отношения к кадрам нашей советской интеллигенции[40], работающим на благо социализма. От всех этих недостатков мы, товарищи, должны избавиться… Разногласия в науке могут и должны быть. Могут и должны быть теоретические споры. Но плохо, когда эти теоретические споры, дискуссии, расхождения принимают такой, я бы сказал, вредный характер, какой они приняли сейчас… Наши научные кадры имеют полную возможность печатать свои труды, свои работы, высказывать свои соображения по тем или другим вопросам, которые стоят в порядке дня… Мы должны одернуть администраторов от науки, которые мешают развитию нашей науки». Говоря о «проявлении своего рода махаевских настроений» (с. 175), М. Б. Митин имел в виду выступления Г. Н. Шлыкова и И. И. Презента. К последнему относятся слова М. Б. Митина (с. 157): «Это пахнет схоластикой. От этого надо отказаться. Я думаю, что теоретические работы сторонников тов. Лысенко значительно выиграют в научном отношении, если не будет этого словоблудия» (аплодисменты. Голоса: «Правильно»). Слова М. Б. Митина с осуждением проявлений махаевщины были услышаны и идеологическая «ругань» в адрес генетиков прекратилась, а там на нашу страну обрушилась война и уже было не до споров со своими.
Эта оценка, данная нашим ведущим генетиком, приводит меня к мысли, что Н. П. Дубинин имел личную беседу с М. Б. Митиным и она вселила в него уверенность, что там наверху не хотят конфронтации и его опасения, что их генетическое направление в кольцовском институте закроют, безосновательны. Я думаю, что М. Б. Митин или сам, или через кого-то в редакции предложил Н. П. Дубинину написать о И. В. Мичурине. Речь, конечно, шла о том, чтобы подготовить достаточно сбалансированную статью, чтобы не обидеть своих научных противников. М. Б. Митин в своем заключительном слове, подводя итоги дискуссии, дал ключи к этой новой для всех политике примирения. Н. П. Дубинин, как мы уже говорили, не сумел воспользоваться открывшейся возможностью и написал статью о И. В. Мичурине конфронтационную, как он сам признался, и унизительную для мичуринцев, не признающую их за ученых, что недопустимо даже в том случае, если бы их ошибки были для всех очевидны.
Что же такого сказал М. Б. Митин в своем заключительном выступлении? В его речи, деловой и корректной, я не нашел вызывающих выпадов против генетики. «… хотя мы и не являемся специалистами в данной области, – сказал М. Б. Митин (1939, с. 148) в начале своего выступления – все же на основе предварительной подготовительной работы берем на себя некоторую смелость высказать ряд соображений по спорным вопросам, столь страстно здесь обсуждавшимся. Как представители философии диалектического материализма, мы, естественно, не можем и не должны… пытаться давать ответы на такие вопросы, которые должны решаться практикой, экспериментом. Однако это не значит, что мы не имеем или не можем иметь своей точки зрения по ряду общих, больших, принципиальных вопросов, которые здесь были поставлены». М. Б. Митин недвусмысленно говорит, что он не будет касаться научных вопросов, но разбираться с натурфилософскими разногласиями он может и имеет право. Потому что это прерогатива философии.
М. Б. Митин (с. 165), в частности, высказал интересные возражения в отношении сложившегося понимания генов: «Под “геном” в современной генетике разумеют некий фактор (или совокупность факторов), расположенный в хромосоме ядра клетки и определяющий признаки взрослой особи». Перед этим М. Б. Митин сказал следующее (с. 165): «Я не берусь предсказать путей дальнейшего развития генетики и того, сохранится ли в ее дальнейшем развитии понятие “гена”… Однако несколько “умозрительных” (как говорил проф. Левитский) соображений, основанных на марксистском философском учении я хочу привести… Мы хотим обратить ваше внимание на то, что фигурирующее в современной генетической науке понимание “гена” не согласуется с теорией развития… Мне кажется, что если понятие “гена” и вся “корпускулярная теория наследственности” и является материализмом, то не диалектическим, а метафизическим, враждебным теории развития» (выделено в подлиннике).
В чем же конкретно проявляется несоответствие концепции гена и идеи развития, как она понимается в диалектике? В теории генов «устанавливается полное соответствие между признаками взрослой особи и факторами, способностями, возможностями, содержащимися в зародыше. Вот это и кажется нам противоречащим принципу развития. Особенно это противоречит филогенетическому закону Дарвина-Геккеля, согласно которому индивид в своем эмбриологическом развитии воспроизводит в сокращенном виде путь развития того вида, к которому он принадлежит. Ошибка учения о генах состоит в том, что оно слишком наивно, грубо, механистически сближает признаки взрослой особи с особенностями зародыша этой особи. Формальные генетики забывают, что между зародышевой клеткой особи и взрослой особью лежит долгий путь развития… в этом развитии – от зародыша до рождения созревшего организма – имели место качественные превращения… Если человеческий зародыш в утробном развитии прошел стадии, когда он был похож на амфибию и имел жабры, потом стал похож на низшее млекопитающее, потом – на своего обезьяноподобного предка, то, согласно учению о генах, в хромосоме половых клеток его родителей имелись все факторы, определяющие все признаки организма на всех стадиях его эмбрионального развития и на всех стадиях его развития уже в качестве взрослой особи» (с. 166, выделено в оригинале).
М. Б. Митин, основываясь на здравом смысле усомнился в том, что существуют гены, определяющие не только признаки взрослого организма, но и признаки всех промежуточных состояний организма в его развитии от зиготы до взрослого. Сейчас мы знаем, что М. Б. Митин был прав в своих сомнениях. Гены определяют белковые молекулы, а признаки формируются в общем случае через простые и сложные цепочки взаимодействия белковых молекул. Ошибка генетиков заключалась в том, что они наше чисто человеческое понимание признака соотнесли с геном, который реально, если что и определяет, то не «наши» признаки. Для пояснения сошлемся на пример развития клюва у дарвиновских вьюрков. Нет гена толстого клюва, как и генов тонкого прямого или изогнутого клюва. Есть несколько белков, различия в количественном соотношении которых могут дать все возможные варианты формы клюва. Или еще более показательный пример из знакомой мне систематики двукрылых насекомых. В природе существуют виды мух, имеющих «бивни», «рога», непарный вырост на лбу, глаза, размещенные на разных по длине стебельках. Нет необходимости постулировать для этих структур свои гены. Да и откуда им взяться? Нет необходимости связывать эти структуры с мутациями в уже известных генах. Появление этих структур, например, тех же щечных выростов в виде бивней легко можно связать с управляющими изменениями в экспрессии небольшого числа генов, определяющих обычную и аномальную форму щек.
Заключая данный раздел своего выступления М. Б. Митин сказал (с. 167), что «разрешить этот вопрос [о становлении признаков всех стадий развития организма] можно не путем метафизического постулирования генов, но лишь путем изучения зародышей клетки в ее развитии, в котором учитывается развитие и индивида, и вида в целом». В связи с этим он еще раз напомнил о второй нерешенной проблеме, касающейся качественных скачков в развитии (с. 168): «В том-то и заключается сложность теории развития, что она допускает качественные превращения в развитии зародыша. А учение о генах допускает лишь рост и проявление того, что изначально заложено в зародыше». И далее М. Б. Митин ссылается на замечательные подтверждающие его мысль слова В. И. Ленина (из Философских тетрадей, с. 325–326) о двух взглядах на эволюцию и развитие, метафизическом и диалектическом (с. 168).
«Две основные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение или увеличение, как повторение, и развитие как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними)… Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая – жизненна. Только вторая дает ключ к самодвижению всего сущего; только она дает ключ к “скачкам”, к “перерыву постепенности”, к “превращению в противоположность”, к уничтожению старого и возникновению нового».
«Учение о генах современной формальной генетики – продолжил М. Б. Митин – явным образом относится к числу образцов первой метафизической концепции развития из тех двух, о которых говорил Ленин. Не спасает положения… что они [сторонники учения о генах] признают мутабильность гена, мутации… [последние] выступают у них не как результат предшествующего эволюционного развития, не закономерно, а как совершенно случайные, часто необъяснимые “катастрофы”, прямо-таки в стиле Кювье. Подобного рода мутации еще не есть диалектика, которая признает закономерную связь скачков с предшествующим эволюционным развитием».
Как бы не относиться к мнению В. И. Ленина, но для коммунистов, которые составляли большинство среди генетиков, оно являлось в то время руководящим указанием, обязательным к исполнению. В этом и заключается отмеченная нами в разделе 5. 1 противоречивость положения советского ученого. Как политик ученый-коммунист обязан показывать идеологическое единство, но как ученый он часто вынужден нарушать этот принцип мировоззренческого единства в пользу научного консенсуса, задаваемого, к сожалению, не нами, но на Западе. Когда Сталин в речи на приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 г. провозгласил здравицу «за процветание [советской] науки… которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки», то он призывал к тому, чтобы и наша страна также была центром создания нового знания, которое в этом случае будет лишено мировоззренческих изъянов. Следуя сталинскому призыву, М. Б. Митин обращал внимание генетиков на эти мировоззренческие изъяны теории гена, как бы приглашая их провести ревизию самой теории с тем, чтобы выйти на новый уровень обобщений. Именно с этим я связываю то внимание, которое проявил М. Б. Митин к делам Н. П. Дубинина, о чем сам Николай Петрович с теплотой вспоминал через 30 с небольшим лет. Но нет, генетики не смогли сойти с военной тропы.
История развития генетики показала, что М. Б. Митин был прав в своих сомнениях относительно роли мутаций, о которых вели речь генетики. Изменения в регуляторной области гена, о которых стало известно позже, не являются случайными в понимании генетиков и они жестко завязаны на работе других генов. Т. е. эти «мутации» вполне удовлетворяют диалектическим принципам.
Затем М. Б. Митин переходит к пониманию гена как материальной частицы и, в частности, к вопросу о его стабильности. Речь зашла о позиции по данному вопросу Н. К. Кольцова. «Я не буду – сказал философ – говорить о совершенно реакционных, евгенических, срастающихся с расовой теорией воззрениях проф. Кольцова…[41] я только приведу высказывание проф. Кольцова о гене. “Химическая генонема, – говорил он [Н. К. Кольцов] – с ее генами остается неизменной в течение всего овогенеза и не подвергается обмену веществ – окислительным и восстановительным процессам” (Биологический журнал. Т. VII. Вып. 1-й за 1938 г., стр. 42). Такого же рода постановку вопроса о неизменности генов мы имеем также у акад. Вавилова. В статье “Генетика”, напечатанной в 1929 г. в XV томе Большой советской энциклопедии, акад. Вавилов пишет: “Ген представляет собой определенную устойчивую единицу наследственности, которая может быть сравнима с атомом в химии и физике… Гены передаются из поколения в поколение не изменяя своей природы”… В беседе по этому вопросу с акад. Вавиловым я пришел к заключению, что эта его старая постановка вопроса о неизменности гена теперь как будто им отрицается… Но тогда почему об этом не сказать прямо и не объяснить своей позиции перед всеми, чтобы было ясно и понятно, что думает по этому вопросу акад. Вавилов».
Могут сказать, что гены действительно, если и изменяются, то крайне редко. Но Н. К. Кольцов, следуя сложившемуся в генетике мнению, понимал под генонемой белковую молекулу, а она представляет собой субстрат, который активен (живет), когда взаимодействует с другими молекулами. И об этом говорили, начиная с Ф. Энгельса. Именно по той причине, что белковые молекулы неустойчивы, они не могут выступать в роли генов. Генетики, основываясь на реальном факте устойчивости передачи признаков по наследству, вполне справедливо предположили, что гены, обеспечивающие эту передачу, сами должны показывать большую устойчивость к сторонним воздействиям. Но химический субстрат, который они стали связывать с генами, никак не мог им обеспечить устойчивую передачу признаков.
Философ М. Б. Митин поставил перед генетиками действительно серьезную и интересную проблему, указав на реальное противоречие в их теоретических построениях. Постулируемый вами белковый ген не может быть устойчивым. Но ведь гены и по теоретическим соображениям должны быть устойчивыми и по факту являются таковыми. Значит, если белки не годятся в качестве материальной основы генов, то надо подумать, какие устойчивые соединения, находимые во всех организмах, могут выполнять функцию генов. А для этого надо было генетикам собраться после дискуссии и обсудить поставленные ею научные вопросы. Можно было бы заинтересовать проблемой устойчивости генов и химиков, и физиков. Они бы не отказали в помощи и, я уверен, что гипотеза о белковой природе генов была бы пересмотрена еще до войны. А это бы означало реальный прорыв наших ученых в деле изучения наследственности. К этому собственно и призывал в своем заключительном выступлении М. Б. Митин (с. 169), которого, к сожалению, генетики не услышали: «Нам пора, наконец, развить нашу советскую генетическую науку до такой степени, чтобы она возвышалась над уровнем науки западноевропейских стран и США, так же высоко, как возвышается наш передовой социалистический строй над странами капитализма».
Генетики, к сожалению, хотели услышать другое – осуждение Лысенко. Дискуссия инициировалась генетиками с целью дать бой воинствующему невежеству, исходящему от Лысенко и его сторонников. Ее результаты для генетиков были неутешительными. Им не удалось убедить политиков в своей правоте и «победить» безграмотного Лысенко, которого поддержали такие же безграмотные, как им казалось, философы. [42] Скорее всего обиды на вмешательство в их дела людей со стороны и на явную поддержку Лысенко не позволили генетикам трезво оценить поставленные во время дискуссии вопросы. Ученые пошли по заведомо ложному пути, ища выходы наверх в надежде заручиться поддержкой влиятельных партийных функционеров в своей борьбе теперь уже не только против Лысенко, но и против второго академика Митина.
Еще один важный вопрос, поставленный академиком М. Б. Митиным, касался понятий генотипа и фенотипа. Вот что он сказал конкретно (с. 170): «… возьмем, напр., вопрос о генотипе и фенотипе. Безусловно эти понятия имеют серьезное научное значение. Надо различать наследственную, генетическую основу организма и ее внешнее выражение. Диалектика учит ведь различать сущность и ее проявление… Но между этими двумя понятиями формальные генетики вбили метафизический клин, создав китайскую стену, разграничив эти понятия настолько, что между ними нет уже сейчас ничего общего. Фенотип развивается по своим законам, генотип развивается по своим законам, они имеют каждый свою собственную историю, в процессе развития между ними нет взаимного влияния и перехода… для практики такая постановка вопросов означает теорию предела для возможностей нашего изменения природы. Практически это предельческие теории, которые надо выкорчевать до конца» (выделено в оригинале).
М. Б. Митин обращает внимание генетиков на отсутствие обратной связи между управляющим генотипом и управляемым фенотипом. Ему как философу-диалектику с этим трудно согласиться. Даже если бы такой связи не существовало исходно, на самых ранних этапах эволюции живого, она должна была возникнуть с усложнением организмов, по крайней мере у многоклеточных. Но главная обеспокоенность положением дел в генетике была связана не с этими недоработками в теоретических построениях. Позиция генетиков о невозможности направленно изменять наследственность напрямую вступала в конфликт с предвоенной политикой Партии по ускоренному решению проблемы продовольственной безопасности страны, она мешала усилиям государства мобилизовать трудящихся, включая и научные кадры, на выполнение грандиозной программы по коренному преобразованию страны. Поэтому М. Б. Митину приходится произносить столь жесткие слова предупреждения в адрес генетиков, что их чисто натурфилософскую на тот момент позицию, коль скоро она направлена на срыв мобилизационной политики Партии, надо выкорчевать до конца.
М. Б. Митин (с. 170) приводит выдержку из Курса генетики Синнота и Денна (1934, с. 50): «Из приведенных нами опытов и наблюдений ясно, что такие соматические признаки, как болезни, увечья, влияния ядов, плохого питания, изменений пищи, света и температуры, а также изменения, вызываемые употреблением и неупотреблением органов или обучением, должны быть отнесены к числу несомненно ненаследственных признаков».
Это положение, – комментирует М. Б. Митин (с. 170–171) – поскольку оно направлено против ламаркистских позиций[43], против упрощенных представлений о воздействии среды на организм, содержит в себе момент истины. Но с другой стороны в этой постановке вопроса… поставлены такие рубежи, такие грани между наследственными и ненаследственными изменениями, такие рубежи и грани между телом и воспроизводящей системой, поставлены такие грани между ролью и воздействием внешней среды и внутренним фактором развития организмов, которые, по-моему, не соответствуют действительности, являются сплошной метафизикой и мешают нашей практике изменять природу. Подобная постановка вопроса о роли внешних факторов развития метафизична потому, что в ней нет и тени попытки поставить вопрос диалектически, конкретно, с учетом того, что роль и значение внешних условий развития различны на разных ступенях лестницы природы».
М. Б. Митин, следуя, если и не научной мудрости, то житейской интуиции, говорит, что нельзя вот так огульно, чисто умозрительно выстраивать непреодолимые границы между телом и воспроизводящей системой и отрицать на этом основании возможность действия на наследственность любых факторов среды. Это будет сплошной метафизикой. А человеку, когда речь идет о попадании в организм ядов и других вредных соединений, лучше остеречься и не слушать генетиков, утверждающих, что эти вещества не влияют на наследственность. Неужели они проверили это экспериментально? Вот пример из недавней истории.
В промежутке между 1938 и 1975 г. в зарубежной медицинской практике получил большую известность синтетический эстроген диэтилстилбестрол (Crews, McLachlan, 2006; Колотова и др., 2007; Foley et al., 2009). Этот препарат широко использовался беременными женщинами в качестве меры, уменьшающей риск выкидыша. Со временем стали видны негативные последствия приема диэтилстилбестрола. У девочек возникали разного рода ненормальности в развитии половой системы, выливавшиеся позже в вагинальную аденокарциному, рак груди и другие формы рака. На мышах было показано, что такого рода аномалии развивались и у потомства самок второго поколения, которым, как и их «матерям», не давали диэтилстилбестрол.
В случае с диэтилстилбестролом речь идет о так называемом мультигенерационном воздействии (Skinner, 2008; Nilsson, Skinner, 2014). Если беременная самка (F0 поколение) подвергается неблагоприятным воздействиям среды, то одновременно с ней воздействию подвергается плод (F1-поколение) и половые клетки поколения F2. Другим показательным примером мультигенерационного наследования является так называемый метаболический синдром, развивающийся у взрослых детей, матери которых недоедали в период беременности (Barker, 1995). Метаболический синдром находит выражение в таких системных нарушениях как диабет II, повышенное кровяное давление, коронарная недостаточность, ожирение. Впервые он был засвидетельствован в известном феномене «голландских женщин», ставших жертвами голодной зимы 1944–1945 гг. Девочки, рожденные от матерей, голодавших в начале беременности, были предрасположены к ожирению во взрослом состоянии.
Для строгого доказательства наследственной передачи необходимо, чтобы изменение, явившееся результатом средового воздействия на F0-поколение, было зафиксировано в третьем (F3) поколении. Для самцов соответствующая наследственная передача должна быть зафиксирована во втором (F2) поколении. В этом случае говорят о трансгенерационном наследовании. Примеров трансгенерационного наследования к настоящему времени описано достаточно много (см. Шаталкин, 2015).
Что касается примеров мультигенерационного наследования, то в них остается не вполне ясным следующий вопрос – почему воздействие средового фактора должно быть параллельным и независимым на трех разных уровнях организма матери: F0 (собственно организм матери), F1 (плод) и F2 (половые клетки плода). Это и есть умозрительный метафизический подход к решению проблемы, о чем предупреждал наших генетиков академик М. Б. Митин как раз тогда, когда диэтилстилбестрол стал применяться в медицинской практике. Более простым и отвечающим, в частности, принципу парсимонии является предположение, что именно организм как целое реагирует на действие поступающих в организм чужеродных веществ, того же диэтилстилбестрола. Кстати, почему прием этого препарата обернулся для многих женщин трагедией? Причина кроется в том, что, следуя уверениям классиков генетики (см. приведенную выше выдержку из Курса генетики Синнота и Денна) в безопасности ядов и других вредных веществ для наследственности, не проверили действие данного препарата на животных и их потомство в ряде последовательных поколений.
Эрвин Баур (1913, с. 48), рассматривая вопрос о возможном действии употребления родителями алкоголя на их детей, утверждал, что бесспорных данных, будто бы доказывающих наличие такого влияния, нет: «Согласно взгляду, сейчас очень распространенному и даже очень обыденному… алкоголизм, т. е. хроническое алкогольное отравление родителей, будто бы сильно влияет на свойства детей Такого рода последействие, конечно не было бы для нас неожиданным, тем не менее, однако, мне кажется, что пока нет еще прочного доказательства (выделено Бауром), что последействие алкоголизма родителей сказываются на детях настолько сильно. Весьма часто забывают, что алкоголизм сам уже базируется на известной унаследованной психической дегенерации. Такого рода родители, конечно передают и дальше эту ослабленную психику».
Этого доказательства, о котором говорил Баур, и не будет, поскольку он исходил из ложного понимания проблемы наследования признаков, которое предложил А. Вейсман. Последний, напомним, отрезал хвосты у мышей и не обнаружил их уменьшения у потомства. Вот и Баур считал, что с точки зрения положений «истинного» ламаркизма у пьющих родителей должны непременно родиться запойные дети. А поскольку этого нет во всех случаях, то ламаркизм по крайней мере в отношении наследственного действия этого фактора ошибался. Здесь достойно сожаления, что именно генетики стали бороться против противников пьянства под предлогом борьбы с ламарковскими предрассудками, не доказав убедительно, что речь действительно идет о предрассудках.
Практика приема женщинами диэтилстилбестрола показала, что активные вещества, принимаемые родителями, могут иметь последействие у их детей и внуков в виде разного рода нарушений и болезней. Такого же рода последствия может иметь потребление алкоголя и наркотиков. В этом заключается в данном случае феномен наследования, а не в том, что будто бы у алкоголиков и наркоманов, дети также будут алкоголиками и наркоманами. Такую схему наследования приобретенных признаков придумал А. Вейсман и приписал ее Ламарку. Кстати, Э. Баур в своей книге ничего не говорит об опытах А. Вейсмана по удалению хвостов у мышей. Я это связываю с тем, что в самой Германии предложенная Вейсманом интерпретация этих опытов была принята крайне негативно как полностью игнорирующая данные физиологии. А немецкая физиологическая школа была по тем временам наилучшей в мире. В Англии опыты А. Вейсмана были приняты на ура, как доказательство невозможности ламаркизма. Англичанам никак не хотелось, чтобы наркотики попали в число соединений, прием которых отрицательно сказывается на наследственность. Их поддержка А. Вейсмана вполне прогнозируема. Собственно вейсманизм пришел в континентальную Европу из Англии.
Интересно, что американский биолог Жак Леб (1926, с. 258), отвергая возможность наследственной передачи благоприобретенных признаков, отметил, что «зарегистрированы случаи, вызванные у потомков отравлением зародышевой плазмы алкоголем, введенным в организм родителей (как это имело место в хорошо известных опытах Стоккарда [Stockard]), или действием очень высокой температуры на бабочек; однако во всех этих случаях зародышевые клетки подвергались изменениям под влиянием алкогольного яда или химических соединений, образовавшихся при содействии очень низких или очень высоких температур. Эти случаи совершенно отличаются от приводимых Каммерором, которому удавалось, якобы, вызвать появление самцов жабы-повитухи, имевших на пальцах скопления рогового вещества и вздутия, характерные для других видов, заставляя их родителей откладывать яйца в воду…» (подробнее об опытах Каммерера см. Шаталкин, 2015).
Ж. Леб, таким образом, признал возможность наследования нарушений организма при отравлениях. Кстати, в данном случае не гены подвергаются отравлению, но клетка. Следовательно она также является носителем наследственной информации. Казалось бы на изучении такого рода наследственных проявлений, коль скоро они касаются здоровья человека, генетикам также надо было сосредоточить внимание. Но не сосредоточили, скорее всего потому, что это поставило бы под удар производство алкогольной продукции во всех странах мира. Генетиков эти вопросы не интересовали, как не имеющие отношения к генам, а ламаркистов, которые могли бы этим заняться, разогнали.
Что касается опытов П. Каммерера, то Ж. Леб высказал сомнение в их достоверности, равно как и сомнения в том, что «известен хотя бы один случай наследственной передачи благоприобретенного признака» (1926, с. 258). Такое впечатление, что у генетиков с этим все в порядке, что на счету их науки уже известны достоверные примеры наследственной передачи благоприобретенной мутации. Это не человек, но природа решает, является ли приобретенное изменение благоприятным или нет. Что касается опытов с жабой-повитухой, то в них, возможно, проявился феномен атавизма, восстановление признаков, которые были у предков этих жаб и ныне характеризуют близкие виды. В такого рода атавистических проявлениях нет ничего удивительного. Споры могут возникнуть лишь в отношении того, как интерпретировать такие факты, связывать ли их с явлением наследственности или нет.
М. Б. Митин в своих опасениях, что генетики могут ошибаться в таком важном вопросе, как влияние на наследственность факторов среды, оказался прав. Поэтому его призыв к генетикам не спешить с категорическим заключением о невозможности влияния среды на наследственность, сейчас получает новое звучание. Заключая тему о генотипе и фенотипе, М. Б. Митин пишет: «… если мы не перебросим моста между организмом и средой, между мутациями и модификациями, между фенотипом и генотипом, мы не будем стоять на почве дарвиновской теории эволюции и вообще теории развития, впадем в автогенез… Пора положить конец такой метафизике… Как представители диалектического материализма, мы призываем вас подойти к этим вопросам с точки зрения выяснения специфической постановки вопроса на различных стадиях развития природы, с точки зрения выяснения взаимосвязи разных факторов развития, взамен имеющего места их искусственного разрывания. Вот это будет настоящей попыткой приложения диалектического материализма к явлениям природы… Пора отойти от декларативных заявлений о любви к диалектическому материализму и попытаться по-настоящему эти вопросы поставить в своей научной области».
Этот призыв был обращен в первую очередь к генетикам коммунистам, которые в конце 1920-х – в начале 1930-х гг. выступали именно с диалектических позиций против ламаркизма.
Я специально подчеркнул, что понятия генотипа и фенотипа исходно вводились с натурфилософских позиций. По мере развития генетики надобность в этих натурфилософских понятиях постепенно отпадет, хотя, возможно, сохранится их использование как чисто классификационных единиц. Раньше думали, что фенотип меняется исключительно за счет случайных мутаций в генах, т. е. за счет поломок кодируемых функциональных молекул, которые по счастливому стечению обстоятельств могут оказаться полезными для каких-то иных нужд. При таком понимании эволюции фенотипа от последнего ничего не зависит. Правда, не было и не могло быть доказано, что это единственный способ эволюционного изменения форм. Сейчас сходятся на том, что мутационный процесс, связанный с поломками кодируемых генами функциональных молекул, не является магистральным путем эволюции. Эволюция осуществляется главным образом в результате (1) образования новых генов под обеспечение возникших новых потребностей, (2) за счет увеличения спектра белковых молекул через альтернативный сплайсинг; (3) за счет включения генов через разные механизмы в тех клетках, в которых до этого они были неактивны; (4) в результате изменения параметров экспрессии уже существующих генов, а также (5) за счет образования новых сочетаний кодируемых генами функциональных продуктов, через взаимодействие которых специфицируется процесс развития. Я не исключаю, что этот список может быть продолжен. В таком случае развитие есть проблема не генотипа, но фенотипа (Раутиан, 1993), который определяет, какие гены, в какой последовательности и в каком режиме будут использоваться организмом в данном месте и в данное время.
Что М. Б. Митин был прав в своих сомнениях о правомочности и необходимости сооружать «китайскую стену» между генотипом и фенотипом, показывает дальнейшая судьба этих понятий. Вот как ныне решается проблема соотношения генотипа и фенотипа: «То, что не изменилось [в воззрениях на природу гена], – так это положение, согласно которому генотип определяет фенотип; на молекулярном уровне это означает, что последовательности ДНК определяют последовательности функциональных молекул» (Gerstein et al., 2007, р. 679). Здесь без ответа остаются несколько вопросов. Что определяет функциональность кодируемых последовательностей? Эти функциональные молекулы относятся к фенотипу. Какова их роль в определении остальных составляющих фенотипа, включая и традиционные признаки организма?
ГЛАВА 7. В каких пунктах расходятся мичуринское и классическое направления в генетике
7. 1. О субстрате наследственности
Минимальным субстратом наследственности у Т. Д. Лысенко является клетка, у генетиков – гены.
Это первое кардинальное различие двух подходов. Т. Д. Лысенко, таким образом, не отрицает структурных основ наследственности в виде клетки, и указывает на то, что гены в качестве единственных наследственных единиц недостаточны для понимания явления наследственности, т. е. сходства родителей и детей. Этот момент вполне осознавался как сторонниками, так и противниками классической генетики. Они хорошо понимали, в чем суть расхождений. Вот мнение профессора Тимирязевской академии Д. А. Кисловского (1937, с. 208), издавшего первое в СССР руководство по проведению практических занятий с мухой-дрозофилой. По его словам (с. 205), он «страстно стоит за генетику», но не может согласиться с некоторыми ее положениями. «В моей голове – пишет Д. А. Кисловский (с. 208), как и в голове акад. Б. М. Завадовского, не укладываются отдельные носители наследственности, как бы отдельные от самой клетки как целого. “Носителем наследственности” несомненно является не отдельное вещество в клетке, а сама клетка как целое, как сложная материальная, исторически развившаяся система».
Вот что говорил на эту тему Н. И. Вавилов (1939, с. 134) в своем докладе на дискуссии, организованной редакцией журнала Под знаменем марксизма: «Отрицать роль хромосом, сводить все к организму в целом, к клетке – значит, отодвинуть биологическую науку назад, ко временам Шванна». Конечно, не к временам Шванна, но к науке второй половины XIX века – к временам Р. Вирхова, М. Ферворна и К. А. Тимирязева. Наши ученые осудили О. Б. Лепешинскую, решившую опровергнуть Р. Вирхова в своих поисках живого внеклеточного вещества. Чем же от нее отличаются генетики, заговорившие о внутриклеточном веществе наследственности, способном к внеклеточному существованию. А ведь по факту О. Б. Лепешинская (еще до войны) имела в виду под этим живым веществом то, что позже приняли сами генетики – тимонуклеиновую кислоту.
Еще более определенно высказывался на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г. Н. П. Дубинин (1937, с. 338): «Акад. Т. Д. Лысенко, который своей теорией стадийного развития внес новую свежую струю в современную генетику, работает с целостным развитием. На данном этапе его феногенетической теории, пока он изучает несколько качественных стадий, возникающих на основе целостного развития особи, необходимость факториальной теории наследственности перед ним не обнаруживается… Когда же он перейдет к следующему этапу, когда он будет больше гибридизировать, он должен будет открыть и вновь откроет законы Менделя». В том же ключе он (Дубинин, 1939, с. 191) высказался на следующей дискуссии в 1939 г.: «Я считаю, тов. Лысенко, что ваша ошибочная позиция в вопросе о роли клетки в наследственности, в которой вы отрицаете хромосомную теорию наследственности, является второй, исключительно серьезной брешью ваших теоретических построений относительно наследственности и изменчивости, которая пагубно, я прямо вас предупреждаю, по-товарищески, отразится на вашей дальнейшей теоретической и практической работе. Вы должны взять все факты хромосомной теории наследственности. Если вы их отбросите, то это приведет к тому, что в самых главных явлениях наследственности вы просмотрите самое существенное звено».
На самом деле Т. Д. Лысенко не отрицал роль хромосом в явлении наследственности. Но при чисто экологическом подходе в изучении специфических реакций целостного организма на действие среды нет необходимости обращаться к теории гена. Это другой уровень анализа, который, по мнению Н. П. Дубинина, высказанному в 1936 г., не отрицает генетический анализ. А раз так, то со временем настанет синтез результатов генетического и феногенетического (как определил его Н. П. Дубинин) подходов. Н. П. Дубинин в то время не мог знать, что феногенетические закономерности, изучаемые Т. Д. Лысенко, имеют иной источник и связаны с эпигенетической наследственностью. Т. Д. Лысенко тоже этого не мог знать, но чувствовал, что изучаемое им явление представляет собой что-то такое, что не совсем вписывается в генетические сценарии, разрабатывавшиеся в то время. Да и у самого Н. П. Дубинина, видимо, были на этот счет сомнения. Недаром он упорно допытывался у Т. Д. Лысенко, не является ли тот скрытым ламаркистом: «Трофим Денисович всячески отказывается от жупела ламаркизма, я этому рад, и все генетики этому рады» (Дубинин, 1937, с. 341). Но сомнения в этом есть: «Объяснение ваших экспериментов по “перевоспитанию растений” имеет поэтому безусловно механоламаркистский характер, хотя вы сами этого не сознаете» (с. 341). И далее: «А у нас с вами, Т. Д. Лысенко, нет большего врага, чем ламаркизм. Ламаркизм есть антиматериалистическая концепция. Ламаркизм есть теория вредная для народного хозяйства (акад. Т. Д. Лысенко: правильно). Я рад, что Трофим Денисович говорит “правильно”». Выставлять себя ламаркистом в те годы было опасным делом, особенно периферийным ученым, за которых некому было заступиться или, как тогда говорили, похлопотать. Возможно, по этой причине Т. Д. Лысенко назвал советский ламаркизм, который он развивал, мичуринским учением.
Обратите внимание, что Н. П. Дубинин обращается к своим коллегам, придерживающихся иных воззрений, как прокурор, требующий от них отчитаться в своих возможных прегрешениях. То же мы видим в его выступлении по спорным вопросам генетики в 1939 г. Вот лишь один пример, касающийся неопределенной изменчивости (см. Дубинин, 1975, с. 210). «Таким образом, я считаю, что Дарвин был абсолютно прав в части учения о неопределенной изменчивости. Я хочу, чтобы в результате нашего обсуждения акад. Лысенко и другие товарищи ясно нам сказали и объяснили, как они относятся и как понимают эту фундаментальную часть дарвиновского учения, как они понимают указания Энгельса о роли случайности в закономерных процессах эволюции, совершающихся под определяющим влиянием среды, т. е. отбора». Но ведь не один Дубинин выступал в таком прокурорском тоне.
Вернемся к поставленной выше дилемме: что такое наследственность – “вещество” или “свойство”? С учетом сказанного, мы полностью соглашаемся с выводом И. Т. Фролова (с. 73): «Наследственность – это и “свойство”, и “вещество”, это одно из специфических для живой материи явлений, в которых обнаруживается диалектическое единство структуры и функций, их сложные и разветвленные отношения внутри дифференцированного целого на разных уровнях его организации и в разных связях с внешней средой». Мы не соглашаемся с его следующим заключением, что эти правильные слова Т. Д. Лысенко и его сторонники игнорируют: «Всё это – научные факты, и порой становится странным, что генетикам приходилось многократно разъяснять их Т. Д. Лысенко и его сторонникам в ходе дискуссий по теоретическим и методологическим проблемам учения о наследственности». У Т. Д. Лысенко “вещество” – это клетка, наследственность – “свойство” клетки; у генетиков “вещество” – это гены, наследственность – “свойство” генов. Точка зрения Т. Д. Лысенко является более выдержанной и строгой, поскольку генетики, отталкиваясь от частных примеров менделевского расщепления, априорно решили, что наследственность является исключительно «свойством» генов.
7. 2. 0 соответствии между генами и признаками
Генетики: Только гены определяют признаки
Т. Д. Лысенко: Яйцеклетка и спермий в целом, а через них материнский и отцовский организмы определяют признаки развивающегося из зиготы нового организма
Что генетики имеют в виду, когда говорят, что только гены определяют признаки? Они утверждают, что каждый признак организма определяется каким-то геном или группой генов. На чем основан этот вывод. На необоснованном расширении вывода, полученного Г. Менделем в отношении отдельных признаков, на все признаки организма. Иными словами, этот вывод не имеет экспериментального обоснования. Тем не менее читаем высказывание Н. И. Вавилова в 15-м томе первой БСЭ (1929, с. 193): «В свете открытия Менделя мы понимаем организм как составленный из отдельных признаков, как бы из мозаики признаков (точнее – генов), самостоятельно и независимо ведущих себя при скрещивании». В этом и проявляется метафизика теории гена, основанной на представлении об организме как мозаике признаков. Лишь в 1950-е гг. с открытием истинной функции генов (связанной с синтезом белков) стало ясно, что формообразование и становление признаков осуществляется на более высоких уровнях организации живого, не на уровне генов.
«Гены – пишет американский микробиолог Гарольд (Harold 2005, р. 559) – определяют только первичные последовательности макромолекул… Но архитектура клетки возникает, главным образом эпигенетически в результате взаимодействий многочисленных генных продуктов». В вышедшей ранее книге Гарольд (Harold, 2001, р. 69) доказывает, что биологическая организация не определяется полностью молекулярной структурой; «гены специфицируют клеточные строительные блоки; они поставляют сырой материал…». Архитектура клетки не определяется этими строительными блоками и, следовательно, генами; она задается уже существующей архитектурой, выступающей в качестве шаблона для образования новых клеток: «структура порождает структуру».
Образующиеся структуры в организме и являются носителями признаков, не белковые молекулы. Хотя в качестве строительных блоков они также являются носителями некоторых признаков (например, если различаются по окраске) и тем самым могут определять соответствующие признаки всего организма. Но из этих фактов не следует, что функция генов заключается в том, чтобы определять наследственность. Поэтому в рамках модели Гарольда определение Т. Д. Лысенко более отражает суть явления наследственности: «Согласиться же с тем, что наследственность, т. е. свойство организмов походить на своих предков и родителей – это не какое-то особое вещество, а свойство любой живой клетки [т. е. структуры – А. Ш. ], любой живой частички [т. е. опять же живой структуры – А. Ш. ], из которой развивается организм, морганисты не могут, так как после этого от их учения ничего не останется» (Лысенко, 1939).
О том, что генетики переоценили роль генов в явлении наследственности, наиболее зримо показывает история евгеники. Когда говорят о человеке, то его качества мы оцениваем с нравственных позиций в одном случае как плохие, в другом как хорошие. Если, как считали первые генетики, этим качествам отвечают определяющие их гены, то можно говорить о «плохих» и «хороших» генах. Первые не мешало бы на пользу человечества выкорчевать, вторые, напротив, размножить. Вот «научная» основа евгеники.
Науки в ней пока мало, поскольку не были найдены эти самые плохие и хорошие гены. А то, о чем говорят в медицинской генетики – это не плохие гены, но поломки обычных генов. Со временем, мы, возможно, научимся устранять генетические поломки. Но к евгенике с ее верой в существование плохих и хороших генов это не имеет никакого отношения.
И вот на таком шатком научном фундаменте была выстроена «теория», согласно которой на востоке, т. е. в СССР проживают генетически неполноценные народы, неспособные к прогрессивному развитию без помощи со стороны представителей европейских народов и представляющие в силу этого угрозу для европейской цивилизации. Видите ли, у русских и татар выявились крайне отрицательные качества – отсутствие внутренней свободы, т. е. рабство духа, и, как результат этого, агрессивность по отношению к чужим. Что делать с русскими, если по канонам генетики эти и другие неприятные их качества генетически предопределены и не лечатся. Искоренять. А мы удивляемся, почему немцы, вроде бы культурная нация, осуществляли политику геноцида в отношении народов нашей страны. Но ведь геноцид двух братских народов, организованный западом на Украине, осуществляется по тем же евгеническим лекалам. Украм (бывшим хохлам) внушили, что на самом деле русских нет, есть лишь мордва, называющая себя русскими. И укры лишь защищаются против угро-финской экспансии, осуществляемой с востока так называемыми русскими. Получается по их расовым доктринам, что мордва и близкие к ним народы – это уж совсем плохо.
Могут сказать, что генетики быстро осознали, что между признаками и генами в общем случае нет простого соответствия. Что признак является функцией многих, если не большинства генов. Об этом говорил Томас Морган, а в след за ним и наши генетики. Приведем мнение Н. П. Дубинина (1937, с. 337), которое он высказал на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г.: «Развитие организма является целостным процессом и признаки в этом развитии не разрастаются из отдельных кусочков, лежащих в хромосоме, а возникают как качественные новообразования. Опосредованно пройдя через цепь качественных преобразований развития, любой признак возникает на основе всех генов данного организма, и обратно, каждый ген влияет на развитие всех признаков. Эта целостность в действии генотипа, однако, не уничтожает возможности условно отдельные гены называть именем свойств организма, ибо в целостном развитии данный ген необходим для развития данного признака».
Но коль скоро «любой признак возникает на основе всех генов», то и другой и третий ген необходимы для развития данного признака. Как нам в этом случае выбрать, какой из этих генов соотнести с названием данного признака. Н. П. Дубинин продолжает здесь полемику с Е. С. Смирновым (1929), который высказал мнение, что в целостном интегрированном системными связями организме невозможна линейная связь от генов к признакам. А отсюда вывод, что признаки и с ними наследственность определяются интегрированными системными связями структурами организма.
Поэтому то, что сказал Н. П. Дубинин, означает принять в том или ином виде подход Т. Д. Лысенко. Ведь когда Томас Морган, Н. П. Дубинин и другие генетики говорили, что признак является функцией многих, в пределе всех генов, то они высказывали другими словами ту же идею о системном механизме определения признаков, с которой выступал Т. Д. Лысенко. Но это предполагает, что главная функция генов не связана с определением признаков, т. е. с наследственностью.
Принять эту идею, не вписывающуюся в простые правила менделизма, не на словах, но как реальный принцип, это значит – объявить евгенику псевдонаукой, не имеющей экспериментального обоснования и противоречащей научным основам генетики. Вы слышали что-нибудь об этом? Евгеника была нужна политикам. Как можно объявить евгенику лженаукой, если на ней строилась фашистская пропаганда необходимости военного похода против СССР на том основании, что там живут склонные к раболепию и посему внутренне агрессивные народы, представляющие в силу своей природной агрессивности (Ричард Никсон) угрозу западной цивилизации. [44]
Попытки реабилитации евгеники связаны, на наш взгляд, с непониманием внутренней связи ее идей с фашистской практикой. Вот что писал по этому вопросу уже упоминавшийся нами известный отечественный философ И. Т. Фролов (1988, с. 183) «Это направление [позитивной] евгеники было использовано (иногда вопреки гуманным намерениям его сторонников) разного рода реакционерами и расистами, в особенности теоретиками и практиками фашистской “расовой гигиены” и геноцида. Подобная дискредитация идей евгеники, разумеется, не могла не привести к ее банкротству, хотя во многих случаях она опиралась на ряд научно обоснованных предположений и авторитет крупных ученых, известных своими гуманистическими взглядами». Позитивная евгеника, «ставящая перед собой более широкие цели: выведение “нового человека” путем селекции генотипов, полученных в потомстве людей, обладающих выдающимися умственными или физическими качествами» это и есть фашизм в чистом виде. Поскольку основан на ложных посылках (какие такие научно обоснованные предположения нашел в евгенике И. Т. Фролов?), но в виду кажущейся научности создает у человека иллюзию, что его действия по улучшению одних и искоренению (необязательно путем физического истребления) других оправданы, как освященные благородными целями. Евгенические проекты несут с собой лишь смуту внутри общества и этнические войны между странами. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. СССР против агрессии континентального запада по факту была этнической войной за выживание наших народов, которые по евгеническим соображениям были признаны западом низшими.
Наши руководители, начавшие борьбу с евгеникой, если и не понимали, то чувствовали ее научную несостоятельность. Я думаю, что это укрепило их в уверенности научной несостоятельности генетики, которая на частных научно обоснованных результатах делала уж слишком широкие обобщения.
7. 3. Насколько велико могущество генотипа?
Генетики: Не каждый генотип в равной мере определяет способности к музыке, математике, спорту и к любой другой деятельности.
Т. Д. Лысенко: Эти особенности также зависят от негенетических наследственных факторов.
Этот пункт является спецификацией предыдущего пункта. Отправной точкой для него послужило следующее высказывание И. С. Ноя (1975, с. 139): «… необходимо преодолеть глубокое заблуждение, будто бы каждый человек в равной степени способен к любого рода деятельности. Если для каждого человека характерен свой генотип и если не каждый генотип в равной мере определяет способности к музыке, математике, спорту и к любой другой деятельности, то очевидно, что в условиях, когда социальные факторы социалистического общества сами по себе преступность не порождают, детерминанты преступного поведения нельзя связывать лишь с внешним воздействием» (выделено нами).
Для каждого человека безусловно характерен свой генотип, т. е. система генов. В то же время утверждать, что генотип определяет способности к музыке, математике и т. д. будет в общем случае не совсем верным. Такого рода утверждения основаны на принятом генетике ложном представлении, что будто бы наследственность является исключительно функцией генотипа.
В своей книге И. С. Ной (1975, с. 137–138) обмолвился об алкогольной наследственности: «Не предопределяя преступные проявления, социальные факторы в развитом социалистическом обществе имеющие негативный характер, действуют через сложные опосредствования не только на нравственный облик человека, но и на его биологию, а точнее на соответствующее проявление этой биологии (алкогольная наследственность, нервно-психическое перенапряжение, неумение или нежелание выявить и использовать в интересах общества способности людей, вызывающее у них чувство неудовлетворенности, неполноценности и находящее у малокультурных людей свою разрядку в преступлении как форме самоутверждения, неумение или нежелание осуществлять кропотливую индивидуальную воспитательную работу и т. п. )» (выделено нами).
О какой такой алкогольной наследственности он пишет? Это у ламаркистов есть представление об алкогольной, наркотической и т. д. наследственности. И понимали они ее не так буквально, в духе А. Вейсмана, что у наркомана непременно родятся дети, предрасположенные к потреблению наркотиков, хотя и такое возможно. Они ставили вопрос шире, пытаясь предугадать, в каких соматических нарушениях и заболеваниях пристрастие к наркотикам родителей проявится у их детей и внуков, никогда наркотиков не употреблявших. У генетиков, связывавших изменение наследственности исключительно с поломками генов, все это представлялось «отголоском укоренившихся обывательских предрассудков и пережитком закоснелых догм» (Астауров, 1971, с. 216). В действительности, однако, в организме возможны не только мутации генов, но и более частые нарушения под действием вредных воздействий среды механизмов, управляющих генами, что может также обернуться разного рода болезнями в ряде поколений.
Между тем мы придем к консенсусу, если примем, что алкогольная наследственность не связана напрямую с генами. Она, возможно, составляет тот тип наследственной передачи, который в истории генетики получил название длительных модификаций. Сразу подчеркнем, что длительные модификации охватывают разнородный круг явлений, включая, возможно, и чисто механическую передачу (в результате простой диффузии) активных молекул от родителей детям через гаметы. Но некоторые примеры длительных модификаций, как выяснилось в настоящее время, связаны с эпигенетическими механизмами (см. Шаталкин, 2015).
В рамках уже упоминавшейся дискуссии о соотношении в человеке биологического и социального генетик В. П. Эфроимсон (1971, с. 207), касаясь преступности, утверждал следующее: «Подобно тому, как с улучшением материальных и санитарных условий среди заболеваний выходят на передний план непосредственные дефекты, оттесняя дефекты, порожденные средой (инфекции, последствия недоедания, авитаминозы и т. д. ), так и с ослаблением острой нужды и других чисто социальных предпосылок преступности начинают яснее выступать предпосылки биологические». У меня лично нет возражений против этого, как нет возражений против близкого по смыслу утверждения И. С. Ноя (1975, с. 93): «… то, что «человек подчиняется не только законам общественного развития, но и законам природы, биологическим законам» и что «он является единством двух детерминаций – биологической и общественной», подчеркивается и в современной советской философской литературе» (выделено нами). Несогласие начинается тогда, когда из контекста начинаешь понимать, что оба автора сводят биологическое в его противопоставлении социальному к наследственности, связанной исключительно с генами.
Объявив мичуринскую биологию, представлявшую в нашей стране ламаркизм, лженаукой, генетики после победы над ней исключили из научного анализа определенный круг явлений, которыми занимались И. В. Мичурин, Т. Д. Лысенко, их сторонники и попутчики из числа ламаркистов. Об опасности такого исхода предупреждал на декабрьской дискуссии 1936 г. Б. М. Завадовский (1937, с. 168). Его слова актуальны и сегодня: «Действительно ли генетики убеждены в том, что все явления наследственности должны быть и могут быть разъяснены с точки зрения генной комбинаторики, или же здесь мы имеем опять-таки пример недопустимой догматизации и экстраполирования на всю живую природу тех частных закономерностей, которые оправдывают себя в какой-то мере при анализе наиболее изученных до сих пор случаев наследования у дрозофилы или менделирования признаков окраски шерсти или глаз у грызунов?». Откуда проистекает эта озабоченность состоянием дел еще той генетики? От осознания того, что генетики замкнулись в своей модели объяснения наследственности и не хотят ни о чем другом думать, что выходит за рамки этой модели.
«… мы видим – сетует Б. М. Завадовский (с. 164) – ряд фактов, показывающих, что формальная генетика не сумела ни предусмотреть, ни объяснить, ни включить в себя блестящие работы покойного акад. И. В. Мичурина или акад. М. Ф. Иванова. Не сумела она до сих пор найти место и для работ акад. Т. Д. Лысенко».
Генетики, следовательно, сами отсекли от себя проблемы наследственности, не согласующиеся с их модельными представлениями. Но тем самым они сделали неполноценной дискуссию по проблеме соотношения биологического и социального в человеке, коль скоро обсуждение этой проблемы не выходит за рамки хотя и важных, но не объясняющих все случаи закономерностей. В частности, вопрос о значении наследственных факторов, связанных с длительными модификациями в этой дискуссии даже не подымался. Что и определило бесплодность дискуссии, если не считать за ее результаты пострадавших по партийной линии. Каждый остался при своем мнении.
7. 4. О делении организма на генотип и фенотип
Генетики: Организмы представляют собой единство фенотипа и определяющего его генотипа, передающегося по наследству из поколения в поколение (см., напр., Медников, 2005, с. 355)
Т. Д. Лысенко: Поскольку наследственность является функцией всего организма, включая его одноклеточное состояние, то выделение в нем генотипической и фенотипической составляющих пока невозможно. Минимальным субстратом передающимся по наследству из поколения в поколение является клетка.
С критикой этого деления в свое время выступали ламаркисты. Приведем на этот счет свидетельство Н. П. Дубинина (1929, с. 83): «По мнению Е. Смирнова (и многих других), второй “слабый пункт факториальной теории заключается в резком разделении организма на два отдела: идиоплазму и сому”. Да, совершенно справедливо генетика разделяет организм на два отличных отдела – наследственую плазму и сому. Больше того, это деление является одним из ее основных положений, это одно из крупнейших ее обобщений».
Прежде всего, здесь не вполне ясно, что чему противопоставляется. Идет ли речь о генах зиготы, противопоставляемых остальным ее компонентам. Но под фенотипом (сомой) понимают не только соматическую составляющую зиготы, но в случае многоклеточных организмов весь организм. Если мы расширим понятие генотипа, включая в него гены соматических клеток, то чему противопоставляются эти гены – клетке, в которой они находятся или всему организму. Второе трудно признать. Следовательно, гены в качестве функциональных единиц мы можем противопоставить в строгом смысле лишь клетке, в которой они находятся. Но организм – это не совокупность клеток. Это их пространственное, структурно организованное единство. Могут ли гены клеток определять эту составляющую фенотипа. Могут, в частности, через производство сигнальных белков, среди которых ключевое значение имеют так называемые морфогены – молекулы, способные поступать в межклеточную среду и передавать управляющий сигнал другой клетке только при достижении ими определенной концентрации.
Итак, мы имеем модель генотипа, рассредоточенного по разным клеткам организма. Этот рассредоточенный генотип через молекулярные посредники способен влиять, возможно, на все клетки. Сразу возникает вопрос, каким образом при работе такого генотипа согласовываются управляющие команды, идущие из разных клеток. Да и работа генома отдельной клетки, учитывая, что одновременно могут находиться в процессе экспрессии сотни генов, требует координации активности последних. Известно, что снижение в результате, например, сбоя активности одних управляющих молекул может быть компенсировано повышением активности других молекул. Часто сигнал, воспринимаемый клеточным рецептором может передаваться в ядро клетки разными биохимическими путями, нередко с неодинаковой временной задержкой. Работа этих дублирующих молекулярных цепочек передачи управляющего сигнала также должна жестко координироваться, если не полностью, то частично на уровне клетки и организма в целом. На примере раковых заболеваний мы примерно представляем, что происходит, когда клетка и стоящий за ней организм теряют контроль над геномом.
Но метафора рассредоточенного по всему организму генотипа не передает всей сложности явления наследственности. Есть еще так называемая материнская наследственность, определяющая через морфогены матери, т. е. через активность ее генотипа фенотипические особенности дочернего организма. Например, у насекомых в становлении переднезадней оси и дорсовентральной плоскости еще на стадии яйца участвуют функциональные молекулы, экспрессируемые материнским организмом.
Но и фенотип не представляет собой единства, коль скоро он мыслится без генома, т. е. как конструкция с «дырками». Более того фенотипы в качестве целостных образований представлены архетипами и морфотипами. В самой общей форме концепция архетипа была намечена еще Аристотелем, который в структуре вещей различал «внутреннюю форму» (эйдос) и «материю» (см. подробнее: Шаталкин, 2012). Внутренняя форма, рассматриваемая в современных понятиях, есть конструктивное отношение, связывающее элементы (материю) в целостный объект и делающее последний качественно отличным от других объектов. С этой натурфилософской позиции гены определяют материю организма (которая соответствует белкам) и отчасти связывающие отношения через регуляторные гены, а также процессы самоорганизации. Но в общем случае связывающие отношения определяются через независимые механизмы. Пример такого независимого определения структуры прионов был описан в понятии конформационной наследственности (Инге-Вечтомов, 2003; Инге-Вечтомов и др., 2004).
Это означает, что деление на фенотип и генотип является скорее классификационным и, следовательно, понимать в буквальном смысле, что генотип определяет фенотип представляется некорректным.
Теоретически Т. Д. Лысенко не разграничивал генотип и фенотип. Но это не означает, что он не отличал наследуемое от ненаследуемого. В своем докладе во время дискуссии 1939 г. Н. И. Вавилов, касаясь позиции Т. Д. Лысенко по вопросу деления организма на генотип и фенотип, сказал (1939, с. 132): «Как будто это положение является азбучной истиной, но вот акад. Лысенко (а вчера мы слышали то же самое от акад. Келлера) говорит нам, что различия между генотипом и фенотипом нет, различать наследственную и ненаследственную изменчивость не приходится, модификации не отличаются от генетических изменений».
К сожалению, доклад акад. Б. А. Келлера не был опубликован. Но в редакционном обзоре выступлений, написанном В. Колбановским (1939, с. 92), о Б. А. Келлере сказано: «Большие наблюдения и эксперименты, произведенные Келлером, убедили его в том, что “так называемые наследственные и ненаследственные изменения идут в одном направлении”». «Формальная генетика, по мнению Келлера, выхолостила дарвинизм, искусственно противопоставляя наследственную и ненаследственную изменчивость, тогда как на деле они взаимосвязаны и взаимообусловлены». Академик Б. А. Келлер, можно предположить, переоткрыл идею органического отбора Джеймса Болдуина о замещении модификационного фенотипа таким же, но наследуемым.
Доклад Т. Д. Лысенко был напечатан. О генотипе он говорил в двух местах. «… согласно менделевско-моргановской генетике… любые семена самоопыляющихся растений в пределах одного и того же сорта во всех условиях выращивания одинаковы по своей породности (генотипу). Менделисты-морганисты утверждают, что порода растений не зависит от агротехники. Согласно этой лженауке, хорошая агротехника не может улучшать, а плохая не может ухудшать породу растений. Вот чем объясняется, что элитные семена не высевались селекционными станциями для сравнения с обычными семенами того же сорта. Сама постановка вопроса о необходимости сравнения хотя бы для того, чтобы найти пути к улучшению семян, считалась и считается менделистами ненаучной, безграмотной» (1939, с. 147–148; выделено жирным шрифтом нами).
В другом месте (с. 155) им было сказано следующее: Возьмем хотя бы такой пример. На этом совещании мы неоднократно слышали от менделистов, что путем агротехники нельзя улучшить породу (генотип) сорта. В то же время я был свидетелем того, как группа товарищей, разделяющих взгляды менделизма, окружила одного из членов редколлегии журнала “Под знаменем марксизма” и убеждала его, что никто из менделистов не отказывается от необходимости применения хорошей агротехники, внесения удобрений и т. д. на семенных участках. Они уже забыли, что Н. И. Вавилов с этой же трибуны заявил, что “мировая” генетическая наука не признает возможности путем агротехники изменять, улучшать породность семян, так же как не признает возможности улучшать породы, например, рогатого скота путем хорошего ухода, кормления… Мы категорически возражаем против ложного утверждения о том, что от условий жизни не зависит качество породы (генотип)» (выделено жирным шрифтом нами).
Генотип в понимании Т. Д. Лысенко тождественен породности. А породность, т. е. наследственность у него связана со всем организмом. Следовательно, генотип в его словаре является более широким понятием и не сводится только к генам. Такое нестрогое использование термина привело к смысловой путанице. Т. Д. Лысенко взял термин классической генетики, придав ему иное смысловое значение. Вместо термина «генотип» ему следовало бы поставить слово «наследственность». Это необходимо было сделать еще и потому, что в своем докладе он не упоминает понятие «фенотипа».
Что касается утверждения Т. Д. Лысенко, что условия жизни влияют на породу, т. е. наследственность, то это не он придумал. Эта идея в афористической форме была высказана акад. М. Ф. Ивановым: «порода входит через рот». До него в нее верили английские скотозаводчики. А они знали, о чем говорят.
Конечно, если наследственность сводить к генам, то упреки Н. И. Вавилова можно было бы считать справедливыми. Но Т. Д. Лысенко говорил, что любая частица живого обладает наследственностью. Следовательно, к нему эти упреки никак нельзя отнести. М. М. Местергази (1930, с. 96), критикуя ламаркизм сказал, что тот «целиком базируется на недоказанном (и теоретически невероятном) явлении передачи фенотипических новообразований по наследству. Все это относится также и к механо-ламаркистам, являющимся современными представителями учения, отождествляющего эволюцию с фенотипической изменчивостью». Если наследственностью обладает весь организм, если в научно-познавательной модели, используемой ламаркистами, включая Т. Д. Лысенко, нет деления на генотип и фенотип, то, следовательно, это М. М. Местергази, приписывая ламаркистам свое собственное видение проблемы, вообразил, что те впадают в серьезную ошибку, смешивая эволюцию с фенотипической изменчивостью.
Тему соотношения генотипа, фенотипа и нормы реакции мы подробно освещали ранее (Шаталкин, 2015). Здесь коснемся вопроса, который мы не затрагивали – о роли в развитии человека внутреннего (генотипа) и внешнего (среды). Сам Т. Д. Лысенко по этой проблеме не высказывался: не его тема. На это обратил внимание Лорен Грэхэм (1991). «Лысенко – констатировал он (с. 236) – никогда не касался в своих публикациях проблемы человека». Л. Грэхэм объясняет это тем (с. 237), что «сторонники Лысенко располагали монополией на власть в биологии как раз в то время, когда аналогичной монополией в советской педагогике располагали сторонники “воспитательных” теорий; кроме того, и те и другие приписывали решающее значение в развитии организма (растения или человека) именно окружающей среде».
С точки зрения данного выше положения для Т. Д. Лысенко и его подхода эта проблема, как она была сформулирована в классической генетике, является надуманной, т. е. представляет собой псевдопроблему. Если наследственность является функцией всего организма, то вычленить в ней роль генов невозможно. Кроме того концептуальное объединение Л. Грэхэмом сторонников Лысенко и советских педагогов на самом деле является формальным. Мичуринцы говорили о решающем значении факторов среды в деле получения новых форм. Тогда как в педагогике речь идет о значении социальных факторов в деле воспитания личности. Зачем же Т. Д. Лысенко и его сторонникам включаться в научное обсуждение педагогических тем, которыми они не занимаются, и с которыми они даже концептуально никак не связаны в своих исследованиях. Поэтому давайте сначала посмотрим, в каком ключе эту проблему решали генетики. Воспользуемся обзорными книгами И. Т. Фролова (1979), Н. П. Дубинина (1975) и Грэхэма (1991), представляющими советскую и западную точки зрения, а также статьями В. П. Эфроимсона (1971) и Б. Л. Астаурова (1971).
Как пишет Грэхэм (с. 228), советский генетик В. П. Эфроимсон (1971) в статье, озаглавленной «Родословная альтруизма» «высказывает сожаление по поводу того, что в советских исследованиях преувеличивается роль социальных факторов в формировании человеческого поведения. [45] По его мнению, в становлении интеллекта человека гены играют не меньшую роль, чем среда. Более того, в полемическом задоре Эфроимсон пишет о том, что именно в ходе естественного отбора у людей выработались такие качества, как альтруизм, героизм, способность к самопожертвованию, стремление к добру, уважение к старшим, родительские чувства (особенно чувство материнской любви), любознательность и т. п. (Эфроимсон, 1971, с. 204)… Таково вкратце положительное, по мнению Эфроимсона, влияние генов на поведение человека. Что же в таком случае можно отнести к отрицательным моментам этого влияния? В этом вопросе суждения Эфроимсона носят еще более спорный характер. Он, в частности, задается вопросом о том, почему в Советском Союзе продолжает существовать такое явление, как преступность, несмотря на то, что социальные условия в стране значительно изменились. По его мнению, «с ослаблением острой нужды и других чисто социальных предпосылок преступности начинают яснее выступать предпосылки биологические» (там же, с. 207). Особое значение, считает он, наследственные факторы имеют при объяснении рецидивной преступности».
Прервем цитату и попробуем ответить на следующий вопрос. Кто же в СССР преувеличивал роль социальных факторов. Неужели Т. Д. Лысенко? Мы уже сказали, что Т. Д. Лысенко проблемами педагогики не занимался. И в его понятии наследственности, в котором не разделялись генотип и фенотип, на среду реагирует собственно организм, который, следовательно, и является субстратом наследственности. Замените в данном выше предложении выделенное слово «гены» на слово «наследственность». Мы получим высказывание, под которым подписался бы не только В. П. Эфроимсон, но и Т. Д. Лысенко. В то же время Т. Д. Лысенко отверг бы исходный вариант, акцентирующий внимание на роли генов как недоказанный в общем случае. Вы что-нибудь слышали, например, о генах альтруизма, героизма, гениальности или рецидивной преступности. Таких генов, на мой взгляд, нет. Что Т. Д. Лысенко придерживался того же мнения, ни у кого не может вызвать сомнения. Но и многие генетики как у нас, так и за рубежом разделяли ту же позицию. Приведем мнение Н. П. Дубинина (1989, с. 407): «Может быть, данные современной генетики опровергли идеи Маркса и Ленина в проблеме изучения человека? Ряд генетиков полагают, что это так и есть, они говорят о врожденности социальных свойств человека, степень проявления которых зависит от условий среды. Однако на самом деле в генетике нет доказательств существования генов, определяющих общественное положение, генов эволюции общественных отношений, генов интеллекта, совести, преступности и других духовных свойств человека».
Если нет генов, то что же в таком случае обеспечивает предрасположенность человека к определенному стилю поведения?
Очень важен и еще один момент, на который обратил внимание Б. Л. Астауров (1971, с. 216). Организм развивается и живет в неразрывной связи со средой, к которой он эволюционно хорошо приспособлен. «Поэтому как факторы становления организации наследственность и среда… представляют собой подлинно нерасторжимое единство противоположностей, так что вместо противительного союза “или” между ними должен стоять соединительный союз “и”. Не “наследственность или среда”, но “и наследственность и среда”, не “природа или воспитание”, но “и природа и воспитание”…». В то же время при формировании разных категорий признаков в одних случаях велика роль наследственной конституции (для большинства морфологических признаков), в других случаях может оказаться более значимой роль среды (многие социально определяемые признаки). В этих вопросах ламаркисты придерживались той же позиции, что и генетики. Вместе с тем генетики пытались представить дело таким образом, что будто бы ламаркисты придают большее значение факторам среды, умаляя при этом значение наследственности. На этот момент обратил внимание Б. Л. Астауров. Он, в частности пишет (с. 216): «… сторонники могущества внешних условий, всесилия факторов социальной среды получают упреки в недооценки биологии человека, в генетической неграмотности (и в самом деле не столь уж редкой), в ламаркизме и идеализме, поскольку формирующее значение среды зачастую сопровождается утверждением об адекватной передаче результатов ее влияния по наследству (вспомним пресловутый афоризм “порода входит через рот”[46]), и в конечном счете могут получить нелестный ярлык “догматизма”, тем более что такие взгляды подчас действительно являются отголоском укоренившихся обывательских предрассудков и пережитком закоснелых догм».
Ламаркизм здесь упомянут не к месту. Он связан с другим вопросом, касающимся действия неблагоприятных для организма условий внешней среды, отличающихся от тех, к которым приспособлен организм. Будут ли индуцированные неблагоприятной средой изменения организма сохраняться у его потомков при их возвращении в исходные благоприятные для развития условия? Вот ключевой вопрос ламаркизма.
Читатель может спросить, как же следует относиться к оценке той же преступности. Является ли она социально обусловленным злом или же речь идет о генетически обусловленном состоянии человека которого перевоспитать невозможно? Один возможный ответ дан Б. Л. Астауровым: проявления преступности имеют и генетическую и социальную составляющие. По генетической предрасположенности к преступной деятельности люди могут быть ранжированы от нуля до единицы. Средний по этому показателю человек может пойти на преступление при ухудшении социальных условий. В то же время существуют личности, которые ни при каких обстоятельствах не пойдут на преступление. На другом конце находятся те, для которых преступная деятельность является смыслом жизни. Если в колониях бактерий появляются мошенничающие клетки, пользующиеся как паразиты ресурсами колонии, ничего не давая взамен, – клетки, которые колония распознает и от которых она старается избавиться, то что уж говорить о человеческом обществе.
В связи со сказанным полезно еще раз обсудить пример, рассмотренный в книге Грэхэма (1991, с. 241). В июне 1983 г. Константин Черненко выступил на Пленуме ЦК КПСС с речью «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии». Он, в частности, сказал: «Вряд ли можно признать научными концепции, которые объясняют такие, например, качества человека, как честность, смелость, порядочность, наличием “положительных” генов и фактически отрицают, что эти качества формируются социальной средой». «Самым важным – комментирует цитату Грэхэм – здесь является не само по себе мнение, а то, кем оно было высказано. В нем не содержится прямого отрицания противоположного мнения, поскольку никто из тех, кто выступал с противоположных позиций, не говорил в действительности о «положительных» генах. Вместе с тем, поскольку Черненко выступал как главный партийный идеолог, положения его речи рассматривались партийными функционерами как руководство к действию».
Прервем цитирование. Как же тогда понимать то, что Грэхэм сказал ранее о позиции В. П. Эфроимсона. Ведь К. У. Черненко в своей критике скорее всего имел в виду упомянутую выше статью В. П. Эфроимсона «Родословная альтруизма». В. П. Эфроимсон связывал с генами «такие качества, как альтруизм, героизм, способность к самопожертвованию, стремление к добру, уважение к старшим, родительские чувства». Если Вы скажете, что такие качества определяются многими генами, то сразу встанет вопрос, какими генами и можно ли это доказать. Возникнет вопрос и чисто теоретического порядка. Если признак определяется многими генами, то это означает, что он формируется в результате взаимодействия многих белков. Взаимодействующие белки являются составляющими фенотипа, не генотипа. Чтобы снять противоречие нам надо или упразднить деление организма на генотип и фенотип, или вернуться к менделевской схеме независимых генов, определяющих упомянутые К. У. Черненко и В. П. Эфроимсоном качества.
Первое решение соответствует подходу Т. Д. Лысенко, в котором признается, что на данном этапе развития науки мы не знаем как определяются упомянутые качества. Не исключено, что та же гениальность зависит от более высокого уровня (содержания) каких-то активных молекул в организме человека. Если это будет доказано, то со временем можно будет делать лекарства для повышения умственной активности. Но пока мы можем лишь строить догадки.
Продолжим цитирование, «…в условиях Советского Союза, история интеллектуальной жизни которого знает множество примеров вмешательства партии в ход научных дискуссий, речь Черненко явилась иллюстрацией того, что было совсем нехарактерно для дискуссий по проблеме «природа – воспитание», ведущихся на Западе. Эта речь продемонстрировала, что советские партийные руководители так и не извлекли уроков из того периода жизни советского общества, который был связан с именем Лысенко. И вопрос здесь вовсе не в том, являются ли теории генетического детерминизма истинными или ложными, а в том, кто должен решать вопрос об их истинности – Коммунистическая партия или же исследователи, являющиеся специалистами в той или иной области науки? В своей речи Черненко продемонстрировал убеждение, что именно партия может судить об истинности той или иной научной теории; этот вывод вытекает из его слов о том, что есть «проблемы, решенные давно и однозначно» на основе теории «материалистической диалектики», а потому не требующие обращения к ним с целью повторного решения» (Грэхэм, с. 242).
Где же здесь Грэхэм усмотрел науку? Я во всей этой полемике по проблеме «природа – воспитание» вижу лишь натурфилософские и политические аспекты проблемы. Что касается политических вопросов, то ими занимаются политики, не ученые. А политика есть практическая деятельность и она исходит из общественной целесообразности. Ученые тоже могут включиться в обсуждение вопросов политики. Но их роль в этом не может быть решающей, в лучшем случае консультативной. Они не отвечают перед обществом за неверные политические решения и рекомендации. Руководители государства отвечают перед страной и высшими силами за ошибочные политические шаги. Поэтому я не вижу в выступлении К. У. Черненко попытки ограничить свободу научного поиска.
Сама проблема о соотношении наследственного и социального является вполне научной, но, конечно, не в том виде, в каком ее пытались представить генетики, утверждавшие, что в отличие от них мичуринцы будто бы отрицали роль наследственной составляющей в развитии. На самом деле они лишь отрицали бездоказательное соотнесение генов с признаками в качестве определения последних. Не случайно Грэхэм отмечает спорность суждений В. П. Эфроимсона. Иное понимание проблемы Н. П. Дубининым, принципиально отличное от точки зрения В. П. Эфроимсона, нами уже приводилось. Повторим его ключевое положение: «… в генетике нет доказательств существования генов, определяющих общественное положение… генов интеллекта, совести, преступности и других духовных свойств человека». Если ученые не могут договориться между собой по проблеме «природа – воспитание», то, значит, политикам остается волевым актом принять решение, которым они будут руководствоваться в своей практической деятельности по руководству страной. И точка зрения Грэхэма несет в себе большой пропагандистский запал. Тем не менее, спросит читатель, какова же роль наследственной составляющей в социальных отношениях?
Начиная с Э. Кречмера (1924), была показана связь между строением тела, характером и некоторыми другими проявлениями психики. Это говорит о том, что социальная активность человека, связанная с так называемой духовной сферой, так или иначе определяется генами, которые одновременно определяют и огромную массу других признаков – морфологических, конституционных и связанных с ними физиологических характеристик. Поэтому социально значимые признаки безусловно имеют наследственную основу, понимаемую, однако, согласно Т. Д. Лысенко, как наследственность всего организма, т. е. целостных систем, из которых минимальной является клетка. Эта наследственная основа уже имелась у предков человека, она не возникла как генетическое приспособление к социальной жизни, хотя нельзя исключить и этого для некоторых ее проявлений, например феномена альтруизма, детально обсуждаемого В. П. Эфроимсоном. Но желательно иметь научные, наряду с натурфилософскими, доказательства.
И. Т. Фролов (1979, с. 74), ссылаясь на работу А. Ф. Шишкина (1979), высказался следующим образом: «если говорить о нравственности как о форме общественного сознания, т. е. как об определенных принципах, идеалах, нормах, ценностях и т. д., то здесь ничего нельзя понять с помощью генетики. Здесь действует только социальный детерминизм, так же как и в сфере политических, юридических и других общественных явлений». Это соответствует сказанному нами выше – генетическая основа в человеке не специфицирована в отношении его социальной жизни, т. е. может «порождать» самые разные линии поведения, в том числе и прямо противоположные. Но это означает, что проблема «природы и воспитания» становится ложной, когда природу человека начинают понимать, как его генотип, т. е. как совокупность генов.
7. 5. О понимании модификационной изменчивости генетиками и мичуринцами (ламаркистами)
«Всякая модификация как некоторое уклонение от среднего выражения какого-нибудь признака, возникает в результате реализации генотипа в конкретных условиях среды…»(Жебрак, 1936, с. 261). Это понимание идет от Иогансена. Академик Г. К. Мейстер (1934) в своем необычайно интересном (и доброжелательном) критическом анализе основных понятий генетики пишет (с. 141): «Иогансен, Баур и др. под генотипом понимают совокупность наследственных свойств организма, а под фенотипом форму организма при данных условиях его становления как наиболее типичную, наиболее часто повторяющуюся. Все уклоняющиеся формы в сторону + и – обычно, по предложению Негели, называют модификациями, проф, же Филипченко – индивидуальной изменчивостью».
Г. К. Мейстер осознает узость такого толкования модификации. Поэтому предлагает более широкое понимание (там же): «… все те фенотипы определенного генотипа, которые конкретизируются в природе, отражая собой процесс изменчивости, воспринимаются нами как модификации, безотносительно в каких бы условиях жизни на данной территории или в различных географических пунктах эти фенотипы ни образовывались бы… Во избежание (избегания) путаницы в понятиях в том случае, когда мы имеем дело с определенным вариационным рядом и когда уклоняющиеся варианты не выходят из границ определенного типа, лучше всего говорить не о модификации, а о флюктуации. Таким образом, под флюктуацией мы понимаем мелкие уклонения формы организма в его количественных признаках от определенной нормы, типичной для данных условиях существования этого организма. Само собой разумеется, что понятие модификации покрывает собой понятие флюктуации».
Следовательно, согласно Г. К. Мейстеру, А. Р. Жебрак понимал под модификациями флюктуации. Ламаркизм интересуют лишь те модификации, которые как-то связаны с наследственностью. Флюктуации признака вокруг среднего значения характерны не только для организмов, но любых объектов, в том числе неживых, связанных между собой единым процессом происхождения. Это означает, что флюктуации не имеют специфической связи с наследственностью организмов, хотя, возможно, их размах, если и не полностью, то частично зависит от нее. Отсюда проистекает оппозиция к концепции чистых линий Иоганнсена, в которой исходно упор делался на оценку флюктуаций. Понятно, что раз они не связаны специфически с наследственностью, то и ставить вопрос об их наследственной передаче представляется излишним.
За вычетом флюктуаций модификации все еще составляют гетерогенную категорию изменений. Прежде всего, следует исключить из рассмотрения нормальные изменения организма, имеющие место по ходу его развития. Они определяются внутренними причинами, связанными с наследственностью. Далее следует выделить в отдельную категорию изменения организма, обусловленные изменениями среды. Характеризуя роль средовых факторов мы можем различать нормальные воздействия, к которым организм приспособлен и отвечает на него определенной морфо-биологической реакцией, часто упреждающей по времени изменение условий существования, если оно повторяется из года в год. Например, сбрасывание листьев листопадными деревьями или физическая и физиологическая подготовка к осенней миграции перелетных птиц.
Г. К. Мейстер (1934, с. 17), касаясь этих двух категорий модификаций, говорит, ссылаясь на Людвига Плате, о «закономерно существующих различиях, как-то; половых, колониальных, о социальном диморфизме-полиморфизме, а также пойкилогонии или полиморфизме разных стадий развития и т. п. ».
Но есть воздействия, связанные, например, с резким изменением климата, исчезновением привычной кормовой базы и т. д., к которым организм еще не успел приспособиться. Формально обусловленные этими воздействиями изменения организма могут быть противопоставлены рассмотренным выше закономерно существующим различиям: «Под изменчивостью мы понимаем незакономерно наступающие, не постоянно и не везде существующие уклонения от типичного вида» (Мейстер, с. 17).
Обратим внимание на то, что во многих случаях речь здесь идет о воздействиях среды, имеющих повреждающий эффект. Можно говорить о повреждающих воздействиях среды, на которые организм будет так или иначе реагировать, чтобы снять или как-то ослабить негативные для него последствия. Короче при повреждающих воздействиях возникает необходимость приспособиться к ним. Генные мутации являются наиболее изученным примером негативных последствий повреждающих воздействий. У организма имеются определенные молекулярные механизмы устранения такого рода генетических повреждений.
В связи с повреждающими воздействиями возникает двоякого рода проблема. Во-первых, встает вопрос, будут ли последствия для организма повреждающих воздействий сказываться на его потомках. Во-вторых, является ли организм, хотя бы частично, активной стороной в устранении негативных для него последствий действия среды. Мы знаем, например, что при заболевании, скажем, простудой организм человека активно борется с ней. Причем одни успешно справляются с болезнью, тогда как у других это получается хуже и болезнь может приобрести хронические формы. Это может свидетельствовать о существовании разных механизмов выздоровления, выбор и последовательность использования которых лежит на самом организме. Это позиция Ламарка.
Антитезой этому представлению является убеждение, что устранение негативных для организма действий среды возможно только за счет случайных, совершающихся независимо от организма мутаций.
Коснемся сначала первого вопроса. Сейчас доказано, что повреждающие воздействия с иными, немутационными последствиями могут сказываться на наследственность через ее эпигенетические механизмы (см. Шаталкин, 2015). Такого рода наследственные изменения описывались ранее в понятии длительных модификаций. Длительные модификации охватывают более широкий круг явлений наследственного характера. Поэтому наследственность, возможно, не исчерпывается ее генетической и эпигенетической формами.
Что касается второго вопроса – о возможности влияния организма на наследственность, то пока он находится в стадии натурфилософских обсуждений. Прежде всего не полностью ясно, как сопряжены и сопряжены ли вообще генетическая и негенетическая наследственность. Наиболее вероятные пути воздействия организма на наследственность связывают с его возможностями запускать собственные мутационные программы через механизмы межклеточного обмена нуклеиновыми кислотами.
Чтобы эти и другие возможные программы «генетического поиска» (Чайковский, 1976, 2006) начали действовать, необходим внешний толчок, каким и являются повреждающие воздействия среды. Оценивая жизненные показатели, например, плодовитость у насекомых или продолжительность жизни, мы можем определить круг условий внешней среды, к которым организм приспособлен и которые в силу этого являются для него нормальными. Эти нормальные условия жизни организма составляют его наследственные требования (Лысенко, [1943] 1948). Аномальные условия ведут к тем или иным нарушениям в работе организма и создают новые потребности организма, направленные на то, чтобы преодолеть последствия действия этих аномальных условий (Ламарк). Т. Д. Лысенко в случае возможного преодоления неблагоприятных последствий действия среды говорит об ассимиляции этих аномальных условий.
Таким образом, в мичуринской биологии под модификациями имеют в виду лишь такие изменения, обусловленные действием среды, которые сохраняются в ряде поколений и после того, как соответствующие факторы среды перестали действовать. Эти изменения отвечают понятию длительных модификаций.
Если организм реагирует на ухудшение жизненных условий изменениями, которые наследуются по типу длительных модификаций, то по логике он должен реагировать на улучшение (относительно нормы) жизненных условий изменениями, наследуемыми как длительные модификации. Таким образом, модификации распадаются на две категории изменений организма, положительных и отрицательных.
Имея в виду первый тип изменений, Т. Д. Лысенко (1939, с. 155–156) защищал необходимость хорошей агротехники в семеноводстве: «Мы категорически возражаем против ложного утверждения о том, что от условий жизни не зависит качество породы (генотип). Мы считаем, что на семенных участках в совхозах, колхозах, на участках селекционных станций необходимо всегда применять возможно лучшую агротехнику, так как это не только повышает урожай семян с единицы площади, но, что самое главное, улучшает породность этих семян. По логике же менделизма, безразлично: будет ли на семенных участках хорошая агротехника или плохая». Если улучшает, то через механизм длительных модификаций.
Киевский академик Н. Н. Гришко (1939, с. 206) на той же дискуссии в редакции журнала «Под знаменем марксизма» отчасти признал правоту Т. Д. Лысенко: «Прежде всего я должен подчеркнуть, что явление последействия условий питания, т. е. тот факт, что при отборе на крупность семян получается лучшее потомство, давно было установлено. Но никем не был поставлен вопрос о том, что это имеет огромное народнохозяйственное значение. Это сделал Трофим Денисович. В самом деле, если из года в год будем путем тщательной агротехники на семенных участках выращивать здоровый с хорошо выполненным эндоспермом посевной материал, то мы имеем возможность всегда, каждый год получать повышение урожая. Но я не могу согласиться с тем, что в данном случае увеличение урожайности будет наследственным. В этом я сомневаюсь».
Здесь Н. Н. Гришко противоречит сам себе, не желая, видимо, входить в конфликт с теми положениями официальной науки, которые были установлены Иогансеном (Иогансен, напомним, имел в виду флюктуации, совсем другой феномен). Незадолго до этого Н. Н. Гришко и Л. Н. Делоне выпустили книгу «Курс генетики» (1938), в которой, следуя Иогансену, писали (с. 175): «Бесчисленные примеры сельскохозяйственной практики и тысячи опытов говорят нам о том, что изменение признаков под влиянием внешней среды (так называемые модификации) есть не что иное, как реализация различных возможностей организма. Поэтому, модификация повторится в потомстве лишь при точном повторении тех условий внешней среды, в каких наблюдались эти изменения в предыдущем поколении». Это положение было раскритиковано Т. Д. Лысенко ([1938] 1948, с. 212), который иронически писал: «Удивительная эта “природа” (генотип), которая сидит в изменяющемся организме, а сама не изменяется!». Мы сразу все поставим на свои места, если признаем, что «природа» старых авторов не равнозначна генотипу, понимаемому как совокупность генов.
Последействие, о котором говорил в 1939 г. Н. Н. Гришко, не может быть чисто физиологической реакцией, раз оно затрагивает следующее поколение. Поэтому оно должно быть основано на каких-то реальных механизмах, имеющих наследственное значение. От изучения этих механизмов, описываемых поначалу в чисто феноменологическом ключе, генетика отказалась сама, обеднив тем самым свое содержание рассмотрением хоть и очень важных, но тем не менее частных наследственных зависимостей. Признав, как это фактически сделал акад. Н. Н. Гришко, длительные модификации наследственным феноменом, советская генетика устранила бы саму основу противостояния с мичуринской биологией. Напомним (гл. 5), что это противостояние имеет своим началом давнишние споры генетиков и механоламаркистов о том, считать ли длительные модификации проявлением наследственности или нет.
7. 6. Способна ли среда изменить наследственность?
Генетики: Условия внешней среды, кроме тех, которые вызывают мутации, не могут изменить наследственность.
Т. Д. Лысенко, следуя Ламарку: Изменение условий внешней среды может изменить наследственность.
Конечно, ограничивая наследственный субстрат лишь генами (см. раздел 7. 1), можно настаивать на том, что среда не влияет на гены. Но даже при чисто теоретическом рассмотрении этот тезис генетиков не кажется убедительным. Признаки, о которых говорят в биологии, имеют определенное материальное воплощение в структурах организма, которые не тождественны самим генам. Значит, между геном и признаком развертывается цепь морфо-физиологических процессов, конечные фазы которых дадут искомый признак. Поэтому среда может влиять и соответствующим образом изменять не сами гены, но эту развертывающуюся цепь процессов, связанных с формированием признака. И задача в этом случае состоит в том, чтобы выяснить, будут ли изменения этих формообразовательных процессов в материнском организме наследоваться у потомков.
Было показано практически с самого начала развития генетики, что обусловленные средой изменения могут наследоваться по типу так называемых длительных модификаций. Длительные модификации свидетельствуют, что наследственный субстрат не ограничивается исключительно лишь генами. Сейчас для некоторых примеров наследственный субстрат длительных модификаций связывают с эпигенетическими механизмами наследственности. Понятно, что ставить точку в изучении наследственного субстрата еще рано.
Даже если допустить, что эволюция исходно была связана лишь с мутациями, утверждение, что через миллионы лет развития случайные генетические изменения по-прежнему являются единственным механизмом эволюции, не имеет под собой научных оснований. Миллионы лет были даны организмам, чтобы они смогли выработать «хитрые» схемы приспособления.
Все, что я пишу, было очевидно и тогда. Объективных оснований теоретического плана для противостояния не было. Поэтому остается лишь признать замешанность в этом деле политиков. Ламаркизм мешал обогащаться, во-первых, на пагубных пристрастиях человека (алкоголь, наркотики, физиологически активные вещества медицинского назначения и т. д. ) и, во-вторых, на эксплуатации трудящихся на вредных производствах, деятельность которых сказывается не только на самих работающих, но и на их детях и внуках.
Генетики признавали реальной лишь эволюцию на основе случайных мутаций в генах. Их противники, включая ламаркистов, считали, что одного этого механизма недостаточно, чтобы понять эволюцию.
Уже начиная с работ Иогансена и И. И. Шмальгаузена было понятно, что мутация гена – это по существу его поломка. Следовательно, в понимании классических генетиков развитие органического мира есть эволюция на основе «поломок» или «уродств», как выражался Т. Д. Лысенко. Правда, Т. Д. Лысенко это говорил применительно к практике получения новых форм в сельском хозяйстве с помощью мутагенных средств.
С открытием роли ДНК в синтезе белков стало понятно, что мутационный процесс ведет к изменению линейной последовательности белкой молекулы, что может частично или полностью сделать ее нефункциональной. Сразу заметим, что на эту нефункциональность молекул, вызванных их поломками, организм как-то должен отреагировать. Предположение о существовании таких ответных реакций составляет суть ламарковского подхода. Во второй половине XX выяснилось, что существуют регуляторные гены (регуляторные области гена), которые включают другие гены (кодирующие области гена), вырабатывающие функциональный продукт. Мутации в этом случае не связаны с поломками функциональных продуктов, кодируемых генами. Следовательно эти мутации мы можем рассматривать в рамках других схем объяснения, не через метафору поломок генов, которые безусловно существуют, раз есть генетические болезни. Можно, например, говорить о переключении генов в некотором органе с одного режима работы на другой. И такой способ объяснения будет подчеркивать принципиальное отличие данного типа мутаций, от тех которые вызывают в организме поломки. Например, отсутствие вершинного черного пятна между жилками R2+3 и R4+5 на крыле некоторых видов дрозофил связано не с тем, что поломался соответствующий ген и определяемый им белок стал дефектным, но в силу того, что временно отключилась в данном органе (в крыле) последовательность реакций, ведущая к данному признаку. Скорее всего «мутации» в регуляторных областях лежат в основе вавиловского закона параллелизмов генетической изменчивости. Во всяком случае у двукрылых насекомых широкие параллелизмы в рисунке крыла представителей некоторых семейств связаны с этим. Причем частота этих регуляторных «мутаций» зависит от каких-то внутренних причин. Иначе не понять, почему диверсификация в одних родственных группах осуществляется по признакам рисунка крыла, в других – по окраске тела, в третьих по особенностям строения ног и. д.
Эти изменения не случайны в том плане, что они осуществляются в рамках определенных коррелятивно связанных в своем развитии морфологических структур (паттернов) и, следовательно, зависят в своем выражении от последних. Мы продолжим эту интересную тему с более общих позиций в разделе 7. 8.
Несколько слов о том, что будто бы Т. Д. Лысенко отрицал менделевские законы. Об этом говорили и говорят до сих пор многие. Вот мнение Н. П. Дубинина, высказанное им еще до войны в своем докладе на дискуссии 1939 г. Текст своего доклада он также привел в своей книге (Дубинин, 1975). Обращаясь к Т. Д. Лысенко, Н. П. Дубинин (1939, с. 184) сказал: «Вы вчера говорили, что, исходя из философии диалектического материализма, можно отрицать закономерность расщепления по типу 3:1, вы писали это и раньше*. Но ведь получается же расщепление потомков гибридов по одной паре признаков в отношении 3:1, это объективно существующий факт». (*Лысенко Т. Д. Ментор – могучее средство селекции. Яровизация, 1938, вып. 3. ).
Статья, на которую сослался Н. П. Дубинин, была написана в качестве предисловия к полному собранию сочинений И. В. Мичурина. Предисловие было посвящено разъяснению значения мичуринского метода ментора как эффективного средства получения вегетативных гибридов. По вполне понятной причине сам Т. Д. Лысенко ничего не говорит о менделевских закономерностях, касающихся половых гибридов. [47] Но в то же время он привел известное высказывание И. В. Мичурина о гороховых законах, датируемое 1916 г. «Всю свою жизнь – писал Т. Д. Лысенко в указанной статье (цит. по: Лысенко, 1948, с. 206) – И. В. Мичурин боролся с буржуазной генетико-селекционной наукой. На многочисленных опытах он убедился в том, что “о применимости же пресловутых гороховых законов Менделя к делу выводки новых гибридных сортов многолетних плодовых растений могут мечтать лишь полнейшие профаны этого дела. Выводы Менделя не только не подтверждаются при скрещивании многолетних плодовых растений, но даже и в однолетних…”». Сказано, конечно, резко, но в качестве воспитательной меры может привести в чувство начинающих селекционеров. В первом предложении И. В. Мичурин говорит, что для дела селекции законы Менделя, о которых в то время много говорили, не нужны, если исследователь намерен доводить гибридные сеянцы до нужного состояния, создавая им определенные условия для индивидуального развития.
Теперь посмотрим, что конкретно сказал в своем докладе о менделевских закономерностях Т. Д. Лысенко (1939): «Существование отношения 3:1, получаемого, как это хорошо известно менделистам, из формулы 1:2:1 как усредненной статистической величины, мы не отрицали и не отрицаем. Мы только говорим, что эта закономерность статистическая, а не биологическая». Какой смысл вкладывал Т. Д. Лысенко в последнюю фразу? Читаем: «Необходимо хотя бы вдвух словах объяснить, что значит (3:1)п. По учению менделистов, это означает, что потомство любого гибрида (вдумайтесь только в это: любого гибрида!) всех растений и всех животных обязательно должно разнообразиться по одному и тому же шаблону. Ни от вида и рода животного или растения, ни от условий жизни, ни от чего, по менделизму, не зависит разнообразие потомства гибридов. Везде и всегда оно будет (3:1)"» (выделено нами). Поэтому, продолжает Т. Д. – Лысенко, учет этой статистической зависимости, раз она мало от чего зависит, нам в нашей работе ничего не даст. А что же в таком случае необходимо учитывать? Учитывать надо “расщепление” по семьям, которое, по мнению Т. Д. Лысенко, только случайно в состоянии дать отношение 3:1 и, следовательно, наряду со случайными причинами может зависеть от условий выращивания семей. Против этого также вряд ли что можно возразить кроме того, что это всего лишь гипотеза, которая требует также доказательства.
Как видим, Т. Д. Лысенко не отрицал самого отношения. Поэтому здесь нет предмета для спора. Я не исключаю, что во время самого доклада он делал какие-то ссылки на положения диалектического материализма, будто бы подтверждающие его правоту, о чем обмолвился Н. П. Дубинин. Но что не скажешь в пылу полемики. Обстановка тогда была очень нервозная, о чем есть свидетельство самого Николая Петровича, который пишет, что его охватило отчаяние, но не после речи Т. Д. Лысенко, которого он как бы из дружеских побуждений поучал,[48] что надо тому делать, но после выступления И. М. Полякова. «И. М. Поляков прекрасно знал теорию генетики и отлично понимал ее значение для практики. К моему удивлению, выступая на дискуссии, в трудный момент перед лицом ученых и всей страны он уходил в дебри слов и оговорок. Слушая И. М. Полякова, я физически ощущал громадную опасность, которая подстерегает генетику. Когда кончилась эта речь, наступил перерыв, я подошел к большому проему окна в зале. Нервы мои не выдержали и отчаяние потрясло меня до глубины моего существа». И. М. Поляков считался как бы своим и вот на тебе, сдал позиции. Что же он такое сказал? И действительно ли И. М. Поляков поступил предательски по отношению к своим?
И. М. Поляков выступил против, как он выразился (с. 177), «дурной философии генетики», «генетической концепции жизни», рассматривающей ген в качестве «единицы жизни». «В этой генетической концепции жизни метафизически снят целый ряд таких вопросов, как например вопрос о развитии, о корреляциях в развивающемся организме, сравнительно важный вопрос о цикличности онтогенетического развития и т. д… При этой же концепции неминуемо некоторое пренебрежение и к вопросу о внешних факторах развития. Я ищу именно здесь корни того генетического фатализма, который питает к тому же самые реакционные тенденции. Я очень далек от той мысли, чтобы отдать генетику на откуп всяким реакционерам и сказать, что из сути генетики вытекают расизм, евгеника и прочее мракобесие».
7. 7. Слабая практическая отдача генетических исследований в сельскохозяйственное производство
От того, что некоторые признаки удалось связать с генами, никак не следует, что наступила эпоха управления генами. Генетика на то время была чисто академической (университетской) наукой. Об этом хорошо сказал М. М. Завадовский на IV сессии ВАСХНИЛ в декабре 1936 г. Вот что об этом пишет Н. П. Дубинин (1975, с. 170): «М. М. Завадовский выступил со статьей “Против загибов в нападках на генетику”. Но, по существу, он оказал генетике медвежью услугу. Из неудач в области конкретной связи теории с практикой Завадовский сформулировал совершенно неверный тезис о том, что генетика того времени якобы была не готова к решению производственных задач. Он писал: “Генетики в СССР допустили ту ошибку, что они сочли теоретическую науку о явлениях наследования… (науку, вскрывающую закономерности наследования, науку университетского типа) достаточно созревшей, чтобы положить ее в основу не только фито- и зоотехнических исследований… но и основу руководства к действию в построении сельского хозяйства”»[49]. Н. П. Дубинин не дал примеров получения генетиками новых сортов. Селекционеры как на западе, так и у нас как работали методом скрещивания и отбором нужных признаковых вариантов, так и продолжали работать. Только в США генетики это понимали и не лезли со своими советами и обещаниями скорых побед в сельское хозяйство.
Говорят о методе инцухта (близкородственного разведения с последующей гибридизацией полученных инцухт-линий), который якобы запретил Т. Д. Лысенко. Вот что говорил на четвертой сессии ВАСХНИЛ (декабрь 1936 г. ) Н. И. Вавилов (1937, с. 33): «Мировой и советский опыт применения инцухта за последние десятилетия дает возможность подытожить наши знания в этой области… Опыт применения метода инцухта по ржи, клеверу и тимофеевке, применявшийся Всесоюзным институтом растениеводства, не дал практических результатов, хотя и вскрыл… многие новые ценные свойства включительно до иммунитета к болезням». Получение линий с ценными свойствами является также большим делом. Но эта работа не должна заслонять главную задачу, поставленную правительством в то сложное время – решение в сжатые сроки зерновой проблемы.
Через три года на следующей дискуссии о методе инцухта говорил Т. Д. Лысенко (1939, с. ): «Некоторые идеологи менделизма заявляют: “Вот у нас из-за нападок Лысенко, Презента и других селекционные станции прекратили работать методом инцухта, а в Америке, судя по некоторым статьям, получено много гибридных сортов из инцухт-линий кукурузы”… Но менделистам, кивающим на Америку, я хочу сказать следующее. После 1935 г., т. е. после того как я впервые в жизни вообще произнес слово “инцухт”, прошло только 4 года, а до этого в течение 10-15-20 лет почти все селекционные станции, работающие с перекрестноопыляющимися растениями, по вашим же научным указаниям в огромных масштабах работали методом инцухта. Где же результаты? Где хотя бы один сорт, выведенный этим методом?».
Вот мнение, высказанное на том же совещании в редакции журнала «Под знаменем марксизма» специалистом из Института зернового хозяйства юго-востока СССР В. К. Морозовым (1939, с. 141): «Метод инцухта применялся Институтом в работе с целым рядом перекрестноопыляющихся растений. В течение почти 20 лет он применялся в работе с подсолнечником, больше 10 лет – в работе с рожью, затем несколько лет применялся в работе с донником и кукурузой… Методом инцухта не выведены сорта и по кукурузе и по доннику. Не выведены также сорта и по подсолнечнику».
Т. Д. Лысенко лишь год как стал главным агрономом страны и его уже обвиняют, что он ничего не делает по распространению метода инцухта. Как это часто бывало в нашей действительности, ездили приобретать опыт в Америку, в том числе овладеть тонкостями метода инцухта скорее всего не те, кому этот метод предстояло внедрять практически. Распорядились директивно ввести в обязательном порядке метод инцухта и сочли, что дело сделано. А здесь как уже год дело ведет новый начальник и на местах решили перейти к испытанным традиционным методам. Чтобы новый метод начал приносить результаты, для этого надо воспитать энтузиастов нового метода.
Ведь В. К. Морозов прибыл с докладом, наверняка, по поручению дирекции своего института, чтобы пожаловаться прилюдно на то, что в их южноволжских условиях метод инцухта не оправдал себя.
В. К. Морозов без обиняков сказал, почему им не нравится навязываемый формальными генетиками метод инцухта (с. 145): «Представители формальной генетики говорят, что у них хорошо 3:1 получается с дрозофилой. Работа их с этим объектом очень выгодна для них потому, что дело, можно сказать, безответственное, никто с них пород и сортов не требует, а если поиздохнут мухи, за это с них не взыскивается. А вот когда в практической работе 20 лет проработают, а сортов все нет и нет, – тогда людям становится не по себе…». Действительно, тогда могут не только взыскать из зарплаты, но этим могут заинтересоваться уполномоченные на то органы.
И ничего в этом нет удивительного, если Т. Д. Лысенко поддержал отрицательный настрой на местах в отношении инцухта. Войдите в его положение. Ведь он наверняка имел сведения, кто за этот метод пострадал, как саботажники. А как еще расценивать плачевные итоги – 10–20 лет работают, а результатов нет. В такой ситуации, зачем Т. Д. Лысенко брать на себя ответственность за провалы в работе его предшественников. Т. Д. Лысенко сделал мудро, полностью переключившись на работы по пшенице и другим зерновым на основе своих методов. Когда вышло в конце войны постановление о развитии работ по кукурузе, он начал заниматься ею, в том числе и методом инцухта. Почувствуйте разницу. Одно дело, когда ты продолжаешь работы, которые до тебя велись 10 и более лет и ничего не дали. И совсем другое дело, когда для тебя эти работы только начинаются. Отметим, что при его руководстве были получены лучшие в мире (для наших условий) сорта кукурузы советскими селекционерами А. С. Мусийко и П. Ф. Ключко.
И. В. Мичурин и продолжатели его дела во главе с Т. Д. Лысенко также внесли много нового в традиционное селекционное дело. Реакция генетиков была крайне непродуктивной. Они попытались это новое опорочить на том основании, что оно не вписывается в каноны генетики. Даже если бы Т. Д. Лысенко ошибался, он и его сторонники занимались реальным делом выведения новых сортов. И я считаю, что у правительства в то время не было иного выбора как поставить во главе сельскохозяйственной науки селекционера. Главная задача, решаемая в то время руководством СССР, состояла в том, чтобы обеспечить зерновую безопасность страны. И она была выполнена нашими селекционерами под руководством Т. Д. Лысенко.
Какие претензии были у руководства СССР к генетикам. Их озвучил непременный секретарь АН СССР академик Н. П. Горбунов на общем собрании Академии 20 мая 1937 г. Он, в частности, говорил о проводившейся политике руководства Института генетики АН СССР. Вот что он, в частности, сказал (Соловьев, 1994):
«… Институт генетики Академии наук занял руководящую роль в борьбе против прогрессивных научных положений акад. Лысенко. Институт генетики в этом случае оказался центром, где формировались и вырабатывались специальные доклады, направленные против Лысенко. В дискуссии [на декабрьской 1936 г. сессии ВАСХНИЛ] против Лысенко от Института генетики выступали акад. Вавилов, акад. Сапегин, проф. Костов, проф. Мёллер, которые фактически объединили вокруг себя и возглавили всю группу ученых, настроенных против теоретических положений Дарвина, Тимирязева и, конечно, Лысенко».
Против Т. Д. Лысенко на той сессии ВАСХНИЛ выступили тогда все сколько-нибудь известные генетики. Что касается специальных докладов, выходящих из института генетики, то я полагаю, что они не публиковались, а распространялись как самиздатские в академической среде. Это нечто вроде нынешнего троллинга, но без возможностей Интернета. Призыв академика Н. П. Горбунова был примиряющим (он был в очень хороших отношениях с Н. И. Вавиловым): Если, работая по академическим темам, не хотите заниматься выведением новых сортов, то не мешайте тем, кто этим занимается.
Не мешайте, даже если вам кажется, что те, кто непосредственно занимаются селекцией, ведут эту работу с научной точки зрения не так. Вот мнение на этот счет академика Г. К. Мейстера (Спорные вопросы… с. 414): «Очень часто те или другие выводы практики, не соответствующие современным научным знаниям, встречаются в штыки и только потому, что они не соответствуют науке. Наука может говорить лишь о том, что проверено ею на опыте, и у некоторых исследователей получается так: то, что неизвестно науке, того не существует в природе… Наиболее рьяные начинают, как говорится, лезть на стену… а впоследствии, когда та или другая новая мысль найдет себе какое-то местечко в общей научной концепции, на сцену выходят различного рода оговорки: нельзя не признать, нельзя не учесть, кое-что надо подработать и т. д. Может быть, было бы гораздо выгоднее в этих случаях начать с этих оговорок, а не исходить из тупого отрицания, отрицания по привычке мышления».
Видите, с каким мудрым предложением выступил Г. К. Мейстер. Не сеять рознь из-за теоретических расхождений, оставить все на суд времени и прогресса, как говорил американский генетик Л. К. Денн. Реагировать на новое, как на возможное, которое пока не может быть объяснено в рамках принятой научной модели явления.
Н. П. Дубинин в докладе на дискуссии 1939 г. высказал следующую мысль (Дубинин, 1939, с. 198–199): «Очевидно, что генетическая теория теснейшим образом связана с практикой нашей селекции. Это и позволяет нам утверждать, что, например, все сорта, имеющиеся у нас по зерновым культурам, выведены на базе генетической теории. Только лишь в силу очевидной связи генетической теории и селекционной практики наша дискуссия и принимает столь существенное значение для всей практики советской селекции». В этом его поддержал А. Р. Жебрак (см. раздел 1. 6). О том же говорил В. П. Эфроимсон.
Вполне можно согласиться с мнением Н. П. Дубинина. Практика по скрещиванию, отбору и проверке полученных форм не противоречит положениям генетики. Но ведь эта практика одновременно не входит в конфликт и с положениями мичуринской генетики. Просто мичуринцы добавили к этой практике принципиально новое положение о важной роли воспитания в деле получения из гибридных растений новых сортов. Но ведь это их дело. Поэтому они, а не Дубинин, который селекцией не занимается, должны решать продолжать ли им работать по-старинке, как работали до них, или внести в эти работы новое начало.
Затронутая в данной главе тема, касающаяся принципиальных положений, по которым шло размежевание между классической генетикой и мичуринской биологией, требует отдельного рассмотрения. Мы уже говорили о коллективном письме, которое написали в 1939 г. ленинградские биологи А. А. Жданову. По итогам разбирательства письма в ЦК была организована дискуссия по проблемам генетики. В числе прочего ленинградские ученые жаловались, что им не дают защищать положения генетики. Посмотрите еще раз разделы 7. 1–7. 6 настоящей главы. Защищать свои положения – это значит, отрицать положения противной стороны. Но на тот момент речь шла о лишь о теоретических, к тому же натурфилософских разногласиях, которые не могли быть разрешены научным, т. е. экспериментальным путем. Об этом также свидетельствует и тот факт, что руководителями дискуссии были философы.
Но раз речь шла лишь о натурфилософских разногласиях, то поддержка одной из сторон могла иметь лишь политические мотивы. В СССР побудительных причин, заставивших бы наших руководителей искоренить одно из направлений, не было. Более того, через руководителя дискуссии было высказано пожелание умерить критический настрой и найти какую-то общую основу для мирного сосуществования. Иная ситуация сложилась на западе. Их политики безоговорочно встали на сторону генетиков; ламаркизм был выполот из западной науки. Но оставался СССР, который своим примером терпимости к реальному ламаркизму подавал западу нехороший пример. Поэтому западная пропаганда все время направляла свое острие борьбы против мичуринской биологии, пока не добилась своего – признания этого направления в советской науке лженаучным (подробнее см. Шаталкин, 2015). Но в перспективе это тоже оказалось никуда не годным решением, поскольку было связано со скандалом, получившим мировую огласку. А раз скандал, то уже в силу этого тема ламаркизма будет постоянно привлекать к себе внимание ученых и историков науки.
Почему генетика и мичуринское учение оказались в центре борьбы мнений. Мы высказали предположение (Шаталкин, 2015) что, на генетике сошлись своекорыстные интересы западных политиков. На генетике, используя навязанные ей со стороны выводы, можно делать, как оказалось, большие деньги и проводить нужную западу политику, нацеленную в первую очередь против Советского государства.
Но это, конечно, не отвечает на вопрос, почему в СССР развернулась борьба между ламаркистами и генетиками и почему она приобрела столь резкие формы.
7. 8. Наследственность: третья, номогенетическая составляющая
До этого мы преимущественно говорили о двух сторонах изучения наследственности, генетической и «надгенетической» (ламаркисты, Т. Д. Лысенко), связанной с изучением клетки, как более широкой основы для проявления сходства между родителями и детьми. Последнюю позже соотнесли с эпигенетическими механизмами, так что теперь можно говорить о генетической и эпигенетической составляющих наследственности.
Если гены, как говорил американский микробиолог Гарольд (Harold, 2001, р. 69), «специфицируют клеточные строительные блоки; поставляют сырой материал…», то реально становление признаков, наблюдаемых у взрослых форм, должно осуществляться через систему или последовательность взаимодействий этих «строительных блоков» в процессе развития организма. Можно поэтому предположить, что сходство родителей и детей, т. е. их наследственное подобие в какой-то мере определяется сходством формообразовательных процессов.
Дело в том, что в неживой природе развивающиеся системы также показывают примеры удивительного сходства в паттернах организации (см. примеры в: Ball, 1999). Ветвящиеся паттерны можно увидеть в морозных узорах на окнах, в нейронных и минеральных дендритах (древовидных кристаллических образованиях в застывших расплавах, минералах), в шестилучевых снежинках, в кронах деревьев и растущих колониях бактерий. Эти паттерны часто показывают фрактальные свойства – повторяющийся рисунок при разных масштабах рассмотрения (разномасштабное подобие структур). Широко распространены волновые и спиральные паттерны, в частности в осциллирующих химических реакциях (например, в реакциях Белоусова-Жаботинского), в ряби на воде и песке, в агрегирующих колониях слизевика, в кальциевых следах на поверхности оплодотворенного яйца лягушки. Общим для большинства самоорганизующихся паттернов является то, что они возникают из более или менее гомогенного состояния в результате небольших, часто локальных отклонений, которые последовательно индуцируют более сильные отклонения от гомогенности, приводя в конечном итоге к формированию паттерна.
Поэтому развитие следует выделять в качестве самостоятельной причины сходства родителей и детей, т. е. в качестве независимой третьей составляющей наследственности.
В свое время Алан Тьюринг (Turing, 1952) на абстрактных физико-химических моделях показал, что нарушение гомогенности в сложносоставной химической системе индуцирует через разветвленные цепи реакций, сопровождаемые диффузией реагентов, определенный пространственный паттерн конечных продуктов. В первых тьюринговских моделях речь шла о взаимодействии активаторов и их ингибиторов (термины впервые введены в работе: Gierer, Meinhardt, 1972), способных к дифференциальной диффузии и распаду (или выведению из системы). На клеточном уровне примером активаторов и ингибиторов являются белки, кодируемые генами. Среди этих белков различают транскрипционные факторы, регулирующие экспрессию генов и обычно находящиеся в ядре, и сигнальные молекулы (гормоны, морфогены, трансмембранные лиганды и рецепторы), осуществляющие межклеточный перенос регуляторных сигналов и активирующие через цепь посредников транскрипционные факторы в ядре. В зависимости от кинетических характеристик взаимодействующих молекул, их исходной плотности, параметров диффузии и ряда других показателей могут образоваться разнообразные паттерны распределения в клетках транскрипционных активаторов и ингибиторов, что в свою очередь будет определять паттерны активности клеток. В наиболее простом случае пространственные паттерны связаны с асимметричным распределением диффундирующего активатора (морфогена), что ведет к образованию морфогенетической границы, разделяющий развивающийся организм на два компартмента, отличающихся между собой тем, что процессы дифференциации клеток протекают в них различным образом. Одна из важнейших функций генов заключается в последовательном определении морфогенетических границ, внутри которых действуют свои наборы генов.
Самоорганизация является естественным процессом и показывает регулярный (закономерный) характер изменений при переходе от одного фазового состояния к другому как в неживой, так и живой природе. Что касается примеров из неживой природы, то ни у кого не возникает мысль искать причину такого сходства в действии неких неорганических генов. В таком случае, почему мы при объяснении организации живых систем пытаемся все свести к действию генов. Безусловно, огромное разнообразие и специфика белков, используемых организмом в качестве строительных блоков, принципиально расширяет возможности биологического формообразования в процессах развития, если сравнивать его с аналогами соответствующих процессов в неживой природе. Но как там, так и в живой природе речь в первую очередь идет о «физико-химическом» взаимодействии «исходных веществ», которое самодостаточно и имеет свою собственную организационную составляющую.
Функциональные молекулы, кодируемые генами, определяют в первую очередь специфику взаимодействия внутриклеточных структур, равно как и клеток в развитии многоклеточного организма. Признаки организма, понимаемые, конечно, не с чисто человеческой позиции, в рамках нашего их восприятия и различения, но с точки зрения формообразовательных процессов, являются результатом этого взаимодействия. Функциональные молекулы и стоящие за ними гены в общем случае не являются детерминантами «наших» признаков.
Новые функциональные молекулы, возникающие в процессе эволюции, открывают новые возможности для формообразовательных процессов. Так, появление у многоклеточных животных трансмембранного белка Notch, служащего рецептором для трансмембранных лигандов в Notch-сигнальном пути, открыло возможность для дифференциации клеточных полей через так называемое латеральное взаимодействие, или «латеральную ингибицию» (см. Шаталкин, 2003, с. 27). У дрозофилы латеральная спецификация имеет место в процессе дорсовентрального разделения клеток крыла, при образовании омматидиев, а также при разделении клеток на сенсорные и эпителиальные поля на среднеспинке. Отметим, что Notch-сигнальный путь отсутствует у примитивного животного Trichoplax adhaerens (Placozoa).
Поскольку самоорганизация ведет к устойчивым структурным и динамическим состояниям, отвечающих данному средовому контексту, то эти состояния несут в себе определенный элемент адаптивной («целесообразной») реакции. Мы, таким образом, возвращаемся к идеям Л. С. Берга (1922) о номогенетическом характере некоторых типов эволюционных преобразований, повторяющихся и ограниченных по своему спектру генетическим контекстом.
О самостоятельном значении самоорганизующейся (номогенетической) компоненты морфогенеза, действующей наряду с наследственной информацией (генами) говорят ныне многие, описывая эту компоненту под разными названиями: физическая динамика (Hogeweg, 2000), механическая природа морфогенеза (Nelson et al., 2005; Ingber, 2006, 2008), биологическая физика (Forgacs, Newman, 2005; Newman, Bhat, 2009; Newman, 2012), морфомеханика (Beloussov, Grabovsky, 2006).
В качестве показательного примера номогенетического характера морфологических преобразований можно указать на эволюцию рисунка крыла у высших мух (см. Шаталкин, 2009). Мухи многих семейств из группы Acalyptrata имеют на крыльях специфический рисунок из черных пятен и полос. Важная роль в пигментации мух принадлежит, наряду с другими, гену yellow. Этот ген кодирует фермент, регулирующий реакции синтеза меланина. Выявлены по меньшей мере две разные системы генетического определения пятен, в одном случае на жилках крыла, в другом в межжилковом пространстве. Обе они связаны с работой гена yellow.
Допустим, что некоторый вид отличается от близких видов наличием на крыле единственного вершинного черного пятна на четвертой жилке (R4+5), если считать от переднего края крыла. Если мы скажем, что это пятно определяется геном yellow, то это не будет ошибкой. Но если мы возьмем виды с двумя, тремя и т. д. пятнами на этой же жилке, то соответствующий им рисунок крыла будет определяться все тем же геном yellow. Более того, этот же ген определяет черные пятна на других жилках крыла, а также на других частях тела, например, на тергитах брюшка. Отсюда мы делаем первый вывод: то, что в систематике мы считаем признаком, для морфомеханики, если воспользоваться термином, предложенном Л. В. Белоусовым, может не быть признаком в части его генетического определения. Следуя канонам классической генетики, каждое черное крыловое пятно должно определяться собственным геном, если оно представлено в крыле разных видов независимо от присутствия или отсутствия других пятен. На самом деле крыло, несущее одно пятно, как и крыло с десятью пятнами, равно как и крылья с более сложным рисунком определяются одним и тем же геном yellow.
В чем тогда причина различия близких видов по числу крыловых пятен? Оказывается в генетическом контексте, в котором действует ген yellow. Под генетическим контекстом гена yellow в данном случае мы имеем в виду число действующих в крыле транскрипционных факторов, имеющих сродство с регуляторной областью гена yellow и, следовательно, способных включить данный ген в конкретной области крыла. Безусловно, это упрощенная и грубая картина, но нам в данном случае важно понять саму «стратегию» действия генов.
Поскольку генетический контекст гена yellow слагается из других генов, кодирующих транскрипционные факторы, способные включить yellow, то число таких генов не может быть большим и оно наперед задано. Соответственно, генетический контекст ограничивает спектр возможных изменений рисунка крыла, его заданность в отношении положения пятен на крыловой пластинке и тем самым повторяемость рисунка у разных видов. Это в чистом виде номогенез, с идеей которого почти сто лет тому назад выступил Л. С. Берг (1922).
Рассмотрим гены контекста, в котором действует yellow. Обозначим эти гены, чтобы не путать с другими, через К1. Ко многим из этих генов мы можем применить тот же ход рассуждений, что был использован при обсуждении гена yellow. Дело в том что эти гены, например, гены engrailed или wingless присутствуют во всех клетках тела. Но нас ведь интересует их экспрессия только в клетках крыла. Следовательно, экспрессия генов К1 в свою очередь должна определяться некоторым генетическим контекстом, который обозначим через К2. Гены К2 кодируют транскрипционные факторы, которые включают в зачатке крыла гены К1. Для генов К2 могут существовать свои контекстные гены КЗ. Идя таким путем дальше мы придем к контекстным генам зиготы КЗ(иготы). Да и развитие самой зиготы на первых порах зависит от работы материнских генов, которые могут рассматриваться для генов зиготы в качестве генетического контекста.
Итак, мы приходим к пониманию того, что не сам ген определяет свою собственную экспрессию, но организм, включая на каком-то этапе и организм матери. Речь в данном случае идет об организмоцентрическом способе (модели) описания реально существующих зависимостей. Эта модель, очевидно, не может поставить под сомнение геноцентрическое описание процессов, делающее акцент на анализе взаимодействия генов. Оба описания ограничены конкретными целями и заданы определенными концептуальными рамками. Понятно, что на каком-то этапе развития учения о наследственности новые данные позволят осуществить синтез этих частных описаний в какой-то более общей модели.
Возможно, что отмеченные нами три составляющие наследственности – генетическая, эпигенетическая и номогенетическая – не исчерпывают всей сложности самого явления наследственности. Но раз они с самого начала развития учения о наследственности оказались востребованными, то достойно сожаления, что по политическим соображениям был приостановлен естественный ход движения научной мысли.
ГЛАВА 8. Некоторые соображения о мотивах предвоенного противостояния между генетиками и мичуринцами
8. 1. Действительно ли Т. Д. Лысенко планировал осуществить разгром генетики?
С. Э. Шноль (2010, с. 164) пишет: «В декабре 1936 г. была созвана специальная сессия ВАСХНИЛ для борьбы с “буржуазной генетикой”. В защиту генетики выступили выдающиеся ученые: Н. И. Вавилов, А. С. Серебровский, Дж. Мёллер, Н. К. Кольцов, М. М. Завадовский, Г. Д. Карпеченко, Г. А. Левитский, Н. П. Дубинин. Против “буржуазной генетики” – Т. Д. Лысенко, Н. В. Цицин, И. И. Презент…». По приводимым фамилиям видно (а указаны далеко не все), что против агронома Т. Д. Лысенко выступил единым фронтом весь цвет отечественной генетики. Сразу возникает вопрос, кто же организовал борьбу с буржуазной генетикой и под какой идеологической вывеской. Какие политические обвинения вменялись тогда генетикам? Почему и от кого конкретно советские генетики решили защищать буржуазную генетику? С. Э. Шноль об этом ничего не говорит. Но и без этого ясно. Т. Д. Лысенко, который был в то время всего лишь директором (с 1934 г. ) периферийного института на Украине, не мог быть организатором сессии с такой повесткой дня.
В СССР единственным организатором всех крупных мероприятий союзного значения было правительство. Получается, что это правительство специально созвало сессию для борьбы с «буржуазной генетикой». Видимо, у правительства не было других насущных забот, как бороться с генетикой. В это невозможно поверить. Безусловно, на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г. имели место споры между генетиками и Т. Д. Лысенко, но они тогда шли и между самими генетиками. Например, с резкой критикой положений генетики выступили академики Б. М. Завадовский и Г. К. Мейстер.
Н. П. Дубинин был участником той декабрьской сессии ВАСХНИЛ. Он также считал, что сессия была организована для борьбы с генетикой и душой этой борьбы был Лысенко. Вот что он написал об этом (Дубинин, 1975, с. 166): «В этой сложной обстановке дискуссии надо было кому-то сказать в полный голос о том, что будет с генетикой, если наметившиеся опасные тенденции на ее разгром разовьются в дальнейшем в полную силу. Я постарался сделать это в своем выступлении». В третьем издании книги (1989) Н. П. Дубинин еще больше драматизировал ситуацию: «В этой сложной обстановке я отчетливо понимал серьезную опасность стратегических замыслов Т. Д. Лысенко для будущего нашей генетики. Для меня было очевидно, что логика борьбы должна будет привести к тому, что Т. Д. Лысенко и И. И. Презент пойдут на разгром генетики. Об этом я откровенно сказал в своем выступлении».
Это оценка, сделанная, правда задним числом, касалась той ситуации, которая сложилась в генетике к 1936 г. На чем основывал Н. П. Дубинин свою уверенность, что Т. Д. Лысенко и И. И. Презент замыслили уничтожить генетику. Для чего им это было нужно, какую цель они могли преследовать и каким образом они могли осуществить свои черные замыслы? Оценивая выступления лидеров генетики Н. И. Вавилова и А. С. Серебровского на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г., Н. П. Дубинин (1975, с. 165) отметил (и с ним можно согласиться), что «доклады Н. И. Вавилова, А. С. Серебровского и Т. Д. Мёллера на дискуссии не содержали новых идей ни в теории, ни в практике, не указывали путей прямого, быстрого внедрения науки в производство. Выступления этих лидеров опирались на прошлое генетики… Очевидно, что в этих условиях общественное звучание позиции Т. Д. Лысенко было предпочтительным. Надежды на успех от применения науки в сельском хозяйстве начали связываться с его предложениями».
Н. П. Дубинин отметил растущий авторитет Т. Д. Лысенко, который выдвигался в бесспорные лидеры вместо признанных. И его опасения, что Т. Д. Лысенко, став лидером, будет притеснять генетику, были навеяны его собственной нетерпимостью (исключительно по молодости, как показывает биография Николая Петровича) к генетическому инакомыслию. Н. П. Дубинин был одним из активнейших борцов с ламаркизмом. В этой своей борьбе он опирался на тех марксистских диалектиков, которые были осуждены в начале 1930-х гг. Н. П. Дубинин, возможно, проецировал свое отношение к инакомыслию на Т. Д. Лысенко, которого он подозревал в ереси ламаркизма, считая, что тот при поддержке властей будет жестко разбираться с генетиками, точно также как генетики разобрались в свое время с механоламаркистами и ламаркистами других толков.
За давностью лет Н. П. Дубинин, видимо, запамятовал, что сессия была организована не для разборок по части теоретических разногласий, но с целью обсудить пути повышения практической отдачи сельскохозяйственной науки, включая селекционно-генетические работы. Об этом недвусмысленно высказался во вступительном слове тогдашний президент ВАСХНИЛ А. И. Муралов (1937, с. 5–6), открывая четвертую сессию: «Я напоминаю вам, что решением октябрьской сессии нашей Академии (в 1935 г. ) перед генетиками была поставлена задача помочь в скорейшем выведении новых сортов зерна и высокопродуктивных пород скота. Генетика должна дать научную методику этого дела… В процессе дискуссии наибольшей критике подверглись работы головных институтов – Всесоюзного института растениеводства и Всесоюзного института животноводства…». А вот итоговое мнение участника этой сессии академика Г. К. Мейстера (Спорные вопросы… с. 406), которого поразили «дискуссионные приемы, к которым прибегали некоторые товарищи… такие “аргументы”, которых следовало бы избегать, так как они создают лишнюю рознь между спорящими, для дела совершенно не нужную». «Эта рознь – продолжил Г. К. Мейстер (с. 407) – не нужна потому, что мы собрались здесь не для дискуссии, как таковой, а для того, чтобы направить советскую науку к изысканию кратчайших путей к выполнению директив товарища Сталина о производстве в ближайшие годы ежегодно 7–8 млрд, пудов зерна; для того, чтобы добиться для социалистического сельского хозяйства лучших пород с.-х. животных и с.-х. растений». Сказано предельно ясно. Поэтому Н. П. Дубинину на этой сессии по большому счету нечего было делать и тем более выступать, раз он занимается академической темой, далекой от тех задач, которые поставило перед сельскохозяйственной наукой правительство.
Директор второго критикуемого А. И. Мураловым института Г. Е. Ермаков отметил на той же сессии (Спорные вопросы… с. 244): «Споры здесь идут в основном с идеологами генетики, которые не ведут практической селекционной работы, и непосредственно зоотехниками, занимающимися практической селекцией». Кто же эти «идеологи» в зоотехнии? Г. Е. Ермаковым названы три фамилии: академики А. С. Серебровский, М. М. Завадовский и Н. К. Кольцов.
Теперь мы можем приблизиться к пониманию мотивов организации четвертой сессии ВАСХНИЛ. Правительство было недовольно слабой практической отдачей двух ведущих сельскохозяйственных институтов и организовало в связи этим дискуссию о том, как преодолеть отставание. Было предложено сделать и обсудить четыре пленарных доклада Н. И. Вавилову о положении в агрономии, А. С. Серебровскому о ситуации в животноводстве, Т. Д. Лысенко о новых подходах в агрономии и Т. Д. Мёллеру о новом в генетике. Поскольку ни Н. И. Вавилову, ни А. С. Серебровскому особо нечего было сказать об успехах в растениеводстве и в животноводстве, то они избрали тактику критики Т. Д. Лысенко, который, как они доказывали, защищал ошибочные положения в генетике. В этом их поддержал мировой авторитет в генетике Т. Д. Мёллер. Получилась не очень хорошая ситуация. Трое против одного и не по тому делу, для обсуждения которого была созвана сессия ВАСХНИЛ и собрали специалистов со всех концов страны. На это не преминуло через Н. П. Горбунова указать Н. И. Вавилову правительство. Я думаю, что именно по этой же причине академик Б. М. Завадовский выступил с проникновенной речью в защиту Т. Д. Лысенко. Получает приемлемое объяснение паника Н. П. Дубинина, его опасение, что дело дойдет до «разгрома» генетики.
Очевидный провал в выполнении заданий Партии и Правительства в области создания новых сортов растений и новых пород животных может вынудить власти к мобилизации всех генетиков на сельскохозяйственный фронт. Ясно, что в результате произойдет закрытие всех непрофильных тем, в том числе работ по генетике дрозофилы, которой непосредственно занимался Н. П. Дубинин. Возможно, что в среде генетиков ходили разговоры об этом.
Но опасения были напрасны. И об этом сказал на следующей дискуссии 1939 г. Т. Д. Лысенко. Нельзя в таком творческом деле как выведение новых сортов заставить ученых работать над тем, к чему у них не лежит сердце. И поэтому он, Лысенко, не будет заставлять ученых менять темы, хотя, как президент ВАСХНИЛ, имеет на это право. Что касается сессии ВАСХНИЛ 1948 г., то там ключевые решения принимались не Лысенко, но политиками, которые собственно и создали кризисную ситуацию в биологии с тем, чтобы использовать ее как козырь в конфронтационном противостоянии между собой (см. Шаталкин, 2015).
Могут сказать, что на четвертой сессии ВАСХНИЛ 1936 г. генетики боролись не с Т. Д. Лысенко конкретно, но с ламаркизмом, вдруг поднявшим голову в сельскохозяйственных учреждениях после его разгрома в университетской и академической науке в начале 1930-х гг. «Снова – говорил в своем выступлении на этой сессии А. С. Серебровский (1937, с. 72) – подняло голову ламаркистское течение в нашей агрономии и животноводстве, течение архаическое, объективно реакционное и потому вредное». Почему же это течение реакционное и вредное? Проф. А. С. Серебровский (1937, с. 112) отвечает на этот вопрос так: «… если селекция животных будет построена в нашем Союзе на четкой генетической, а не ламаркистской, ошибочной, а потому реакционной, тормозящей дело основе, то советская селекция окажется в несколько раз более эффективной, чем где бы то ни было и когда бы то ни было за границей». Вот близкое мнение, сказанное ранее Н. П. Дубининым (1929, с. 88): «Вся обширная область биотехники (животноводство и растениеводство) принимают ламаркизм… Огромное количество предрассудков… имеет в своей основе ламаркистские воззрения. Надо прямо сказать, что ламаркизм в этом отношении объективно играет реакционную роль».
А вот что писал академик М. М. Завадовский (1936, с. 6): «… у Презента, а за ним и у Лысенко, прорываются и другие утверждения, которые носят явно неграмотный характер. Я имею в виду высказывания, которые дают основание опасаться необоснованных попыток возродить ламаркистские тенденции». И на следующей странице: «В моем представлении эти попытки возрождения ламаркизма на фоне биологии звучат также, как если бы были сделаны попытки восстановить представления о том, что не земля вращается вокруг солнца, а солнце вращается вокруг земли». Прочитав это, я вдруг осознал, что я точно также воспринимаю ситуацию, но только с обратным знаком. Можно и через гены описывать наследственность. Но это во многих случаях оказалось сложным, поскольку было сопряжено с введением большого числа дополнительных понятий, описывающих разные стороны взаимодействия генов. И в 1950-е гг. от этого практически отказались, свернув работы по выявлению все более усложняющихся схем взаимодействия генов. Когда мы поймем основные механизмы развития признаков, то волей-неволей перейдем на системный язык описания наследственности, в котором гены будут играть подчиненную роль.
С общих позиций ламаркизм осуждался как левацкое извращение марксизма, его, по выражению Б. М. Завадовского, «механистическая вульгаризация». Выше мы приводили мнение Н. П. Дубинина, опрометчиво утверждавшего в 1929 г., что с ламаркизмом покончено. Через шесть лет на декабрьской сессии Н. П. Дубинину снова пришлось вступить в борьбу против ламаркистов, теперь, правда, других. Борьба с ламаркизмом – это, так сказать, лежащая на поверхности причина, скорее даже повод. Отчасти мы ответили на вопрос о глубинных, скрываемых мотивах борьбы против агронома Т. Д. Лысенко. Что дело именно в нем, об этом можно судить по письму Н. К. Кольцова.
С. Э. Шноль (2010, с. 165) приводит выдержку из этого письма, адресованного к президенту ВАСХНИЛ А. И. Муралову. Письмо было написано сразу после декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г. «В этом письме – пишет С. Э. Шноль – есть замечательные слова: “…великая ответственность ложится на нас… если мы в такой тяжелый поворотный момент не поднимем своего голоса в защиту науки. С нас прежде всего спросит история, почему мы не протестовали против недостойного для Советского Союза нападения на науку. Но что история! Нам и сейчас стыдно за то, что мы ничего не можем сделать против тех антинаучных тенденций, которые считаем вредными для страны… потому-то я не хочу и не могу молчать…”. Муралов не ответил Кольцову по существу, а в большом письме упрекал Кольцова за его работы по генетике человека – евгенике». Антинаучные тенденции, о которых говорил Н. К. Кольцов, – это ламаркизм, с которыми выступал, тогда еще лишь известный агроном, директор периферийного института Т. Д. Лысенко.
Дополнил С. Э. Шноль сказанное о письме Н. К. Кольцова цитатой из книги В. Н. Сойфера [2002]: «…во время дискуссии по генетике и селекции в декабре 1936 г. Николай Константинович вел себя непримиримо по отношению к тем, кто выступил с нападками на генетику (прежде всего, сторонники Лысенко). Понимая, может быть, лучше и яснее, чем все его коллеги, к чему клонят организаторы дискуссии, он после закрытия сессии направил в январе 1937 г. президенту ВАСХНИЛ (копии – Я. А. Яковлеву и заведующему отделом науки ЦК К. Я. Бауману) письмо, в котором прямо и честно заявил, что организация ТАКОЙ дискуссии – покровительство врунам и демагогам, никакой пользы ни науке, ни стране не принесет. Он остановился на недопустимом положении с преподаванием генетики в вузах, особенно в агрономических и животноводческих…» (выделено нами).
Кто же виноват в недопустимом положении с преподаванием генетики? Понятно, что никакой вины в том Т. Д. Лысенко нет. Первые учебники по мичуринской биологии появились в 1950 г. после сессии ВАСХНИЛ 1948 г., т. е. через 15 лет. Значит все это время в государственных учебных планах биологических институтов и техникумов утвержденной дисциплиной, которую читали студентам, была только классическая генетика. Лекции по мичуринской биологии, если где и читались, то факультативно, вне государственных учебных планов. Поэтому вина в плохом преподавании генетики лежит только на самих генетиках. Это они должны были вместо дискуссий, имевших целью ниспровергнуть ламаркизм, организовывать курсы усовершенствования для преподавателей генетики.
Н. К. Кольцов сигнализировал руководителям сельского хозяйства и в ЦК об антинаучных тенденциях, которые он считал вредными для страны. Удивительно. Кто же должен искоренять эти антинаучные тенденции, как не сами ученые. Это же они настояли на том, чтобы обсудить спорные вопросы генетики – им это разрешили. Чего же еще им нужно от государства? Н. И. Вавилов признал результаты сессии положительными: «Думаю, что общее впечатление таково, что здание генетики осталось непоколебленным, ибо за ним стоит громада точнейшей проконтролированной работы». Откуда же тогда недовольство итогами сессии? Может быть Н. К. Кольцов считает, что государство должно вмешаться и выполоть из советской науки эти антинаучные тенденции. Но государство не может вмешиваться в научные споры ученых. Или все же может? Что касается обвинений в обмане под прикрытием демагогии, то, если речь идет о Лысенко, то тот работает руководителем Одесского института генетики и селекции на Украине и никаких данных, ни открытых, ни закрытых, уличающих его в обмане, от руководителей республики пока не поступало.
Недовольство итогами сессии было, видимо, связано с тем, что некоторые авторитетные ученые, являвшиеся казалось бы своими, в том числе и в качестве противников ламаркизма, выступили с критикой генетики. Т. е. серьезная критика генетики на этой сессии шла от своих. Выступление Т. Д. Лысенко было умеренным; я бы не назвал его критическим. Серьезные упреки в адрес генетики и генетиков прозвучали в докладе академика Б. М. Завадовского (1937). Свое выступление он назвал «За перестройку генетической науки». В первой части выступления (с. 163–164) Б. М. Завадовский коснулся работ Т. Д. Лысенко: «Я считаю также необходимым разрушить миф-легенду о “вандалах”, якобы поставивших своей задачей разрушить генетическую науку и не знающих ее ценности. Необходимо дать категорический отпор всем попыткам в порядке ли прямых высказываний, или в более завуалированной форме изобразить атаку акад. Т. Д. Лысенко на некоторые каноны классической генетики, как проявление “невежества”, незнания основ этой науки… большая ошибка представителей классической генетики начинается именно с того, что они до сих пор продолжают жить представлениями, якобы весь корень зла заключается в том, что они не сумели достаточно популярно преподать основы своей науки».
Б. М. Завадовский выразил недоумение тем, что ведущие генетики, включая Н. К. Кольцова, выступили перед собравшимися делегатами с «популяризацией элементарных основ классической генетики». Корень зла, по Б. М. Завадовскому, в ошибках генетиков. А до этого Б. М. Завадовский следующими словами охарактеризовал свое отношение к работам Т. Д. Лысенко (с. 163): «На основании проработанного мною материала я должен прежде всего выразить свое восхищение той силой, с которою акад. Т. Д. Лысенко поставил ряд кардинальных вопросов и в известной мере некоторым из них сумел дать положительное решение».
Может быть Б. М. Завадовского имел в виду Н. К. Кольцов, говоря в своем письме о демагогах, выступавших на сессии.
А теперь по существу письма. Нам же надо понять, почему руководители государства «ополчились» на Н. К. Кольцова. Но сначала приведем еще одну выдержку из той же главы о Н. К. Кольцове (Шноль, 2010, с. 164): «Последние 10 лет жизни Кольцова – годы бескомпромиссной борьбы. Ни в одном своем поступке Н. К. не сдался, ни в одном слове не уступил в этой борьбе. Его преследовали власти и травили мракобесы. Он не сдался. Такая позиция является, возможно, рациональной в беспросветной ситуации. Н. И. Вавилов (см. очерк) пытался, ради спасения науки, пойти на компромиссы. И погиб. Он был арестован в августе 1940 г. Н. К. [Кольцова] не арестовали. Он умер 2 декабря 1940 г. от инфаркта. Лысенко поддерживал Сталин. Лысенко обещал в несколько лет удвоить урожаи на безграничных колхозных полях. Разорение и уничтожение наиболее работоспособных крестьян в ходе насильственной коллективизации – объединения крестьян в колхозы в 1929–1933 гг. – вызвало в стране голод. Власть большевиков, жизнь вождей ВКП(б) зависела самым прямым образом от преодоления голода. [50] Сермяжный, полуграмотный, фанатичный, в силу невежества, Лысенко казался “вождям” знающим тайну их спасения, а утонченные, высококультурные, выдающиеся ученые Кольцов и Вавилов и их последователи говорили, что на выведение новых высокоурожайных сортов на основании передовой науки генетики необходимы десятки лет. Сталин сделал выбор» (выделено нами).
Но ведь правильно объяснил, почему Сталин поддержал Лысенко. Надвигалась война, и у СССР не было десятков лет в запасе. Лысенко, кстати, свое слово сдержал, а вот новых высокоурожайных сортов на основании передовой науки генетики наша страна не получила ни через десятки лет, ни позже.
Приступив к коллективизации, Советское правительство еще в 1931 г. в специальном постановлении поставило перед учеными селекционерами важнейшую задачу обеспечения колхозов новыми высокоурожайными сортами зерновых. Учитывая опыт зарубежных стран, было предложено сократить сроки создания новых сортов до 4–5 лет вместо 10–12 лет, предусматриваемых старыми инструкциями. И именно Н. И. Вавилов в качестве руководителя ВАСХНИЛ принял к исполнению правительственное постановление (см. подробнее: Шаталкин, 2015). Понятно, что прежде чем утвердить постановление, оно детально обговаривалось с Н. И. Вавиловым. И он согласился с приведенными выше сроками получения новых сортов. Раз так работают селекционеры на западе, то и нам бы не мешало напрячься. К сожалению, Н. И. Вавилову не удалось убедить ленинградских и московских селекционеров работать как на западе. Ему бы опереться на Т. Д. Лысенко и искать других перспективных селекционеров на периферии, что он, как руководитель ВАСХНИЛ, и пытался поначалу делать. Но в итоге возник конфликт со столичными учеными, что и показала декабрьская сессия ВАСХНИЛ 1936 г.
После голода начала 1930-х гг. у наших руководителей болит голова в поисках решения зерновой проблемы. Чтобы навсегда исключить из истории СССР голодные годы. И здесь первая неудача. За четыре года не было получено никаких положительных результатов в решении зерновой проблемы. Н. И. Вавилов был снят с поста президента ВАСХНИЛ.
И вот в периферийном институте на Украине появился селекционер со своими обещающими предложениями. Надо его поддержать. Но как его поддержать столичным селекционерам и генетикам, если все они считают, что Н. И. Вавилов поступил опрометчиво, согласившись со значительным сокращением сроков создания новых сортов и не сумел убедить правительство в том, что все это форменное прожектерство. А Т. Д. Лысенко говорит, что это не прожектерство, что это реально выполнимая задача.
Вот Вам одна из главных причин конфликта, а не теоретические расхождения между генетиками и ламаркистами (вторая основная причина связана с приходом в науку революционеров, нетерпимых к инакомыслию, о чем мы уже говорили). Борьба шла не за торжество научной истины. Генетики боролись, как им казалось, против необдуманных обещаний Вавилова и Лысенко. Но поскольку «ругать» Н. И. Вавилова они остерегались, да уже в 1936 г. это было неактуально, то все их недовольство вылилось на Т. Д. Лысенко. Дискуссии по спорным вопросам генетики на декабрьской сессии ВАСХНИЛ 1936 г. были лишь прикрытием этой борьбы ученых с жесткой программой Советского правительства по ускоренному развитию сельского хозяйства.
Конфликт в генетике и последовавшая за этим трагическая развязка возникли из-за того, что нашу сельскохозяйственную науку возглавляли по сути академические ученые, которые не проявляли особого желание вникать в специфику проблем села. Практическая сторона дела, для которого собственно и существует сельскохозяйственная наука, генетику мало интересовала, на что, как было сказано, обращал внимание М. М. Завадовский. В США генетика также существовала в качестве сугубо академической науки. Генетики, многие из которых получили мировую известность, не лезли в дела селекционеров, понимая, что пока они мало чем могут им помочь. Наши академические генетики, напротив, стали всех уверять, что именно они знают тайну наследования признаков и, следовательно, им надо быть у руля отраслевой сельскохозяйственной науки. Иными словами, это не селекционеры намеревались руководить генетиками, напротив, генетики претендовали на роль наставников селекционеров и активно этого добивались, навязывая теоретические дискуссии, в которых селекционеры могли быть лишь проигравшей стороной. И чтобы не проиграть селекционерам приходилось прибегать к политическим лозунгам, которыми впрочем владели обе конфликтующие стороны. Речь, следовательно, шла об отстаивании селекционерами своих суверенных прав против попыток вмешательства в их дела сторонних лиц, которые их работой заниматься заведомо не будут.
Давайте снова вернемся к письму Н. К. Кольцова. Авторитетный ученый, который сам непосредственно не занимается селекцией, открытым текстом говорит, что обещания Т. Д. Лысенко – это обман. Н. И. Вавилов, напомним, к тому времени уже был снят с поста президента ВАСХНИЛ именно за невыполнение правительственных планов, что в те времена также могло быть расценено как «обман». Напротив, в отношении Т. Д. Лысенко еще рано было говорить об обмане, еще ничего не было сделано, чтобы обвинять его в надувательстве. Чего раньше времени бить в колокола. Если заранее осудить Лысенко, то где же найти потом энтузиастов, которые будут по-стахановски браться за дело. А теперь поставьте себя на место Т. Д. Лысенко, которого наверняка ознакомили с письмом. Он, конечно, пообещал ускоренное выведение новых сортов зерновых. А вдруг не получится, вдруг его метод даст сбой. А сигнал на него о том, что он обманщик, т. е. авантюрист от науки, уже поступил.
А положение А. И. Муралова и Я. А. Яковлева, которые должны как-то отвечать на письмо уважаемого ученого. А вдруг Н. К. Кольцов окажется прав в своем предупреждении руководителей, чтобы они остереглись и не имели дела с откровенным мошенником. Это по тем временам означало бы, что именно они, руководители не досмотрели, не проявили большевистской бдительности перед лицом проходимца от науки. А с руководителей тогда был более жесткий спрос. В этой ситуации правительственный накат на Н. К. Кольцова по линии его старых евгенических выступлений вполне прогнозируем.
Н. К. Кольцов пишет о недопустимом положении с преподаванием генетики. Это уже вина не А. И. Муралова, которого недавно назначили на пост президента ВАСХНИЛ, но Н. И. Вавилова. Однако из чтения книги С. Э. Шноля создается впечатление, что и здесь виноват Т. Д. Лысенко.
Возникает вопрос, почему же не арестовали Н. К. Кольцова, который не отказался от своих евгенических заблуждений. «Я не отрекаюсь, – писал он – от того, что говорил и писал, и не отрекусь, и никакими угрозами вы меня не запугаете. Вы можете лишить меня звания академика, но я не боюсь, я не из робких…» (Гайсинович, Россиянов, 1989; цитировано по: Шноль, 2010). «Кольцов не сдался, “не разоружился” как тогда говорили. Его сняли с поста директора. Но не арестовали. Возможно именно потому, что он не шел ни на какие компромиссы» (Шноль, 2010, с. 166).
Я думаю, Н. К. Кольцова не трогали, учитывая его революционное прошлое. Николай Константинович был старейшим московским революционером, причем не был замешан в связях с питерскими революционерами. Он для высшего руководства страны свой, революционер, вступивший в революционную борьбу не корысти ради. Таких уважают. Как бы это выглядело – осуждение за научные взгляды активного борца с царским режимом в годы первой русской революции. И непримиримость Н. К. Кольцова вполне объяснима и простительна с точки зрения старых коммунистов. Он участвовал в революционном движении, связывая с этим определенные надежды на изменение жизни страны, согласно его идеалам. Понятно, что если ты хочешь защищать свои идеалы, то надо уходить из науки и становиться профессиональным революционером. В противном случае ты будешь работать на других, представления которых в отношении того, как обустроить жизнь после революции, т. е. после свержения царя, могут радикально отличаться от твоих.
Так оно и получилось. Политика большевиков, которым Н. К. Кольцов в свое время помогал, не вписывалась в его идеалы. Но власти терпимо относились к его разочарованию. И это была государственная политика 1930-х гг. в отношении спецов. Конечно, если они не были связаны с теми, кто вынашивал планы насильственной смены действующей власти, и если они не были замешаны в экономических преступлениях и в коррупционных делах 20-х – начала 30-х годов. Страна строилась и Н. К. Кольцов был активным Строителем (с большой буквы) в биологической науке. И спорил он с Н. И. Вавиловым по вопросам строительства, о чем и говорит его обеспокоенность состоянием дел в преподавании генетики. Такая позиция находила понимание наверху, поскольку там также сидели строители. В рамках борьбы с фашистской идеологией в предвоенные годы Советское правительство осудило евгенику. И оно надеялось, что эти усилия будут поддержаны авторитетом ведущих советских генетиков. К сожалению, ни Н. И. Вавилов, ни Н. К. Кольцов не откликнулись на это пожелание властей, что безусловно не осталось для самих ученых без последствий. Позиция, занятая Н. К. Кольцовым в отношении евгеники, вступала в противоречие с политической линией нашей страны, направленной на борьбу с фашизмом. Речь здесь не идет о самой позиции Н. К. Кольцова. В другое время она была бы вполне терпима. Основная проблема касается допустимости ограничения ученого со стороны государства.
8. 2. Евгеника как точка противостояния в советском обществе
Евгеника, как следует из сказанного выше явилась еще одной точкой противостояния советских ученых, докатившегося до наших дней.
За научными разногласиями, если они приобретают форму острой борьбы научных групп, как правило стоят более приземленные интересы. Боролись не только против Т. Д. Лысенко и его сторонников. После победы над ними наш ведущий генетик Н. П. Дубинин подвергся нападкам, теперь как бы со стороны своих и был снят с поста директора института генетики. Из книги С. Э. Шноля (2010) я узнал, что еще один выдающийся советский биолог Х. С. Коштоянц подвергался нападкам.
А всех троих объединяло то, что они вышли из низов, но тем не менее добились в науке больших успехов. Я думаю, что неслучайно Н. П. Дубинин (1975, с. 8) акцентировал внимание читателей на этом моменте, поскольку знал, откуда дует ветер, неся в адрес его и других выходцев из низов нелицеприятные слова: «Многие из нас самой жизнью и тем, что стали людьми науки, целиком обязаны Советской власти. У нас свой голос и свои песни. Преданность новой России и понимание ее у большинства из нас органичны как дыхание, как жизнь». В этих проникновенных словах советского патриота я обращаю внимание на выделенное мной предложение. У нас есть своя советская точка зрения на происходящее в мире, в том числе и в науке.
В этой связи мне хочется возразить П. А. Пантелееву (2015, с. 104), который писал в своих воспоминаниях: «Злые языки шипели иногда, что Н. П. [Дубинин] даже в партию вступил, чтоб только стать директором Института. Но его сначала назначили директором, и лишь затем, очевидно, вынудили вступить в партию. Невозможно представить, чтобы он добровольно на склоне лет вдруг воспылал желанием строить коммунизм под руководством той же самой организации, которая не очень давно официально утвердила лысенковскую лженауку… Так ломала “свободу совести” ученых великая партия большевиков».
Мне трудно согласиться с последним утверждением автора. Н. П. Дубинин был не только большим ученым, но и организатором советской науки, т. е. по факту одним из организаторов нового общества, которое после взятия власти вознамерились построить большевики. Николай Петрович был активным строителем нового общества и, думаю, не изменил своим идеалам. Это означает, что он искренне включился коммунистический проект и как сознательный участник социалистического строительства мог считать себя коммунистом. Поэтому, я думаю, что для него не было проблемы с вступлением в Партию, в отличие, скажем с сожалением, от меня и многих моих современников, живших в плену политических мифов.
Мы уже говорили о критическом выступлении в адрес генетиков на IV сессии ВАСХНИЛ в декабре 1936 г. Б. М. Завадовского (1937, с. 164–165). Касаясь того прискорбного положения, что «формальная генетика не сумела ни предусмотреть, ни объяснить, ни включить в себя блестящие работы академиков И. В. Мичурина и М. Ф. Иванова, не смогла до сих пор найти место» в своих построениях и для работ Т. Д. Лысенко, он продолжил: «Вместо того, чтобы представители генетической науки показали нам, какое место, какой идейный вес должны занять эти достижения… и подумать над тем, какие выводы вытекают из этих работ для самой генетической науки, мы видим какую-то совершенно непонятную игру, когда генетики утверждают, что они не могут принять Т. Д. Лысенко в свою среду, потому, что акад. Т. Д. Лысенко не генетик и его работы не затрагивают интересов генетики. Несколько лет назад физиологи растений также заявляли, что акад. Т. Д. Лысенко не физиолог… и те и другие пытаются переадресовать акад. Т. Д. Лысенко к третьей “прогрессивной” науке – механике или динамике развития, но мы знаем уже, что и официальные представители этой отрасли биологии также не склонны признавать акад. Т. Д. Лысенко “за своего”…».
А что это значит, что Т. Д. Лысенко для большого числа советских ученых являлся чужим? Что имел в виду Б. М. Завадовский? Чужим он мог быть для них по своему происхождению – из крестьян. Но из крестьян было много других ученых. Но Т. Д. Лысенко отличался от остальных тем, что добился признания самостоятельно. Я думаю, что подспудно здесь сказались печальные последствия увлечения нашей интеллигенции евгеникой, осознание своей групповой исключительности как интеллектуальной элиты. Не захотели потомственные ученые пускать в свои ряды малоинтеллигентного по манерам крестьянина, который им ничем не обязан. И опасность именно такого элитарного противостояния четко осознал академик Б. М. Завадовский, встав безоговорочно на сторону Т. Д. Лысенко. Ведь у нас было в ту эпоху государство рабочих и крестьян, которое возглавляли как раз выходцы из низов и об этом интеллигенции, воспитывавшейся на евгенических идеях генетического неравенства населения никак нельзя было забывать.
Интеллектуальная элита в конце концов победила Т. Д. Лысенко, изгнав его из своих рядов как лжеученого. Но ведь и другой советский ученый, выбившийся в ведущие ученые из низов, был снят с поста директора института по евгеническим мотивам, как это дело преподнес американский историк науки Лорен Грэхэм. А ведь со стороны, тем более американской, перед которой не особо скрывали свои потайные мотивы, всегда виднее.
Давайте посмотрим, не было ли в советской науке других ученых, воспринимавшихся в качестве «чужих». Обратимся к важным свидетельствам Н. П. Дубинина. Он пишет (1975, с. 180–181): «В 1939 году Институт экспериментальной биологии пережил тяжелое событие: Н. К. Кольцов был освобожден от обязанностей директора института, а на его место назначили Г. К. Хрущова. Произошло это при следующих обстоятельствах. В том году были объявлены вакансии для выборов в действительные члены Академии наук СССР. Институт экспериментальной биологии выдвинул кандидатом в академики Н. К. Кольцова… Однако кандидатура была отклонена. Препятствием были евгенические ошибки Н. К. Кольцова». «Мы – продолжил свое повествование Н. П. Дубинин (с. 181) – должны были внести ясность в этот вопрос. Для этой цели проводилось общее собрание института, на котором мне пришлось выступать с докладом». Была по этому поводу принята резолюция, которую мы приводим по тексту книги Н. П. Дубинина (там же):
Коллектив научных сотрудников Института экспериментальной биологии считает евгенические высказывания Н. К. Кольцова глубоко неправильными. Коллектив подчеркивает, что евгенические высказывания Н. К. Кольцова не стоят ни в какой связи с теми генетическими концепциями, которые занимает Н. К. Кольцов, и решительно отметает всякие попытки их связать между собою… вся система биологических взглядов Н К. Кольцова не связана с его евгеническими ошибками… В последние 10 лет в институте уже не ведется никакой евгенической работы, и большая часть коллектива пришла в институт после прекращения евгенической работы…
«Мне пришлось доводить эту резолюцию общего собрания до президиума Академии наук СССР. Президент В. Л. Комаров выразил большое удовлетворение резолюцией. О. Ю. Шмидт, бывший тогда первым вице-президентом, расспрашивал о деталях собрания и также подчеркнул важность того положения, что евгенические взгляды Н. К. Кольцова не нашли в институте ни одного защитника. Да, мы были единодушны в оценке того, что евгенические взгляды Н. К. Кольцова – это серьезная ошибка, наложившая печать на развитие генетики в нашей стране» (Дубинин, 1975, с. 181–182, выделено нами).
Была ли искренней эта позиция Н. П. Дубинина или она была вынужденной и связана с суровыми обстоятельствами тех дней, когда одобрение, выраженное в любой форме, евгенических «ошибок» Н. К. Кольцова могло поставить под вопрос существование самого института? Я склоняюсь к тому, чтобы принять первое, учитывая тот факт, что Н. П. Дубинин был последовательным в своем неприятии евгеники и в те годы, когда за симпатии к евгенике не преследовали.
Мы уже говорили о резонансной дискуссии 1960-1970-х гг. о роли биологического и социального в жизни человека. Вот что об этом писал Н. П. Дубинин (1975, с. 411–412): «Попытки обелить евгенические ошибки лидеров прошлого этапа генетики, более того, представить содержание старой ошибочной евгеники как идейную основу для приложения к человеку новых успехов генетики, такие попытки делали Б. Л. Астауров и А. А. Нейфах – сотрудники института биологии развития АН СССР, М. Д. Голубовский – сотрудник института цитологии и генетики Сибирского отделения АН ССР. В. П. Эфроимсон выступил с ошибочными взглядами о якобы генетической обусловленности духовных и социальных черт личности человека. Литератор В. В. Полынин начал пропагандировать старую евгенику… На пленуме Всесоюзного общества генетиков и селекционеров и Научного совета по генетике и селекции в 1967 году я выступил с решительным возражением против этого идеологически чуждого нам направления и стремился доказать, что его ошибочность кроется в смешении принципов биологического и социального наследования. Увы, я встретил там хотя и небольшую, но монолитную группу в лице Б. Л. Астаурова, С. М. Гершензона, С. И. Алиханяна, Д. К. Беляева, вставших на ошибочные позиции в этом вопросе».
В третьем издании своей книги Н. П. Дубинин (1989, с. 412) еще раз подчеркнул: «Моя позиция по проблеме человека, разработка проблемы социального наследования вызвали оппозицию со стороны ряда наших ведущих генетиков, в первую очередь Д. К. Беляева, Б. Л. Астаурова, В. П. Эфроимсона и некоторых других. Они полагали, что я умаляю роль генетики, видели в моей позиции неоправданное преувеличение значимости индивидуального развития мозга под влиянием деятельности человека. Они отказывались понять, что признание никем не доказанной генетической детерминации духовных качеств человека неизбежно ведет к признанию евгеники, социал-дарвинизма и расизма. Эти человеконенавистнические течения основаны на том, что все проявления психики человека можно объяснить, исходя из законов генетики». «Возникшие разногласия – добавил Н. П. Дубинин – оказали заметное влияние на моральный климат в кадрах генетиков».
Как видим, позицию упомянутых советских биологов Н. П. Дубинин квалифицирует как евгеническую. Так может быть в этой позиции нет ничего плохого и зря Н. П. Дубинин и некоторые биологи высказывали и высказывают на это счет опасения.
Чтобы понять существо дела, давайте более строго охарактеризуем позиции противостоящих сторон в этой дискуссии. А для этого обратимся к мнению стороннего человека, которому, чтобы не быть обвиненным в искажении позиции генетиков, приходилось высказываться предельно ясно и однозначно. Специалист по криминологии И. С. Ной (1975, с. 88) в дискуссии по соотношению в человеке биологического и социального отметил: «На основании марксистского положения о сущности человека как совокупности всех общественных отношений стала преодолеваться и вульгарная социологизация личности, связанная с отрицанием в человеке единства двух детерминаций – социальной и биологической, обусловленных подчинением человека не только законам общественного развития, но и биологическим законам, законам природы». Кто же из наших ученых занимался социологизацией личности. Оказывается сторонники Т. Д. Лысенко в социальных науках. После «преодоления» мичуринской биологии генетики и им сочувствовавшие стали утверждать, что Т. Д. Лысенко будто бы отрицал роль внутреннего (т. е наследственности) в определении организмов. Этот миф собственно и породил в 1960-е гг. дискуссию в обществе о соотношении в человеке биологического и социального, продолжавшуюся несколько десятилетий. И. С. Ной (1975, с. 95) в рамках этой дискуссии следующими словами сформулировал данный миф: «… методологическая ошибочность решений августовской (1948 г. ) сессии ВАСХНИЛ состояла в неправильном определении соотношения «внутреннего» и «внешнего» в генезисе живого: абсолютизировалось значение «внешнего» в ущерб «внутреннему». В свете таких концепций рассматривались тогда и многие явления общественной жизни».
И. С. Ной четко сформулировал суть укоренившегося в обществе мифа, будто бы сторонники Лысенко отрицали какую-то бы ни было роль наследственного начала в социальной жизни человека. Как можно говорить такое о Т. Д. Лысенко, если тот написал специальную книгу о наследственности, кстати, переведенную в США. Я так полагаю, что этот миф, возникший в недрах советской генетики, в общественных науках поддерживался некоторыми учеными, чтобы «привязать» своих противников в общественных науках как догматиков к поверженному Лысенко. Кстати, Н. П. Дубинин, если прав в своей оценке событий Лорен Грэхэм (1991), оказался жертвой этого мифа, поскольку был смещен со своего поста директора Института общей генетики за поддержку догматиков, выступавших против новаций в социологии, озвученных И. С. Ноем.
Создается впечатление, что Н. П. Дубинин в этом вопросе занимал пролысенковские позиции. И это явилось как бы основанием для того, чтобы начать борьбу с ведущим ученым-генетиком. На самом деле борьба шла вокруг подымавшей голову после временного запрета евгеники, которую Н. П. Дубинин не считал за науку.
С. Э. Шноль (2010, с. 167) рассказал нам о еще одном советском ученом, физиологе Х. С Коштоянце, который, как и Н. П. Дубинин, выступил в те же предвоенные годы с осуждением евгенических «увлечений» Н. К. Кольцова. С. Э. Шноль (2010, с. 170) утверждает, что это осуждение аукнулось Х. С. Коштоянцу, когда через много-много лет тот баллотировался в академики и был не избран как «лжеученый». Я не знаю всех обстоятельств дела, но думаю, что Академия разумно решила сразу погасить назревающий скандал, связанный с анонимными «правдолюбцами», ополчившимися на Х. С. Коштоянца. Я также думаю, что и сам ученый понимал, ненужность скандала, затеваемого неизвестными вокруг его имени. Но вопрос остается, надо ли полагать, что Н. П. Дубинин пострадал за его довоенную и послевоенную критику евгеники?
Итак, сторонники Т. Д. Лысенко, коль скоро они непосредственно занимались изучением наследственности, по определению не могли отрицать ее роль в социальной жизни. Наследственной основы в социальном есть столько, сколько в ней ее присутствует на самом деле. Однако оценить эту меру биологического в социальном генетика тех лет не имела возможности. Как впрочем и сейчас. Что же касается утверждений, что мичуринцы в отличие от генетиков будто бы умаляют роль наследственности, то это предмет научного анализа конкретных форм социального поведения человека. Генетика к такому анализу пока не готова и может предложить лишь умозрительные догадки в рамках натурфилософских рассуждений.
Назначение мифа, озвученного И. С. Ноем, состоит в том, чтобы прикрыть реальную проблему, разделявшую с самого начала генетиков на противников евгеники и тех, кто ее воспринимал положительно. Вторые признавали существование генов, определяющих социальные характеристики людей, первые это отвергали. Мы уже приводили мнение на этот счет Н. П. Дубинина (1989, с. 407). Повторим снова его ключевую фразу: «… в генетике нет доказательств существования генов, определяющих общественное положение, генов эволюции общественных отношений, генов интеллекта, совести, преступности и других духовных свойств человека». В другой книге, видимо, имея в виду высказывания В. П. Эфроимсона в его работе «Родословная альтруизма» (1971), Н. П. Дубинин (1983, с. 154) пишет: «… порой без особых доказательств и анализа социального положения и психического состояния преступников высказывается предположение, что в поведении человека, совершающего преступление, непременно проявляется “дурная наследственность”. Степень преступного деяния ставится в зависимость от отягощенности генотипа преступника особыми генами преступности».
Мы согласны с мнением крупнейшего советского генетика, что нет генов преступности. Но тему «дурной наследственности», нам кажется, рано закрывать, пока не исследована еще одна возможность: не наследуется ли она по типу длительных модификаций? С этой точки зрения трудно согласиться с мнением М. Е. Лобашева (1966, с. 601), который считал возможным говорить о сигнальной наследственности, но одновременно утверждал, что «Сигнальная передача не может называться наследственностью в полном смысле слова, поскольку она не обусловлена генами». Но это она в классической модели наследственности не находит себе места в системе генетических понятий. Для более широкой модели, включающей некоторые ламаркистские положения, она отражает явление наследственности, поскольку отвечает исходному определению – наследственность есть сходство родителей и детей.
Н. П. Дубинин (1989, с. 407) говорит, что «нет доказательств существования генов», определяющих социальное положение человека, оставляя тем самым возможность, что со временем такие доказательства могут быть найдены. Поэтому приведем мнение еще одного большого ученого академика М. М. Завадовского, высказанного им еще до войны (1936а, с. 83): «Наиболее неудачное обобщение, вышедшее из недр генетики, обобщение, которое кое-кому казалось органически и неразрывно связано с основами генетики, заключалось в представлении, что “гены” и только “гены” как участки хромосом определяют развитие признаков организма. Это представление при внимательном его рассмотрении является смелой экстраполяцией с конкретного материала по распределению генов в потомстве – на совсем иную область, область участия гена в развитии признака».
М. М. Завадовский предлагает вернуться от Моргана и раннего Иогансена к Бэтсону и не плодить на бумаге гены, существование которых не доказано экспериментально и не может быть объяснено механикой (динамикой) развития. «А отсюда следует, – продолжил М. М. Завадовский (там же, с. 83) – что истерическое заявление Пеннета, что для улучшения растения, животного и человека есть один естественный выход – в подборе гамет (“спасение в гаметах и только в гаметах!”, восклицает он), – это заявление представляет собой плод, зачатый в припадке неудержимого головокружения от успехов, но в иной области». Из уст М. М. Завадовского прозвучала наиболее серьезная критика генетики, ставящая прежде всего под вопрос научную состоятельность евгеники. Она есть неудавшийся «плод, зачатый в припадке неудержимого головокружения от успехов». Может быть, не только!
Заключение. Почему ошибочные идеи и теории в нашей стране сейчас называют лженаучными
Что нам говорят советские энциклопедии относительно понятия лженауки (псевдонауки)? К моему большому удивлению, оказалось, что ничего не говорят. Не было такого понятия в советской жизни. И оно, видимо, поэтому не нашло отражения в энциклопедиях. А я просмотрел послевоенный энциклопедический словарь в трех томах, синюю и красную БСЭ, Философскую энциклопедию в пяти томах (Москва, 1960–1970), Философский энциклопедический словарь (Москва, 1983). Постперестроечные философские словари, видимо, следуют советской традиции. Таковы «Новая философская энциклопедия в четырех томах» (Москва, 2000–2001) и «Новейший философский словарь» (Минск, 2003).
О чем это может говорить? Во-первых, о том, что советские ученые принципиально расходились с буржуазной философской мыслью в понимании смысла и социального назначения лженауки. Официально в советское время лженаучными называли теории и представления, в которых выдвигались основанные на «научных» фактах доказательства несостоятельности материализма. Такая практика берет начало с книги В. Н. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» (1916). В. Н. Ленин боролся с попытками якобы научного доказательства ложности материализма, эксплуатируя возникшие в науке концептуальные трудности. С такой постановкой вопроса вполне можно согласиться. Не науке быть арбитром в деле обоснования мировоззрений. Любые попытки научного опровержения материализма должны, на мой взгляд, расцениваться как лженаучные, как это и было принято в советское время. По этой причине попытки внедрения через научно-популярную литературу с началом брежневского правления западных представлений о лженауке не имели большого успеха. Они как бы перечеркивали то позитивное, что было наработано нашими философами в порядке развития идей В. И. Ленина. В биологии пример такой лженаучной критики материализма можно видеть в работах Ганса Дриша. Вот что он писал в «Philosophic des Organischen» (Leipzig, 1909): «Если бы материалистическое объяснение жизни было правильно, то организм должен был бы быть такой пространственно-многообразной системой (“машина”), которая одновременно должна была бы содержать в себе бесконечное число других подобных пространственно-многообразных систем…» (цит. по: Токин, 1936а, с. 121).
Во-вторых, это говорит о том, что лженаука – это понятие из политического словаря, т. е. является инструментом политики и, следовательно, не имеет прямого отношения к науке. В советской действительности вполне открыто утверждалась практика идеологических ограничений на мировоззренческий характер научных выводов. На западе таких ограничений идеологического плана не было. Поэтому лженауки в ее советском, ленинском понимании там не могло быть в принципе. Значит, под лженаукой на западе могли иметь в виду ошибочное, ложное знание. А поскольку сами ученые никак не могут договориться между собой в отношении того, как отличить ложное знание от истинного, то решение этого вопроса берут на себя политики. А их цели не всегда совпадают с нуждами науки. Иными словами, понятие лженауки стало для политиков важным инструментом управления наукой: ученые должны заниматься лишь тем, чем им разрешено заниматься; все остальное объявляется лженаукой. Понятно, что за объявлением кого-то лжеученым всегда стоит какой-то политический расчет.
В-третьих, сам способ хозяйствования в буржуазных обществах открывает большие возможности для широкого распространения разного рода практик, не имеющих научного подтверждения, с целью получения обманным путем денег с доверчивого населения. Речь, следовательно, идет об эксплуатации новых научных или натурфилософских идей мошенниками от науки для личного обогащения. Легкие деньги можно также зарабатывать, выполняя заказы политиков. Потребовалось политикам мотивировать агрессию запада против Советского Союза. И к их услугам тут же оказалась недавно созданная евгеника, которая доходчиво объяснила с «научной» точки зрения, что плохие качества русских и других народов, проживающих на востоке, их леность, агрессивность, рабская психология и т. п. не лечатся, поскольку это у них в крови, от природы, от генов. А генетические аномалии, как известно, пока не лечатся. Понятно также, почему лженаука пытается рядиться в научные одежды. К науке население испытывает большое доверие.
Итак, лженауку на западе отличает стремление, подделываясь, мимикрируя под науку, зарабатывать на своем, якобы научном статусе деньги. Но не все же живут обманом населения. Доверие к различным практикам, особенно исцеляющим, освящено глубокой традицией и положительными примерами, которые наука пока не может объяснить. Кроме того, в буржуазных обществах зарабатывать могут и ученые, сделавшие реальные открытия. Отсюда возникает задача, как отличить тех, кто отдает жизнь делу поиска истины, от лжеученых, занимающихся мошенничеством. Это очень сложная и многоплановая тема. Она не является предметом настоящей книги и мы не будем здесь ею заниматься. Нам достаточно лишь знать, что с советской точки зрения ошибочные теории, с которыми выступали отдельные наши ученые, например, те же руководители пяти лабораторий, закрытых в 1953 г. (см. раздел 2. 3), не могли быть отнесены к числу лженаучных. И в этом мнении нас поддерживают наши словари и энциклопедии.
Аналогом западных лженаучных теорий, могут быть псевдооткрытия наших ученых, нацеленные на получение обманным путем каких-то благ в рамках советской цивилизации. Об этом хорошо сказано М. В. Волькенштейном (1975): «Еще один источник лженауки – недоброкачественный карьеризм, приводящий к недобросовестности и прямому жульничеству. Не будучи в состоянии добиться успеха нормальным путем строгого и честного исследования, человек пытается найти более легкий путь к славе. Он продвигает свои идеи в прессу, рекламирует их всеми доступными способами». С более общих позиций об этом писал Б. И. Пружинин (2005, с. 118): «Деятельность, претендующая на статус научной, может быть квалифицирована как псевдонаучная лишь тогда, когда появляются серьезные основания полагать, что действительные цели этой деятельности не совпадают с целями науки, что она вообще лежит вне задач объективного познания и лишь имитирует их решение… За нарушением норм научности критика пытается выявить прагматическую непознавательную цель, чаще всего корыстную, шарлатанскую». Но здесь тоже не все так просто. Можно ли считать, что стремление к славе, в котором обвиняли Н. Г. Клюеву и Г. И. Роскина, не относится к научной деятельности и представляет псевдонаучную активность?
Безусловно, прямое жульничество вполне возможно и его нельзя исключить по теоретическим основаниям. Но мне неизвестны достоверные примеры в истории советской биологии. Пример, который дает М. В. Волькенштейн (1975, с. 75), основан на мой взгляд на сложившемся к моменту написания его статьи мифу: «Такой сенсацией было сочинение Г. М. Бошьяна “О природе вирусов и микробов” (Медгиз, 1950), в котором утверждалось, что антибиотики превращаются в вирусы, вирусы – в бактерии, бактерии – в кристаллы. Претензия Бошьяна была грандиозной – он ниспровергал всю биологию и медицину. Оказалось, однако, что опыты Бошьяна – просто фальсификация. В сущности, многим это было очевидно сразу. Достаточно знать, что вирусы и бактерии содержат фосфор, которого нет в антибиотиках». Мне неизвестно, кто придумал этот миф о советском ученом, но он упорно тиражируется из одной публикации в другую.
Мы достаточно сказали в защиту Г. М. Бошьяна. И повторяться не будем. Отметим только один момент, имеющий отношение к обсуждаемой теме псевдонаучных «знаний». В мнении М. В. Волькенштейна сквозит явное неуважение к биологам, не только к тем, с которыми Г. М. Бошьян работал, но и к оппонентам последнего. Все они, по мнению физика, по своей научной компетенции ничем не отличаются от Г. М. Бошьяна, поскольку просмотрели, не обратили внимание на эпохальное открытие ученого, будто бы доказавшего возможность превращения простых веществ в живой организм. Сама ситуация располагала к тому, чтобы усомниться в своих первых впечатлениях от прочитанного и поинтересоваться у биологов, почему они не видят такой вопиющей безграмотности Г. М. Бошьяна. Или самому посмотреть, что пишет ученый об антибиотиках и других активных веществах. И тогда стало бы ясно, что Г. М. Бошьян вполне разбирается в вопросах, которые обсуждает: «… принято считать, – писал он (1949, с. 124), – что антибиотики являются неживыми веществами микробных клеток… Химический состав антибиотиков самый разнообразный». Приводимый далее список Г. М. Бошьян расширяет, включив в число антибиотиков фильтрующиеся формы бактерий. Эти последние действуют, согласно ему, переводя бактерии в неопасную фильтрующуюся форму. Поясняя свою гипотезу, Г. М. Бошьян пишет (с. 124): «… мы выделили из отечественных и американских патентованных препаратов пенициллина, стрептомицина, ауромицина и других антибиотиков живые культуры исходных микробов, доказав тем самым живую природу этих лечебных препаратов». Открытие безусловно сделано, поскольку получается, что с одной стороны мы лечим организм с помощью антибиотиков, а с другой насыщаем его микроорганизмами, о действии которых на организм нам ничего неизвестно. Что касается доказательства живой природы антибиотиков, то я его не вижу в приведенных Г. М. Бошьяном фактах, как не увидели этого доказательства оппоненты, выступившие с критикой его книги. Именно за включение фильтрующихся форм бактерий в число антибиотиков критиковал ученого проф. В. Н. Орехович (см. раздел 2. 3).
Этот пример показывает, что ученые, критикующие других, сами не застрахованы от ошибок. Чтобы их избежать, любую критику «лженаучных теорий» следует также подвергать экспертизе на предмет ее лженаучности.
Таким образом, в советской науке не могло быть по определению лженаучных «теорий», сравнимых с теми, которые процветали на западе. Там главным мотивом псевдонаучной активности были деньги, отнюдь не слава, почет и уважение, которые надо заслужить и за деньги не купишь. Обманщик ради престижа в советском государстве мог всплыть лишь на короткое время, поскольку его просто не примет научное сообщество. По этой причине обманщика не надо выводить на чистую воду, т. е. доказывать, что он обманщик. Это и так очевидно для всего научного сообщества. Но когда начинают постоянно говорить в отношении ученого, что он обманщик, жульничает, то это вызывает определенные подозрения – не имеет ли здесь попытка опорочить ученого по иным, ненаучным мотивам.
Пример такого необоснованного обвинения в жульничестве мы видим в научной судьбе Т. Д. Лысенко. Если он жульничал в сельскохозяйственном производстве, то это не дело академических ученых выступать в качестве экспертов в данном вопросе. Если речь идет о научных опытах, то ввиду их массовости говорить можно лишь о систематических ошибках. Те же вегетативные гибриды были получены большим числом ученых, а также целой армией энтузиастов, включая школьников юннатского движения. Жульничества при таком массовом опытном деле не могло быть в принципе. Возможны, повторим еще раз, систематические ошибки и недостаточно продуманная аргументация результатов.
С удовлетворением следует закрыть эту страницу обвинений мичуринской биологии: западные ученые в XXI столетии признали возможность передачи наследственных особенностей при вегетативной гибридизации, оговорив, правда, что в их опытах это происходит не так часто, не более чем в 1 % от числа прививок (см. Шаталкин, 2015). Но нам достаточно и этого признания.
Советские ученые, как и их западные коллеги не были ограждены от возможных ошибок в своей работе. Они могли высказывать предвзятые идеи, равно как и делать заключения, основанные на каких-то ошибках в эксперименте. Об этом мы читаем у М. В. Волькенштейна (1975): «Никто не гарантирован от ошибок. Следует, однако, различать ошибки объективные, определяемые общим состоянием науки в ту или иную эпоху, и ошибки субъективные, вызванные, например, недостаточно тщательной работой… Очевидно, что такие [объективные] ошибки не относятся к лженауке».
Мы показали, что работа О. Б. Лепешинской в ее экспериментальной части была связана с объективными ошибками, которые позже были вскрыты Г. И. Роскиным и другими учеными. Следовательно, нет никаких оснований говорить о лженаучном характере ее работ. В то же время и субъективные ошибки вряд ли следует относить к лженауке. Для того, чтобы стать хорошим экспериментатором, ученому нужно научиться этому, т. е. приобрести определенный опыт работы. Но и небрежность в работе тоже может иметь какие-то свои причины: исследователь устал, возникли какие-то неприятности по жизни, отвлекли коллеги и т. д.
М. В. Волькенштейн указывает несколько критериев, на основании которых можно судить о лженаучном характере работы:
«Она [лженаучная работа] не оперирует точно определяемыми понятиями (1). Вводя некую величину и обозначая ее латинской или греческой буквой, лжеученый не указывает способа ее измерения или даже размерности» (2).
Критерий 1 и отчасти 2 приложимы к теории живого вещества О. Б. Лепешинской. Ее теория соткана из экспериментов и натурфилософских соображений. Последние в принципе не могут быть точными, но их ли имел в виду М. В. Волькенштейн, я не знаю.
Следующий критерий: «Лженаучная теория не самосогласованна, она противоречит ранее установленным закономерностям и фактам. Как правило, она игнорирует уже достигнутый уровень знаний и никак с ним не связана» (3). Этот критерий не применим ни к одной из рассмотренных в настоящей работе «ложных» концепций советских ученых. Последние вводились не в качестве альтернативы сложившимся взглядам на биологическую действительность, но как дополняющие гипотезы. Это особенно показательно в концепции неклеточного живого вещества О. Б. Лепешинской. Ольга Борисовна связывала его с комплексами из белков и нуклеиновых кислот. Следовательно, аналогом ее живого внеклеточного вещества могут служить нуклеиновые кислоты при их горизонтальной передачи от клетки к клетке.
Н. К. Кольцов считал, что теория живого вещества О. Б. Лепешинской не согласуется с данными генетики. Но он, выдвинув концепцию белковой генонемы, вынужден был придавать слишком большое значение сложившейся линейной упорядоченности наследственного вещества в хромосомах. Для нуклеиновых кислот это, по-видимому, не столь значимо. Гены обладают определенной функциональной автономностью, поскольку их работа в первую очередь зависит от наличия в клетке транскрипционного фактора, включающего соответствующий ген. А он «найдет», где в хромосоме находится нужный ему ген.
Четвертый критерий касается воспроизводимости экспериментов: «Если речь [в лженаучной теории] идет об эксперименте, о лжефактах, то они не подвергнуты строгой проверке и не могут быть воспроизведены другим исследователем». Как раз с этим у О. Б. Лепешинской было все в порядке. Ее наблюдения над желточными шарами были подтверждены Г. К. Хрущовым, да и скорее всего ленинградскими критиками, раз они не смогли представить в свою защиту экспериментальные доказательства ошибочности утверждений О. Б. Лепешинской о живом веществе. Причина ошибок была связана не с самими наблюдениями, но с их ложной интерпретацией, которая вскрылась позже в результате специального проведенного научного изучения проблемы (см. раздел 1. 10).
Пока говорить о том, что у нас есть надежный инструмент для определения лженаучного характера ложных теорий, не приходится. Давайте посмотрим, чем нам может помочь Википедия. Она дает несколько определений. Вот одно из них: «Псевдонаука (лженаука) – деятельность или учение, представляемые сторонниками как научные, но по сути таковыми не являющиеся». Вот другое определение, взятое из Оксфордского английского словаря: псевдонаука – это «мнимая (притворная, маскирующаяся под науку – pretended) или ложная наука; совокупность убеждений о мире, ошибочно рассматриваемая как основанная на научном методе или как имеющая статус современных научных истин».
На мой взгляд эти два определения являются неоперабельными и очень далеки от научного идеала. Но идеально подходят для политиков. Кто должен решать вопрос о ненаучности того или иного учения? По смыслу получается, что этим делом будут заниматься противники учения. Но они относятся к лжеученым с предубеждением, как к заведомым мошенникам. И сразу возникает вопрос, а не ошибаются ли они. Хуже того, а что если речь идет о попытке ненаучной борьбы со своими коллегами по ученому цеху, используя недозволенные в науке приемы, каким и является обвинение в мошенничестве. Вот А. И. Китайгородский (1973, с. 118) приводит мнение О. Б. Лепешинской, говорившей в своей книге о «реакционном вейсманизме, являющемся основой расизма и прочих изуверских фашистских измышлений». Далее А. И. Китайгородский заключает (с. 118): «Читатель может мне поверить – подобных фраз нет и быть не может в сочинениях настоящего ученого». Можно было бы с этим согласиться, если бы сам автор выдерживал научный стиль и вместо обвинений Лепешинской, Бошьяна и Лысенко в невежестве и мошенничестве спокойно разъяснил читателю, в чем эти советские ученые ошибались. Налицо политика двойных стандартов: одним можно выступать с ненаучными обвинениями других, а этим другим – нельзя, поскольку будет противоречить научной этике.
Если по существу, то почему я должен верить мнению о работе О. Б. Лепешинской физика А. И. Китайгородского (с. 116), сказавшего: «Все мы нисколько не сомневались, что речь идет о неряшливых опытах, выдаваемых за великое открытие». В это «мы», очевидно, не входили профессионалы биологи, которые нашли опыты О. Б. Лепешинской убедительными. А среди них было много выдающихся и уважаемых мной ученых. Из нашего повествования следует, что даже критики О. Б. Лепешинской сомневались не в самих опытах, которые она провела, но в том, как она интерпретировала результаты этих опытов.
Если считать, что А. И. Китайгородский, выражавший мнение определенной группы ученых, прав в своей оценке О. Б. Лепешинской, то данные выше определения однозначно обличают ее как лжеученого. Если же встать на точку зрения советских биологов, выступивших в защиту О. Б. Лепешинской против недобросовестной критики тринадцати, то Ольга Борисовна, согласно этим же определениям, является нормальным советским ученым, ошибки которой имели на тот момент объективный характер. Следуя М. В. Волькенштейну (1975), мы должны сказать, что «такие ошибки не относятся к лженауке».
Аналогичное мнение было высказано советским физиком А. Б. Мигдалом (1982): «Нужно ли считать лженаучными работы, основанные на предположениях, которые, как выясняется потом в результате исследований оказываются неверными? Разумеется, не нужно. Подтверждение предположений – не единственный критерий научной ценности работы. И отрицательный результат дает важную информацию – исключается одна из возможностей». Работа О. Б. Лепешинской является показательным примером данного положения советского физика.
А. Б. Мигдал предложил следующее определение: «Лженаука – это попытка доказать утверждение, пользуясь ненаучными методами, прежде всего выводя заключение из неповторяемого неоднозначного эксперимента или делая предположения, противоречащие хорошо установленным фактам». Это определение в сравнении с вышеприведенными дает хороший критерий для отграничения науки от лженауки. Работа О. Б. Лепешинской с точки зрения данного определения является научной. В то же время оценка ее работы, данная А. И. Китайгородским (1973), равно как и его оценка работ Г. М. Бошьяна и Т. Д. Лысенко не является научной. Следовательно, главу «Лжебиология» в книге А. И. Китайгородского «Реникса» следует считать лженаучной с точки зрения определения А. Мигдала. В равной мере лженаучными с этих позиций будут две разбираемые здесь книги проф. В. Н. Сойфера (1998, 2002).
Из нашего изложения понятна защищаемая здесь точка зрения. То, что у нас сейчас называют лженаучными теориями, имея в виду работы Т. Д. Лысенко, О. Б. Лепешинской, Г. М. Бошьяна и других авторов, на самом деле являлись натурфилософскими представлениями, не получивших в то время положительного или отрицательного научного разрешения. Является ли натурфилософская книга Лепешинской и аналогичные книги других авторов сугубо феноменом советской науки. Конечно, нет. Мы уже говорили о книге Эндерляйна Bakteriencyclogenie (Enderlein, 1925), которую, ввиду ее натурфилософской направленности, отказалась обсуждать Клинбергер-Нобель (Klienberger-Nobel, 1951, р. 93), но которая через много-много лет пережила свое второе рождение. Это надо понимать так, что натурфилософские идеи, с которыми выступал Эндерляйн, получили некоторое подтверждение в достижениях современной науки.
В этой книге мы рассказали о советских биологах, объявленных бездоказательно лжеучеными. Кем же были эти ученые. Оказывается большинство из них представляло отраслевую науку. Получается, что академическая наука выступала в советское время против отраслевой науки, обвиняя последнюю в поддержке лженаучных воззрений. На чем академическая наука основывала свои обвинения. Об этом сказали 10 ленинградских биологов, которые в 1939 г. пожаловались А. А. Жданову на то, что Лысенко занимает ошибочные, лженаучные позиции в вопросах наследственности. Мы уже говорили об этом. В числе прочего ученые обратили внимание на «несовместимость лысенковских идей с дарвинизмом и международным консенсусом (выделено нами) в генетике» (Кременцов, 1997).
Вот и ответ на недоуменный вопрос С. Э. Шноля (2010) – почему так мало наших имен мы видим в перечне первооткрывателей мировой науки. Причина проста. Все, что не соответствовало западно-европейской науке безжалостно выпалывалось из советской науки. Это в самой академической науке. Но есть отраслевая наука, в которой ученые добивались успеха именно потому, что не оглядывались на западные авторитеты, копируя результаты их работ. И будучи признанными учеными в своей области, они свободно высказывались по разным вопросам науки, не боясь прослыть невеждами. Их уже на так просто было заставить молчать под предлогом того, что они нарушают сложившийся международный консенсус. Приходилось обращаться за помощью в высокие инстанции.
В 1939 г. там знали о призыве Сталина не «быть рабами научных традиций», «иметь смелость решительно их ломать, если они становятся устарелыми, и превращаются в тормоз для движения вперед». Этот призыв Сталина «создавать новые традиции, новые нормы и новые установки» прозвучал как раз годом раньше, в 1938 г. Поэтому высокие инстанции, в отличие от ситуации конца 1920-х гг. – времени борьбы с ламаркистами, не могли приструнить ученых, покусившихся на международный научный консенсус. В результате мы смогли буквально в последние годы перед войной создать оружие победы, а после войны сделать рывок во многих других областях, в том числе выйти первыми в космос.
Научная судьба Лысенко, Лепешинской и других биологов представляет собой наглядный пример трагических последствий борьбы за научный консенсус. Эта борьба, поощряемая, а то и направляемая политиками, обернулась тяжелыми и ненужными потерями как для самих ученых, так и для советской науки в целом. В этом есть доля вины и самих ученых. Почему они так упорно боролись и продолжают бороться за научный консенсус с западной наукой, обрекая тем самым отечественную науку на роль, вечно догоняющей? Поскольку здесь многое замешено на политике, то у меня нет однозначного и удовлетворительного во всех отношениях ответа на этот вопрос. А он является важнейшим для дела нашего успешного научного строительства. В то же время я уверен, что устранить помехи свободному развитию научного творчества по силам нашим ученым.
Список литературы
Агол И. И. 1930а. Витализм, механистический материализм и марксизм. М.: Моск, рабочий. 200 с.
Агол И. И. 19306. Задачи марксистов-ленинцев в биологии // Под знаменем марксизма. № 5. С. 88–111.
Александров В. Я. 1993. Трудные годы советской биологии: Записки современника. СПб.: Наука. 262 с.
Астауров Б. Л. 1971. Homo sapiens et humanus – Человек с большой буквы и эволюционная генетика человечности// Новый мир. № 10. С. 214–224.
Бауер Э. С. 1930. Физические основы в биологии. М.: Изд-во Мособлисполкома. 103 с.
Бауер Э. С. 1936. Теоретическая биология. М.-Л.: Изд-во ВИЭМ. 206 с.
Баур Э. 1913. Введение в экспериментальное изучение наследственности. СПб.: Изд. Бюро по прикладной ботанике. 342 с.
Белокрысенко С. 2014. Жизнь и смерть учёного в СССР. Профессор Михаил Дмитриевич Утёнков (1893–1953). Попытка расследования // Наука и жизнь. № 10. С. 56–61.
Берг Л. С. 1922. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. Пг.: Гос. изд-во. 316 с.
Бойден Ф. 1952. Вирусы и вирусные болезни растений. М.: Иностр. литер. 472 с.
Бошьян Г. М. 1949. О природе вирусов и микробов. М.: Медгиз. 147 с.
Бродский В., Калинникова В. 1988. Открытие состоялось // Наука и жизнь. № 1. С. 111–112.
Вавилов Н. И. 1937. Пути советской селекции // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 11–38.
Вавилов Н. И. 1939. Выступление акад. Н. И. Вавилова // Под знаменем марксизма. № 11. С. 127–145.
Вавилов Ю. Н. 1992. Это не только национальное самоубийство, но и удар в лицо цивилизации. Неизвестное письмо американского ученого в защиту советских генетиков // Вести. РАН. № 6. С. 99–103.
Волькенштейн М. В. 1975 Трактат о лженауке // Химия и жизнь. № 10. С. 72–79.
Гайсинович А. Е., Музрукова Е. Б. 1991. «Учение» О. Б. Лепешинской о живом веществе // Репрессированная наука. Л.: Наука. С. 71–90.
Гайсинович А. Е., Россиянов К. 0. 1989. «Я глубоко убежден, что я прав…», Н. К. Кольцов и лысенковщина // Природа. № 5. С. 86–95.
Гамалея Н. Ф. 1939. Инфекция и иммунитет. М.-Л.: Медгиз, Наркомздрав СССР. 408 с.
Гапон Д. 2015. Фильтрующиеся вирусы. Открытие в гранях времени // Наука и жизнь. № 6. С. 39–50; № 7. С. 30–41.
Гарднер А. Д. 1935. Микробы и ультрамикробы. Биомедгиз. 91 с.
Голубовский М. 2003. Биотерапия рака, «дело КР» и сталинизм // Звезда. № 6. С. 133–149.
Грицман Ю. Я. 1993. Медицинские мифы XX века. М.: Знание. 174 с.
Гришко Н. Н., Делоне Л. Н. 1938. Курс генетики. М.: Сельхозгиз. 376 с.
Гришко Н. Н. 1939. Выступление акад. Н. Н. Гришко // Под знаменем марксизма. № 11. С. 200–208.
Грэхэм Л. Р. 1991. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в СССР. М.: Изд-во политич. литер. 479 с.
Деборин А. М. 1929. Диалектика и естествознание. М.-Л.: Госиздат. 355 с.
Деборин А., Луппол И., Стен Я., Карев Н., Подволоцкий И., Гессен Б., Левин М., Агол И., Левит С., Тележников Ф. 1930. О борьбе на два фронта в философии // Под знаменем марксизма. № 5. С. 239–149.
Дубинин Н. П. 1929. Генетика и неоламаркизм // Естествознание и марксизм. № 4. С. 75–89.
Дубинин Н. П. 1939. Выступление проф. Н. П. Дубинин // Под знаменем марксизма. № 11. С. 181–199.
Дубинин Н. П. 1975. Вечное движение. 2-е изд. М.: Политиздат. 431 с.
Дубинин Н. П. 1983. Что такое человек. М.: Мысль, 334 с.
Дубинин Н. П. 1989. Вечное движение. 3-е изд. М.: Политиздат. 448 с.
Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. 1989. Генетика, поведение, ответственность. О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Политиздат. 351 с.
Дучинский Ф. Неодарвинизм и проблема эволюции человека // Под знаменем марксизма. № 2–3. С. 208–218.
Есаков В. Д., Левина Е. С. 1994. Дело «КР» (Из истории гонений на советскую интеллигенцию) // Историко-политологический журнал «Кентавр». № 2. С. 54–69; № 3. С. 96–118.
Есаков В. Д., Левина Е. С. 2005. Сталинские «суды чести». М.: Наука. 422 с.
Животовский Л. А. 2014. Неизвестный Лысенко. М.: Т-во научн. изданий КМК. 118 с.
Жинкин Л. Н., Михайлов В. П. 1955. «Новая клеточная теория» и ее фактическое обоснование // Усп. соврем, биол. Т. 39. Вып. 2. С. 228–244.
Жуков-Вережников Н. Н. 1936. К вопросу о сущности и значении бактериофага // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Т. 17. Вып. 4. С. 571–579.
Жуков-Вережников Н. Н., Майский И. Н., Калиниченко Л. А. 1955. Еще к вопросу о виде и видообразовании в микробиологии // Успехи современной биологии. Т. 39. Вып. 2. С. 246–252.
Завадовский Б. М. 1937. За перестройку генетической науки // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 163–183.
Завадовский М. М. 1929. Гены и их участие в осуществлении признака // Естествознание и марксизм. № 3. С. 100–143.
Завадовский М. М. 1936а. Генетика, ее достижения и блуждания // Сборник дискуссионных статей по вопросам генетики и селекции. М.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 69–93.
Завадовский М. М. 19366. Против загибов в нападках на генетику // Яровизация. № 6(9). С. 5–24.
Заварзин А. А., Насонов Д. Н., Хлопин Н. Г. 1939. Об одном “направлении” в цитологии // Архив биол. н. Т. 56. Вып. 1. С. 84–96.
Зильбер Л. А. 1952. О симбиозе вирусов и микробов // Усп. соврем, биол. Т. 33. Вып. 1. С. 81–99.
Инге-Вечтомов С. Г. 2003. Матричный принцип в биологии // Экологическая генетика. Т. 4. С. 4–13.
Инге-Вечтомов С. Г., Борхсениус А. С., Задорский С. П. 2004. Белковая наследственность: конформационные матрицы и эпигенетика // Вести. ВОГиС. Т. 8. № 2. С. 60–66.
Калина Г. П. 1949. Изменчивость патогенных микроорганизмов. Киев: Гос. медицинское изд-во УССР. 155 с.
Калина Г. П. 1949. Фильтрующиеся формы бактерий // Тр. ин-та микро-биол. АН СССР. Т. 1. С. 44–62.
Калина Г. П. 1954. Развитие микробных клеток из доклеточного вещества. Киев: Медгиз. 472 с.
Калина Г. П. 1962. Фильтрующиеся формы бактерий // Многотомное руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней. Т. 1. Общая микробиология. М.: Медгиз. С. 432–472.
Калина Г. П., Фихман Б. А. 1952. Образование кристаллов в культурах бактерий // Микробиология. Т. 21. Вып. 5. С. 528–539.
Кант И. 1966. Критика способности суждения // Сочинения в шести томах. М.: Мысль. Т. 5. С. 161–529.
Кацнельсон З. С. 1963. Клеточная теория в ее историческом развитии. Л.: Гос. изд-во мед. литер. 344 с.
Кедров Б. М. 1966. Взаимодействие наук и некоторые философские вопросы биологии // С. И. Алиханян (ред. ). Актуальные вопросы современной генетики. С. 540–563.
Кисловский Д. А. 1937. Выступление доктора с. -х. наук Д. А. Кисловского // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАС-ХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 205–210.
Китайгородский А. И. 1967. Реникса. М.: Молодая гвардия. 240 с.
Китайгородский А. И. 1973. Реникса. М.: Молодая гвардия. 191 с.
Клюева Н. Г., Роскин Г. И. 1946. Биотерапия злокачественных опухолей. М.: Изд. АМН СССР. 224 с.
Кнорре А. Г. 1955. Морфологические особенности элементов желтка куриного яйца // Доклады АН СССР. Т. 103. № 1. С. 149–152.
Козо-Полянский Б. М. 1924. Новый принцип биологии. Очерк теории симбиогенеза. М.-Л. Пучина. 146 с.
Козо-Полянский Б. М. 1925. Диалектика в биологии. Пробный очерк контакта эволюционной теории и материалистической диалектики. Ростов-Дон, Краснодар: Северо-кавказское краевое партийное изд-во «Буревестник». 93 с.
Колбановский В. 1939. Спорные вопросы генетики и селекции (общий обзор совещания) // Под знаменем марксизма. № 11. С. 86–126.
Колотова Т. Ю., Волянский А. Ю., Кучма И. Ю., Дубинина Н. В., Стегний Б. Т., Чайковский Ю. Б., Широбоков В. П., Пономаренко А. Н., Могилевский Л. Я., Божков А. И., Левицкий А. П., Волянский Ю. Л. 2007. Нестабильность генома и эпигенетическое наследование эукариот. Харьков: Око. 288 с.
Колчинский Э. И. 1997. Диалектизация биологии (дискуссии и репрессии в 20-е – начале 30-х гг. ) // Вопр. ист. естествозн. и техн. № 1. С. 39–64.
Колчинский Э. И. 2012. «Культурная революция» в 1929–1932 гг. и первые атаки на школу Н. И. Вавилова // Вавиловский журнал генетики и селекции. Т. 16. № 3. С. 502–539.
Кольцов Н. К. 1934. Возможно ли самозарождение ядра и клетки? // Биол. журнал. Т. 3. № 2. С. 255–260.
Кольцов Н. К. 1936. Организация клетки. М.: Биомедгиз. 652 с.
Кононков П. Ф. 2010. Мой жизненный путь. М.: Луч. 160 с.
Кононков П. Ф. 2013. О развитии биологических и сельскохозяйственных наук в России в советский и постсоветский периоды. М.: Луч. 228 с.
Костырченко Г. В. 2001. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Международные отношения. 784 с.
Коштоянц Х. С. 1942. К 50-летию открытия фильтрующихся вирусов Д. И. Ивановским // Микробиология. Т. 11. Вып. 4. С. 139–148.
Кременцов Н. 1995. Советская наука на пороге холодной войны // In memorian. Сб. памяти Ф. Ф. Перченка. М. – СПб.: Феникс. С. 272–291.
Кременцов Н. Л. 1997. Принцип конкурентного исключения // Э. И. Колчинский (ред. ). На переломе: советская биология в 20-х – 30-х гг. Вып. 1. С. 107–164.
Кремлёв С. 2011. Зачем убили Сталина. М.: Эксмо. 480 с.
Кречмер Э. 1924. Строение тела и характер. М.-Л.: Госиздат. 283 с.
Лавдовский М. Д. 1901. Наши понятия о живой клеточке и ее происхождении // Изв. Военно-мед. акад. Т. 2. № 3. С. 269–294.
Ламарк Ж. -Б. 1935. Философия зоологии. Т. 1. М.-Л.: Биомедгиз. 330 с.
Ламарк Ж. -Б. 1955. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР. 968 с.
Леб Ж. 1926. Организм как целое с физико-химической точки зрения. М.-Л.: Госиздат. 290 с.
Левина Е. С. 2016. Холодная война в советской науке: проблема нравственного выбора // Социальная история отечественной науки: общие проблемы. Электронный ресурс: russcience. euro. ru
Левина Е. С. 1998. Биотерапия в онкологии // Природа. № 10. С. 75–84.
Левина Е. С. 2000. Круцин имеет свою судьбу (Экспериментальная биология в онкологии: история и современность // Вопр. ист. естествозн. и техн. № 1. С. 3–33.
Левит С. Г. 1930. К кризису современной медицины // Под знаменем марксизма. № 5. С. 112–123.
Лепешинская О. Б. 1934. К вопросу о новообразовании клеток в животном организме. 1. Образование клеток и кровяных островов из желточных шаров куриного эмбриона // Биол журнал. Т. 3. № 2. С. 233–254.
Лепешинская О. Б. 1945. Происхождение клеток из живого вещества и роль живого вещества в организме. М., Л.: Изд-во АН СССР. 231 с.
Лепешинская О. Б. 1951. Происхождение клеток из живого вещества. Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве. М.: Издательство «Правда».
Лобашев М. Е. 1967. Генетика. Л.: Изд-во ЛГУ. 544 с.
Лункевич В. В. 1929. Основы жизни. Организм и законы жизни. М.-Л.: Госиздат. 559 с.
Лысенко Т. Д. 1937. За дарвинизм в агробиологической науке // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 39–71.
Лысенко Т. Д. 1939. Выступление акад. Т. Д. Лысенко // Под знаменем марксизма. № 11. С. 146–168.
Лысенко Т. Д. 1946. Естественный отбор и внутривидовая конкуренция // Селекция и семеноводство. № 1–2. С. 151–153.
Лысенко Т. Д. 1946. О кривом зеркале и некоторых антидарвинистах // Агробиология. № 3. С. 151–153.
Лысенко Т. Д. 1948. Агробиология. Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства. М.: Гос. изд-во сельскохоз. литер. 684 с.
Лысенко Т. Д. 1958. Избранные сочинения в двух томах. М.: Сельхозгиз. Т. 1, 484 с. ; Т. 2, 370 с.
Макаров П. В. 1954. Новые принципы клеточной теории и разоблачение реакционной сущности вирховианства. Стенограмма публичной лекции. Л.
Малиновский А. А. 1947. Послесловие переводчика // Э. Шредингер Что такое жизнь с точки зрения физики. С. 129–146.
Маневич Э. Д. 1991. В защиту Н. И. Вавилова // Вопросы истории естествознания и техники. № 2. С. 138–143.
Маргелис Л. 1983. Роль симбиоза в эволюции клетки. М.: Мир. 351 с.
Медников Б. М. 2005. Избранные труды. Организм, геном, язык. М.: Т-во научн. изданий КМК. 452 с.
Мейен С. В. 2007. О статье А. А. Яценко-Хмелевского «Предначертана ли эволюция?» // In memoriam. С. В. Мейен: палеоботаник, эволюционист, мыслитель. М.: ГЕОС. С. 234–243.
Мейстер Г. К. 1934. Критический очерк основных понятий генетики. М. – Л.: Гос. изд. колхозной и совхозной литературы 204 с.
Мейстер Г. К. 1937. Выступление по докладам на IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 406-432.
Мережковский К. С. 1909. Теория двух плазм, как основа симбиогенеза, нового учения о происхождении организмов. Казань: Типогр. Имп. ун-та. 94 с.
Местергази М. М. 1927. Эпигенезис и генетика // Вестник Коммунистической академии. № 19. С. 187–222; 222–230 (прения); 230–233 (заключительное слово).
Местергази М. 1930. Основные проблемы органической эволюции. М.: Госиздат РСФСР. Моек, рабочий. 159 с.
Мигдал А. 1982. Отличима ли истина от лжи? // Наука и жизнь. № 1. С. 60–68.
Митин М. Б. 1939. За передовую советскую генетическую науку // Под знаменем марксизма. № 10. С. 147–176.
Митин М. Б. 1949. За материалистическую биологическую науку. М., Л.: Изд-во АН СССР. 120 с.
Морозов В. К. 1939. Выступление тов. В. К. Морозова // Под знаменем марксизма. № 11. С. 141–145.
Музрукова Е. Б., Чеснова Л. В. 1994. Советская биология в 30-40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы // Репрессированная наука. СПб.: Наука. Вып. 2. С. 158–166.
Муралов А. И. 1937. Вступительное слово // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 5–6.
Муромцев С. Н. 1951. Фильтрующиеся формы микроорганизмов и ультравирусы // Журн. общ. биол. Т. 12. № 3. С. 161–175.
Муромцев С. Н. 1953. Изменчивость микроорганизмов и проблема иммунитета. М.: Сельхозгиз. 259 с.
Мюнтцинг А. 1963. Генетические исследования. М.: ИЛ. 487 с.
Навашин М. С. 1936. Новое о мутациях как факторе эволюции // Под знаменем марксизма. № 6. С. 132–142.
Новогрудский Д. Н. 1933. Невидимые формы видимых бактерий // Микробиология. Т. 2. Вып. 4. С. 528–539.
Ной И. С. 1975. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та. 222 с.
Обухов Л. А. 2004. «Дело» профессоров Клюевой и Роскина и научная интеллигенция Перми // Астафьевские чтения. Пермь. Вып. 2.
Одюруа П. 1936. Ультравирусы болезнетворные и сапрофитные. М.-Л.: ГИЗ. 376 с.
Опарин А. И. 1957. Возникновение жизни на Земле. М.: Изд-во АН СССР. 458 с.
Орехович В. Н. 1950. Рецензия на книгу Бошьяна Г. М. «О природе вирусов и микробов» // Вопр. медицинской химии. Т. 2. С. 238–245.
Орехович В. Н. 1954. Итоги дискуссии по поводу представлений // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунол. № 10. С. 102–107.
Орехович В. Н., Левянт М. И., Левчук-Курохтина Т. П. 1954. Включение меченных аминокислот в белки развивающегося куриного яйца // Биохимия. Т. 19. Вып. 5. С. 610–615.
От редакции. 1936. // Под знаменем марксизма. № 8. С. 169–172.
Паршев А. П. 1999. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается в России. М.: Крымский мост-9Д. 411 с.
Пикетти Т. 2015. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс. 592 с.
Поляков И. М. 1939. Выступление проф. И. М. Полякова // Под знаменем марксизма. № 11. С. 169–180.
Пантелеев П. А. 2015. Полвека в Академии Наук. Воспоминания зоолога. М.: Российская Академия наук. 187 с.
Презент И. И. 1936. О «чистой науке» и «вдумчиво-динамической» ее защите // Яровизация. № 6(9). С. 25–52.
Против… 1931. Против механистического материализма и меньшевиству-ющего идеализма в биологии. М.-Л.: Медгиз. 103 с.
Прудникова Е. А., Чигирин И. И. 2013. Мифология «голодомора». М.: Олма Медиа Групп. 528 с.
Пружинин Б. И. 2005. Псевдонаука сегодня // Вести. РАН. Т. 75. № 2. С. 117–125.
Развязкина Г. М. 1975. Вирусные заболевания злаков. Новосибирск: Наука. 291 с.
Разногласия… 1931. Разногласия на философском фронте. М.-Л.: Государственное социально-политическое издательство. 285 с.
Рапопорт Я. Л. 1988. Дело «КР» // Наука и жизнь. № 1. С. 101–107.
Рапопорт Я. Л. 2003. «Живое вещество» и его конец. Открытие О. Б. Лепешинской и его судьба // Рапопорт Я. Л. На рубеже двух эпох. Дело врачей 1953 г. СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда». С. 257–277.
Раутиан А. С. 1993. 0 природе генотипа и наследственности // Журн. общ. биол. Т. 54. № 2. С. 131–148.
Романовский С. И. 2004. “Притащенная” наука. СПб.: Изд-во СПб. ун-та. 348 с.
Роскин Г. И., Экземплярская Е. 1932. Протозойная инфекция и экспериментальный рак // Журн. микробиол., эпидемиол. и экспер. имму-нобиол. Т. 9. № 3. С. 339–341.
Роскин Г. И. 1955. Желточные шары. К вопросу об их свойствах, строении и методиках исследования // Изв. АН СССР. Серия биол. Т. 103. № 4. С. 112–119.
Седжер R, Райн Ф. 1964. Цитологические и химические основы наследственности. М.: ИЛ. 463 с.
Серебровский А. С. 1929. Опыт качественной характеристики процесса органической эволюции // Естествознание и марксизм. № 2. С. 53–72.
Серебровский А. С. 1930. Ответ Дучинскому // Под знаменем марксизма. № 2–3. С. 219–228.
Серебровский А. С. 1937. Генетика и животноводство // Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. С. 72–113.
Синнот Э., Денн Л. 1934. Курс генетики: Теория и задачи. М.-Л.: Биомед-гиз. 432 с.
Скабичевский А. П. 1953. Проблема возникновения жизни на Земле и теория акад. А. И. Опарина // Вопр. философии. № 2. С. 150–155.
Скворцов-Степанов И. И. 1925. Вступительное слово // Механистическое естествознание и диалектический материализм. Вологда: Северный печатник. 83 с.
Смирнов Е. И. 1989. Медицина и организация здравоохранения (1947–1953). М.: Медицина. 431 с.
Смирнов Е. С. 1929. Проблемы учения о наследственности // Естествознание и марксизм. № 2. С. 73–82.
Совещание… 1951. Совещание по проблеме живого вещества и развития клеток. Стенографический отчет. М.: Изд-во АН СССР. 180 с.
Сойфер В. Н. 1998. Красная биология. Псевдонаука в СССР. М.: Изд-во «Флинта». 262 с.
Сойфер В. Н. 2002. Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР. М.: Изд-во ЧеРо. 1024 с.
Соловьев Ю. И. 1994. Забытая дискуссия о генетике // Вести. РАН. Т. 64. № 1. С. 46–50.
Спорные вопросы… 1937. Спорные вопросы генетики и селекции: работы IV сессии ВАСХНИЛ, 19–27 дек. 1936 г. М.-Л.: Изд-во ВАСХНИЛ. 479 с.
Сталин И. В. 1936 [1929]. К вопросам аграрной политики в СССР (Речь на конференции аграрников-коммунистов 27 декабря 1929 г. ) // Вопросы ленинизма. 10-е изд. Партиздат ЦК ВКП (б). С. 299–317.
Сталин И. В. 1936 [1930]. Политический отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКП (б), представленный И. В. Сталиным 27 июня 1930 года // Вопросы ленинизма. 10-е изд. Партиздат ЦК ВКП (б). С. 345–428.
Сталин И. В. 2004а. Анархизм или социализм? // Избр. соч. в 3-х томах. Т. 1. Киров: Семеко. С. 66–144.
Сталин И. В. 20046. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы // Избр. соч. в 3-х томах. Т. 3. Киров: Семеко. С. 260–274.
Сталин И. В. 2004 в. Академику Т. Д. Лысенко // Избр. соч. в 3-х томах. Т. 3. Киров: Семеко. С. 294.
Столетов В. Н. 1966. Некоторые методологические вопросы генетики // Актуальные вопросы современной генетики. С. 513–537.
Стуков А. П., Якушев С. А. 1953. О белке как носителе жизни // Вопр. философии. № 2. С. 139–149.
Сукнев В. В. 1935. Значение авизуальных форм микробов в эпидемиологии инфекционных заболеваний // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунол. Т. 14. С. 102–107.
Сукнев В. В., Тимаков В. Д. 1937. К вопросу о сущности иммунитета. 1. Выявление авизуальных форм бактерий методом кормилок из лизатов, полученных специфическими сыворотками // Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунол. Т. 19. № 3. С. 411–417.
Токин Б. П. 1931. Доклад Б. Токина и заключительное слово // Против механистического материализма и меныпевиствующего идеализма в биологии. М.-Л.: С. 8–34; 78–85.
Токин Б. П. 1936а. Клетка и организм // Под знаменем марксизма. № 8. С. 116–131.
Токин Б. П. 19366. По поводу выступления Ю. Шакселя и О. Лепешинской о политике и науке (письмо в редакцию) // Под знаменем марксизма. № 8. С. 166–169.
Торбек К. 1929. Деятельность Коммунистической Академии // Вестник Коммунистической Академии. Книга 33(3). С. 269–283.
Утёнков М. Д. 1941. Микрогенерирование. М.: Сов. наука. 152 с.
Фандо Р. А. 2006. Философские дискуссии в отечественной генетике первой половины XX в. // Социокультурные проблемы развития науки и техники: Сб. тр. Вып. 4. М.: ИИЕТ РАН. С. 79–95.
Федоров М. В. 1940. Микробиология. М.: Сельхозгиз. 384 с.
Фет В. 2012. Непрямые истины Линн Маргулис // Природа. № 8. С. 67–71.
Фролов И. Т. 1968. Генетика и диалектика. М.: Наука. 360 с.
Фролов И. Т. 1983. Перспективы человека: Опыт комплексной постановки проблемы, дискуссии, обобщения. М.: Политиздат. 350 с.
Фролов И. Т. 1988. Философия и история генетики – поиски и дискуссии. М.: Наука. 416 с.
Чайковский Ю. В. 1976. Проблема наследования и генетический поиск // Теоретическая и экспериментальная биофизика. Калининград. Вып. 6. С. 148–164.
Чайковский Ю. В. 1980. Многотрудный поиск многоликой истины // Химия и жизнь. № 10. С. 15–20.
Чайковский Ю. В. 2006. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции. М.: Т-во научн. изданий КМК. 712 с.
Чамовиц Д. 2015. Тайные знания растений. Что видят, слышат и помнят цветы и деревья. М.: Центрполиграф. 224 с.
Шаталкин А. И. 2003. Регуляторные гены в развитии и проблема морфо-типа в систематике насекомых. // Чтения памяти Н. А. Холодковско-го. СПб.: ЗИН РАН. Вып. 56(2). 109 с.
Шаталкин А. И. 2004. Высший уровень деления в классификации организмов. 3. Однопленочные (Monodermata) и двупленочные (Dider-mata) организмы // Журн. общ. биол. Т. 64. № 3. С. 195–210.
Шаталкин А. И. 2009а. «Философия зоологии» Жана Батиста Ламарка: взгляд из XXI века. М.: Т-во научн. изданий КМК. 606 с.
Шаталкин А. И. 2012. Таксономия. Основания, принципы и правила. М.: Т-во научн. изданий КМК. 600 с.
Шаталкин А. И. 2015. Реляционные концепции наследственности и борьба вокруг них в XX столетии. М.: Т-во научн. изданий КМК. 433 с.
Шелдрейк Р. 2005. Новая наука о жизни. М.: Рипол Классик. 352 с.
Шепилов Д. Т. 1998. Воспоминания // Вопросы истории. № 5. С. 25.
Шепилов Д. Т. 2001. Непримкнувший. М.: Вагриус. 611 с.
Шишкин А. Ф. 1979. Человеческая природа и нравственность. Историкокритический очерк. М.: Мысль. 272 с.
Шлегель Г. 1987. Общая микробиология. М.: Мир. 566 с.
Шноль С. Э. 1997. Герои и злодеи отечественной науки. М.: Крон-Пресс. 464 с.
Шноль С. Э. 2010. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. Изд. 4-е. М.: Книжный дом «Либроком». 720 с.
Шредингер Э. 1947. Что такое жизнь с точки зрения физики. М.: Иностр. литер. 146 с.
Энгельс Ф. 1952. Анти-Дюринг. М.: Гос. изд-во политич. литер. 376 с.
Энгельс Ф. 1931. Диалектика природы // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 14.
Энгельс Ф. 1934. Диалектика природы. М.: Партиздат. 304 с.
Энгельс Ф. 1961. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. (Диалектика природы). С. 486–499.
Эфроимсон В. П. 1971. Родословная альтруизма // Новый мир. № 10. С. 193–213.
Эфроимсон В. П. 1989. Беседа с В. П. Эфроимсоном // Огонек. № 11. С. 10–12.
Яценко-Хмелевский А. А. 1974. Предначертана ли эволюция? // Природа № 8. С. 58–65.
Anker R, Stroun М. 2012. Circulating nucleic acids and evolution // Expert. Opin. Biol. Ther. Vol. 12. Suppl. 1. P. SI 13-117.
Ball P. 1999. The self-made tapestry. Pattern formation in nature. Oxford: Oxford Univ. Press. 287 p.
Barker D. J. 1995. Fetal origins of coronary heart disease // British Med. J. Vol. 311. P. 171–174.
Belkin M. et al. 1949. Absence of effect of lysed T. cruzi preparations on sarcoma 37 // Cancer Research, Baltimore. Vol. 9. P. 560.
Beloussov L. V., Grabovsky VI. 2006. Morphomechanics: goals, basic experiments and models // Int. J. Dev. Biol. Vol. 50. P. 81–92.
Crews D., McLachlan J. A. 2006. Epigenetics, evolution, endocrine disruption, health, and disease // Endocrinology. Vol. 147. No. 6. Suppl. P. S4-S10.
Dienes L., Weinberger H. J. 1951. The L forms of bacteria // Bacteriological Reviews. Vol. 15. No. 4. P. 245–288.
EnderleinG. 1925 Bakterien-Cyclogenie. Prolegomena zu Untersuchungen iiber Bau, geschlechtliche Fortpflanzung und Entwicklung der Bakterien. Mit 330 Abbildungen. Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 400 S.
Enderlein G. 1981. Bacteria cyclogeny: Prolegomena to a study of the structure, sexual and asexual reproduction and development of bacteria Unknown Binding. Enderlein Enterprises. 245 p.
Frenkiel-Krispin D., Minsky A. 2002. Biocrystallization: a last – resort survival strategy in bacteria // ASM News. Vol. 68. P. 1–9.
Foley D. L., Craig J. M., Morley R., Olsson C. J., Dwyer T., Smith K., Saffery R. 2009. Prospects for epigenetic epidemiology // Am. J. Epidemiol. Vol. 169. No. 4. P. 389–400.
Fontes A. 1910. Bemerkungen fiber die tuberculoese Infection und ihr Virus // Mem. Inst. Oswaldo Cruz. Vol. 2. P. 141–146.
Forgacs G., Newman S. A. 2005. Biological physics of the developing embryo. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 346 p.
GedoelstL. 1901. Микробиология. 4. 1. Ред. Г. Н. Габричевский. М.: Типо-литогр. И. Н. Кушнерев и Ко. 217 с.
Gerstein М. В., Bruce С., Rozowsky J. S., Zheng D., Du J., Korbel J. O., Eman-uelsson O., Zhang Z. D., Weissman S., Snyder M. 2007. What is a gene, post-ENCODE? History and updated definition // Genome Research. Vol. 17. P. 669–681.
Gierer A., Meinhardt H. 1972. A theory of biological pattern formation // Kybemetik. Vol. 12. P. 30–39.
Golgi C. 1923. Intemo alia struttura ed alia biologia dei cosidetti globuli (pi-astrine) dei tuorlo // Mem. R. Inst. Lomb. Sci. Sci., Lett. 22/23.
Grodzinski Z. 1949. Some observations on the formation of yolk in the hen’s egg // Experim. Cell Research. Suppl. 1.
Grodzinski Z. 1951. The yolk spheres of the hen’s egg as osmometers // Biological Reviews. Vol. 26. No. 3. R 253–264.
Gruhzit O. M., Fisken R. A. 1948. Failure of Trypanosoma cruzi lysate in treatment of Brown-Pierce carcinoma of rabbit // Federation Proceedings, Bethesda. Vol. 7. No. 1. P. 271.
Gupta R. S. 1998. Protein phylogenies and signature sequences: a reappraisal of evolutionary relationships among Archaebacteria, Eubacteria, and Eukaryotes // Microbiol. Mol. Biol. Rev. Vol. 62. P. 1435–1491.
Gupta R. S. 2011. Origin of diderm (Gram-negative) bacteria: antibiotic selection pressure rather than endosymbiosis likely led to the evolution of bacterial cells with two membranes // Antonie Van Leeuwenhoek. Vol. 100. No. 2. P. 171–182.
Harold F. M. 2001. The way of the cell: molecules, organisms and the order of life. New York: Oxford Univ. Press. 305 p.
Hauschka T. S 1947. Protozoa and cancer // Moulton F. R. (ed. ). Approaches to tumor chemotherapy. Washington D. C.: American Association for the Advancement of Science. P. 250–257.
Hauschka T. S., Goodwin M. B. 1948. Trypanosoma cruzi Endotoxin (KR) in the treatment of malignant mouse tumors // Science. Vol. 107. P. 600–602.
His W. 1868. Untersuchungen fiber die erste Anlage des Wirbelthierleibes. Leipzig: F. C. W. Vogel. 237 S.
Hogeweg P. 2000. Shapes in the shadow: evolutionary dynamics of morphogenesis // Artificial Life. Vol. 6. P. 85–101.
Hort E. C. 1917. The life-history of bacteria // Brit. Med. J. Vol. 1. P. 571–575.
Hudson PS., Richens R. H. 1946. The new genetics in the Soviet Union. Cambridge (School of Agriculture): W. Heffer & Sons Ltd. 88 p.
Ingber D. E. 2006. Mechanical control of tissue morphogenesis during embry-ological development // Int. J. Dev. Biol. Vol. 50. P. 255–266.
Ingber D. E. 2008. Tensegrity-based mechanosensing from macro to micro // Progress Biophys. Mol. Biol. Vol. 97. P. 163–179.
Jirtle R. L. 2005. ScienceDaily. 27 October 2005.
Klienberger E., 1935. The natural occurrence of pleuropneumonia-like organisms in apparent symbiosis with Streptobacillus moniliformis and other bacteria // J. Path. Bact. Vol. 40. P. 93–105.
Klienberger-Nobel E. 1949. Streptobacillus moniliformis and filtrability of its L-forms // J. Hyg. Vol. 47. P. 393–395.
Klienberger-Nobel E. 1951. Filterable forms of bacteria // Bacteriological Reviews. Vol. 15. No. 2. P 77-103.
Klyuyeva N. G., Roskin G. L. 1963. Biotherapy of malignant tumors. London-Paris: Macmillan. 315 p.
Kozo-Polyansky В. М. 2010. Symbiogenesis: a new principle of evolution. Harvard Univ. Press. 240 p.
Lake J. A., Rivera M. C. 1994. Was the nucleus the first endosymbiont? // Proc. Natnl Acad. Sci. USA. Vol. 91. P. 2880–2881.
Lavdowsky M., Tischutkin N. 1899. Von den Beziehungen der Dotterelemente zu den Keimblatterzellen // Biol. Ztrbl. Bd. 19. S. 287.
Lohnis F. 1921. Studies upon the life cycles of the bacteria // Mem. Nat. Acad. Sci. Vol. 16, second memoir. Washington. P. 1–335.
MacAllister J. D. 2011. Two wrongs // www. geo. umass. edu/…/ <http://www. geo. umass. edu/…/> %20Two%20Wrongs.
Mann C. 1991 Lynn Margulis: Science’s unruly Earth Mother // Science. Vol. 252. P. 378–381.
Markova N., Slavchev G., Michailova L., Jourdanova M. 2010. Survival of Escherichia coli under lethal heat stress by L-form conversion // Int. J. Bioljgical Science. Vol. 6. No. 4. P. 303–315.
Mellon R. R. 1925. Studies in microbic heredity. II. The sexual cycle of B. coli in relation to the origin of variants with special reference to Neisser and Massini’s B. coli-mutabile // J. Bact. Vol. 10. P. 579–588.
Mereshkowsky C. 1910. Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis, einer neuen Lehre von der Entstehung der Organismen // Biologisches Zentralblatt. Bd. 30. S. 278–303, 321–347, 353–367.
Minsky A., Shimoni E., Frenkiel-Krispin D. 2002. Stress, order and survival // Nature Rev. Mol. Cell Biol. Vol. 3. P. 50–60.
Montagnier L., Blanchard A. 1993. Mycoplasmas as cofactors in infection due to the human immunodeficiency virus // Clin. Infect. Dis. Vol. 17. Suppl 1. P. S309-S315.
Mudd S., Mudd E. H. 1946. Medical mission to Moscow // General Magazine and Historical Chronicle. P. 210.
Nathanson S. 1993. Patriotism, Morality, and Peace. Lanham: Rowman & Littlefield. 220 p.
Nelson C. M., Jean R. P., Tan J. L., Liu W. F., Sniadecki N. J., Spector А. А., Chen C. S. 2005. Emergent patterns of growth controlled by multicellular form and mechanics//Proc. Natnl. Acad. Sci. USA. Vol. 102. P. 11594-11599.
Newman S. A. 2012. Physico-genetic determinants in the evolution of development // Science. Vol. 338. P. 217–219.
Newman S. A., Bhat R. 2009. Dynamical patterning modules: a “pattern language” for development and evolution of multicellular form // Int. J. Dev. Biol. Vol. 53. P. 693–705.
Nilsson E., Skinner M. K. 2014. Definition of epigenetic transgenerational inheritance and biological impacts // T. Tollefsbol (ed. ). Transgenerational Epigeneicts: Evidence and Debate. Elsevier Publisher. P. 11–16.
Nixon R. M. 1980. The real war. New York: Warner Books. 341 p.
Pierantoni U. 1951. Per una teoria simbiotica della costituzione cellulare // Scientia. Nr. 12.
Plate L. 1925. Die Abstammungslehre. Tatsachen, Theorien, Einwande und Folgerun-gen in kurzer Darstellung. Jena: Verlag von G. Fischer. 2. Aufl. 172 S.
Roskin G., Ekzemplyarskaya E. 1931. Protozoeninfektion und experimentell-er Krebs. I. Mitteilung // Zeitschrift fur Krebsforschung. Berlin. Bd. 34. S. 628–645.
Sax K. 1944. Soviet biology // Science. Vol. 99. No. 2572. P. 298–299.
Schmalhausen I. I. 1986. Factors of evolution. The theory of stabilizing selection. Chicago: Chicago Univ. Press. 327 p.
Seong K. H., Maekawa N., Ishii S. 2012. Inheritance and memory of stress-induced epigenome change: roles played by the ATF-2 family of transcription factors // Genes to Cells. Vol. 17. P. 249–263.
Skinner M. K. 2008. What is an epigenetic transgenerational phenotype? F3 or F2 // Reprod. Toxicol. Vol. 25. P. 2–6.
Stroun M., Mathon C. C., Stroun J. 1963. Modifications transmitted to the offspring, provoked by heterograft in Solanum melongena 11 Archives des Sciences Geneve. Vol. 16. P. 1–21.
Troland L. T. 1914. The chemical origin and regulation of life // Monist. Vol. 22. P. 92.
Troland L. T. 1917. Biological enigmas and the theory of enzyme action // Am. Naturalist. Vol. 51. P. 321–350.
Turing A. 1952. The chemical basis of morphogenesis // Phil. Trans. Roy. Ser. B. Vol. 237. P. 37–72.
West-Eberhard M. J. 2003. Developmental plasticity and evolution. New York: Oxford Univ. Press. 720 p.
West-Eberhard M. J. 2005. Developmental plasticity and the origin of species differences // Proceedings National Academy of Sciences USA. Vol. 102. Suppl. 1. P. 6543–6549.
Wheeler V. L. 1947. Etiology of scleroderma-a preliminary clinical report // J. Med. Soc. N. J. Vol. 44. No. 7. P. 256–259.
Whittaker R. H. 1959. On the broad classification of organisms // Quart. Rev. Biol. Vol. 34. P. 210–226.
Whittaker R. H. 1969. New concepts of kingdoms of organisms // Science. Vol. 163. P. 150–160.
Wolf S. G., Frenkiel D., Arad T, Finkel S. E., Kolter R., Minsky A. 1999. DNA protection by stress-induced biocrystallization//Nature. Vol. 400. P. 83–85.
Wuerthele-Caspe V, Allen R. M. 1948. Microorganisms associated with neoplasms // N. Y. Microscopial Soc. Bull. Vol. 2. P. 2–31.
Wuerthele-Caspe V, Alexander-Jackson E., Anderson J. A., Hillier J., Allen R. M., Smith L. W. 1950. Cultural properties and pathogenicity of certain microorganisms obtained from various proliferative and neoplastic diseases // Am. J. Med. Sci. Vol. 220. P. 638–646.
Zhebrak A. R. 1945. Soviet Biology // Science. Vol. 102. No. 22649. P. 357–358.
Авторский указатель
Абдерхальден Э. (Abderhalden) 76
Абрикосов А. И. 43–45, 52, 100, 102–105, 107, 133–134, 195
Авакян А. А. 72, 342
Агол И. И. 29, 274, 285–287, 290-291, 294, 299, 300–301, 304, 331, 334
Аксельрод Л. И. 325
Александров В. Я. 46, 51, 54, 64, 72, 100, 102–105, 110, 113, 116, 120, 138, 140, 169, 172
Александров Г. Ф. 106, 114, 125–126, 368
Алиханян С. И. 87, 92–93, 435
Анаксагор 27
Андреев Е. Е. 191, 194
Аничков Н. Н. 54, 71–72, 75, 116, 119
Аристотель 388
Аршавский И. А. 319
Астауров Б. Л. 384, 391, 393–394, 434-435
Барон М. А. 72
Бауман К. Я. 424
Баур Э. (см. Бауэр) 371–372, 397
Бауэр Э. 49, 291
Бедный Д. 320
Белозеров С. 31
Белокрысенко С. 162, 173, 259
Белоусов Л. В. 416
Беляев Д. К. 14, 435
Беляев Н. К. 95
Берг Л. С. 33, 93, 278, 289, 415, 417
Бернет Ф. 149
Бобрицкая А. Ц. 224–227
Богданов Е. А. 263, 265
Богдаренко П. П. 72
Бойден Ф. 39
Болдуин Дж. (Baldwin) 316, 389
Боливар С. 256
Бондаренко П. П. 284
Бошьян Г. М. 3–4, 12–13, 40, 112, 132, 136–173, 188–189, 442-443, 446-447
Брехер Л. (Brecher) 341 Бруно Дж. 27, 32, 65
Бэтсон У. (Bateson) 438
Бючли О. (Biitschli) 36, 38
Вавилов Н. И. 89–90, 231, 269, 277–278, 360, 376, 379, 388–390, 408, 410, 419–420, 422, 425, 427-430
Вавилов Ю. Н. 270
Ваксман З. А. 271–272
Вебер Л. Г. 187, 195, 224–227
Вейсман A. (Weismann) 16–18, 22, 88, 91–93, 306–307, 314, 332, 349, 372, 384
Вермель Ю. М. 278, 284, 294, 296–298
Вест-Эберхард М. (West-Eberhard) 305
Викторов В. Н. 226
Вилер В. (Livingston-Wheeler) 148
Вирхов Р. (Virchow) 42, 123, 376–377
Вознесенский Н. А. 117, 234
Волькенштейн М. В. 163, 441–442, 444, 446-447
Гайсинович А. Е. 35, 43, 105–106, 111, 132–133, 268, 429
Галилей Г. 27, 65, 87–88
Галустьян Ш. Д. 46
Гальперин С. И. 110
Гамалея Н. Ф. 36–37, 39, 154
Гамов Г. А. 271
Гапон Д. 38, 258
Гарднер А. Д. 79, 149, 151, 160
Гарольд Ф. М. (Harold) 341, 380, 413
Гаснер И. Г. (Gassner) 261
Георгиев Г. П. 275
Гербильский Н. А. 46
Гершензон С. М. 435
Герштейн М. (Gerstein) 375
Гинзбург В. Л. 130–131
Гитлер А. 26, 228, 231–232, 244, 280-281
Глезер И. С. 172-173
Глущенко И. Е. 72
Голубовский М. Д. 180, 220–221
Гольджи К. (Golgi) 10, 131
Гопкинс Г. (Hopkins) 181–182, 190
Горбунов Н. П. 269, 410
Грицман Ю. Я. 41, 69, 182–183, 188, 218, 220
Гришко Н. Н. 401–402
Гродзинский (Grodzinski) 129
Грэхэм Л. Р. (Graham) 9, 30, 390–391, 394–395, 436
Гупта Р. (Gupta) 150
Гурвич А. Г. 61, 76, 278
Давенпорт Ч. (Davenport) 270–271
Давыдовский И. В. 71
Даллес А. 189
Даль В. Н. 218
Дарвин Ч. 15, 287, 294, 301, 306, 334, 355, 410
Деборин А. М. 37, 49, 51, 267, 274, 285, 288, 311, 317–322, 324-325, 327, 342-343
Деканозов В. Г. 204, 213
Денн Л. К. (Dunn) 46, 369, 371, 411
Джанелидзе Ю. Ю. 201
Джиртл Р. (Jirtle) 393
Джонсон S. (Johnson) 247–248
Добржанский Ф. Г. 271
Догель В. А. 46
Дриш Г. (Driesch) 440
Дубинин Н. П. 95, 135, 273–276, 350–353, 356, 358–362, 377–378, 386, 391–392, 396, 404–407, 411, 419-422, 424, 431-438
Дучинский Ф. 307–309, 312, 315–318
Жданов А. А. 9, 60, 86, 102, 114, 117, 126, 133, 183–187, 191, 197, 203, 205, 208–209, 226, 234, 237, 344–345, 412, 448
Жданов Ю. А. 13, 60, 69–72, 85–86, 125–126, 133
Жебрак А. Р. 30–32, 51, 58–59, 66, 86–92, 94–97, 125–126, 135, 168, 240–241, 267, 271, 328, 368, 397–398, 411
Жинкин Л. Н. 85, 131
Животовский Л. А. 265
Жуков-Вережников Н. Н. 45, 71, 113, 126, 139, 150, 169
Жуковский П. М. 87
Завадовский Б. М. 95, 109, 231, 278, 284, 293, 295–297, 351–352, 376, 385, 425–426, 432-433
Завадовский М. М. 7, 278, 296, 350, 359–360, 407, 419–420, 422–423, 428, 438
Завадский К. М. 120
Заварзин А. А. 55, 109–110
Зарубин Г. Н. 206–207, 211-214
Збарский Б. И. 188
Зильбер Л. А. 154–156, 158, 201
Ермаков Г. Е. 421–422
Есаков В. Д. 187, 190, 194–195, 212–213, 216, 220, 229–230, 233-234
Иванов В. Г. 143
Иванов М. Ф. 386, 390, 393, 432
Ивановский Д. И. 258
Имшенецкий А. А. 165
Ингбер Д (Ingber) 416
Инге-Вечтомов С. Г. 388
Иоганнсен В. (Johannsen) 337, 397, 401, 438
Иоллос В. (Jollos) 333
Ипатьев В. Н. 271
Калина Г. П. 150, 156, 158, 165–166, 170
Калиниченко Л. А. 169
Каммерер П. 286, 300, 373
Кант И. 78, 346
Капица П. П. 257
Капустин Я. Ф. 117
Карасик В. М. 72, 75
Карпеченко Г. Д. 95, 419
Каутский К. 281
Кафтанов С. В. 41
Кацнельсон З. С. 46, 130
Кедров Б. М. 30, 357, 360
Келлер Б. А. 141, 388–389
Кисловский Д. А. 376
Китайгородский А. И. 10–17, 19–22, 33, 80–81, 86, 142, 446–447
Клинебергер-Нобель Е. (Klienberger-Nobel) 84, 151–152, 167, 447
Клюева Н. Г. 178–189, 195–203, 221–224, 234–240, 441
Ключко П. Ф. 409
Кнорре А. Г. 46, 85
Козлов А. И. 138
Козо-Полянский Б. М. 258, 281–282
Колбановский В. 88, 388
Колчинский Э. И. 5, 110, 280–281, 283–285, 299
Кольцов Н. К. 10–11, 28–30, 55, 78–80, 95, 123–125, 127, 132, 170, 268–269, 272–273, 277–278, 286, 297–298, 342, 366–367, 419, 422, 424-426, 429–431, 433–434, 445
Комаров В. Л. 434
Комиссарук Д. С. 44, 101
Кононков П. Ф. 66
Костов Дончо 410
Костырченко Г. В. 215
Коштоянц Х. С. 258, 431, 436
Краевский Н. А. 100
Красильников Н. Н. 150
Кременцов Н. Л. 192, 199, 215, 238–239, 344, 448
Кремлёв С. 187, 190, 217–219
Кремянский В. И. 72
Кренке Н. П. 356
Крестовникова В. А. 150, 165
Кречмер Э. 396
Кроткое Ф. Г. 172
Крупская Н. К. 43
Кузин Б. С. 278
Кузнецов А. А. 117
Кузнецов А. Я. 213
Лавдовский М. Д. 127–128
Лаврентьев Б. И. 50
Лавров К. А. 72
Ламарк Ж. -Б. (Lamarck) 6, 16, 18, 77, 294, 299, 301, 304, 317, 334–337, 349, 352, 372, 399–400, 402
Ландсберг Г. С. 10
Леб Ж. 373
Левин М. Л. 274, 278, 285, 291–294, 296, 300, 320–321, 327
Левина Е. С. 180–181, 187, 190, 193–196, 212–213, 216, 220, 229–230, 233-234
Левит С. Г. 28, 30, 274, 285, 289–291, 294, 300, 329, 331–332, 334-335
Левитский Г. А. 95, 419
Ледерберг Дж. (Lederberg) 68
Ленин В. Н. 43, 141, 244, 274, 285, 292, 300, 322, 324–325, 365, 439-440
Леонов Н. И. 137–139, 142, 166 Леонтьев В. В. 271
Лепешинская О. Б. 3–4, 10–13, 35–37, 41, 43–62, 68–77, 79, 82–85, 99-135, 139, 141, 144–145, 168–170, 172, 189, 377, 444–448
Лепешинский П. Н. 43
Лесли Р. (Leslie) 168–172
Ллойд Морган К. (Lloyd Morgan) 316
Лобашев М. Е. 437 Лопашов Г. В. 276
Лотси Я. П. (Lotsy) 300 Луначарский А. В. 304
Лункевич В. В. 17
Лысенко Д. Н. 260
Лысенко Т. Д. 3–9, 13–14, 19–22, 30, 32–35, 41, 58–60, 66, 69, 71, 77, 80–81, 86, 88, 90, 92–98, 107, 109–110, 113, 121, 126, 133, 135, 139–141, 143–144, 168–172, 178, 189, 241, 259–268, 270–273, 328, 330, 336–337, 342–349, 352–353, 355–362, 368, 376–380, 382–383, 385–386, 388–392, 395–396, 400–406, 408–410, 419–429, 443, 446–448
Любищев А. А. 15, 93, 278
Мадд С. (Mudd) 222
Майский И. М. 45, 71, 113, 126
Макаренко А. С. 218
Макаров П. В. 37, 46, 54, 110
Максимов А. А. 321
Маленков Г. М. 90, 226, 271
Малиновский А. А. 80
Мандельштам Л. И. 201
Маневич Э. Д. 277
Маргулис Л. (Маргелис, Margulis) 38, 154, 258
Маркс К. 30, 177, 229, 251–255, 277, 282, 285, 292, 300
Махайский Я. 362
Медников Б. М. 386
Мейен С. В. 15, 93
Мейстер Г. К. 89, 95, 277, 397–399, 411, 420-421
Мёллер Г. Д. (Muller) 80, 270, 410, 419, 422
Мендель Г. (Mendel) 88, 91, 266, 377, 379, 405
Меняйлов А. А. 255
Мережковский К. С. 258
Местергази М. М. 299, 317, 331, 333–335, 337-340, 390
Мечников И. И. 278
Мигдал А. Б. 447
Милютин В. П. 322–323
Митерев Г. А. 180–181, 184-185, 195, 201, 206–214, 226
Митин М. Б. 51, 90–91, 323–324, 342-343, 345, 353, 361–371
Михайлов В. П. 46, 85, 131
Мичурин И. В. 18, 330, 346–347, 353, 355–356, 358–359, 385–386, 405, 410, 432
Молотов В. М. 106, 180, 184, 190, 204–205, 207, 209, 212–216
Монтаньер Л. (Montagnier) 153–154
Морган Т. (Morgan) 91, 93, 356, 381-382
Морозов В. К. 408–409 Мосадцык М. 189
Муралов А. И. 89, 272–273, 421, 424, 429
Муромцев С. Н. 150, 153–155, 157, 161–162, 172
Мусийко А. С. 409
Мюнтцинг А. 354
Навашин М. С. 124
Насонов Д. Н. 46, 55, 61, 69–71, 85, 109–110, 113–114, 116, 133
Натансон С. (Nathanson) 247
Невядомский М. М. 59, 72, 172
Неговский В. А. 72
Нейман Б. 187
Нейфах А. А. 434
Несмеянов А. Н. 65
Николай II 252
Никсон Р. (Nixon) 6, 382
Ной И. С. 383–385, 435–436
Нуждин Н. И. 72
Обухов Л. А. 180
Одюруа П. 39–40, 160
Опарин А. И. 35, 71, 77–78, 108
Орбели Л. А. 108–109, 135
Орехович В. Н. 129, 140–141, 145–148, 172–173, 443
Осборн Г. (Osborn) 316
Ошанин Л. И. 243
Павленко А. С. 205, 208, 210
Павлов И. П. 145, 148, 278
Павловский Е. Н. 69, 71, 116, 123
Пантелеев П. А. 13–14, 431-432
Парин В. В. 180–181, 190, 192, 199–206, 208–212, 214-117, 220
Паршев А. П. 90
Пахмутова А. Н. 243
Пеннет Р. (Punnett) 438
Перова С. С. 143, 326
Петров Б. Д. 205, 208, 210, 226
Петров Ф. Н. 105
Пиерантони У. (Pierantoni) 131
Пикетти Т. 252–253
Питт У. (Pitt) 247–248, 251
Плате Л. (Plate) 29, 304, 398
Платонов Г. В. 354–355
Плеханов Г. В. 308
Подцероб Б. Ф. 207, 216
Покровский М. Н. 274, 299
Поляков И. М. 87, 231, 406–407
Полянский Ю. И. 46, 113
Полынин В. В. 434
Попков П. С. 117
Презент И. И. 92, 299, 352, 362, 408, 419–420, 423
Приоров Н. Н. 208–209
Прудникова Е. А. 427
Пружинин Б. И. 441
Пупко С. Л. 72
Развязкина Г. М. 260, 347
Ральцевич В. Н. 323–324, 342–343
Рапопорт И. А. 94
Рапопорт Я. Л. 42–45, 52–54, 58–59, 61–63, 69–72, 85, 100–101, 115, 117, 119–121, 179, 183, 185, 188, 215, 220
Раутиан А. С. 375
Родионов М. И. 116
Романовский С. И. 64, 270–271, 275-276
Роскин Г. И. 85, 115–116, 122, 127–132, 178–187, 189, 195–203, 221-224, 234–240, 441, 444
Рузвельт Ф. 181
Румянцев А. В. 105
Руфанов И. Г. 182
Рыжков В. Л. 72
Сабинин Д. А. 94–95
Сакс К. (Sachs) 348
Саммерс Л. (Summers) 258
Сапегин А. А. 410
Cарабьянов В. Н. 324
Сахаров П. П. 263, 265
Светлов П. Г. 46
Северин С. Е. 64–65, 67, 71–72, 116
Семенов Н. Н. 13–14
Серебровский А. С. 89, 263, 274, 278, 292–293, 296, 300, 303–304, 306–321, 327, 330, 360, 419–420, 422-423
Сеченов И. М. 42
Сикорский И. И. 271
Симпсон Дж. (Simpson) 314
Сисакян Н. М. 72
Скабичевский А. П. 77
Скворцов-Степанов И. И. 303, 320, 324
Слепков В. Н. 285
Смирнов Е. И. 138, 219, 284
Смирнов Е. С. 278, 293–297, 300, 302–303, 333–334, 338–339, 341, 347, 350, 381, 386
Смит У. Б. (Smith) 185–186, 189, 192, 215–216, 221–223, 241
Сойфер В. Н. 3–4, 35, 59, 61, 64–68, 70–71, 76–77, 85–87, 122, 131, 140–142, 148, 155, 165, 424, 447
Соколовский В. Д. 190
Cократ 27
Соловьев Ю. И. 269
Сонин А. С. 271
Сперанский А. Д. 71, 116
Сталин И. В. 9, 27, 32, 34, 62, 75, 83, 89–90, 106, 111–113, 137, 139, 140, 171–172, 181–182, 185–186, 195, 197, 200, 210, 213, 215, 219–220, 229–230, 235, 253, 255, 266–268, 280–281, 299, 321–322, 324–330, 366, 426-427, 448
Стенли М. (Stanley) 12, 258
Степин В. С. 9, 30, 33
Столетов В. Н. 353–354
Студитский А. Н. 72, 139–140
Cтуков А. П. 77
Стэн Я. 324
Сукнев В. В. 150
Cурков А. А. 31
Суслов М. А. 126, 276
Твардовский А. Т. 31
Тимаков В. Д. 72, 120, 150, 172
Тимирязев К. А. 307, 377, 410
Токин Б. П. 46, 48–51, 55, 101, ПО, 113–114, 133, 274, 283–284, 294–298, 300, 302, 342, 440
Троланд Л. (Troland) 80
Троцкий Л. Д. 255
Турбин Н. В. 355
Тьюринг A. (Turing) 414
Уиттекер Р. Х. (Whittaker) 75
Уоддингтон К. (Waddington) 305, 315, 337
Утёнков М. Д. 40, 150, 161–163, 172–177, 259
Фаминцын А. С. 335
Фандо Р. А. 342
Федоров М. В. 78, 154
Ферворн М. 376
Фет В. Я. 258
Филатов М. В. 196, 240
Филби Г. К. (Philby) 190
Филипченко Ю. А. 278, 282, 397
Финкельштейн Е. А. 285
Финн Э. 190, 192, 199
Фиш Г. С. 31
Фролов И. Т. 30, 349–352, 354–357, 378, 382–383, 391, 397
Хаушка Т. (Hauschka) 195–196, 222
Хенниг В. (Hennig) 22
Холдейн Д. (Haldane) 22, 80
Холодковский Н. А. 335
Хлопин Н. Г. 46, 55, 61, 113–114, 133
Хрущев Н. С. 8, 25–26, 171, 229
Хрущов Г. К. 71–73, 111, 116, 135, 433, 445
Цицин Н. В. 419
Чайковский Ю. В. 11, 305, 319, 336, 400
Чамовиц Д. 259–261, 265-266
Черепанов А. И. 14
Черненко К. У. 394-396
Чумаков М. П. 172
Шаксель Ю. Ю. 49
Шапиро С. 173, 259
Шапошников В. Н. 159–160, 165
Шверник Н. М. 227
Шелдрейк Р. 82
Шепилов Д. Т. 8–9, 97, 99, 170–171
Шишкин А. Ф. 397
Шкорбатов В. Н. 172–173
Шлегель Г. 38, 40
Шлыков Г. Н. 342, 362
Шмальгаузен И. И. 113, 291, 305, 313, 315, 403
Шмидт О. Ю. 434
Шноль С. Э. 23–25, 27-31, 59, 64–67, 72, 86–88, 99, 159, 164, 180–181, 187, 242–243, 245, 248, 256, 268–269, 271–273, 277, 279, 285, 419, 424, 426, 429–431, 436, 448
Шредингер Э. 11, 80–81
Энгельгардт В. А. 65
Энгельс Ф. 11, 37, 47–49, 51, 77–78, 83–84, 285, 288, 292–295, 300, 303–304, 306–312, 317–321, 326–327, 343
Эндерляйн Г. (Enderlein) 84, 164, 173–177, 447
д’Эрелль Ф. (D’Herelle) 78–80, 160
Эфроимсон В. П. 30, 139, 275–276, 385, 391, 394, 396–397, 411, 434–435, 437
Юдин П. Ф. 342–343
Яковлев Я. А. 424, 429
Ярославский Е. 324–325
Яценко-Хмелевский А. А. 15, 93