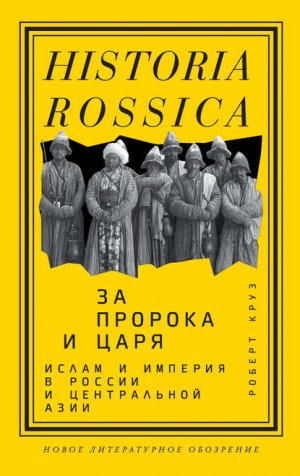
БЛАГОДАРНОСТИ
Эта книга была бы невозможной без квалифицированного содействия архивистов Российского государственного исторического архива, Российского государственного военно-исторического архива, Государственного архива Оренбургской области, Архива внешней политики Российской империи, Национального архива Республики Татарстан, Центрального государственного исторического архива Республики Башкортостан и Центрального государственного исторического архива Республики Узбекистан. Всегда оказывали помощь библиотекари в Принстонском университете, Колумбийском университете, Нью-Йоркской публичной библиотеке, Вильсоновском центре, Библиотеке Конгресса, Калифорнийском университете в Беркли, Американском университете, Стэнфордском университете, Индианском университете, Британской библиотеке, Государственной библиотеке в Берлине, а также в библиотеках России и Узбекистана.
Мне необычайно повезло начать эту книгу как диссертацию в Принстонском университете, где мои соученики и преподаватели создали восхитительную атмосферу. Я приношу особую благодарность Лоре Энгельстин и Стивену Коткину, которые вложили свои несравненные интеллектуальные дарования, энергию, знания и великодушие в бесчисленные способы сотрудничества со мной. Они были много больше, чем консультантами по диссертации. В аудитории они делились своими огромными познаниями в исторической науке и убедительно излагали виртуозные интерпретативные схемы, сформировавшие мое представление о России. Стив всегда ставил правильные вопросы, проверял альтернативы, предлагал новые подходы, давал ценные советы и поощрял – особенно на последних этапах работы, когда поделился ключевыми идеями. Лора поддерживала эту работу от начала до конца и сделала много больше, чем полагалось любому консультанту. Она терпеливо читала и редактировала черновик за черновиком, указывала мне новые направления, спасала от множества ошибок и без устали работала с моими идеями. Ее уверенность в успехе этого проекта многое для меня значила.
Я счастлив поблагодарить Скотта Леви, Ричарда Уортмана, Юрия Слёзкина, Леопольда Хеймсона, Марка Мазовера, Дональда Рейли, Дэвида Гриффитса, Марка фон Хаген, Васа Михайловича, Э. Уиллиса Брукса, Роберта Крамми, Джойс Зельцер, и Венди Нельсон.
За очень вдумчивый перевод этой книги я благодарю Роберта Ибатуллина.
Люди были одной религиозной общиной, и Аллах ниспослал пророков вестниками и увещевателями и ниспослал вместе с ними Писание истинное, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись. А разошлись насчет [религии] только те, которым было даровано Писание, после того как к ним явились ясные знамения, будучи несправедливы друг к другу. И Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, по поводу которой они разошлись по Его дозволению. Аллах ведет того, кого пожелает, к прямому пути.
Коран 2: 213 (перевод М.-Н. Османова)
Мы, нижеименованные, обещаемся и клянемся всемогущим богом и великим пророком Мухаммедом пред четырьми его справедливейшими книгами, инджиль, теврад, зебур и коран, в том, что хощем и должны служить так, как верноподданные, е. и. в. всероссийскому… В заключение сей нашей клятвы целуем коран пророка нашего Мухаммеда. Аминь.
Присяга мусульман Российской империи, 1809
ВВЕДЕНИЕ
Символы православия долгое время определяли собой ландшафт современной России. В Российской империи православные цари провозглашали, что их самодержавное правление благословенно Богом. Золотые купола православных соборов озаряли Москву и сияли над селами всей обширной империи. Под православными иконами и хоругвями подданные клялись в верности царям и «святой Руси». Но за этой мифологией святой земли, единой в православии, скрывалась более сложная реальность и вечная дилемма для российских элит: не все обитатели империи были православными христианами. Цари правили также евреями, католиками, протестантами, буддистами и др. Начиная с XV в. экспансия Москвы на восток приводила под власть православных царей мусульман. К ХХ в. империя стала родиной примерно для 20 миллионов мусульман, составлявших самую большую группу неправославных (15% всего населения). Минареты тысяч мечетей от Санкт-Петербурга до Центральной Азии стояли в блеске православных церквей. Россия – единственная из немусульманских стран Нового времени, правившая мусульманами на протяжении более пятисот лет.
Стержень царской системы управления исламом и другими неправославными религиями был выкован европейским Просвещением. Начиная с Екатерины Великой (годы правления 1762–1796) империя создавала для своих подданных структуру взаимоотношений с самодержавием, основанную на религии. Екатерина пришла к выводу, что религиозный авторитет во всех его разнообразных формах может принести империи пользу. Императрица и ее преемники не пытались навязать религиозное единообразие своим подданным-неединоверцам, а выработали политику веротерпимости, чтобы такие религии, как ислам, стали фундаментальными структурными блоками империи. Они стремились превратить религиозный авторитет в каждой общине в инструмент имперского правления. Для миллионов царских подданных государство не только проявляло терпимость к другим религиям – оно представляло себя защитником определенных форм ислама, иудаизма, буддизма, протестантизма и др. Конфессиональная политика содействовала своего рода гражданскому участию в делах государства, признававшего только подданных, а не граждан. Царский режим конкурировал за лояльность подданных, особенно тех, у кого имелись единоверцы за пределами прозрачных границ империи. Мусульман, евреев и других неправославных побуждали связывать свои надежды и чаяния с монархией и ее институтами.
Мусульмане были отдельной проблемой для этого имперского проекта. Католики, протестанты, евреи и мусульмане жили в соседних странах, но, в отличие от евреев, не имевших на своей стороне никаких иностранных королей и армий, российские мусульмане могли обращать взоры к османскому султану, который клялся защищать верующих на своих границах. В начале ХХ в. Николай II (годы правления 1894–1917) столкнулся с конкуренцией со стороны не только османов, но и немцев и японцев, старавшихся подорвать мощь империй-соперниц с мусульманским населением, также обещая защищать ислам.
Проводя политику веротерпимости, царское правительство пыталось не только закрыть границы империи, но и распространить собственное влияние на местных мусульман. Суды и административные учреждения глубоко проникали в мусульманские общины, потому что решали внутренние споры между мечетями, синагогами, церквями и храмами. Миллионы мусульман всех слоев общества активно участвовали в этой религиозной политике. Многие из них находили общий язык с режимом, который, как казалось, поддерживал их понимание истинного смысла религии. Мусульмане в конце концов признали империю «Домом ислама» (дар аль-ислам), местом, где они могли легально исполнять свой религиозный долг. По ходу дела они стали принципиально важными посредниками, благодаря чему политические, судебные и административные органы империи со сравнительно низкими затратами расширялись территориально и управляли значительной частью Евразии. Эта книга рассказывает, как Россия стала мусульманской державой – и как правительство сделало ислам столпом имперского общества, превратив мусульман в активных участников повседневной работы самодержавной власти, строительства и поддержания империи на местах.
История становления российского «Дома ислама» и религиозного фундамента российской истории находилась в тени давней исторической традиции, которая сосредоточивалась на якобы вечном конфликте между христианством и исламом и между Европой и Востоком. Насилие играет одну из главных ролей в подобных нарративах. Чеченские войны России, как и многие другие после распада Югославии, постоянно связывают с образами религиозного насилия, в Европе отошедшего в далекое прошлое. Они напоминают мятежи эпохи Реформации, когда католики и протестанты стремились очистить свои ряды от «скверны», уничтожая своих врагов-«еретиков» и оскверняя их священные символы1. Большинство западноевропейцев за пределами Северной Ирландии ныне воспринимают эту враждебность как анахронизм. Но, обратившись к европейским фронтирам – Балканам и Кавказу, наблюдатели приходят к иным выводам. С точки зрения многих политиков, журналистов и ученых, вспышка войн между христианами и мусульманами в 1990‐е гг. была предсказуемым возвратом к естественному состоянию конфликта между этими религиозными традициями после искусственного перерыва при социализме. Согласно одной из часто повторяющихся формулировок, эти войны были свидетельством «столкновения цивилизаций», питаемого вековой ненавистью.
Стандартные рассказы о прошлом России давали плодородную почву для такого образа мышления. Средневековое Московское государство выросло из зависимости от мусульманских правителей Золотой Орды. К середине XVI в. Московскому государству удалось подчинить своих бывших властителей. Чудотворные иконы помогали московитам в их борьбе против «неверных», и они отпраздновали этот переворот как победу православия над исламом, чудо, увековеченное постройкой собора Василия Блаженного на Красной площади – и разрушением мечетей на вновь завоеванных территориях вдоль Волги. По мере экспансии в XVII–XVIII вв. государство сталкивалось с сопротивлением мусульманского населения на восточных и южных рубежах. В XIX в., как нам часто напоминают, российские войска вели тяжелую войну за господство на Кавказе. В 1820–1860‐х гг. сообщества горцев ответили на нее джихадом. Завоевание царями Центральной Азии во второй половине века принесло империи престиж, но с ним и бремя абсорбции многолюдного мусульманского населения на отдаленных границах с Китаем и Британской Индией (см. карту 1). К началу ХХ в. в империи Романовых жило больше мусульман, чем под властью османского султана. В каждой фазе экспансии Россия рисковала конфронтацией с османами. В одиннадцати больших войнах с конца XVII по начало ХХ в. и православный царь, и мусульманский султан были вынуждены бороться против вражеских единоверцев внутри своих границ.
Историки позднейших периодов русской истории укрепили это представление о почти постоянном антагонизме между российским государством и исламом. Согласно большинству рассказов, мусульмане оказались ни много ни мало угрозой советскому режиму, принявшему сложное наследство Российской империи2. Мусульмане на Кавказе и в Центральной Азии продолжали сражаться с новой властью и после того, как оппозиция была уничтожена во всех остальных местах. Советское государство, вооруженное идеологией воинствующего атеизма, организовало антирелигиозные кампании, в которых уничтожило исламские институты и кадры. Когда гитлеровские армии наступали вдоль южных границ Советского Союза, они обнаружили, что мусульманские добровольцы, наряду с другими, готовы присоединиться к антисоветским силам. Сталинская депортация чеченцев и их соседей-мусульман послужила свидетельством тому, что власть еще сомневалась в лояльности народов, долгое время сопротивлявшихся царскому и затем советскому правлению.
Во время холодной войны западные наблюдатели считали ислам ахиллесовой пятой советской системы – не только потому, что религия, как казалось, предохраняла мусульман от коммунистической идеологии, но и потому, что у мусульман была самая высокая рождаемость в советском обществе. Эксперты предсказывали, что в результате этого демографического давления в будущем большинство призывников в Советскую армию станут мусульманами. В 1980‐х гг. победа моджахедов над советскими войсками в Афганистане произвела глубокое впечатление на Восточный блок и на Запад, а также на его воинов-союзников из нарождавшихся джихадистских кругов. Их успех указал на возможность того, что революция под зеленым знаменем ислама сокрушит красную империю3.
Мусульмане не сыграли предсказывавшейся многими на Западе революционной роли в коллапсе СССР в 1991 г., но это не полностью свело на нет ощущение угрозы. Постсоветские элиты от Москвы до Ташкента по-прежнему воспринимали ислам как первейшую угрозу стабильности этих новых государств. Они указывали на опасность, исходящую от иностранных мусульман по ту сторону неустойчивых границ с Турцией, Ираном, Афганистаном, Пакистаном и Китаем. Движение «Талибан», казалось, подтвердило тревоги этих элит относительно ислама как агрессивной идеологической силы. Более того, недавние события усилили страх перед их собственными мусульманскими гражданами. Чеченские террористы обратили борьбу против гражданских целей, таких как театры и рок-концерты в российских городах, тогда как оппозиционные группы в Центральной Азии ушли в глубокое подполье, агитируя против диктаторских режимов во имя самых разных вещей – от свободы совести и демократических выборов до создания единого исламского государства для мусульман этого региона4.
В то же время крушение советской империи породило парадокс, оставшийся почти незамеченным. С одной стороны, оно высвободило различные формы насилия, которые старались объяснить и даже представить нормальными модели цивилизационного конфликта. С другой стороны, оно дало возможность поставить под вопрос то понимание прошлого, на котором основана такая интерпретация. Открытие архивов и библиотек и расширившиеся возможности интеллектуального обмена позволили ученым исследовать связанные с исламом темы, табуированные при советской власти.
При написании этой книги использовались многие из вновь появившихся источников для пересмотра истории взаимодействия России с исламом. В других рассказах о российско-исламских отношениях подчеркивается конфронтация, как в Чечне, тогда как в предлагаемой читателю работе исследуются исторические поиски альтернатив этому насилию в царской империи с конца XVIII по начало ХХ в. Я стремлюсь показать, что история ислама в Российской империи служит ключом к пониманию одного из важнейших вопросов интерпретации истории России и в более широком плане – истории империй. Историки долгое время занимались объяснением революций 1917 г. и оценкой легитимности большевистского режима, но лишь недавно начали изучать то, как царской империи удалось продержаться так долго и сохранять относительную стабильность вопреки невероятной неоднородности населения империи, обширности ее территории и, на первый взгляд, слабому и неупорядоченному характеру управления. Недавние исследования подчеркнули существенную роль самодержавия. Как показал Ричард Уортман, династия Романовых действовала как динамичная и адаптивная сила5. Другие историки подчеркивали опору режима на полиэтничную элиту, занявшую ключевые правительственные позиции в центре и правившую от его имени в пограничных землях6. Ученые также отмечали, что эта элита была многоконфессиональной и что ее религиозное разнообразие иногда вызывало трения между православной церковью и государством, а также между православными и теми, кто не исповедовал господствующую религию.
Надо сказать, что историки не исследовали постоянных усилий царского режима основать имперскую власть на религии. Династия Романовых на протяжении трехсот лет своего правления (1613–1917) опиралась на православные символы. Однако с начала XVIII в. империя стала домом для значительного числа католиков, протестантов, евреев, буддистов, мусульман и приверженцев различных местных верований. Современные ученые склонны концептуализировать это разнообразие в терминах этнических или национальных групп, но царские элиты смотрели на разнообразные народы империи сквозь призму религиозной принадлежности. В этой книге я стараюсь реконструировать отношение современников – как мусульман, так и их правителей – к политике в сфере религии, служившей фундаментом империи. Приверженность государства царей к правлению посредством религиозных практик и институтов и управления ортодоксией – конфессионализация населения империи – позволяла государству управлять, реже применяя насилие и добиваясь консенсуса чаще, чем ранее представляли историки. Для обеих сторон религия занимала центральное место в работе по созданию общего морального универсума. Конечно, играли свою роль социальный капитал и ранг, и в последние годы империи некоторые представители элиты придавали все больше важности категории «национальности». Историки России, как и других империй, обращали внимание на подъем национализма как ключ к пониманию развала империи7. Они старались проследить истоки национальных движений, которые в конце концов победили в Европе после Первой мировой войны и краха империй Романовых, Габсбургов и Османов, и были склонны преувеличивать привлекательность национальных символов и секуляризацию российского имперского общества до 1917 г.; исследователи пренебрегали тем, что интегративная конфессиональная политика, служившая modus operandi для царского режима, сохраняла жизнеспособность. С точки зрения российского государства казалось, что религия дает более фундаментальную основу для лояльности – и для дисциплины. Имперские законы обязывали каждого подданного принадлежать к какой-либо конфессиональной группе и, что не менее важно, подчиняться авторитету духовного сословия каждой конфессии. Согласно этой модели, религиозный конформизм усиливал уважение к порядку. Он регламентировал семью и обусловливал подчинение светским властям. Верно было и обратное. Нонконформизм и гетеродоксия выглядели угрозами существующей власти. Отступление от канонических норм, ритуалов и доктрин какой-либо из терпимых религий бросало вызов имперскому порядку. Память о расколе православной церкви в XVII в. и о восстаниях, спровоцированных религиозными диссидентами, заставляла большинство царских чиновников твердо стоять на стороне «ортодоксии» каждой конфессии, даже считая эти религии ниже православия.
Первоначально многие мусульмане, как и члены других общин, боролись против царского завоевания, но после упрочения российского правления ему сопротивлялись лишь сравнительно немногие, в связи с чем наш рассказ – не романтическая история гонений и сопротивления, не о том, как мусульмане якобы жили в отдельном мире, изолированные в своих общинах, индифферентные или враждебные к окружающей империи. Некоторые мусульмане проповедовали, что нужно избегать всего российского. Но это все труднее и труднее было осуществить на практике, поскольку имперские институты все глубже проникали в местные сообщества. Избегать контактов с государством и его чиновниками оказалось так трудно для этих мусульман именно потому, что слишком многие их единоверцы обращались к режиму за помощью в наведении порядка в их сообществах. К кому было обращаться благочестивым мусульманам, когда их соседи отказывались посещать молитвы в мечети, пили алкоголь или с ошибками исполняли суфийские мистические ритуалы? Сами мусульмане взывали к государственному вмешательству в дискуссиях с другими мусульманами. Как мы увидим, мусульмане нуждались в царской власти, чтобы жить согласно Божиему плану, как они понимали его.
Царская империя, конечно, родилась в завоевательных войнах. Однако после окончания сражений правителям и управляемым приходилось договариваться о неких условиях мира. Редко случалось, чтобы каждая сторона желала возобновления вражды. С конца XVIII в. поиски гражданского мира на территории Российской империи строились вокруг своеобразного режима веротерпимости. Хотя православная церковь сохраняла обширные привилегии, мусульмане, католики, протестанты, евреи и буддисты получили официальное признание своих религий. Веротерпимость первоначально служила стратегией успокоения страстей, возбуждавших приверженцев гонимых вер на борьбу против режима, но стала чем-то гораздо бóльшим, чем политика невмешательства, как этот термин обычно понимают сегодня. В Европе XVIII–XIX вв. это понималось по-иному. В России веротерпимость служила структурой для интеграции неправославных подданных, количество которых по мере экспансии империи постоянно росло. Эта модель основывалась на разработанной мыслителями Просвещения всех стран Европы идее о том, что все религии обладают некоторыми общими чертами. Терпимые религии – по сути, развитые системы дисциплины – могли принести пользу «просвещенным» правителям. Где насилие было бы слишком грубым инструментом, там обращение к религиозному авторитету могло помочь сделать лояльными и дисциплинированными подданными тех, кто, возможно, не послушался бы одного монаршего слова, но согласился бы повиноваться Богу. Веротерпимость была тем инструментом государственного вмешательства, который зачастую приветствовали сами мусульманские подданные.
В этой книге я стремлюсь показать и то, как режим пытался применять религию для управления империей, и то, как мусульманские общины использовали царскую политику и суды в своих целях. Режим инструментализировал ислам, но мусульмане овладели государственными учреждениями, применяя их методы принуждения в повседневных интерпретативных дискуссиях среди мусульман и мусульманок. Империя в значительной мере опиралась на лояльность мусульман, потому что прочно укоренилась в умах мусульманских посредников и стала принципиально важным инструментом в ситуациях, когда мусульмане спорили, дискутировали и сталкивались друг с другом из‐за смысла своей религии и своего места в мире. Романовское государство черпало силу из этого альянса с мусульманами, искавшими помощи против своих врагов, даже когда было неясно, кто из союзников кого использует. Посредством подобных взаимодействий империя оформлялась в умах своих подданных, хотя результат, возможно, разочаровал некоторых мусульман. Религия стала зависимой от институтов государства, а империя опиралась на конфессиональный фундамент.
И перед царской властью, и перед его мусульманскими подданными встала дилемма: как сделать ислам полезным в качестве конфессии, терпимой в империи. Как и в современной Европе, правительство видело ключом к этой стратегии привлечение влиятельных, но достойных доверия мусульманских религиозных деятелей. Они должны были служить посредниками для режима, передавая государственные директивы, охраняя мораль верующих и символизируя собой отеческую заботу царя об исламе. Но эта религия, как и иудаизм, была особой проблемой для романовского государства. У других терпимых конфессий были некие формы иерархической организации, которую государство могло бы включить в свою структуру, но ислам, по наблюдению Ричарда Буллиета, исторически развился «без такого ценного или обременительного груза, как организованная церковная структура или централизованный источник доктринального авторитета». Религиозный авторитет был текучим и неформальным: «местные общины мусульман в основном сами выбирали свой путь и выдвигали собственных религиозных лидеров, исходя из готовности следовать тем людям из своей среды, которые казались наиболее благочестивыми или образованными»8. В России поиски источника исламского авторитета заставили режим обращаться к мусульманам, вовлекать их в процесс конструирования исламских институтов ради приобретения государственного патроната – и помощи в дисциплинировании мусульманских подданных царя.
Для мусульман этот путь к социальному миру был как минимум тернистым. В наши дни мусульманские политические лидеры в Москве охотно указывают, что ислам пришел в Россию раньше православия; ислам, таким образом, самая «традиционная» из российских религий9. Мусульмане принесли свою религию народам Евразии с Аравийского полуострова в первые века ислама. К Х в. крупные мусульманские сообщества организовались в Поволжье, Сибири, на Кавказе и в оазисных городах Центральной Азии. Ислам распространялся по Поволжско-Уральскому региону и степям к северу от Каспия. Большинство этих новообращенных стали суннитами и приняли ханафитскую школу правовой интерпретации (названную в честь юриста VII в. Абу Ханифы); меньшинство на Кавказе и в Центральной Азии стали шиитами или последователями других правовых школ. Обращение в ислам среди народов, населяющих эти разнообразные лесные, степные и пустынные регионы, продолжалось и в Новое время10. Но с XV в. все больше этих сообществ подчинялось правлению царей, которые традиционно воплощали собой православное благочестие.
Мусульмане – подданные империи никогда не составляли однородного сообщества. Они в разное время и по-разному входили в состав империи и потому имели различающийся опыт подчинения имперской власти. К моменту воцарения Екатерины Великой российские правители уже более двух веков управляли мусульманами Поволжья. Екатерина присоединила новые мусульманские народы в Крыму и степных регионах к северу от Кавказских гор и Каспийского моря. К концу 1820‐х гг. войска Александра I (годы правления 1801–1825) и Николая I (1825–1855) захватили территории к югу от Кавказского хребта, отбросив иранцев и османов за реку Аракс. Российской армии понадобилось еще три с половиной десятилетия для завоевания мусульманских общин, разбросанных по Северному Кавказу от Черного до Каспийского моря. Между 1834 и 1859 гг. движение под руководством имама Шамиля оказало серьезное сопротивление царским войскам на территории Дагестана и Чечни, и в те же годы российские администраторы выдвинули свои пограничные форпосты за реку Урал и дальше в казахские степи. К концу XIX в. Российская империя простиралась до реки Амударьи и гор Тяньшаня в Центральной Азии. Расширяясь в направлении Гиндукуша, империя захватывала контроль над степями, пустынями, высокогорьями и густонаселенными оазисами; их разнообразное население состояло из кочевников, горожан и горцев в изолированных общинах.
Эта модель экспансии в столь разнородные регионы, населенные мусульманами, породила другой парадокс империи. Царская элита понимала завоевание Кавказа, казахской степи и Центральной Азии как подтверждение имперской славы и европейской идентичности России, но также и признавала, что новые границы порождают новые уязвимые места. Лишь Черное море отделяло Крым от Османской империи. Экспансия за Кавказский хребет формировала растянутую границу и с Османским государством, и с каджарским Ираном. Протяженные общие границы с Афганистаном, Британской Индией и Китаем символизировали великодержавный статус России, но также усиливали настороженность властей по поводу распространения имперской власти на такое расстояние от столицы, заложенной Петром Великим. Вдоль южных границ империи от Крыма до Памира миллионы мусульман жили по обе стороны границы вдалеке от имперского центра. Перед царской властью вставала задача разорвать связи мусульман с их соседями-единоверцами, в том числе с их бывшими правителями в Стамбуле, Тегеране и при оазисных дворах ханов Трансоксианы.
К концу XIX в. мусульмане жили в восьмидесяти девяти губерниях и областях империи (а также в протекторатах – Бухаре и Хиве). По условиям жизни можно разделить эту территорию на семь различных зон компактного заселения: Крым, Северный Кавказ, Закавказье, Поволжье, Урал, Казахстан и Центральная Азия (Трансоксиана). Восьмая зона – северный пояс разбросанных диаспоральных общин – простиралась от Польши через Санкт-Петербург и Москву до Сибири. В 1897 г. первая всеобщая перепись населения всей империи официально зарегистрировала около четырнадцати миллионов мусульман, хотя организаторы переписи пришли к выводу, что они недосчитали мусульман, и оценили их истинное число примерно в двадцать миллионов. Более трех с половиной миллионов мусульман жили в губерниях так называемой «Европейской России». Более трех миллионов обитали на Кавказе, и самая большая группа, около семи миллионов человек, населяла Казахстан и Центральную Азию.
Помимо географического положения, демографии и исторического опыта отношений с российскими администраторами и поселенцами, гетерогенность мусульманских подданных царя проявлялась в культурных различиях. Согласно переписи 1897 г., мусульмане принадлежали более чем к дюжине языковых групп, подсчитанных властями. Более двенадцати миллионов говорили на языках «турецко-татарской» группы. Две следующие по величине группы были «кавказские горцы» (более миллиона носителей языков) и «восточные индоевропейцы» (более полумиллиона носителей); более десяти тысяч мусульман считали своим «родным языком» «русский»11. Кроме того, прежде чем царские институты связали воедино эти различные сообщества под имперской властью, они слабо контактировали друг с другом и, возможно, испытывали лишь самое абстрактное ощущение принадлежности к одной религиозной общине. Царский режим однажды выработал отдельные административные уложения для каждой местности и тем увековечил различия между ними. Мусульмане на Волге и в Крыму подчинялись гражданской администрации, а на Урале, Кавказе и в Центральной Азии – различным формам военного управления. Также на региональной основе государство назначало этим народам обязанности и привилегии, тем временем инкорпорируя их в более обширную сословную структуру империи.
Численность мусульманского населения, его распределение по территории и геополитическая важность сообществ последователей ислама ограничивали спектр управленческих возможностей российского государства. Начиная с XVI в. спорадические попытки обратить в православие мусульман Поволжья и Урала дали небольшое количество обращенных, но вызвали серьезное сопротивление. В XVIII в. мусульмане периодически поднимали вооруженные восстания против кампаний христианизации. Подобно тому как эти народы нельзя было массово обратить в православие, не угрожая стабильности империи, их нельзя было так просто и выселить за ее пределы. В отличие от правителей средневековой Испании, которые выселили (или обратили) мусульман и евреев, Романовы никогда не прибегали к тотальным изгнаниям ради однородности населения. Конечно, мусульмане южного пограничья России, примыкавшего к Османской империи, порой становились жертвами подобного государственного насилия. В ходе жестокого подчинения Кавказа царской армией при Николае I российские командиры хвалились тем, что обращали в бегство нелояльных мусульман. Несколько сотен тысяч мусульман покинули свои дома на Кавказе и в Крыму после Крымской войны (1853–1856) и поражения сопротивления на Северном Кавказе12.
Не следует, однако, на основе кровавой истории изгнания и бегства мусульман из южной зоны фронтира делать выводы о политике империи в отношении ислама в целом. Российская военная стратегия преследовала ограниченные, хотя и беспощадные цели. Власти не мечтали об очистке Северного Кавказа и Крыма от всех мусульман. Российские генералы долгое время обещали отвечать на нелояльность «истреблением», и войны с Османами демонстрировали, насколько все еще были важны эти регионы и лояльность их жителей. Но подобная стратегия никогда не запрещала кооптацию местных элит или даже наем перебежчиков.
Насилие царей не было и единственной причиной мусульманской эмиграции. Мусульманские военачальники вроде имама Шамиля, возглавлявшего антиимперское сопротивление в Дагестане и Чечне, насильственно переселяли общины, которые отказывались присоединиться к его джихаду против русских. Марк Мазовер привлек внимание к проблеме: как выявить сознательное намерение и отличить «изгнание от паники», и отметил, что «одно могло переплетаться с другим, как показывает случай немцев Восточной Пруссии в 1944–1945 гг.». На Кавказе и в Крыму играли роль и рекрутирование османами, и исламское право. Османские эмиссары ездили по региону, призывая к миграции от «неверного» правления в «Доме войны» (дар аль-харб), отвергая статус России как «Дома ислама» и обещая мусульманам помощь при переселении в «хорошо защищенные владения» султана. Их призывами подкреплялись суждения исламских религиозных авторитетов, которые требовали от единоверцев, мусульман-суннитов, бежать из-под власти христиан и селиться в государстве, управляемом суннитским мусульманским государем. Связь между геополитикой этих пограничных зон и политикой в отношении мусульман отражалась и в структуре обратной миграции мусульман в тот же период. После бегства суннитов с Кавказа шииты стали переходить на российскую территорию из Ирана, где шиизм был доминирующей религией. К 1860‐м гг. демографический баланс сдвинулся от примерного паритета между суннитами и шиитами к преобладанию шиитов в пропорции 2 к 1. В связи с нефтяным бумом в Баку и строительством железной дороги в Центральной Азии иранские мигранты хлынули в Российскую империю. В конце XIX – начале ХХ в. племена из Северного Ирана и Афганистана периодически просили разрешения стать российскими подданными13.
Царская власть хотела безопасных границ и внутреннего порядка, добивалась внутренней стабильности и, по возможности, более сильных политических позиций, чем у слабейших соседей. Элита никогда не санкционировала изгнания мусульманских крестьян, торговцев, ремесленников и солдат, которые играли такую важную роль в функционировании империи во внутренних губерниях. Напротив, империя Романовых продержалась так долго и смогла управлять столь обширным и неоднородным пространством, располагая сравнительно скромными ресурсами, по большей части потому, что ее элита была склонна к осторожности. Силы, скреплявшие империю, – царские генералы и полицейские – обладали чутьем в отношении и возможностей, и границ имперской власти. В XIX в. путь к имперской славе пролегал в Азии, особенно после поражения в Крымской войне, когда позиции России в Европе стали уязвимее. Власти признавали, что дальнейшая экспансия должна опираться на некоторое соглашение с мусульманами.
Мусульмане в своей реакции на русскую угрозу наталкивались на очень сходные ограничения. Перспектива стать подданными Российской империи была привлекательнее, чем подразумевала националистическая или исламистская риторика, а альтернативы обошлись бы гораздо дороже. Историки мусульман империи по большей части описывали их как сообщество, затронутое социальными и экономическими структурами империи, но в основном автономное в своей внутренней политике. На практике этот изоляционистский сценарий был доступен немногим людям того времени. Поучительный пример – опыт мусульман Дагестана и Чечни с конца 1820‐х по 1850‐е гг., хотя из‐за мифов о мусульманском сопротивлении российскому присутствию на Кавказе в это трудно поверить. Перед лицом угрозы российского завоевания местные мусульмане не смогли выработать стратегию объединения против царских войск, хотя историки долгое время трактовали этот период как эпоху «джихада», вдохновленного и организованного мусульманскими суфийскими братствами. Мусульмане сражались на обеих сторонах конфликта, за и против империи. Важнее, как показал Майкл Кемпер, что базовая модель сопротивления основывалась на дороссийских спорах в защиту исламского права против туземных, а не царских властей. С этой точки зрения для имама Шамиля и его предшественников «государство джихада» было не только средством «защиты» мусульман от «неверных»; их стремление насадить исламское право служило основой стратегии, направленной против других туземных правителей, и было важным компонентом государственного строительства за счет локальных элит, часть которых встала на сторону России14.
Для мусульман и христиан принять предложение царского режима о патронате над исламом означало забыть предшествовавшие насильственные завоевания. Они строили социальный мир и имперский порядок, опираясь на традицию поисков общего языка, не игнорируя религию, а используя ее. Со Средних веков мусульмане давали присягу на Коране, который для этой цели хранился в Кремле. Позже мусульмане в каждом завоеванном регионе приносили на этой священной книге клятву верности, за которой режим признавал связывающий авторитет. Для христиан и мусульман религиозные различия оставались важными, однако имея дело друг с другом, они учились ссылаться на то, что казалось их общей чертой, – повиновение единому Богу. Монотеизм, связывавший правителей и подданных, устанавливал рамки переговоров. Но это обстоятельство не было лишь отправной точкой. В бесчисленных актах взаимодействия между мусульманами и российскими властями с конца XVIII по начало ХХ в. предстояло выработать импликации подобных утверждений, причем каждая сторона пыталась управлять реакциями другой. Этот общий ориентир не стирал границ между исламом и царской религией. Он также не маскировал подчинения мусульманских подданных инструментам принуждения государства царей. Но он устанавливал рамки для поиска точек соприкосновения, которые помогли бы укрепить имперское правление по возможности без употребления силы. Как и в сценариях сношений между индейцами и белыми в Северной Америке, проанализированных Ричардом Уайтом, каждая сторона преследовала свои собственные цели, но оправдывала «свои действия в терминах, которые, с ее точки зрения, лежали в основе культуры другой стороны»15.
Не только русские придерживались такого подхода. Наполеон во время египетской кампании клялся в приверженности тому же Богу, которому поклоняются мусульмане. Подобные заявления, включая проведение параллелей между Иисусом и Мухаммедом, в качестве стратегического моста между христианами и мусульманами влияли на язык европейской дипломатии в сношениях с османами. Позже британские и французские администраторы искали исламской легитимации своей власти над африканскими и азиатскими колониями. Габсбурги создали в Боснии и Герцеговине исламскую иерархию для управления делами мусульман – и разорвали мусульманские связи со Стамбулом. В ХХ в. японцы объявили о своей особой связи с исламом в рамках более общей кампании подрыва влияния европейских империй в Азии и утверждения на их месте японской державы. Даже германский кайзер использовал эту стратегию. В 1898 г. Вильгельм II поклялся защищать триста миллионов мусульман, включая подданных британской, французской и российской держав. Во время Первой мировой войны он мечтал поднять «весь мусульманский мир на яростное восстание», джихад против врагов Германии16.
Но царский режим, выковывая свою империю, стремился к альянсу с мусульманами на более прочной основе, на более долгий срок и преуспел больше своих имперских соперников. И представление о том, что ислам особенно полезен для государства, даже если он не очень хорошо сочетается с официальной идеологией, пережило царей. Оно возрождалось эпизодически, но играло важную роль в совершенно иных условиях советского режима; оно пережило даже распад СССР и вновь возникло в проектах молодых постсоветских республик по приручению ислама ради укрепления претензий на политическую легитимность.
Многоконфессиональные царские элиты, подобно своим османским соперникам, находили ценных союзников в своем желании основать имперское правление на религиозном авторитете. Строительство подобного конфессионального государства требовало не только наличия религиозных элит, но также, в контексте царского режима, и мобилизации мирян17. Чтобы провозглашать полезность соединения светской власти с духовной для дела управления империей, режиму пришлось укрепить отдельные религиозные институты – мусульманские, католические и еврейские. Но в такой огромной многоязычной империи, простиравшейся от Балтики до Кавказа и Тихого океана, царские чиновники боролись за доступ к информации о внутренних механизмах религий, из которых они хотели извлечь пользу. Они прежде всего смотрели на «духовенство» каждой общины, даже в таких традициях, как ислам, исторически не признававших подобных социальных групп. Но в России XIX в., как и в Европе, препятствием для веротерпимости служил и антиклерикальный дух.
Царская бюрократия, ценя предполагаемое влияние религии на мораль и порядок, но не доверяя клирикам, создавала пространство для мирских инициатив, приветствуя вызовы клерикальному авторитету снизу. Как и в колониальной Индии, подозрительность в отношении туземных религиозных элит стимулировала официальный интерес к изучению текстов, которые позволили бы администраторам преодолеть зависимость от их посредничества. Российские власти во всех регионах империи привлекали на службу мусульманских переговорщиков, но бюрократия использовала разных информантов и тексты, и это означало, что официальные концепции ислама менялись со временем и различались в разных местах. Внутри царской элиты зачастую не было согласия в вопросе об оценке ислама. Когда казалось, что существует риск для православной церкви и ее неофитов, высказывались самые противоположные точки зрения. Несмотря на разнообразие официальных мнений и неоднородность самих мусульманских общин, обычно побеждали точки зрения той части элиты, которая отстаивала принципиальное положительное влияние ислама на стабильность империи, будь то в Санкт-Петербурге или на кавказских или центральноазиатских границах. Когда брали верх критики ислама – например, в Казахстане середины XIX в., – их победы бывали пирровыми. Государство оказывалось слабее всего, когда оно меньше всего связывалось с исламскими делами и когда мусульмане не могли использовать его мощь на благо религии.
Эта точка зрения, основанная на документах из центральных и местных государственных архивов, как и на различных мусульманских источниках, позволяет увидеть Российскую империю в новом свете. Долгое время ее описывали как «недоуправляемую» политию со слабыми связями между столицей и отдаленной периферией. Но в действительности империя занимала много места в умах мусульман и мусульманок – тех подданных царя, которых, как и евреев, обычно изображают наименее способными интегрироваться в имперскую среду18. Прошения, доносы, судебные протоколы, полицейские рапорты и многочисленные мусульманские источники показывают, каким образом мусульмане и мусульманки внутри более обширной структуры царской веротерпимости пришли к представлению об имперском государственном аппарате как об инструменте Божией воли. Подобно историкам судов и институтов управления в других обществах, я читал судебные протоколы, полицейские рапорты и другие источники, пытаясь извлечь из их языка информацию об идентичностях этих деятелей, о том, как они пытались адаптировать право для конкретных целей и, в данном контексте, формировали и исламскую традицию, и механизмы работы империи. Не всякая тема, связанная с исламом, проникала в имперские архивы. Но, как я стараюсь показать, государство царей стало важнейшим форумом для разрешения конфликтов между мусульманами. Некоторые мусульманские подданные царя, возможно, предпочитали избегать государства, но они не могли гарантировать, что другие мусульмане, в том числе их соседи и супруги, не привлекут их к суду или не обратятся в полицию. Это была империя, в которой управление, правосудие и благочестие были одновременно и семейным делом, и делом мусульманской общины и имперских институтов.
Задолго до того как современные мусульманские мыслители вообразили «исламское государство» как бюрократический инструмент по насаждению божественного права, мусульманские подданные династии Романовых стремились использовать институты империи для реализации религиозных обязанностей и прав. Читатель по опыту знакомства с другими колониальными системами мог бы ожидать историю мусульманского сопротивления давлению царской власти, особенно в таких областях, как семейная сфера. Мусульмане по-разному реагировали на Российскую империю. Но даже источники, созданные самими мусульманами за пределами государственных институтов, документируют разнообразные способы участия в работе институтов режима; мусульманские ученые, собиравшие биографии других видных религиозных деятелей, ссылались на судебные дела и прочие акты взаимодействия, даже если принижали роль подобных контактов, чтобы ни у кого не возникало мыслей о коррупции19.
Там, где царский режим учреждал администрацию, мусульмане прибегали к нему не только как к репрессивному инструменту, но как к средству поддержки истинной религии – способу направлять супругов, детей, родственников и других людей на верный путь к Богу, путь шариата. Мусульмане не изолировали женщин и семью от полицейских органов, а учились связывать государство с урегулированием семейных конфликтов и защитой прав, основанных на шариате. Таким образом государство глубоко проникало в общины мечетей империи. Прежде историки видели «недоуправление» там, куда не имела доступа конвенциональная, секулярная ветвь власти, но это неверное понимание связей между правителем и управляемым. И тот и другой разделяли мнение, сложившееся в XVIII в., о том, что имперский порядок опирается на религиозный авторитет и что агенты царя, наряду с каждым подданным, участвуют в строительстве мира, угодного Богу. Русскими владел страх перед народным возмущением, инспирированным религиозной рознью, как в их собственной церкви в XVII в., и здесь их интересы смыкались с интересами мусульманских ученых, защищавших традицию от «незаконных нововведений» (бид'а) в интерпретации религии. То, что задним числом может показаться «традиционными» религиозными практиками, в действительности было создано государством и его мусульманскими посредниками.
Эти убеждения, конечно, не означали, что каждая сторона всегда действовала так, как хотелось другой. Они давали широкий простор для непонимания, неверных расчетов и конфликтов. Екатерина Великая первой сформулировала модель веротерпимости, но многие из ее преемников относились к этой модели прохладно. Православная церковь оставалась ее непоколебимым противником и требовала эксклюзивной государственной поддержки. Она боролась не только против мусульман, которых подозревала в миссионерской деятельности среди христиан, но и против тех православных, которые восхваляли «нравственное учение Корана и находят, „что оно даже не уступает Евангельскому“» или исповедовали тот взгляд, что «будто бы все равно – быть христианином или магометанином, лишь бы только быть честным человеком». Кроме того, постоянные войны с османами воскрешали и поддерживали недоверие к мусульманам как в правительственных кругах, так и за их пределами. Ф. М. Достоевский испытывал отвращение к политике аккомодации. В 1877 г. в разгар очередной русско-турецкой войны он агитировал русскую публику против «превознесения мусульман за монотеизм», называя это «коньком очень многих любителей турок» в обществе, которое ошибочно считало ислам более просвещенным, нежели язычество поклоняющегося иконам русского крестьянина. С точки зрения Достоевского и других деятелей русской литературы и особенно оперы, русские, проникнутые национальным духом, должны были приветствовать владычество России на Востоке20. По мнению критиков, конфессиональная политика империи была слишком партикуляристской. Либералы ненавидели ее как помеху универсальному праву, а консервативные националисты видели в ней препятствие для однородности империи, где доминировала бы русская культура и этничность. Оба лагеря были не в состоянии понять, что систематически партикуляристская политика империи содействовала аккомодации разнообразия и в то же время укрепляла власть режима над этими народами. Сторонники более решительного подхода к исламу влияли на дух локальной политики на региональном уровне, но так и не смогли полностью переориентировать политику царского режима. С исключительной последовательностью императив управления империей торжествовал над националистическими (и либеральными) призывами к конфликту.
Интересы институтов тоже стояли на кону. Определив задачу «полиции предохранительной» в «благоустроенных государствах» как «охранение обрядов религии и обуздание расколов», царские власти последовали модели наполеоновского государства и учредили централизованный бюрократический орган для администрирования терпимых конфессий21. Он был создан в 1810 г. как Главное управление духовных дел иностранных исповеданий, в 1817 г. преобразован в Министерство духовных дел и просвещения, а в 1832 г. стал подразделением главной организации, назначенной поддерживать внутренний порядок в империи, – Министерства внутренних дел. Это министерство надзирало над официально признанными церковными структурами неправославных исповеданий, включая официальную исламскую иерархию, основанную Екатериной Великой на восточном степном фронтире в 1788 г., хотя ему приходилось конкурировать с другими учреждениями – в том числе с православной церковью – за влияние на царскую политику. Военное министерство управляло мусульманами на кавказском и степном пограничьях. Когда царская армия взяла на себя ответственность за управление мусульманами на территориях прикаспийских степей и Трансоксианы, аннексированных между 1860‐ми и 1880‐ми годами, ей удалось отобрать контроль над религиозными делами у МВД. Но в 1872 г. МВД вернуло себе часть полномочий, учредив исламскую иерархию для управления делами суннитов в Закавказье, и другую – для шиитских общин. При этом еще одно учреждение – Министерство иностранных дел – тоже участвовало в дебатах о политике. Его сотрудники, внимательные к мнениям мусульман, проживавших вблизи границ России, зачастую отстаивали широкую терпимость к исламу как средство подготовить путь для экспансии на территориях Османской империи, Персии, Трансоксианы, Афганистана, Индии и Китая. Но, в отличие от других министерств, оно было готово признать полезность тех эмигрантских групп, которые другие мусульмане считали «неортодоксальными», в частности исмаилитов и бахаи, воспринимая их как орудие против Персии и Британской империи22. Таким образом, царская политика творилась множеством институтов в условиях конкуренции между министерствами в столице и губернских городах, а также между разными официально поддерживаемыми мусульманскими авторитетами в Крыму, в городе Уфе на восточном степном фронтире, на Северном Кавказе и в Закавказье. Еще одной силой были миряне. Обращаясь к царскому правосудию и призывая к официальному вмешательству в конфликты с другими мусульманами, они зачастую направляли курс имперского государственного строительства на местах такими путями, которые Санкт-Петербург не мог ни предвидеть, ни контролировать.
Подобный мирской активизм проливает свет еще на одну малоизученную черту империи. Ученые долгое время следовали за русскими интеллектуалами, выделяя Европу как естественный образец для сравнения с Россией. Когда они сопоставляли Россию с империями Османов или Сефевидов, то лишь для того, чтобы подчеркнуть различия. Но в этой книге я указываю и на сходства между царским и османским режимами. Оба государства в XIX в. внесли решительные перемены в жизнь своих подданных, в то же время представляя свои расширяющиеся государственные аппараты консервативными стражами исламского благочестия. Симметрия между государственными указами об обязательном посещении мечетей – лишь один из примеров этой общности подходов23.
Альянсы между мусульманскими активистами и царскими чиновниками во имя «ортодоксального» ислама не укрепляли «неизменный» ислам, как предположили некоторые историки. Напротив, в этих взаимодействиях рождались новые способы понимания священного права. Российские мусульмане, как и их современники в Османской империи и Египте, воспринимали быструю экспансию государственных институтов и законодательства не как вытеснение шариата, а как дополнение к нему24. Мусульмане сопротивлялись некоторым нормам имперского права, которые воспринимали как нарушение законов Бога, но отвечали на экспансию царских законов и бюрократической практики тем, что адаптировали эти новые ресурсы к местным дискуссиям о шариате. В то же время перспектива государственной поддержки правовых норм, которые могли бы упрочить моральный фундамент империи, заставляла чиновников и мусульман предпринимать попытки упорядочения этого процесса. Как и в Британской Индии и Османской империи, на смену разнообразным локальным представлениям о шариате как некоем свыше предписанном пути стали приходить во многих кругах концепции шариата как однородного и статичного «закона», чей смысл был зафиксирован в текстах и кодексах25. Забота властей о согласованности и однородности пошла на пользу отдельным мусульманским деятелям, которые отстаивали определенный взгляд на ортодоксию, основанный на небольшой выборке ханафитских правовых текстов. Но государственная поддержка «буквы закона» могла работать и против мусульман, например когда государство присваивало себе землю, которой владели якобы в нарушение шариата. Эти взаимодействия придавали текучесть религиозному авторитету и связанному с ним процессу государственного строительства.
Условия подобной борьбы за влияние были не бесконечно гибкими. Подобно «обычному праву» в колониальных африканских обществах, государственную поддержку обычно получали элементы исламского права, пропагандируемые теми партиями, которые представляли себя наиболее авторитетными судьями традиции и делали заявления, соответствующие интересам и ожиданиям царского режима. Во многих исламских юридических текстах признавалась возможность множественного исхода правовых споров, в частности они ссылались на авторитеты в оправдание плюрализма позиций по какому-либо правовому вопросу. При царском режиме мощь государства оказалась решающей для перевеса баланса в пользу одной интерпретации против другой. Так, в Российской империи, как и в других обществах, мусульмане проводили границы «ортодоксии» и общины совместно с государственными институтами, а не в борьбе против них26.
Эта история не была рассказана раньше, потому что историки обычно сосредоточивали внимание на мусульманских элитах. В ценных исследованиях на основе неопубликованных рукописных источников на разных языках демонстрируется, каким образом мусульманские ученые, выступавшие за реформу разных аспектов исламской традиции в поздней царской империи начиная со второй половины XIX в., отражали адаптивность и динамизм мусульманской культуры. Эти элиты привлекали к себе внимание отчасти потому, что были известны за пределами России. Большинство из них разделяли европейское увлечение национализмом. Не в состоянии реализовать национальные политические амбиции на территории Российской империи начала ХХ в., многие их них были вынуждены заниматься этим в Европе, Японии и, прежде всего, в Турции. Эмигранты-мусульмане из России писали сценарии национальных идеологий не только для своих народов, но и для турок27. В конце ХХ в. лидеры Коммунистической партии, оказавшиеся правителями автономных республик или независимых государств после распада СССР, вновь открыли многие из этих идей. Элиты, стремившиеся управлять мусульманским возрождением и укреплять лояльность к новым национальным государствам, обратились к наследию реформистов. Из разнообразного корпуса их идей они стремились сконструировать легитимное прошлое для ислама, воспринимаемого как чисто секулярный атрибут национальной культуры. Таким образом, история мусульманских интеллектуалов в России стала видеться через национальную призму.
Но этот взгляд не позволяет увидеть более широкий контекст и скрывает другую историю. Он не только игнорирует мусульман, которые отвергли национальные и секулярные платформы, продвигаемые элитами. Слишком часто он заставляет воспроизводить нарративы, прославляющие борьбу наций против империи и трактующие всех мусульман как чуждый ей элемент. Реформистская программа конца XIX – начала ХХ в. была не единственной темой для споров в жизни мусульман империи. Она также не противопоставляла прогрессивных реформистов реакционным обскурантам, как можно было бы предположить на основании большей части работ. Мусульмане выступали против авторитета клириков задолго до появления печатных и других СМИ, как недавно подчеркнули ученые, следуя историкам Реформации в своих объяснениях религиозных изменений в мусульманских обществах. Ученые и благочестивые мусульмане, со своей стороны, выступали в этом контексте как «хранители перемен», согласно удачной формулировке Мухаммада Касима Замана28. Хотя и мусульмане, и их христианские правители апеллировали к «традиции», их вовлеченность в дела друг друга вызывала радикальные изменения и постоянные трансформации локальных очертаний как империи, так и ислама. История ислама в империи – это история динамичных перемен. Не следует принимать допущение о том, что ислам до эпохи реформ был статичным.
Не следует также принимать как данность мусульманскую солидарность. В этой книге я вслед за Роджерсом Брубейкером пытаюсь установить, до какой степени вообще можно осмысленно говорить о мусульманах как о внутренне связной и однородной «группе», хотя бы в отдельном регионе империи. С точки зрения многих активистов, быть мусульманином и жить согласно шариату означало обращаться к инструментам государства за помощью в том, чтобы принудить других людей принять определенный взгляд на ислам. Даже на Северном Кавказе мусульмане спорили о легитимности джихада против русских29. История мусульманских реформистских элит в империи может служить полезным образом прошлого в современных политических повестках, но мало помогает понять, каким образом эти мусульманские общины приспосабливались к империи или как исламские институты и практики связывали мусульман с государством. Чтобы осветить и эту более широкую перспективу мусульманской политики, и исламский фундамент империи православных царей, в предлагаемой книге я обращаю особое внимание на повседневные конфликты, касавшиеся и клириков, и мирян, а именно споры внутри местных общин вокруг шариата и религиозных ритуалов, включая суфийские молитвы.
В следующих главах я прослежу усилия российских чиновников и различных мусульманских деятелей по поддержанию социальной стабильности в империи, когда каждая сторона стремилась как можно полнее использовать убеждения другой стороны в своих целях. Эти отношения отнюдь не гарантировали сохранение статус-кво, но перестраивали мусульманские сообщества и государственные институты. Эти попытки начались в конце XVIII в. на восточном степном фронтире (см. карту 2). Глава 1 рассказывает об учреждении при Екатерине государственной исламской иерархии в восточном городе Уфе. Отношения, установившиеся на фронтире, оказались парадигматичными для других мусульманских регионов, хотя учреждения повсеместно подстраивались под местный состав чиновничества и туземных посредников. В главе 2 я показываю, каким образом эта исламская иерархия распространяла свою власть внутрь общин мечетей по всему Волго-Уральскому региону в первой половине XIX в., по ходу дела трансформируя местную религиозную жизнь и государственные институты. Тема главы 3 – мусульманская семья как микрокосм имперского порядка, подчиняющийся власти религии. В остальных главах очерчивается судьба официального патроната над исламом по мере продвижения восточного фронтира. К середине XIX в. концепции ислама, к которым апеллировали мусульмане и царские власти, радикально изменились, и Россия встретила серьезное мусульманское сопротивление на Северном Кавказе. В главе 4 я показываю, как режим в виде эксперимента изменил отношение к исламу среди кочевников казахской степи. Тема главы 5 – завоевание Центральной Азии; в ней описываются попытки государства интегрировать самый населенный мусульманский регион из тех, с которым оно когда-либо имело дело. В главе 6 мы переходим от восточного фронтира к более широкому взгляду на империю в тот момент, когда русский национализм и социально-экономические отношения на рубеже веков заставили и царские, и мусульманские элиты пересмотреть соглашения, скрепленные печатью преданности исламской ортодоксии, которые долго служили и мусульманским поискам благочестия, и поддержанию прочности империи.
В завершение я хотел бы высказать свое мнение о том, почему поиски «полезного» для государства элемента в исламе были настолько укоренены в сознании столь многих акторов, что пережили крушение царского режима. Советская власть сохраняла некоторые принципы имперского подхода на протяжении большей части ХХ в., и в наши дни он возродился в Евразии, как и в Европе и других регионах, где мусульмане составляют значимое меньшинство. Призывы к государственному вмешательству в поддержку определенных видов религиозной интерпретации, а именно «умеренных» (то есть в пользу «хороших мусульман»), ныне выглядят весьма привлекательными там, где национальные государства ощущают угрозу со стороны транснационального ислама и чувствуют угрозу со стороны террористов30. Опыт применения таких практик в царской России должен предостеречь нас от их непреднамеренных последствий. Механизмы имперского правления были эффективны лишь настолько, насколько были эффективны их посредники. Кризис царского управления в Центральной Азии во время Первой мировой войны отчасти показал риск переоценки престижа отдельных местных авторитетов и институтов. Другие империи, особенно Германия, встретились с этой угрозой во время войны, когда они добивались исламской поддержки (включая фетвы) и мобилизовали мусульманских военнопленных против своих противников. Плохой выбор соратников погубил не одну империю31. На первый взгляд, стратегия поддержки отдельных мусульманских фракций против других выглядит альтернативой насилию, разрушившему Боснию и Чечню. Но ее последствия были сложнее. Хотя в Российской империи официальный патронат над избранными исламскими авторитетами был мощным инструментом управления мусульманскими народами и их интеграции, он также объединял мусульман и их правителей в общем деле ограничения свободы совести. Подобные стратегии, применяемые шире, имеют тенденцию подготавливать новые конфликты – не между «цивилизациями», но внутри современных государств, которые отрицают базовую правовую защиту своих граждан, и в том числе уважение к фундаментальным правам человека.
Глава 1
ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ИСЛАМА
В 1802 г. в одном из мавзолеев кабульского комплекса мечетей был погребен Файз-хан аль-Кабули. Смерть этого мусульманского ученого подвела итог целой эпохе. Он был наставником на исламском мистическом пути и унаследовал премудрость долгой цепи суфийских учителей. Сам Файз-хан передавал учение шейха Ахмада Сирхинди, который в конце XVI – начале XVII в. разработал критический анализ ислама у себя на родине, в Индии. Сирхинди, прославляемый своими последователями как «Обновитель второго тысячелетия», доказывал, что ислам испорчен «беззаконными новшествами». Он учил, что путь к обновлению ислама указывает стремление к суфийской мудрости вкупе со строгим следованием духу религиозного кодекса поведения, шариата. Под влиянием взглядов Сирхинди сложилась новая община. Его почитатели, происходившие из суфийского братства Накшбандийя, основанного в XIV в., организовали свою собственную ветвь – орден Муджаддиди. Со смертью Файз-хана в Кабуле этот орден потерял одного из самых авторитетных своих деятелей32.
Скорбь о кончине этого святого человека вышла за пределы местного сообщества верующих, поскольку Кабул и круг Файз-хана привлекал мусульман со всей Евразии. Во второй половине XVIII в. сотни людей приезжали в Кабул даже с берегов Волги и Камы – из региона, который русские считали своим с середины XVI в. Получив некоторое начальное образование у местных мулл, эти молодые люди отправлялись через степи по древним караванным путям в центры исламской учености и благочестия в Трансоксиане. Медресе Бухары и Самарканда пользовались уважением во всем мире и давали образование в области религиозного права и других богословских наук. Многие из этих учеников затем уезжали в Кабул. Благодаря Файз-хану они удостаивались посвящения в братство и становились связанными с шейхом Сирхинди и более обширными исламскими структурами субконтинента. Затем эти ученые возвращались в Российскую империю и передавали полученные знания своим собственным общинам33.
Но не только смерть Файз-хана стала причиной переориентации этой модели паломничества и образования. Свою роль сыграли и недавно начавшиеся процессы на севере. При Екатерине Великой правительство начало переформировывать кругозор своих мусульманских подданных. К началу XIX века мусульмане получили доступ к расширяющейся сети внутрироссийских учреждений, посвященных культивированию мусульманской религии и учености. Они все еще совершали дальние путешествия в поисках религиозной благодати и мудрости. Но теперь мусульмане могли с позволения правительства строить мечети и медресе в своих собственных деревнях и городских кварталах. Более того, российские мусульмане могли обращаться к своим собственным авторитетам – исламской элите, уполномоченной государством, – чтобы разрешать сложные религиозные вопросы, контролировать назначения на должности в мечетях и школах, оценивать споры на основе исламского права и выпускать по ним правовые решения (фетвы).
Екатерина не просто создала правовую основу для существования этих институтов в России – она превратила имперский режим в покровительствующий исламу. Императрица проводила в жизнь программу религиозной терпимости в духе «хорошо организованного полицейского государства», измышленного юристами Центральной Европы. Терпимые религии регулировались имперскими полицейскими инструкциями, и в силу этого держали обещание укреплять самодержавную власть, особенно на беспокойных территориях, где мусульмане периодически восставали против государственных властей или присоединялись к бунтам соседей-немусульман. Императрица рассчитывала смягчить конфликты мусульман с православными миссионерами, чиновниками и поселенцами в восточных губерниях на границах степи, но также смотрела на ислам с точки зрения имперской экспансии. Примирение стало средством привлечь на свою сторону мусульманских посредников, которые могли бы помочь режиму обезопасить пограничье и распространить российскую власть в степи и дальше, в пустынях и оазисах Центральной Азии.
Империя взяла на себя роль благодетеля, но оставался в силе фундаментальный вопрос: как управлять религией, в которой каждый верующий теоретически может считать кого угодно авторитетным проводником воли Бога? В этой главе мы исследуем, как решало эту дилемму российское государство. Представители имперской элиты считали, что ислам, как и другие религии, может быть полезен империи, если вписать его в строгую иерархию и подчинить внутригосударственной командной цепочке, связанной с Санкт-Петербургом. Многоконфессиональные архитекторы царской политики, как православные, так и протестанты, видели в структуре господствующей церкви модель для подобной организации. Более того, глядя на Османскую империю, чиновники приходили к выводу, что ислам при султанах вписался в подобную иерархию.
Чтобы одомашнить ислам в империи и отвратить мусульман от альтернативных источников авторитета в Кабуле, Стамбуле и где-либо еще, Екатерина и ее чиновники решили учредить организацию церковного типа среди людей, ранее с подобными учреждениями не знакомых. Процесс проходил далеко не гладко. Государство не могло просто сверху навязать свою волю без посредничества мусульманских элит и мирян. Более того, в процессе создания этой церкви для ислама режим обнаружил, что ее нормальное функционирование зависело от тесного союза между мечетью и троном. Этот институт не просто подчинил мусульман империи – он сформировал взаимозависимость. Новые структуры исламского авторитета опирались на силу царской полиции.
ОТКРЫТИЕ ТУРЕЦКОЙ ВЕРЫ
Поиски организационной структуры для российских мусульман при Екатерине были следствием увлечения идеями Просвещения в России. С конца XVII в. стремление России к европейским знаниям привело к новому взгляду на ислам и заставило московитов забыть большую часть того, что они уже знали об этой религии. Как ранее испанцы, русские отвернулись от многовековой эпохи совместного существования34. По мере европеизации российские элиты для понимания своих соотечественников-мусульман обращались к иностранному опыту.
С точки зрения просвещенных европейцев, ислам был не «мировой религией», а «религией турок». Обратиться в ислам для них несомненно означало «стать турком»35. Даже испанские писатели трактовали эту религию как иностранную новинку, воспринимаемую только через изучение османов. В итальянских, французских и польских описаниях ислама преобладали такие темы, как биография Пророка и практика полигамии. К тому времени, как московиты открыли для себя эти тексты, европейские авторы вышли за пределы чисто религиозной полемики. Уделяя основное внимание жизни Мухаммеда, ритуалам и обычаям «турок», христианские ученые начали систематизировать знания об исламе, в первую очередь обращаясь к институтам своего геополитического соперника – Османского государства (ил. 1).
В 1692 г. Андрей Лызлов адаптировал многие из этих европейских идей применительно к российскому контексту. В своей «Скифской истории» он попытался связать прошлое и современное состояние народов на восточной и южной границах Московии, включая осман и их вассалов – крымских татар. Хотя Лызлов был непосредственным участником военных кампаний против крымских ханов, он опирался главным образом на иностранные тексты. Точно следуя этим источникам, он называл Мухаммеда «проклятым прелестником» и «диаволским» сыном еврейской матери. Лызлов утверждал, что корни этой религии исходят от «прелести махометской» и его лживых измышлений. Ислам был, таким образом, беззаконием, противоположностью истинной веры (закона)36.
В то же самое время европейские ученые судили ислам в соответствии с системой категорий, которая, как им казалось, определяла религию у всех народов. Их ожидания от других религий формировала христианская теология. В этом ключе Лызлов описывал наследие Мухаммеда как систему из десяти «завещаний»:
1) о частократном омовении;
2) о количестве моления;
3) о почитании родителей;
4) о соблюдении супружества;
5) об обрезании;
6) о помощи тем, у кого умерли близкие;
7) о войне;
8) о милостыне;
9) о почитании божниц;
10) об исповедании единого Бога.
Итак, последователи Мухаммеда имели систему ритуалов и правил, понятных христианам. Их религия предписывала брак и требовала сыновнего почтения. Они исповедали монотеизм и даже уделяли место «Господу нашему Иисусу Христу» и «деве Марии» в своей священной истории37. Таким образом, наблюдатели вроде Лызлова создавали противоречивый образ религии, основанной на обмане и беззаконии, но также структурно похожей на христианское богословие.
Помимо ученых трактатов такого рода, Европа подарила России литературный жанр, посвященный приключениям христиан, побывавших в плену у мусульманских пиратов и работорговцев, – например, писателя Сервантеса. В южных степях у России был свой собственный «Пиратский берег». По мере продвижения российской власти в сторону Черного моря в конце XVII в. усиливались и контакты с мусульманами – османами, крымскими татарами и ногайцами. Набеги и войны поставляли христианских рабов мусульманским торговцам. Те, кому удавалось бежать, передавали ценную информацию о своих поработителях. Одно из первых российских описаний осман принадлежало Ф. Ф. Дорохину, который вернулся на родину в 1674 г. после двенадцати лет в плену38.
Петр Великий (годы правления 1689–1725) использовал сведения, поставляемые подобными информантами, но опирался в основном на другие европейские источники. Ведя войска на Астрахань и к Каспийскому морю, он приказал перевести Коран на русский язык. Перевод, основанный на французском издании середины XVII в., вышел в 1716 г. под названием «Алкоран о Магомете, или Закон турецкий». Император также импортировал экспертные знания, исходившие от многочисленных христиан, эмигрировавших из Османской империи, которые хорошо знали не только ислам, но и политику осман в отношении христианского населения их государства. В 1711 г. Дмитрий Кантемир, бывший господарь османской Молдавии, перебежал в Россию. По распоряжению Петра он написал «Книгу Систима, или О состоянии мухаммеданской религии», опубликованную в 1722 г. После учреждения дипломатического представительства в Стамбуле информация о «турецкой вере» стала поступать не только от беглых пленников, авантюристов и перебежчиков, но и от российских дипломатов. Главное окно в эту религию открыли не соседи-персы и не отдаленные народы Аравии или Индии, а османы. Российские авторы, как и европейские до них, использовали слова «турецкий» и «магометанский» как синонимы при описании османских институтов и ритуалов39.
Планы Петра Великого по модернизации империи предполагали также изменения статуса российских мусульман. Вопреки московитской практике, переход в христианство стал обязательным условием для получения дворянства. У знатных татар, отказавшихся отречься от ислама, конфисковывали вотчины и православных крепостных, а их самих понижали в ранге до крестьян или работников Адмиралтейства. Петр подчинил церковь интересам светского правительства и объявил о терпимости к протестантам, чтобы привлечь иностранных специалистов. Подражание Европе также повлекло государственную поддержку тех деятелей церкви и гражданской бюрократии, кто выступал за внедрение христианства среди иноверцев. Миссионерство сопровождалось насилием. Только в 1743 г. чиновники и церковники, возможно, разрушили 418 из 536 мечетей в Казани и Казанском уезде40.
Покровительство православным христианам как внутри империи, так и в соседних государствах было главным приоритетом царской политики. Новообращенные христиане из тюркских и финских языковых групп выглядели беззащитными перед исламским влиянием в тех местах, где рядом с ними жили мусульмане. Анна Иоанновна (годы правления 1730–1740) попыталась установить контроль над мусульманскими преподавателями религии среди башкир, приказав им принести клятву «никого из других вер в свой закон не переводить и не обрезывать». Елизавета Петровна (годы правления 1741–1761) повторила это предупреждение, запретив обращать в ислам «как Русских, так и новокрещеных и Калмык, Мордву, Черемис, Чуваш и прочих всякого звания людей».
Забота Елизаветы о защите православных заставила регулировать строительство мечетей. Она запретила строить мечети в деревнях с православными жителями и установила минимум населения, при котором разрешалось иметь мечеть, – двести мужчин. Но хотя императрица запретила мечети в деревнях со смешанным населением, она выступила против разрушения мечетей в других местах. И подобно своим московитским предшественникам, она признавала важность мечетей как мест, где «живущие в России Татары Магометанского закона приводятся к присягам по их законам в их мечетях».
В этом вопросе Елизавета тоже отдавала приоритет благополучию православного сообщества в целом. Она указывала на Османскую империю и потенциальные ответные меры против османских христиан. Объясняя, что татары считают нападения на свои мечети «оскорблением», Елизавета отмечала, что их жалобы могут дойти до «таких мест», где «между Магометанами в других государствах живут люди веры Греческого исповедания». Она отметила риск ответного мусульманского «утеснения» их церквей41.
Елизавета повторила прежние запреты на насильственное обращение в православие, но христианское миссионерство и разрушение мечетей провоцировали беспорядки среди мусульман. Более того, экспансия государства на восток от Волги в сторону Уральских гор привела к вооруженным столкновениям с местными мусульманами – башкирами. Приток русских и татар-мусульман в районы башкирских кочевьев и поселений усиливал на этом степном фронтире конкуренцию за земельные и другие ресурсы. Российские чиновники приостановили православное миссионерство и разрушение мечетей в этом регионе, но тем не менее после нескольких десятилетий вооруженного противостояния оно достигло кульминации в 1755 г., когда башкиры восстали. Возглавил их восстание мусульманский лидер мулла Батырша. В следующем году Санкт-Петербург был вынужден вновь подтвердить права мусульман в нескольких поволжских губерниях на строительство и восстановление мечетей в тех деревнях, где не было христиан. Эта мера вновь обеспечила безопасность мечетям – в селе Стерлибашево (Стәрлебаш) (построена в 1722 г.) и в Татарской Каргале (Сеитовский Посад, или Каргалы), мусульманской торговой слободе под Оренбургом (построена в 1745 г.). Обе мечети быстро стали влиятельными центрами учености и благочестия42.
Придя к власти в 1762 г., Екатерина попыталась восстановить стабильность на этих неспокойных границах. Соблюдая имидж просвещенной правительницы, чья материнская мудрость должна принести империи обновление, гармонию и справедливость, императрица провозгласила новую парадигму обращения с мусульманскими подданными43. Переопределив цели государства, Екатерина пресекла попытки епископов крестить неправославных. В 1764 г. она закрыла организацию воинствующих миссионеров, навлекшую на себя вражду мусульман и анимистов в Волго-Камском и Уральском регионах. В 1767 г. Екатерина написала трактат, в котором представила себя российской и иностранной публике в качестве просвещенного суверена «европейской державы», управляемой универсальными законами. В своем «Наказе» депутатам, приглашенным для участия в выработке нового кодекса законов, она заявила, что общественный порядок и общее благо страдают от религиозных преследований. «В толь великом Государстве, распространяющем свое владение над толь многими разными народами, – объявила она, – весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих граждан был порок, запрещение или недозволение их различных вер». Отвергая прежнюю политическую максиму о том, что правители должны добиваться конфессиональной однородности внутри своих стран, императрица опиралась на мнения европейских юристов и философов, которые настаивали на том, что религиозные преследования только возбуждают иррациональные страсти. Религиозная вражда подрывала благополучие населения и препятствовала его росту, который мыслители-камералисты считали основой богатства государства. Для Екатерины эта форма терпимости была прагматичным способом уклониться от противостояния «заматорелому упорству, утушая споры их, противные тишине Государства и соединению граждан».
Но как и большинство тогдашних представлений о терпимости в континентальной Европе, ее подход имел свои четкие границы. Он не означал нейтральности по отношению к разным религиям и формам выражения веры. Екатерина не распространяла терпимость на тех, кого Церковь объявила еретиками, вольнодумцами и атеистами. Не исключала ее концепция и обращения в православие в обозримом будущем. Екатерина рекомендовала: «Нет подлинно иного средства, кроме разумного иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно всех сих заблудших овец паки привести к истинному верных стаду»44.
Согласно теориям камералистов, правильное государственное управление усиливало влияние религии на общественный порядок и общее благо, позволяя ей прививать практическую мораль и давать этическое воспитание. Иоганн Генрих Готтлиб фон Юсти утверждал, что «вера действительно принадлежит к числу подкрепляющих государство сопряжений», хотя правители не должны считать ее «ни единственным, ниже самым главным гражданских обществ основанием». Более того, государства были обязаны точно определять те формы религии, которые пользовались бы терпимостью. Юсти предостерегал «Християнского Государя» против того, чтобы дозволять распространение «опасных учений», которые могли бы угрожать «спокойствию и благосостоянию государства». Ссылаясь на «страшную мексиканскую веру» и религии других неевропейских обществ, он доказывал, что «вера весьма много может способствовать к приведению гражданских устроений в совершенство», но отмечал, что избыток религиозности может привести к «превеликому жестокосердию и невежеству». Он также осуждал религии, которые отвлекают людей от труда и размножения или иным образом вмешиваются в экономические приоритеты государства. Юсти предупреждал, что неограниченное религиозное рвение «может не только развращать нравы государственных жителей, но и разными другими образами причинять ущерб общему благу»45.
Камералисты думали в первую очередь о терпимости к христианским конфессиям, но их учение об использовании религии как инструмента государственной политики было применимо и к другим религиям. Йозеф фон Зонненфельс рекомендовал, чтобы каждый гражданин государства принадлежал к религии, которая «заставляет его любить свой долг». Этот венский камералист одобрительно замечал, что «там, куда не достигает взгляд законодателя, а потому и карающая власть судьи», должен работать «возвышенный принцип вездесущности Бога как свидетеля и судии всех, даже самых тайных замыслов» в качестве «единственного способа прекратить злые деяния». Тем самым он признавал полезность любой религии, которая «признает судейство Божества». Зонненфельс заключал, что любая религия, обещающая будущую «награду за праведность и добродетель» и «наказание порока», заслуживает своего места в законодательстве страны. Подобным же образом Иммануил Кант предостерегал правителей от смешения государственных и религиозных дел, за исключением тех случаев, когда религия способствует формированию «полезных граждан, хороших солдат и лояльных подданных»46.
Руководствуясь своим собственным определением полезности религии, Екатерина завершила петровскую церковную реформу и еще сильнее ограничила власть православной церкви. Под управлением государства главы церкви усвоили уроки камералистской мысли; они стали подчеркивать роль образования и ценность религии как для личного спасения, так и для общего блага. Православной элите пришлось также смириться с религиозным плюрализмом. В планы Екатерины по увеличению населения империи входили привлечение иностранных католических и протестантских колонистов и аннексия соседних территорий47. Так благодаря разделам Польши под властью России оказались католики, протестанты, униаты и евреи, а аннексия Крымского полуострова увеличила число мусульман.
Екатерина не выпустила никаких общих законов о веротерпимости, поскольку ее «Наказ» был скорее абстрактной декларацией философских принципов, чем документом юридической силы. Однако в различных договорах и декретах она давала ad hoc обещания не вмешиваться в религиозные дела и уважать статус-кво. Но подобный подход не следует смешивать с личной свободой совести; даже православные знали, что религиозные сообщества могли существовать только внутри структуры иерархического государственного регулирования.
Веротерпимость, расцененная как всеобъемлющая система дисциплины, стала предметом ответственности полицейских учреждений режима. Каждый подданный в свою очередь был обязан исповедовать какую-либо религию. Усилиями полиции законы, регулирующие каждую религию, налагались на конфессиональную общину в целом, подчиняя индивидуальных членов главам общин, которые назначались правительством и были ему подконтрольны. Камералистские теории присваивали государству широкие полномочия по определению того, какие вопросы ритуала и догмы заслуживают государственного вмешательства. Перестройка церковной организации при Екатерине, ее претензии на право определять, что относится к области религии, а что к области ведения режима, – все это несколько обесценивало ее обещания уважительного невмешательства в дела каждой из терпимых религий48.
В то же время эта модель веротерпимости служила динамичным инструментом продвижения имперской власти за пределы России, давая государству рычаги воздействия на соседние страны. Православные диссиденты (и даже польские протестанты) в Польше, Османской империи и Персии обращались к императрице за защитой от религиозных преследований. Внутри страны веротерпимость была формой полицейского контроля, а за границей оправдывала вмешательство царской власти. Увлеченность Екатерины вопросами веротерпимости в Польше спровоцировала войну с турками. В июле 1768 г. православные казаки, воодушевленные участием царицы в польских делах, восстали против своих религиозных противников. Они вторглись на территорию Крымского ханства, где стали убивать местных евреев. Невзирая на протесты Порты, русские отказались прекратить военные действия против поляков на берегах Днестра. В октябре османы, за которыми стояла Франция, объявили войну России49.
Многие из окружения императрицы настаивали на захвате не только Крымского полуострова, но и самого Константинополя. Эта война, которую обосновывали то освобождением православных братьев по вере, то притязаниями России на классическое греческое наследие, вдохновляла призывы к изгнанию турок из Европы. Вольтер в письме к Екатерине от ноября 1771 г. высказывал надежду, что другие державы присоединятся к ней, чтобы «под Вашим покровительством уничтожить два главных бедствия мира – чуму и турок». Узнав, что султан повесил греческого епископа, философ советовал ей «при первой возможности сделать то же самое с муфтием» (мусульманским клириком). Аналогично в оде на рождение великого князя Константина Павловича Вольтер прославлял его как «защитника веры, славу Руси, страх и ужас людей в тюрбанах». В других письмах он восхвалял аннексию Крыма как «первый шаг к очищению Европы от магометан и завоеванию Стамбула»50.
Благодаря этой борьбе с османами их религия стала в России темой разнообразных литературных жанров. Российские читатели открывали такие тексты, как «Краткое жизнеописание лжепророка Магомета», а при дворе ставили пьесу Вольтера «Магомет, или Фанатизм», где звучала изъезженная тема обмана основателя религии. Рассказы о плене также возрождали конфессиональные диспуты, теперь в виде приключенческих историй. В многократно изданных «Нещастных приключениях Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света» рассказывалась история моряка, который стал рабом у османов и позже пехотинцем (янычаром) в Стамбуле. Как и других таких пленников, его заставили совершить обрезание и принять ислам. Баранщиков женился на мусульманке, по его словам, находился под постоянным надзором и страхом наказания. Но его мучили воспоминания о «любезном отечестве России, вере христианской», жене и трех детях в Нижнем Новгороде. Несчастный неофит тосковал по «образу жизни и нравам российским, несходным с турецкими». Хотя турки превратили «христианскую греческую церковь» Айя-Софию в мечеть, их религия не соответствовала его «благочестию христианскому». «В мечетях их нет никакого изображения, чтобы приводить на память благость Божию и удивляться», – жаловался он. Когда имам велел ему взять вторую жену, отчего «умножилось более в нем, Баранщикове, презрение к магометанской вере», он окончательно решил бежать из «Царьграда» в «отечество свое Россию»51.
Однако антимусульманская риторика этих приключений моряка и других подобных текстов не означала изменений в практике режима по поддержанию имперского конфессионального порядка. Напротив, в середине первой русско-турецкой войны (1768–1774) своего царствования Екатерина расширила правовую основу веротерпимости. В июне 1773 г. она смягчила правила, запрещавшие мечети в смешанных поселениях, для города Казани, где православная епархия протестовала против двух каменных мечетей в старой татарской слободе. Екатерина поддержала губернатора, который цитировал ее «Наказ», чтобы обосновать разрешение строительства мечетей по соседству с церквями и в присутствии православных неофитов. Хотя в указе упоминалась «терпимость всех вероисповеданий», он непосредственно касался только этих двух мечетей и отношений между местной церковью и государственными чиновниками. Объясняя указ, императрица отмечала, что поскольку «Всевышний Бог на земли терпит все веры, языки и исповедания», она будет действовать согласно «Его Святой воле», «желая только, чтоб между подданными Ея Величества всегда любовь и согласие царствовало»52.
Осторожность Екатерины имела веские причины. Мусульманские депутаты в Уложенной комиссии 1767–1768 гг. выражали недовольство местной администрацией, а восстание в восточных губерниях осени 1773 г. выявило его масштаб. Не только православные раскольники («староверы»), но и некоторые мусульмане восстали под знаменами казака Емельяна Пугачева. Императрица, вынужденная перебросить войска с османского фронта на подавление пугачевского мятежа, заключила в 1774 г. Кючук-Кайнарджийский договор. Он открыл Черное море для российского флота, укрепил царское влияние в Крыму и сделал Санкт-Петербург покровителем православных общин под властью осман. Но в долгосрочной перспективе двусмысленные выражения договора ослабили выигрыш России тем, что, как казалось, дали Порте право высказываться по мусульманским вопросам за пределами своих границ. Страхи перед османским вмешательством в поддержку мусульман были не новы, но российская экспансия сблизила границы двух государств и увеличила количество мусульман в России. Антимусульманские критики – например, князь Михаил Щербатов – предупреждали, что все мусульмане остаются «рожденными врагами Христианам», хранящими память о временах, когда они правили Россией. Связанные религией с «турками», они ждали начала войны «с Портою Оттоманскою, тогда сии народы ясно оказуют свою преданность к оным»53.
Тем не менее императрица отвергла возражения со стороны церкви и других критиков, потому что ислам казался ей полезным в стремлении к просвещенному камерализму, удобным средством для наведения порядка и дисциплины среди подданных. Позицию Екатерины подкреплял новый корпус европейской литературы, где предполагалось, что ислам может соответствовать критериям камералистов вроде Зонненфельса: «турецкая вера» выглядела уже не такой чуждой, как казалось раньше. В этих работах ислам интерпретировался для образованной публики в христианских категориях. Авторы писали скорее в дидактическом, нежели в полемическом ключе, и ставили целью выявить внешне универсальные признаки религий. Они доказывали, что мусульмане, несомненно, ошиблись, вознеся Мухаммеда на такую высоту, которой достоин только Христос; они подчеркивали эту ошибку, называя религию мусульман «магометанством». Однако при этом европейские комментаторы выделяли общий монотеизм: «Турки исповедуют единого Бога, в единой Ипостаси, или лиц, создателя неба и земли, мздовоздаятеля благих, наказателя злых, создавшего Рай для первых, для последних же вечные муки».
Сходство между исламом и христианством этим не исчерпывалось. Хотя турки считали Мухаммеда величайшим пророком, они все еще верили в «десятословию Моисееву» и «предписания оного наблюдают». Они почитали пятницу священным днем, «как христиане, воскресения». Они собирались в «храмах» на молитву и отмечали, «как бы у христиан», праздник после месяца поста, называя его не Пасхой, а «Байрамом». Конечно, были и различия. Мусульмане-мужчины могли иметь четырех жен; из «таинств» они знали только обрезание54.
Структура справочников – таких, как перевод анонимного латинского текста «Сокращение магометанской веры» (1784) – предлагала читателям оценить общие теологические и моральные принципы. В «Сокращении» ислам представлялся как «турецкая вера», куда входили восемь заповедей и семь смертных грехов, известных христианам. Турецкая религия знала обряды, духовенство и Божий суд, приговаривающий к раю или аду. В ее заповедях соединялись моральные и социальные уроки, они регулировали семью и общину.
Первая заповедь предписывала поклоняться единому Богу и Его пророку Магомету. Вторая наказывала верующим: «сколько возможно старайся сохранить верность, любовь, честь, благовение к родителям, и ничего не делай противного их воле». Мусульмане следовали особым установлениям о регулярных молитвах в мечети, посте и благотворительности и тоже подчинялись дисциплине универсального социального кодекса. Их закон не только предписывал вступать в брак и запрещал отнимать жизнь, но и учил Золотому правилу. Третья заповедь гласила: «Чего себе не желаешь, другому не делай»55.
Хотя наблюдатели все еще были чувствительны к доктринальным различиям между исламом и православием, они обнаруживали в османских религиозных институтах иерархию, похожую на церковную. В русском языке появилась новая лексика, отражавшая эти ассоциации. Подобно тому как общий московский термин для нехристианина (басурман) уступил место более специальному (магометанин), в начале XVIII в. в русский язык вошли титулы османской религиозной верхушки56.
Обширная таксономия мусульманских должностей появилась в описании Османской империи пера Федора Эмина, опубликованном впервые в 1769 г. и впоследствии многократно переизданном. Автор привлек внимание царских властей в 1758 г. при подозрительных обстоятельствах, представившись «Магометом Эмином» российскому послу в Лондоне. Эмин называл себя уроженцем Российской империи (поляком по происхождению, согласно другому источнику) и описывал свою двадцатилетнюю службу османским властям в качестве янычара и обращение в ислам. Поселившись в России, он принял православие, изучил русский язык и стал важным информантом по жизни в Османской империи. В своей работе он одним из первых перевел титулы мусульманских религиозных деятелей на православный церковный язык. Он передал титул главы османской религиозной системы, шейх-уль-ислам, как «патриарх», и отождествил имамов со священниками, а кадиев, судей исламского права, – с протоиереями. Муфтий был эквивалентом архимандрита в маленьких городах и епископа в больших; дервиши были не более чем монахами. Когда российские ученые начали исследовать мусульманские народы в своей собственной стране, они отождествили титулы муллы и абыза с «нашими священниками», а должность му-Азина [муэдзина] – с «должностью нашего пономаря». Эти термины – и их кажущиеся эквиваленты в Православной церкви – стали опорными в текстах об исламе, хотя и сохраняли экзотический аромат, подобно придворным, одевавшимся «муфтиями» и «янычарами» на маскарадах в Санкт-Петербурге57.
Итак, у «магометан», по-видимому, были «духовенство» и монотеистическая религия, основанная на священной книге, с нормами, напоминающими каноническое право. Их «закон», содержавший концепты греха и покаяния, рая и ада, связывал действия в этом мире с вечными наказаниями и наградами. Подобные образы повышали ценность ислама в глазах властей, которые видели в нем средство дополнить обычные санкции имперского управления угрозами Божьего суда. Даже те русские, что высмеивали исторического Магомета как шарлатана, зачастую неохотно признавали, что у ислама слишком много общего с православием, чтобы отвергнуть его с порога. Одним из таких половинчатых критиков был Максим Невзоров, которого привело в восторг посещение мечети в Казани начала XIX в. По его словам, верующие молились с таким «чрезвычайным благоговением», что казалось, будто «во время молитвы ощутительным образом чувствуют над собою присутствие Бога сильного, мощного и страшного». Магометане ощущают «силу и могущество Бога», но, к сожалению автора, они «не чувствуют любви Его». Это, по-видимому, объяснялось происхождением их религии. «Магометанская религия» была скомпонована из «всех вер тогда существовавших, а особливо из Иудейской», так что мечети напоминали «храм Иудейский». Несмотря на эти недостатки, сравнение с «невежеством язычников и идолопоклонников» показывало, что «Магомет открыл в учении своем край луны бродящим в непроницаемой ночи неведения и безбожия; ибо по справедливости можно сказать, что те, которые безпрестанно над собою чувствуют Бога праведного, всемогущего и мстителя всякой неправды, менее могут делать другим зла, нежели совсем непризнающие никакой верховной в мире власти, или отвергающие Промысл Его о нашем благосостоянии».
И потому, хотя сам Магомет был «совершенной обманщик», соблазнял девственниц и обращал сыновей против отцов, он возвысил свой народ над примитивным язычеством и идолопоклонством58. Как средство борьбы со злом и предупреждения о Божьей каре за земные грехи ислам выглядел полезным, хотя и несовершенным. Кроме того, цена альтернативы – репрессий – оказалась слишком высокой. Империя основывалась на порядке, и, хотя веротерпимость подрывала авторитет церкви внутри страны, она помогала православным в мусульманских странах и закладывала основу для будущей экспансии.
ПРЕСТОЛ И МЕЧЕТЬ
Российские власти, которые разделяли этот взгляд на полезность ислама, все же сталкивались со многими проблемами. Мало было провозгласить веротерпимость и предоставить мусульман и других неправославных самим себе. «Упорядоченное» европейское государство, которое Екатерина рассчитывала построить в России, присваивало каждой религии свою роль в поддержании империи. В то время как европейские администраторы предполагали опираться на общие христианские доктрины для поддержки государства, перед российскими властями стояла задача адаптации к этой цели других доктрин. Более того, царское правительство столкнулось с фундаментальной дилеммой, связанной с приложением ожидаемой полезности ислама к практике управления империей. В отличие от протестантов и католиков, но подобно евреям на западных рубежах, мусульмане на востоке не имели готовой церковной структуры, которую можно было бы инкорпорировать в петербургскую бюрократию. В государстве, где даже доминирующая религия со времен Петра была подчинена светскому контролю, религия без иерархической организации была немыслима. Престол не мог существовать без алтаря, а алтарь – или мечеть – без престола.
Чтобы понять возможную пользу ислама для империи, екатерининские чиновники задались целью найти такую модель организации, которая могла бы дисциплинировать эту религию и ее служителей и привлечь их на государственную службу. Они разработали комплексную структуру, скопированную прежде всего с православной церкви того времени, но также с модели предполагаемых хранителей исламской традиции – осман. Власти не стремились воспроизвести точную копию османских религиозных институтов. Скорее они хотели создать институты, созвучные их представлениям об аутентичных религиозных нормах, хранимых государством-соперником. Чиновникам казалось, что эти должности аналогичны духовным титулам церкви. Это сходство означало возможность и даже необходимость организовать централизованную духовную иерархию под управлением государства. Проектирование этой организации основывалось на приоритете дисциплины и образования клириков, что было общим принципом для постреформационных протестантских, католических и, позже, православных церковных элит59.
В 1787 г., после того как Екатерина аннексировала Крым и усилила полицейский контроль в губерниях, началась вторая русско-турецкая война. Это заставило правительство сосредоточить внимание на создании исламских институтов под имперским управлением. В 1785 г. конфликт с харизматичным суфийским шейхом, вспыхнувший после сожжения российскими солдатами его села в Чечне, еще ярче продемонстрировал опасность восстаний на почве религиозной лояльности, не признававшей государственных границ. Екатерина объявила этого шейха Мансура «обманщиком» и «лжепророком», действовавшим с подачи османского султана Селима III60. В контексте войны Санкт-Петербург стремился отвергнуть султанские притязания на власть над всеми российскими мусульманами. Структура, выбранная екатерининскими чиновниками для нового института, отражала их амбициозные цели. Они рассчитывали использовать внутренние источники исламского авторитета в нестабильном регионе, где до тех пор теплились огни пугачевского восстания. Территория Оренбурга, расположенного на восточных окраинах империи примерно в 1760 км от Москвы, образовывала пограничье к северу от Каспийского моря вдоль линии раздела смешанных лесов и травянистых степей. Города Уфа и Оренбург, первоначально – крепости на оборонительной линии вдоль рек Урал, Белая и Самара и Уральского хребта, – охраняли Россию от неспокойного степного мира с его воинственными наездниками и формировали границу между зоной оседлого земледелия и кочевьями казахов Малой и Средней Орд. Эти города также были воротами на Восток, служа базами для дипломатических миссий и торговли с кочевыми соседями России, а также с народами Центральной Азии, Китая и Индии.
Инициатива по созданию государственной иерархии для ислама возникла на этом степном фронтире, где российские чиновники уже привлекали мусульманских клириков как посредников на переговорах с мусульманами – татарами, мишарями, башкирами, казахами и иностранными торговцами. Первый шаг навстречу государству сделали башкирские религиозные ученые к 1730‐х гг.; они добивались официального признания своих шариатских судов и особого статуса для уважаемых мусульманских юристов (ахунов или ахундов). В 1754 г. правительство назначило муллу Батыршу на одну из этих должностей, но он оказался ненадежным. В следующем году он поднял бунт против режима, и российскому администратору пришлось фабриковать письма от имени другого мусульманского религиозного деятеля, чтобы удержать казахов от присоединения к мятежу. Но Батырша объявил о своей невиновности, утверждая, что он всегда «предписывал… то, что установлено, и удерживал от того, что запрещено» ради блага общества, а также проповедовал лояльность властям, согласно Корану: «О правоверные (мѳминлер)! Повинуйтесь падишаху нашего времени и его наместникам»61.
Имперский интерес к использованию подобных религиозных принципов только возрастал. В 1785 г. симбирский и уфимский генерал-губернатор направил Екатерине прошение о назначении мусульманского ученого из Каргалы Мухамеджана Хусаинова (1756–1824) на должность «первого ахуна края» с жалованьем в 150 рублей для «пограничных и внешних посылок»; в следующем году эта сумма удвоилась. Но не он, а новый генерал-губернатор, прибывший из недавно аннексированного Крыма, – барон Осип Андреевич Игельстром, дворянин из протестантской балтийской немецкой семьи, предложил институционализировать авторитет Хусаинова в рамках более широкого стратегического плана по обеспечению государственной поддержки мусульманской религии. Опираясь на свой опыт администратора в Крыму и участника российско-османских дипломатических сношений, генерал-губернатор ассоциировал ислам с оседлыми земледельческими и торговыми общинами. Игельстром считал школы, суды, мечети, рынки и постоялые дворы (караван-сараи) средствами склонить к оседлости кочевых башкир и казахов и отвратить их от набегов. Екатерина поддержала его, выделив средства на строительство множества мечетей на степном фронтире и в Западной Сибири. Более того, в 1787 г. для распространения правильного понимания религии Екатерина распорядилась напечатать в Петербурге Коран для бесплатной раздачи казахам на фронтире; к концу века это издательство выпустило вдобавок не менее 3600 экземпляров Корана для продажи российским мусульманам62.
С восточного фронтира эти учреждения стали распространяться дальше в степи. Расчет был на то, что купцы из Персии, Бухары, Индии и еще более дальних стран, часто посещавшие оренбургские рынки, своими глазами увидят заботу Екатерины о благополучии ислама и по караванным путям понесут слух о ее благосклонности, побуждая другие «магометанские народы» искать ее просвещенного покровительства. В двух указах от сентября 1788 г. Екатерина предписала учредить в Уфе «Духовное собрание Магометанского закона». Императрица поставила во главе учреждения 32-летнего Мухамеджана Хусаинова, уже знакомого нам сподвижника по делам фронтира. Он получил титул муфтия, годовое жалованье в 1500 рублей и помощников – «двух или трех Мулл из Казанских Татар», народа, который давно поставлял верных царских слуг. Указы поручали им обеспечивать контроль над «Муллами и прочими духовными чинами Магометанского закона» во всех провинциях империи, где жили мусульмане, за исключением Крыма, где Екатерина обещала впоследствии учредить отдельное учреждение по тому же образцу63.
В 1789 г. Игельстром проработал полномочия Собрания, отражая официальную озабоченность наведением порядка и дисциплины в мусульманской религиозной жизни. Он порекомендовал, чтобы Собрание подчинялось губернской администрации на той же основе, что прочие судейские органы. Его правила определяли обязанности Собрания как «испытание в знаниях правил и обрядов магометанского закона всякому желание имеющему или выбранному и удостоеваемому к поступлению в муллы и ахуны или другое звание духовного чина и от наместнического правления для учинения оному испытания в сие собрание присланному». Перед поездкой в Уфу будущие муллы или ахунды должны были получить удостоверенное начальником уездной полиции «обывательское одобрение», свидетельствующее об их «поведении» и подходящем месте жительства. Затем кандидаты должны были предстать перед Собранием, которое оценивало не только их познания в религии, но и политическую лояльность и моральные качества. После одобрения или отклонения кандидата Собрание должно было направить письменное заключение на утверждение губернской администрации64.
Игельстром добавлял, что, помимо проверки квалификации тех, кто хотел бы получить «духовные чины», Собрание должно было «разбирать и решить дела до духовной части магометанскаго закона принадлежащия, как то: до обрезания, бракосочетания, разводов и мечетнаго служения». Это учреждение должно было предоставить голос мусульманам-мирянам: «По установлении же сего порядка, чтоб вольно было всякому, кто не доволен решением муллы или ахуна, объявить неудовольствие свое Духовному собранию и просит оное о чинении по делу его разбирательство». Тем самым он делегировал Собранию апелляционную функцию с правом пересмотра решений, принятых на уровне мечети. Таким образом, генерал-губернатор представлял себе это учреждение центром доктринального авторитета и поручал ему задачу «простирая всемерныя наблюдения на то, чтоб… не вкралось суеверие и другия злоупотребления, не могущия быть терпимы»65.
Под контролем Собрания Игельстром стремился создать плотно регулируемую сеть общин мечетей по образцу православных приходов. Своими инструкциями он упорядочивал эти общины (махаллы татарских источников) и интегрировал их в более обширную структуру бюрократического надзора. Подобно православным селам, мусульманские поселения должны были иметь не менее установленного минимума жителей, чтобы им позволили построить мечеть; но Игельстром также разрешил создание мечетей в меньших поселениях, «поелику магометане производят пятикратную в день молитву [там]»66. Ставя Собрание между просителями и чиновниками, Игельстром поручал ему изучать запросы на строительство мечетей, прежде чем пересылать их губернским властям, имевшим решающий голос.
Сверх контроля над числом и размерами мусульманских приходов, Собранию был поручен надзор над «служителями мечетей», приписанными к ним. Со времен Петра церковь и государственные чиновники сражались с назначениями «лишних» духовных чинов, которые якобы разоряли церковь и обременяли прихожан. С точки зрения светских властей такие клирики лучше послужили бы «общественному благу», если бы приобрели более «полезные» профессии. Не разрешая числу «духовных чинов» превысить необходимый минимум, Игельстром устранял «излишних и праздных». Его инструкции ограничивали легальное исполнение духовных обязанностей кругом лиц, лицензированных государством, и тем самым фактически создавали официальное мусульманское духовенство там, где его не существовало ранее. Они предписывали Собранию смотреть за тем, чтобы никто не «присвоял бы себе самовольно звание ахуна, имама или муллы». Другая инструкция ограничивала количество ахундов в уезде двумя, указывая, чтобы они наблюдали за «мечетами, школами и служителями при оных». Игельстром также поручил Собранию надзор за мусульманскими школами. Школы можно было организовывать только внутри комплексов мечетей, и преподавать в них было позволено только учителям, проэкзаменованным Собранием67.
Новое учреждение, первоначально названное Уфимским духовным магометанского закона собранием, а позже Оренбургским магометанским духовным собранием (ОМДС), быстро приобрело также отпечаток личности своего мусульманского главы. Хусаинов, сын имама из деревни Каргалы, учился в местных школах, а потом уехал в Бухару и Кабул, где стал учеником Файз-хана, с рассказа о котором мы начали эту главу. С 1770‐х гг. Хусаинов тесно сотрудничал с имперскими властями и выступал их агентом на юго-восточных границах. На Северном Кавказе он вел переговоры о подчинении мусульман российскому правительству. В степях к востоку от Оренбурга он побуждал казахов принести присягу царю и в то же время добивался углубления их преданности религиозному долгу в исламском сообществе68. Впоследствии он укрепил эти связи, выдав дочь замуж за хана казахской Внутренней Орды, обитавшей между Волгой и рекой Урал.
Несмотря на покровительство Игельстрома и императрицы, первоначальные должностные полномочия муфтия Хусаинова не соответствовали его амбициям. В 1792 г. он запросил право владеть крепостными, объясняя, что по должности он является «первейшим в мугаметанех» и заслужил эту привилегию, «воображая службу древнейших предков». Он привел казахов под «российскому непобедимому скипетру» и улаживал конфликты между ними и русскими. Привилегия владеть крепостными принадлежала только дворянам и царской семье, и Хусаинов доказывал, что она соответствует его положению, тогда как религиозный долг вступить в законный брак согласно «закону мугаметанскому» делал ее практически необходимой69.
Под руководством предприимчивого Хусаинова ОМДС за первые десять лет своего существования энергично распространяло свою власть на мусульманских религиозных ученых. К 1800 г. муфтий и трое судей – членов ОМДС при содействии штата из шести секретарей и переводчиков подвергли устным экзаменам более 1900 клириков70. Протоколы 1791 г. свидетельствуют, что в это число входили 527 мулл, которые руководили молитвами в мечетях и преподавали, и 339 азанчи (муэдзинов), которые возглашали призыв на молитву; помимо различных специализированных преподавательских титулов, семь человек имели звание ахунда, что означало старшинство в определенной местности. Тем не менее в начале XIX в. влияние ОМДС оставалось слабым, а его связи с общинами мечетей – поверхностными. У него был скромный штат и бюджет, и до середины века оно не имело собственного здания; очевидно, его контора и архив размещались в здании губернского правления. С этими скромными ресурсами исламскому учреждению было тяжело насаждать дисциплину среди клириков и приходскую структуру в мусульманских общинах под его юрисдикцией.
Хотя Екатерина поддерживала проект Игельстрома, чиновники в столицах и особенно губернские власти выступали против него. Некоторые увидели в этом учреждении угрозу своей власти. Гражданский губернатор Оренбурга жаловался, что 4 декабря 1789 г., когда открылось ОМДС, местные чиновники не понимали ни «прямой Его должности», ни ответственности за проверку квалификации «Духовных Магометанского Закона чиновников». Губернатор Фризель советовал не давать слишком много воли муфтию и ОМДС, указывая на слабость местной администрации и «фанатизм народа малопросвещенного, но закоренелого в грубости своих понятий»71.
Фризель настаивал, чтобы российские чиновники сохраняли абсолютную власть над своими мусульманскими подопечными. Он отстаивал необходимость их участия в конфликтах между мусульманами, особенно касающихся брачных дел, поскольку «затруднении в рассуждении разбора дел брачного у магометан союза, достойны уважения высшего правительства». По его заявлению, иерархия до такой степени превысила свои полномочия, что ОМДС считало губернское правление «лишь исполнительным орудием решений его». Фризель требовал, чтобы губернские власти осуществляли строгий контроль; он предупреждал, что в противном случае «никогда не будет преследуемо пристрастное зло и корыстолюбие Духовных Магометанского Закона чиновников». Губернатор считал муфтия слишком амбициозным, указывая на предложение Хусаинова заменить ОМДС в Уфе «Духовной Магометанского Закона Коллегией» в Санкт-Петербурге, непосредственно подчиненной монархине. Фризель доказывал, что муфтий посредством этого стремится стать «непосредственным властелином над верою, исповедуемою Магометанами, и купно над народом сим». Он заключал: «власть Духовную над здешним Магометанским народом, ни по каким побуждениям нельзя усилить в своем действии»72.
Недоверие к новому учреждению питали не только губернские бюрократы. Мусульмане тоже неоднозначно восприняли нового главу исламского сообщества империи, назначенного государством. Сама идея официального муфтията, по-видимому, не вызвала серьезной оппозиции. Мусульмане могли бы привыкнуть к этому органу, потому что аналогичные институты бывали известны среди них в прошлом; они существовали и в современных им обществах, прежде всего в Османской империи, где имелся шейх-уль-ислам и подчиненные ему ранжированные должности судей, ученых и преподавателей73. С точки зрения критиков, легитимность муфтията подрывало поведение Хусаинова. Человек скромного происхождения, он оттолкнул от себя исламских ученых и мирян, присвоив эксклюзивную роль судьи исламской ортодоксии для разрозненных общин, которые прежде искали руководства во многих центрах исламского образования от Кабула до Каира. Критики Хусаинова учились во многом у тех же учителей, что и он сам.
Играло свою роль и личное соперничество. Многие из ученых – врагов Хусаинова метили на его должность; некоторые не простили ему разбитых надежд на роль главного мусульманского авторитета империи.
Обвинения в коррупции и пристрастности подтачивали моральный авторитет Хусаинова, хотя его враги отделяли его поведение от политики государства и стремились настроить правительство против него. Исламские тексты, ходившие по Российской империи и Центральной Азии, описывали кодекс поведения и моральные качества, необходимые для муфтия74. Но оппоненты Хусаинова не цитировали их в своих протестах. Перед аудиторией из российских чиновников они характеризовали его поведение в терминах, понятных для противников злоупотреблений бюрократии. Они использовали понятия продажности и фаворитизма, указывая и на его «мздоимство», и на склонность к поведению, запрещенному исламскими законами.
В 1805 г. один казанский купец первой гильдии послал царю прошение с доносом на Хусаинова. Абдулла Хасамдинов обвинял муфтия в нарушении «порядка в богослужении», имея в виду пренебрежение установленным временем для молитв. По словам Хасамдинова, муфтий совершал и другие нарушения шариата – например, носил шелковую одежду и ел серебряными ложками. Он даже вымогал деньги у кандидатов, приезжавших в Уфу для экзамена перед ОМДС. Купец писал, что тем, кто отказывался платить, на экзамене задавали вопросы, «кои может быть совсем не существуют, а чрез то [Хусаинов] отвергает их яко бы они неспособны и не достойны»75.
Судьи ОМДС защищали Хусаинова. Хамза Эмангулов объяснял, что воздавал ему должное и чтил как «мудрого наставника». Отклоняя первые обвинения, судьи настаивали на том, что все они молились одновременно. Когда следователи из губернской администрации допросили мулл, прошедших экзамен, те также свидетельствовали о его неподкупности: двадцать четыре муллы в Свияжском уезде и сорок три в Мамадыжском уезде Казанской губернии отрицали, что их заставляли платить взятки.
Однако были и такие, кто присоединился к обвинителям муфтия. Один мулла из Казани выступил в поддержку обвинений Хасамдинова, а с ним еще один мулла из Царевококшайска и один из Спасска. Еще несколько мулл из Старой Татарской слободы в Казани добавили, что Хусаинов «ругает мулл поносными словами, стращает ссылать в Сибирь и берет с них деньги». Помощник местного ахунда Салих Ахметев жаловался, что «бесполезные» вызовы к муфтию в Уфу обошлись ему в 50 рублей. Сорок шесть крестьян из села Старые Тиганы сообщили следователям, что когда муфтий двадцать лет назад проезжал через их деревню, он не заплатил им за двадцать взятых лошадей. Но эти обвинения не убедили следователей. Один чиновник отверг последнее свидетельство, заметив, что «20 лет тому назад в России Муфтия Магометанского Закона еще не было в определении». Осенью 1805 г. более 14 тысяч мусульман из разных уездов Казанской губернии засвидетельствовали, что муфтий никогда не причинял им «обид и притеснений» и не вымогал денег76.
Конфликты вокруг первого муфтия на этом не закончились. Клирики, миряне вкупе с губернскими чиновниками выдвигали новые обвинения. В 1811 г. оренбургские власти обвинили Хусаинова в неисполнении обязанностей, и этот казус инициировал более масштабные споры о власти муфтия. В результате статус Хусаинова и его преемников был законодательно повышен: муфтий был выведен из-под юрисдикции губернской Уголовной палаты. Дела, касающиеся обладателя этой должности, были переданы высшему судебному органу империи – Правительствующему сенату в Санкт-Петербурге. Среди своих единоверцев Хусаинов претендовал на право решать, кто принадлежит к сообществу правоверных, а кто нет; в донесениях властям от 1815 и 1818 гг. он заявлял, что «ежели кто пренебрежет решением и фетивою Муфтия, то тот не должен быть почтен за Мусульманина»77.
Хотя Хусаинов теперь возвысился до положения высшего исламского авторитета империи, его власть все еще оспаривали. Обвинения мирян в «пристрастности» бракоразводных решений побудили чиновников четче обозначить его должностные полномочия. Конфликт из‐за наказаний мусульман за супружеские измены отражал сохранявшуюся неопределенность в вопросе о власти муфтия и в более общем плане – неопределенность в отношениях между светской и духовной властью. Власти вспомнили, что они отреагировали на жалобы касательно бракоразводных решений Хусаинова, предписав ему разбирать каждое дело совместно с другими членами ОМДС. В 1832 г., после его ухода с должности, Сенат постановил, чтобы светские власти не исполняли «личные решения» муфтия – в данном случае приказы «Магометанского Духовенства» о применении телесных наказаний к прелюбодеям78. Хотя это постановление имело целью провести более четкую границу между «гражданской» и «духовной» властями, они по-прежнему переплетались между собой.
РАСКОЛЬНИКИ ИСЛАМСКОЙ ЦЕРКВИ
Культивируя эту взаимную зависимость, первый муфтий попытался превратить в свое орудие сам режим, стремившийся использовать ислам для управления империей. Он активно добивался альянса с Санкт-Петербургом ради поддержания своего авторитета перед лицом двойной оппозиции со стороны мусульманской знати и губернского чиновничества. В июне 1815 г. он обратился к Александру Николаевичу Голицыну, главноуправляющему иностранных исповеданий. Хусаинов жаловался на местные власти, которые выдавали «магометанскому духовенству» паспорта с разрешением покидать свои приходы на длительные сроки. Некоторые из этих чиновников даже выдали разрешения на паломничество в Мекку. Муфтий выражал протест: эти чиновники подрывали его возможности контроля над духовенством, хотя он служил государству «с усердностию» и убеждал «народа магометанского и оного духовенства» жить мирно и подчиняться законной власти.
Хусаинов добавлял, что эти клирики замешаны в «злых делах» и что он считает своим долгом довести эту информацию до сведения Голицына. Он уверял, что не желает ни «похвалы», ни награды от Петербурга, но действует из «всероссийскому отечеству преданности» и «из прискорбия по пастырству моему». Выражения патриотического рвения и пастырской заботы помогли Хусаинову заручиться определенной поддержкой чиновников центрального правительства и обеспечили место в более широком кругу имперской элиты как члену Вольного экономического общества, кавалеру ордена св. Георгия и даже члену Российского библейского общества79.
Тем не менее столичные связи Хусаинова не гарантировали ОМДС той степени церковного контроля, на которую рассчитывали его архитекторы. Конфликт между Хусаиновым и одним муллой из Казанской губернии иллюстрирует главные аспекты борьбы, которую муфтий вел за распространение своей власти на местную религиозную жизнь вопреки возражениям имперской администрации и, что особенно характерно, своих же единоверцев. Этот казус проливает свет на религиозные споры и на то, как взаимодействие сельской политики с официальными исламскими властями влияло на местные дискуссии по более общим вопросам. Споры об исламской традиции распространялись за пределы ученой элиты. Они связывали соперничающие голоса образованных и необразованных людей с дискуссиями по всему исламскому миру; через патронатные отношения и суфийские духовные поиски к ним подключались деревенские жители из различных социальных групп. Для разрешения таких важных конфликтов требовались могущественные арбитры.
В октябре 1801 г. муфтий Хусаинов письмом сообщил в петербургский Правительствующий сенат тревожные новости, полученные им от одного знатного мусульманина из Старой Татарской слободы в Казани. Этот информант сообщал, что суд низшей инстанции в селе Ура (Оры) вновь открыл мечеть, которую муфтий закрыл в прошлом году распоряжением, утвержденным Сенатом. Хусаинов подчеркивал свою собственную роль, интерпретируя для своих читателей происходившее в этой мечети: «А как сан и долг мой есть тот самый чтоб наблюдать дабы не могло происходить между единоплеменниками моими, а паче от несведущих закон или раскольников духовных чиновников какового либо между черным народом соблазна, а от того разврата и неповиновения начальству»80.
Муфтий подчеркивал угрозу, исходившую от того, что он характеризовал как неизбежную связь религиозного раскола с мятежом. Он заявлял, что мечеть открылась из‐за «происков и хитрости» бывшего муллы Хабибуллы Хусеинова, которого муфтий «с давнего времени найден мною противником нашему закону, то есть раскольником». Спор муфтия с этим сельским муллой втянул его в сложный конфликт, коренившийся в местных условиях. Община недавно раскололась из‐за притязаний одного семейного клана на первенство в религиозных делах. Процветающее село со множеством мелких фабрик, Ура была населена ремесленниками, рыбаками, а также купцами, торговавшими с Центральной Азией81. Неприятие идей Хабибуллы Хусеинова об исламском благочестии еще более усилило вражду внутри расслоившегося сообщества.
Патриарх главенствовавшей в Уре семьи Назиров в 1787 г., после возвращения из Бухары, где получил образование, основал в селе каменную мечеть. Хабибулла стал имамом, видимо, после того как его родственница вышла замуж за одного из членов этой семьи. Но вскоре отношения между свойственниками испортились, и некоторые представители клана Назиров подняли голос против муллы. Мумейн ибн Тахир ибн Назир жаловался в Уфу на новое назначение, заявляя: «Я построил эту мечеть только для себя и своих детей, и никто из нас не доволен тем, что имамом стал Хабибулла»82. Источники не сообщают, издал ли муфтий официальный приказ о смещении Хабибуллы. Похоже, что сам мулла уклонился от давления со стороны Назиров, покинув мечеть, которую они объявили семейной собственностью.
В 1799 г. имамом каменной мечети стал его брат Фатхулла ибн аль-Хусеин ибн Габделькерим аль-Ури, а Хабибулла решил основать свою собственную мечеть83. Указывая на то, что в селе нужна мечеть (и, вероятно, не упоминая существующую), в 1800 г. Хабибулла запросил разрешения на постройку еще одной мечети в Уре. ОМДС дало разрешение, и Хабибулла построил для своих последователей новую деревянную мечеть рядом со старой при помощи селян, которые признавали его своим суфийским наставником (ишаном). Между тем распри в селе Ура продолжались. Влиятельные местные жители – баи – постоянно обращались в ОМДС за поддержкой против Хабибуллы. Тогда муфтий приказал ему оставить должность и велел закрыть и опечатать мечеть (согласно одному источнику, сжечь)84. Но, как обнаружил Хусаинов в конце 1801 г., местный суд отменил его приказ и открыл мечеть.
Хабибулла нашел более влиятельного патрона в местной администрации. Кампания петиций, очевидно, имела успех. Последователи Хабибуллы, включая множество мишарей, присоединившихся к нему, когда он объезжал их край с проповедями и наставлениями, подавали губернатору прошения в его поддержку85. Еще одним вызовом власти муфтия стало то, что некий губернский чиновник разрешил Хабибулле вернуться на должность муллы взамен его брата Фатхуллы, хотя назначение последнего было утверждено Хусаиновым.
Сторонники Хабибуллы снова поддержали его, когда баи мобилизовали против него своих слуг и фабричных рабочих. Две группы, вооруженные дубинами, устроили в селе жестокую схватку. Несмотря на угрозу насилия и противостояние с муфтием и братом Фатхуллой (который с 1819 г. занял должность «старшего ахунда» уезда), Хабибулла продолжал привлекать последователей со всего края. Он также основал в селе суфийскую общину (ханака) и в ней, видимо, посвящал в мистические религиозные знания, приобретенные у его суфийского наставника Файз-хана, который выдал ему лицензию (иджаза) во время обучения в Кабуле86.
Однако суфизм был не единственной причиной конфликта с Хабибуллой. Муфтий Хусаинов тоже учился у Файз-хана; Фатхулла, видимо, также придерживался трезвых легалистских взглядов Муджаддиди. Похоже, что притязания Хабибуллы на духовное первенство в Уре и во всем крае, основанные на широкой поддержке необразованных мусульман, тревожили и Фатхуллу, и муфтия. Хабибулла даже претендовал на должность Хусаинова, выдвинувшись кандидатом в муфтии87.
Хабибулла, по-видимому, как и его брат, беспокоил ученых тем, что претендовал на лидерство в суфийском стиле, привлекательном для простых людей. Его харизма распространялась за пределы села, привлекая мишарей и других последователей со всего края. В то же время религия Хабибуллы обособляла его поклонников и раскалывала местную общину правоверных. Возможно, одно из самых откровенных обвинений Хусаинова в адрес Хабибуллы заключалось в том, что мулла намеревался основать «шихской дом, или ханака», место для посвящения учеников в суфийские ритуалы и молитвы, под предлогом преобразования мечети в сиротский приют. Критикуя Хабибуллу, муфтий не осуждал суфийские практики в целом. Он направлял гнев против «раскольнических правил», введенных Хабибуллой среди «черныи народ» после его поездок в Бухару и особенно Кабул. Последователи Хабибуллы распространяли его учение на основе текста под названием «Урок для невежд», сочинения одного юриста Х в. Говорили, что популярность Хабибуллы у мишар была связана с этим популярным среди мусульман всего мира текстом – сборником афоризмов, наставлений о морали и благочестии и отрывков из Корана и хадисов (рассказов о словах и деяниях Пророка и его сподвижников)88.
Согласно Хусаинову, Хабибулла и его последователи даже ездили в степь и распространяли свое учение среди казахов. Барон Игельстром приказал муфтию положить конец «разным соблазнам и возмущениям», которые это вызвало среди них. Хусаинов выступил против Хабибуллы «с истолкованием о правилах магометанского закона увещевания» в степи и осудил его действия как «весьма противны нашему закону». В оправдание своей кампании против шейха он ссылался на политику бывшего оренбургского губернатора Ивана Неплюева, который в 1746 г. призывал к аресту мусульманских вождей, возбуждавших «беспокойства и замешательсто» в народе.
Между тем Хусаинову сообщили, что в Петровском уезде Саратовской губернии татарин по имени Хамза Аитов тоже начал творить «между народом черным разные соблазны и возмущения», называя себя последователем (мюридом) Хабибуллы. Более того, по словам Хусаинова, Аитов от «своевольства» основал мечеть в селе Усть-Узилях и тем самым совершил акт прямого неподчинения правительству. Муфтий также внушил министру внутренних дел графу Виктору Кочубею, что Хабибулла и его соратник мулла Шабан обманывали крестьян по всей Саратовской губернии, представляя первого «угодником Божиим и чудотворцем». Хусаинов обвинял их в сборе денег с доверчивых людей, для чего они создали свою собственную «казну»89. Такая демонстрация стихийной религии в царской империи была политически подозрительной, даже среди неправославных, которые в других аспектах не были затронуты церковной историей раскола и политического мятежа.
Оппоненты Хабибуллы и Шабана представляли их прямой угрозой для официальной исламской иерархии. Один мулла из Кузнецкого уезда докладывал ОМДС, что эти двое образовали особую «судебную канцелярию», где Хабибулла ораторствовал, сидя в дорогом кресле, в которое больше никто не имел права садиться. Этот суфийский наставник даже осмеливался держать «российские-греческие исповедания народов дочери» в «наложницах». По словам муллы, Хабибулла и Шабан продолжали повсюду разъезжать и собирать последователей, хотя подобные действия нарушали исламские и имперские законы. Опираясь на эти доносы, саратовские власти расследовали вопрос о том, выступает ли Хабибулла как «ложный пророк» и вводит ли «новизну». Когда уголовный суд изучил материалы, обвинения шейха в том, что он учит последователей брать русских жен и наложниц, оказались необоснованными90. Внутримусульманские распри запутывали работу полиции, но ислам все еще не продемонстрировал свою полезность для империи.
ВЕРА ДЛЯ ЦАРЯ
Губернатор Игельстром и муфтий Хусаинов представляли исламские учреждения, которым покровительствовала власть, как средство распространить авторитет режима на восточные пограничные территории и дальше. Оренбургские муфтии продолжали играть важную роль и на границах, и в отношениях России с другими мусульманскими государствами. Однако во второй четверти XIX в. МВД стало уделять больше внимания проработке функций ОМДС и муфтия как инструментов управления внутри империи.
Петербург привлекал неправославные религии в помощь светской администрации и ожидал от церкви, что она задействует свой духовный авторитет для поддержания закона и порядка среди своей паствы. Через муфтия правительство хотело употребить авторитет исламской доктрины на то, чтобы убедить своих мусульманских подданных подчиняться себе также и в светских делах. Хусаинов настаивал, что его фетвы должны иметь приказной, а не просто рекомендательный характер, и это соответствовало официальным поискам религиозной поддержки самодержавия. Проповедь ислама развивала бы активное отношение к долгу служить «царю и отечеству». Поэтому в поисках религиозной легитимации законодатели обратились к муфтию. Его проповеди, указания и правовые заключения стали незаменимыми инструментами для передачи и распространения государственных директив, аналогично роли церкви в донесении царских указов до православного населения.
После смерти Хусаинова в 1824 г. муфтии-преемники тоже демонстрировали готовность по-своему интерпретировать исламские предписания для легитимации царских законов. Следуя указаниям властей, второй муфтий Габдессалям Габдрахимов (в должности с 1825 по 1840 г.) выпустил в 1831 г. фетву, в которой наставлял мусульман посылать детей в Казанский университет учиться медицине. В следующем году он при помощи цитат из Корана, хадисов и ханафитских правовых текстов пытался убедить мусульман, что в религии нет места лени и уклонению от работы, как требовал гражданский губернатор Оренбургской губернии. Подчеркивая, что нужно трудиться для защиты семьи от бедности и во избежание греховных удовольствий, муфтий приказывал клирикам убеждать прихожан, чтобы те сеяли и собирали урожай в должное время91.
Габдрахимов, как и Хусаинов, все еще был вынужден конкурировать с другими источниками исламского авторитета, чьи связи охватывали весь регион через медресе и суфийские линии преемства. Подобно множеству других ученых, он учился в медресе в Каргале. Тем не менее один конфликт конца 1820‐х – начала 1830‐х гг. продемонстрировал ограниченное влияние муфтия на общественное мнение мусульман. Габдрахимов столкнулся с одним мусульманским ученым из Казани и с сельскими муллами в башкирских кантонах по вопросу о том, дозволено ли мусульманам подчиняться указу от февраля 1827 г. о трехдневном сроке ожидания между чьей-либо смертью и похоронами. В 1829 г. Петербург обратился к Габдрахимову с просьбой о помощи отразить возражения против этого закона со стороны старшего ахунда Казани Абдулсатара Сагитова. Последний несколько лет учился в Бухаре (поддерживая тесную связь с бухарским эмиром Хайдаром), а затем заработал хорошую репутацию как авторитетный юрист и мулла Пятой Соборной мечети в Казани, где также руководили медресе его отец и брат. После смерти Хусаинова, когда должность муфтия стала вакантной, ахунд боролся за нее, но его кандидатура провалилась из‐за возражений оренбургского губернатора. Сагитов вновь продемонстрировал свои знания перед имперскими властями, когда выступил с возражениями против указа о похоронах92.
Он попросил вывести мусульман из-под действия нового закона, утверждая, что мусульман следует хоронить в день смерти – так предписывает шариат, и сослался на предыдущие законы, даровавшие мусульманам в России «свободу» вероисповедания. В добавление к указам и привилегиям XVIII в. он цитировал хадис с указанием: «когда один из вас умирает, то не держите его как в тюрме, но поспешить предать его могиле»93. Однако в ноябре 1829 г. муфтий выступил против положений Сагитова. Он строил свои возражения на аргументах, выдвинутых Григорием Карташевским, начальником Главного управления духовных дел иностранных исповеданий. Когда Карташевский запросил у муфтия поддержки против Сагитова, то напомнил, что этот закон был «мера общая Полицейская, т. е. не касающаяся собственно веры никаких народов, в России обитающих». Он продолжал: если закон создаст «затруднения» в связи с «магометанским законом», то «высшее Магометанское Духовное начальство отвращением сих затруднений оказало бы свое содействие правительству в его распоряжениях, для самих магометан благотворных». В соответствии с этим запросом муфтий настаивал, что шариат не создает затруднений для этой политики, которую он считал обязательной для мусульман. Цитируя оригинальную переписку, Габдрахимов добавлял, что «от поспешности о погребении были погребены люди действительно неумершие; и в предупреждение сих несчастных случаев угодно было правительству издать Закон»94.
Но некоторые чиновники продолжали сомневаться в совместимости исламского права с государственными указами о погребении. Эти сомнения возникли в основном из‐за недоверия к Габдрахимову и его двойственной роли как высшего юрисконсульта и имперского служащего. Когда чиновники проконсультировались с религиозными авторитетами в Крыму, то местный муфтий, назначенный государством, ответил, что исламское право определенно требует хоронить в день смерти. Ссылаясь на правовые тексты в поддержку этого мнения, муфтий заверял, что люди воспринимают эту практику как «учение веры». Один чиновник понимал, что ответ крымского клирика создает «положительные затруднения» для этого закона. Он ставил под вопрос согласие Габдрахимова с новым законом, высказывая подозрения, что оно было вызвано скорее «на покорности Правительству», нежели верностью «ортодоксальному» исламскому правовому учению. Таким образом, царским властям было мало одного лишь одобрения муфтия. Они настаивали на том, что устанавливают истинный смысл шариата, хотя даже назначенные государством мусульманские авторитеты не соглашались с подобной интерпретацией.
Подход, разработанный для евреев империи, возможно, мог бы вывести из тупика. Евреям, как и мусульманам, религиозный закон предписывал хоронить умерших в день смерти. В законопроекте, видимо, инициированном будущим царем Александром II (годы правления 1855–1881), Еврейский комитет рекомендовал, чтобы евреям было позволено временно следовать этому «обычаю», пока «не будут они к исполнению сказанного благотворного закона приготовлены внушениями чрез их Раввинов». Администрация считала, что это решение применимо и к мусульманам, хотя и с оговоркой, чтобы «Магометанское приходское Духовенство» извещало полицейские власти перед погребениями в случаях, когда есть «сомнение о смерти». Также добавлялось условие, чтобы «высшее Магометанское Духовное Начальство», подобно раввинам, «не оставляло принимать возможных от онаго зависящих мер ко внушению Магометанам о благотворной цели Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета для них самих»95.
Когда это предложение дошло до Николая I, оно выглядело как отступление от политики, нацеленной на стандартизацию права и уравнивание в гражданских обязанностях, примером которой служил закон 1827 г., распространявший воинскую повинность на евреев. Царь, который лично участвовал в выработке политики в отношении евреев, отклонил предложение: «Не отступать от общих правил, ибо и Евреи под оные подведены будут»96. В данном случае забота о единстве правовых принципов и о более широком охвате населения гражданскими обязанностями оказалась сильнее неуверенности МВД в том, что можно согласовать законы империи и партикуляристские правовые культуры подчиненных народов.
Хотя царь и оренбургский муфтий поддерживали новые правила похорон, многие клирики и миряне остались при старых мнениях, полагая, что задержка с погребением мусульман противоречит Божиим заповедям. Законодательство угрожало общинным ритуалам и обязательным молитвам, сопровождавшим смерть мусульманина. Оно провоцировало страх и беспокойство среди живых о судьбах умерших родственников и об их собственной участи на Божием суде. Коран и хадисы в деталях предписывали верующим, как нужно омывать и окутывать в саван тело покойного, как молиться, шествовать к месту погребения, читать Коран и располагать тело в могиле в направлении киблы. Смерть разлучала тело и душу, а после соединяла их в могиле, когда покойные представали перед судом ангелов Мункара и Накира. В зависимости от ответов на вопросы ангелов покойный мог подвергнуться «могильному наказанию» или награде как знаку Божией милости – вплоть до назначенного часа воскресения и окончательного приговора97.
Пока неясно, исполнялся ли данный закон, придававший этому эсхатологическому порядку пугающее временное измерение, или оставшиеся в живых втихомолку уклонялись от его соблюдения. Но те, кто говорил от имени общины, боролись за отмену этого закона. В 1831 г. ученые из Казани подали прошение Николаю I, но царь отклонил его; клирики из других областей продолжали протестовать. К большому неудовольствию МВД, фетвы и «увещевания» муфтия не могли убедить мусульман в том, что правительственные инструкции для них «полезные и даже необходимые». В декабре 1833 г. министр Д. Н. Блудов потребовал у Габдрахимова «снова приложить старание о искоренении между Оренбургскими Магометанами предрассудков и предубеждений, столь вредных для них самых, обратив при том особенное внимание на духовных, которые имеют сильное на них влияние». Чиновники с тревогой следили за башкирами Пятого кантона Оренбургской губернии в течение всего 1834 г., когда ходили слухи о нарастании протестов против данного закона, возглавляемого якобы одним официальным муллой, недавно вернувшимся из паломничества в Мекку (хаджа). Совместно с губернатором В. А. Перовским ОМДС заставило одиннадцать из этих башкирских ученых приехать в Уфу и принять присягу о согласии с габдрахимовской фетвой, санкционирующей закон о похоронах. Наконец, в сентябре ОМДС приказало «Азиатской типографии» в Оренбурге напечатать 3500 экземпляров фетвы на татарском языке с предписанием мусульманам ждать три дня до погребения покойного98.
Несмотря на учреждение исламской иерархии внутри страны, этот спор, как и тревога, которую он возбудил в отношении паломников, демонстрирует, что международные связи по-прежнему мешали попыткам создать мусульманское сообщество, ограниченное рубежами империи. Прославленные медресе и суфийские наставники влекли мусульманских подданных царя в Бухару, Стамбул и другие места, а паломничество приводило иностранных мусульман в Россию. С основанием в 1796 г. Одессы, порта на Черном море, появился новый путь в Мекку через Стамбул. Мусульманам из соседних стран стало легче ездить в хадж торговыми путями через степь и южную Россию до Астрахани и затем Одессы. В 1803 г. Александр I принял прошение бухарских купцов о позволении ездить к святым местам через Россию.
Геополитические факторы вскоре породили новые проблемы. Между 1804 и 1813 гг. Россия воевала с одним из своих южных соседей или обоими.
В частности, османы сохраняли притязания на лояльность мусульман российского пограничья. В течение всего XIX в. Высокая Порта посылала эмиссаров на Кавказ. В 1813 г. османы послали указ общинам Дагестана о праздновании коронации нового султана. Ссылаясь на традиционную практику признания мусульманского суверена, этот указ предписывал проповедникам упоминать имя султана в пятничных проповедях. Когда у Махмуда II родился сын, османы призвали молиться мусульман всего Кавказа. Позже османы приказали дагестанцам и другим праздновать освобождение Мекки и Медины от «ложной религии» ваххабитов (именуемых «хариджитами») и возвращение священных городов под покровительство султана. Через десять с небольшим лет на этих неспокойных границах снова вспыхнула война. Во время Русско-турецкой войны 1826–1828 гг. один генерал сказал адыгам Северного Кавказа: «эта война вас не касается» и «российское правительство не будет принимать вас за турок». Но Россия все еще слабо контролировала многие районы, и адыги предпочли сохранить за собой право выбора. В 1830‐х гг. мусульманское сопротивление экспансии империи усилилось и возбудило новые страхи перед угрозой мусульманской солидарности. В 1843 г. правительство узнало, что адыгейские общины послали делегацию в Стамбул, ища султанского покровительства99.
В течение четверти века после александровского декрета о хадже власти тревожнее относились к контактам с востока через имперскую территорию. Суфиев теперь воспринимали как возбудителей «фанатизма», и не только на Северном Кавказе, где русские военачальники отождествляли суфийские структуры с ядром антиимперского сопротивления. В начале 1830‐х гг. Азиатский комитет, координационный орган политики МИД, предложил запретить паломничества через Россию в Стамбул и Мекку из таких городов, как Ташкент, Хива и Бухара, «дабы пресечь связи их с нашими подданными, которые из опыта оказались вредными, ибо Азиатцы сии, и в особенности Дервиши, вместо того, чтобы идти в Мекку на поклонение, останавливались у нас в местах населенных Магометанами, возбуждали в сих последних фанатисм и поселяли всякие возмутительные правила». В отличие от лицензированных (указных) мулл, все еще полезных для государства, «сии люди признаны правительством не совсем полезными».
Граф К. Л. Нессельроде разделял эту точку зрения и называл их «людьми праздными, коих вся жизнь состоит в бродяжничестве и обманах». Для Нессельроде хаджи были бременем не только для государства, но и для их единоверцев в России, поскольку они имеют «большое влияние на умы наших Магометан, которое всегда употребляют во зло, проповедуя между ними ненависть против Христиан и против самого правительства, дабы тем приобрести доверие своих единоверцев и возможность жить на их счет». С тех пор караванам торговцев и тем, кто совершал хадж, было запрещено выходить за пределы торговых центров. Правительство предписало губернаторам Астрахани, Оренбурга и Западной Сибири не разрешать этим «дервишам» оставаться и переходить в российское подданство100.
Аналогично власти на Кавказе начали запрещать местным мусульманам ездить в хадж. В 1843 г. Военное министерство послало секретный приказ оренбургскому губернатору В. А. Обручеву следовать той же стратегии. В очередной раз соображения пользы и безопасности положили предел терпимости государства к религиозным практикам. Министр утверждал, что паломничество отвлекает мусульман-солдат и чиновников от службы, и вообще хаджи возвращались с «неблагоприятным для нас влиянием на своих единоверцев». Но несмотря на провозглашенную модификацию политического курса, власти все еще сохраняли чувствительность к угрозе нарушения принципа терпимости. Не позже 1830 г. генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии М. С. Воронцов отговорил крымские власти запрещать местным жителям паломничество. Ссылаясь на екатерининское обещание терпимости, он рассуждал, что выполнение этого обещания «было и будет одною из первых причин верности завоеванных народов, величия и силы Нашего Отечества». Воронцов утверждал, что не только такое вмешательство «противно системе нашего Правительства», но и что забвение «прежних опытов и обещаний» приведет в росту «фанатизма». Тем не менее в 1843 г. Военное министерство подтвердило запрет, но потребовало соблюдать секретность. Оренбургскому губернатору и его кавказским коллегам предписали хранить в тайне опасения относительно хаджа; прошения желающих отправиться в паломничество следовало отклонять «под разными благовидными предлогами»101.
Но несмотря на периодические стеснения, хадж продолжался, и в следующем десятилетии угроза с юга возросла. К 1844 г. война против имама Шамиля в Дагестане и Чечне тянулась уже десять лет. Она поглощала сотни тысяч солдат, и ей предстояло длиться еще два десятилетия. Из-за не прекращавшегося сопротивления в официальных кругах возникло убеждение, что «новое учение» принесли «шейхи из Персии и Турции». Когда чиновники сообщили об этом Николаю I, царь секретно приказал «совершенно запретить въезд в пределы наши всяким лицам духовного магометанского звания, кто бы ни были, даже и нашим подданным, ежели приняли духовное звание заграницею»102. Итак, посредством запретов на паломничество и обучение за рубежом режим стремился ограничить контакты мусульманских подданных царя с другими центрами благочестия и образования. Этот шаг, в свою очередь, усилил позиции местной исламской элиты как опоры ислама для российских мусульман.
Поиск точек сближения между интерпретацией главных интересов мусульман муфтиями и требованиями царской администрации привел к изобретению общего языка морали. Для российских властей понятие греха служило основой для универсального морального порядка, связывавшего интересы империи с моральным учением религии. И в этом и в других отношениях русские представляли себе ислам по аналогии с православием. Со времен «Слова о власти и чести царской» Феофана Прокоповича (1718) церковь учила православных, что «яко не ради страха, но и за совесть повиноватися долженствуем и яко не покаряяся властем Богу противится». Идентификация правонарушений, за которые полагается божественное воздаяние, требовала наличия системы морали, определяемой в первую очередь принципами греха и кары. Как объяснял Прокопович: «Паче же о самой высочайшей державе не знают, яко от Бога устроена и мечем вооружена есть и яко противитися оной есть грех на самого Бога, не точию времянной, но и вечной смерти повинный»103. Многие чиновники МВД и местные администраторы распознавали аналогичный моральный порядок в «магометанстве»: как казалось, в нем имелся концепт моральных последствий тех действий, которые представляли интерес для государства.
Имперские власти часто ссылались на гневного Бога, который виделся им в мусульманской теологии. Военачальники на Кавказе называли мятежников предателями и грозили им «истреблением». В 1829 г. Николай I определил цель армии в этом краю как «усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных»104. В борьбе с шейхом Кази-муллой генерал-адъютант Панкратьев бранил своего противника врагом Бога и ислама. В обращении к «горцам Дагестана» в 1831 г. этот генерал порицал тех, «которые соединяясь с коварным и лживым Кази-Муллою, веруют ложным словам его, противным воле бога, пророку его и священным книгам». В своем джихаде он преследовал только собственную выгоду, «напрасно проливая кровь человеческую» и вредил «лишь своих единоверцев, обитателей сих стран». Панкратьев призывал: «О мусульмане! Избегните ответов и нареканий, коим подвергаетесь как в сей, так и в будущей жизни. Здесь вы лишаетесь всего достояния вашего. А там должны будете дать ответ перед богом, что не исполнили волю, сказанную в коране. Не введите сами себя в гибель. Обманщик этот говорит вам ложь. Мы благоприятствуем всем верам и исповеданиям, даже поощряем народы к исполнению своих обрядов, ибо все мы веруем в того же единого бога. Взгляните на мусульманские народы, живущие среди самой России, не следуют ли они своему вероисповеданию, встречают ли препятствие в исполнении обрядов и не славят ли торжественно на мечетях имя бога его пророка».
Всем, кто отвергал слова генерала, грозило «совершенное истребление». В последующих прокламациях генерал утверждал, что не Бог, а дьявол послал этого предателя, отцеубийцу и торговца водкой и вином, «проливать мусульманскую кровь и наносить несчастие всему Дагестану»105.
Царские власти предпочитали делать такие заявления устами мусульман. Оренбургские муфтии со своей стороны угождали своим руководителям, делая упор на таких учениях о грехе, которые были ближе всего к православным понятиям. В своих поучениях и фетвах они подбирали примеры из разнородного словаря, выработанного исламскими учеными, чтобы сформулировать сущность дурных деяний и обязанности мусульман по их пресечению106. Эти тексты, где подчеркивались предписания Корана «побуждать к благому и отвращать от дурного», также были направлены на согласование с теологической ориентацией церкви. В них делался особый упор на грех как «нарушение» Божией воли. Когда подобные преступления вызывали Божий «гнев», Он обрушивал на грешников кары в этой жизни и в будущей. Закрывая глаза на доктринальные различия, государственные власти и мусульманские клирики воспринимали общий религиозный стиль, главным в котором было понятие греха; они задействовали его, когда власти хотели сослаться на пугающую перспективу Божьего воздаяния, чтобы усилить предписания имперских законов. Сотрудничество между властями и мусульманскими посредниками выросло из артикуляции этого стиля стражами морали.
В 1836 г. муфтий Габдрахимов выпустил «духовно-религиозное наставление», где отразилась конвергенция исламского благочестия с официальными понятиями о патриотическом долге эпохи царя Николая I. Муфтий побуждал мусульман «быть беззаветно покорными Всевышнему Аллаху, следовать по указанному им пути, исполнять возложенные им обязанности, творить добро, избегать зла». Поучения Габдрахимова демонстрировали полезность и ответственность исламской иерархии с точки зрения меняющихся нужд государственной администрации и идеологии, а также обращались к той форме патриотизма, которую лишь недавно выдвинула Православная церковь. Православные пособия того времени учили, что Пятая заповедь требовала повиновения не только родителям, но и духовному и светскому начальству: подданные были «детьми государя и отечества». Более ранние катехизисы подчеркивали христианский долг пожертвовать жизнью за царя, но катехизис митрополита Филарета 1828 г. (со ссылкой на Евангелие от Иоанна 15: 13) распространял этот долг также и на отечество. Габдрахимов воспроизвел этот патриотический уклон, когда велел мусульманам «быть покорными Государю Императору Николаю Павловичу и повиноваться всем от него исходящим повелениям; служить ЦАРЮ и Отечеству верой и правдой, согласно принятой присяге и верноподданническому долгу, не щадя живота»107.
Царские власти поддерживали утверждение о том, что мусульмане, отказавшиеся усвоить этот патриотизм, гневят Бога. Поэтому оренбургский губернатор О. Л. Дебу попросил муфтия способствовать «искоренению» действий, нарушающих и шариат, и имперский закон. Он жаловался, что «многие магометане уклоняются от государственной службы и, боясь рекрутского набора, чинят членовредительство в разных его видах, совершая этим самым преступное деяние». Губернатор требовал «частные увещания и проповеди духовно-религиозного содержания», чтобы убедить мусульман, что «долг каждого верноподданного служить своему истинному, природному ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ верно и нелицемерно и всеми зависящими от них способами стараться к пользе службы ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ревниво оберегая интересы Государства от посягательств врагов».
Выполняя губернаторский запрос, Габдрахимов приказал клирикам зачитать прихожанам его наказы и напомнить, что «каждый правоверный мусульманин обязан повиноваться властям и законам, противозаконных деяний не творить, быть покорным судьбе, во всем терпеливым и уповать на Всемилостивого Аллаха… с охотой и готовностью идти на службу государства». Муфтий ссылался на «Хадими», комментарий к пиетистскому трактату османского проповедника XVI в. Биргили, и предупреждал, что «членовредительство есть один из величайших грехов, навлекающих гнев и кару божию»108.
Габдрахимов восхвалял подчинение политическому и социальному порядку империи как религиозный акт. Муфтий указывал, что «всякий мусульманин должен терпеливо и безропотно переносить посылаемы Аллахом несчастия и быть благодарным Аллаху за все благо и удовольствия жизни, которые Он ему посылает, помня, что противные сему деяния причислены к великим грехам и влекут гнев божий и кару». В конце Габдрахимов напоминал своим единоверцам, «что в одном из стихов Св. Корана говорится о том, что нужно быть покорными Аллаху, пророку и властям, а пророк Магомет сказал: „повинуйтесь властям и будьте покорны, каких бы трудов и лишений ни стоило вам исполнение этого долга“»109.
Губернские власти и оренбургский муфтий совместно использовали авторитет его должности, подкрепленный ссылками на исламские тексты, чтобы объявить «грехом» поведение, противоречащее и исламским, и имперским законам. Влияние габдрахимовских поучений сложно оценить, хотя сообщений о самоизувечении в 1840‐х гг. стало меньше110. В других случаях транслировать имперские предписания в исламскую доктрину оказалось еще сложнее. В конце 1840‐х – начале 1850‐х гг. кампания по использованию авторитета муфтия привела к тому, что и государственные чиновники, и мусульманские клирики столкнулись с трудностями в поиске соответствий между двумя различными религиями. В октябре 1849 г. оренбургский военный губернатор Владимир Обручев обратился к третьему муфтию Габдулвахиду Сулейманову (занимал должность в 1840–1862 гг.). С согласия Николая I и военных губернатор предлагал начать борьбу с распространением венерических болезней среди башкир и мишарей. Его план предполагал медицинские осмотры женихов и невест, причем не только в этих двух группах, подчиненных Департаменту военных поселений, но и у всех мусульман края. Губернатор искал помощи Сулейманова, поскольку опасался «злоупотреблений» со стороны части врачей и фельдшеров, которые должны были проводить осмотры. Но важнее были опасения, что подобные предупредительные меры могут «быть приняты Башкирцами за стеснение и произвесть превратные толки», а это увеличит число недовольных. Обручев просил муфтия «сообразно с правилами Алкорана, составить в религиозном духе наставление, что бы Магометане зараженные венерическою болезнью, считали самым тяжким грехом вступление в брак до совершенного излечения болезни, и что бы старались всемерно соблюдать чистоту и опрятность в образе жизни и избегать всякого сообщения с одержимыми тою болезнью».
Предполагалось, что этот текст рассеет «превратных толков» и «служит подтверждением Высочайшее воли» и «заботливость Правительства, старающегося сохранить их здоровье»111.
В данном случае заботливость губернатора доходила до того, что он дословно формулировал выражения из речи муфтия. Перед тем как распространять текст и зачитывать его «при богомолениях в праздники в мечетях, или вне оных при собраниях народа» в Оренбургской, Пермской, Вятской губерниях, а также среди мусульман, служивших совместно с оренбургскими и уральскими казаками, его следовало утвердить у Обручева112. Губернатор несколько раз собственноручно правил наказ муфтия.
В первой редакции муфтий Сулейманов, который также учился в Каргалинском медресе, подчеркивал обязанность мусульман подчиняться «всемилостивейшему повелению Государя Императора». Указывая на ответственность родителей и опекунов невест и женихов, он предупреждал, что каждый, кто сообщает «лживость» о здоровье брачных партнеров, должен считаться «ослушниками пред священным Кораном Бога и хадисом посланника Его равно и повелениям Государя Императора». Виновные подлежали военному суду. Ссылаясь на другой хадис, Сулейманов добавлял, что каждый глава семьи, «отец, мать или валий», обязан, «так точно, как пастух», следить за своими подопечными и охранять их от «вредных болезней». Они должны были следить, чтобы мусульмане раз в неделю мылись «в теплой бане» и затем надевали «чистое белье», а также соблюдали «в домах, в одежде, посуде и вообще в самом образе жизни чистоту и опрятность». Обнаружив болезнь, родители и опекуны должны были обеспечить зараженному лечение.
К этой формуле Сулейманов добавлял свой собственный диагноз проблемы. Муфтий указывал на «прелюбодеяние», хотя Обручев в явном виде не упоминал его как одну из причин сифилиса среди этих народов. Сулейманов учил: «Следует всем мусульманам понести покаяния от прелюбодеяния и обязаны от оного удержатся для того что где произведется прелюбодейство то сказано находящихся на том месте всевышней Бог накажет мором и вредными болезнями ибо в Коране в нескольких местах упомянуто что прелюбодейство Есть Великий Грех и путь развратный».
В качестве жеста в адрес как единоверцев, так и начальства с его предполагаемым экуменизмом, муфтий прибавлял, что помимо Корана, «священные книги тават [Тора] инзил [Псалтирь] и забур [Евангелия] по определению прелюбодейство как на сим так и на будущем Свете Великим Грехом»113.
Вскоре после этого дипломатического шага был совершен просчет. Сулейманов апеллировал к авторитету других священных книг, но напомнил верующим, что Коран постановил наказывать «распутствующих» сотней плетей. Ссылка на телесное наказание вряд ли вызвала бы возражения в обществе, где кнут и плеть были привычными инструментами правосудия. Но первоначальные руководства для высшего исламского духовенства в явном виде запрещали применение коранических наказаний – это было нарушением более «просвещенного» имперского законодательства.
Ответ губернатора отражал представления российского чиновничества середины века о полезности ислама. Обручев быстро вернул Сулейманову черновик с исправлениями и дополнениями. Но он не возражал открыто против напоминания о наказании, предписанном Кораном за внебрачную связь. В отредактированной версии, которую губернатор вернул муфтию для перевода на татарский, отсутствовали все ссылки на «повеление Государя Императора», а вместо этого делался акцент на авторитете муфтия и угрозе Божией кары. В обручевских вставках в «наставление» муфтия тот обращался к «почтеннейшим Ахунам и Муллам» в качестве «поставлен Правительством Главы Духовенства Мусульман». Называя этих клириков «единственными сотрудниками своими», муфтий должен был просить их содействия в том, чтобы предупредить всех «находящихся в вверенных им приходах» об опасностях болезни. «Какой после сего может быть боле тяжкой грех для человека?» – задавался вопрос в этой редакции наказа. Речь шла о родителях, которые отказывались от лечения и рожали уже больных детей. Такие люди становились «преступником как пред Богом так и посланником его Пророком Магометом, нарушая с тем вместе и наставления Корана, нашей священной книги»114.
Обручевская редакция отличалась от сулеймановского оригинала тем, что избегала отсылок к имперским законам. Губернатор цитировал фразу, приписываемую хадису Пророка, и заключал, что «Бог требует, дабы мусульмане соблюдали омовение и всем тем опрятности и что Бог положил лекарство собственно для излечения болезней… если правоверные не исполняют этого… не явно ли они после сего ослушаются повелениям создателя и его пророка и не будут ли они за это как ослушники Божии ответствовать перед Богом».
Снова ссылаясь на Коран и хадисы, губернатор определял холеру как инструмент Божией кары и писал, что Бог наслал на эти края смертоносную гостью «за грехы наши». В 1831 г. холера «преждевременно поглотила… тысячи Мусульман, не следовавших повелениям Божиим». Он продолжал: «то недолжны мы поэтому исправить себя и со слезами раскаяния просить Бога – умилостивится над нами»115.
Хотя Обручев, апеллируя к «слезам раскаяния», включал в речь православный язык, он подчеркивал приоритет чисто исламских обязанностей. В своей редакции он тщательно избегал упоминаний о правительственных указах. Слова, подобранные им для муфтия, напоминали мусульманам о предписаниях Корана и хадисов: «О люди! повинуйтесь своему создателю, посланнику и всем тем которые имеют власть над Вами, слушайтесъ того, который Вам эмиром», и говорили о необходимости наказывать тех, «кто противодействует велению Султана». Он подчеркивал роль муфтия: «я как Муфтий Ваш как отец и пастырь пекущейся о стаде своем», и отождествлял покорность Богу с соблюдением тех мер, которые муфтий «находил нужным» для борьбы с болезнью. В губернаторском тексте также переосмыслялась роль правительства. Ссылки на еврейские и христианские тексты были удалены, а государство теперь описывалось как хранитель исламской ортодоксии. Бог призовет виновных к ответу, «а равно и самое правительство не оставит Вас судить как ослушников Бога и пророка его». Согласно этому документу, режим дисциплинировал подданных не ради себя, а во имя ислама116.
Такая формулировка последствий правонарушений лишь еще сильнее запутывала отношения между исламским и имперским законодательствами.
Губернатор, как многие его предшественники, снова предполагал, что полицейские полномочия режима должны быть мобилизованы для подкрепления ортодоксальных исламских норм, несмотря на отсутствие специального законодательства на этот случай. Это размывание границ между государственным и исламским правом проявилось также в области уголовного права. Согласно уголовному уложению, многие преступления сопровождались моральными проступками, которые требовали и светского, и религиозного наказания. Когда преступники принадлежали к Православной церкви, ее юрисдикция зачастую пересекалась с государственной.
Усмотрение местных властей играло решающую роль при определении того, можно ли использовать полицейские полномочия для таких целей. В 1824 г. генерал А. П. Ермолов учил исламских авторитетных лиц на Кавказе добиваться соблюдения одного из пяти столпов ислама: он указывал, что «народ должен доставлять непременно» религиозный налог (закят) для содержания «священных особ», но не уточнял, каким образом заставить людей выполнять это требование. Аналогичным образом закон, подтверждавший, что «магометанское духовенство» подлежит телесным наказаниям, требовал быстрого оповещения общин о лишении клирика сана, чтобы на должность могли выдвинуться новые кандидаты, «чтоб не было остановки в Богослужении». Царские чиновники отвергали телесные наказания, предписанные исламским правом за нарушения, наказуемые также по государственному законодательству. Некоторые мусульманские авторитеты все равно назначали эти наказания, но власти и мусульманские клирики пришли к компромиссу, разработав общий для них словарь покаяния. Для многих мусульманских мыслителей покаяние (тауба) означало одну из первых стоянок на суфийском пути, отвращение от греха и поворот к Богу – обязанность, которая выполнялась, говоря словами великого мусульманского богослова аль-Газали, через «знание, сожаление и самоотречение». Мусульмане могли следовать этому пути в индивидуальном порядке везде, кроме Российской империи, где закон предписывал посредничество официального клирика, как в Православной церкви117.
В системе, формализованной при Николае, за совершенные мусульманами преступления им часто назначали исламские наказания вдобавок к тем, которые полагались согласно уголовному уложению. Один казус, начавшийся с простой кражи, типичен для этого взаимного наложения светской и религиозной дисциплины. В 1856 г. Абдулнасыр Сулейманов, мусульманин из села Ура, был арестован за кражу. Сидя в казанской тюрьме вместе с русскими заключенными, Сулейманов попросил разрешения перейти в православие, возможно, в надежде на смягчение приговора. Но прежде чем он принял крещение, тюремщики перевели его в другую камеру. Здесь планы Сулейманова осложнились тем, что сокамерники оказались татарами; теперь он был окружен единоверцами, которые даже соблюдали пост в Рамадан. Когда священник пришел крестить Сулейманова, тот уже передумал креститься. За отказ принять таинство власти перевели его из камеры с татарами. Его посадили в одиночную камеру, но на этом злоключения не закончились. Тюремщики обнаружили, что в одиночном заключении несчастный крестьянин впал в «чрезмерную скуку и тоску, вздумал лишить себя жизни»118.
Попытка не удалась, и Сулейманов сознался в своем преступлении. Вдобавок к сроку за кражу суд назначил ему второе наказание – за попытку самоубийства. Ссылаясь на статьи 1944 и 2077 Уголовного уложения, суд обратился к ОМДС, от которого зависело решение о «мерах наказания». ОМДС постановило, что Сулейманова следует «предать покаянию чрез приходского имама», который должен был «сделать ему увещание», чтобы он больше так не поступал, предупредив о тяжелых последствиях со стороны как светского закона, так и посмертного «суда Божия»119.
Сходство между официальными представителями исламской и православной традиций простиралось дальше притязаний на моральное руководство. В интересах империи мусульманские и православные клирики не только монополизировали определения греха и отречения от него посредством покаяния. Они также установили контроль над ритуальными узами, которые связали их религии с государством по-новому. В обеих традициях религиозные символы и обряды давно служили главными инструментами подтверждения или развенчания легитимности правителя. В Российской империи литургический календарь Православной церкви включил в себя множество династических праздников Романовых. Рождество, Богоявление, Вербное воскресенье, Пасха и другие праздники утверждали «харизму инаковости и доминирования», которая возвышала монархию и подчеркивала ее связи с Богом и ее преданными христианскими подданными120. Как и в эти праздники, в дни рождения и тезоименитства членов царской семьи православные крестьяне, горожане и чиновники собирались в местные соборы и часовни, чтобы помолиться о династии. Образ царской семьи как модель социальных отношений во всей империи превалировал в повседневной обрядовой и церемониальной жизни империи в самых разных местах, от сельской школы до армейского полка.
Молитвы за «Его Императорское Величество и Августейшую Фамилию» претендовали на исключительно выдающееся место и в обрядовом календаре неправославных подданных. Для многих мусульман этот приоритет династии соответствовал исламской традиции поминания имени правящего суверена перед проповедью (хутба), предшествовавшей пятничной общинной молитве. Упоминание проповедником правителя и молитва о Божием благословении в его адрес были маркерами легитимности в мусульманских обществах. Пропуск имени правителя означал смену политической ориентации проповедника или ведущих ученых, и этот сигнал мог повлиять на настроение масс в периоды борьбы за престол, мятежей и войн121.
С конца XVIII в. проповедники в Российской империи молились с кафедр мечетей за царя и царскую семью. При поддержке оренбургского муфтия режим стремился сделать эту практику обычной во всех мечетях. Как и в случае с присягами на Коране в судах и при поступлении на военную или гражданскую службу, большинство мусульманских ученых и мирян приняли эти молитвы как легитимный религиозный долг122. Мусульманская знать уже начиная с XVI в. проводила аналогичные демонстрации лояльности к православному правящему дому. Династия ценила клятвы, обеспеченные религиозными гарантиями, которые полагались непоколебимыми, пусть даже религия считалась «иноземной» и в остальных аспектах ущербной. В XIX в. все большее число мусульман разного социального происхождения приносили присягу. Они клялись в верности царю и молились за него и царскую семью во время пятничных молитвенных собраний и других многочисленных исламских священных дней. Поминовение династии Романовых должно было занимать центральное место среди предписаний исламского культа, направленных на общину в целом.
Призыв Божьего благословения на царя, возможно, усиливал интегративную роль монархии тем, что культивировал в мусульманах чувство преданности суверену и патриотизм империи. Склонность мусульман обращаться напрямую к царю означала, что по крайней мере большинство их считало царя вершителем правосудия и защитником, который может исправить зло, причиненное мусульманам несправедливыми чиновниками, односельчанами и родней. Что касается более скептических умов, поддержка молитв за царя оренбургским муфтием побуждала их к критическим размышлениям о правовом статусе мусульманской общины под властью христиан. В конце XVIII – начале XIX в. возник спор, когда несколько исламских юристов высказали противоположные мнения об определении Российской империи как «Дома ислама». Вступая в должность, Хусаинов и его коллеги-судьи заявили о своей убежденности в том, что мусульмане в России могут исполнять свой религиозный долг, и потому признали Россию страной в статусе «Дар аль-ислам». По сути, эта позиция подтвердила молчаливый консенсус прежних поколений ученых, живших на территориях, покоренных московскими правителями в XVI–XVII вв.
Все еще неясно, как протекали ранние дискуссии о потере исламского политического лидерства в этих краях. Но, кажется, местные ученые не считали, что их условия похожи на те, в которых находился Пророк Мухаммед, когда увел свою общину от преследований в Мекке в будущую Медину. Эта миграция, хиджра, стала моделью, а по мнению многих источников – и обязанностью для физически способных мусульман, имевших возможность бежать из «Дома войны» или «Дома неверия» и, по некоторым источникам, вести войну (джихад) против этих стран неверных и неверующих.
Между учеными-правоведами, которые анализировали образцовое поведение Мухаммеда и интерпретировали Божию волю относительно хиджры, не было согласия. Немногие из ранних правовых теоретиков считали, что мигрировать было обязательно только во времена жизни Пророка. Некоторые считали это долгом, который могут исполнить отдельные члены общины ради блага коллектива, а другие заключали, что соблюдение хотя бы немногих предписаний шариата в немусульманской стране освобождало мусульман от этой обязанности. Впоследствии авторитетные суфийские мыслители стали рассматривать хиджру как духовный и аскетический путь, который должен происходить внутри человека в форме «миграции из области человеческих существ в область присутствия Аллаха»123. Споры на эту тему усилились в XVIII–XIX вв., когда «реформистские» движения в Хиджазе и Западной Африке выступили против тех, чье исповедание ислама отвергли как «неверие», и когда все большее число мусульманских правителей было принуждено уступить суверенитет своих стран европейским колониальным державам.
В России и в Индии мусульманские юристы ханафитской школы сталкивались со схожими обстоятельствами. В обеих странах немусульманский режим ограничил некоторые аспекты исламского права. И там и там дозволялось функционирование исламских судов и осуществление шариата, но власти ограничивали правоприменение вопросами личного статуса – такими, как брак, развод и наследование. Несмотря на утрату политической власти, мусульманские общины Индийского субконтинента, как и их единоверцы на севере, пользовались правом строить мечети и школы. В отличие от некоторых других христианских стран, здесь мусульманам разрешалось призывать на молитву с минаретов мечетей. Они могли посещать пятничные и ежедневные молитвы, поститься, жертвовать нуждающимся и отмечать религиозные праздники; они совершали паломничество в Мекку, хотя режим пытался регулировать эту практику. Возможность исполнять эти обязанности под британской или российской властью была ключевым фактором в оценках мусульманских юристов. С другой стороны, выбор миграции или вооруженной борьбы влек за собой существенный риск, поэтому большинство ханафитских ученых объявляли две империи частью «Дар аль-Ислам»; они даже признавали за немусульманскими правителями право назначать мусульманских губернаторов и судей124. В обеих империях с этим не соглашалось меньшинство ученых, хотя в подтверждение своих позиций они тоже ссылались на ханафитские источники.
Однако царский режим, в отличие от британского, покровительствовал центральному органу, глава которого претендовал на право издавать обязывающие правовые мнения по таким вопросам. ОМДС и муфтий и здесь тоже не смогли установить монополию на религиозный авторитет. Эти усилия не достигли уверенного успеха, хотя муфтий настаивал на своем праве издавать обязывающие фетвы при поддержке царской администрации. Другие образованные клирики продолжали передавать и интерпретировать исламские знания для местных общин во всем регионе. Немногочисленные видные ученые, которые выступали против муфтия Хусаинова, оспаривали и его мнение по вопросу о правовом статусе России для мусульман.
В начале XIX в. один мусульманский ученый выступил против совершения пятничных общинных молитв в империи. Абд ар-Рахим Утыз Имани, учившийся в Бухаре, Самарканде и Кабуле, в 1798 г. вернулся в деревню Исляйкино и объявил, что шариат запрещает пятничные молитвы в «Дар аль-харб». Он доказывал, что Россия должна считаться «Домом войны», потому что, согласно ханафитскому праву, пятничные молитвы можно проводить только тогда, когда правит мусульманский правитель и когда мусульманский судья гарантирует выполнение исламских законов125. Рукопись трактата Утыза Имани ходила по рукам, его ученики ездили по другим мечетям и медресе и обсуждали вопрос с другими учеными, и благодаря этому его слова получали распространение. Этот диспут продолжал привлекать юристов и спровоцировал более общую дискуссию о том, следует ли применять «независимое рассуждение» (иджтихад) или «подражание» (таклид), то есть следовать авторитетам ханафитской школы126. Но суждения этих ученых не инспирировали ни хиджру, ни внешний джихад.
Большинство ученых обсуждали более тонкие, промежуточные позиции. Они не предлагали безусловной поддержки режима, но и не отвергали напрямую его статус гаранта империи как «Дома ислама». Когда государство заставляло исламское духовенство легитимировать политику, которую мусульманские юристы и миряне отвергали как незаконную, те обычно выбирали стратегию сокрытия и избегания. В ответ на меры вроде указа 1827 г. о похоронах мусульмане в основном старались уклоняться от принуждения, а не занимать полностью враждебную позицию, которая привела бы к немедленной эмиграции или восстанию.
Муфтии Хусаинов, Габдрахимов и Сулейманов служили не просто инструментами имперской политики. Они использовали как исламские учреждения, так и имперскую административную и полицейскую власть ради продвижения своей интерпретации истинных интересов мусульман империи. Но их представления об общине зачастую встречали отпор со стороны как исламских ученых, так и мирян. По большей части мусульманские клирики, видимо, осознавали заинтересованность режима в соблюдении ортодоксальных исламских правил, хотя мотивы для их осуществления у мусульман и у государственных чиновников были разными. В 1848 г. десять имамов из села Каргалы подали прошение в ОМДС об освобождении их от обязанности молиться за царя в ряде случаев, перечисленных в недавнем правительственном циркуляре. Они не отвергали принципа, лежавшего в основе практики молитвы за императора, но выражали тревогу, что молитвы в дни, помимо пятницы и исламских праздников, «о увеличении побед, могущества и благодействия Е. И. В.» не будут «приняты Богом, и мы чрез это сделаемся пред ним грешными». Эта группа также приводила в поддержку своей позиции цитаты из «Хадими» – комментария, любимого муфтием, и суру Корана «Ан-Нур». Когда полиция начала следствие, просители отрицали свое участие и сваливали всю вину на муллу, которого невозможно было привлечь к суду: он умер во время недавней эпидемии холеры127.
Просители отступили под давлением полиции. Но этот инцидент указывает на возможность совпадения интересов мусульманских религиозных авторитетов и царских чиновников. Имамы посчитали, что могут добиться освобождения от молитв, апеллируя к текстуально обоснованной интерпретации Божией воли. В своем прошении они предполагали, что исламская иерархия и царские власти во имя ортодоксии примут их возражения. Конечно, вмешательство полиции избавило их от этих мыслей. Прежние поколения имамов могли бы безнаказанно отказаться исполнять эту обязанность, и ни один высший орган не мог бы примирить дискутирующих ученых. Но теперь перед имамами стояла централизованная иерархия, опирающаяся на полицию. Через эту структуру они были привязаны к государству. Их должности зависели от лицензии уфимского муфтия и одобрения губернатора. Однажды зарегистрированные в архиве ОМДС, они уже не могли легально переехать в новую мечеть или школу, чтобы уйти из-под власти иерархии. Режим считал сопротивление любому своему институту политическим преступлением, и те, кто ссорился с официальными исламскими авторитетами и их имперскими покровителями, рисковал лишением должности, тюремным заключением или изгнанием.
ОМДС дало государству инструменты для утверждения церковной дисциплины и доктринального единства в мусульманских приходах, но его способность выполнять эту функцию не была следствием естественного лидерства мусульманских элит, выбранных МВД. Она всецело зависела от сотрудничества с государственными властями. Под властью ОМДС разрозненные общины мечетей по-прежнему следовали своим собственным религиозным наставникам, и чтобы установить над ними свою власть, муфтию в Уфе приходилось просить содействия имперских властей. Чтобы сделать эту терпимую религию «полезной» для империи, имперские власти при поддержке выбранной группы мусульманских союзников воздвигли церквеобразную иерархию. На практике ее полезность зависела от хрупкой взаимозависимости между мусульманами и государственной властью; каждая сторона преследовала собственные интересы, апеллируя к религиозным убеждениям другой стороны.
Глава 2
ГОСУДАРСТВО В МЕЧЕТИ
В сентябре 1793 г. Амирхан Абызаев и Абдулзелиль Султанов подали прошение Екатерине Великой от имени башкирского народа с восточного рубежа России. Восхваляя «Бога, всегда вспомоществующего России», они благодарили императрицу «во-первых, за создание, из твоих народу нашему монарших щедрот, мечетей; во-вторых, за установление по закону нашему Духовнаго собрания; [и] во-третьих, за учреждение народу нашему муфтия». Им была дарована «по своему обряду и вере… полная и незыблемая воля». Кроме того, многие башкирские полки были благодарны за множество медалей и орденов, заслуженных во время шведской войны. Они обещали «теплые возносить молитвы к богу» за Екатерину и «целую Россию» и лишь просили, чтобы им снизили подати, гарантировали права на землю, а «Духовной же народ наш» был освобожден от всех гражданских обязанностей, «дабы они служение свое могли исправлять удобнее»128.
Эти башкирские просители указывали на одну из дилемм веротерпимости в екатерининском «хорошо организованном полицейском государстве». Чтобы использовать внутренний источник исламского авторитета и отвратить мусульманских подданных от Кабула, Стамбула и Каира, режим создал властную иерархию для мусульман в столицах, волго-камском регионе, Сибири, на восточных рубежах и на южном фронтире до Крыма. Государство спонсировало строительство мечетей и разрешало общинам строить свои, и эта политика вела к их распространению по территории империи. Вместе с мечетями появлялись религиозные ученые (улемы). Даже в священной Москве в 1823 г. была построена мечеть, несмотря на упорную оппозицию со стороны церкви. В то же время расширение торговли России с Азией обогащало мусульманские общины и создавало класс амбициозных купцов, готовых вкладывать средства в покровительство мечетям и духовное лидерство129. Это порождало новые проблемы административного контроля.
В распоряжении чиновников вроде барона Игельстрома имелась церковная модель и османский сценарий, на основе которых можно было строить исламскую иерархию, но было неясно, как внедрить государство в общины вокруг мечетей. Государство создало нечто вроде «церкви» для ислама, но не решалось предоставить официальную поддержку «духовенству». Царская бюрократия, желавшая посредством исламских авторитетов придать государству религиозную ауру в глазах мусульманских подданных, стремилась к балансу. Чрезмерная поддержка мусульманских клириков могла бы подорвать первенство православия или даже сформировать пятую колонну для турок. Империя нуждалась в исламе, но опасалась его хранителей. Со второй четверти XIX в. конфликты с польскими повстанцами и мятежниками на Северном Кавказе усиливали настороженность властей в отношении неправославного духовенства. В этой главе мы покажем, как режим поддерживал церковную структуру ислама, но постепенно склонялся к антиклерикализму в отношении его интерпретаторов. Для государственных властей, которые были обязаны поддерживать ортодоксию внутри каждой конфессии, но все более настороженно относились к клерикальным элитам, главным звеном в цепи имперского порядка стали простые люди. Режиму не требовалось прибегать к силе, чтобы внедряться в мусульманские общины. В селах и городах по всей территории под юрисдикцией ОМДС сами миряне втягивали государство в дела мечети.
Имперская политика касалась прежде всего элит, но влияла на все мусульманское сообщество. Она была направлена как на регламентацию деятельности клириков, так и на их отделение от мирян. До Екатерины Великой религиозные наставники отличались только репутацией, которую давало им благочестие и познания в исламских религиозных науках. Они сохраняли свой неформальный статус лишь тогда, когда другие мусульмане стремились у них учиться и следовали их советам. Но со времен Екатерины эта открытая и диффузная группа ученых, имамов, учителей, судей и проповедников, которых в их собственных общинах называли улемами (или руханиләр), воспринималась царскими властями как духовенство – обособленное сословие, подобное служителям православной церкви. Имперские власти не только стали подвергать их проверке и официальному утверждению, но и наложили ряд обязанностей: моральные увещевания, надзор над брачной и семейной дисциплиной, ведение официальных записей и передача государственных директив.
Царские чиновники считали ислам полезным для имперского управления источником стабильности и морали. Но они были связаны обязанностью поддерживать привилегированное положение православной церкви, а потому не решались наделить мусульманских клириков теми правами, привилегиями и поддержкой, которыми пользовалось православное духовенство; многие чиновники подозревали мусульманских клириков во враждебности к государственным интересам. Хотя МВД ценило улемов за их помощь в различных административных задачах, их положение оставалось шатким. Статус официально лицензированного священнослужителя зависел не только от утверждения губернатором и ОМДС, но и от членов общины, которые выдвигали кандидатов на эту должность. Уязвимость официальных клириков перед государством и мусульманскими патронами и активистами создавала условия для серьезных конфликтов по поводу религиозного авторитета.
С точки зрения общин мечетей ни благочестивые религиозные ученые, ни официальное исламское духовенство не обладали монополией на религиозное лидерство или истолковательный авторитет. Историки обычно следовали источникам, созданным мусульманскими элитами, в которых простые «необразованные» (’авамм) мусульмане выступали только в качестве подчиненных и последователей ученых и харизматичных религиозных лидеров. Но юридические документы, прошения и биографические сочинения, созданные в общинах, рисуют совершенно иную картину. Согласно этим данным, миряне и женщины ставили под сомнение ученость и благочестие имамов, проповедников, ученых, судей и учителей.
Обращение к государству стало важнейшим инструментом и для улемов, и для мирян. Клирики зачастую не могли переубедить инакомыслящих иными средствами и потому просили суд и полицию вмешаться, чтобы исправить поведение, которое они считали противоречащим шариату. И образованные, и необразованные люди прибегали к бюрократическим процедурам и риторическим стратегиям за пределами общин мечетей, чтобы низложить заблуждающихся имамов и других указных клириков. Крестьяне писали жалобы на татарском или обращались к писарю, чтобы он записал их устное свидетельство и перевел на русский. Многие горожане и некоторое число улемов умели писать по-русски130. Они обращали свои запросы не только ОМДС, но и губернским и столичным властям; многие посылали прошения самому царю. Миряне-активисты, желающие оказывать влияние на благочестие общин, стали для государства добровольными партнерами в общем деле поддержания клерикальной дисциплины. Таким образом, режим побуждал к доносам на аморальных или неблагонадежных мулл.
Исход таких кампаний был не всегда предсказуем. Имперская администрация, чей контроль над губерниями усиливался, также не очень ясно понимала, как управлять внутриобщинными конфликтами. Конфронтация с исламом в его локальных условиях умножала сложности, связанные с полицейской поддержкой «ортодоксальной» догмы и терпимых режимом практик. Власти, все еще сильно зависимые от европейских переводов исламских текстов, были вынуждены опираться на мусульманских информантов и их утверждения о традиции. Когда миряне связывались с царскими властями, стремившимися поддерживать ортодоксию внутри каждой официально признанной конфессиональной общины, эти взаимодействия переопределяли ортодоксию и одновременно усиливали влияние государства в ранее недоступных ему областях.
Общины мечетей (махалла) бывали полем конфликтов. Хотя в мусульманских деревнях время от времени ходили слухи о государственных кампаниях христианизации, угрозы исламу чаще исходили изнутри сообщества – например, когда соседи не посещали общинные молитвы вместе с другими крестьянами или горожанами. Имамы, которые пренебрегали обязательными обрядами перехода, особенно заупокойными молитвами, также наносили вред общине, подводя ее членов под Божье осуждение. Тяжесть этих проступков и оплошностей заставляла многих мирских активистов искать внешнего посредничества.
Хотя религиозные конфликты обретали форму под действием важных локальных факторов, они протекали не в изоляции. Через торговлю, образование, проповеди, паломничества и обращение рукописной литературы на татарском, арабском и персидском языках сетевые структуры ученых и суфиев связывали общины мечетей в деревнях и маленьких городах с региональными центрами образования (медресе), число которых в конце XVIII – начале XIX в. выросло. Их связи протягивались в международные центры науки и благочестия в Бухаре, Самарканде, Кабуле, Стамбуле, Багдаде, Каире, Мекке и других местах. Через эти каналы российские мусульмане участвовали в делах и конфликтах своих единоверцев во всем исламском сообществе. То, как мусульмане Российской империи переживали и осмысляли эти более общие диалоги и споры, заставляло их адаптировать ресурсы как из космополитического репертуара исламских норм и императивов, так и из политического контекста царской империи131.
Как мы видели на примере села Ура в главе 1, социальные отношения между патронами и клиентами и их обращения к судам, полиции и исламской иерархии структурировали дискуссии вокруг дефиниции аутентичных исламских практик. Традиция в таких мусульманских общинах оформлялась через споры и дебаты о доктрине, ритуале, поведении и сообществе. В общинах, подконтрольных ОМДС, мусульманские клирики боролись за установление непререкаемой области ортодоксии.
Исламские авторитеты в другие времена и в других странах достигли некоторого успеха в утверждении своей версии ортодоксии, преследуя народные праздники или запрещая политеистические практики. Но сопоставимое употребление власти улемами в России было осложнено несколькими факторами. Несмотря на бюрократические строгости экзаменов, лицензирования и ведения приходского учета, религиозное лидерство по-прежнему было очень вариативным и неформальным. Моральный статус и авторитет кандидата в религиозные лидеры определялись не государственной лицензией, а мнением влиятельных членов общины мечети. В серой зоне религиозного подполья процветали нелицензированные (неуказные) клирики – бродячие проповедники, учителя, чтецы Корана, рассказчики, поэты, неформальные менторы и духовные наставники. При поддержке патронов и учеников они по-прежнему ускользали от полицейского контроля и действовали за рамками официальных исламских учреждений. Они пережили сам царский режим.
Режим был неспособен подавить неуказных клириков и останавливался в шаге от полного одобрения авторитета официальных. Он позволял общинам мечетей выбирать кандидатов в имамы, проповедники, учителя и служители мечети. Закон был на стороне прихожан, когда они хотели сместить клирика, своим поведением разочаровавшего покровителей – спонсоров его выдвижения. Губернские власти часто питали сомнения в общественной полезности или политической лояльности мусульманских клириков. Поэтому угроза проверки или смещения с официальной должности придавала больше веса требованиям прихожан, когда они выступали против мулл, обвиняя их в некомпетентности, лени, распутстве или неверии.
Прихожане могли найти поддержку у местного чиновника, а мулла, который считал своим долгом наказать какого-нибудь крестьянина за нарушение шариата – будь то пьянство, кутежи или нежелание посещать молитвы, – обычно должен был до некоторой степени опираться на помощь других членов общины. Клирики, которым не удавалось заручиться поддержкой общины, обращались в ОМДС. Но до Уфы далеко. Ее влияние почти всецело зависело от благосклонности местного уездного суда. Это учреждение обладало смешанной судебно-полицейской юрисдикцией и ограниченными ресурсами. Во многих местах в его штат входили видные татары или двуязычные писари, и оно, по сути, функционировало как суд, следствие, свидетель и полиция; оно судило споры, нотариально заверяло итоги сельских выборов (например, мулл) и проводило в жизнь решения ОМДС и других вышестоящих учреждений132.
Таким образом, улемы сталкивались с теми же трудностями, что религиозные ученые в других мусульманских обществах – например, позднейшие иранские клирики, которые, как заметил Майкл Фишер, «отстаивали идеалы, зачастую выходившие за рамки осуществимого на практике» и были «поэтому всегда подвержены обвинениям в лицемерии и притворстве». Повседневная жизнь в империи подразумевала, что они, подобно клирикам османского Дамаска, также «создавали и нарушителей, и защитников публичного морального кодекса»133.
Царское законодательство передало обряды рождения, брака, развода, смерти и покаяния в исключительное ведение «магометанского духовенства» и подчинило всю общину правовым заключениям (фетвам) муфтия. Но миряне никогда не были пассивным объектом иерархического контроля. Мусульманские прихожане предпринимали ряд инициатив, зачастую будучи убеждены, что исполняют коллективный долг «побуждать к благому и отвращать от дурного»134. Миряне не только выступали патронами мечетей, школ и благотворительных фондов, но и горячо пропагандировали свои религиозные ценности среди других людей, включая немусульман. Моральные ожидания и заботы о тщательном соблюдении шариата, усиленные распространением пиетистских учений братства Накшбандийя, подрывали доверие ко многим указным клирикам. Когда миряне и женщины стремились навести в общине новый моральный порядок, ставя под вопрос рвение своего муллы, апелляции к имперским законам и самодержавной власти становились важнейшим ресурсом. Обвинения в аморальности, нерелигиозности и лжеучениях провоцировали полицейское вмешательство, а с ним и государственную поддержку нового определения ортодоксии.
МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО?
Хотя правительство проводило параллели между османскими улемами и духовным сословием, царские власти боролись с юридической дефиницией мусульманского духовенства как сословия с особыми привилегиями и обязанностями в имперской правовой системе135. Все были определенно единогласны лишь в том, что ставили целью определение меры клерикальной дисциплины. На должности следовало назначать согласно системе экзаменов и лицензий, подтверждающих минимальную образовательную квалификацию, и с одобрения губернатора.
Однако в отличие от православных священников, эти религиозно образованные и благочестивые мужчины и женщины принадлежали к довольно неформальной и открытой социальной категории. В поздние периоды исламской истории централизованные государства – например, Османская и Сефевидская империи и Бухарский эмират – оформляли их высшие ранги в бюрократическую структуру. Но в большей части исламского мира улемы образовывали «не обособленный класс, а категорию лиц, пересекавшуюся с другими классами и социальными группами и пронизывавшую все общество»136. Например, в Дамаске, Алеппо и Каире проповедники, имамы, чтецы Корана, суфийские шейхи, учителя, юристы, судьи, рыночные инспекторы, профессиональные свидетели, управляющие благотворительными фондами и служители мечетей также работали чиновниками, торговцами, ремесленниками и рабочими. Они преподавали верующим исламское учение, интерпретировали религиозное право, управляли образованием и благотворительностью и администрировали широкий спектр семейных, социальных и экономических дел в области юрисдикции шариата. Улемы закладывали основу для общественных объединений и социальных связей в этих городах через неформальные образовательные кружки и клиентелы вокруг медресе, мечетей, судов и суфийских общин. Эти элиты взаимодействовали со светскими режимами, которым придавали некоторую легитимность в обмен на покровительство и защиту сообщества. Но в кризисные времена религиозные элиты могли отзывать эту поддержку и использовать свое влияние в народе для мобилизации толп против правительства.
В России улемы демонстрировали во многом те же характеристики, но их роли формировались меняющимся социальным контекстом и институциональной системой империи. Создание официальной исламской иерархии в 1788 г. ни в коей мере не было единственным определяющим фактором. Через сорок лет после основания ОМДС так и не стало монополистом в назначении на духовные должности. Мусульмане, не утвержденные в Уфе, продолжали руководить молитвами, вести религиозное обучение и исполнять другие обязанности. Они исполняли эту роль наряду с указными клириками и зачастую конкурировали с ними. МВД никогда не могло оценить размер этого нелицензированного подполья. В 1829 г. чиновники заявили, что подсчитали «официальных» и «неофициальных» мулл, муэдзинов, судей и прочих в Казани и Казанском уезде. Неизвестно, каким образом власти определили тех, кто исполнял эти функции нелегально, но, по их данным, 207 неофициальных и 128 официальных клириков обслуживали около 64 000 мусульман в 187 мечетях. В биографических словарях, созданных мусульманскими учеными, были сведения о множестве лиц, чья деятельность оставалась вне государственной регламентации. В селе Тюнтер первые муллы появились в 1730 г., но до 1832 г. никто не имел лицензии. Тулун Хваджа бин Муси, умерший в 1844 г. в возрасте 75 лет, был суфийским наставником и вел религиозное обучение безо всякой лицензии («указ» или маншур)137.
Мусульмане следовали суфийскому пути безо всякого административного надзора. Ученики в поиске религиозных знаний и духовного руководства сами искали учителей и наставников. Они совершали дальние поездки и учились у знаменитых своими знаниями и благочестием ученых в сельских медресе по всему краю, а также за границами империи. Молодой человек мог изучать основы юриспруденции у ученого в Казани и хадисы у учителя в сельском медресе в Оренбургской губернии, а потом отправиться в Бухару и обучаться логике, философии и мистическим практикам; там он мог и получить посвящение в суфийском братстве Накшбандийя, а потом вернуться в родную деревню или город и посвятить себя передаче полученных знаний другим людям.
Образовательные горизонты женщин, видимо, в основном ограничивались коранической школой-мектебом, а не медресе. Родители препоручали девочек женам мулл и имамов для обучения религии в школе или на дому. Образование девочек не ограничивалось несколькими месяцами или годами обучения у жены муллы. Подобно мужчинам, не стремившимся получить образование выше элементарного уровня, женщины продолжали изучать основы религии через другие социальные каналы; они могли присутствовать на публичных проповедях, слушать истории и чтение Корана, стихов и других текстов. Они читали и обсуждали самые разнообразные произведения исламской литературы, включая комментарии к классическим текстам по исламскому праву и теологии. Жены мулл руководили сельскими женщинами при неформальных чтениях, обсуждениях житий святых, передаче хадисов и рассказах назидательных историй во время Рамадана. В 1843 г. среди казанского мусульманского «духовенства» правительство насчитало тридцать восемь женщин138, но ОМДС не присваивало им официального статуса.
Царские чиновники выражали неудовлетворенность своим собственным незнанием исламских «духовных чинов», подчиненных ОМДС. Режим видел, что они во многом похожи на клириков, привлекаемых на государственную службу, но не решался распространить на них привилегии священников православной церкви. Освобождение от телесных наказаний, одна из главных привилегий в имперском обществе, проводило важную границу между этими двумя группами. В 1785 г. дворяне, чиновники и купцы были отделены от низших классов царского общества освобождением от угрозы кнута. В 1801 г. царь освободил от нее православных священников и дьяконов, «желая дать пример уважения к священному сану в народе». В 1822 г. члены Государственного совета и Правительствующего сената обсудили, должно ли «духовенство магометанского исповедания» пользоваться той же привилегией, и постановили, что муллы, подчиненные ОМДС, должны по-прежнему подлежать телесным наказаниям, как и все подданные, платившие подушную подать139.
Когда правительство давало особые права и привилегии, оно вновь подтверждало этим иерархию исламской элиты. Только муфтий и судьи (ахунды) были персонально освобождены от рекрутского набора и телесных наказаний. С 1811 г. муфтий был подсуден Правительствующему сенату в Санкт-Петербурге, а не губернским властям, например при обвинениях в мздоимстве, которые преследовали Хусаинова140. Но духовный сан все еще не освобождал нижестоящих мулл от уголовного преследования губернскими властями.
В 1826 г. Государственный совет отверг предложение муфтия, касающееся уголовного преследования мусульманских клириков светскими властями. Муфтий Габдрахманов хотел, чтобы в этих процессах участвовали представители ОМДС. Совет постановил, что поскольку магометанское духовенство «никаких особенных привилегий по сану своему не имеет» и подлежит налогообложению и другим повинностям, его следует наказывать «наравне с прочими поселянами». Здесь режим также отличал мусульманское духовенство от христианского, отвергая для первого церковный суд. Совет прояснил свою позицию, указав, что только нарушения, непосредственно касающиеся «духовных обязанностей», подлежат юрисдикции ОМДС; все остальные относятся к юрисдикции обычных губернских судов. В 1849 г. Государственный совет и Сенат вновь подтвердили полномочия ОМДС наказывать клириков, приостанавливая или прекращая исполнение ими официальных обязанностей и лишая «духовного звания» за нарушение ими «духовных обязанностей». Но Санкт-Петербург поставил осуществление этих полномочий в зависимость от губернских властей. Эти власти должны были осуществлять их «чрез посредство Губернских Правлений», хотя данный указ запрещал им отменять решение ОМДС141.
Несмотря на старания башкир, которые в 1793 г. обращались к Екатерине, клирики могли освобождаться от обязанностей и повинностей только по усмотрению мирян. Для освобождения требовалось формальное добровольное согласие махаллы взять на себя это бремя. Некоторые общины мечетей освобождали мулл от воинской повинности, выставляя рекрутов вместо них, но они также отправляли в армию клириков, замеченных в «дурном поведении»142.
Законы, изданные в 1820‐х и 1830‐х гг. правительством Николая I в манере ad hoc, оставили без ответа много вопросов о статусе и функциях клириков. В мае 1834 г. министр внутренних дел Д. Н. Блудов запросил в Уфе информацию о мусульманах, служащих в мечетях и школах. У министерства не было точного статистического портрета этой группы, и оно не знало о «правах и обязанностях соединенных с сими должностями, в каких отношениях состоят занимающие их лица между собою и к их собранию, а каким порядком и на каком основании определяются они и отрешаются от своих должностей»143.
Ответом на запрос Блудова была краткая отписка; муфтий Габдулвахид Сулейманов послал в министерство подробный ответ только в декабре 1840 г. Он подтвердил официальные сомнения относительно организации мусульманских клириков, указал на то, что при первых двух муфтиях уездными судами никто не руководил. Их сфера ответственности была слабо определена и, по-видимому, не контролировалась ни ОМДС, ни губернскими властями. Многие были вовлечены в «неосновательные» тяжбы, и число дел, представляемых в ОМДС, росло, что содействовало «беспорядку и медленности» в их разборе144.
Сулейманов старался прояснить для своего начальства функции и обязанности улемов. Приходские имамы давали имена новорожденным, проводили браки и разводы и хоронили умерших. С 1829 г. они регистрировали эти события в приходских книгах, которые вели для государства. Имамы также выступали посредниками. Они убеждали прихожан искать «примирения» в случае «супружеских неудовольствий»145, издавали «разводное письмо» и вписывали соглашения в приходские регистрационные книги. Если это посредничество не вело к примирению, имамы отправляли тяжущихся к уездному судье, ахунду или казию (кади).
Эти судьи тоже имели приказ добиваться «примирения и добровольной сделки». Если на этой стадии не удавалось достичь согласия «по правилам Магометанского закона», каждая сторона должна была искать для себя посредников и свидетелей. Судьи затем издавали постановление и посылали отчет о деле на рассмотрение ОМДС. Они также контролировали распределение наследства между сиротами. Сулейманов добавлял, что поскольку судьи не получали платы от государства, они имели право требовать долю наследства в соответствии с шариатом. В прошлом ОМДС наложило на этих людей ряд ограничений. Им нельзя было объезжать селения и слушать дела «само собою». Учитывая почтение и уважение к ним простолюдинов, они должны были также демонстрировать «хорошее поведение и нравственность» и подчиняться приказам вышестоящих под страхом смещения с должности. Наконец, по словам муфтия, эти судьи должны были передавать светским властям жалобы женщин на жестокое обращение со стороны мужей146.
Как реагировали мусульманские клирики на переопределение их статуса и ответственности под централизованной властью официальной исламской иерархии? Многие по-прежнему преподавали исламские науки, но уклонялись от экзаменов в Уфе и губернаторской проверки, необходимой для получения лицензии. Другие возражали против слишком большой власти, взятой на себя муфтием, или сомневались в легитимности ученых, объявивших Российскую империю «Дар аль-ислам». Подобно еврейским общинам, которые поддерживали и официальных раввинов для исполнения административных обязанностей, и других, которые этого избегали, некоторые общины мечетей пользовались услугами и указных клириков, и неуказных, завоевавших уважение односельчан своим благочестием147.
Репутация и общие источники образования и мистического знания столь же способствовали формированию связей между религиозными учеными, как и подчинение единому властному органу и связанный с этим неопределенный правовой статус. Многие ученые получили образование у одних и тех же наставников в Бухаре и там же следовали духовному руководству наставников из братства Накшбандийя. Контакты с суфийскими наставниками вроде Файз-хана в Кабуле формировали связи между учеными, разбросанными по всей Евразии. Например, в селе Ура (Оры) братья Хабибулла и Фатхулла принимали посетителей с подарками – например, «ишана Уфимского уезда», чье паломничество в их село укрепляло их репутацию. Этот ишан, Жәгфәр ибн Габид ибн Исхак ибн Котлыгмѳхәммәд ибн Нәриман әс-Сафари (ум. в 1831 г.), возможно, также разделял враждебность Хабибуллы к муфтию Хусаинову, хотя все трое были связаны с суфием Файз-ханом. Несмотря на вражду между братьями, они поддерживали общие контакты с учеными и суфиями. Паломничества и обмен текстами дополняли эти связи148.
Для придания эмоционального характера связям между служителями религии особенно важны были похороны. В биографических словарях часто называют имена тех, кто читал молитвы на похоронах видных людей. Например, Фатхулла читал молитвы на похоронах одного из учеников Хабибуллы в Ашите (который учился также в деревне Урбар) и другого муллы в деревне Кышкар149.
Социальные и правовые условия в Российской империи создавали дополнительные маркеры групповой идентичности. Даже в XVIII в. мусульманские клирики стремились к равенству с православными, добиваясь от режима прав и привилегий. На встрече с Игельстромом в феврале 1789 г. башкирские и мишарские старейшины из Верхнеуральского уезда добивались права свободно ездить по своему краю. Они указывали, что христианские «духовные чины ездят по селениям и смотрят за порядочным отправлением службы в церквах, чтобы и их духовным позволено было ездить по их селениям для учинения народу о законе нужных толкований»150. Со временем привилегии православного духовенства становились все заметнее, а режим налагал все больше сходных обязанностей на мусульманских клириков, и мусульмане добивались правового статуса, примерно аналогичного православному священству. Так сами улемы начали думать о себе как об отдельном сословии, «мусульманском духовенстве».
В 1841 г. улемы Оренбургской, Казанской, Вятской и Пермской губерний подали серию прошений, чтобы добиться от муфтия Сулейманова легального признания сословных привилегий. В этой и других кампаниях апелляций от имени мусульман края ученые из этих четырех губерний подали тридцать одно прошение того же содержания, хотя и выраженного разными словами. Эти прошения, поданные по сетям коммуникаций и ассоциаций на основе образовательных, родственных и торговых связей, были попыткой добиться привилегированного статуса. Просители сравнивали себя с православными священниками в том отношении, что они выполняли те же обязательства перед государством, включая молитвы за императора и царствующую семью. Они также добивались персонального освобождения от рекрутского набора и выплаты государственных податей, поскольку режим освободил от этих обязанностей христианских священников и даже раввинов151.
Согласно этим прошениям, мусульманские клирики не имели никаких привилегий, и прихожане редко брали на себя ответственность по их обязательствам. Прихожане уклонялись от этих повинностей, хотя указ от 31 августа 1826 г. «обязал» исполнять их. Члены общин мечетей нарушали исламские законы еще и тем, что пренебрегали своими имамами, тем самым вынуждая их искать другие источники средств к существованию. Эти другие занятия отвлекали имамов от религиозной службы и приносили мало дохода, поскольку тот же закон 1826 г. запрещал им заниматься любыми видами торговли. Когда клирики брались за какую-то экономическую деятельность, прихожане доносили на них и требовали смещения. Просители жаловались, что в итоге клирики и их семьи страдали от ужасной бедности и даже не могли платить податей. Один мулла, служивший в Оренбургском казачьем полку, жаловался, что ему приходится платить подати, «как бы простой казак», хотя он исполнял другие обязанности, например «попечительство киргизов», которым он давал «увещание» и проводил присяги152.
ОМДС поддержало эти запросы и обратилось в Санкт-Петербург с идеей распространить привилегии на все саны мусульманского духовенства. Приходских ахундов, имамов и азанчи предлагалось освободить от рекрутского набора и сельских податей за счет своих прихожан, а между клириками и прихожанами заключать соглашения, подтверждающие их взаимные обязательства в момент назначения на должность. ОМДС также добивалось наследования духовных должностей. Чтобы сыновья «указных духовных приходских чиновников» могли изучать основы религии «свободно