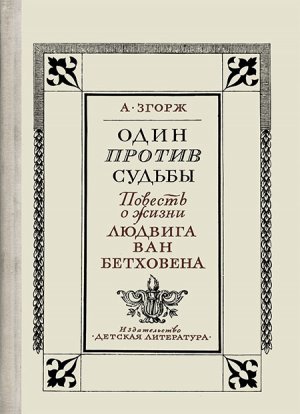
A. Zhoř
SAM PROTI OSUDU
Praha, 1967
Перевод с чешского Н. Дроздовой
Гравюры
Л. Дурасова
Оформление
Е. Ганнушкина
© Перевод на русский язык
Издательство «Детская литература», 1973 г.
Чудо-ребенок
— Если бы я не был пекарем, то, может быть, смотрел бы на музыку по-другому. Вы, господин хороший, ночью спите, а днем работаете. А у меня все наоборот. Ночью я пеку, значит, днем спать бы полагалось. Да не тут-то было… Кабы можно было… У вас, простите, музыка с утра до вечера, так что человеку глаз не сомкнуть. А уж о бесконечных посетителях да беготне но лестнице взад-вперед лучше уж и не говорить! Мне очень неприятно, господин ван Бетховен, но придется вам искать другую квартиру!
Пекарь Фишер, в полотняных штанах, в рубашке, вымазанной мукой, в домашних туфлях на босу ногу, в раздражении выбежал из пекарни к воротам своего старого дома, навстречу мужчине лет сорока с удивительно красным лицом. Под белым париком, на фоне темно-зеленого фрака его профиль казался отчеканенным из меди. Веки у него были припухшие, глаза тусклые, как у невыспавшегося человека. И хотя одет он был по-господски и на нем были белые шелковые чулки и туфли с большими серебряными пряжками, вид его не внушал доверия. Весь этот наряд был уже несколько поношен, и парик с черным бантом, казалось, того и гляди, съедет с головы.
Приближаясь к дому, он не произносил ни слова, высокомерно уставившись на взволнованного пекаря.
Когда он решил, что поверг домохозяина в прах, лицо его внезапно прояснилось, он засмеялся и положил руку на плечо пекаря:
— Вы когда-нибудь слушали Моцарта?
Фишер заморгал глазами. Но странный вопрос прозвучал снова:
— Я вас спрашиваю: вы когда-нибудь слышали, как играет Моцарт?
— Нет, не знаю… — заикался пекарь.
— Так вы его еще, стало быть, не слышали, — сказал мужчина соболезнующе. — А жаль! Удивительный ребенок! Он выступал у нас в Бонне лет четырнадцать назад как пианист-виртуоз и композитор. Хотите знать, сколько ему тогда было лет, господин Фишер? Семь лет, господин Фишер!
— Я только говорю, что никогда не высыпаюсь как следует, — бормотал смущенный пекарь.
Голова в белом парике кивнула несколько раз.
— Моцарт был истинное чудо света. И хотите верьте, хотите нет, но этот ребенок играл в Париже для королевской четы, а в Лондоне совершенно покорил королеву английскую! Князья и курфюрсты приглашали его в свои замки, а золото рекой лилось к нему со всех сторон!
В конце концов толстяк пекарь решил, что княжеский оркестрант и тенорист Иоганн Бетховен дурачит его. А может быть, он в подпитии? Такое бывало не раз! Пекарь был уже по горло сыт россказнями о необыкновенном Моцарте и взорвался:
— Не говорили бы вы лучше невесть чего! Извольте освободить квартиру! Понапрасну тратите свое красноречие.
Опытный лицедей притворился удивленным:
— Но, господин домовладелец, именно об этом мы и говорим! Моцарт теперь уже композитор, прославленный во всем мире. Вена — императорская столица — поклоняется ему. Вельможи считают за честь, если он побренчит на фортепьяно в их дворцах.
— Боюсь, что сегодня вы несколько в подпитии, господин Бетховен. Поговорим в другой раз! — Возмущенный Фишер повернулся к дверям пекарни.
— Нисколько, дорогой хозяин! Я трезв, как еще никогда в жизни! Только, пожалуйста, выслушайте меня. Кому довелось услышать Моцарта в концерте ребенком, по сей день гордится этим! На его родном доме скоро будет памятная доска. А вы? Вы отказываетесь от такой чести для своей старой хижины. Неужели вы хотите, чтобы в будущем вас упрекали — пекарь Фишер изгнал из своего дома чудо-ребенка?!
— Вы сами не знаете, что говорите, господин Бетховен. Я молоденького Моцарта ниоткуда не выгонял, потому что никогда в глаза его не видел. До свидания!
— Нет, не до свидания, господин домовладелец! Продолжим наш разговор. Мой старший сын Людвиг точно такой же необыкновенный ребенок. Его имя тоже прославится во всем мире. И скоро! Совсем скоро! Вот, взгляните только.
Бетховен положил на стоявшую у ворот скамью узел. До сих пор он держал его в руке, и это выглядело так странно, что господин в шелковом жилете, расшитом золотом, тащит по городу такую убогую ношу. Покопавшись в чем-то, похожем на платье, он извлек сложенный лист бумаги, развернул его и прислонил к облупившейся стене.
Это оказалась афиша, ее текст был напечатан жирным готическим шрифтом.
Пораженный пекарь прочитал:
ИЗВЕЩЕНИЕ
26 марта 1778 года
придворный тенорист Бетховен будет иметь честь показать в музыкальном академическом зале своих учеников:
Придворную альтистку мадемуазель АВЕРДОНК и своего шестилетнего сынишку.
Первая будет иметь честь выступить с различными красивыми ариями, второй — с разными клавирными концертами и трио.
Он надеется доставить высоким господам полное удовольствие, тем более что артистам была оказана милость быть выслушанными, к величайшему удовольствию всего двора.
НАЧАЛО В 5 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
Неабонированные господа и дамы платят один гульден.[1]
— Ну, что вы на это скажете, господин Фишер? — спросил тенорист, когда взор пекаря проследовал в нижнюю часть афиши.
Пекарь с минуту молчал, не находя слов. Потом произнес с некоторой робостью:
— Я бы сказал, что в афише есть ошибка, господин Бетховен. Если память мне не изменяет, Людвигу не шесть, а семь с половиной.
Иоганн ван Бетховен благодушно махнул красивой рукой:
— Годом больше, годом меньше, какое это имеет значение! Чудо-ребенок должен быть как можно моложе. Главное состоит в том, дорогой господин домовладелец, что концерт принесет Людвигу славу, мне — деньги, а вашему дому — почет!
— От почета я не откажусь, если только смогу выспаться после ночной каторги. А от квартиры я вам отказываю.
— Ну, ну, вы этого не сделаете! — Тенорист не переставал улыбаться. Он не принимал всерьез никогда и ничего, а уж гнева домовладельца и подавно.
— Вы только скажите мне, в какое время вы хотите иметь покой, и мы будем играть пианиссимо. Или, может быть, играть для вас колыбельную?
— Вы мне еще кое-какие хлопоты доставляете. Прошлый взнос за квартиру не внесли, да и второму уже срок истекает.
— Ах вот что! Ну, этот пустяк мы уладим сразу после концерта Людвига. Заплачу хоть за год вперед.
Но у пекаря были наготове еще кое-какие новости не из приятных: оба старших сына Бетховена, семилетний Людвиг и четырехлетний Каспар, забрались недавно в курятник, разместившийся в углу двора. Фрау Фишер застигла Людвига, когда он вылезал оттуда. Мальчик уверял ее, будто младший из трех бетховенских отпрысков, двухлетний Николай, уронил в курятник носовой платок. Но он-то знает этих молодцов… В последнее время куры стали подозрительно мало нестись!
Жалоба пекаря вдруг оборвалась, потому что в открытых воротах возникла странная фигура. Собеседники смолкли, отступив во двор и удивленно глядя на пришельца.
Человек небольшого роста, средних лет, тщедушный и сгорбленный, в давно нечесанном парике, входил во двор, не обращая на них внимания. Черный фрак болтался на нем, однако ноги в коротких панталонах и чулках, цвета, лишь отдаленно напоминающего белый, ступали энергично и размеренно.
В правой руке он держал черную, с потрескавшейся краской, дирижерскую палочку, в левой — ноты, свернутые в трубку. Палочкой он ритмично постукивал по нотам.
— Последнее время он ходит сюда каждый день!
— Тихо… — остановил пекаря тенорист. — Посмотрим, что он будет делать.
Они оба хорошо знали пришельца, как знал его в городе каждый. Некогда он был музыкантом, сам понемногу сочинял. Рассказывали, что он совсем «заучился» и в голове у него царил хаос. Музыкант уже сыграл свою роль уважаемого гражданина и теперь выступал в роли городского сумасшедшего. Он никогда ни с кем не разговаривал и только блуждал по городу, помахивая дирижерской палочкой и нотами, свернутыми в трубочку.
Сейчас он замер в неподвижности посреди двора, склонив ухо к дому. Из открытого окна первого этажа доносились звучные аккорды. Чьи-то проворные пальцы уверенно бегали по клавишам.
Сумасшедший начал помахивать палочкой в такт музыке. Он тихо улыбался, покачиваясь всем телом. Как видно, доносившиеся звуки были приятны его искушенному уху. Так он постоял некоторое время, потом указал своей палочкой на окна дома, где играл невидимый пианист, и быстро закивал головой. Это могло означать только одно: хороший пианист, хорошая музыка! Однако он ничего не произнес. Послушав еще немного, повернулся и направился к выходу. Он и теперь не взглянул на двух молчаливых мужчин и только, проходя мимо, сделал какое-то странное движение, потом взмахнул своей палочкой вверх, к крыше, как бы вздымая над головой стяг.
— Видели? — зашептал пекарю Иоганн Бетховен, когда фигурка в черном удалилась на улицу. — Он показывал на мои комнаты! Недаром говорят, что устами младенцев и блаженных глаголет истина. Он похвалил моего сына! Оценил его игру!
— Может быть, — сдержанно согласился пекарь. — Но если бы даже вы, ваши ученики и все три ваших сына играли как ангелы, я все равно уже сыт по горло всем этим бренчанием, пением, топотом и визгом.
— Не думал я, что вы такой враг искусства!
— Я и не говорю, что я враг искусства. Я просто хочу спокойно спать.
— Господин домовладелец, должен вас предупредить, что вы навлечете на свою несчастную голову гнев его княжеской милости.
— Гм…
— Я бы на вашем месте не говорил «гм», а немедленно отказался бы от вашего требования, чтобы мы съехали с квартиры. На афише, которую я только что показывал вам, вы могли прочесть, что мой сын уже выступал перед архиепископским двором. Вы не представляете себе, какой был успех, господа были в восторге! Князь обнял мальчика, погладил по щеке и не без труда скрыл слезы волнения. Ведь мне достаточно только сказать, что вы…
— Господин архиепископ человек справедливый, он знает, что ночью пекари должны печь, а днем им надо спать, — парировал пекарь, однако уступчивая нота в его голосе свидетельствовала, что он поколеблен в своей решимости.
Разве осмелится кто-нибудь в Бонне прогневить архиепископа? Бог-то, конечно, всесилен, но он далеко, а могущественный архиепископ пребывает поблизости.
Владыка этого прирейнского города принадлежал к числу самых могущественных вельмож немецких земель. Он был одним из семи курфюрстов, обладавших правом избирать императора.
Но коли он был могуществен, то был и богат. По обоим берегам Рейна раскинулись поля, леса и виноградники, которыми он владел. Города платили ему налоги, пошлины, подати, а в многолюдных крестьянских селениях на него гнули спину барщинные крестьяне.
Он владел не только телом каждого своего подданного, но и его душой. Ведь боннский курфюрст одновременно являлся и кельнским архиепископом. Кельн над Рейном принадлежал, правда, к числу свободных рейнских городов, но если архиепископ ударял кулаком по столу, кельнские жители подчинялись. А их больше ста пятидесяти тысяч! Что такое в сравнении с ним Бонн с его восемью тысячами жителей, в центре которого курфюрст выстроил недавно широко раскинувшийся замок в стиле рококо!
Если, как говорится у христиан, без воли божьей с головы человека и волос не упадет, то о Бонне можно было сказать, что без княжеского соизволения в нем и собака хвостом не махнет. Его милость не мог запретить дворнягам вилять хвостом, но мог приказать без пощады уничтожить всех псов. Князь не только устанавливал законы, но и вершил правосудие, согласно им. Он учреждал налоги, и в его воле было отменить их. Разверстывал подати, и в его воле было скостить их.
Денег никогда не хватало, хотя крестьяне работали до упаду, а горожане отдавали все до последнего гроша. Курфюрсты умеют расточать быстрее, чем в состоянии заработать крестьяне и горожане.
А для кого беречь? Для кого копить про черный день? У кое-кого из знати, правда, есть сыновья, и они мечтают завещать им свои владения не разоренными, а устроенными.
В Бонне владычествует архиепископ. У него нет законных наследников, и он может хозяйничать по принципу «после нас хоть потоп». Его замок кишит гофмейстерами, маршалами, камергерами, лакеями, егерями, конюхами, и бог знает, какие еще звания носит бесчисленная челядь вельможного владетеля.
Каждый из восьми тысяч боннских обывателей надеется хоть что-нибудь уловить из золотого потока, который изливается из замка. К самым захудалым из них относились княжеские музыканты. Их у князя тридцать шесть, и один из них Иоганн Бетховен.
Пекарь Фишер отлично знал, что беззастенчивый квартирант принадлежит к самым ничтожным из княжеской челяди. Его покойный отец умел устроиться лучше. И хотя происходил из фламандцев, сумел выдвинуться на почтенную должность капельмейстера. К тому же он владел двумя погребками со знаменитым рейнским.
К младшему же Бетховену пекарь почтения не питал. Однако был еще сын его, Людвиг! Ему всего семь лет, а по городу идет молва о его большом будущем. Кое-кто, правда, втихомолку посмеивается — насмотрелись на вундеркиндов! Но Фишер-то разбирается! В этом мальчике есть что-то особенное, хотя он и способен участвовать в разных проделках во дворе, как всякий мальчишка. В курятнике-то он все-таки побывал! А ведь он бывает подчас серьезен, как взрослый. Смотрит вдаль, не улыбнется, молчит и все о чем-то думает. Потом вдруг сорвется с места, ринется домой, и скоро уже клавиши поют под его пальцами что-то такое, что еще не изображено нотными знаками. Фишер, правда, не играет ни на одном инструменте, но отличить настоящую музыку умеет. Все-таки ему довелось услышать ее. Еще старый капельмейстер музицировал. И с ним его ученики и сын — тогда еще молодой красавец с многообещающим тенором.
В сущности, пекарь давно уже свыкся с шумом, и уж не настолько игра на рояле и пение мешали ему спать. Дело было в другом. Не пристало ему держать в своем доме человека, который с шумом возвращается из пивной тогда, когда петухи уже возвещают наступление нового дня. Но если князь в самом деле интересуется этим необыкновенным мальчиком, пожалуй, лучше не спешить пока с отказом от квартиры.
— Чтобы вы не говорили, будто я не хочу пойти навстречу, господин Бетховен, так и быть, я подожду еще. Подожду ради Людвига. Но пожалуйста, будьте потише по утрам, когда я сплю. Ведь музыка бывает не только форте! И потом, простите, еще одно… Позавчера мой подмастерье поутру нагружал тележку булочками. Лавки и трактиры уже открывались, а он прибежал в пекарню, хохочет и говорит: «Пришел господин тенорист и никак не может войти по ступеням». Вы сами понимаете, мне от этого радости мало, а если ваш сын и вправду принесет славу моему дому, то вы-то уж мне такими делами чести не приносите.
На лицо Бетховена набежала тень, взгляд забегал по мостовой.
— Ну, бывает иногда… — неуверенно бормотал он. — Все не без греха. Мы отмечали день рождения приятеля… Мне очень неприятно. Жена плакала… Впредь я буду осторожнее… Ну, я, пожалуй, пойду. Нужно проверить, как Людвиг выучил урок. Видите ли, у нас, музыкантов, нелегкая жизнь.
Казалось, что в его смущенном бормотанье проскальзывают нотки неподдельного огорчения. Взяв свою странную ношу, он кивнул и исчез в дверях, за которыми вверх поднималась деревянная лестница. Ее ступени заскрипели, загудели и наконец умолкли.
Иоганн Бетховен вошел в кухню своей квартиры. У окна маленького помещения с низким потолком сидела хрупкая печальная женщина небольшого роста с каким-то шитьем на коленях. Она обратила к мужу свое бледное, почти прозрачное лицо с ярким румянцем на скулах. Муж протянул ей узелок и горделиво объявил:
— Вот принес. Роскошь! Ты только взгляни!
Женщина поднялась и тут же вбежали два мальчика — четырехлетний Каспар и двухлетний Николай. Оба коренастые и такие румяные, будто их щеки натерли кирпичом.
Они толклись вокруг стола, с любопытством разглядывая сверток, который отец положил на чисто вымытые доски стола.
— Фрак! Совсем как мой, — спесиво изрек княжеский тенорист и развернул костюмчик из зеленой парчи. Он был маленьким и смешным, потому что был копией костюма для взрослых.
Потом на свет был извлечен крошечный пестрый жилет с целым рядом пуговиц и коротенькие панталоны того же цвета, что и фрак. И, наконец, паричок, белоснежный, завитой в множество продолговатых локонов.
— Точно так был наряжен маленький Моцарт! Людвиг будет нисколько не хуже! Ни платьем, ни игрой, — звучал хвастливый мужской голос, в то время как женщина безмолвствовала. — Тебе, конечно, не нравится!
Она молча пожала плечами и вздохнула. Супруг возмутился:
— Да, конечно, тебе не нравится. А мне придется выложить целую кучу дукатов, уж поверь мне! Спасибо, портной согласился подождать с оплатой, до концерта. Материал он поставил отличный. Ты только представь себе, как Людвиг выйдет на сцену в зеленом фраке и белом парике! Шестилетний виртуоз! А шпага! Бог мой, совсем забыл! Нужно же еще достать маленькую позолоченную шпагу. У Моцарта была такая. Может быть, мне одолжат в театральной костюмерной?
— Несчастный мальчик! — почти беззвучно произнесла жена Бетховена.
— Несчастный? Хотел бы я знать почему?
— Бегите играть во двор, мальчики, — неожиданно приказала мать. — Каспар, возьми Николая за руку и смотри, чтобы он не ушибся.
Четырехлетнему Каспару не впервые быть нянькой своему братишке. Он быстро вывел его из кухни, и было слышно, с какой осторожностью он сводит малыша по ступенькам.
— Я не хотела говорить при них, — кивнула в сторону двери госпожа Бетховен, — но теперь я тебе скажу, что мне этот концерт не в радость.
— Почему? Может быть, Людвиг не хочет упражняться? Я его образумлю, — погрозил он пальцем.
— С обеда играет, не переставая!
— Только бы опять не барабанил свои нелепые фантазии. Он это любит!
— Людвиг упражняется хорошо. Послушай только!
Оба умолкли. Быстрые и уверенные пассажи, доносившиеся из соседней комнаты, слышались теперь отчетливее. Она продолжала:
— Он не подведет тебя. Но скольких это мучений стоило!
— Глупости! Он обожает музыку с малых лет.
— Это верно. Но все-таки он еще совсем ребенок. Иногда ему хочется побегать во дворе, поиграть в прятки, погонять мяч, а ты с этим не считаешься, прямо приковываешь его к роялю!
— Я делаю это ради его же будущего. Он должен стать великим пианистом!
— Но немного радости ты мог бы ему позволить, — возразила жена. — Признайся, Иоганн, ведь ты печешься не столько о будущем Людвига, сколько о деньгах.
— Может быть, у меня их много?
— Мы не выходим из нужды, это правда, но кто виноват? Твое жалованье, конечно, ничтожно. Что это — двести пятьдесят дукатов в год, с тремя-то детьми! Но ведь мог бы ты заработать еще столько же уроками музыки или пения. И каково бы это было, если бы в самом деле когда-нибудь пришли ученики, а ты в это время сидел бы в корчме? Да еще в таком состоянии, что ноту от ноты не отличишь!
Иоганн Бетховен уселся на простую кухонную лавку, с выражением неудовольствия на лице.
— Тебе не кажется, Магда, что об этих вещах мы толковали уже много раз? Что я могу тебе ответить? Это все друзья виноваты! И, в конце концов, что это за музыкант, который не пьет?! — Он принужденно засмеялся.
— Вспомни своего отца, Иоганн, — негромко, с укоризной говорила ему жена. — В княжеской капелле его так ценили, как тебе и не снилось. Он владел подвалами вин, но чтобы пить!.. Он трудился, был бережлив и, пока был жив, помогал нам. А ты? Продаешь последнее, что уцелело!
Муж внезапно поднялся с лавки:
— Как ты думаешь, Магда, не надо ли примерить костюм, посмотреть, к лицу ли он мальчику? — и, не ожидая ответа, пошел к двери и открыл ее: — Пойди сюда, Людвиг!
Рояль умолк не сразу. Пианист закончил фразу и только тогда отнял руки от клавиш. И тотчас же появился в дверях. Это был невысокий, крепкий мальчик. Глядя на него, было ясно, что он будет невысок, а плотен и приземист. Волосы у него были удивительно густы, черны и откинуты назад, а кожа так смугла, будто он родился не на Рейне, а где-то на юге, под жгучими лучами солнца. В темных глазах мальчика был вопрос: зачем позвали?
— У меня для тебя есть сюрприз, мальчик. Через неделю будет концерт. Смотри, как мы с мамой тебя нарядим, — хвастал отец, разворачивая костюм.
На лице Людвига отразилось разочарование. Глаза перебегали от стола к окну. Его манил весенний вечер, а портновское чудо совсем не трогало. Когда отец неожиданно позвал его, он почувствовал робкую надежду, что ему позволят поиграть с детьми во дворе. Заходящее солнце заливало продолговатый двор потоком лучей, и в окна доносились крики играющих мальчиков.
Людвиг безучастно смотрел на маленький зеленый фрак и пестрый жилет. Отец не замечал, как разочарован мальчик.
— Надень, Людвиг! Ты будешь совершенный кавалер!
Мальчик не ответил, только лицо его нахмурилось. Меньше всего думал он сейчас о парадном платье. Молча начал он одеваться с помощью матери, не произносившей ни слова. Отец подал ему белые шелковые чулки, своими руками застегнул посеребренные пряжки на черных туфлях, натянул парик на непокорную шевелюру, расправил под подбородком пышный кружевной бант. После этого он повел мальчика в соседнюю комнату. Там висело в золоченой чеканной раме большое зеркало необычной формы, сужающееся книзу. Эта роскошная вещь среди бедной обстановки была единственным напоминанием о благосостоянии деда.
Маленький Людвиг долго и пристально всматривался в странного мальчика в зеркале. В рамке из белых буклей собственное лицо казалось ему коричневым, как глина, и бесконечно безобразным. Он не смотрел ни на красивый зеленый фрак, который был ему ниже колен, ни на пестрый жилет, почти такой же длины. Он видел на серебристой поверхности зеркала только темное лицо, и оно становилось все более мрачным.
Зато отец ликовал. Несколько раз он обошел вокруг мальчика, чтобы полюбоваться им со всех сторон. Ему представлялось, как он выводит Людвига на сцену, сажает у рояля и становится около него, чтобы переворачивать ноты и раскланиваться вместе со своим необыкновенным ребенком, когда зал разразится аплодисментами.
— Еще добуду позолоченную шпагу! — обещал отец. — Ее тебе недостает.
Мальчик минуту раздумывал над последними словами отца, потом коротко рассмеялся:
— Дайте мне еще шарманку!
— Какую шарманку?
— Недавно к школе приходил шарманщик. Держал на цепочке обезьянку, наряженную, как я. Когда он играл, она танцевала.
— Людвиг! — предостерегла его мать.
Отец вознегодовал:
— Разденься и чтобы сейчас же сидел за роялем!
На мгновение мальчик задумался. Так и замер в огорчении, во фраке, стянутом с одного плеча.
В окне виднелись освещенные крыши домов, искрящаяся гладь Рейна, а на другом берегу зеленые холмы, носившие название Семигорья. Там на улице солнце светило одинаково ярко всем детям — обыкновенным и необыкновенным. А ведь Людвигу не было и семи с половиной лет! И хотя он очень любил музыку и мог без принуждения играть часами, тело его иногда начинало бунтовать.
Руки отказывались бегать по клавишам, ноги стремились соскользнуть с педалей и нестись по улице в дикой мальчишеской гонке.
— Папа, я бы хотел пойти на улицу, — просительно сказал он.
— Пусти его хоть на минуту, — взмолилась мать. — Вечер так хорош!
— А концерт?
Мальчик молчал. Мать продолжала:
— Он трудился так прилежно. У него все получается прекрасно, лучше невозможно, а солнце скоро сядет.
— Иди поработай еще немного, — милостиво произнес глава семьи. — После ужина приду послушать тебя. Если сыграешь без ошибочки, так и быть, отпущу тебя. Иначе — нет!
Людвиг молниеносно сорвал с себя атласный жилет.
— Ну, ну… — ворчал Иоганн Бетховен. — Если даже этот костюм, как ты говоришь, пристал обезьяне, не следует сразу обрывать на нем все пуговицы.
Но мальчик спешил не только потому, что ему был противен его новый наряд, но и оттого, что надеялся быстрее вырваться на свободу.
Тенорист сам аккуратно сложил концертное платье сына и велел жене аккуратно убрать все в шкаф. После этого он уселся за кухонным столом и с большим удовольствием поужинал холодной рыбой с хлебом и изрядным бокалом вина.
Вдруг его мощные челюсти прекратили свою работу. Что такое играет Людвиг? До этого мгновения снова и снова звучала сладкая мелодия прелюда, который когда-то играл Моцарт. Это сочинение Иоганн Бетховен выбрал для концерта намеренно. Оно трудно, и общество, конечно, поймет, что новый чудо-ребенок нисколько не уступает своему предшественнику.
Но сейчас из соседней комнаты несомненно доносилась иная музыка! Она напоминала простую сельскую песенку, печальную, жалобную. Иоганн Бетховен насупился. Мелодия росла, усиливалась, потом внезапно обрывалась. Будто птенец, запертый в светлице, бьется об оконное стекло, падает, отлетает назад и потом снова делает свой безнадежный бросок.
Бедный мальчик! Кому он мог поведать свою мечту о воле? В последнее время он все чаще пытался сочинять пьесы, в которых мог бы выразить то, что не смел сказать словами. Это были простые детские чувства: ликование, радость, грусть, упрямство.
Отец ненавидел эти его занятия. Пустая трата времени! Он не стал долго размышлять. Быстро вошел в комнату с набитым ртом и загремел:
— Что за чепуху ты бренчишь? Терпеть этого не могу! Играй по нотам, больше пользы будет!
Мелодия стихла, оборванная в середине.
— Это я сам придумал, — доверчиво отозвался мальчик. — Тебе нравится хоть немного?
Отец высокомерно фыркнул:
— Думаешь, твоя голова способна придумать что-нибудь дельное? На эти вещи у тебя еще будет времени предостаточно, а сейчас ты позаботься, чтобы уметь то, что нужно для концерта! Ты все хорошо помнишь?
— Да. Пустите меня погулять, папа! — просил мальчик.
— Я уже сказал тебе, — промямлил отец, прожевывая кусок рыбы, — как поем, так устрою проверку. И если все не будет как по маслу, о гулянье и не помышляй!
Отец вернулся в кухню, оставив дверь приоткрытой. Внимательно прислушивался. Из комнаты теперь доносились только звуки сочинения, подготовленного для первого публичного концерта.
Наконец Иоганн Бетховен встал, допил вино, вытер губы тыльной стороной ладони и направился к сыну.
Мать сидела со своим шитьем у окна и с беспокойством следила за ним. Такие смотры искусства начинающего виртуоза нередко кончались затрещинами и плачем.
— Так! А теперь начинай, — сказал отец и придвинул свой стул ближе к роялю.
Смуглое лицо Людвига от страха и волнения побагровело. Руки бесконечное количество раз пробегали по клавишам, но он ни разу не взглянул в ноты. И все же в одном, особенно трудном, месте отец усмотрел ошибку.
— Стой! — закричал он. — Вот отсюда, — показал пальцем в ноты. Сам он не был хорошим пианистом, но ощущение точности исполнения жило в нем с детства.
Людвиг снова проиграл очень трудный пассаж. Ему казалось, что без ошибок.
— Почему в середине ускорил? — сурово спросил отец.
— Я не ускорял.
— Ах нет? Так проиграй снова.
От боязни споткнуться в трудных тактах мальчик и в самом деле несколько превысил темп. Очень уж хотелось ему скорее сбежать во двор!
Людвиг начал снова. И опять в том же месте та же ошибка. Он затрепетал, а гнев отца нарастал.
— Черт возьми, почему ты не держишь темп? Тебе следовало бы дать по пальцам!
Мальчик покраснел еще сильнее, волнение сковывало, прозвучал совсем уже нечистый тон. Отец вскочил:
— Так вот что называется хорошо выучить! Хорошо, я научу тебя упражняться добросовестно!
Мальчик втянул голову в плечи, ожидая удара. Но Иоганн Бетховен поступил иначе. Он бросился к двери, гремя ключом.
— Так и знай: не выйдешь отсюда до полуночи. Будешь упражняться до тех пор, пока не будет ни единой ошибки. И посмей мне солгать, что готов, пока действительно не выучишь все!
Он хлопнул дверью, ключ повернулся в замке, и мальчик остался один. Мгновение Людвиг сидел в оцепенении. Потом его губы горестно скривились. Тело сотрясалось от плача. Из глаз хлынули слезы. Он старался удержать их: ведь отец мог вернуться в любую минуту! Он плакал и играл. С отчаянием и упорством. Ведь только безупречная игра могла принести избавление.
Между тем отец уходил из дома. Он никому не сказал, когда вернется. Ключ от комнаты, где сидел Людвиг, он положил в карман своего жилета.
Маэстро
И «чудо-ребенок» не остается ребенком вечно. Играет ли он на рояле или забавляется мячом. Людвигу скоро исполнится двенадцать лет. Мальчик, правда, невелик ростом, но плечист и крепко сбит.
Он стоял над Рейном и любовался тем, как сгущаются июльские сумерки. Благодатны эти склоны старого крепостного вала!
С утра здесь маршируют солдаты курфюрста, а к вечеру охотно сходятся жители города, ибо здесь всегда есть чем полюбоваться. У подножия заросшего травой вала катит свои волны величавая река, усеянная множеством судов, больших и малых. Кто насытится зрелищем играющей водной глади, может обратить взор в другую сторону. Он увидит раскинувшийся город, силуэт которого образуют крыши величавых строений. А над ними высятся многочисленные башни костелов. Самый древний из них насчитывал пять башен, и та, что находилась в середине, устремлялась ввысь почти на девяносто пять метров.
Юный Бетховен не замечал ни красоты города, ни величия Рейна, совершенно поглощенный беседой с человеком странного вида. Необычность его облика создавало не платье — такой же черный сюртук и треуголку носила большая часть мужского населения города, а его силуэт. Издалека могло показаться, что это согбенный старец. Вблизи было видно, что ему нет и сорока. При нескладном теле его голова была на удивление изящной и благородной. Высокий чистый лоб, темные глаза, светящиеся умом, свежий цвет лица — все это в рамке волнистых каштановых волос. Темные локоны — это в Бонне явление редкое, можно сказать исключительное: ведь придворному органисту и капельмейстеру придворного театра не положено обходиться без парика. Но жители Бонна уже привыкли, что Кристиан Готлиб Нефе ведет себя как ему заблагорассудится. Он отличается и отменным умом, иначе разве мог бы он так пленить Людвига? Ведь мальчик далеко не каждому открывает свое сердце.
К княжескому органисту, появившемуся в Бонне около трех лет назад, он привязался так, как мог бы быть привязан к отцу, если бы Иоганн Бетховен сам не оттолкнул мальчика.
— Так вы придете сегодня к нам, маэстро? — уже в который раз спрашивает мальчик задумавшегося Нефе.
— А это очень нужно? — неуверенно отнекивался органист.
— Мы были бы так рады! Мамин день рождения — это еще лучше, чем сочельник. Кажется, это единственный день в году, когда она бывает счастлива. Было бы так жаль, если бы вы не пришли…
Нефе явно думал о чем-то другом. Ничего не ответив, он двинулся по дороге, которая пересекала крепостной вал, спускаясь вниз, и вилась вдоль реки, будто желтая каемка голубой ленты.
Летний вечер был полон красой до краев. Искрящийся Рейн, зеленые холмы за ним, белые паруса судов, сияющее голубое небо с позолоченными солнцем облаками — все это поражало удивительной гармонией красок.
Нефе, приехавший сюда сравнительно недавно, скорее мог оценить по достоинству прекрасный пейзаж, чем Людвиг, живший здесь с детства.
Мальчик ждал ответа, в то время как мысли органиста были совсем о другом. Но он решил в конце концов, что было бы бессердечно отвергнуть приглашение, сделанное с таким искренним чувством.
— Приду, приду, мальчик, — ответил он рассеянно и несколько живее добавил: — Только бы отец не был чересчур… Я страшно не люблю… — Он не договорил, но отвращение к пьянству было написано на его лице, на котором сразу прорезались морщины.
— Нет, нет, — поспешно заверил мальчик. — На мамин день рождения? Никогда! У нас в этот день бывает мир и благоволение! Да у него и времени на это не бывает, он весь вечер музицирует.
— Музицирует… Да, да, — повторил органист рассеянно, занятый какой-то неотвязной мыслью и плохо понимавший, о чем говорит мальчик. Потом вдруг воскликнул: — Музыка! Да! В ней красота, величие, счастье. Но, Людвиг, если бы я не верил, что искусство нужно людям, как хлеб, я сказал бы тебе кое-что!
— Что, маэстро?
— Я сказал бы: мальчик, беги от рояля, оставь музыку и стань булочником. Живя в страхе божьем, ты толстел бы понемногу, владел бы участком земли и виноградником на берегу Рейна, жил бы в собственном доме. Или стань парикмахером, цирюльником, сапожником — все лучше, чем быть музыкантом его курфюрстовой милости!
— Скажите, маэстро, а почему же вы тогда не стали заниматься ремеслом? — В глазах мальчика светилось лукавство.
— Например, портновским, да? Конечно, мой отец мог научить меня обращаться с ножницами, иглой и утюгом. Но я не хотел. Меня влекло искусство: музыка, театр, поэзия. Я не мог устоять.
Он вздохнул, помолчал и снова заговорил:
— Говорят, что в болотистых местах блуждают огоньки, способные увлечь человека в гибельную трясину. Я не верю в эти россказни. Но знаю, что искусство — это великий огонь, поднимающий человека к несказанным высотам. Кто однажды связал свою судьбу с искусством, уже никогда не сможет жить без него.
— Я знал ноты раньше, чем азбуку, — задумчиво отозвался мальчик.
— Это мне известно, — сказал его горбатый спутник. — Я еще не встречал человека, до такой степени одержимого музыкой. А кто, собственно, занимался с тобой?
— У меня, маэстро, было много учителей и ни одного настоящего. Отец был первым и самым незадачливым. Что он умеет всерьез? Когда он играет на рояле, думаешь, что он ведь, собственно, скрипач; если возьмется за смычок, сразу жалеешь, что он не отдался целиком фортепьянной игре. — Людвиг усмехнулся. Он уже отлично играл на нескольких музыкальных инструментах и к отцовским дарованиям относился со снисходительным недоверием: тот умел всего понемногу и ничего всерьез. — Пана ничего не доводит до конца. Хотел сделать из меня чудо-ребенка и не сумел. Я давал концерты в Кельне, в Роттердаме и здесь, в наших краях, во многих господских замках. Но деньги за мои выступления не текли рекой и так быстро, как он рассчитывал, и он перестал заниматься моим музыкальным образованием. Я переходил от учителя к учителю. Один учил меня играть на органе, другой — на скрипке, третий дал кое-какие знания по композиции.
— Ну, если все твои учителя умели столько же, сколько умел твой отец, они, наверное, быстро заканчивали курс наук?
— Они умели больше, чем отец, но этого скоро становилось недостаточно.
— Мне кажется, что учителем Людвига Бетховена был сам Людвиг Бетховен?
— Да, до тех пор, пока в Бонн не приехали вы.
Нефе отрицательно замахал рукой.
— Человек может быть учителем самому себе. И от этого имеет ту выгоду, что не должен платить.
— Вы тоже учите меня бесплатно!
— Это не совсем так. Разве ты не играешь на органе в церкви, и потом, если я буду учить какого-нибудь княжеского сынка, ему придется платить за себя и за тебя.
— Это было бы несправедливо, маэстро.
— Он всего-навсего расплатился бы за свой большой долг. Все князья в долгу у своих подданных. В сущности, курфюрст должен чуть ли не каждому жителю в округе.
— Он и у вас одалживал? Я и не знал!
Нефе смеялся.
— Конечно. И у твоего отца тоже.
— Ну, нет, маэстро, у нашего отца невозможно одолжить ни гроша. Его карман всегда пуст.
— Потому, что его обкрадывает его светлость.
Удивленный мальчик молчал. Уж не заболел ли его учитель?
— Вы говорите загадками, маэстро!
Нефе остановился, на лице его блуждала странная улыбка.
— Если бы мы жили несколькими милями западнее, ты бы знал не только загадку, но и отгадку.
Людвиг обратил вопрошающий взгляд в ту сторону, где солнце медленно садилось за верхушки невысоких холмов. Ничего не понимая, он пожал плечами.
— Во Франции уже кое-что сдвинулось, не то что у нас. Для них скоро взойдет солнце, — продолжал органист.
— На западе, маэстро? — В умных глазах мальчика отразилось недоумение.
Горбатый музыкант взял его под руку, и они пошли но тропинке вдоль Рейна.
— Мне нужно научить тебя многому другому, кроме музыки, чтобы ты видел немного дальше своих клавиш.
— А что я должен видеть?
— Ну, например, чем отличается княжеский музыкант от охотничьей собаки его милости?
— Музыкант от собаки?
— Разница вот какая: собака всегда накормлена, хотя не очень надрывается, ведь господа на охоту ездят не часто. А княжеский музыкант наоборот: хорошо накормлен редко, зато трудится непрестанно. Ведь князь хочет слушать музыку каждый день. И мы играем во время утренней литургии, дабы князь с приближенными не заснул, играем во время обеда, дабы пища лучше ими пережевывалась, музицируем вечером, дабы развлечь их перед сном.
— Трудиться должен каждый!
— А ты видел когда-нибудь милостивейшего господина работающим на винограднике?
— Он же богатый, зачем ему работать?
— Потому он и богатый, что других обкрадывает. Между князьями и разбойниками нет большой разницы.
Таких дерзких речей мальчик никогда еще не слышал. Дома не раз говорили, что на княжескую капеллу взваливают непосильный труд. Отец иногда разражался проклятиями — на сколько кусков он должен разорваться? Петь на латыни в костеле, петь на итальянском в опере, играть на нескольких музыкальных инструментах и, если понадобится, играть в немецких и французских пьесах. И все это за жалкую плату в двести пятьдесят дукатов в год! Но этот ропот всегда направлялся как бы в пространство. Речь шла о справедливости небесной, а не земной. Он никогда не роптал на курфюрста. Это господин, и может приказать, может принудить.
Людвиг был совершенно ошеломлен речами Нефе, но чувствовал, что его учитель рассуждал справедливо. Ему было понятно и то, что тот ставил на одну доску князей и разбойников. В самом деле, разве князья не отнимают урожай у земледельца, плоды труда у ремесленника и все, что только можно отнять, у художника?
— Мы рабы, — мрачно и гневно разносился голос органиста. — Захочется господину, и будем ползать перед ним на четвереньках!
— Я не буду, — отрезал мальчик, и его лоб прорезала строптивая складка.
Нефе горестно усмехнулся:
— Наши хозяева держат бедняков за ошейник. А художники, творцы красоты, бродят от двора ко двору как бездомные псы. Подставляют свой ошейник и просят: сделайте милость, возьмите меня в услужение!
Мальчик помрачнел и нервно поеживался. Он обладал независимым характером, и всякое упоминание об угнетении возмущало его. Он и без этого принуждал себя трудиться непосильно, но последние два-три года, когда отец перестал докучать ему своими заботами, жил привольнее и чужое давление переносил с трудом.
— Ты не ершись, Людвиг, — снова заговорил горбатый музыкант. — Разве я не прав? Наши музыканты едут продавать свое искусство во Францию и Англию. В это же время итальянцы и чехи ищут работу у нас. Каждый мечтает найти где-то лучший кусок хлеба и побольше свободы.
Казалось, ожесточенный органист с умыслом стегает мальчика жгучими словами.
Людвиг остановился, уязвленный на этот раз до крайности. Он воззрился на умное лицо своего спутника.
— А я не хочу быть господским лакеем! Я не буду ходить от двери к двери, подставляя свой ошейник! — Обычное «взрослое» выражение на его лице совсем по-детски сменилось выражением отчаяния и растерянности. — Но я ничего не понимаю, кроме музыки! Маэстро, скажите мне, ради бога, что мне делать?
Нефе ответил не сразу. На лице его отразилось тайное удовлетворение.
— Вот этого я и хотел, мой мальчик! Услышать этот твой вопрос: что нужно делать? Но и я хотел бы знать ответ на этот роковой вопрос.
— Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать?
— Себе — нет. Тебе — да.
Княжеский органист не успел ответить, как раздался привычный звон соборного колокола. И сразу, будто они только и ждали этого сигнала, заговорили колокола иезуитского и францисканского монастырей, а потом зазвонили во всех городских и сельских костелах.
Юный Бетховен снял шляпу и тихо читал молитву. Нефе был протестантом, но и у него при звоне колоколов в католических храмах выражение лица смягчилось. Ему бы несдобровать, если бы кто-нибудь увидел его в этот момент в головном уборе! И без того у него было много врагов, возмущенных тем, что архиепископ держит у себя на службе приезжего иноверца.
Когда смолк тягучий перезвон, Людвиг быстро надел шляпу.
— Ну, теперь, маэстро, пожалуйста…
Нефе в замешательстве потер лоб:
— Говорить об этом нужно спокойно и не торопясь, а нам пора идти, мальчик. У меня урок в доме французского посла. А тебе нужно играть. Возможно, вечером…
— Значит, вы придете к нам? — Глаза Людвига засветились радостью.
— Я уже сказал.
Они расстались у городских ворот. Людвиг шагал порывисто, своей особенной походкой. Он шел, наклонясь вперед грудью и устремив вперед голову, будто ему тяжело было держать ее под тяжестью мыслей.
Что может посоветовать ему маэстро? Курфюрсту служил дед. Служит отец. Все известные музыканты на господском жалованье. Они дрожат от страха, как бы не утратить и это жалкое положение. Они стонут, но всей никчемности своего положения все же не осознают. Будет ли мое положение таким же жалким? Или совершится какое-то чудо? Ведь маэстро никогда не говорит попусту. И какой-то совет для меня у него есть. Но почему же он сам не следует ему?
В голове его теснилось множество вопросов, когда он входил во двор дома пекаря Фишера, в котором ютилась и лавочка для продажи булочных изделий.
Послышался стремительный топот ног по деревянной лестнице, и в объятиях Людвига оказался его восьмилетний брат Каспар. Он испуганно взвизгнул и сразу потащил Людвига во двор:
— Иди скорее, посмотри!
В левом углу двора был полупустой дровяной сарай. Оттуда доносились голоса. Людвиг заглянул в раскрытые двери.
— Ого! — удивился он. — Прямо праздник тела господня!
На земле, на поленницах, на деревянных козлах были разложены хвойные ветки, свежие и бумажные цветы, перевитые красными лентами гирлянды. На первый взгляд эта масса могла показаться беспорядочной, но на самом деле это было не так. Четыре старательных девичьих руки уже почти сплели этот пестрый паводок в длинную гирлянду. Две девушки сидели на корточках: Фанни, няня детей Бетховенов, тщедушная, едва вышедшая из школьного возраста девушка, и рядом с ней полная ее противоположность — зрелая барышня, упитанная, дебелая. Это была двадцатилетняя дочь хозяина дома, Цецилия.
— Людвиг, поможешь нам? — расплылась она в улыбке.
— Я? Я бы с удовольствием, только…
— Ну конечно, я так и знала. Ни за что на свете женщинам не поможете! Ну хотя бы вот этих уведи, — повела она головой в сторону, где толкались Каспар, маленький Николай и двухлетний братишка Цецилии.
Людвиг вставил в рот два пальца и засвистел так оглушительно, что девушки испуганно вздрогнули, а малыши в удивлении подняли вверх лица.
— Выходите, мальчики! — грянул веселый голос. — Во двор! Поиграем в мяч!
Они выскочили из сарая на простор большого двора. Людвиг бросился в угол, где были сложены дрова для пекарни, опустился на колени и пошарил рукой под поленницей. Это был тайник, куда прятались разные мальчишеские клады: окурки, лук, плетка, чтобы гонять уток, и, наконец, тряпичный мяч. Он быстро нащупал его, и вот уже началась бешеная погоня с перебрасыванием мяча и дикими выкриками.
Цецилия выглянула из сарая и сразу отпрянула назад — мяч стремительно летел ей в лицо, брошенный рукой Людвига.
— Видишь, — сказала она, обращаясь к Фанни, — этот ваш старший иногда похож прямо бог знает на какого мудреца, а бывает таким же мальчишкой, как другие. Если бы отец не заставлял его по целым дням сидеть за роялем, он вот так бы и гонял по двору целыми днями.
Фанни не согласилась:
— Эти занятия музыкой не такое уж наказание для него. Людвиг сам любит музыку до беспамятства. Ну, иногда не прочь поозорничать с мальчишками, что правда, то правда.
Четверка ребят продолжала галдеть во дворе. Только спустя полчаса самый сильный голос в квартете смолк. Людвиг почувствовал, что сегодня покинул свой рояль слишком надолго и вечером у него будет мало времени для занятий. Сильным взмахом руки он бросил мяч в другой конец двора и, когда мальчики ринулись за ним, быстро исчез со двора.
У входа его ожидала встреча с отцом, только что вернувшимся из города и несшим в руке корзину, полную бутылок с вином.
— Как, ты не играешь? — удивленно воскликнул он. Спросил без злобы. Обманувшись в своих надеждах сделать из Людвига чудо-ребенка, он перестал заботиться об его упражнениях. Отец был только удивлен тем, что увидел сына во дворе, разгоряченного игрой, и из дома не доносились звуки рояля.
— Но я уже иду, папа, — усмехнулся мальчик.
Все было просто. Мальчики могут резвиться и играть во дворе, отец может попусту слоняться по городу, а Людвиг должен играть. Он поздоровался с матерью, сказал ей несколько приветливых слов — ведь он так любил ее — и снова уселся к роялю. Правда, в этом не было необходимости. Свое задание на этот день он знал безупречно, но ему все еще казалось, что он не достиг совершенства. Его пальцы снова и снова пробегали по клавишам, сотни раз повторяли головокружительные пассажи, работали без устали, до изнеможения.
Людвиг знал, что в соседних комнатах уже разыгрывается пленительное зрелище, с малых лет знакомое и любимое. Так соблазнительно захлопнуть крышку рояля! Но он умеет приказать себе: «Все могут, ты не смеешь!»
Уже девять часов, и на улице тьма непроглядная. Двери комнаты остаются закрытыми, и все же чуткое ухо Людвига улавливает путаницу непривычных звуков. Слышит приглушенные мужские голоса, шум передвигаемой мебели, женский смех. А вот кто-то тихо настраивает скрипку, и ей как бы затаенным смехом отзывается флейта.
Людвиг стремительно поднялся. Пришло время пойти к семье и гостям. Может быть, уже пришел Нефе со своей тайной? Людвиг вошел в соседнюю комнату и, хотя знал, что ожидает его там, был ошеломлен. Комната была полна людей, главным образом мужчин, празднично одетых, в цветных камзолах, белоснежных чулках, в завитых париках. У окна стояли дамы. Все двигались беззвучно, как фигурки в театре теней. Фанни и Цецилия неслышно мелькали среди гостей, в одних чулках, чтобы не было слышно стука каблуков. Отец вместе с Каспаром и молодым гобоистом из княжеского оркестра расставляли одолженные в церкви пульты для нот.
Гостями были сплошь друзья супругов Бетховенов, члены архиепископской капеллы и оркестранты. Их было здесь много, но тот, кого нетерпеливо высматривал Людвиг, еще отсутствовал.
Придворный органист Нефе появился последним. На этот раз он был в парике, в темно-коричневом сюртуке, под подбородком белел пышно присборенный шейный платок. Под мышкой он нес черную папку для нот, на которой была видна надпись крупными буквами: «Музыка». «Что это может означать?» — думал Людвиг. Музыканты, которые пришли, чтобы поздравить хозяйку дома и сыграть для нее, обычно сами заботятся о нотах!
И вот началось. Виновница торжества, правда, отсутствовала, но это было непременной частью шутливого действия, неизменно повторявшегося каждый год. Еще в ранние сумерки семья госпожи Бетховен уговаривала ее вздремнуть в дальней комнате. Ее должны были разбудить звуки торжественной интродукции. Но так как виновнице торжества было известно о подготовленном сюрпризе, она тщательно оделась, слегка припудрила лицо и потом уже осторожно улеглась, одетая, заботливо уложив пышную юбку на соседнем стуле.
Две лучших комнаты дома были освещены непривычно для их скромного жилья. В каждой комнате горело по двенадцати свечей, вставленных в трехрогие подсвечники, одолженные у соседей. Музыканты уселись у пультов. Людвиг взялся за скрипку. Несмотря на то что был отличным пианистом, в княжеском оркестре он состоял в должности скрипача. У рояля, сдвинутого к самой двери, уселся Нефе. Все ожидали его сигнала. Едва он кивнул головой и коснулся пальцами клавиш, как зазвучала ликующая музыка — серенада хозяйке дома.
У старшего Бетховена не было в руках никакого инструмента. Ему была отведена особо почетная роль.
Одетый в свое лучшее платье, он подошел к дверям спальни, постучал, вошел и сразу же появился с женой, которая была облачена в шелковое платье и в белоснежный парик. На ее натруженных руках были длинные кружевные перчатки. Снова грянула музыка. Теперь это был уже изящный марш, и под звуки его супруги медленно подвигались к некоему трону, установленному в первой комнате под торжественно украшенным портретом деда Людвига. Троном служило старое фамильное кресло.
Длинные гирлянды, сплетенные Фанни и Цецилией в дровяном сарае, превратили дряхлое кресло в нечто волшебно-прекрасное. Таким оно, во всяком случае, казалось Людвигу и его младшим братьям. Глазами, полными восторга, смотрели они на свою мать, идущую мелкими шажками рядом с отцом. Сегодня она какая-то непривычная, нежная, очаровательная. Ее продолговатое, исхудавшее лицо светилось какой-то особенной мягкостью. «Почему она не бывает такой каждый день? — думал Людвиг. И сам ответил себе: — Стряпать и стирать в парике и шелковом платье не будешь».
Когда смущенная госпожа Бетховен села, музыка умолкла. Настало время поздравлений.
Первым пролепетал что-то маленький Николай, потом отбарабанил поздравительные стихи Каспар, и наступила очередь Людвига, до крайности растерянного и смущенного. В последнюю минуту к нему подошел Нефе, всунул в руку черную папку и прошептал:
— Это подарок для мамы. Вручи ей его.
Как было не волноваться, когда он даже не знал, что держит в руках! Но нужно было идти, потому что отец приближался вслед за ним.
Все четверо мужчин из семьи Бетховенов уже вручили матери по букету цветов и поцеловали ей руку. После них ее приветствовали таким же образом и остальные гости; дамы, разумеется, только пожали ей руку.
Она получила единственный подарок — таинственную папку с золоченой надписью. И не знала, как поступить с ней. Открыть? Посмотреть? Зачем ей какие-то ноты? Она не музыкантша.
Когда она открыла папку и взглянула на заглавный лист, лицо ее от неожиданности вспыхнуло румянцем. Из-под длинных ресниц сверкнули слезы.
— Людвиг! Мальчик мой! — Она не могла произнести ни слова из-за подступивших слез и протянула руки к Людвигу.
Он приблизился к ней, окончательно сбитый с толку восторгом матери от подарка, который приготовил для мамы не он, а Нефе. Мать прижала его к себе, и они вдвоем прочитали надпись на красиво украшенном титульном листе. Глаза Людвига, как будто бы притянутые магнитом, смотрели неотрывно в нижнюю часть листа, где было выведено: «Сочинил юный любитель музыки Людвиг ван Бетховен».
Глаза Людвига широко раскрылись. Это в самом деле его имя? Не просто написанное пером, а напечатанное, как будто он настоящий композитор! И он понял… Этот Нефе — настоящий чародей. Нефе — его чудесный друг!
Людвиг вспомнил, как играл недавно своему учителю вариации на тему какого-то марша. Это было его любимое занятие — взять какой-нибудь известный мотив и разработать его, развернуть, всячески обогатив.
Нефе эти вариации понравились, и он заставил Людвига записать их. И вот что из этого вышло! Нефе отдал их напечатать.
Гости окружили кресло госпожи Бетховен. Они всматривались в ноты и удивленно покачивали своими париками. Двенадцатилетний сочинитель, каково! Не один из присутствующих музыкантов мечтал, чтобы его сочинение было издано, и вот чудо: сынишка Бетховена, у которого еще и пушок на губах не пробивается, уже удостоен такой чести! Некоторым из них в сердце закралась зависть, но и они дружно восклицали:
— Сыграть, сыграть! Людвиг, садись за инструмент!
Он сел к роялю, раскрасневшийся, немного испуганный оттого, что приходится играть свое первое сочинение перед публикой. Но после первых же тактов боязни как не бывало. Умолкли дружные аплодисменты, и он истово раскланялся, и лицо его оставалось очень серьезным.
Потом сыграли всем ансамблем, и госпожа Бетховен слушала их, сидя в своем торжественно убранном кресле.
Едва смолкли последние такты, как концертный зал мгновенно преобразился в столовую. Хозяйка, не покидая своего почетного места, очутилась за накрытым столом, к нему быстро придвинули еще два. Ужинали, провозглашали тосты за хозяйку, за юного сочинителя, друг за друга.
Людвигу пришло в голову, что ему следовало бы встать и поднять бокал, поблагодарить Нефе. Несколько раз брался он за бокал, вот-вот был готов подняться, но робость крепко привязывала его к стулу. Он чувствовал себя недорослем, случайно оказавшимся в обществе взрослых.
Во время обеда вставал то один, то другой музыкант и играл что-нибудь соло в сопровождении рояля.
Вот к роялю сел отец, и Людвиг немного стыдился за него, особенно тогда, когда играло трио: рояль, фагот и флейта, и Иоганн Бетховен в нескольких местах сфальшивил.
Одна из дам пела, и в шумном всплеске аплодисментов, когда она кончила арию, молодой сочинитель услышал у своего уха шепот:
— Ты бы не хотел немного пройтись, Людвиг?
Мальчик мог не оглядываться: он узнал этот голос. Они незаметно выбрались из толпы гостей, окруживших певицу, и Людвиг повел учителя за руку по ступеням винтовой лестницы. Она была слабо освещена красной лампочкой, висящей там, где лестница делала поворот.
Улица была пустынна. Месяц освещал ее лучше, чем редкие фонари. Стояла тишина, и лишь из светящихся окон Фишера во втором этаже доносился приглушенный шум. Две темные тени в полумраке все дальше и дальше удалялись от этих окон.
— Маэстро, — растроганно проговорил мальчик, — если бы вы знали, сколько радости вы доставили сегодня маме!
— Но это же был твой подарок, Людвиг, не мой!
— Что бы я был без вас, маэстро!
— Я не за тем вытащил тебя в эту тьму, чтобы ты благодарил меня. Мне нужно поговорить с тобой о другом.
— Я знаю.
— Я давно к этому готовлюсь. — Горбатый органист наклонил голову, явно раздумывая, как ему начать. — Ты говорил, Людвиг, что у тебя было много учителей. Почему же ты не назвал лучшего из них, Тобиаса Пфейфера? — Краем глаза он испытующе взглянул на мальчика.
Людвига будто стегнули прутом:
— Мы обязательно должны сейчас говорить об этом человеке?
— Да, должны. Это великий музыкант. Скажу больше — гениальный. Певец, актер, скрипач, пианист, флейтист, а в игре на гобое ему нет равных.
— Да, это правда. Но пожалуйста, маэстро, чем меньше мы будем говорить о нем, тем лучше. Я рад, что он пробыл в Бонне только год.
— Мне приходилось слышать, что он был к тебе чрезмерно строгим.
— Строгим? — Мальчик мрачно рассмеялся. — Беспощадным! Да если бы он подобным образом обращался с лошадью, и то люди возмутились бы. Но мне следовало бы рассказать все по порядку.
— Этого я и хочу.
— Когда Пфейфер появился в Бонне, отец предложил ему поселиться у нас. Потом сговорились, что вместо платы за стол и квартиру он будет учить меня. Он и учил — на рояле, на флейте, на скрипке. Учил меня всему, чему только хотел. И был он мастер на все руки. О каком бы предмете ни шла речь из любой области музыки, Пфейфер неизменно был осведомлен. Он умел все: от важного — исполнения самых серьезных музыкальных произведений, до самого незначительного — подражания всевозможным птицам. А свистел как истинный художник.
Больше всего мы, дети, любили, когда он превращался в волшебника. В его чувствительных пальцах вещи исчезали и сразу же являлись в другом месте. Он умел превратить в ничто серебряную монету и потом вытащить ее у кого-нибудь из-за уха.
Он не был плохим наставником для меня, пока оставался трезвым. Но горе было мне, когда он запивал! Как в сказке, превращался он из веселого человека в дикого зверя. Сколько раз бывало, что они возвращались с отцом из трактира за полночь, и его вдруг осеняло, будто он со мной в этот день не занимался. Они извлекали меня из постели и тащили к роялю. Мне было тогда восемь лет. Можете себе представить, как я пугался со сна. Я отбивался от них изо всех сил — так мне хотелось обратно в постель. И матушка заступалась. Но они оба бывали как одержимые. Приходилось садиться за рояль и играть до утра. Слезы заливали мне лицо, а я не мог их даже вытереть.
Если я уж слишком сопротивлялся, они запирали меня в чулан, набитый рухлядью, давали в руки скрипку, показывали в нотах какое-нибудь трудное место и приказывали:
«Играй! До тех пор играй, пока не будет ни малейшей ошибки!»
И я играл при свече, а потом впотьмах. А мои учителя сидели в кухне, допивали принесенную бутыль и слушали. И удивительно то, маэстро, что я не питал злобы к Пфейферу. Он-то, наверное, считал себя правым. Часто он кричал мне: «Только работай, работай как одержимый! Я сделаю из тебя музыканта из музыкантов!» Не люблю вспоминать о нем, не хочу о нем слышать, но дурного слова о нем не скажу. Мне всегда казалось почему-то, что он ужасно несчастен.
— Ты прав. Он был одним из немногих музыкантов, остро ощущавших унизительность своего положения. Великий художник — и, в конце концов, господский лакей. Оденут его в ливрею: иди, слуга, пой во время ужина, чтобы милостивый господин лучше пережевывал жаркое из поросенка! Дух и денежный мешок противостоят друг другу. Труженик против дармоеда!.. Ну, не хмурься, ты тоже ходишь в замок в лакейской ливрее, с той разницей, что слуги носят красный фрак, а мы, музыканты, — зеленый.
— Маэстро, вы уже говорили сегодня об этом. Мне тяжко это слушать. Лучше посоветуйте, как освободиться от этого рабства. Вы же мне обещали. И почему мы должны говорить о Пфейфере?
— Потому, что я хочу от тебя того же, чего и он хотел!
Нефе остановился, положил свои длинные руки на плечи мальчика и с силой сжал их. Мальчик чуть не вскрикнул от боли. Но сдержался. Чувствовал, что наступила минута, когда он узнает что-то такое, чего так жадно ожидал. А Нефе промолвил каким-то особенным, незнакомым голосом:
— Людвиг, крепко запомни то, что я скажу тебе сейчас, в день рождения твоей несчастной матери! У тебя есть единственный путь выйти из униженного состояния: стать художником, таким большим, что не ты должен будешь кланяться князьям, а они — тебе! Заставить мир слушать твою музыку с трепетом, а каждое твое слово с уважением!
Его слова звучали с такой страстью, что мальчик задрожал. Несчастный горбатый музыкант, один из самых образованных людей Германии, вложил в свои слова всю горечь пережитого, всю мудрость, которую он вынес из борьбы с тяготами жизни.
Людвиг не представлял себе в эту минуту, какие долгие годы непосильного труда ему предстоят, не думал о том, что художника чаще венчают терновым венцом, чем золотым. Его обрадовало то, что учитель верит в его предназначение, но сам он боялся в это поверить.
— Вы думаете, что я мог бы стать таким, маэстро?
— У тебя есть дар, — серьезно произнес органист.
— У Пфейфера он тоже был!
— А умрет он где-нибудь в канаве, как нищий. Я не без умысла заставил тебя вспомнить о нем. Ты видишь, как низко может пасть человек, даже обладающий талантом. Дарование — это еще не все, оно может погибнуть, если дано человеку, не обладающему дьявольским упорством. Запрети, запрети себе навсегда произносить такие слова, как я не могу, мне не хочется, я не знаю! Потерпишь неудачу — начни снова! Сто раз потерпишь неудачу — сто раз начни снова!
— Кажется, я кое-чему все-таки научился, маэстро!
— А это заслуга Пфейфера! Он научил тебя понимать, что человек может одолеть любое препятствие. Иногда нужно атаковать тысячу раз, чтобы твердыня наконец пала. Дарования и щепотки достаточно, а упорства нужен океан. И на этой паре ты мог бы прийти к цели, если бы мир был устроен разумно. Но в наше время необходимо иметь тройку.
— Что вы имеете в виду, маэстро?
— Эта тройка такова: дарование, упорство и уверенность в себе. Я не говорю — гордыня. Храни тебя бог от нее, я говорю — уверенность в себе. Кто хозяин мира? Дворяне, князья, епископы — тираны всех мастей. Умные это люди? Редко. Они презирают тех, кто не родился во дворце, как они. Думают, что народ создан для того, чтобы угождать им. Я же говорю: народ существует для того, чтобы править!
— Но что же я-то могу?
— Многое! Когда станешь великим музыкантом и будешь разговаривать с князьями, не унижайся! И если даже желудок будет вопить о голоде, не покоряйся!
Людвига поразила его страстная речь. В сумрачном свете месяца и в отблесках фонарей лицо Нефе было очень бледным. Глаза его горели. Голос прерывался от волнения.
— Я знаю, что говорю, мальчик. Жалею, что пришел к этой мудрости так поздно! Начищенный сапог с золотой шпорой награждал меня пинком не раз. Конечно, бывает, что и среди знати встретишь душу мудрую и добрую. К таким относись по-дружески. Но с остальными власть имущими держись гордо! За всех нас, поверженных на дно, изнуренных, полуголодных. Докажи им, что ты выше их. Жизнь двигают вперед только труженики и мудрецы, а не те, которые всего и умеют, что размахивать бичом.
— Маэстро, не знаю, сумею ли я… — запинался Людвиг, глядя в землю.
— Не сумеешь? — закричал Нефе. — Что это за слово такое? Я приказал тебе забыть его! Ты сумеешь! Ты должен стать величайшим музыкантом из всех, которые когда-нибудь жили на земле! Такова цель.
Мальчик дрожал от волнения. Он понимал, что в эту летнюю ночь в уличном сумраке происходит что-то важное. Рука его учителя твердо начертала линию его жизни. Он принял наказ учителя, не зная, как сумеет осуществить его.
Ночная схватка
С улицы доносилось пение, потом послышался крик. Несколько мужских голосов слились в перебранке. Это было около полуночи, в тихой курфюрстовой столице.
До отдаленной Рейнской улицы этот шум доносился глухо. Пустынные улицы примолкли, прислушиваясь.
Людвиг сидел на подоконнике открытого окна и смотрел гуда, где днем виднелись рейнские волны. Он думал о будущем. В такие минуты он ничего не слышал, не замечал. Вывести из этого состояния его мог разве лишь толчок в спину. Сейчас его голова была полна забот.
За последние недели в Бонне происходили крутые перемены. Четырнадцатилетнему музыканту, часто теперь помогавшему в театре, казалось, что внезапно сменилась декорация, чтобы разыграть новый спектакль. Но каков он будет?
В апреле умер старый курфюрст Максимилиан Фридрих, и на архиепископский престол в Бонне сразу воссел Максимилиан Франц, сын императрицы Марии Терезии, самый младший из братьев правящего императора Иосифа Второго. Четыре года дожидался Максимилиан Франц архиепископского посоха и курфюрстовского скипетра.
Для человечества смена боннского правителя не имела никакого значения, но для семей придворных музыкантов она значила очень много. Правда, Нефе по поводу смены архиепископа только усмехался: один Макс, другой Макс — какая разница! От нового Макса бедняки все равно ничего не получат!
Однако оказалось, что могут не только ничего не получить, но еще и потерять. Покойный архиепископ не оставил по себе много печальников, зато оставил полным-полно долгов. Старый дворец он отделал с невиданной роскошью, построил театр, пиры во дворце сменялись охотой, охота празднествами. Денег всегда не хватало. Когда они иссякали, он занимал. Посему новый князь унаследовал пустую казну и долги. Придется экономить… до тех пор, пока крестьяне не выплатят господские долги. Курфюрст еще молод, ему всего лишь тридцать с небольшим, любит кутить, экономить на собственных потребностях не будет. На чем же тогда?
Княжеская экономия таит в себе угрозу театру. Он прекратит свое существование. Актеры уже подыскивают себе новую службу. Кто получше, уже разъехались по городам Германии.
Что же будет с музыкантами? Знаменитый итальянский капельмейстер Луккези уже уехал из города. Крысы покидают тонущий корабль! Из княжеского оркестра будут уволены лишние. Людвиг знал, что его отец один из самых ненужных. Ему сорок лет, и он теряет голос. Растрачивает его в кабачке, расплачиваясь пением за возможность выпить. Если отец потеряет службу у князя, на что будет существовать семья? «Если бы прежний курфюрст не умер, я по-прежнему приносил бы маме каждый месяц хотя бы по десяти дукатов», — думал мальчик, глядя в темноту. Уже два года, как Людвиг состоит в штате княжеского оркестра. Только в списке стоит неприятная пометка: «Без жалованья». Он так надеялся, что ему начнут платить, хотя бы немного! Но теперь на что надеяться, если новый властитель так прижимист?
Если бы ему платили хотя бы сто марок в год! Тогда мама не была бы такой печальной. Ведь она нередко ложится спать голодной, поделив ужин между младшими. А у них желудки бездонные. Как она похудела и как бледна… Неужели отец этого не замечает? Но как только мысли мальчика обратились к отцу, шум на улице сразу привлек его внимание. Уж не отца ли это голос раздается громче всех? Он выглянул из окна. Прислушался. Там гулко раздавалось несколько грубых голосов, и среди них один звенел, как комариный писк. Это отец! Хмельной, он заблудился и не может найти свой дом. Людвиг быстро спрыгнул с подоконника. Расставив руки, он крался по квартире, стараясь не споткнуться. Только бы не разбудить маму… Добрался до комнатушки, где спали младшие братья.
— Каспар, проснись, Каспар! — тряс он спящего ребенка, но десятилетний паренек спал самозабвенно. Он что-то бормотал, руками отталкивая брата, и никак не просыпался.
Старший брат долго тряс его за плечо, и тот наконец отозвался плаксиво:
— Что тебе?
— Папа на улице! Пойдем за ним. — Людвиг не говорит, что отец пьян. Ему стыдно перед братом, стыдно перед окружающей их тьмой. — Не надевай чулки, быстрее, быстрее! — шепотом подгонял Людвиг брата. Довести отца до дому, раздеть и уложить на старой софе в кухне — это одна задача. Другая, более трудная, — не разбудить мать. Поэтому Людвиг берет с собой помощника.
Выбежали на улицу. Каспар дрожал:
— Брр, холодно!
Но темная июньская ночь тепла. Каспар дрожит спросонья и от волнения.
…И снова мальчик не смыкает глаз, хотя отца он уложил и благодарно погладил по голове брата. Людвиг сидел на краю постели, глядя в темноту широко открытыми глазами. Волнение улеглось, он успокоился. Стражник, конечно, заявит жалобу. И будет плохо. Отец бранился, сын вырывал его из рук блюстителей порядка. Музыканты достойнейшего архиепископа не смеют так вести себя. А новый курфюрст, конечно, будет печься о чести своего двора пуще прежнего. Ночной скандал, оскорбление стражи — почему он должен терпеть этого безголосого тенора? Иоганн Бетховен, ты сам выкопал себе могилу! И твой сын, органист без жалованья, пусть убирается с тобой. Что можно ожидать от него в будущем, если он в четырнадцать лет разбойничает вместе со своим родителем?
Когда он забылся тяжелым сном, всё те же мысли мучали его сознание: что будет дальше? Что же будет? Отец не найдет в Бонне другой службы. Все знают его жалкую слабость. Переехать куда-нибудь, как другие артисты и музыканты? Но для этого нужны деньги. А Бетховенам никто не одолжит ни гроша.
— Если бы Нефе мог, он бы защитил меня. Он любит меня… — шептал в забытьи мальчик.
Но Нефе сам висит на волоске. Это известно в городе каждому. Говорят, что он едва ли не первым будет уволен новым архиепископом. Он протестант, и это страшный грех. Что нужно горбатому иноверцу при дворе католического архиепископа?
Нет, на этот раз Людвиг не может обратиться к своему учителю. Безмерно несчастный органист! Ему нужно думать о своей судьбе. У него и своих забот хватает.
И все-таки ранним утром мальчик уже был на пути в церковь, где Нефе играл на органе во время ранней мессы. Людвиг протиснулся в самый дальний и темный угол пропитанного сыростью храма. Он мог бы подняться на хоры, там было его место. Сотни раз он заменял своего учителя во время утренней службы, а бывало, что сидел за органом по целым неделям, когда курфюрст брал с собой Нефе в дальние поездки. Но сегодня, со своим измученным, пожелтевшим лицом, он не отважился подняться туда. До конца службы, пока не умолкли последние звуки мессы, он ждал на сумрачной лестнице.
Холодом веяло от каменных стен, и на душе у него был холод. Охваченный отчаянием, мальчик начал молиться, но вскоре украдкой выскользнул из церкви.
Нет, он не может взвалить на Нефе свое отчаяние! У Нефе семья — жена и две маленькие дочери. Возможно, что завтра они тоже останутся без куска хлеба.
Людвиг шел по улице задумавшись. Может быть, пойти и попросить двух тех стражников? Ну нет, они бы высмеяли его. А может быть, пойти к бургомистру? Однажды он играл в концерте в его доме. Нет, парень, тебя туда не пустят. Большой барин не принимает ничтожных просителей. А может быть, попробовать к самому архиепископу проникнуть? Говорят, у него доброе сердце. Он брат императора Иосифа Второго, а он будто бы способен сжалиться над крестьянином. Но на улице архиепископа не встретишь. Нужно идти во дворец и просить господ ниже рангом, чтобы допустили. А они скажут: «Куда же ты лезешь, юный мавр? Ты хочешь клянчить о снисходительности к своему отцу, этому пьянчужке, певцу без голоса? Такого просителя мы к архиепископу не допустим».
Так размышлял Людвиг и не замечал, сколько улиц уже прошел, сколько раз возвращался на одно и то же место. Он шагал быстро, заложив руки за спину, выставив голову вперед, глядя под ноги.
— Куда это ты, Людвиг, такой озабоченный?
Людвиг ужасно испугался этого голоса.
— Я… я ничего, — заикался он, и его смуглое лицо залилось краской.
— Как так ничего, друг? Не лги! Что-то случилось?
— Я был в церкви, — неохотно ответил мальчик.
— Видно, божье слово не развеселило тебя. Бежишь, ничего вокруг не замечая, ничего не слышишь. Я окликал тебя несколько раз. Что случилось?
— Я же сказал — ничего!
— Может быть, ты заболел?
— Нет!
— Но вид твой ужасен. Может быть, дома что-нибудь случилось?
Людвиг поднял на него глаза, полные отчаяния. В них было желание пожаловаться, излить свое горе, но он не решился.
— Не задерживайся из-за меня. Да и мне не до разговоров.
И он снова зашагал без всякой цели. И вот та же рука снова легла на его плечо.
— Ну скажи мне, Людвиг, что случилось, какое горе гонит тебя по городу?
Студент Вегелер на пять лет старше, но они дружат с Бетховеном уже два года. У Людвига мало времени для друга, но Франц многого и не требует. Придет, посидит у рояля, послушает. Людвиг играет то, что он любит и что лучше умеет. И больше ничего… Гость и этим доволен. Иногда он зовет друга пойти позавтракать где-нибудь вместе — ведь о еде Людвиг обычно забывает, — потом снова исчезнет.
Франц Вегелер из семьи ремесленника. Отец его сапожник, и дела его идут хорошо. Это видно и по сыну. Синяя курточка на нем без единого пятнышка, черные панталоны безупречны, чулки белоснежны. А когда он, полный расположения, высокий и стройный, наклонился к Людвигу, низкорослому и коренастому, было особенно заметно, как они не схожи. Бетховен — смуглый брюнет. Волосы черны как ночь, кожа на лице темно-красная. Глаза его темны как уголь, они часто вспыхивают огнем.
Франц Вегелер всегда просветленно спокоен. У него продолговатое розовое лицо, волосы золотистые, серо-голубые глаза ласково светятся. Он хочет быть врачом. Пока учится в фельдшерской школе, но готовится в Венский университет.
— Так ответь же, Людвиг, что с тобой? Я и так опаздываю на лекцию, но хотя бы не напрасно опаздывать!
Из этого юноши должен получиться хороший врач. В свои девятнадцать лет он чуток и доброжелателен и умеет угадывать самые сокровенные тайны человеческой души. Вот и теперь Франц сразу понял настоящую опасность происшедшего. Когда-нибудь раньше ночное происшествие могло завершиться штрафом да шутками, но теперь, когда курфюрстова казна жаждет сократить число служащих в театре, история эта может обернуться худо.
Франц задумался, нервно постукивая пальцем по толстой тетради.
— Я знаю человека, который может помочь тебе.
— Он мне знаком?
— Не знаю. Возможно.
— Это должен быть очень влиятельный господин!
— Это не мужчина, это женщина.
— Женщина? Нужен был бы кто-нибудь из друзей курфюрста, только они могли бы…
— Эта дама многое может сделать. У нее доброе сердце, и она хорошо отзывалась о твоей игре на органе.
— Но если я ее не знаю, то и она не может много знать обо мне.
— Тебя знает в Бонне каждый. Это ты не обращаешь внимания на людей. Впрочем, и я много рассказывал ей о тебе.
— И ты думаешь, что она захочет заступиться?
— Если она будет в силах помочь, она непременно сделает это. Попробуем.
— Я не могу идти в порядочный дом в домашнем платье. Я даже не умывался еще.
— В этом доме о человеке не судят по платью.
Вегелер вел Людвига обратно, к центру города. Мальчик молчал. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как они очутились в одном из самых аристократических кварталов, миновали роскошный особняк австрийского посла и устремились к дому напротив.
Людвиг, как видно, не расслышал, что они идут к вдове княжеского архивариуса госпоже Брейнинг, и очень удивился, когда вдруг очутился посреди просторной комнаты, богато и со вкусом обставленной. Хрустальная люстра сверкала — свет с улицы отражался и играл в ее гранях. В большом зеркале мальчик увидел свое смуглое лицо, хмурое и страдальческое. Невольно помрачнел еще больше.
И все же он ощутил какую-то особенную приветливость этой комнаты. Полированная мебель блестела, изящные стулья и табуреты и две маленькие софы так и приглашали отдохнуть. Огромный ковер посреди комнаты не был заставлен мебелью и создавал ощущение простора. Однако беспокойство не покидало Людвига.
Но вот открылась дверь, и из соседней комнаты вышла красивая женщина средних лет в утреннем туалете. На голове у нее был кружевной чепчик, на плечи наброшена белоснежная шаль. Вегелер осторожно коснулся товарища локтем, и они поклонились. Хозяйка указала на кресла, они присели у маленького столика, и медик приступил к описанию ночного происшествия. Несколько слов Франц произнес по-французски, и Людвиг, уже бывавший на спектаклях французского театра, понял, что он говорит о пьянстве, безответственности и других грехах отца.
В другой раз он вскипел бы, потому что не терпел неуважительных разговоров об отце и их семье, сейчас не произнес ни слова. Вытерпел это унижение. Только бы не отказалась помочь эта красивая дама, от которой веяло спокойным благородством.
Внимательно выслушав студента, она задала несколько вопросов Людвигу и с доброй улыбкой встала со стула.
— Надеюсь, что ночная схватка не завершится вашим поражением, господин Бетховен. Нужно позаботиться, чтобы ни одного слова об этом происшествии не достигло ушей его светлости.
Людвиг пробормотал «благодарю» и поклонился так неловко, что хозяйка дома едва сдержала улыбку.
— Я сделаю все, что смогу! Мне приходилось слышать о вас много хорошего, Людвиг.
Когда она неожиданно назвала мальчика просто по имени, ему стало легче на душе и он благодарно взглянул на нее, и этот взгляд заставил забыть его не очень изящные манеры.
Хозяйка проводила гостей до двери и сказала с непроницаемым лицом:
— Может быть, мне удастся узнать при дворе, каковы намерения в отношении вашего отца и вас. Зайдите ко мне завтра в полдень.
Двери захлопнулись. Когда Людвиг очутился на улице, лицо его просияло от радости. Он так сдавил плечо друга своими сильными пальцами, что тот охнул.
— Франц, как она добра! Что значу для нее я — ничтожный музыкант в поношенной одежде?
— Нет, Людвиг! Ты не смеешь так говорить о себе! И ты еще узнаешь ее доброту. Я попрошу, чтобы она пригласила тебя к ним.
— Ты часто бываешь здесь?
— Когда могу. У них собираются многие.
— Но я не могу бывать у них. Вы все как бильярдные шары — из отличного материала и хорошо отшлифованы. А я? Как необтесанный булыжник, свалившийся невесть откуда.
— Не беспокойся, научиться кланяться куда проще, чем стать таким пианистом, как ты, — заключил Вегелер и откланялся. И уже издалека крикнул: — Так не забудь: в полдень!
Людвиг поднял глаза к часам на башне. Они показывали только начало девятого! Какое счастье, что у него есть прибежище — клавиши! Достаточно припасть к ним, и сразу музыка захватит и закружит, как мощный поток, печальный берег скроется от тебя вдали, и ты поплывешь один в чистой глади звуков.
Он возвращался домой, полный решимости не отходить от рояля до той минуты, когда бой часов на башне возвестит, что пришло время идти. Его смущала мысль о встрече с отцом, разбитым и жалким, как всегда после такой ночи. Его встретила мать.
— Отец спит в задней комнате, — сказала она, понизив голос.
Почему она сказала это? Он не спрашивал ее об отце! Может быть, Каспар не удержался и все рассказал? Людвиг заметил, что у матери покрасневшие глаза. Она испуганно опустила их к столу, где расстилалось белье, которое она гладила.
— Людвиг, что случилось ночью? — спросила она шепотом.
— Отец немного пошумел. Но вы все знаете!
— А если отца уволят?
Итак, она знала все. Как видно, отец проговорился спросонья. Мальчик с горечью вглядывался в материнское лицо. Как она бледна и озабоченна… Как давно он не слышал, чтобы она напевала.
— Уволят? С какой стати! Не думайте об этом, мама!
Он старался произнести это беззаботно, а у самого душа была скована страхом. Он погладил влажную руку матери. Давно он не делал этого. Не умел быть ласковым, да и у нее не было времени на нежности.
— Еще какой-нибудь год, и я сам буду заботиться обо всем. Будет же курфюрст мне платить наконец. Я бесплатно работаю уже два года.
Слабое утешение! Они знали это оба. Сыновья музыкантов играли в оркестрах годами. До той поры, пока кто-нибудь из музыкантов умирал или оставлял службу. Тогда являлась надежда получить жалованье. Но уверенности не было никогда. Курфюрст всегда может отдать освободившееся место кому угодно!
Все-таки мать немного повеселела.
— Ты у меня славный, Людвиг!
— Я пойду играть, мама!
Он исчез в своей комнате и сразу же забыл о своих заботах, будто скверна прошедшей ночи куда-то испарилась. В воздухе заискрилась надежда. Так было до той минуты, когда удар колокола оповестил о наступлении полдня. Людвиг вскочил, забыв прошептать привычное «Отче наш», и вылетел из дома, как испуганный птенец из клетки. Неизвестность снова терзала его.
В дверь знакомого дома Людвиг позвонил слишком сильно. Его натуре было свойственно бурно чувствовать. И только когда горничная ввела его в комнату, где висела знакомая хрустальная люстра и стояли обитые атласом кресла, он затих как ягненок. Удивительная атмосфера в этом достойном доме! Людвиг стоял посреди комнаты и старался угадать, почему в этом доме в человека вселяется чувство уверенности.
Но вот в комнату вошла хозяйка дома, одетая так, будто она только что с улицы. Ее темно-каштановые волосы были собраны в узел.
— Добрый день, Людвиг!
Он покраснел, сообразив, что должен был поклониться первым.
— Садитесь. Надеюсь, вы будете довольны моими новостями.
— Да, думаю, буду, — нерешительно промолвил он, сидя на обитом атласом стульчике с тонкими ножками.
— Так вот, ваш отец и вы сегодня ночью на улице не появлялись и никаких происшествий не было.
— Простите, я не совсем понимаю….
— Дело вот в чем. Оба стражника и два служащих городской полиции обещают вычеркнуть все из своей памяти.
Она умолчала, что эта забывчивость была куплена несколькими дукатами.
— Вы довольны?
Ответ она могла прочитать в его сияющих глазах.
— Ну, а другие новости тоже недурные. Только это большая тайна и вы не должны ее разглашать ни в коем случае. Даже отцу своему не говорите.
— Да, конечно!
Госпожа Брейнинг открыла лежавшую на столе серебряную коробочку и вынула листок, исписанный почерком торопливым, но красивым.
— Завтра в княжескую канцелярию будет представлен проект — как поступить с музыкантами из оркестра. Каждый из вас получил полную аттестацию как школьник. Добрый друг нашего дома дал мне копию той части аттестата, которая касается господина Бетховена. Я прочитаю вам, но еще раз предупреждаю вас, Людвиг, чтобы ни словом…
— Да, да, — не слишком почтительно перебил ее Людвиг, не сводя взгляда с таинственного листка.
— Ну, буду читать. «Певец Иоганн Бетховен. Голос совершенно не годный. Поведения дурного. Очень беден. Женат. Возраст сорок четыре года. Имеет троих детей. Служит двадцать восемь лет. Жалованье двести пятьдесят дукатов».
Людвиг был так расстроен, что не слышал и половины прочитанного.
— Значит, папа будет уволен?
— Нет, нет. Его не уволят, — успокоил его мягкий женский голос. — Может быть, вашему отцу полагалось бы и большее жалованье, но… это несбыточно. А теперь о вас, Людвиг.
У молодого органиста сердце замерло. Госпожа Брейнинг между тем сложила роковую бумажку и продолжала на память:
— «Людвиг Бетховен, 14 лет. Два года служил безвозмездно. Замещал капельмейстера в игре на органе. Очень способен. Поведения хорошего. Спокоен. Беден. Помощник органиста. Жалованье сто пятьдесят дукатов в год». Ну, что вы на это скажете?
Он был не в состоянии произнести ни одного слова. Сто пятьдесят дукатов! За эти четверть часа на него свалилось столько счастья, что он никак не мог осознать его. Не сон ли это? Отец счастливо отделался, а он, сын непригодного певца, уже не будет работать задаром.
— Благодарю, — сказал он чужим, деревянным голосом, не в состоянии иначе выразить свою благодарность. Он встал и неуклюже поклонился: — Я бесконечно благодарен вам, госпожа Брейнинг.
— Нет, нет, это лишнее. Оставайтесь с нами пообедать. Познакомитесь с моими детьми. У меня есть дочь и три сына. Кристоф почти ваш ровесник, остальные моложе. Мне очень хочется, чтобы вы давали уроки фортепьяно Лорхен — конечно, за приличное вознаграждение. Так останетесь обедать?
Приглашение было заманчивым. Мог ли четырнадцатилетний мальчик пренебречь добротой, которой дома было так мало! Но ему хотелось как можно быстрее оказаться на улице и бежать домой…
— Госпожа Брейнинг, если вы позволите, когда-нибудь в другой раз, — с трудом нашел он учтивые слова, чтобы отклонить приглашение.
Ответом была улыбка прощения, понимания.
— Конечно! Но приходите поскорее. Впрочем, вверяю вас попечению Франца Вегелера, он наш частый гость и приведет вас.
Она подала ему руку. Людвигу приходилось бывать в домах боннской знати, когда отец демонстрировал его дарование, и знал, что руку дамы полагается поцеловать. И никогда еще он не делал этого с таким воодушевлением!
И вот он уже мчится вниз по ступенькам, взбудораженный от счастья и надежд. Он не бежал по улице, а парил над мостовой.
«Если бы я мог сказать это маме. Только ей!» — думал он.
Но Людвиг понимал, что должен держать слово. Как только мальчик вбежал в кухню, он расцеловал мать.
— Все хорошо, мамочка, все прекрасно!
И не успела она опомниться, как он выбежал. Стукнула крышка фортепьяно, и в ту же секунду клавиши старого инструмента запели песню, такую громкую и счастливую, какая еще никогда не оглашала этот дом.
Приветливый дом
В маленькой комнате, где спал Людвиг в детстве, висела небольшая картина, всегда волновавшая его. На ней был изображен блестящий дворец курфюрста, с двумя крыльями, увенчанными башенками и массивными трехстворчатыми воротами между ними. Вся эта величавая красота, воплощенная в камне, была охвачена гигантскими языками пламени и окутана дымом.
На этой дешевой картине все выглядело еще ярче, чем в действительности. Жгучие языки пламени походили на адские фонтаны, бившие из окон, из слуховых окон и из башенных отверстий.
Смотревшим на картину явственно представлялось, как гибнет внутренность архиепископского обиталища, горят редкостные гобелены и мебель в стиле рококо.
Художнику удалось донести до зрителей ужас роковой ночи пятнадцатого января 1777 года, когда предмет гордости города пожирала беспощадная стихия. На первом плане он изобразил мужчину, женщину и ребенка, и вся семья в отчаянии воздевала руки к небу, моля о помощи. Стоящий сбоку барабанщик сзывал спасителей, которые приближались на удивление медленным, размеренным шагом.
Черную страницу из недавнего прошлого родного города Людвиг знал не только по этой цветной гравюре. Ему тогда было шесть лет, но он до сих пор помнит, как, охваченный ужасом, смотрел издалека на рухнувшую крышу и обвалившиеся стены. Своей маленькой рукой Людвиг судорожно сжимал руку матери, уверенный, что она может защитить его от разрушительного огня.
Княжеские слуги пытались спасти хоть что-нибудь. Самоотверженный архивариус Эмануэль Брейнинг поплатился жизнью, спасая дворцовое имущество. И из всех потерь, которые понес в эту ночь город, эта, пожалуй, была самой тяжелой, потому что он был человеком редкостной образованности и отзывчивости, неизменным покровителем науки и искусства. Вокруг него сплачивалась и расцветала духовная жизнь города.
Его жена, которой едва минуло двадцать семь лет, осталась одна с четырьмя детьми. Ей назначили приличествующую пенсию, но самым лучшим наследством, которое ей оставил муж, были любовь и уважение жителей города. Для каждого из них имя Брейнинга было окружено ореолом.
К этому приветливому дому и после гибели Брейнинга тянулись люди, ценившие духовность выше богатства.
Если бы Людвиг меньше времени проводил за роялем и жил бы обычной жизнью горожанина, он бы лучше понимал причину влиятельности добросердечной госпожи Брейнинг. Ему же благополучный исход ночного происшествия показался просто чудом.
Его почтительность, несколько робкая и неуверенная, не исчезла и через несколько недель, хотя Людвиг уже не раз побывал за это время у новых друзей и сдружился с детьми.
Их было четверо и все моложе Людвига: Кристоф на год, Лорхен на два, Стефан на четыре и Лоренц на семь лет. Дочери и младшему сыну Людвиг уже начал давать уроки игры на фортепьяно.
Когда в конце июля Людвиг получил наконец давно ожидавшееся извещение о назначении на должность помощника органиста с жалованьем в сто пятьдесят дукатов в год, он прежде всего поделился своей радостью с матерью, а потом задумался — куда бежать раньше. Сообщить приятную новость госпоже Брейнинг или маэстро Нефе? Он уже привык делить с ними и радость и горе.
Наконец он все-таки отдал предпочтение органисту. Возможно, что и тот уже успел получить княжеское распоряжение.
Он вбежал в комнату, завешанную и заставленную всевозможными музыкальными инструментами, и подал учителю бумагу. Сгорбленный капельмейстер погладил счастливого мальчика по жестким черным волосам и сказал:
— Я бы поздравил тебя, если бы ты не был Людвигом Бетховеном. Твоему брату Каспару я бы сказал: желаю тебе успехов, мальчик! Твой дед начинал так же и стал капельмейстером и уважаемым человеком в городе.
— А мне вы не скажете ничего? — огорченно выговорил Людвиг.
Нефе пожал плечами:
— Для другого четырнадцатилетнего мальчика место помощника органиста могло стать началом карьеры. Для тебя оно может стать началом конца.
Людвиг смотрел на него удивленно.
— Ты уже забыл, что твой путь должен быть иным? Ты непременно должен ехать в Вену. Учиться! Чтобы Моцарта догнать, а бог даст, и перегнать! А оставаться княжеским лакеем что хорошего?
— Но князь, как видно, совсем не злой человек, если обещает платить мне сто пятьдесят дукатов в год!
— Никакое это не благодеяние, а господская хитрость! Они покупают целого музыканта за половинную плату. Что тебе всего четырнадцать лет, не имеет никакого значения! В нашем крае нет лучшего пианиста! Да и в игре на виоле, органе и флейте ты не уступаешь взрослым музыкантам.
Озадаченный Людвиг молчал, а Нефе в раздражении пересек комнату и встал у окна. Глядя на улицу, он глухо произнес:
— Они уже поняли, чего ты сто́ишь, и решили удержать тебя здесь. А мне готовят петлю на шею.
Слова Нефе были полны такой горечи, что Людвигу пришло в голову, что капельмейстер смотрит в окно, чтобы скрыть огорчение, отразившееся на его лице.
— Вам уже прислали извещение? И плохое? — встревоженно спросил Людвиг.
— Мне уже готовят его! — Нефе резко повернулся от окна. — Я знаю, какое решение подготовили князю. У меня есть не только недруги, есть и друзья, сообщившие мне об этом.
Он вытащил из кармана какой-то листок бумаги и развернул его. Людвигу показалось, будто он написан той же рукой, что и виденный им недавно в руках Елены Брейнинг. Капельмейстер начал читать:
— «Христиан Готлиб Нефе, тридцати шести лет, женат, имеет двух дочерей. Служит три года, был театральным капельмейстером. Жалованье 400 дукатов в год. Органист. Может быть уволен от службы, ввиду того что на органе играет посредственно. Кроме того, он не является коренным жителем города. Веру исповедует протестантскую. Вместо него обязанности органиста мог бы исполнять другой музыкант, с жалованьем лишь в 150 дукатов, поскольку это еще подросток и к тому же сын придворного музыканта».
Он сложил бумагу и решительно засунул ее в карман. Людвиг стоял посреди комнаты потрясенный. Ему показалось, что пол под ним заколебался. Значит, за его повышение должен расплатиться Нефе?!
— Господин Нефе, ради всего святого, не сердитесь на меня! — вскричал он. — Я не знал, что займу ваше место. Это вы-то плохой органист? Вы настолько выше меня, что я… — Вдруг он закрыл лицо руками и горько расплакался. — Я пойду в замок и брошу им этот приказ под ноги! Этим псам, этим…
— Молчи, молчи, мальчик! Запомни: я тебе ничего не говорил. Это верно, они псы. Злобные, завистливые псы! Их совсем не волнует, играю я на органе хорошо или плохо. Их больше беспокоит то, что я иной веры. Но и это не главное. Хуже всего для них то, что умею больше, чем иные, понимаешь? Потому меня и хотят вытолкать в шею. Когда-нибудь и ты изведаешь такое. Глупцы не любят умных, а грязные — чистых.
Он обнял мальчика за плечи, но тот вырывался из рук учителя:
— Пустите меня, маэстро, пустите! Я должен идти в канцелярию двора. Я разорву этот приказ на глазах у всех и брошу им в лицо!
Но Нефе не отпускал взволнованного мальчика из своих рук.
— Не горячись, Людвиг! Какой от этого будет прок? Отнимешь у семьи сто пятьдесят дукатов, а она нуждается в них. И мне ты только хуже сделаешь. Господа бы очень порадовались: «Посмотрите, Нефе натравил на нас молодого Бетховена! Воспользовался неопытностью строптивого мальчика. Гоните его за это с должности!»
— Но что же мне делать, маэстро? Мне так стыдно перед вами!
— Да чем же ты виноват? Если ты хочешь помочь мне, делай вид, что ничего не знаешь об их намерениях.
— И допустить, чтобы они вас выгнали? С двумя детьми и женой!
— Этого не случится, мальчик! В Бонне еще есть люди, которые объяснят князю, что во всех немецких землях не найдется чудака, кроме Нефе, который за четыреста дукатов будет дирижировать оркестром, играть в нем, ставить оперы, писать тексты и вести канцелярию.
Людвиг задумался. Если приказ еще не обнародован, может быть, и в самом деле не все потеряно. И сразу Людвигу стало легче.
— Маэстро, — сказал он, вздохнув с облегчением, — я пойду к госпоже Брейнинг и все расскажу ей. Вы знаете ее? Она удивительно добра и очень мне помогла.
Органист не был против, и Людвиг быстро откланялся и выбежал из квартиры. На душе у него было тяжело. Как долго он мечтал, чтобы ему платили за его труд! Изо дня в день он только и ждал, чтобы ему положили хотя бы маленькое жалованье.
Деньги обладают таинственной силой. Они способны даже вызвать улыбку на скорбно сжатых устах матери. Но он не смеет принять эту плату, когда ему установили ее! Эти сто пятьдесят дукатов — тридцать серебреников наивному младенцу за то, что он всадит нож в спину своему учителю!
А князь сэкономит на этом двести пятьдесят дукатов в год.
Так безжалостно была растоптана его радость. Но еще стоит на площади волшебный дом. Там сумеют снять камень с его души!
Людвиг бывал там все охотнее. Никогда до этого у него не было друзей среди детей. Он жил и трудился, как взрослый. Многого он достиг, но заплатил за это бесчисленными детскими радостями.
Недавно Нефе отдал напечатать его новые фортепьянные пьесы. Но, разумеется, сочинителю и княжескому музыканту совсем не удавалось побегать по берегу и поиграть со сверстниками в солдат и разбойников. Временами, бывая с детьми Брейнингов, Людвиг превращался в беззаботного подростка. Он бегал с ними в саду, но когда их новый друг садился за рояль, они становились серьезными и словно взрослели. Казалось, что они понимают, о чем он рассказывает им своей игрой.
Людвиг чувствовал, что они восхищаются им, и, пожалуй, впервые в жизни, это радовало его. Славы и оваций он немало видел с детства и привык к ним. Но признание маленьких друзей ценил по-особому. Он наблюдал их прекрасные манеры за столом, их благовоспитанность. Там, где он в растерянности мрачнел и краснел, юные Брейнинги улыбались, участвовали в беседе свободно, весело и без малейшего смущения.
Иногда он ловил себя на том, что сделал неловкость. Но стукнуть дверью, поскользнуться на блестящем паркете, зацепиться за край ковра — это еще куда ни шло. Хуже, когда он забывал поблагодарить, или отвечал отрывисто, или, разговаривая, жестикулировал так, что какая-нибудь гостья, сидящая поблизости, отодвигала от него посуду.
— Я такой неловкий, но у нас дома не обращают внимания на громкий разговор или разбитую чашку, — оправдывался он, покраснев, когда опрокинул чашку с чаем.
Дети в этот раз были в школе, и он один сидел с хозяйкой дома за чайным столиком. Она не выговаривала ему, но и не уверяла, что в этом нет ничего плохого. Она промолчала, убрала движением руки упавшую на лоб прядь и с материнской снисходительностью взглянула на него своими карими глазами.
— Человек должен учиться всему, Людвиг! Ты поймешь это, когда овладеешь искусством общения с людьми.
Мальчик сидел совершенно расстроенный. Горничная вытирала остатки чая на ковре, а госпожа Брейнинг незаметно оценивала его коренастую фигуру, с плечами широко развернутыми, как у деревенского паренька. Чувствовалась в нем какая-то добрая сила, но ловкости ему недоставало. Когда девушка выскользнула из комнаты, хозяйка пошутила:
— Ты немножко походишь на медведя, который учится ходить на задних лапах.
Людвиг принял шутку весело. Медвежья сила — это почти похвала! А медвежья неповоротливость — он и сам знал это за собой.
Госпожа Брейнинг, поняв, в какой нелегкой обстановке живет он в семье, быстро приохотила Людвига приходить в ее дом каждый раз, когда его что-то угнетало или если хотелось с кем-нибудь поделиться радостью.
И Людвиг приходил. С отцом он не был близок, хотя и любил его, несмотря на все тяготы, которые тот приносил семье. А мать доброго, но слабого характера, была плохой советчицей в горестях, которые то и дело одолевали четырнадцатилетнего мальчика. Вот и сейчас он шел сюда со своей бедой. Но то, с чем он пришел сюда, уже не было новостью.
— Все это мне уже известно, — сочувственно отозвалась хозяйка дома. — Но самые темные тучи над головой Нефе уже рассеялись. Уволен он не будет, но ему предложат половинную плату.
Людвиг резко тряхнул головой.
— Половину! За все, что он делает! И эту сэкономленную половину хотят платить мне! — Он вскочил как ужаленный, порываясь сразу же бежать в замок.
— Сядьте, Людвиг, — приковал его к креслу рассудительный женский голос. — То, что вы хотите сделать, весьма благородно, но не безопасно. Положение вашего отца не так прочно, чтобы проявлять гордыню. Нужно искать иной путь для спасения Нефе. Мы ему посоветуем, чтобы он отказался от этой милостыни. Если он проявит твердость, курфюрст вынужден будет пойти на уступки. Граф Вальдштейн обещал растолковать ему, что́ он потеряет, лишившись Нефе. Пойдите к своему маэстро и попросите зайти к нам сегодня вечером. У нас будет Вальдштейн. Мы оба хотим поговорить с ним.
Людвиг ушел с таким ощущением, будто окунулся в источник с волшебной живительной водой. Он опять радовался, что у него теперь есть заработок, пусть самый незначительный. Он понимал, конечно, что опасность, нависшая над учителем, не вполне еще миновала. Но если за дело берется Елена Брейнинг, разве можно сомневаться в благоприятном исходе? У нее есть влиятельные помощники. Сегодня она упомянула о графе Вальдштейне, а Людвиг знал, что это ближайший друг курфюрста и его посредничество может быть полезнее, чем еще чье-нибудь.
Фердинанд Арношт Габриэль Вальдштейн лишь недавно приехал в Бонн откуда-то из Чехии. Молодой, веселый и добросердечный, он нравился всем. Вальдштейн знал толк в музыке, интересовался молодым Бетховеном и с большим удовольствием вел беседы с капельмейстером Нефе, — он не откажется помочь ему.
И все же главным героем предстоящей борьбы Людвиг считал Елену Брейнинг. Ему казалось, что центр боннской жизни находится не в архиепископском дворце, а в ее доме. И он снова утвердился в этом мнении, когда придворный органист и капельмейстер Нефе был все-таки оставлен в обеих должностях и ему сохранили жалованье в прежнем размере. Неизвестно, кто был счастливее в этот день — сам органист или его помощник!
Когда юный Бетховен думал, что осью жизни в Бонне является не дворец курфюрста, а дом Брейнингов, он конечно заблуждался. Четырнадцатилетний мальчик был еще не в состоянии проникнуть во все хитросплетения боннской жизни. В течение следующих двух лет он понял, однако, что хотя бы в одном он тогда не ошибался: дворец курфюрста не был единственным центром боннской жизни. Деньги и власть, коварство и фальшь вращались вокруг дворца. Остроумие, мудрость, искусство и свобода царили в доме Брейнингов. Каждый четверг вечером его наполняли люди, составлявшие избранное общество. Читались книжные новинки, игрались самые лучшие сочинения, обсуждались новости, заслуживающие внимания. Здесь спорили о серьезных вещах с невиданной свободой. Каждый мог иметь любое суждение, и каждый мог оспорить его. Все знали, что никто не побежит с доносом в епископский дворец: смотрите, там ругают князей и епископов.
К этим редкостным турнирам независимых речей и остроумия Людвиг Бетховен сначала только приглядывался, бывая в доме Брейнингов. Сидя в уголке, он затаив дыхание ловил смелые речи. Здесь читались стихи, едва только написанные, здесь разыгрывались пьесы, еще не увидевшие сцены. И удивительно: все эти взволнованные речи велись непременно о свободе, о протесте против тиранов.
Здесь же появлялись и революционные прокламации из Парижа, а с ними оттиснутые на грубой бумаге сатирические стихи, полные насмешек над французским королем Людовиком XVI и его женой Марией Антуанеттой.
Французская королева, ненавидимая народом, была родной сестрой боннского курфюрста. Казалось бы, как раз в центре Бонна было небезопасно читать издевательские куплеты, но никто не боялся. В прирейнских землях с интересом следили за тем, что происходит за ближними рубежами. Вся Европа с любопытством наблюдала за событиями во Франции. Было ясно, что там дело идет к кровавой схватке. Народ против короля. Бедность против богатства. Угнетенные против угнетателей. Революция стучалась в ворота дворцов. А ближайшие соседи — немцы задавали себе вопрос: если французы уже пришли к этому, когда же мы начнем опрокидывать троны? А в раздробленной Германии этих тронов было множество.
В уютном доме Брейнингов, конечно, слышались не только мятежные политические речи. Чаще здесь беседовали об искусстве, звучали скрипка, рояль и флейта, вслух читались книги как современных, так и древних писателей.
Людвиг с живым интересом наблюдал за человеком, убеленным сединами, с маленькой шапочкой на голове, который горячо доказывал, что произведения древних греков и римлян много выше современных, новых книг.
«Вот как… — раздумывал Людвиг. — Кое-кто поклоняется язычникам, которых давно нет в живых, а живого Нефе готовы растерзать только за то, что его христианское вероисповедание на волосок отличается от их такого же христианского вероисповедания!» Однако старый пастырь был не таков. Людвиг ошибался. Каноник Брейнинг, опекун Кристофа, Лорхен, Стефана и Лоренса, не мелок душой. Он часто вел беседы с Нефе, который иногда появлялся здесь.
Как-то он подсел на минуту к Людвигу, сидевшему в стороне от всех с чашкой кофе. Ему нравилось сидеть так, никем не замечаемым, так же как было ему по сердцу все, что он слышал здесь. Только что отзвучал отрывок из «Разбойников» Шиллера — страстный монолог против всего, что угнетало человека.
— Справедливые вещи пишет господин Шиллер, да и господин Гете тоже, — начал старый каноник. — Вольтера я тоже почитаю, несмотря на его нападки на бога. Но, мальчик, если ты хочешь познакомиться с глубочайшими мыслями, какие только человеческая рука наносила на бумагу, читай Платона, Гомера, Сенеку.
— Я бы очень хотел, но мое образование так ничтожно! — вздохнул молодой музыкант. — Школу я посещал лишь до десяти лет. Только к гимназии подготовился. Отец всегда твердил мне: «Прежде всего учи латынь, остальное можешь спокойно пропускать мимо ушей. Она нужна тебе, чтобы ты мог петь в церкви». Так что по-латыни я немного читаю, а греческого не знаю совсем, даже алфавита не знаю.
— Это не страшно. Ты можешь читать в переводах.
— Я в самом деле отстал во многом. Я больше времени сидел над нотными тетрадями, чем над школьными. С немецкой грамматикой у меня идет настоящее сражение. Что касается счета, то и здесь несчастье: если кое-как справляюсь с умножением, так с делением не в ладах!
Людвиг опасливо ожидал, что каноник ужаснется его необразованности, но тот спокойно произнес:
— Я знал людей, которые отлично умели считать, но образованными не были. И я знаю таких, которые превосходно знают грамматику, но не видят дальше собственного носа. Тот же, кто полюбит мудрость древних, не может сам не стать мудрее.
Старик был снисходителен к нему, но Людвиг все-таки считал себя совершенным неучем. Франц Вегелер, Кристоф и Лорхен Брейнинги прекрасно разбираются в немецкой литературе, говорят и пишут по-французски без ошибок, иногда даже участвуют в спорах взрослых, и ученые мужи выслушивают их вполне уважительно.
У Людвига мыслей много, но язык отказывается служить ему. Пока он подыскивает нужное слово, речь уже идет о другом. Образования ему и в самом деле не хватает. Вот если бы он знал этих древних писателей, о которых говорил каноник!..
Людвиг с головой окунулся в чтение, поглощая сочинения древних и книги современных писателей. Но во время бесед у Брейнингов по-прежнему хранил молчание. Опять он усаживался в уголок и сердито хмурился, когда кто-нибудь приближался к нему. Только госпожу Брейнинг он не отпугивал своим неприветливым словом. А она обязательно находила Людвига в его убежище.
— Тебя кто-нибудь обидел, Людвиг?
— Нет.
— Может быть, ты кого-нибудь обидел?
— Тоже нет.
— Так почему же ты сидишь такой потерянный?
Он молчит, опустив глаза. Она не спрашивает больше ни о чем.
Но и она знает лишь одно лекарство для него: образовывайся, учись, читай! Он бы и рад, да нельзя же одновременно играть на рояле и читать! И не может человек играть на обеде у его светлости и в то же время учиться французскому!
Людвиг не жалел сил, стараясь пополнить свои знания. Читал по ночам, дорожил каждой секундой. И постоянно ощущал, как он отстал от молодых людей, бывавших в доме Брейнингов, понимал, что Франц Вегелер и его друзья только еще раздумывают над тем, кем быть, а у него уже есть имя. Заботливый Нефе всячески содействовал его славе. Недавно Людвиг прочитал в газете:
«Этот молодой гений заслуживает того, чтобы оказать ему поддержку и дать возможность ездить с концертами. Если он будет продолжать, как начал, он станет вторым Вольфгангом Амадеем Моцартом».
Но к чему все это, если «второй Моцарт» явно чувствует, как неловок он в обществе, неуклюж, необразован. Пробелы в образовании сковывают его, будто кандалы. Нефе самоотверженно помогает ему, советует, добывает книги, но признает, что и в музыке Людвигу образования недостает.
Он делился с ним своими познаниями со всей возможной щедростью и наконец вынужден был сказать ему:
— Скоро, Людвиг, я уже не смогу быть полезным тебе. Ты должен ехать. Ехать в Вену, к Моцарту. Только он может учить тебя.
Неслыханно смелый план! Моцарт — бог музыкального мира. В Вене есть и другие мастера композиции — например, Глюк и Гайдн, но они уже стары и миновали вершину своей славы. Мир верит в восходящую звезду, в Моцарта — пианиста, прославленного с детства, композитора, создавшего мелодии, благозвучнее которых человечество еще не знало.
Людвиг Бетховен тоже верит в Моцарта, но его охватывает страх при мысли, что он окажется лицом к лицу с великим Моцартом и скажет ему: «Я хочу быть вашим учеником!» Такое возможно только в воображении.
— С какой стати Моцарт будет интересоваться каким-то пришельцем из Бонна? — спрашивал он.
У Моцарта
Беседа так стремительна, что собеседники не могут усидеть на месте. Один розоволицый, светловолосый, другой, смуглый, с резкими чертами лица, брюнет, — оба не уступают друг другу в стремительности речи. Комната невелика, к тому же ее загромождает большой рояль, и они мечутся по свободному пространству, как разъяренные львы. Иногда они невольно уступают друг другу, когда чувствуют, что могут столкнуться.
Они говорят то по-итальянски, то по-немецки. Оба возбуждены и сильно жестикулируют. В речь немецкую иногда вплетаются слова итальянские, а в мелодичную итальянскую вдруг врываются грохочущие немецкие фразы. Их пылкая беседа совсем не ссора, это всего-навсего дружеские переговоры композитора и либреттиста.
Моцарт сочиняет новую оперу, а поэт Лоренцо да Понте — либретто к ней. Итак, музыка будет немецкая, а слова итальянские. В этом нет ничего удивительного! Сказал же кто-то в Вене, что если человек идет в оперу, то, разумеется, он идет в оперу итальянскую.
Сыны Рима, Неаполя и Венеции властвуют в европейской музыке, как некоронованные короли. Лишь немногие решаются иногда заикнуться, что пора бы со сцены звучать родному языку вместо пришлой итальянщины. Но разве порядочное общество станет посещать театр, со сцены которого звучит плебейская речь!
Вольфганг Амадей Моцарт, которому минул тридцать один год, уже сделал безуспешную попытку создать немецкую оперу и уж теперь-то будет держаться привычного порядка! Либретто будет итальянским, это несомненно.
К сожалению, у них разные взгляды на главного героя оперы — Дон-Жуана. Моцарт мелькает по комнате быстро, как смычок в руках скрипача, и страстно протестует:
— Вы делаете из Дон-Жуана какого-то шута, только для того и присутствующего в опере, чтобы смешить публику!
Да Понте обладает бурным темпераментом, его речь льется с невиданной быстротой:
— Только так и должно быть. Опера о Дон-Жуане может быть только комической! Вы напишете веселую музыку, а я — текст, который будет сверкать остроумием.
Моцарт отрицательно повел пальцем:
— Но я не обязан поступать, как все. Театр должен быть правдив, как сама жизнь! Немного драматичного, немного смешного!
— Но вы, маэстро, копаете могилу своей славе! Смотрите, как бы в театре не оказалось аплодирующих только двое: я и вы. Общество хочет повеселиться. Никто вас не поймет!
— Не поймут? Я пишу Дон-Жуана для пражского театра. А в чешской земле меня поняли, как нигде в мире. Если бы вы видели, с каким воодушевлением там встречали меня, когда я был у них в этом году, в январе! Вы, итальянцы, думаете, что понимаете музыку, как никто, но представьте себе, в Праге в музыке смыслит каждый дворник!
— Ну-ну-ну! — оскорбился да Понте.
— Хотите доказательств? Так вот послушайте! Однажды мы с женой ехали в Прагу, и на окраине города возница остановился перед маленьким трактиром. Говорит, дескать, промерз до костей. Да и не мудрено! Мороз стоял лютый, воздух так и обжигал! Жене не захотелось вылезать из-под меховой полости, а я выбрался из возка и, хотя корчма была незавидная, пошел вслед за возницей. Она была полна народу, и, судя по одежде, небогатого. Кольщики льда, кучера, плотники — словом, разный ремесленный люд предместья, никаких господ! В углу настраивал арфу невзрачный старичок в поношенном пальто… Настроил, заиграл. И что же вы думаете, я услышал? Напев из моей оперы! Из «Свадьбы Фигаро»! Старый арфист отнюдь не был виртуозом, но играл он с увлечением. И в трактире вдруг все стихло… О, господин да Понте, если бы вы могли видеть, как любят музыку чехи! Эти оборванные дровосеки, поденщики дружно подпевали артисту. Итальянских слов они, разумеется, не знали, и подпевали: та-та-там, та-та-там, та-та-там-там… Но как! С таким удовольствием, с таким жаром, что, верите ли, глаза мои наполнились слезами. Я незаметно сунул арфисту дукат и выбежал из корчмы. Если бы я остался там, то расплакался бы от счастья… Ну, что на это скажете, друг? Я хочу написать для Праги оперу как можно лучше. Но написать слова к ней сам не могу.
— Ну, пожалуйста, я ведь не против, — быстро смирился да Понте. — Вы сами лучше знаете, что для вас…
Он не закончил. Дверь отворилась, и вошла жена Моцарта — темноволосая, миловидная, улыбающаяся. Она держала в руках письмо.
— Тебя спрашивает какой-то юнец. Такой смуглый, мрачный. Хочет поговорить с тобой, Вольфганг! Это его рекомендация. — Констанца отдала мужу письмо и еще какой-то листок и, протянув руку да Понте, который, галантно склонившись, поцеловал ее, исчезла, как видение.
Моцарт взглянул на листок. Это была визитная карточка. На ней красиво было выведено:
— Вам известен этот человек? — спросил он, подавая карточку да Понте.
Да Понте недовольно скривил губы:
— Наверное, барон какой-то, раз «фон».
Моцарт нахмурился:
— Недоставало мне какого-то взбалмошного дворянчика! Вы знаете, как я «люблю» этих господ. Того и гляди, он станет демонстрировать мне свое умение играть на фортепьяно! Вечно кто-нибудь лезет в мой дом и требует, чтоб я объяснил ему, как отличать белые клавиши от черных!
— К вам стремятся… Ведь повсюду идет молва, что у Моцарта добрая, ангельская душа.
— Только ангелам на небе обеспечено полное содержание, а я должен кормить семью. Однако бедному музыканту я с удовольствием помогу…
— «…И если я сам ничего не имею…» — протянул итальянец, прервав композитора. — Да не тратьте вы времени зря! Взгляните, что там, в этом письме. Мне некогда!
Моцарт вскрыл конверт, взглянул на письмо и сказал:
— Какой-то пианист из Бонна. Рекомендует граф Вальдштейн. Я познакомился с Вальдштейном у нас в Зальцбурге, когда был в замке во время визита боннского курфюрста.
— Вальдштейны — это чешская знать. Следовательно, вы примете этого музыканта. Ну, а мне бы надо уходить. Да мы так ни до чего и не дотолковались.
— Подождите, пожалуйста, — сказал Моцарт. — Я скажу ему всего несколько слов.
Да Понте проворчал что-то не слишком любезное и уселся в кресле, стоявшем в углу комнаты, у фортепьяно. Однако он был готов встать и поклониться, если гость будет стоить того. Не только с помощью поэтического дара, но и с лисьей пронырливостью боролся да Понте за кусок хлеба, как и полчища других итальянских музыкантов в восемнадцатом веке, заполонивших Европу, убегая от нищеты, которую влачили на родине.
Год за годом из Италии расходились по всему миру волны многообещающих и напористых служителей искусства, но в последние десятилетия появилась целая поросль талантливых немецких артистов, а из Чехии хлынул поток превосходных музыкантов. Все они старались заслужить благосклонность богатой знати.
В этой непрестанной борьбе голодных с еще более голодными часто пускались в ход коварство, клевета и другие бесчестные средства. Да Понте отлично умел плавать в этих мутных водах и тем не менее оставался порядочным человеком. Он искренне любил Моцарта и заботился о его интересах не меньше, чем о своих. Он огорчался, когда композитор, по великой доброте своего сердца, раздавал деньги и растрачивал свое время на кого попало и как попало — на любого, кто к нему ни обратится.
Потому были так неприветливы его черные глаза, обращенные к семнадцатилетнему юноше, когда тот несмело вошел в комнату и неловко поклонился. Он больше смахивает на римского легионера, чем на пианиста, думал да Понте, разглядывая невысокую кряжистую фигуру посетителя, между тем как композитор радушно расспрашивал, откуда и когда гость приехал, каким образом знаком с Вальдштейном и чем до сей поры занимался.
Каждый художник должен обладать нежной душой, а этот — сущий пень, с досадой отметил про себя итальянец. Моцарт — и он! Как они не схожи! Один — красивый, чуткий, с изящными манерами и изысканной речью; другой — непривлекательный, угловатый, говорит громко, с заметным северогерманским акцентом.
Платье у него новое, но провинциального покроя и из дешевой ткани, и, значит, никакой он не князь и не граф. Как смешно этот увалень сидит на самом кончике стула и отвечает на вопросы робко и слишком громко…
Да Понте весьма проницателен. Он поднялся и подошел к Бетховену:
— Молодой человек, признайтесь! Прежде чем позвонить в дверь дома маэстро, вы ходили поблизости по крайней мере четверть часа?
Выпад несколько бестактный. Но да Понте знает, что делает. Таким образом он проверит, насколько непосредствен этот юный провинциал. Сознается, что боялся идти, или прикинется героем?
На лице Людвига отразилось удивление, и сразу же в нем заговорила оскорбленная гордость. Этот человек смеется над его бедностью? Бетховен не оставляет оскорбления без ответа. Но тут вмешался Моцарт:
— Позвольте представить вам моего друга да Понте, — произнес он с обезоруживающей учтивостью. — Он написал либретто для моей оперы «Свадьба Фигаро», а теперь мы работаем над «Дон-Жуаном».
Людвиг поклонился, и да Понте пожал ему руку.
— Не сердитесь на мое внезапное вмешательство. Своим вопросом я хотел достичь одного: чтобы вы осмелились наконец и сказали маэстро, чего вы, собственно, хотите от него. Его время ценится на вес золота!
Это звучало резко, но беззлобно, и Людвиг успокоился.
— Прежде всего я хотел бы попросить маэстро послушать мою игру. В Бонне говорят, что я кое-что умею. Что касается вашего первого вопроса, господин да Понте, то позвольте не согласиться с вами: я не четверть часа ходил около дома, робея войти, я почти целый час бродил по окрестным улицам.
Да Понте про себя с удовлетворением отметил, что в угрюмом широком лице все же есть кое-что приятное: выразительные глаза и располагающая улыбка.
— Но позвольте мне задать вам еще один вопрос, — сказал да Понте. — Я никогда не имел чести слышать о дворянском роде фон Бетховенов!..
— Я тоже! — весело прервал его Людвиг.
Да Понте разразился смехом.
— Позвольте, а что же это значит? — Он взял со стола визитную карточку и указал пальцем на роковую приставку «ван».
— О, это ошибка, которую в Вене делает каждый. Словечко «ван» читают как «фон». Неожиданно для себя я стал здесь Людвигом из рода Бетховенов. Но я объясню вам. Мой дед приехал в Германию из Фламандии, а там, так же как и в соседней Голландии, издавна существовал обычай именовать людей по месту их жительства. Имя Рембрандт ван Рейн означает не то, что великий художник был знатного рода, а то, что он родился на мельнице на берегу Рейна.
— А не могли бы вы любезно объяснить мне, — сказал да Понте, несколько обескураженный таким толкованием, — что в таком случае означает «ван Бетховен»?
— Пожалуйста! — согласился Людвиг. — Но вы, пожалуй, будете смеяться. «Ван Бетховен» означает «со свекольного хутора». Но если бы я и в самом деле был знатного происхождения, даже если бы я был принцем крови, то и тогда бы я не считал себя более знатным, чем такой большой художник, каким является маэстро. Имя Моцарт значит для меня больше, чем Габсбург!
Композитор протестующе поднял руку.
— Моцарт больше, чем Габсбург! — насмешливо покачал головой да Понте. — В городе, где находится резиденция императора габсбургской династии, небезопасно произносить такие речи, молодой человек! Похоже, что вы не со свекольного хутора, а от французских границ! Это из Парижа распространяются по Европе безбожные идеи, что у его милости короля и простого обывателя одинаковая кровь и такие же кости… Но сейчас меня интересует кое-что другое. Вы в самом деле так почитаете маэстро Моцарта? — По лицу итальянца пробежала лукавая усмешка, но Людвиг не заметил этого.
— Я знаю каждую ноту его сочинений, которые мог достать. А Бонн город культурный: могут ли в нем не ценить такое искусство! Курфюрст сам музыкант и заботится о том, чтобы в городе звучали лучшие новые сочинения.
Да Понте лукаво усмехнулся:
— Что касается музыкальных дарований нашего курфюрста, то позвольте рассказать одну историю. Когда почтенный архиепископ был еще принцем императорского двора, устроили они с братом Иосифом, нынешним императором, домашний концерт. Пригласили Глюка. Нечего говорить, что тогда в Вене, исключая Гайдна, не было лучшего музыканта. Сочинение Глюка в этот раз исполняли так, что он разразился возмущенной тирадой: «Я скорее согласен бежать две мили вместо почтовой лошади, нежели слушать такое дрянное исполнение своей оперы!» И ушел.
Эту венскую сплетню я рассказал вам в награду за вашу искренность, рассчитывая, что вы так же будете держать ее про себя, как мы никому не расскажем о вашем великолепном высказывании по поводу императора и композитора.
И еще, что касается вашего преклонения перед маэстро Моцартом. Если вы действительно относитесь к нему так, как говорите, будьте добры, поищите себе в Вене другого наставника! Он пишет сейчас новую оперу и должен закончить ее до осени. Сейчас как раз мы заняты тем, чтобы согласовать музыку и либретто. И поэтому ни маэстро, ни я не располагаем временем.
Людвигу показалось, что чья-то холодная рука стиснула его сердце. Годы он собирал грош за грошем, чтобы поехать в Вену, и вот его прогоняют от заветного порога!
Да Понте понимал, конечно, что творится в душе молодого музыканта, и пустился в объяснения. Маэстро в самом деле дорожит каждой минутой, его обязательства перед Прагой скреплены очень ответственным договором, и времени на создание новой оперы у него в обрез.
И от Моцарта не укрылось огорчение его юного гостя.
— Но, милый да Понте, вы говорите за меня, будто я сам не в состоянии объясниться, — укротил он красноречие друга.
— Я обязан сделать это! Вы же добры безгранично, маэстро! Вы обещаете каждому, кто ни попросит. Господин Бетховен еще слишком незрелый пианист, чтобы помышлять о таком наставнике, как вы! Знайте же, юный друг: господин Моцарт — величайший композитор из всех, которые были, есть и будут на свете! Вена же кишит учителями игры на фортепьяно, я порекомендую вам кого-нибудь.
— Остановитесь же наконец! — воскликнул Моцарт. — Я хотя бы послушаю господина Бетховена. Сыграйте мне!
— Маэстро, если у вас есть две пары ушей, то слушайте то, что будет играть это юное дарование, и то, что я вам разъясняю. Если вы к тому же обладаете двумя языками, то говорите сразу и с ним и со мной. Но я не замечал за вами такого свойства, и потому ухожу. Может быть, вы и располагаете избытком времени, у меня его нет! Другие композиторы тоже ждут моей помощи!
И возмущенный поэт, и в самом деле писавший тексты для трех композиторов одновременно, гневно сверкнул глазами и потянулся за своей треугольной шляпой, лежавшей на рояле. Но Людвиг уже пришел в себя и почтительно промолвил:
— Я мог бы прийти когда-нибудь в другой раз, маэстро, — и его умоляющий взгляд был красноречивее слов.
Моцарт весело взглянул на возмущенного поэта и произнес:
— Так будет лучше! Итак, завтра около шести вечера!
Людвиг в мгновение ока очутился на улице. Перевел дух, как после тяжелой работы, и с сомнением спрашивал себя: победил он или потерпел поражение? Правда, великий Моцарт был любезен и обещал его послушать, но почему так нападал на него этот сумасбродный итальянец?
Горько было на душе молодого музыканта. Он корил себя, что не умеет общаться с людьми. Насупится, а говорит так, будто пудовые камни языком ворочает. К тому же вспыльчив и неуступчив. Еще хорошо, что не повздорил с этим болтуном, оскорбившим его, думал Людвиг. «Как видно моя необузданность зародилась во мне тогда, когда меня запирали в темной комнате и заставляли играть, когда я водил смычком по струнам и скрипел зубами от злобы… Да кто обращал внимание на то, что творится в моей душе?»
Моцарт не таков, ведь он рос и воспитывался иначе. Нефе рассказывал, что его отец образованный, мудрый и даже оставил на время службу, чтобы заняться воспитанием сына. А он? Ему приходилось подбирать своего воспитателя на мостовой, в таком состоянии, что лучше не вспоминать!
Да, он, Людвиг, неприятный, невыносимый!
Моцарт пригласил его только из-за этих нескольких строк, написанных Вальдштейном. Итальянец был прав. Кто он таков, чтобы отнимать время у такого мастера музыки?
Когда Людвиг подвел итог своим раздумьям, он решил, что дела его плохи. Как видно, кончено с Моцартом и с Веной, в которой распоряжаются самоуверенные да Понте!
И все-таки на другой день он шел к дому Моцарта с вновь воскресшей надеждой. Может быть, там не будет этого поэта с языком, как бритва…
Людвиг был озадачен, когда встретил там не одного, а целых четверых гостей. Композитор был заметно удивлен приходом юноши.
— Простите, ко мне с визитом, — сказал он. — Господа, извольте посидеть минутку в соседней комнате. — Последние слова относились к гостям, охотно подчинившимся, однако они не закрыли за собой двери. Моцарт извлек из-под рояля стул и пригласил: — Пожалуйста! Граф Вальдштейн рекомендует вас как замечательного пианиста. Вы доставите мне большое удовольствие!
— Что мне сыграть? Я знаю кое-что из обычного концертного репертуара.
— Играйте, что вам хочется, — ответил Моцарт улыбаясь.
— Буду играть Баха, — решил юноша.
Многие сочинения Иоганна Себастьяна Баха так трудны технически, что требуют высочайшего мастерства. А Людвиг выбрал одно из сложнейших. Некоторое время он спокойно сидел, потом погладил пальцы, как бы прося, чтобы они не подвели его в этом трудном испытании.
Моцарт решил, что Людвиг ждет, когда ему дадут ноты.
— Минутку, я дам вам все, что у меня есть Баха.
— Спасибо, — ответил Людвиг, — я буду играть по памяти.
Собственное уверенное заявление прибавило ему решительности. Он опустил руки на клавиши, пальцы уверенно побежали по ним, и полились звуки безупречной чистоты. Долгие дни и ночи труда дали свои плоды.
Однако молодого Бетховена смущало то, что композитор был возле него. Все время, играя, он был как бы раздвоен, половина его существа была поглощена мыслью о великом Моцарте, стараясь угадать, что тот думает о его игре.
Но даже это не помешало ему. Сочинение Баха прозвучало до конца без единой ошибки. Все уже давно было доведено до блеска и жило в кончиках пальцев. Когда отзвучали последние аккорды, Моцарт слегка кивнул головой:
— Вы действительно играете очень хорошо. Отличная техника! Это несомненно результат изрядного труда.
Где-то в глубине души Моцарта закралось подозрение: «Этот молодец сыграл свой заученный урок!» Ох, сколько таких честолюбцев сидело за этим роялем, надеясь заворожить его исполнением одной вещи, вызубренной в поте лица! Мальчик с берегов Рейна играл настолько же безупречно, насколько и холодно! Чего же ему не хватает? Чего-то такого, чем отличается подлинный художник от усердного любителя. Нет собственной мысли! Полное растворение собственного «я» в идее композитора…
Людвиг бессильно опустил руки. Отзыв был похвальный, но сдержанный. «Это — поражение, юноша, — думал он. — Тебе не удалось тронуть его сердце. Ты напрасно приезжал сюда».
Он взглянул на Моцарта. Сомнений быть не могло. Композитор был молчалив и отрешен. На его лице застыло безразличное, учтивое выражение. То самое, которое бывает, когда провожают непрошеного гостя и только из вежливости ожидают в передней, пока тот наденет пальто и шляпу. Людвиг сознавал, чего от него ждут. Поблагодари за любезность и уйди! Но нельзя же отступить без малейшей попытки к спасению!
— Маэстро, — взмолился он, — я очень прошу вас: посоветуйте, как мне работать дальше!
Моцарт с безнадежным видом сложил руки:
— Да Понте говорил вам вчера, что мы с ним испытываем крайний недостаток времени. В Праге хотят поставить «Дон-Жуана» уже в октябре! Я работаю с утра до поздней ночи. Ложусь спать в час, а в шесть утра уже на ногах.
— Но я приехал в Вену только из-за вас!
— Не сердитесь, — отозвался Моцарт, — но мне говорят так многие. А что же я могу поделать? Я не волшебник и не в состоянии двадцать четыре часа превратить в сорок восемь! К счастью, здесь в самом деле много людей, которые были бы для вас более подходящими учителями, чем я.
В глазах Людвига отразилось горькое разочарование. Значит, вера в доброту Моцарта была ошибкой? Поездка в Вену была ошибкой? И самой большой ошибкой была уверенность добряка Нефе: «Ты сыграешь ему, и он поймет, чего ты стоишь!»
Он поклонился и направился к выходу. Но в тот момент, когда он взялся за дверную ручку, все в нем взбунтовалось. Как будто под напором глубоких вулканических сил прорвался поток отчаяния и будто рядом очутилась знакомая сгорбленная фигура Нефе, твердившего ему: «Сражайся, и в конце концов падет самая неприступная твердыня!»
Он обернулся. Губы его дрожали.
— Маэстро, умоляю вас, позвольте мне сыграть еще… фантазию на любую тему, какую вы мне дадите.
Моцарт удивленно смотрел на него. Этот угловатый крепыш, кажется, готов расплакаться!
— Какую-нибудь тему, отрывок из какого-нибудь сочинения, — просил юноша, одержимый последней надеждой.
— Ну хорошо. — Композитор отступил и пропустил его к роялю. Задумался: если есть смысл продолжать испытание, не дать ли настойчивому пианисту совсем незнакомую тему? Может быть, вот это? Моцарт стоя проиграл несколько тактов из «Дон-Жуана».
Людвиг сел и стремительно проиграл данную ему тему.
— Так? — спросил он.
Моцарт кивнул и продолжал:
— Мне показалось, когда вы играли, что мое присутствие мешало. Я выйду в соседнюю комнату, к друзьям. Все они очень сведущие музыканты.
Двери оставались открытыми, и Людвиг был теперь один, наедине с инструментом. С его помощью он с детства умел выражать свои чувства лучше всего. Ему он вверял теперь свою судьбу.
Снова зазвучала мелодия из «Дон-Жуана». В то время от виртуоза требовалось умение на заданную мелодию сыграть вариации. Такие импровизации составляли обычно часть концертных программ. И сам Моцарт во время недавнего посещения Праги привел в безграничный восторг пражских ценителей музыки, когда по окончании своего концерта целых полчаса импровизировал. Юный Бетховен был уже хорошо известен в Бонне как исполнитель таких импровизаций. Но сейчас все прошлое бледнело в сравнении с задачей, стоявшей перед ним: обрести веру Моцарта в его дарование.
Музыкальные фразы под мягкими касаниями пальцев были причудливы, как гирлянды цветов, таких непохожих друг на друга. То будто птица пела о счастье, и вдруг завывала метель, потом кто-то радостно рассмеялся, и вот забили барабаны атаки, отозвалась героическая песня, а через мгновение ясно и безмятежно засвистела пастушья свирель… Боль и надежда, блаженство и мечта сияли, гасли, сплетаясь в чудесной импровизации, возникающей из нескольких моцартовских тактов!
Людвиг был так поглощен игрой, что не заметил, как все изменилось вокруг. Он не видел, как в дверях появилась хрупкая фигура композитора. Пораженный вдохновенными звуками, он подходил все ближе и ближе, а за ним выглядывали изумленные друзья.
Пять пар пытливых глаз были устремлены на взволнованное лицо Людвига. Откуда же взялась такая удивительная сила в этом юноше, с виду таком нескладном, провинциальном?
Он кончил, раскрасневшийся от безмерного напряжения, и, вздохнув полной грудью, поднялся со стула. Моцарт был уже рядом:
— Это было нечто другое, мой друг! Такой игры я давно не слышал. Благодарю вас!
Людвиг оглядывался в растерянности. За что Моцарт благодарит его? Вокруг уже звучал хор похвальных речей. Друзья композитора спешили поздравить с успехом молодого музыканта. Моцарт представил их. Но взволнованный пианист не расслышал их имен, только понял, что все они так или иначе связаны с театром — одни певцы, другие музыканты. Композитор положил на плечо Людвигу свою мягкую, белую руку:
— Друзья, обратите внимание на этого юношу. Когда-нибудь он заставит мир говорить о себе!
Людвиг слушал в счастливом молчании. Все его существо наполнилось покоем и радостью. Он добился своей цели. Моцарт уже не отвергает его. Его старый учитель был прав: «Ты сыграешь ему, и он поймет». А повеселевший маэстро еще раз потрепал его по плечу.
— Посидите с нами, — пригласил он.
Красивая кареглазая жена Моцарта принесла кофе. Все сидели вокруг стола, и юный Бетховен с ними, как равный с равными, безмолвный и счастливый. Моцарт обещал позаниматься с ним по мере возможности. Серьезные и регулярные занятия Моцарт, извинившись, откладывал до того времени, когда наконец закончит «Дон-Жуана». Он не хотел слышать о плате. Моцарт хорошо понимал, что боннскому музыканту с трудом достается каждый крейцер.
— Я буду заботиться о доне Людвиге, когда избавлюсь от дона Жуана, — говорил он. — Этот испанский авантюрист совершенно оседлал меня!
Это было поистине так. Когда ученик пришел в назначенное время, композитора не оказалось дома. Его срочно вызвали в театр. Прошла целая неделя, пока они наконец увиделись. Моцарт просил извинить его и, как бы желая вознаградить Людвига, после занятий долго и откровенно беседовал с ним.
— Я недостаточно уделяю вам внимания, я знаю. Но время, время! Если бы еще можно было не растрачивать его попусту!
Людвиг покраснел.
— О нет! Я не имею в виду вас, простите! Работать с вами было бы радостью для меня. Я говорю об уроках, которые я даю в семьях знати. Это не большое удовольствие, но как жить?
Людвиг уже заметил, что обстановка в доме Моцарта не соответствует его славе. Все было очень скромно, мебель дешевая и, как видно, куплена не новой. Он был очень удивлен, что прославленный музыкант добывает уроками жалкие гроши.
— Я думал, маэстро… — Бетховен запнулся.
— Что я, занимаясь музыкой, разбогател? Где там! Бедняки, которые насвистывают мои мелодии на улицах, не могут мне дать что-нибудь потому, что у них самих ничего нет. А богачи полагают, что я порхаю как мотылек и питаюсь славой. О, вы не представляете себе, до какой степени справедлива пословица: «Сытый голодного не разумеет». Когда я в юности ездил по Европе и давал концерты в княжеских дворцах, дарил мне иной монарх позолоченный крестик или часики, если монарх был пощедрее. Прекрасно. Если один крестик, одни часики — это ничего. А двое, трое, четверо? Когда я получил подобный подарок в пятый раз, я сказал, что попрошу пришить на брюках пять карманов, и из каждого будут выглядывать часы, чтобы никому больше не пришло в голову благодетельствовать меня подобным же подношением.
Людвиг неуверенно рассмеялся и возразил:
— Но теперь уже ваши сочинения должны давать вам средства…
— Должны были бы, но… имейте в виду, есть немало приверженцев старых порядков. У нас в музыке не менее ста лет господствовали итальянцы. Я пишу другую музыку. И в глазах многих это грех.
— Разве итальянские музыканты против вас? — спросил Людвиг.
— Скорее наши вельможи, которые хотят, чтобы со сцены звучали вечно эти надоевшие и бессодержательные итальянские оперы.
— Насколько я знаю, ваша «Свадьба Фигаро» все-таки понравилась?
— Да еще как! На первом представлении овации были такие, что занавес открывался не меньше двадцати раз, певцы тоже бисировали свои арии. Представление затянулось далеко за полночь. Но император, присутствовавший на этом представлении, приказал, чтобы впредь ничего подобного не повторялось. Это было недвусмысленное предупреждение обществу: не вздумайте опять рукоплескать Моцарту! И знаете, сколько раз играли «Свадьбу Фигаро»? Всего-навсего восемь. Потом запретили. А в Праге сразу после этого ее играли непрерывно всю зиму, почти ежедневно!
— Может быть, в Вене больше повезет «Дон-Жуану»? — сказал Людвиг.
— Нет, не думаю. Я надеюсь только на Прагу. Конечно, тамошний театр в сравнении с императорским мал и беден. Сколько они могут заплатить мне? Может быть, каких-нибудь сто дукатов, едва ли больше.
— За месяцы изнурительного труда? — изумился юноша.
— Деньги здесь платят не за труд, а за знатное происхождение. Больше всего их имеют те господа, которые дали себе единственный труд — родиться! Но простите, я ропщу на знать и не знаю, что вы думаете о ней…
Мысленному взору Людвига представился Бонн. Он рассказал композитору о жалком положении курфюрстовых музыкантов, о том, как ему, тогда четырнадцатилетнему подростку, назначили половину жалованья взрослого органиста с лукавым умыслом выжить таким способом бедного Нефе.
— Такое мне знакомо, — кивнул головой Моцарт. — Я тоже еще мальчиком служил органистом архиепископа в Зальцбурге. Но мне думается, что ваш повелитель был сущим ангелом в сравнении с сатаной, у которого служил я. Вы, наверное, слышали о Зальцбургском архиепископе Иерониме Колоредо. Он, конечно, из княжеского рода — разве может у нас стать архиепископом человек незнатного происхождения! Но лучше о нем не говорить.
Моцарт в самом деле замолк, и Людвиг не посмел докучать ему расспросами.
Когда юноша вернулся в свою скромную комнатку в предместье, он долго размышлял об увиденном и услышанном в этот день.
Значит, слава в самом деле приносит мало денег? Но если с таким трудом пробивает себе дорогу признанный миром Моцарт, то каково же будет ему, никому не известному, застенчивому, не имеющему друзей? И, в сущности говоря, разве это не бесстыдство, что он крадет время до крайности занятого композитора, как это было сегодня? Разве не следовало тебе, Людвиг, самому попросить отложить уроки на время, чтобы заниматься после пражской премьеры? Но что же тогда делать? Возвратиться обратно в Бонн? Ведь и в самом деле он мог бы до будущей весны спокойно заниматься под руководством Нефе. Но эти поездки стоят уйму денег! И ничего другого не остается, как перебиваться кое-как уроками и как можно меньше времени отнимать у маэстро.
А Моцарт, как ни старался, опять не мог выкроить время для него. История повторялась. Сначала его призывали какие-то служебные обязанности, а потом он усиленно возмещал потерянное Людвигом время, разбирая сочинения юноши и дружески беседуя с ним.
К удивлению молодого пианиста, Моцарт в своих беседах вновь вернулся к своему старому хозяину, архиепископу зальцбургскому.
— Я пережил такое унижение, что не могу забыть до сих пор! — рассказывал Моцарт. — Тяжело говорить об этом, но вы музыкант и всю жизнь будете связаны со знатью, иначе не проживете. Знайте же, как обращаются князья с художниками! Чтобы вы поняли, как безмерна была подлость архиепископа, когда он уволил меня, я вам должен напомнить, что мне тогда было уже двадцать четыре года и как пианист-виртуоз я уже проделал немало турне. Я, разумеется, был с детства артистом архиепископской капеллы, как и отец. Поехать куда-либо с концертом я мог только с разрешения архиепископа, и обычно это стоило мне многих унижений. К тому времени я уже написал несколько опер, ну и, скажу без ложной скромности, мое имя в Европе было хорошо известно. Однажды, когда архиепископ по каким-то обстоятельствам пребывал в Вене и привез с собой несколько музыкантов, в их числе был и я. Из гордыни взял меня с собой, чтобы всегда под рукой у него был собственный композитор! Меня помнили еще по моим детским выступлениям, и скоро я стал любимцем венцев. Не многим было известно, что тот, которому на концертах горячо рукоплескали и осыпали цветами, был всего-навсего жалким рабом князя-архиепископа, и тому доставляло удовольствие унизить его.
У князя было множество способов тиранить меня. Перед каждым концертом я должен был умолять его о разрешении выступить. Я был его подданным, его слугой, и он никогда не обращался ко мне на «вы». Он говорил мне «он», как привык говорить со своей челядью. За обедом я сидел за столом вместе со слугами. И в этом не было бы ничего дурного. Но во главе стола сидели два его любимых лакея! А мне вместе с поваром было отведено место в самом конце стола.
Я надеялся, что в столице благодаря концертам приобрету много друзей и это даст мне возможность уйти с княжеской службы. Я бы давно сделал это, если бы не боялся за отца. Когда архиепископ увидел, что моя популярность растет, он предписал мне возвратиться в Зальцбург. Я пытался уговорить его отменить свое решение… В конце концов поступил строгий приказ — выехать немедленно! Мне передал его с подобающей усмешкой архиепископский камердинер. Я никак не мог смириться. У меня в Вене было еще множество дел! Наконец заставил себя пойти к архиепископу, чтобы попытаться убедить его. Тяжкое это было объяснение… Злоба его была безгранична — в этом я убедился сразу, едва только вошел. Кричал он, как невменяемый, лицо его пожелтело, костлявыми пальцами он бешено стучал по столу.
«Ничтожество», «хулиган», «чучело» — вот были слова, которыми он встретил меня. Напрасно пытался я его успокоить. Он не давал мне вымолвить ни слова, укоряя меня в неблагодарности, лгал мне в глаза, будто мне платят по пятисот дукатов в год. Сколько живу на свете, никогда он не платил мне столько. Я уже думал, что он бросится на меня с кулаками. Наконец я решил кончить все это раз и навсегда.
«Ваше сиятельство, вы недовольны мною, в таком случае я буду просить, чтобы…» Я не успел договорить, что хочу быть уволенным со службы, как он в бешенстве закричал на меня:
«Что?! Ты грозишь мне? Ты, шут! Вон отсюда, с таким ничтожеством мне не о чем разговаривать!»
«Мне с вами тоже!» — сказал я, уже не владея собой.
«Вон, вон, негодяй!» — орал он на меня.
Я вышел. В дверях я обернулся и сказал ему:
«Завтра я подам письменное прошение об увольнении».
И действительно, на другой день я принес это прошение и небольшую сумму денег, выданную мне на обратный проезд. Меня принял граф Арко, надзиравший за дворцовой кухней. Он отказался взять мое прошение и деньги. Он, видите ли, не был уверен, в самом ли деле так сердит архиепископ, или, может быть, сменит гнев на милость.
Итак я ходил туда день за днем целый месяц, пока наконец Арко получил указание «послать этого бродягу к черту». Приказание это было выполнено буквально. Он осыпал меня бранью, которую услышишь разве только в конюшне. Я бросил свое прошение на стол и вышел. Граф ринулся за мной. Он догнал меня на лестнице и неожиданно изо всех сил пнул меня ногой. Я упал и покатился с лестницы, ударившись головой о входную дверь. Не помню, как я очутился на улице, как добрел до дома…
Людвиг широко раскрыл глаза. Невозможно было поверить…
— Маэстро, это так вас — вас, композитора, виртуоза…
Моцарт горестно усмехнулся:
— Да что вы, я обыкновенный человек…
Юному музыканту, оказавшемуся в Вене, чтобы по примеру Моцарта научиться добывать славу и благополучие, было о чем призадуматься. И опять он укорял себя за то, что отнимает время у хорошего человека, ведущего тяжелый бой против нелегкой своей судьбы. Не думал он тогда, что обстоятельства все равно скоро оторвут его от Моцарта.
А пока в нем крепли уважение и любовь к мужественному человеку, первому из музыкантов, кому удалось вырваться из числа придворных служителей и решиться жить как независимому художнику. Какое мужество надо иметь, чтобы отказаться от покровительства знати, грубой и необразованной и все-таки нет-нет да и дающей своим вассалам кусок хлеба. Он решил, что в самом деле попросит Моцарта отложить их занятия.
Дома его ждало письмо, положившее конец всем сомнениям. На конверте он увидел почерк отца, неровный, тревожный. Предчувствуя недоброе, Людвиг разорвал конверт.
«Не знаю, следует ли мне звать тебя домой. Мама тяжело больна. Силы ее убывают, хотя мы и делаем все, что в наших силах. Она кашляет кровью. И говорит только о тебе…» Так начиналось письмо. Удрученный Людвиг опустился на стул.
Мама! Мало любви он видел в детстве, но той, что выпала на его долю, одарила его мать. Пока он не обрел друзей в гостеприимном доме Брейнингов, она была единственной его утешительницей. А как необходима она была Каспару, Николаю и маленькой, недавно появившейся на свет Марии Маргарите!
Что будет с детьми, если болезнь убьет ее? Людвиг неподвижно смотрел в одну точку. В самом ли деле опасность так велика? Неужели возвращаться домой? А может быть, подождать следующего письма, новых известий?
Они не заставили себя ждать. Через два дня отец написал: «Возвращайся! Мама надеется еще увидеться с тобой». Людвиг долго плакал в своей одинокой каморке и решил ехать как можно скорее.
Он поспешил в дом Моцарта. Поблагодарил, простился, обещал вернуться, как только позволят обстоятельства. Маэстро и его жена сочувственно пожали ему руку.
На другое утро еще затемно он сел в почтовую карету, ехавшую вдоль Дуная. И двух месяцев он не пробыл в городе, о котором так долго мечтал! Надолго ли он покидает его? Может быть, навсегда? Он не думал об этом. Все его помыслы устремились туда, вдаль, к ожидавшей его матери.
В тупике
Людвиг прекрасно понимал, что ему давно бы следовало написать это письмо.
Уже почти два месяца прошло с тех пор, как он вернулся из Вены. Но разве не бывает в жизни человека времени, такого тяжелого, что из рук падает даже такое легкое орудие, как перо?
Он глубоко вздохнул. Наконец письмо закончено. Снова перечитывал его, но теперь уже только потому, что был весьма не уверен в правописании. Перечитывал, чтобы не оставить где-нибудь ошибку в орфографии или в пунктуации.
Бонн, 17 сентября 1787 г.
Благородный и особенно дорогой мне друг!
Должен сказать Вам, что с той минуты, как я покинул Аугсбург, меня совершенно покинуло счастье, а вместе с ним и здоровье. Чем больше я приближался к родному городу, тем чаще доставал письма отца, в которых он звал меня ехать как можно скорее, так как здоровье мамы непрерывно ухудшалось.
Я спешил изо всех сил, так болела у меня душа. Желание скорее увидеть маму давало мне силы преодолевать самые большие препятствия.
Я застал мою мать еще в живых, но в самом тяжком состоянии; она болела чахоткой и, наконец, умерла около семи недель тому назад после многих перенесенных болей и страданий. Она была мне такой доброй, милой матерью, моей лучшей подругой.
О! Кто был счастливее меня, пока я мог еще произносить сладостное имя — мать и оно было услышано! Кому я могу сказать его теперь?
С того времени, как я вернулся в Бонн, я не знал и часа покоя. До сего времени меня донимают боли в груди, и я боюсь, как бы у меня не оказалось чахотки. Ко всему этому меня мучает тоска (не меньше, чем болезнь).
Теперь Вы знаете мое положение и, надеюсь, великодушно извините мое долгое молчание.
Ваша бесконечная доброта и дружеские чувства, которые Вы проявили в отношении меня, одолжив мне в Аугсбурге три дуката, может быть, дают мне право просить Вас позволить еще некоторое время не возвращать денег? Поездка обошлась мне очень дорого.
Простите, что я отнимаю у Вас время своим рассказом, но я должен был сказать Вам все это.
Прошу Вас сохранить свое дружеское расположение ко мне, которое мне бесконечно дорого, и я ничего не желаю так горячо, как быть достойным его.
Остаюсь глубоко уважающим Вас
слугой и другом
Людвиг ван Бетховен,придворный органист.
Людвиг пробежал написанные строки и в первую очередь фразу об одолженных деньгах. Она прямо жгла его!
Когда в июле Людвиг спешно уезжал из Вены, он знал, что кошелек его тощ, и все же надеялся, что как-нибудь доедет. Но письма, ожидавшие его на почтовых станциях, заставляли юношу понуждать почтальонов ехать как можно быстрее, а иногда и нанимать карету для езды ночью. А все это стоило немало денег. И когда он добрался до Аугсбурга, кошелек его был совсем пуст.
К его счастью, в Линце у него появился новый попутчик — доктор Шаден. Хороший знаток музыки, он с интересом слушал рассказы Людвига о музыкальной жизни Бонна и Вены. Когда же узнал, что Людвиг был не только гостем прославленного Моцарта, но и учеником, его любопытство возросло. Почтовая карета медленно катилась по баварским холмам, оставляя путешествующим времени более чем достаточно для того, чтобы сдружиться. Доказательством были дукаты, предложенные доктором Шаденом молодому попутчику, который не имел представления, как будет добираться дальше.
Но денежные затруднения не были единственной неприятностью, свалившейся на голову Людвига после смерти матери. Всевозможные беды так и сыпались на него со всех сторон.
Отец после смерти жены совершенно утратил интерес ко всему; если он и раньше мало заботился о семье, теперь полностью отрешился от своих обязанностей.
Когда оставался дома, то блуждал по комнатам как тень, сам не свой. Но чаще всего он скитался по городу и в этих блужданиях делал множество остановок в пивных. Как видно, его болезненная жена была той единственной опорой, которая заставляла его держаться. Почти все знакомые теперь смотрели на Людвига, как на главу семьи. Ему еще и семнадцати лет не исполнилось, а на плечи его легли все заботы.
Николаю всего одиннадцать лет, он посещает школу, и кто-то должен следить за тем, чтобы он был одет, обут, умыт, накормлен. Это забота Людвига.
Каспар тоже бродит по дому как потерянный. У него есть склонность к музыке, но за рояль он садится только после приказания. Ему идет четырнадцатый год, уже пора найти ему свою дорогу.
И об этом должен подумать Людвиг.
А снизу, из квартиры Фишеров, доносится тоненький голосок сестренки. Ей нет еще и года, и она часто плачет. Она взывает тоже к Людвигу: позаботься обо мне! Жена пекаря из сострадания взяла ее к себе на некоторое время. Значит, нужно искать няню.
И кто-то должен заботиться о питании. И о белье и одежде, и об уборке квартиры…
Подумать также о том, как за все заплатить. И не забывать о том, что за тобой еще долг за похороны матери.
При этом надо служить в княжеском оркестре, а князь очень любит музыку, он хочет, чтобы она звучала с утра до ночи!
И еще сочиняй — ведь ты создан для этого, так предопределил Нефе.
А упражнения на фортепьяно! Именно они будут кормить тебя, когда ты вернешься в Вену. Если только ты вернешься туда… Запряженный в тяжелую семейную упряжку, сможешь ли ты высвободиться из нее?
И сидя над письмом доктору Шадену, не красней от стыда, Людвиг! Что значит этот долг в сравнении с долгами боннскими!
Читаешь ли ты, чтобы легче стало на душе, Гомера, как тебе советовал каноник Брейнинг? Он рассказывает о царе Лаокооне, задушенном вместе с двумя сыновьями двумя змеями. Два чудовища одолели трех человек. Тебя же душат сразу десять чудовищ. Но ты-то один!
В доме каждый взывает к нему, будто никого другого нет. На бывшем княжеском тенористе все поставили крест. Он не выходит из пивных. А сколько денег оставляет он в них!
А старший сын, после долгих часов игры на фортепиано ночью, кладет локти на крышку его и тихо шепчет: «Мама, мама!»
Отчаявшийся от непосильного труда, он понимает теперь, что всю эту уйму забот, которые свалились сейчас на его плечи, несла на своих плечах она. Кто замечал это? И такова уж человеческая судьба — только после смерти матери вдруг поняли, что она была бесконечно самоотверженным и мужественным человеком. О, почему он не целовал чаще ее руки!
Теперь он понимает, что только женщины способны справляться с этой нескончаемой каруселью, имя которой — домашнее хозяйство.
В доме появилась пожилая, но расторопная женщина, наполнившая его разговорами и наставлениями, что и как должно быть, но постепенно сумевшая привести в порядок все хозяйство. И колыбелька Марии Маргариты переселилась от Фишеров домой.
Но Людвига все время беспокоила страшная бледность девочки и какая-то особенная вялость. Приглашенный врач бессильно развел руками.
Однажды утром она перестала дышать. Был ноябрь. Все, что так пышно цвело летом, увядало. Угасла и девочка.
Отец и трое сыновей стояли у открытой могилы. Во второй раз за полгода! Как большие разноцветные слезы, падали с ветвей на землю последние осенние листья, смешиваясь со снежинками, посылаемыми небом.
Иоганн Бетховен плакал, горько и искренне. Но потом быстро вернулся к прежнему образу жизни.
У Каспара и Николая свои, новые заботы: сколько у них друзей, беготни, развлечений! Единственный, кто обязан заботиться обо всем, это Людвиг.
Однако он не замкнут один в темном чулане, как в детстве. Печали не удалось до конца одолеть его. Вскоре после похорон в комнате Людвига появился живший по соседству концертмейстер курфюрстового оркестра Рис, видный тридцатилетний мужчина, с лицом румяным и пышущим здоровьем. Некогда он учил игре на скрипке старшего из сыновей Иоганна Бетховена и теперь издалека постоянно следил за его судьбой. Людвиг поднялся из-за фортепьяно удивленный:
— Маэстро, как хорошо, что вы пришли к нам!
— Хотя и незваный, — рассмеялся скрипач.
— Мы теперь не приглашаем никого. Вы, конечно, понимаете…
— Вот потому я, собственно, и пришел. — Рис уселся в старом кресле и вгляделся в измученное лицо юноши. — Трудно быть главой семьи в семнадцать лет, не правда ли? — Рис добродушно рассмеялся.
— Главой семьи? Но у нас все-таки есть отец.
— Со мной ты в прятки не играй, Людвиг! Бережешь честь семьи, как можешь, я знаю. Но твой родитель в доме не хозяин. Скорее дело обстоит так, что у тебя на попечении не двое, а трое.
Кровь бросилась в лицо молодому Бетховену. Он не выносил намеков на недостойное поведение отца.
— Ну, с этим я как-нибудь справлюсь!
— Нет, не справишься. У тебя не хватает решимости задуматься над тем, что надо что-то делать с отцом!
— Делать с отцом?
— К сожалению. Часто бывает, что семья вынуждена укротить непокорного сына. У вас наоборот. Ты сядь, мальчик, я не хочу никого обижать. Я только вижу вещи, как они есть. Что отец продолжает пить, в Бонне ни для кого не секрет. Именно из-за этого вы живете в нужде. Ты на свой заработок семью не прокормишь.
Рис участливо наблюдал, как на лице Людвига отразилось глубокое огорчение. Решил действовать осторожнее.
— Я пришел сказать тебе две вещи, как твой бывший учитель. Ты так это и прими, как от учителя. Во-первых, — и Рис опустил руку в нагрудный карман своего синего фрака, — возьми у меня эти пятьдесят дукатов. Не отказывайся! Это не подарок. Ты мне их вернешь.
— Но когда?
— Тогда, когда они будут у тебя лишними. Через год или через десять лет. Об этом ты не думай.
Рис вынул из кожаного кошелька десять монет по пяти дукатов и не спеша положил их на стол.
Молодой глава семьи смотрел на деньги молча и озабоченно. Да, он очень нуждался в них. Но сомневался, вправе ли брать их.
— Убери это «богатство», — сказал Рис. — Если родитель учует их, непременно явится просить. Ну, с первой частью своей миссии я кончил. Вторая намного труднее. Еще раз выслушай меня и не горячись. — Он помолчал и потом произнес очень серьезно: — Думаю, что жалованье Иоганна Бетховена должно выплачиваться семье.
Брови мальчика поползли вверх. Как это надо понимать?
— Чтобы человек был главой семьи, он прежде всего должен ее содержать. Чтобы прокормить и одеть семью, нужны деньги. Ведь княжеская казна выплачивает твоему отцу деньги не для того, чтобы он тратил их только на себя, предполагается, что бо́льшая часть идет на семью. Однако похоже, что он забыл про это правило. И мы должны восстановить порядок. Попроси, чтобы жалованье отца выдавалось тебе, а ты будешь отдавать ему часть.
— Разве имеет право кто-нибудь поставить сына над отцом, учредить опеку? Будто он безумен или слабоумен!
— Но что же тебе остается делать, Людвиг? — Рис взял Людвига за руку и сердечно продолжал: — Мне тоже очень жаль, мальчик, но ты подумай о моем предложении. Посоветуйся с другими, ну хотя бы с Нефе. Никто не даст тебе лучшего совета. А если тебе понадобится моя помощь, приходи в любое время.
Он ушел, оставив Людвига охваченным мучительными мыслями. В самом деле, отец не способен быть главой семьи, и, может быть, необходимо ограничить его право распоряжаться деньгами?
Он страшился позора. Ведь в таком небольшом городе ничто не остается тайной. Кто-нибудь уж обязательно узнает, что тенорист Иоганн Бетховен лишен права распоряжаться своими средствами.
Он сел за стол, бессильно положил руки перед собой. Взглянул на портрет, висящий на стене прямо напротив. Из темной позолоченной рамы смотрел старый Людвиг ван Бетховен на удрученного внука, крестника и наследника его имени. Издавна в семье повелось обращаться к изображению его энергичного лица, как к домашнему божеству — заступнику. В день торжественных именин матери его портрет и кресло, стоящее под ним, украшали обычно гирляндами цветов.
«Как мне быть, дедушка? Ты всегда и во всем мог разобраться. Твоя рука была твердой, а в случае необходимости и суровой… Что мне нужно сделать, пока отец не лишил нас всего? Почему судьба посылает мне такие испытания?»
От мрачных мыслей его отвлекли только шаги в соседней комнате. Он знал их. Это пришел отец.
Тот вошел, неуверенно улыбаясь, как будто заранее просил извинения.
— Приходил Рис? Я видел, как он выходил от нас.
— Да, приходил.
Старший Бетховен, к удивлению, не спросил, зачем приходил посетитель. Он догадывался об этом. Он обошел вокруг стола, смущенно потирая руки. Остановился перед сыном — на лице сохранилось то же смущенное и виноватое выражение.
— Мне нужны деньги. У тебя есть?
Людвиг молчал.
— Ну есть, есть, я же знаю. У тебя деньги задерживаются лучше, чем у меня. Мне это не дано. Так одолжишь мне?
Людвиг поднялся. Плотный, плечистый, оперся о стол так, что сдвинул его с места.
— Нет! — сказал голосом глухим, неуверенным.
— Только один дукат! У меня есть кое-какой должок, я бы хотел уладить его.
— Нет.
Голос юноши теперь звучал увереннее. Людвиг смотрел на отца скорее просительно, чем гневно. Еще жило в нем чувство страха перед отцом, знакомое ему с детства. Побои, затрещины, ночные пробуждения, запирания на ключ…
«Если отец твердо прикажет, — раздумывал Людвиг, — я буду вынужден дать ему их. Иначе выйдет из себя. Да ведь я сам считаю каждый крейцер. Зима близится, нужно покупать дрова, теплую обувь для мальчиков. Никогда раньше не думал, что зимой жизнь дороже, чем летом. Я не должен давать ему деньги, но что делать, если он станет ругать меня, а то и руку поднимет?..»
— Ну нет так нет, — пробормотал наконец старший Бетховен смиренно, медленно отступая к двери.
Людвиг остался один, все еще опираясь о стол. Тяжело перевел дух, смутно понимая, что в эти минуты началась новая страница в жизни их семьи. Теперь только он, Людвиг, должен отвечать за семью. И было ему тяжко от этого сознания.
Но тут донесся странный, резкий звук из соседней комнаты — той самой, в которой неполных полгода назад угасла мать. Будто взвизгнул щенок. Этот звук знаком с детства. Так всегда бывало, когда открывался мамин платяной шкаф.
Кто там? Женщины, ведущей их хозяйство, быть не может, она говорила, что уходит за покупками.
Людвиг выбежал, бросился к двери соседней комнаты. Когда открыл дверь, увидел такое, чего уж никак не ждал. У открытого шкафа стоял испуганный отец. В руках он держал платье жены.
Оба молча смотрели друг на друга. Наконец Людвиг хрипло проговорил:
— Папа, что это значит?
Отец в смущении заморгал.
— Но, мальчик, не беречь же это вечно…
— Ведь это так, будто мама еще с нами! Отдайте!
— Учить умеешь, а одолжить отцу один дукат не хочешь!
— Разве дело в одном дукате? Ведь завтра ты пришел бы опять. А когда подумаю, куда пойдут эти деньги…
Отец быстро повесил в шкаф платье и забормотал:
— Все равно все это нужно куда-то… отдать. От этого меня только тоска берет. И для кого беречь женские платья? — Горечь, звучавшая в его голосе, была искренней.
Людвиг готов был уступить. Он пустил в ход последний аргумент:
— Мальчикам нужны зимние пальто.
— Но здесь всего много, — быстро проговорил отец и неуверенным шагом пошел к двери, будто боялся, что сын догонит его.
Людвиг подошел к шкафу и ласково провел пальцами по висевшей в шкафу одежде. Будто погладил мамино плечо. Он упал на колени, зарылся лицом в складки платьев и заплакал, проглатывая слезы…
Нет, он не должен поддаваться печали! Он мужчина и глава семьи — хочет он этого или нет. Он нужен братьям. Людвиг поднялся, еще раз приласкал взглядом разноцветную лесенку из платьев и пальто, многие из которых служили ей еще с девичьих лет, прикрыл дверцы шкафа и повернул ключ.
«Спрячь его, — говорило ему что-то. — Вытащи и спрячь! Отец не решится просить его у тебя!» Ох, это было бы еще хуже. Он сломал бы замок. Когда его одолевает эта отвратительная страсть к вину, он способен на все!
Людвиг отчаянно затряс головой, будто отбрасывая подозрение, в котором был убежден, и вышел из комнаты грустный и полный решимости.
А потом потянулись недели и месяцы, когда он должен был сражаться с тысячей препятствий. Труднее всего было со временем.
С деньгами в конце концов кое-как обошлось бы, думал он. Сотню дукатов, которые он отдал в прошлом месяце в погашение долга, в этом месяце он уже может оставить для дома. Вот со временем хуже. Оно уплывает, убегает, и никакими силами не вернешь ни одной секунды, ускользнувшей без пользы.
Людвиг учился единственной скупости, достойной похвалы: быть скрягой, когда дело идет о времени! И благодаря этому, при всех его обязанностях, находилась у него минутка, чтобы забежать в гостеприимный дом Брейнингов.
Друзей у Людвига в этом доме все прибавлялось; если раньше его знали здесь как удивительного музыканта, теперь смотрели и как на человека, достойного уважения, и старались помочь. По-матерински заботилась о его семье Елена Брейнинг. В один из дней она сказала Людвигу:
— Я нашла место для вашего брата Николая. Что бы вы сказали, если бы он стал учиться на фармацевта?
Он с благодарностью принял это предложение и уже на следующий день отправился с братом в аптеку у рынка. Аптекарь взглянул на подростка, невысокого, но ловкого, решил, что берет его, но все же сказал невыносимо горькие для Людвига слова:
— Только бы не пошел в отца! Ручаетесь за него?
Людвиг вспыхнул, кивнул головой.
Время шло. Прошел год, начался другой, близилось девятнадцатилетие Людвига. Самые большие трудности постепенно преодолевались, все как-то устраивалось, и только Иоганн Бетховен опускался все больше и больше, несмотря на все старания старшего сына.
Преданный Нефе помог устроить Каспара в княжеский оркестр. Он порядочно играл на скрипке, еще лучше на фортепьяно и хотя не имел волшебных рук старшего брата и многого добивался только терпением, все же был на хорошем счету.
— Все худшее позади, — радостно говорил Нефе, когда они возвращались одним весенним вечером из курфюрстового дворца. — Каспар скоро уже будет содержать себя сам, Николай в хороших руках и когда-нибудь, бог даст, будет состоятельным аптекарем. Осталось только сделать то, о чем говорил тебе Рис.
Не впервые он обращался к тому, о чем говорил скрипач.
— Это о том, чтобы половину отцовского жалованья отдавали семье? — испугался Людвиг.
— Конечно! Ты этого не хочешь, но это нужно, чтобы поддержать Каспара и Николая, чтобы содержать дом! Разве отец с вами не живет, не спит, не питается?
— Но я теперь могу давать больше денег!
— Нет, не можешь! — парировал Нефе. — Ты должен беречь деньги на поездку в Вену. А что касается отца, то я прибавлю к совету Риса еще одно: попроси курфюрста, чтобы он запретил ему пребывание в Бонне. Пусть поселится в какой-нибудь деревне, где нет пивной.
— Маэстро, — возразил огорченный Людвиг, — хотя он и пьет, он остается моим отцом. Я люблю его, несмотря на все его ошибки.
— Именно потому, что ты любишь его, ты и должен сделать так, чтобы он перестал пить. Иначе разве сможешь ты поехать в Вену? Я устрою тебе место в театральном оркестре. Оркестр будет, конечно, обновлен, и у тебя будет два жалованья — органиста княжеского двора и скрипача в театральном оркестре. Ты знаешь, у князя и зимой снега не выпросишь, а для тебя два, хотя и мизерных, жалованья все же лучше, чем одно, не правда ли? Год проработаешь, скопишь немного денег и снова вперед, в Вену! Опять к Моцарту!
Охваченный ликованием, Нефе потрепал Людвига по плечу.
Он не замечал, что молодой музыкант совсем не так охотно соглашается с ним, как можно было ожидать, и, вместо того чтобы радоваться, был заметно смущен.
Мечты о море и путь вдоль Рейна
Людвиг сидел у рояля, но не играл. Вместо нот он пристроил на пюпитре толстый том «Одиссеи» Гомера и читал нараспев. Музыкальность Гомеровых песен ласкала его тонкий слух. Он часто запинался и начинал строку снова. Читал он по-гречески, но многих слов еще не знал. Каноник Брейнинг сумел зажечь в нем такую любовь к древним, что, несмотря на постоянный недостаток времени, он старался найти хотя бы полчаса в день для чтения поэм Гомера.
Однако Людвиг упивался не только звучностью умершего языка. Читая о странствиях Одиссея, он видел перед собой корабль, скользящий по водяной глади с развернутыми парусами.
Если бы можно было унестись на волнах от нужды и угнетения! Он закрыл глаза, мысленно рисуя тенистый остров, представший взору Одиссея. Вот бы оказаться в таком убежище!
Но не одному, а с девушкой, сияющие глаза которой были каштанового цвета, с девушкой, каждое слово которой звучит еще прекраснее, чем песни Гомера. С той, которая способна увлеченно говорить о стихах и может слушать серьезную речь об идеалах человечества, может быть резвой по-детски, когда молодежь надумает играть ну хотя бы в жмурки. Но кто знает, захочет ли она сесть с ним на этот корабль? Ведь Людвиг совсем не красив, где уж ему до Одиссея! Девятнадцатилетний юноша смугл и мрачен, к тому же сильно похудел после перенесенного тифа. Да если бы только это! Он никогда-то не любил зеркал, а теперь просто боится их. На лице его остались следы оспы, перенесенной сразу вслед за тифом. Постепенно они бледнеют, но все же останутся навсегда.
Нет, Людвиг Бетховен, оставь надежды! Твое сердце, быть может, самое чистое, самое пламенное, самое благородное, но кого это интересует, если у тебя такое лицо?
Людвиг склонил голову, и его пальцы машинально побежали по клавишам. Но вдруг оборвал начатую мелодию и поспешно начал перебирать кипу нот, лежавшую на рояле.
Вот в его руках очутился лист пожелтевшей бумаги. На нем изображены два дерева, их ветви склонившись друг к другу, образовали некий венок. В центре его виднелось море, а над ним легкие облака. Над волнами кружилась ласточка. В середине изображения была громоздкая надпись:[2]
Людвиг взволнованно прочитал неуклюжую фразу, не замечая, что его французский язык хромает. «Будьте так же счастливы, как любимы». Хорошо ли это сказано? Что это — признание в любви? И да и нет! Она любима. Но кем? Мною? Всеми?
Кто любит, тот легко угадает тайну чужого сердца. Если, конечно, хочет угадать. Он не уверен, захочет ли?
Он с нежностью вглядывался в листок бумаги, в рисунок, дышавший больше чувством, чем умением. Людвиг приготовил его давно, но не имеет представления, когда отважится вручить. Снова положил его среди нот и, как всегда, доверил печаль своего сердца роялю. Он играл удивительную фантазию, пронизанную болью и надеждой, сочинение, которое в эти минуты волнения рождалось и сразу же умирало.
Он не умел жить иначе как охваченным горением. А песня звенела до тех пор, пока в дверь не постучала чья-то рука. Раньше всего в дверях появился острый нос Нефе, потом его энергический подбородок и наконец вся голова, украшенная косой и бантом.
— Иду от соседей, — объяснил он Людвигу. — Кое о чем с Рисом посоветовались.
Людвиг радостно приветствовал учителя. Только немного испугался, что тот сумел понять кое-что из его исповеди, доверенной клавишам. Но у Нефе был такой вид, будто он не слышал ни единого такта. Только заговорил он несколько поспешно:
— Пришел посмотреть, как твой фортепьянный концерт подвигается!
Недавно молодой композитор начал новое сочинение. Для него уже давно не составляло труда написать фортепьянную партию, но теперь он должен был для фортепьянного соло написать оркестровое сопровождение. Дело очень сложное!
Они начали разбирать концерт по частям, проигрывали его на скрипке и на рояле, горячо спорили, но вот часы на городской башне пробили полдень.
Нефе вздрогнул:
— Мне пора домой, мальчик!
Он собрал вещи, взял шляпу и свои ноты, все время поглядывая в окно. И вдруг задержался. Будто что-то заметил снаружи.
На лавочке, прислоненной к стене дровяного сарая, полусидя спал Иоганн Бетховен, подняв голову вверх, полуоткрыв рот. Нефе нахмурился.
— Что это с отцом? — кивнул он в сторону Иоганна Бетховена.
— Дремлет на солнце.
— Это я вижу, — сердито ответил органист. — Ио что значат эти узоры на лице?
Людвиг вспыхнул:
— Это царапины. Это он шел домой ночью, нечаянно споткнулся, упал…
— «Нечаянно»… — с сарказмом произнес органист. — Похоже, будто ему драли лоб и лицо железной щеткой. А ты как ни в чем не бывало!
— Я? А что я могу?
Нефе отошел от окна и остановился прямо напротив Людвига.
— Ты торчишь в Бонне потому, что боишься оставить семью на произвол пьяницы!
Людвиг в замешательстве молчал. Органист неумолимо продолжал:
— Ты, конечно, знаешь, что отца отправляют на пенсию. Как же иначе можно с ним поступить? Это значит, что ему оставят не больше двухсот дукатов в год. И ничего больше. Вы с Каспаром уже ничего от него не получаете. А ему и Николаю этого хватит на прожитие, если он бросит пить. А чтобы покончить с этим, он должен покинуть Бонн, пока где-нибудь ночью не изобьют до смерти или не свалится в Рейн.
— Сколько я говорил с ним, просил… — глухо произнес Людвиг.
— А что от этого толку? И из-за него ты оставил мысль о поездке в Вену, к Моцарту!
Людвиг сверкнул глазами:
— Нет, не оставил! Я поеду в Вену, как только смогу!
— Но ты не сможешь покуда будет вот такое. — Нефе снова кивнул в сторону двора. — После обеда приходи к нам. Напишем просьбу.
— Нет, нет, — испугался Людвиг.
— Когда-то это должно произойти! Ты топчешься на месте, тебе только кажется, что ты идешь вперед. Ты что, решил навеки оставаться слугой его светлости? Я жду тебя к пяти часам. А если не придешь, можешь навсегда забыть дорогу в мой дом!
Нефе надел шляпу и вышел не простившись.
В конце дня Людвиг сидел за столом в комнате Нефе и беспокойно вертел в руках перо. Перед ним лежал чистый лист бумаги. А маэстро шагал по комнате молча, разгневанный. Этот упрямец отказывается до последней минуты!
— Пиши, что я тебе буду диктовать, дома перепишешь начисто.
Он снова прошелся по комнате и начал диктовать:
— «Его высокородному Высочеству, наидостойнейшему архиепископу…» Тьфу!
— Этотоже писать? — прозвучало насмешливо.
— Пожалуй! — крикнул Нефе. — Не могу представить, как может разумный человек терпеть такую отвратительную лесть! Пиши дальше: «… наидостойнейшему архиепископу и курфюрсту святой Римской империи, нашему наимилостивейшему духовному отцу и владетелю…» Тьфу, трижды тьфу! Как я ненавижу всякую лесть! Да еще если человек, наползавшись на брюхе, получает в результате ответ: «В вашей просьбе отказано»!
— Зачем же мы тогда пишем?
— Затем, что твою просьбу курфюрст не отвергнет. Последний лакей в княжеском дворе понимает, что она серьезна и разумна. Так продолжаем: «…Преданный придворный музыкант Вашего княжеского Высочества Людвиг ван Бетховен позволяет себе покорнейше просить…»
Перо скрипело. Пишущий все вздыхал. И когда дошли до просьбы, чтобы, помимо выплаты семье половины сохраненного Иоганну Бетховену жалованья, дать ему указание о том, чтобы он выехал для проживания в окрестности Бонна, Людвиг поставил перо в чернильницу и закрыл лицо руками:
— Маэстро, я не могу!
— А я могу, — твердо произнес Нефе, схватил перо и быстро вписал роковые строки. — Вечером все это перепишешь как можно красивее, а завтра передашь в канцелярию!..
Дома Людвиг пережил еще тяжелые мгновения, обсуждая все это с отцом. Он считал нечестным так поступать с ним. Прошение к курфюрсту не стал показывать, но рассказал о его содержании. Опустившийся княжеский тенорист смотрел на сына непонимающе, как будто его мозг от непрестанного пьянства окончательно иссох.
— Но ты этого все-таки не сделаешь, — вяло протестовал он, но в конце концов смирился и, заикаясь, повторял: — Как знаешь, Людвиг, как знаешь! — Он был даже доволен, что по крайней мере половина жалованья будет полностью в его распоряжении и он окончательно освободится от забот о семье, которыми и без того не утруждал себя.
Просьба была передана в княжескую канцелярию, но там застряла в столе какого-то чиновника.
— Сейчас много забот с восстановлением театра, — отвечали Людвигу. — О жалованье музыкантов будем думать осенью. Тогда уж всё за одно…
Когда Людвиг сообщил Нефе о результатах разговора во дворце, тот испытующе взглянул на него: не кроется ли за этими словами чувство облегчения?
— Но хотя бы весной ты сможешь поехать в Вену? Как ты думаешь?
Людвиг слегка покраснел, в глазах его мелькнула улыбка.
— Может быть. Но прежде я хочу записаться в университет. Со своим нынешним образованием я не блистал бы среди венцев.
Взгляд горбатого органиста не был на этот раз таким же испытующим, но в нем все же виделась подозрительность. Не нагромождает ли всё новые препятствия перед собой его упрямый ученик, чтобы оттянуть отъезд из родного города?
— Это неплохо, — сказал он, однако, снисходительно. — Музыкант должен иметь основательное общее образование. Иначе может случиться, что из него вырастет существо с чувствительными ушами, только и всего. Но чувствительными ушами и осел обладает. Меня только удивляет внезапность твоего решения. Как-никак университет в Бонне существует третий год!
— Я теперь сижу за одним пультом вместе с новым альтистом, чехом Рейхой, — объяснил Людвиг. — И вижу, что он гораздо образованнее меня. Мы вместе с ним запишемся на философский факультет.
— Этот Рейха хороший парень, но как музыканту ему с тобой не сравняться никогда, если ты будешь много работать. Ну и, конечно, тебе нужна Вена! И ничего иного!
И он вперил проницательный взгляд своих быстрых очей в смущенное лицо Людвига.
— Я не тороплюсь в Вену еще по одной причине, — ответил он учителю.
— Это тайна?
— Нет. Я боюсь, что меня постигнет судьба Моцарта.
— Судьба Моцарта? Но ей ты мог бы разве только завидовать! За исключением старого Гайдна, в Европе нет музыканта более прославленного.
— И, несмотря на это, он летел вниз головой с лестницы архиепископского дворца. Наш курфюрст далеко не ангел, но он не позволяет себе и не позволит другим пинать ногами своих музыкантов!
— Ах, вот оно что, — протяжно и едко молвил Нефе. — Юноша хочет оставаться запеленатым в боннских пеленках, а свое будущее готов отдать за поглаживание по головке. Это верно, у нас людей пинками не поддают. Зато у нас могут замуровать человека в канцелярских бумагах. Не забыл ли ты, как со мной обошлись, когда у нас новый Макс сменил старого?
Людвиг опустил глаза, а негодующий капельмейстер язвительно вопросил:
— Так ты теперь о Вене уже не помышляешь?
— Конечно, помышляю. Я непременно поеду! Но мне кажется, что близятся перемены и скоро нам всем будет легче дышаться.
— Что означает — нам всем? — раздраженно спросил Нефе.
— Что-то огромное готовится во Франции и отзовется у нас. Всем это ясно, маэстро. Король запутался в долгах. Чтобы найти выход, созвал Национальное собрание. Но третье сословие отказывается и пальцем пошевельнуть до тех пор, пока не будет провозглашено сословное равенство.
— Равенство между дворянином и простым человеком? — горько рассмеялся Нефе. — Ты, стало быть, решил дожидаться, пока поумнеют короли? В таком ожидании прошли тысячелетия!
— Теперь иные времена. Народ рвется к свободе. Американцы уже завоевали ее! Теперь черед Франции. Потом дело за нами.
Нефе махнул рукой:
— Вы, молодые, верите в возможность скорых перемен, в революцию. Но я наблюдаю мир на четверть века дольше, чем ты! Если и приходилось видеть какое-нибудь движение к лучшему, то чрезвычайно медленное. Но… как знаешь. — Он пожал плечами и простился, полный горькой уверенности, что его молодого друга удерживает в Бонне какая-то тайна.
…Что-то привязывает его к этому городу. С каким пылом буквально летел он в Вену два года назад! А теперь? Семейные трудности уладились, так он придумал теперь, будто его удерживает здесь недостаток образования. А если я соглашусь, что ему необходимо пополнить его, не замедлит придумать еще что-нибудь. Он будет ждать революции в Париже! Подожди! Земля не вертится с такой быстротой, как хотелось бы некоторым молодым головам. Но если бы в Париже князья и стали целоваться с нищими, он бы придумал еще какое-нибудь препятствие. Какая-то тут есть загвоздка! Но какая? Этого-то капельмейстер и не знал.
Не смог он предвидеть и той бури, которая разыгралась во Франции через несколько недель и потрясла всю Европу.
По случайному стечению обстоятельств «камерный музыкант» Людвиг Бетховен находился в княжеском дворце, когда пришла первая весть из Франции.
В этот июльский день у курфюрста были гости. Под вечер они пребывали в саду, где их овевал свежий ветер с Рейна. За ужин уселись в зале.
Сбоку от пиршественного стола разместились четверо музыкантов, одетых в соответствии с дворцовыми предписаниями. И Людвиг вынужден был облачиться в ненавистный зеленый фрак. В завитом парике, как полагалось по приказу, с косой и бантом, с мрачным лицом он исполнял свою альтовую партию.
Он всегда чувствовал себя оскорбленным, когда должен был играть, в то время как господа в блеске целой сотни свечей не очень-то слушали музыку, предаваясь чревоугодию.
Вдруг появился камердинер во фраке с фалдами и почтительно подал князю на серебряном подносе письмо с большой сургучной печатью.
Письмо в разгар вечернего пиршества! Кто и почему осмелился оторвать курфюрста от любимого занятия?
За столом затихли, все не спускали глаз с архиепископа, молча читавшего послание. Музыканты не осмеливались прекратить игру без приказания, но никто не мог запретить им следить за выражением его лица. Курфюрст дочитал и что-то шепнул молодому Вальдштейну. Тог поднялся, тихо отдал какое-то приказание старшему лакею, потом подошел к музыкантам:
— Можете быть свободны. Концерт окончен. Поторопитесь!
Приказ был неожиданным. Они быстро исчезли со своими инструментами, и скоро здесь не осталось ни одного из многочисленных слуг.
Господа хотели остаться одни. Необходимо было оценить поразительные новости, доставленные гонцом из Парижа. Однако музыкантам все стало известно, прежде чем они покинули дворец. В кухне они увидели измученного, с запавшими глазами гонца. Он жадно ел и пил, но, как истый француз, не скупился на слова. Поэтому прежде, чем его позвали к господам, чтобы он рассказал им о том, что он видел воочию, обо всем были осведомлены во всех подробностях повара, камердинеры, лакеи и музыканты.
Известия были поразительные. Четырнадцатого июля парижский люд поднялся и бросился к арсеналам. Были взломаны склады, где хранились ружья, порох, ядра.
Король послал против них войска. Но они отказались стрелять и приветствовали восставших криками: «Да здравствует народ!»
Восставшие устремились в королевскую тюрьму Бастилию. Они ворвались туда, перебив приверженцев короля. Коменданту тюрьмы маркизу де Лонэ отрубили голову и вздели ее на копье. Голова старшины парижских купцов тоже попала на острие пики.
Гонец рассказывал всё новые подробности о бегущей из Парижа аристократии, о рыдающей королеве и охваченном ужасом короле, который был разбужен штурмом Бастилии.
— Это бунт! — будто бы вскричал он возмущенно.
Но дворянин, принесший ему эту страшную весть, ответил:
— Нет, ваше величество! Это революция!
— Ре-во-лю-ция, ре-во-лю-ция! — несся этой ночью по улицам Бонна суровый и могучий клич. Конечно, в курфюрстовой столице не отважились на сколько-нибудь решительное выступление, но восторг горожан и простого люда был явным.
Когда на другой день Людвиг пришел в университетские аудитории, он не узнал их — обычно тихие, отданные наукам. Возбужденные голоса неслись к потолку темного дерева. Молодежь группками горячо обсуждала последние новости. Потом появился молодой профессор Шнейдер, поэт и прославленный оратор, и прочитал полные огня стихи о революции, сочиненные этой ночью. Молодая аудитория отозвалась на них долго не смолкавшими криками восторга.
Не только боннские студенты, но вся молодая Европа с энтузиазмом произносила три пламенных слова, украсившие знамена Франции: «Свобода», «Равенство» и «Братство».
В последующие недели и месяцы доносились новости всё более удивительные. Революция из Парижа шагнула в провинцию.
В городах изгонялись королевские чиновники, и их место занимали люди, избранные народом. Крестьяне нападали на замки и сжигали акты, закреплявшие барщину, подати, налоги.
Национальное собрание приняло закон о том, что вся власть принадлежит народу и все равны перед законом. А когда король вздумал противиться, парижане явились в Версальский дворец и потребовали, чтобы он безвыездно оставался в Париже под вооруженной охраной.
В Бонне стали появляться роскошно одетые чужеземцы — это были бежавшие из Парижа от справедливого возмездия аристократы с детьми и прислугой.
Эмигранты угрожали новому правительству и подстрекали властителей соседних государств послать войска для подавления революции.
Французский народ, невзирая на злобные крики беглой знати, вводил новые порядки. Казалось, что король смирился. Водрузив на голове красный фригийский колпак, он приветствовал народ с балкона дворца. Он, конечно, делал это стиснув зубы.
Казалось, что революционная буря затихает, правитель поумнел, и останутся только драгоценные завоевания ее — гражданское равенство и свобода.
По прошествии года Париж торжественно отмечал первую годовщину взятия Бастилии на вид вполне миролюбиво. На гигантском Марсовом поле двумястами священников был отслужен благодарственный молебен, после чего все — народ, войска и король с королевой — принесли присягу верности новой конституции.
Тем, кто наблюдал за всеми этими событиями из-за Рейна, могло показаться, что раздоры окончены и свобода воцарилась навечно.
И тогда Нефе возобновил свои атаки на молодого Бетховена, как всегда с некоторой долей добродушной насмешки:
— Счастливец ты, мальчик! Твои три желания исполнились, как в сказке. Французы по твоему высочайшему приказу совершили революцию, и теперь никакая графская нога не осмелится пнуть музыканта в спину даже в Вене. И с отцом все теперь как будто уладилось. Ты, правда, приказ князя не выполнил, и папаша твой дома пребывает. Ну, это твое дело. Что касается третьего твоего желания — пополнить образование в университете, то, вероятно, это удалось тебе как нельзя лучше, так что в этом году ты даже не записался на философский факультет. — На лице капельмейстера мелькнула улыбка, но Людвиг нахмурился:
— Маэстро, вы напрасно упрекаете меня. Минуты свободной нет! Не так просто заниматься сочинением, упражняться, играть в концертах да еще быть отцом для двоих братьев и для собственного отца… Не записался на факультет потому, что все равно не смог бы посещать лекции. Но я читаю, учусь дома, а Элеонора Брейнинг помогает мне в изучении немецкой литературы.
— Ну, не обижайся, — успокоил его Нефе. — Я и раньше понимал, что для учения в университете у тебя времени доставать не будет. Но все твои другие желания, однако, исполнились. Когда же ты все-таки поедешь в Вену?
Он задал этот вопрос так внезапно, что Людвиг не успел подготовить осторожный и обдуманный ответ. И выпалил неожиданно для себя:
— Но есть еще одна важная вещь!
— Гм, гм, — кивнул головой Нефе, — что же это за вещь такая?
Людвиг молчал, покрасневший и взволнованный. Маэстро прищурил свои лукавые глаза и как ни в чем не бывало спросил:
— Покажи-ка мне, как ты исправил партию фагота в своем концерте. — И больше уже ни о чем не спрашивал.
Зато через несколько дней Елена Брейнинг спросила свою семнадцатилетнюю дочь:
— Тебе не кажется, что твои занятия немецкой литературой отнимают у Людвига слишком много времени?
Дочь пытливо взглянула в лицо матери своими удивительными карими глазами, но сразу склонила голову, так что все локоны ее высокой прически качнулись.
— Я его долго не задерживаю. Он сам всегда говорит, что любит быть у нас, — добавила она смущенно, — и будто эти часы проходят удивительно быстро, быстрее, чем другие.
— И ничего другого он не говорил тебе?
— Я не понимаю, что ты имеешь в виду, мама.
— Ну, не говорил, например, что он любит тебя?
— Этого он не говорил.
— Впрочем, это видно бывает и без слов. А что же ты? Любишь его?
— Ну конечно. Очень люблю.
— А Франца Вегелера?
— Его я тоже люблю.
— Ничего не понимаю! — всплеснула руками госпожа Брейнинг. — Не могла бы ты мне объяснить толком, как это тебе удается любить их обоих и одинакова ли эта любовь?
Дочь некоторое время тихо повертывала колечко на белом пальчике. Потом произнесла с легкой и немного грустной улыбкой:
— Я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь объяснил мне это.
Если так не уверена была в своем сердце Элеонора Брейнинг, каково было Людвигу? Вегелер, проучившись два года в Вене, вернулся в Бонн осенью 1789 года дипломированным врачом. Ему уже шел двадцать пятый год, и он получил предложение занять должность преподавателя в университете. Пребывание за границей отшлифовало манеры, докторское звание давало уверенность в себе.
Врачебная практика научила его тому, чего никогда не умел Бетховен, — выдержке в общении с людьми. В течение двух лет учения в Вене он прилежно переписывался с Элеонорой и был обеспокоен тем, что она за это время сдружилась с Людвигом. Некоторое время он пристально наблюдал за ними и когда убедился, что девичье сердце спокойно, начал терпеливо бороться за свою любовь.
У Людвига никогда недоставало храбрости прямо спросить девушку о ее отношении к нему. Каждый раз, когда он отправлялся к Брейнингам полный решимости, будто кто-то брал его за плечо и сурово шептал: «Ты неухоженный, нищий, плохо одетый княжеский слуга. Можешь ли ты соперничать с университетским профессором?»
И когда он отважился все-таки войти в их дом, то умел рассказать девушке о своих чувствах только в бурных аккордах.
— Вы поняли меня, Лорхен? — спросил он однажды, после того как целых полчаса изливал свою душу клавишам.
— Может быть, да; может быть, нет, — отвечала она смущенно, чего раньше он никогда за ней не замечал. — Музыка всегда полна прекрасных тайн. Она заставляет трепетать сердце, волнует душу, но ее речь невозможно передать человеческими словами. Как же я могу сказать, как и что я поняла!
Людвиг в отчаянии опустил руки и сказал, глядя на клавиши:
— Мне кажется, что вам приятнее, когда рядом бывает Франц, а не я.
— Но почему же вы думаете, что я не могу одинаково любить общество ваше и Франца?
— Нет, — сурово возразил он. — Вы видите различие между нами!
— Разумеется, различие есть, — отозвался девичий голосок. — Я бы сказала так. Если бы я хотела вести ожесточенную борьбу со светом, я бы прибегла к вашей помощи, потому что в вас есть большая неукротимая сила. Но если бы мир и в самом деле начал рушиться, я бы укрылась под защиту Франца. В нем есть какая-то спокойная уверенность.
Он шел домой, сраженный ее словами.
Да, в нем есть спокойствие, во мне вечная буря. Это, конечно, так. Да, так! Но как я могу быть ровным и спокойным, если меня травит, как зайца, целый сонм охотников. Бедность, забота о братьях и об отце, который падает все ниже и ниже, унижения, прислуживание в замке, утомительные частные уроки для заработка, заботы о питании, платье, белье, топливе — все это для целой семьи… и сколько еще этих «охотников», хватающих его за пятки!
Теперь неделями он упорно сидел дома и работал, не показываясь в доме Брейнингов. И только спустя некоторое время снова появился, наполовину смирившийся со своим поражением. Правда, он еще не совсем утратил надежду. Может быть, расположения девушки он лишился не безвозвратно? Эту надежду непроизвольно пробудил в нем Вегелер, который, ей-богу, совсем не казался счастливым влюбленным!
Не желая того, и сама Элеонора дала повод для надежды.
К своему двадцатилетию Людвиг получил от нее письмо, над которым долго сидел в раздумье. В центре венка из засушенных листьев и цветов было старательно выведено:
Ваш друг и ученица Элеонора Брейнинг.
- Желаю Вам жизни счастливой и долгой,
- Но нечто хочу пожелать и себе.
- Чтоб к Вам я, всегда обращаясь с почтеньем,
- Приветливость Вашу снискала в ответ.[3]
Стихи эти несомненно были делом рук старшего брата Элеоноры — Кристофа, любившего слыть поэтом. Однако Людвигу это в голову не пришло. Он замечтался над милыми строками девичьего письма, ища в них хотя бы маленькую надежду на счастье. Однако скоро он убедился в своем заблуждении.
Когда однажды весной он прибежал к Брейнингам, охваченный радостью, Элеоноры не оказалось дома.
— Она пошла немного погулять с Францем, — спокойно сказала Елена Брейнинг. — Такой хороший день. Вы найдете их на рейнском валу.
Вид у Людвига был несчастный и сердитый.
— Не буду искать, не буду им мешать.
— Не принимайте так близко к сердцу то, что приносит жизнь. В мире каждому уготовано достаточно радости, только не всем в одно время.
Слова, которые должны были утешить, только ранили. Счастье в другое время и в другом месте? Ему оно не нужно.
Людвиг редко стал бывать в доме Брейнингов. Он погрузился в работу, а на укоры отвечал, что у него совсем нет времени. Зато он стал чаще поговаривать о Вене и о Моцарте.
По дороге в Лондон в Бонне ненадолго задержался маститый композитор Гайдн. Он прослушал некоторые сочинения Людвига и похвалил их.
А Нефе опять твердил о Вене:
— Сейчас для тебя в Вене есть уже двое наставников. И лучше их в мире нет!
Но Людвиг все не мог решиться. Он наивно надеялся, что сердце, умеющее так искренне любить, не может быть закрыто навсегда. Однако уезжал из Бонна с удовольствием, когда курфюрст предпринимал какое-нибудь путешествие, в которое брал с собой лучших музыкантов.
А Максимилиану Францу, брату французской королевы, было о чем поговорить без свидетелей с соседними монархами. В Париже обстановка опять стала тревожной. Виновником этого был сам король, ведший тайные переговоры с правителями соседних немецких государств, побуждая их к нападению на свою страну. Иноземные войска должны были снова обратить народ в рабство. Когда его измена была раскрыта, он попытался бежать к немецкой границе, но был узнан и посажен вместе с королевой в тюрьму.
Судьба сестры и зятя угрожала благополучию боннского архиепископа. Немецкие князья тоже уже опасались за свои троны и постепенно готовили свои войска для покорения революционной Франции. Так что поводов для путешествий у Максимилиана Франца было достаточно.
Одно из таких княжеских путешествий имело решающее значение для Людвига. В начале осени 1791 года князь отправился вместе со всем двором, двадцатью музыкантами и театральной труппой в отдаленный городок Мергентхейм. В старинном замке немецких рыцарей должны были встретиться члены некогда боевого и могучего рыцарского ордена, магистром которого был архиепископ.
Они погрузились на два парусных судна, которые медленно двинулись по Рейну. Людвиг с удовольствием любовался изменчивым прибрежным пейзажем. Озаренный осенним солнцем родной край радовал его взор. Над зелеными лугами поднимались склоны, по которым ступенями расстилались виноградники. Виноградные ветви пламенели багрянцем и золотом близящейся осени, расстилаясь по косогорам ковром сияющих красок. Казалось, что воздух напоен пьянящим ароматом дозревающего винограда.
Иногда из-за прибрежных холмов возникала голая скала, увенчанная древним замком или таинственными развалинами. В синем зеркале Рейна отражались старинные города и тихие селения, окруженные садами. Бесчисленные яблони в садах склоняли до земли свои ветви под тяжестью плодов.
Княжеские суда доплыли по Рейну до Майнца, а потом пошли против течения по Майну, в край, сплошь покрытый горами. Было много остановок — для отдыха, для ночлега и просто, чтобы повеселиться.
Музыканты с особенной радостью ожидали прибытия в Ашаффенбург — летнюю резиденцию курфюрста Майницкого. Ведь там жил знаменитый пианист Штеркель — капельмейстер, виртуоз и композитор в одном лице.
— Ты должен познакомиться с ним, — говорили Людвигу, когда на горизонте появился не блистающий красотой городок, зажатый между горами и водной гладью.
— Почему же нет? — весело отозвался молодой Бетховен. — Только не вздумайте втравливать меня в какое-нибудь состязание с ним! Музыка слишком высокое искусство, чтобы можно было исполнять ее во имя принципа «кто кого?».
Однако молодые музыканты решили между собой все-таки попытаться втянуть Людвига в состязание. А капельмейстер Штеркель, сам того не желая, помог им в этом. Приветливый, лет около сорока, худощавый и миниатюрный, он принял боннских музыкантов с искренним радушием и не заставил себя долго упрашивать, когда те хотели насладиться его замечательным искусством.
Он сыграл им одно из своих собственных сочинений — концерт для скрипки и фортепьяно. Людвиг поднялся с места и, внимательно слушая, следил за его исполнением. Он смотрел, как пальцы капельмейстера, нежные, почти женские, бегают по клавишам, и рассудил, что игра его такова же, как и его виртуозные руки, — слишком нежная, можно сказать дамская. Он признал, однако, что толки о необыкновенном мастерстве Штеркеля не преувеличены. Этот субтильный пианист действительно умеет обращаться с инструментом.
— Теперь ты сыграй что-нибудь, Людвиг, — сказал боннский скрипач, с удовольствием сопровождавший игру Штеркеля. Он выразительно указал смычком на рояль.
Людвиг колебался. Окажется он лучше Штеркеля, это уязвит хозяина дома. Проявить себя более слабым мастером он не намеревался.
— Жаль! — искренне огорчился пианист-виртуоз. — У меня здесь где-то есть ваше новое сочинение.
— Вы имеете в виду вариации на песню «Приди любовь»? — спросил Людвиг и вспыхнул от смущения.
— Да, да, — весело отозвался пианист и начал быстро перебирать лежавшие на рояле ноты. — Куда же я эту вещь задевал? Должен признать, что я пытался ее играть, но не справился.
— Ого! — воскликнул кто-то. — Такой мастер, как вы?
— В самом деле, поверьте! Некоторые места так трудны, что я не представляю себе сейчас пианиста, которому они были бы по плечу.
— А ты, Людвиг? — отозвалось несколько голосов.
Людвиг, молча улыбаясь, опять покраснел.
— Не принуждайте господина Бетховена, — со смехом заметил Штеркель. — Он не первый и не последний из композиторов, которые пишут для нас, несчастных исполнителей, такое, чего сами предпочитают не играть!
Людвиг вспыхнул от обиды:
— Я хотел бы знать, какие места вы считаете особенно трудными. Пожалуйста, покажите мне ноты.
Штеркель снова усердно принялся рыться в груде нот.
— Я страшно огорчен, но в самом деле не могу найти ваше сочинение. Как видно, я куда-то отложил его, когда убедился, что мне не сыграть его.
При последних словах глаза Людвига сверкнули. Он решительно поднялся со стула.
— Позвольте мне сыграть эту вещь по памяти!
Раздались чьи-то рукоплескания, к ним присоединились другие. Молодой виртуоз позволил втянуть себя в состязание! Людвиг понял, что отступать поздно. Он сел к роялю и начал играть.
Как он играл! Боннцам было известно его мастерство и беспримерное проворство пальцев. Сейчас он превзошел себя во всем. Начал он нежно и сладко, будто бы слегка насмешничая, подражал нежной игре Штеркеля, но потом заиграл в своей манере, более мужественно, но со всей поразительной виртуозностью.
Пораженный Штеркель увидел, как молодой гость проиграл все те места, которые он почитал за непреодолимо трудные, а под конец исполнил новые вариации, еще более сложные.
Людвиг кончил, и на мгновение в комнате воцарилось молчание. Потом посыпались похвалы.
— Это мастерски, мастерски! — восторженно твердил Штеркель, пожимая руку Людвига.
Но потом, провожая гостей по крутой улице, спускавшейся к пристани, он отстал с Людвигом и сказал ему с глубокой убежденностью:
— Вы поразили меня своей игрой. Другого слова я не могу употребить. Но позвольте быть с вами откровенным музыканту, который по возрасту мог бы быть вашим отцом. Был ли когда-нибудь среди ваших учителей истинно большой мастер?
Людвиг удивился вопросу:
— Нет. Ни одного. Но зато были отличные музыканты. Но почему вас это так интересует?
Штеркель смущенно засмеялся.
— В вашей игре есть сила и огонь, которых я еще никогда не видел. Но вам недостает кое-чего. Того, что называется «школой». В вашем исполнении есть жесткость и еще некоторые недостатки, хороший учитель не простил бы их вам.
Удивленный Людвиг молчал. До сего времени он слышал от своих слушателей одни похвалы. Он понимал важность того, что ему было сказано. А Штеркель продолжал:
— У меня есть к вам еще один вопрос. Есть ли в Бонне пианист, равный вам хотя бы приблизительно?
— Я не хотел бы показаться нескромным, но мне думается, что нет.
— И мне так показалось, — задумчиво отозвался ашаффенбургский капельмейстер. — Поэтому я бы посоветовал вам: уезжайте из Бонна. Вовремя оставьте город, где у вас нет соперников. И самый выдающийся художник должен постоянно меряться силами с другими художниками. Только в борьбе движешься вперед. А иначе может случиться, что вы превратитесь в боннскую знаменитость, только и всего. Не сердитесь на меня за откровенность!
— Напротив! Нет такой благодарности, которая была бы достаточной для человека, говорящего тебе только правду.
Когда Ашаффенбург исчез из глаз, Людвиг уселся на корме и задумался. Он решился на то, к чему уже давно был готов.
Кто-то положил ему руку на плечо. Он не шевельнулся. Опомнился только тогда, когда чья-то ладонь очутилась у него на затылке и послышался добрый голос скрипача Риса:
— Ты молодец, Людвиг! Сыграл вещи, которые не дерзнул играть Штеркель!
Задумавшийся пианист только пожал плечами:
— И все-таки я у него научился больше, чем он у меня. Он наставил меня на путь, по которому я давно должен был идти.
— На какой путь?
— Путь в Вену. В Бонне я исчерпал все возможности.
Рис решительно поддержал решение Людвига.
— Тогда поспеши, Людвиг! Вена — душа музыкального мира! Таких Штеркелей там не меньше дюжины. И с каждым тебе придется сразиться, каждого превзойти. А когда мой сынишка подрастет — ему сейчас только девять лет, — я пошлю его вслед за тобой.
Он дружески потрепал его по плечу. Нужно было оставить юношу в покое. Людвиг уже принял решение.
Он сказал себе:
«Эту сонату d-dur, что я с любовью писал для Лорхен, я закончу. Принесу ее к Брейнингам тогда, когда буду знать, что у них находится Вегелер. На прощанье подарю им сонату. И пожелаю счастья!»
А потом прощай Бонн! И, может быть, навсегда.
Песнь свободы
В начале ноября 1792 года рейнский город Кобленц являл собой удивительное зрелище. С левого берега на правый через реку переваливало войско князя гессенского. А ведь совсем недавно эти же полки так же поспешно передвигались с правого берега Рейна на левый. Тогда они вместе с пруссаками двигались против революционной Франции, теперь они устремились обратно.
Что же произошло за такой короткий срок?
Французы, узнав, что хозяев нет дома, отправили на Рейн несколько революционных полков. Без труда обошли они Майнц и двинулись в глубь немецких земель. Вскоре пал и Франкфурт-на-Майне.
Таким образом, революционные войска спокойно шествовали по гессенской земле, в тылу у княжеского войска. Нужно было остановить их.
Мост через водную преграду был до предела забит. Он покоился не на быках, а на широких плотах, которые под тяжестью запрудивших мост войск и орудий погрузились в воду почти до краев.
Офицеры немецкого войска не обращали на это внимания. Революция заразительна. Что, если за французами последует собственная беднота?
Мост скрипел, вздрагивал и вздыхал под копытами коней и под сапогами пехотинцев. Но на другой берег жаждали переправиться не только войска.
— Черт возьми, что же, мы так и будем торчать здесь до скончания века?! — бранился черноглазый и черноволосый юноша мрачного вида. Он выбрался из почтовой кареты, безнадежно увязшей перед мостом в потоке войск, и нервно вглядывался в забитую дорогу.
Коренастый кучер ежедневно перевозил не меньше двух десятков путешествующих.
Сейчас вместе с каретой застряли только двое. Оба были молоды, каждому немного больше двадцати лет, и путешествовали они из Бонна вверх по Рейну. Левый берег реки был безнадежен из-за создавшихся пробок, и оставалась возможность перебраться на правый берег здесь, в Кобленце.
— А нет ли здесь другого моста? — спросил один из путешественников почтальона, сидевшего высоко на козлах.
— Откуда бы он взялся? — осклабился усатый и краснолицый возница. — Разве только если бы мы доехали до Майнца. Да там уже сидит француз!
— Ну, это нас бы не испугало, — сказал черноволосый.
Кучер пожал плечами:
— Почта уже туда не ездит.
Все трое мрачно всматривались в происходящее на мосту. Казалось, потоку военных не будет конца. Едва умолк топот драгунской конницы, как через реку хлынула пехота, и сразу же за ней пошли орудия, каждое из которых тащила шестерка коней. А у моста уже сгрудились новые толпы солдат, над головами которых покачивались провиантские фуры, легкие маркитантские повозки, теснился мычащий скот — эти передвижные склады мяса.
Смуглый юноша мрачнел все больше.
— Этак мы до Вены доберемся разве только через месяц, а вы до своего Нюрнберга, может быть, дней за четырнадцать, — сказал он своему спутнику.
Тот в ответ только безнадежно пожал плечами. Тогда черноволосый обратился к вознице:
— А что, если нам дождаться, когда в потоке войск окажется разрыв, и втиснуться в него?
Почтальон хитро улыбнулся:
— Так я уже об этом думал. Но затесаться в войско — игра небезопасная. Могут и палки по спине прогуляться.
— Ну, надеюсь, ваши кони окажутся проворнее, чем палка какого-нибудь капрала. А на такой случай лекарство будет выдано вперед: талер получите, если сумеете проскочить.
— И от меня талер, — добавил спутник.
— Господа с княжеского двора в Бонне? — спросил возница.
— Я придворный музыкант Бетховен, — сказал черноволосый путешественник.
Его спутник хранил молчание. Он не имел отношения к княжескому двору. Юлиус Фукс был сыном торговца, который счел за лучшее переправить часть своих капиталов из небезопасных рейнских краев в более спокойный Нюрнберг.
— Ну, так и быть, — произнес возница. — Садитесь, господа, в карету. Попытаем счастья! — Он тихонько стегнул коня и начал осторожно продвигаться к мосту.
— Дорогу послу курфюрста боннского! Дорогу послу курфюрста боннского! — громко выкрикивал он.
Со всех сторон по их адресу неслись возмущенные крики и брань. Тем не менее высокое курфюрстово имя оказывало действие. Почтовая карета плыла над возками, как ковчег, и постепенно приближалась к мосту. Теперь оставалось только влиться в воинский поток и вместе с ним переправиться через реку.
Почтальон, как хищник, выжидал удобного момента. Вот кончила проходить пехота, и двинулась артиллерия. Первое орудие несколько замедлило, так как кони рванули неодновременно, и в это мгновение на мост прорвалась почтовая карета.
— Эй, что это значит? Стой! Стой! — кричал взбешенный капрал.
Он замахнулся палкой, составлявшей его снаряжение, как и сабля, и бросился за почтовой каретой. Но было поздно! Она уже влилась в лавину, идущую по мосту, кони фыркали в спины впереди идущих пехотинцев, а почтальон только посмеивался.
Переехать мост было только частью трудной задачи. Предстояло еще пробиться сквозь пестрое море разношерстных войсковых частей, выстраивавшихся на другой стороне реки. Но хитрый возница и там не растерялся. Опять покрикивая, что везет послов курфюрста боннского, он лавировал в беспорядочной мешанине людей и разного военного снаряжения. По мере удаления кареты от берега толпы войск редели, и наконец впереди показалась свободная дорога.
Кучер на мгновение остановился, чтобы дать передохнуть коням. Он открыл дверцу кареты и сказал:
— Ну, господа, из пекла мы выскочили! С вашего позволения, в честь благополучной переправы я выкурю трубку. — Он зажег ее, пыхнул и, выпустив первый клуб дыма, сказал: — Желаю вам счастливого путешествия. А мне до следующей станции придется вернуться. Жаль! Как у вас пойдут дела дальше, трудно сказать. Что, если на французов наткнетесь? Говорят, что их гусарские разъезды прорываются далеко. Держитесь подальше от Франкфурта, чтобы не затесаться в какое-нибудь сражение! Всему свое время — и храбрости и осторожности. По нынешним временам я бы придерживался последнего! — Он почесал затылок, запер дверцу и взгромоздился на козлы.
Его опасения не были безосновательными. Ведь почтовые станции были перекрестками путей и средоточием всевозможных последних новостей. Почтальоны лучше, чем кто-либо, чувствовали, что прирейнская земля вот-вот станет полем битвы.
Уже в августе 1791 года бежавшие французские генералы, маркизы и графы замышляли войну против своей родины. В Пильнице, около Дрездена, они вместе с прусским королем и австрийским императором подписали манифест об общих действиях против революционных сил. Мир реакции поднимался против мира свободы.
Их разделял Рейн.
Война началась в конце апреля 1792 года. Силы были не равны. Революционная Франция могла выставить против интервентов только необученные войска наскоро собранных волонтеров. Врагам помогала и внутренняя измена. Сама королева передала военные планы врагам революционной Франции.
Неудивительно, что война началась поражением французов. Но эти поражения не деморализовали революционный Париж. Новые полки волонтеров возникали не по дням, а по часам.
Двадцатого сентября 1792 года у деревни Вальми произошла битва, похоронившая все прусско-австрийские планы.
Революционные войска, плохо одетые и обутые, слабо вооруженные, с «Марсельезой» на устах, истекая кровью, решительно отразили натиск интервентов.
Битва у Вальми известна в истории как одна из самых малых по масштабам и самых решающих. Нападавшие потеряли, может быть, не больше сотни своих солдат, но лишились куда более важного: они утратили решимость.
Эмигранты внушали им, что победить войска в голубых мундирах будет совсем не трудно — разбить их будет так же легко, как «разбить голубой фарфор», намекая на знаменитый фарфор, производившийся вблизи Парижа. Оказалось, что они могут быть тверже стали.
Французская армия перешла в наступление по среднему течению Рейна. Она вторглась в Бельгию, принадлежавшую тогда австрийской монархии. Под угрозой вторжения оказался и Бонн. Тридцатого октября бежал из своей резиденции курфюрст Максимилиан Франц. Того и гляди, над Бонном мог взвиться трехцветный флаг Французской республики.
Так складывался ход войны, когда второго ноября ранним утром Людвиг ван Бетховен пустился в свое второе путешествие в Вену.
Как только Людвиг со своим попутчиком перебрались у Кобленца на правый берег Рейна, им пришлось изменить свой маршрут и направиться на восток. Надо было удалиться от мест, где со дня на день ожидались бои. Почтовые кареты пока регулярно ездили по этой холмистой местности вдоль реки Лан. Однако путешественников было мало: многие боялись оказаться в гуще боя.
Так случилось, что в один из дней почтальон вез в своей почтовой карете только двоих седоков. На козлах сидел широкоплечий парень, с лицом, покрытым загаром. Он был не лишен отваги и юмора. Утром, усаживая путешественников в карету, он вдруг рассмеялся и сказал:
— Господа, садитесь в карету вы в Германии, да кто знает, не придется ли выходить из нее во Франции. Поговаривают, что голубые мундиры уже далеко продвинулись из Франкфурта.
Не дожидаясь ответа, он запер дверцы.
Молодые путешественники, однако, не проявили признаков боязни. Кучер и сам оставался спокойным, и как только лошади тронулись, окрестности огласила его мирная песня.
После первой остановки к нему на козлы присел Людвиг.
— Вы не боитесь, друг, что своей музыкой привлечете неприятеля? — весело спросил он кучера.
Тот подмигнул с хитроватым видом:
— Кому он неприятель-то?
— Вам лучше знать, — ответил Людвиг.
— Я сын бедного крестьянина, — прозвучал несколько неожиданный ответ.
— Поэтому вы не можете отличить своего от неприятеля?
— Часть нашей деревни молится за курфюрста, нашего господина, но большинство просят небо, чтобы пришли французы и избавили нас от барщины и податей.
— А вы относитесь к первым или вторым?
Ответа пришлось некоторое время подождать. Молодой почтальон пытался разгадать своего соседа. Выглядит, как обычный горожанин, а они почти все на стороне революции, но ведь в душу человеку не влезешь! А вдруг он преданный господский служака? Почтальон сказал неуверенно:
— Да ведь я уже сказал, что сам я из бедной семьи.
— Ага, — догадался Людвиг. — Ну, если так, то попробую и я затрубить. Французы не помешают ни вам, ни мне. Одолжите мне ваш замечательный инструмент!
Почтальон оглянулся вокруг:
— Ну, до деревни далеко, осрамиться вам будет не перед кем. Играть на почтовом рожке не каждый может.
Людвиг усмехнулся, вытер мундштук рукавом и приложил его к губам. От смеха у кучера лицо покрылось морщинками. Они молниеносно исчезли, как только знакомая мелодия зазвучала ясно, чисто и с такой силой, что разнеслась далеко по окрестным полям и холмам, покрытым виноградниками.
— О-го-го, — отозвался кучер. — Я еще не слыхивал, чтобы так умели играть на рожке. Вы что — музыкант?
— Так, немного. Только простите, рожок не мой инструмент, уж поверьте! Но попробуем другую песню!
По широкой долине разлилась приятная мелодия народной песни. По-видимому, она пришлась по вкусу единственному седоку. Он высунул голову из окошка кареты и спросил:
— Концерт бесплатный, господин Бетховен?
— Бесплатный!
— Я торговец и, прежде чем купить, должен спросить о цене товара. Такой хороший, да еще бесплатный, беру сразу. Уделите мне местечко на козлах!
Карета остановилась, и все трое взгромоздились над лошадиными хвостами — молодые, веселые, смеющиеся. Карета ехала пустой, Людвиг трубил, почтальон правил лошадьми, торговец слушал, оглядывая окрестности.
— Странно, что в полях так мало народа, — сказал он, когда они проехали немного.
— Что бы они там делали в ноябре? — оторвавшись от рожка, сказал Людвиг.
— Но ведь и виноградники пусты! — возразил торговец.
И в самом деле! Вокруг, насколько хватал взгляд — а день был ясный, тихий и прогретый мягким солнцем, — не было ни души, как выметено.
И все-таки молодой, острый глаз подметил какое-то движение на тропках среди виноградников.
— Стойте! — воскликнул молодой Фукс испуганно. — Французы!
Три пары глаз внимательно вглядывались туда, где было движение.
— Вам показалось, — заключил Людвиг.
— Нет-нет! Я видел ясно лошадиные головы, голубые мундиры и военные головные уборы, которых у нас в армии не носят.
— А может быть, они нас испугались, — пошутил опять Бетховен. — Наверное, они разглядывают нас так же внимательно, как мы стараемся рассмотреть их. Похоже, что мы въезжаем в местность, занятую французами. Потому-то и в полях пусто.
— Узнаем в ближайшей деревне. Она недалеко, — сказал кучер.
Теперь они ехали медленно и уже без музыкального сопровождения, оглядываясь все время на таинственную дорогу, на которой скрылся французский дозор.
Вскоре среди деревьев показалась башенка сельского костела, а потом забелел и первый дом. На дороге появились два солдата с ружьями, преградили путь карете, скрестив перед ней штыки. Их кивера были украшены трехцветными кокардами — цветами свободной Франции. Из дома вышел унтер-офицер, смуглый, сухопарый, с резкими чертами лица.
— Кто вы и откуда едете? — сердито спросил он.
Кучер молчал, немного испуганный. Оба путешественника охотно дали все объяснения и спросили, могут ли они ехать дальше.
— Мы не воюем с гражданским населением. Разве если бы вы были французскими аристократами и убегали с родины к врагу. Только, — засмеялся капрал дружески, — тогда вы не говорили бы по-французски так коряво. В деревне стоят наши, но никто вас не тронет, поезжайте!
Людвиг опять забрался на козлы, однако его спутник направился к карете.
— Надо деньги спрятать, — шептал он испуганно. — Спрячу под обивку. Боюсь, как бы французы не ограбили.
— Не похожи они на грабителей, — пробормотал Людвиг.
— Каждый солдат одной частичкой мозга думает о войне, а другой о том, как бы поживиться.
— Может быть, и так, что касается королевских и императорских наемников. Слуги крупных грабителей не могут быть никем иным, как грабителями мелкими. Но мы встречаемся с армией народа.
Торговец взглянул на него с сожалением.
— Я бы добровольно не совал голову в пасть даже прирученному тигру. Впрочем, ваше богатство, эти ноты, которые вы держите в чемодане, никого не соблазнит. А я везу золото, оно должно храниться в верном месте.
— Ну, тогда прячьтесь в карету и стерегите свою мошну, а я хочу встретиться с французами лицом к лицу.
Людвиг ловко вскочил на козлы и напряженно вглядывался вперед. У него стучало в висках, будто встреча с людьми, которые впервые в истории отважились посадить в тюрьму своего короля, сулила свободу и ему.
Смелые призывы революции влекли его, как и каждого мыслящего человека в Европе. Тщетно правители накрепко запирали границы своих государств в Европе! Уже в 1790 году в Германию было строго запрещено ввозить и читать революционные брошюры из Парижа. Их читали, невзирая на запрещение. Тюрьма грозила каждому, кто читал французские газеты. Несмотря на это, их тайно передавали из рук в руки.
Немецкие подданные не смели знать о законах, провозглашенных во Франции. Европа еще никогда не видела примера столь соблазнительного.
Люди родятся и остаются свободными и равными перед законом. Неприкосновенны права человека на свободу, безопасность и защиту от нападения! — провозглашала республика.
Если новая Франция обеспечивала человеку право на свободу, безопасность и защиту от нападения, это значило право восстания, право революции!
Как было не воспрянуть Бетховену духом!
Время прислуживания в курфюрстовом дворце осталось в памяти кошмарным сном. Он снял с себя фрак с золотым позументом — униформу придворного музыканта, будто сбросил унизительное иго. Он вышел в мир, чтобы найти свободу. Теперь он встретился с теми, которые уже нашли ее.
Отряд французских солдат они увидели около магистрата. Солдаты, в голубых мундирах с широкими ремнями, перекрещивающимися на груди, в киверах, сидели и лежали на низкой траве под старыми деревьями, вытянув усталые ноги, стянутые высокими гамашами с множеством пуговиц. Ружья с примкнутыми штыками, составленные в козлы, стояли вокруг.
Над лагерем развевалось трехцветное знамя. Легкий ветерок шевелил шелковое полотнище, смешивая по временам цвета алый, белый и голубой в пеструю волну, временами открывая золотом вышитые слова: «Свобода», «Равенство», «Братство».
Когда карета остановилась, Людвиг соскочил на землю, охваченный любопытством. Торговец тоже выскользнул из кареты.
Молодой офицер со шпагой на боку, отделившись от группы солдат, подошел к ним и спросил, чего они желают.
— Благодарим вас. Мы рады увидеть войска, сражающиеся за свободу своего народа.
— Не только за свободу своего народа, но и за свободу других народов, — добавил офицер. — Нужно, чтобы вы, немцы, знали, что республика посылает нас не как захватчиков, а как освободителей, мы хотим вам помочь подняться против собственных тиранов.
— Понимаю, — ответил Людвиг, в то время как владелец золота предусмотрительно помалкивал. — Вы счастливый народ. Я с радостью бы встал в ваши ряды. Но я не воин. Единственное мое оружие — музыка.
Офицер был, как видно, любителем искусства.
— Если мы будем наступать так же быстро, как теперь, то очень скоро окажемся в Вене, — говорил он, явно гордясь за успехи французского оружия. — Увижу Глюка, Моцарта, Гайдна!
— Глюка нет в живых уже пять лет, а Моцарт умер около года назад. Ему не было еще и тридцати шести лет. Я должен был учиться у него композиции. Жаль потерять такого мастера! — сказал Людвиг с искренней печалью.
Беседа становилась все оживленнее. Некоторые солдаты с любопытством обступили их и расспрашивали о Вене. Ведь из этого города происходила ненавистная им королева и до него оставалось рукой подать. Однако на вопросы отвечал один Людвиг. Его спутник в беспокойстве и нетерпении подвигался к карете.
Но вдруг издали донеслось пение. Как видно, подходил новый отряд, он пока не был виден из-за густых ветвей. Только трехцветное знамя проглядывало из-за листвы.
Все смотрели в сторону приближающегося войска. Людвиг напряг слух. Ему еще не приходилось слышать такую огневую песню. В ней словно слышался гул барабанов и голос трубы звал в атаку. Мелодия захватила и тех, что отдыхали. Солдаты вскакивали, приветствовали подходящих товарищей, подпевали им.
Людвиг достал записную книжку и быстро записал мотив.
— Вы разбираетесь в этих каракулях? — спросил его офицер, заглядывая через плечо. Рука Людвига наносила на бумагу линейки, точки, тире, смесь значков, которые казались непонятными. — Это «Марсельеза»! — продолжал офицер. — Новинка. Но ее уже поет весь Париж, а может быть, уже и весь мир.
Музыкант молчал, но восторженный взгляд его скользил вдоль дороги, и он продолжал писать.
Отряды промаршировали своей дорогой, но доносился новый куплет этой песни — бодрой, стремительной, полной надежды.
— «Марсельеза», — бормотал Людвиг, когда песня стихла вдали. — Почему же все-таки «Марсельеза»?
Француз поспешил объяснить ему, что песню принес в Париж батальон из шестисот марсельских добровольцев.
— Вы не могли бы сказать мне ее слова? — попросил Людвиг, продолжая вглядываться сквозь густые ветви в удаляющихся солдат.
Офицер, улыбаясь, любовался восторгом музыканта.
— Вы не первый, господин музыкант, кого эта песнь чарует. Запишите ее текст. — И он начал диктовать:
— Это не песня, это сама революция, воплощенная в звуках! — взволнованно воскликнул Людвиг, когда были произнесены последние строфы песни.
Ему уже не хотелось больше разговаривать. Мысли перенеслись в мир музыки, в душе звучал пламенный напев, слагались его вариации. Ее отзвуки будут слышны в его будущих сочинениях.
Он простился с молодым французом искренно и сердечно, но как бы полубессознательно, с отсутствующим видом, как будто его мысли были уже поглощены чем-то другим. Он даже не слышал выговора боннского торговца, которым тот встретил Людвига, когда он уселся в карету.
— Вы здесь торчали целую вечность, а я сидел как на раскаленных углях! Из садов смотрят крестьяне. Кто-нибудь донесет, что мы братаемся с врагом. А если вы думаете, что будете распевать эту глупую песню в Вене, то заранее рассчитывайте на тюремные нары, если не на виселицу! Император сидит на троне достаточно прочно, а вы просто сумасшедший!..
За чашку шоколада
Эта комнатка в мансарде была очень холодна. Людвиг снял ее потому, что плата показалась ему подходящей. Он лежал в постели, задумчиво уставившись в скошенный потолок.
Дом был наполнен людьми и шумами. Внизу кто то топал ногами на лестнице и что-то возбужденно кричал по-итальянски. За стеной звучала венгерская песня. С улицы доносились громкие голоса двух женщин, говоривших на каком-то незнакомом славянском языке. Какие-то ребятишки, бегая наперегонки, окликали друг друга на ломаном немецком.
Вена! Столица империи, населенной разными народами.
Его слегка познабливало. Никогда Людвиг не страдал от недостатка храбрости, но город с населением в четверть миллиона подавлял его.
Он приехал, чтобы завоевать столицу своим искусством. И не сомневался нисколько, что сумеет сделать это. Но с чего следует начинать?
В деревянном чемодане, обитом железными обручами и обтянутом матерчатым чехлом, хранилась пачка писем — от Вальдштейна к князю Эстергази, графу Кинскому, князьям Лихновскому, Лобковицам. Пусть остаются там как можно дольше.
Он не шел в их дворцы, пока можно было. Не хотелось, сбросив зеленую лакейскую форму, облачаться в красную или голубую.
Но может ли честный музыкант просуществовать, не прибегая к покровительству князей?
Давать уроки? Но ему самому надо еще совершенствовать свое мастерство. Он хотел бы учиться композиции у Гайдна, мастерству вокальной композиции у кого-то другого, он еще не знал у кого. Ему нужно совершенствоваться в игре на разных инструментах — на английском рожке, на флейте, кларнете, контрабасе. Труд композитора нелегок. Он не может да и не должен с одинаковым мастерством играть на всех инструментах, но он должен хорошо знать возможности гобоя, рожка, челесты — любого инструмента в составе оркестра.
Значит, ему придется работать за четверых!
Было бы нелишне записаться еще на курсы танцев, хороших манер, заняться верховой ездой, овладеть искусством фехтования. Он не позволит, чтобы кто-нибудь из господ, в жилах которых течет голубая кровь, превосходил в чем-нибудь его, художника! Да, но тогда уж не будет оставаться ни минуты свободного времени и не будет свободного гроша!
Так с кого же начать сегодня? С кого? С главы венских музыкантов — старого Мастера Иосифа Гайдна! Да, конечно.
Людвиг вскочил с постели. Полеживая на спине, человек ничего не добьется. Вон из дома, на улицу! У Гайдна надо будет узнать кое-что о венской жизни. Например, где можно взять напрокат рояль? И сколько это будет стоить?
Он начал поспешно одеваться и надел сюртук с широким воротником, служивший ему одновременно и пальто. Людвиг быстро сбежал по ступеням, стертым за долгие десятилетия.
Во дворе он остановился. В просторной мастерской, почти ушедшей в землю, раздавался скрип какой-то машины. Худощавый человек, одетый только в брюки и рубашку, налегая всем телом на длинную ручку, приводил ее в движение. Второй рабочий вкладывал в машину белые листы бумаги и поворотом ручки возвращал их обратно уже покрытыми черными буквами.
Это была типография! Таинственное место, где рождались на свет труды мудрецов и бездарных писак, откуда распространяются светлые идеи и глупость людская.
Людвиг сочувственно смотрел на рабочих сквозь грязное оконное стекло. Они начали работать еще на рассвете и кончат, когда стемнеет.
Людвиг, вздохнув, пересек маленький дворик и зашагал по улице, продуваемой резким осенним ветерком. Достав из кармана записку с адресом композитора, он справлялся у прохожих о том, как ему пройти к нужной улице.
Но, услышав, как на башне ближайшей церкви часы пробили девять раз, Людвиг остановился. Правила хорошего тона, усвоенные им в боннской школе воспитания, которой был для него дом Брейнингов, гласили, что в столь ранний час визиты не положены. И в голове возникла мысль: не Гайдна, а первого своего учителя ты должен навестить в Вене прежде всего! Ему-то ранний визит не будет помехой. Он уже гам, где земное время не значит ничего…
И Бетховен направился на кладбище святого Марка. Снова он спрашивал прохожих и по их указанию шел длинной прямой улицей к городским воротам, которым венцы дали имя «Штубентор». Он прошел сквозь них и сразу очутился за городом, оставив позади крепостной вал, обозначивший границу города.
Картина, открывавшаяся перед ним, была печальна. На широкой равнине не было ни единого домика. Она была мокрой и унылой. Вдоль дороги, покрытой лужами, торчали скелеты деревьев, листва на которых была оборвана ветром.
Он двинулся дальше, и вскоре в тумане потянулась кладбищенская стена. Людвиг прибавил шаг. Наконец он увидел ржавые ворота, их левая половина висела на одной петле. Длинные ряды крестов выступили из мглы и двинулись ему навстречу.
С грустью он оглядывался вокруг. Как найти место, где почило сердце Моцарта?
Людвиг бродил по кладбищу, пока не разглядел холмик свежей земли, на который откуда-то снизу вдруг упали комья глины.
И вскоре он очутился у края новой могилы, в глубине которой стоял могильщик. Старик оперся о лопату и удивленно воззрился на нежданного посетителя:
— Кого вы ищете? Моцарта?
— Да, сочинителя музыки.
— Музыканта? А у него есть здесь могила?
— Ведь это кладбище святого Марка?
— Да. Но уж я-то знаю на память всех лучших покойников. А вот Моцарта не знаю!
— Он был капельмейстер. Его опера «Волшебная флейта» идет в Вене уже второй год. Он умер в прошлом году, в начале декабря.
Могильщик наморщил лоб.
— Ага! Это мог бы быть тот… Его уже трое искали… И все иностранцы! Странно, почему это венцы не приходят. Вы, наверное, тоже откуда-нибудь, правда?
— Я из Бонна. Тоже музыкант.
— Так-так. Ну, этот похоронен здесь. Только вряд ли найдешь.
— Но есть же надгробье?
— Кто бы его поставил? — с усмешкой процедил сквозь зубы могильщик. — Из семьи-то никто ни разу не поинтересовался его могилой! Надгробье… Ха! Да и где бы его поставили-то?
— Вы же говорите, что знаете все могилы!
— Я так не говорил, господин музыкант! Я говорил, что знаю все хорошие могилы! А этого капельмейстера мы похоронили в общей. В них, видите ли, закапывают тех, у кого нечем платить за место. А уж кого этак хоронят, я про имя не спрашиваю. У таких часто и имени-то никакого не бывает.
Бетховен смотрел на могильщика потрясенный.
— Но ведь… это был человек, известный всей Европе!
— А так бывает, что человека, когда помрет, начинают почитать… Да что теперь поделаешь-то! Что же мне, выдумать ее, могилу-то! Таких могил для нищих здесь бог знает сколько. Могу я знать, в какую я его сунул год назад?
Могильщик сердито нагнулся и начал снова копать. Сколько уже времени потерял он с этим бедно одетым иностранцем. От таких чаевых не дождешься. Музыкант! Когда-нибудь тоже закопают в общую могилу… Комья глины, вылетев снизу, обсыпали ботинки Людвига.
Он попрощался с могильщиком и нетвердыми шагами побрел к выходу.
Его мозг отказывался воспринимать ужасную правду. Он остановился у ворот, еще раз оглянулся, будто лес почерневших крестов и мраморных памятников мог прояснить тайну, навсегда скрытую для человечества: где нашел свое последнее пристанище величайший из композиторов?
Вчера Людвиг видел на венских улицах афиши «Волшебной флейты». В театре Шиканедера ее ставили уже двести пятьдесят раз! Возможно, что сыграют еще сто. Говорят, что театр всегда полон. И касса театра тоже полна. И все же никто не уплатил за жалкий кусок земли, чтобы достойно был погребен художник, создавший столько прекрасного!
Юный Бетховен закусил губу, подавляя плач. В мыслях он снова был в квартире молодого композитора, несмотря на свою всемирную известность, такого доброго к нему, невзрачному юнцу, приехавшему с берегов Рейна. Ах, как его окрылили тогда слова Моцарта: «Этот юноша однажды заставит мир говорить о себе!»
А не будет ли и мой конец таким же? В безымянной могиле, среди бродяг и нищих…
Звуки императорской столицы не задевали его сознания. Он не замечал офицеров в расшитых золотом мундирах, гарцующих на горячих венгерских конях. Не обращал внимания на застекленные кареты, украшенные позолотой, проносившиеся мимо, запряженные четверкой белых или вороных коней. Не оглядывался и на дам, которых несли в портшезах, подобных маленьким каретам.
Он не взглянул и на отряд гренадеров, громко печатавших шаг по булыжнику мостовой — их головы украшали огромные медвежьи шапки.
И не слышал даже нищих, которые взывали к роскоши мира своей вечной мольбой: «Сжальтесь над несчастными! Подайте крейцер несчастному слепцу!»
Мысли его всё еще были на кладбище. Голова его была опущена. Он шел не оглядываясь, пока не достиг дома, адрес которого маститый композитор написал ему когда-то собственной рукой.
С волнением вступил Людвиг туда, где жил величайший из живущих немецких композиторов. Старый маэстро Гайдн сидел в своем кабинете, обложенный нотами, и что-то исправлял в них. Ноты лежали на письменном столе, на стульях и даже на полу.
Быстрые темные глаза композитора вопросительно взглянули на посетителя, которого ввел в комнату старый слуга. И сразу же в них отразилось удовольствие, когда он узнал гостя.
— О, гость с Рейна! — сказал он, по-юношески быстро поднимаясь от стола. — Давно ли вы приехали? А что же война? Не задержала вас в пути? Как идут дела у боннских музыкантов?
Бетховен, взволнованный сердечным приемом, низко поклонился и стал рассказывать о Бонне, о сбежавшем курфюрсте и знакомых музыкантах так стремительно, что хозяин никак не мог вставить хотя бы одно слово и пригласить гостя сесть.
Так они и стояли в кабинете, заполненном книгами и нотами, — стареющий маэстро и его новый ученик, очень похожие друг на друга, будто отец и сын.
Один — невысокий, худощавый, темноволосый юноша, со следами оспы на лице, а другой — такой же невысокий, худощавый и черноглазый, в темном парике, с лицом, на котором были видны следы оспы.
И все же в главном они были очень разными.
От всего облика Бетховена — от широкого лица с коротким носом и широким подбородком, от энергичного рта и ярких глаз веяло силой, взрывчатой и стремительной.
Вытянутое лицо Гайдна, на котором выделялся длинный, узкий нос с горбинкой, наводило на мысль, что человек этот умеет усердно трудиться, но не способен на решительные действия.
Встретились две стихии! Неукротимый водопад, бешено налетающий на все препятствия, встречающиеся на пути, и широкая река, прокладывающая себе дорогу без шума и штормов.
Каждый из них был велик по-своему.
Едва Людвиг уселся, как сразу же заговорил о Моцарте. Его сердце все еще было полно горечи от кладбищенских впечатлений.
— Произошло нечто странное, — смущенно произнес старый Гайдн, сидевший в глубоком кресле. — Когда происходило погребение величайшего композитора нашего времени, на его гроб не упало ни одной слезы. На похоронах не оказалось ни одного знакомого человека, не было никого и из родных.
— Но ведь Моцарт был женат! — заметил удивленно Людвиг.
— Жена его была больна, и был такой суровый, декабрьский день. Дождь, холод, ветер! Несколько человек шли за гробом, потом, когда гроб довезли до кладбища, не оказалось уже никого.
— Но почему же человек, такой известный, не имел друзей?
— Жил он в нужде, а в бедности друзей не прибавляется. И удивительная вещь: единственным человеком, проводившим его до кладбищенских ворот, был его заклятый враг — композитор Сальери. Он ненавидел Моцарта, ибо страшно завидовал ему. И говорил, что пока есть Вольфганг Амадей Моцарт, в Вене нет места другому композитору.
— Я слышал, когда ехал еще по Германии, что Сальери…
— Нет!.. — Старый маэстро приложил пальцы к губам. — Я знаю. Хорошая молва дома лежит, а плохая по дорожке бежит. Но я не верю в то, что Сальери повинен в смерти Моцарта.
— Говорят, он отравил его…
— Лучше не говорить так. Когда умирает человек тридцати шести лет, людям трудно с этим смириться. Но Сальери невиновен. Моцарт давно был болен.
— Болен из-за бедности?
— Вполне возможно. Он был очень непрактичен, а жена еще непрактичнее. Не умел ловить свое счастье, даже если оно само просилось в руки. Предлагали ему, как и мне, концерты в Лондоне на очень выгодных условиях, но он не решился уехать из Вены, потому что императорский двор обещал ему хорошее место. А потом ему не дали ничего!
— Но говорят, что его оперы играют все время при переполненном театре.
— Да, конечно! Но почти все сборы достаются директору театра Шиканедеру. Моцарт сделал ошибку. Ему предлагали много мест в домах знати. Сам прусский король предлагал ему службу у себя.
— Наверное, не хотел быть рабом. Он испытал достаточно много унижений, когда служил органистом при дворе зальцбургского архиепископа.
— Он не хотел быть слугой больших господ, а стал подданным малых. Говорят, что Шиканедер бессовестно обирал его. Но такое встретишь не только в среде венской знати.
— Вы, маэстро, сами служили тридцать лет княжескому дому Эстергази. Были вы счастливы?
— Да, был. Надо вам сказать, что я перед этим долго играл в бродячих уличных оркестрах и жил на чердаке, где чуть ли не единственной мебелью было пианино, наполовину съеденное жуком-древоточцем. Летом в мою каморку проливался дождь, а зимой задувало снег. Часто я просыпался мокрым от дождя или присыпанный снегом.
— Я слышал, что у Эстергази вам приходилось и при столе прислуживать?
— Сначала приходилось.
— И вы не чувствовали себя униженным?
— Я не чувствовал себя голодным, а это казалось мне важнее всего.
— И все же, маэстро, такой большой художник, как вы, имел право на собственное достоинство.
— О, это сейчас очень модно — рассуждать о человеческом достоинстве! До вас, там на Рейне, доносятся очень определенные речи, произносимые во Франции. До Вены они еще не докатились, вы скоро в этом убедитесь. Я не скажу, чтобы не сочувствовал новым идеям. Сознание, что человек не обязан повиноваться, многого стоит. Но художник должен завоевать право на это сознание. Меня сделала свободным только прошлогодняя поездка с концертами в Англию. В пятьдесят девять лет! Взгляните, как теперь со мной обращается местная знать!
Композитор легко поднялся с места, открыл один из многочисленных ящиков письменного стола и положил перед гостем конверт. На нем значилось:
«Нашему благородному и любимому
капельмейстеру фон Гайдну!»
— Вот так теперь титулует меня мой князь! Теперь я для него благородный, он присвоил мне даже дворянскую приставку «фон»! Это мне, сыну нищего каретника!
Людвиг прочитал надпись, но в словах Гайдна его задело всерьез не слово «фон», а кое-что другое.
— Простите, маэстро, но почему же вы говорите «мой князь»? Я бы не хотел называть так кого бы то ни было. Не значит ли это, что он может называть вас «мой капельмейстер»?
— Князь Эстергази может так называть меня, потому что я служил еще его деду.
— И теперь слу́жите! — поразился Людвиг. — Но ведь поездка в Англию принесла вам не только славу, но и деньги, позволяющие вам обходиться без покровителей!
— Не говорите так. И вам придется искать покровительства знати. Иначе, как вы удержитесь в Вене?
— Я умею играть на рояле, а с вашей помощью хотел бы стать композитором.
— Вы уже композитор! Я еще в Бонне слышал ваши сочинения. Но я сомневаюсь, что вас это прокормит здесь.
— На это я не рассчитываю. Написанному прежде я не придаю никакого значения. Начну учиться с самого начала. Но играть на рояле я умею!
— Хотите жить уроками? Но это такая обуза для подлинного художника!
— А может быть, мне посчастливится когда-нибудь дать сольный концерт? — неуверенно сказал Бетховен. — Я привык жить так скромно, что даже небольшого вознаграждения мне хватило бы надолго.
На продолговатом лице Гайдна промелькнула грустная улыбка.
— Вы смотрите на Вену через розовые очки!
— Говорят, что это самый музыкальный город на свете.
— В этом можете не сомневаться! Но публичные концерты здесь бывают крайне редко. Художники выступают только в домах этих самых Лобковицей, Ностицев, Лихновских. Только там вы можете заработать деньги.
— У меня есть к ним рекомендательные письма от графа Вальдштейна, но мне не хотелось бы прибегать к этому.
— Какая чепуха! — удивился маститый композитор. — Сейчас же достаньте эти письма, наденьте самый лучший фрак и несите их тем, кому они предназначены. Вы что, так богаты, что можете прожить в Вене на свои средства? Вальдштейн посоветовал вам, к кому первому идти?
— Да. К князю Лихновскому.
— Это очень милый человек и сам хороший скрипач. Идите к нему как можно скорее!
Людвиг печально опустил голову. Гордые надежды умирали.
— А я-то думал, что мне удастся прожить без того, чтобы твердить: «Конечно, ваше сиятельство! Никогда, ваше высочество!»
— Может быть, со временем так и будет. Но сейчас — нет!
— Но уж лакейскую ливрею я не надену никогда! — решительно заявил Бетховен.
— Лихновский и не потребует этого от вас. Он позаботится, чтобы вы не чувствовали себя униженным. Но все-таки, мой молодой друг, вы пока еще не вправе держать голову слишком высоко. Немного смирения вам не повредит.
Он опять подошел к письменному столу, некоторое время что-то искал во множестве бумаг, пока не нашел какую-то старую рукопись, строки которой сильно потускнели.
— Взгляните, это перечень моих обязанностей у Эстергази, когда я служил у него капельмейстером.
«Надеемся, что капельмейстер будет всегда трезв и будет с подчиненными музыкантами обходиться не грубо, а спокойно, рассудительно и с уважением. Далее, при выступлениях перед господами он, как и музыканты, должен представать в униформе, и не только он, Иосиф Гайдн, должен быть одет чисто, но должен следить за тем, чтобы его оркестранты были всегда одеты в соответствии с предписанием — в белых чулках, белом белье, в пудреном парике с косой или с волосами, убранными под сетку, и всегда все оркестранты — одинаково. И оттого, что музыканты на своего капельмейстера смотрят как на образец, должен он, Иосиф Гайдн, так держать себя, чтобы быть для них примером, причем в каждом случае — в частной жизни или в обществе, в еде, питье и других случаях — стараться избегать всего, что может помешать ему сохранить достоинство».
Когда гость быстро пробежал глазами написанное, старый композитор спросил его:
— Вы находите в этих условиях что-либо унизительное? Разве это так плохо требовать от служащих, чтобы они были чисто одеты?
Бетховен пожал плечами и положил бумагу на стол.
— При дворе курфюрста мы тоже подписывали такие бумаги. И все же, дорогой маэстро, я всегда испытывал чувство стыда, когда вынужден был облекаться в зеленый фрак, отороченный золотом, и пудрить волосы, согласно предписанию. Скажите, какое же различие тогда между слугой и художником?
— Я уже говорил, что различие должно образоваться усилиями самого художника.
— Я хотел бы жить в мире, где все люди равны, — сказал Людвиг, и в голосе его слышалась горечь.
— Кто бы не хотел жить в таком мире? — живо согласился Гайдн. — Может быть, это когда-нибудь и будет. Через столетия, не раньше. А пока мы должны быть благодарны людям, дающим нам, музыкантам, средства к существованию.
Бетховену было горько, что в первую же встречу со своим учителем он не находит с ним общего языка, но все же он решительно вскинул голову:
— Я не из тех, кого называют неблагодарными, маэстро! Я с любовью вспоминаю каждого, кто когда-нибудь сказал мне доброе слово в тяжелую минуту. Но почему я должен быть благодарным богачу, для которого играю в то время, когда он обедает и ужинает? Я отдаю ему свое искусство, он мне платит. Еще вопрос, кто кому обязан больше!
— Вы предубеждены против знати. И все же мы бы не могли существовать без нее. Господь бог сам создал эту лесенку, на вершине которой стоит император, ниже знать и потом, там где-то внизу, все остальные, до последнего нищего.
— Простите, маэстро, я думаю, что эта лесенка создана не богом, а людьми. Это видно хотя бы из того, что французы ее спокойно сломали и короля и князей с верхних ступенек спустили.
— О, не говорите мне о Франции! Там знать и король забыли, что обязаны быть защитниками простого человека. Теперь они несут за это кару. Не люблю разговоров о революции! От одного этого слова меня охватывает ужас. Оно означает кровь, разбой…
— Я видел французские революционные войска. Они вели себя в немецких землях вполне пристойно.
— Где же вы их видели? — живо спросил Гайдн.
— Я ехал через области, занятые французскими войсками. И слышал, как они пели новую революционную песню. Называется «Марсельеза». Необыкновенная вещь, маэстро! Каждая нота в ней полна огня!
— Вы могли бы мне ее сыграть?
— С радостью! — Людвиг уселся к роялю, и тотчас зазвучал, наверное впервые в Вене, атакующий гимн революции. Пианист подпевал вполголоса, но с большим воодушевлением.
— Прекрасная мелодия, — одобрительно отозвался Гайдн.
— Говорят, что с этой песней французы одержали победу у Вальми, а пруссаки бежали от нее. Говорят, будто один французский генерал просил о помощи в трудную минуту такими словами: «Вышлите тысячу солдат или тысячу оттисков „Марсельезы“!»
— Вы должны еще многое рассказать мне о французах. Не люблю революцию, но люблю революционеров. Им свойственны темперамент и острота. Это видно по «Марсельезе». Но не хотите ли немного пройтись? Мне кажется, что когда ноги в движении, и мозг лучше работает.
Они вышли из комнаты. Яркое солнце прорезало ноябрьскую мглу. Когда Гайдн в прихожей потянулся к вешалке, откуда-то безмолвно возник старый слуга и подал ему пальто. Одновременно открылась дверь в другом углу прихожей, и из нее выглянула седая дама со строгими глазами.
— Куда ты идешь и когда вернешься? — спросила она, не обращая внимания на Людвига, склонившегося в низком поклоне.
— С твоего позволения, дорогая Лина, я отправляюсь в Лондон. Ненадолго, как в прошлый раз. Не пройдет и года, как вернусь. Англичане прислали за мной этого атлета, чтобы он насильно увлек меня туда. Я почел за лучшее отправиться добровольно.
Он шутливо поклонился, пропустил вперед изумленного гостя и вышел из дома вслед за ним. Слуга направился к дверям дома и открыл их перед ними с удивительной смесью веселости и грусти на морщинистом лице.
— Смелее, старый дружище! — сказал ему старый композитор, выходя. — Твой покровитель Георгий Победоносец дракона одолел!
Людвиг был изумлен тем, что увидел в последние минуты в доме Гайдна.
— Удивляетесь, молодой друг? Ну ничего! Вы привыкнете к нам. Я часто оказываюсь перед выбором: ссориться с женой или все превратить в шутку? Как правило, выбираю второе. Чувства юмора у нее не достает, чтобы отвечать мне соответственно, она и умолкает.
Оба некоторое время хранили молчание, быстро шагая по улице, и пожилой маэстро шагал удивительно легко и быстро. Потом он продолжал сдержанно, будто разговаривая сам с собой:
— Как видно, господь наказывает нас за то, что мы отказываем женщинам в праве получить серьезное образование. Жена Моцарта так и не поняла до конца, что ее муж гениальный художник. А что касается моей жены, то она никогда не ценила меня больше, чем осла.
— Осла! — воскликнул Людвиг испуганно.
— Да, того осла из сказки, которому достаточно было встряхнуться хорошенько, как из его шкуры сыпались дукаты.
Некоторое время они шли молча, ибо молодой музыкант потерял дар речи, совершенно обескураженный откровенностью маститого композитора.
— Мои сочинения и поездки с концертами интересуют ее лишь с одной стороны — сколько денег будет мне заплачено. Порой я смеюсь над этим, иногда бывает горько. Когда я был в Лондоне, я получил от нее письмо с настоятельным требованием выслать ей две тысячи дукатов. Она писала, что приглядела в предместье славный домик, который хочет купить. В нем она намерена жить после моей смерти. Так и писала! После моей смерти! Она откровенно высчитывала, какое имущество ей достанется! А ведь она старше меня на четыре года!.. Но довольно об этом! Я привык уже переносить без ропота всякое испытание, посланное мне богом. И вам бы следовало привыкать к этому, мой молодой друг! Но вы пришли учиться у меня иным вещам, не правда ли? Скажите же мне, чему вы желаете учиться.
— Прежде всего контрапункту! Я восхищаюсь вашим удивительным мастерством, вы просто волшебник!
— Мастером становится только тот, кто был хорошим учеником! Я буду давать вам столько заданий, сколько выдержите! Это будут не десятки, а сотни заданий. Но ваша широкая спина вынесет много! — весело заключил маэстро.
Потом он подробно расспросил молодого человека о его сочинениях. Наконец Людвиг собрался с духом и задал Гайдну вопрос, уже давно вертевшийся у него на языке. Какую плату потребует с него маэстро за свои занятия?
Гайдн с улыбкой махнул рукой. Но когда Людвиг настойчиво повторил вопрос, он по-дружески взял его под руку и сказал:
— Вам я могу похвастаться. Знаете, сколько я заработал концертами в Лондоне? Двенадцать тысяч дукатов! Через два года я опять поеду туда, и мне обещают заплатить вдвое больше. Что мне делать с такой уймой золота? Эстергази платят мне четырнадцать сотен дукатов ежегодно, этого мне вполне хватает. Зачем же мне с вас еще брать деньги!
Но молодой Бетховен чувствовал себя неловко. В самом деле, что может предложить бедняк этому композитору, которого осыпают золотом в Лондоне? Он привез из Бонна немного денег, но надолго ли их хватит? А брать уроки и не платить за них — значит принимать милостыню!
Чуткое сердце старого музыканта подсказало ему, какие сомнения мучают юношу. Его рука все еще по-дружески лежала на плече молодого музыканта. Когда они повернули в боковую улицу, он сказал:
— Вам не кажется, что на улице слишком сыро? Здесь за углом есть маленькая кофейня. Зайдем, выпьем чашечку горячего шоколада. Греховную привычку к этому лакомству я приобрел в Англии. А сегодня, пожалуй, выпил бы этот напиток за чужой счет. Знаете что? Вы заплатите за чашку шоколада, и это будет мой гонорар за месяц вперед.
Он добродушно засмеялся, сжал локоть молодого друга и добавил:
— Соглашайтесь! Раз в месяц мы будем пить шоколад за ваш счет! И если будет необходимость, вы можете мне сказать, как я сегодня: «Гайдн, у меня нет денег. Поистратился!» Ну так идемте же!
Бетховен весело кивнул головой:
— Вы так добры ко мне, маэстро!
Старый музыкант погрозил пальцем:
— Смотрите, как бы не пришлось вам роптать на меня! На будущий год поеду в Англию. Преподавание — дело серьезное. Но пока все, что могу сделать для вас, я сделаю с удовольствием. Но договоримся: когда ваша голова будет такой же седой, как моя сейчас, вы тоже будете помогать молодым музыкантам. А что касается князя Лихновского, то послушайтесь моего совета — идите к нему без промедления!
Людвиг согласно кивнул головой, хотя и не слишком радостно. Он понимал, однако, что каждое слово, произнесенное старым маэстро, было искренним и было подсказано ему большим жизненным опытом. Приходилось расставаться с прекрасной мечтой о жизни независимого художника.
Потом он клялся себе: «Мы еще посмотрим! Венцы еще будут с уважением произносить имя этого странного Бетховена, когда он встанет на ноги! А бить поклоны перед высокородными господами я не собираюсь! Даже теперь, когда я нищ!»
Входя вслед за своим учителем в маленькую сумрачную кофейню, он, сам того не замечая, тихо напевал «Марсельезу».
Не ты перед князьями, а князья перед тобой…
Всякое начало трудно. Людвиг Бетховен, вероятно, не согласился бы с таким утверждением, если бы кто-нибудь спросил его об этом четыре года спустя. Он забыл, что и его первые шаги были трудны, но он преодолевал трудности еще в Бонне. В императорскую же столицу он явился уже готовым виртуозом. Рекомендации Вальдштейна открывали ему все двери, в которые он стучался, а его блестящее мастерство открывало эти двери нараспашку.
Во дворцах Лобковицей, Кинских, Эстергази его неизменно ожидала приветливая встреча. Музыкально образованная знать охотно приглашала его на домашние музыкальные вечера.
И не всегда он выступал бесплатно. Деньги у него теперь водились. Но как быстро исчезали!
Мудрый Гайдн правильно предугадал, что лучше всего Людвиг будет себя чувствовать в доме Карла Лихновского, владельца богатого имения в Силезии. Каждую неделю в его доме собирались знатные ценители музыки, и никогда они не покидали его разочарованными.
В один декабрьский вечер, такой же ненастный, как четыре года назад, когда молодой приезжий из Бонна рыскал по столице в поисках комнатки подешевле, в гостиной гости Лихновского сидели за угощением и старались выведать у хозяина тайну обещанного им сюрприза.
— Что это за обычай такой — собрать у себя друзей и не говорить, по какому случаю они приглашены? — шутливо выговаривал хозяину русский посол Разумовский. Он повернулся к дамам, сидевшим во главе стола. — Надеюсь, наши прелестные хозяйки смилостивятся и удовлетворят наше любопытство.
— Кристина, не выдавай! И вы, матушка, молчите! — быстро проговорил Лихновский, обращаясь к жене и ее матери, графине Тун.
Пожилая дама шутливо покачала головой:
— Ничего не обещаю, милый Карл! Во-первых, оттого, что молчаливость не принадлежит к числу женских добродетелей, а во-вторых, оттого, что я никогда не надеялась поразить гостей. Ведь у них может оказаться другой вкус!
— Благодарю вас хотя бы за малую толику надежды, — галантно склонил голову Разумовский. — Надеюсь, что княжна нам поможет, — обратился он к женщине с весьма примечательным лицом.
Хотя ей было уже далеко за тридцать, в ее лице сохранилось что-то девичье. У нее были темно-голубые, широко поставленные глаза, как это часто бывает у детей. Слегка надув свои маленькие губы, она сказала:
— Я тоже не люблю никаких тайн! Хотя бы потому, что ожидать исполнения мечты бывает часто приятнее, чем увидеть ее осуществленной! А как можно на что-то надеяться, если ничего не знаешь?
— Отлично, княжна, — похлопал в ладоши старый барон Зильберберг, любивший пировать за чужими столами и отплачивать за это льстивыми речами. — Какая тонкость чувств, какая глубокая наблюдательность! В самом деле, надеяться на что-то лучше, чем получить то, о чем мечтаешь! Действительность редко бывает лучше, чем наши мечты. Исключение составляют присутствующие дамы, красота которых превосходит все наши представления об истинно прекрасном!
У стола сидели еще не менее десятка дам и мужчин, и все они атаковали Лихновского, добиваясь, чтобы он сказал им наконец, ради чего он собрал общество на «музыкальный вечер с сюрпризом».
Статный мужчина сорока лет, волевой подбородок и черты лица которого свидетельствовали о том, что уступчивость не в его характере, на этот раз счел за благо удовлетворить любопытство гостей.
В домах знати до сего времени господствовали манеры утонченные и изящные, но им грозило забвение. Новая Франция противопоставила изысканной салонной учтивости искренность и грубую правду, нежному менуэту — стремительную карманьолу, а парику с косой — свободно развевающиеся волосы.
Общество, собравшееся в салоне у Лихновских, еще не привыкло к этим удивительным переменам в европейской жизни. Дамы отлично чувствовали себя в пышных юбках и искусно причесанных высоких париках. Мужчины были в узких брюках, шелковых чулках и парчовых камзолах, их парики были густо напудрены.
И все вокруг было как бы причесанное и напудренное. И дворец, и мебель в стиле рококо — все это выглядело так, будто художники делали свое дело шутя. У легких стульев ножки были так тонки и изогнуты, что казалось, будто они, того и гляди, подломятся; кушетки были обтянуты тканями мягких тонов, затканными букетами цветов; стены и потолок украшали легкомысленно-кудреватые, лепные узоры.
В столь изысканной обстановке негоже было хозяину не выполнить просьбу гостей. Загадочно улыбаясь, Лихновский объявил:
— Я позволил себе пригласить вас присутствовать при состязании.
— Состязание! — отозвалось сразу несколько голосов.
— Но нет никаких оснований беспокоиться! Сражение будет бескровным. Речь идет о встрече двух музыкантов.
— Кто? С кем? — так и сыпались вопросы.
— Вы будете решать, дамы и господа, кто является лучшим пианистом в нашем городе.
— Конечно, аббат Елинек, — отозвались голоса.
— Людвиг ван Бетховен, — уверенно произнес Лихновский.
— Он еще слишком молод!
— Двадцать пять лет — это немало. Моцарт был великим мастером уже в пятнадцать лет!
— Но Бетховен не Моцарт!
— Он равен ему!
— Простите, — руку поднял Разумовский, — мне кажется, Бетховен уже несколько лет пользуется вашим покровительством. Если не ошибаюсь, он проживает в вашем дворце. Не хотите же вы видеть поражение вашего служащего!
— Он у меня не служит.
— Но вы поддерживаете его!
— Да, потому что вижу в нем гения! — Князь несколько смутился, услышав в шуме много голосов несогласных с ним. — Простите, но я хочу только сказать, что он не состоит у меня на службе и благодаря моей поддержке он имеет возможность совершенствовать и развивать свои необыкновенные способности. Только и всего!
Разумовский продолжал ставить свои вопросы:
— Никто не сомневается в том, что даровитость этого молодого человека чрезвычайно велика. Но он же не обладает ни сноровкой, ни опытом Елинека, ведь ему, должно быть, уже за сорок!
— Вот сегодня все и станет ясно!
— Не сбежит ли один из них в последнюю минуту? У артистов на такой случай всегда в запасе есть болезнь, — с сомнением произнес старый барон.
— Елинек говорил, что этого пришельца с Рейна он сегодняшним вечером поставит на место… Простите мне эторезкое выражение, — промолвил Лихновский.
— А молодой Бетховен?
— Он о предстоящем сражении ничего не знает. Ненавидит такие вещи и с удовольствием бы уклонился. Я просил его быть, чтобы сыграть для общества избранных знатоков музыки.
— Если он не вздумает уклоняться, то мы, наверное, будем свидетелями редкостного поединка и услышим такое, чего Вена не видывала со времен Моцарта!
— Он не отступит. Уже не может. Мы отрезали ему путь к отступлению, — хитро засмеялся князь. — Я пригласил на наш концерт Гайдна и Сальери.
— Его учителей?
— Да, Гайдн занимался с ним до тех пор, пока не уехал в Лондон. А Сальери и сейчас дает ему уроки вокальной композиции.
— Нужно было пригласить и Альбрехтсбергера, он тоже учит его.
— Я его звал, да он серьезно болен.
— Думаю, что Бетховен не отказался бы играть, даже если бы Гайдн и Сальери не пришли. Вы, как его меценат, вполне можете приказать ему играть, — заявил мрачный князь Лихтенштейн, ревниво державшийся старых нравов, враг всяких перемен.
Ответом ему был звонкий смех Марии Кристины, жены Лихновского.
— Приказать Бетховену? Это то же самое, что приказать морю катить свои волны вспять!
— Он грубоват, этот рейнский музыкант. И не всегда обходится с нами достаточно почтительно, — добавил к словам жены князь Лихновский.
— А ему следует напомнить, что за свои деньги вы имеете право кое-чего потребовать, — выразил свое мнение Зильберберг.
— Мой гофмейстер попытался деликатно намекнуть ему на это. И знаете, что он ответил? «Его сиятельство платит не из собственного кармана, а из крестьянского»!
— Какая дерзость!.. Чего только не смеет нынешняя молодежь! — раздавались возмущенные возгласы со всех сторон.
— Эти бессовестные идейки тянутся к нам из Парижа, — высказался Лихтенштейн.
— Все скверное исходит оттуда, — согласился с ним Зильберберг. — Вы обратили внимание, что многие молодые люди из хороших семей перестали носить косу? Среди студентов эта мода распространяется, как болезнь.
— Дело не только в косах. Меняются времена, меняются нравы, — вмешался молодой Лобковиц. — Может случиться, что и вы, барон, скоро будете ходить остриженным по новой моде!
Этот тон был несколько резок в отношении старого человека, но Лобковиц мог позволить себе такую выходку. Двадцатичетырехлетний франт был любимцем венской аристократии благодаря своему счастью и своему несчастью. В семилетием возрасте он стал хромым и мог передвигаться лишь с помощью костылей. Зато судьба послала ему огромное богатство, когда он еще был несовершеннолетним. Однако он был прост и добросердечен. Поэтому барон не оборвал его резко, а сказал:
— Упаси бог, чтобы я когда-нибудь появился с короткими лохмами, будто какой-нибудь холоп. Остричь косу для меня то же самое, что растоптать императорский флаг! Не прав ли я, господин фельдмаршал? — обратился он к своему соседу, престарелому господину в военной форме.
Фельдмаршал Франц Иосиф граф Кинский грустно усмехнулся:
— Если бы можно было подавить революцию, ревниво сохраняя косы, я бы предложил, чтобы каждый мужчина носил их по две. А женщины — по дюжине. Между тем мы понесли тяжелое поражение от французов. Я в Вене ненадолго и сразу же уезжаю обратно в войска — к армии, наполовину уничтоженной. Думаю, что скоро мы будем просить о мире, и боюсь, чтобы он не был позорным для Австрии. Кто знает, что Бонапарт от нас потребует?
В столовой воцарилась гнетущая тишина. Все знали, что император Франц, пославший свои армии как в Нидерланды, так и на юг, в Италию, в надежде разбить военную мощь Франции, потерпел жестокое поражение на обоих фронтах.
— Бонапарт? — задумчиво спросил Лихновский. — Это имя теперь постоянно появляется в военных сводках. Где взяли французы этого замечательного генерала? Раньше никогда о нем не приходилось слышать.
— Как вы могли слышать о нем что-нибудь, если ему всего лишь двадцать восемь лет? — с кислой миной произнес старый военачальник.
— Совсем юнец! — раздались удивленные голоса.
— Ненамного старше нашего Бетховена! А ведь прямо Наполеон в музыке! Но оставим войну войне. Вены французу не видать! — бодро заявил Лобковиц. Все согласились с ним. Опять заговорили о слишком решительных манерах боннского музыканта.
— Действительно, Бетховен сейчас многим нравится, но есть люди, которые не так уж высоко его ценят, — сказала одна из дам. — Считают, что ему недостает моцартовской нежности, а в его сочинениях столько глубины, что это утомляет. Говорят, в этом его отличие от старых композиторов.
— Но это не есть недостаток, моя дорогая, скорее напротив, — горячо отозвалась мать хозяйки дома. — Я люблю музыку Бетховена как раз за то, что она не слишком сладостна, за то, что она вызывает много мыслей и за то, что он не идет проторенными дорогами, проложенными Бахом и Гайдном.
Никто не пожелал вступить в спор со старой дамой, так как она слыла несколько эксцентричной. Ее лицо, глаза и речь всегда были отмечены возбуждением. Она постоянно металась между восхищением и отрицанием, переходила от веселости к грусти и наоборот, с такой же легкостью, с какой помахивала своим веером.
Посол Разумовский ловко перевел разговор на другую тему.
— Вы не слышали, как прусский наследник принц Людвиг Фердинанд демонстрировал свое искусство Бетховену, когда он в этом году посетил Берлин?
Часть присутствующих эту историю знала, некоторые просили рассказать.
— Говорят, что прусский принц действительно превосходный пианист. Бетховен это признал, но свою оценку высказал таким образом, что придворные чуть в обморок не попадали. Как только Людвиг Фердинанд кончил играть, Бетховен весело направился к нему и сказал:
«Ваше высочество, вы сыграли намного лучше, чем я ожидал. Вы в самом деле играете совсем не как принц, а как настоящий музыкант!»
Лобковиц довольно рассмеялся и увлек за собой часть общества. Но остальные оцепенели в оскорбленном достоинстве.
— Но что же принц? Рассердился?
— Наоборот! Говорят, он весь так и просиял, пожал руку Бетховену и сказал: «Благодарю вас, маэстро! Ваши слова есть высшая похвала для меня». Уезжая из Берлина, наш маэстро получил от принца табакерку из чистого золота, набитую луидорами.
— За такую-то дерзость! Этому малому все сходит с рук! — мрачно отозвался Зильберберг.
— Все оттого, мой друг, что художники такой величины рождаются раз в столетие, — заметил Разумовский. — Сегодня вы услышите его новое сочинение, квинтет c-dur. Потому и пришли сюда мои музыканты.
— Никто и не сомневается в его искусстве. Мы сомневаемся только в его воспитанности! — проворчал насупившийся Лихтенштейн.
В этот момент лакей доложил:
— Ваше сиятельство, музыканты собрались в зале.
— Гайдн тоже пришел?
— Да. Господин Гайдн, господин Сальери, квартет его высочества князя Разумовского и остальные музыканты, кроме одного.
— Кто же этот один?
— Господин Бетховен, ваше сиятельство!
В зале раздались восклицания. Бетховен не пришел! Оробел! Уклоняется от встречи с Елинеком! Помрачневший Лихновский молчал. Потом обратился к гостям с поклоном:
— Извольте, пожалуйста, пройти в музыкальный зал! Бетховен еще придет. Он всегда держит слово.
Все поднялись с мест, дамы расправили свои пышные юбки.
Сначала двинулись супружеские пары и только потом остальные. У всех дверей стояли лакеи, открывавшие двери перед входящими. Дамы в пышных, стелящихся по полу юбках двигались так изящно, что напоминали большие пестрые букеты, плывущие по тихой водной глади. Они вошли в сопровождении своих кавалеров в зал, небольшой, но роскошно украшенный. Стены его были покрыты бесценными гобеленами. Потолок украшал золотой орнамент. Почетное место занимал рояль на четырех ножках, в стороне полукругом были расставлены пюпитры для нот. Пять музыкантов, причесанных так, что у каждого над ушами лежали на манер сахарных трубочек два валика из волос, и одетых в темные фраки, стояли наготове со смычками в руках. Они были готовы к исполнению первого номера программы — квинтета. Двое — один со скрипкой, другой с виолончелью — служили в квартете, который содержал Разумовский. Все они были очень молоды. Шупанцигу, первой скрипке квартета, едва минуло двадцать лет. Располневший, но очень подвижный юноша создал этот лучший в Вене квартет еще тогда, когда ему было только шестнадцать лет, а остальным по четырнадцати. Удивительное имя скрипача звучало некогда по-словенски весьма звучно — Жупанчич. Но родился он в Вене и считался немцем. Кроме четырех музыкантов из квартета Разумовского, здесь находился еще один скрипач средних лет, «одолженный» в театральном оркестре.
В сторонке расположились на маленькой софе три приглашенных знаменитых музыканта, все в длинных темных камзолах с фуляром на шее, в белых париках с косой. В середине сидел улыбчивый Гайдн, в прошлом году вернувшийся из второй удачной поездки в Англию, а справа от него Антонио Сальери, директор итальянской оперы, содержавшейся императором. На его лице всегда присутствовало выражение обиды. Удивительно узкие губы были опущены книзу, крупный нос был несколько сплюснут на кончике, будто поврежденный в какой-нибудь схватке. Третьим в этой группе, поднявшейся со своих мест, чтобы поздороваться с вошедшими, был аббат Елинек, или, как раньше было принято писать, Гелинек. Субтильный и невидный чешский пастор, подопечный семьи Кинских, считался после смерти Моцарта лучшим венским пианистом. В последнее время прошел слух, что он будет приглашен во дворец в качестве учителя музыки к детям императорской семьи.
Трое этих господ находились здесь на ином положении, чем Шупанциг и его друзья. Большинство присутствующих подошли к ним и поздоровались за руку.
Молодым же музыкантам, находившимся у рояля, один лишь Лихновский дружески кивнул головой, а Разумовский улыбнулся Шупанцигу, подошел к нему и сказал негромко:
— Ну, ребята, держитесь! Каждый получит по дукату, если проведете квинтет Бетховена безупречно.
— Но Людвига-то нет! — испуганно шептал скрипач.
Разумовский пожал плечами:
— Князь Лихновский уверен, что он еще придет. Но едва ли!
— Господин Людвиг ван Бетховен!
Музыкант, о котором только что доложили, вошел в зал быстро, задохнувшись. Он поклонился князю и проговорил с искренним огорчением:
— Простите, я немного опоздал. Но это произошло не по моей вине. Виноват мой парикмахер. — Он слегка повел головой, и общество ахнуло от удивления.
— О господи! Он явился без косы! — еле выговорил барон Зильберберг.
Волосы Бетховена, черные как смоль и такие густые, что казалось, будто гребень не продерется через них, были в самом деле острижены по новой французской моде. Пряди волос, зачесанные вверх за уши, незавитые в локоны, ниспадали на шею. Косы как не бывало. Изумленное общество хранило молчание. Только хромой Лобковиц, которому хорошее настроение никогда не изменяло, потихоньку засмеялся.
Лихновский сдержанно улыбнулся:
— Аккуратность — вежливость королей. Да и опоздание так незначительно, что мы можем простить его вашему парикмахеру! Впрочем, вы пришли в самое время, чтобы услышать собственный квинтет. Именно его исполнением мы начинаем наш вечер.
Музыканты уже настраивали инструменты, гости усаживались в кресла. Все постепенно затихли. Бетховен уселся на софу возле Сальери и Елинека, с ним он уже давно состоял в дружеских отношениях. Гайдна усадил возле себя молодой Эстергази, всегда гордившийся тем, что прославленный композитор все еще числится их капельмейстером.
Едва в зале воцарилась тишина, грузный Шупанциг кивнул своим друзьям, и пятерка смычковых запела. Некоторое время Людвиг внимательно слушал, музыка звучала так чисто и выразительно, как только можно было пожелать.
И его мысли обратились в прошлое…
Квинтет, звучавший сейчас в самом великолепном зале дворца Лихновских, появился на свет еще в бедном жилище на Рейнской улице в Бонне. Правда, тогда Людвиг написал это сочинение для восьми инструментов, теперь оно было инструментировано лишь на пять, но мелодия вызвала множество воспоминаний.
Как живет теперь старый город над могучей рекой? Чему радуются и о чем печалятся его друзья? Сколько важных событий свершилось с того дня, когда он четыре года назад покинул родной край!
Не прошло и месяца после отъезда Людвига из Бонна, как скоропостижно скончался незадачливый отставной тенорист Иоганн Бетховен. Людвиг не смог даже быть на похоронах. Только двое других сыновей — аптекарский помощник Николай и княжеский музыкант Каспар проводили отца на кладбище.
Жизнь менялась. Курфюрст, правда, вернулся весной в свой роскошный замок, но похозяйничал там недолго. Седьмого октября 1794 года в город вошли французские полки. Бонн не пострадал от войны, но все же жизнь населения переменилась. Только прославленный шпиль над старинным собором по-прежнему господствовал над башнями множества храмов.
Многие его жители до сих пор существовали тем, что прислуживали во дворце курфюрста. Теперь этого источника жизни не стало. Сбежал князь, и за ним исчезло дворянство, уехал кое-кто из богатых горожан, ушло войско, прекратил свои занятия университет, не открывала своих дверей опера. На что теперь живут они? Кое-кто отправился устраивать свою жизнь в другие края. Франц Вегелер, врач и профессор, искал счастья в Вене. И все-таки недавно вернулся домой, где он не мог рассчитывать на легкую жизнь, но где его ждала любовь. Уже давно было ясно, что Элеонора Брейнинг и он могут быть счастливы только вместе. Теперь он жил поблизости от невесты и вынужден был столько трудиться ради заработка, что пока и помышлять не мог о свадьбе.
Многие бежали из Бонна. Так однажды и оба брата Бетховена объявились в столице. С Иоганном[5] не было сложностей. Он легко нашел место в хорошей аптеке. Как быть с Карлом, способности которого к музыке не выше посредственных? А Вена кишит хорошими музыкантами. Одних учителей музыки здесь больше трехсот.
Умный и образованный Нефе устроился бы, конечно, лучше. Но ему не повезло. Когда стало ясно, что музыкальная жизнь в Бонне заглохнет в вихре войны, директор театра в Дюссельдорфе предложил ему место капельмейстера. Предложение пришло в самый решительный час. Войска подступали к городу с двух сторон, и сам курфюрст уже укладывал свой багаж и на другой день сбежал из города. Однако своего капельмейстера не отпустил:
«Вы останетесь здесь, милый Нефе, и будете играть в нашей часовне на органе в честь нашего отечества и во славу божью».
Правда, жалованье он выплатил за три месяца вперед, но в дальнейшем уже не заботился о своем верном служащем. Деньги тогда быстро обесценились, ведь война и дороговизна — родные сестры. Потом французы заняли всю Рейнскую область, и дороги в Германию оказались перерезанными. Нефе оказался в бедственном положении. Только недавно он дал знать, что вырвался из Бонна и едет в Дессау. Там он устраивается пока в театре…
Людвиг так глубоко погрузился в воспоминания, что совершенно потерял представление о происходящем. Его вывел из этого состояния толчок под ребро. Одновременно послышался резкий голос, говоривший по-итальянски:
— Attenzione, attenzione,[6] господа аплодируют вам! Квинтет кончился. Кланяйтесь же, черт возьми!
Глаза Бетховена широко открылись от удивления, он огляделся вокруг.
Знатное общество обратилось к композитору. Понукаемый Сальери, Людвиг поднялся, выступил вперед и поклонился. Только теперь его мысли окончательно возвратились с берегов Рейна. Действительность вернула его из далекого путешествия.
Лихновский попросил пастора Елинека, чтобы он сыграл одно из своих сочинений. Пианист охотно согласился. В эту минуту Бетховен наконец понял, для какой цели он приглашен сегодня. Как теперь поступить? Уйти? Но тогда скажут, что он, Бетховен, испугался состязаться с Елинеком. Елинек знал определенно, на что он шел. Если Людвиг уйдет, тот припишет победу себе.
Худощавый, подвижной пастор был не легким противником. Его высоко ценил Моцарт. Вечно всем недовольный Сальери и тот говорил о нем уважительно. Был известен он и как сочинитель. Особенно славились его вариации на темы Моцарта.
Как раз одну из них он и разыгрывал сейчас — нежно, старательно, без единой ошибки.
Потом у рояля его сменил Бетховен. Он заиграл одну из своих фортепьянных сонат, которая год назад была напечатана с посвящением Гайдну. Он выбрал для исполнения сейчас самую трудную, сонату c-dur, сочинение виртуозное.
Аплодисменты, раздавшиеся вслед за последним ударом пальцев Бетховена, были более горячими, чем после игры Елинека, но глаза слушателей вопросительно перебегали от одного пианиста к другому. Все знали, что настоящая борьба впереди. Оба должны были сыграть импровизацию на тему, заданную слушателями. Это значило сыграть вещь, полную неожиданных музыкальных идей и технических трудностей.
Елинек подошел к роялю и поклонился. В его поклоне, слишком уж глубоком, проглядывало смирение. Однако в мимолетной улыбке чувствовалась уверенность в легкой победе.
— Не будет ли любезна очаровательная хозяйка дать мне тему и я попытаюсь развить, насколько мне позволят мои слабые силы, — произнес он тихо.
Лихновская назвала песнь из оперы Сальери «Ассурбанипал». Это был знак внимания присутствующему здесь итальянскому композитору. Несколько человек зааплодировали, и довольный Сальери вскочил и живо раскланялся. Жесткая линия его рта на мгновение смягчилась улыбкой.
Композиция зазвучала в нескольких тональностях, в разной окраске, в разных регистрах. Однако в игре пианиста не было своеобразия. Он не внес в исполнение ничего своего. Когда он кончил, хлопки были доброжелательными, но не слишком долгими.
Настала очередь молодого пианиста.
Когда Бетховен вышел вперед, было ясно, что он в эту минуту не видит ничего перед собой, кроме ряда белых и черных клавиш. Мария Кристина подошла к роялю и, присев, сыграла несколько тактов из квартета Гайдна. Старый маэстро ответил на это проявление внимания к нему улыбкой и учтивым кивком.
Бетховен уселся и подождал, пока утихнет шум. Потом рояль заговорил. Гайднова тема начала преображаться под руками пианиста. Минутами казалось, что это не один виртуоз играет на инструменте, из которого он способен извлекать одновременно более десяти тонов, а что под его управлением звенит и грохочет целый оркестр. И в этой буре звуков его руки скользили с удивительной легкостью. Его руки знали свое дело!
Какие это были пальцы! Они больше походили на пальцы чернорабочего. Сравнительно короткие и широкие, с подушками на концах от бесчисленных упражнений. Тем не менее они умели извлекать звуки нежные, как мерцание звезд…
Однако больше всего он захватил присутствующих глубиной музыкальной темы, страстным прочтением каждого такта, искренностью и необычайной силой чувств. То он захватывал своих слушателей весельем так, что все блаженно улыбались, то повергал их в такую скорбь, что кое-кто готов был разразиться рыданием. Он обращался с их чувствами как волшебник, внушая им по своему усмотрению то трогательную нежность, то героический подъем духа.
Сидящие в зале едва дышали. Шупанциг и его друзья стояли за спиной Бетховена опьяненные высокой красотой этих неповторимых мгновений, хотя слышали импровизации молодого виртуоза много раз.
— Какая глубина, какая сила! — шептал Лихновскому на ухо его сосед. — Если бы можно было сохранить эту импровизацию для будущего!
Князь обжег соседа изумленным взглядом. Говорящий был покровителем Елинека. Это был граф Филипп Кинский, племянник фельдмаршала, равный дяде не только в образованности и любви к музыке, но и годами. Оба приближались к шестидесяти. Год назад Филипп Кинский привез Елинека в Вену из своего имения в Чехии, где тот был молодым сельским священником. Тем более было удивительно, что он так восхищался игрой его соперника.
Лихновский пожал плечами. Он был поражен музыкой и в не меньшей мере самим зрелищем, которое представлял Бетховен, играющий на рояле. Он играл будто охваченный горячкой. Его смуглое лицо потемнело, на висках бились жилы, глаза расширились.
Все свидетельствовало о нечеловеческом напряжении сил.
Когда пианист отнял наконец от клавиш усталые руки, в зале наступила тишина. Она была красноречивее оваций. Волнение будто связало руки слушателям.
Но через несколько мгновений гром аплодисментов взорвался неожиданно, как град, и продолжался долго, казалось, что ему не будет конца. Победа молодого музыканта не вызывала сомнений.
Когда наконец наступило спокойствие, сам покровитель Елинека твердил Лихновскому:
— Пусть Бетховен сыграет еще! Скажите ему.
— Если он не захочет сыграть сам, никто его не заставит. А потом, он совершенно выдохся. Он отдал все, что мог!
Лихновский не тронулся с места, чтобы попытаться заставить Бетховена играть, но другие немилосердно атаковали его просьбами. Издали было видно, как Бетховен отрицательно качал головой. Его лоб блестел от пота. Женщины окружили его, добиваясь, чтобы он играл еще. Он отступал от них, пока не очутился возле свободной софы, на которой сидел прежде. Однако толпа дам пестрым хороводом продолжала окружать его.
— Простите, но я не могу больше играть.
— Как вы можете не выполнить просьбу стольких дам? — вопрошала графиня Тун своим пронзительным восторженным голосом. Она не привыкла, чтобы ей отказывали в чем-нибудь.
— Я очень прошу не вынуждать меня к такой неучтивости, — просил Людвиг. В голосе пианиста слышалась нотка раздражения.
Наиболее чуткие поняли. Несколько дам удалились в сторону. Пестрый круг вокруг пианиста несколько поредел. Однако некоторым дамам пришлась по душе трогательная роль обожательниц великого артиста. Они брали его за руки, пытаясь поднять с диванчика и увлечь к роялю.
Лихновский издали наблюдал за этой пестрой метелью вокруг Бетховена, и в его глазах отразилось беспокойство. Он хорошо знал, что Бетховен может отказать и в более резкой форме. И с неудовольствием заметил, что верховодила всей этой шумихой его теща, графиня Тун, постоянно пребывающая в аффектации. Он ясно услышал ее «трепетную» мольбу:
— Может быть, вы хотите, чтобы я встала перед вами на колени?!
— Я не хочу ничего, я хочу только уйти!
— Посмотрим, откажете ли вы нам и теперь! — восторженно воскликнула она. — Опускайтесь, дамы! — Широкие юбки затрепетали, но никто не опустился на колени, кроме графини. Быстро разложив на паркете свой кринолин, она очутилась на коленях перед сидящим композитором и, взяв его руки, сжала их, будто хотела поцеловать.
Большинство дам ощущали тягостную неловкость этой сцены. Они отступили в смущении и растерянности.
На вспыхнувшем лице Бетховена отразился гнев. Он вырвал свою руку из белых пальцев графини.
— Встаньте, ваша светлость! Мы не в театре! — сказал он повелительно и, не дожидаясь, пока пожилая дама выполнит его приказание, решительно поднял ее. С точки зрения этикета это было верхом неблаговоспитанности. Как осмелилась плебейская рука прикоснуться так непочтительно к знатной даме!
Графиня уже поднялась с колен, когда подошел Лихновский, чтобы предотвратить возможные безрассудства с обеих сторон. Бетховен слегка поклонился и холодно сказал:
— Прошу уважаемых дам простить меня! Я должен уехать домой. Мне предстоит очень важная встреча.
Он уходил не оглянувшись и лишь сказал Лихновскому:
— Я обидел графиню. К сожалению, должен признаться, что меня это не огорчает. Однако я найду способ утешить ее. У меня в голове уже звучит новое сочинение — трио для фортепьяно, кларнета и виолончели в d-dur. Это трио я посвящу ей. В нем есть юмор и некоторая капризность. Надеюсь, что когда-нибудь мы все посмеемся над этими неприятными минутами.
— Ну, отлично, — согласился Лихновский. — Я знаю, что вы не так суровы, как иногда кажетесь, но что касается меня, помните, что я уважаю вашу свободу. Спокойной ночи.
Лихновский вернулся в зал.
Слуга подал Бетховену пальто. Одеваясь, он услышал возмущенный разговор, доносившийся из зала. В вестибюль входил аббат Елинек с провожавшим его Сальери:
— Это не человек! Это дьявол! Он способен сыграть на рояле такое, что не по силам никому. В жизни не слышал подобной импровизации! Но я…
Возмущенный голос внезапно умолк: побежденный виртуоз заметил своего противника. Бетховен стремительно обернулся:
— Я также очень огорчен сегодняшним вечером. Почему нас превратили в гладиаторов?! Мы должны были с вами бороться друг с другом, как рабы перед Цезарем! Я считаю вас, господин аббат, выдающимся артистом, но между нами есть различие. Надеюсь, что я ни в малейшей степени не повредил вашей славе.
Молодой музыкант с искренним сожалением вглядывался в бледное лицо Елинека. И так как изумленный Елинек молчал, не сразу найдя ответ, Бетховен добавил:
— Вы доставили бы мне большую радость, если бы на минутку зашли ко мне. Я получил недавно из дома несколько бутылок натурального рейнского вина. Я считал бы за честь, чтобы вы вместе со мной отведали его! Ведь я уже сиживал не однажды за вашим столом!
Людвига не беспокоило то, что он обидел графиню, но он не хотел, чтобы честный художник оставался в обиде на него. Взяв у слуги сутану он почтительно помогал Елинеку одеться.
Тот успокаивал Бетховена:
— Не беспокойтесь за мою славу, молодой друг! На этих днях я получил приглашение стать учителем игры на фортепьяно в императорской семье. А это в глазах венцев значит так много, что сегодняшнее мое поражение забудется. Ну и дали вы мне сегодня жару!
Они вышли из дворца лучшими друзьями.
Трехцветный флаг в Вене
Вена была полна нетерпения. Ожидалось редкое зрелище. Тем более редкое, что за него было заплачено дорогой ценой. Нападение на молодую Французскую республику закончилось сокрушительным разгромом Австрии. Она потеряла Голландию и почти всю Северную Италию. 1797 год принес мир. Французская республика и Австрийская империя по традиции должны были обменяться послами. Город ждал со дня на день приезда представителя дерзновенной страны, где король был казнен народом, как обыкновенный преступник, а его жену, бывшую австрийскую принцессу и дочь императрицы Марии Терезии, тоже отправили на эшафот.
Послы из далеких стран не были в диковинку Вене, здесь часто появлялись и вельможи с Востока в пестрых одеяниях, в сопровождении блестящей свиты. Однако французский посол возбуждал особенный интерес.
Все общество разделилось надвое. Знатные дворянские семьи во главе с императорским двором уже заранее видели в представителях республики явных злодеев. Однако среди простого люда, среди студентов и образованных горожан революция имела много приверженцев. Они с радостью приветствовали бы провозвестников новой, свободной эры, если бы императорская полиция не проявляла особого внимания к таким горячим головам.
И те, что ждали французов с радостной надеждой, и те, что ждали со злым недоверием, — все были полны любопытства. Было уже известно, что послом назначен Жан Жюль Бернадотт — не князь и не граф. Говорят, он даже не барон! И вообще никто! От простого солдата дослужился он до генерала, и теперь ему только тридцать три года.
Когда в первую неделю февраля 1798 года он въехал в городские ворота, сопровождаемый своими офицерами и служащими посольства, посмотреть на это зрелище сбежались все, кто мог передвигаться. Даже пальцем на него показывали! Так молод, а гнал австрийских генералов, словно стадо овец!
И как красив! На смуглом лице выделялся характерный нос с горбинкой, густые черные волосы свободно ниспадали на воротник. Такова новая французская мода. Разумеется, косу в свите французского посла никто не носил.
И удивительно: генерал, да еще и посол, а одет в мундир из грубого сукна и потертый, говорят, еще тот, в котором ему доводилось засыпать на бивуаке во время военной кампании. И никаких регалий. А у австрийских генералов на груди места не хватает для звезд и орденов, даром что так роскошно проигрывали сражения!
Но посмотрите-ка! Одно украшение все-таки у него есть! Это трехцветный султан на треуголке: одно перо красное, второе белое, третье синее — цвета новой республики.
Народ глазел, разглядывал, делал замечания — веселые и горькие. Дворянство и придворные при встрече французского посла, конечно, отсутствовали. Они делали вид, будто французы были ветром, который хотя и дует вдоль улицы, но увидеть его нельзя.
Первый пианист Вены тоже находился дома. Не потому, что его не интересовали французы — наоборот, он радовался каждой их победе. Но сейчас он был очень занят: кончал свою первую большую симфонию да и много других сочинений были начаты. Где уж тут болтаться на улице! Он даже приказал не пускать к нему ни одной души, хотя бы это был посол из рая.
Людвиг жил будто в заключении — только после обеда позволял себе прогуляться за городом и всегда в одиночестве. Он не допустил, чтобы даже приезд посла Бернадотта нарушил его рабочее настроение. И все-таки совершенно неожиданно он узнал о нем кое-что любопытное.
В последних числах февраля ему тоже пришлось пережить неожиданное вторжение в свой дом. В один из дней он услышал, что его слуга упорно с кем-то спорил и кричал:
— Не могу, не пущу, хозяин мне запретил пускать кого бы то ни было!
Гость что-то говорил и настойчиво продолжал добиваться, чтобы его впустили, пока рассерженный композитор сам не вышел из комнаты.
Это был Лихновский!
— Я работаю, князь!
Лихновский только рассмеялся. Таким образом его встречали не в первый раз.
— У вас очень добросовестный страж, но, скажите на милость, когда вы не работаете? И все же я не стал бы к вам пробиваться, если бы не он, — указал Лихновский через плечо на элегантного незнакомца примерно тех же лет, что и Бетховен. Его полные губы тронула нерешительная улыбка. — Он совершенно покорен вашей музыкой и изводил меня до тех пор, пока я не согласился представить его вам. Это мой брат Мориц. Приехал из Силезии три дня назад, но не думайте, что он такой уж провинциал. Брал уроки у Моцарта и на рояле играет порядочно. Гораздо лучше меня.
Бетховен провел гостей в свою рабочую комнату, быстро убрал со стульев разложенные на них ноты и усадил их.
Говорил Карл Лихновский, а Мориц сидел молча.
— Между нами разница в пятнадцать лет, и мне, к сожалению, приходится заменять Морицу отца. Он только в понедельник появился в Вене и уже наделал мне хлопот. Представьте себе, за это время он уже успел познакомиться с Бернадоттом!
— А разве это грешно?
— Не то чтобы грешно, но неосмотрительно. Никто из придворной верхушки с ним не общается.
— А еще говорят, что Вена гостеприимный город! Вот если бы турки пришли, венцы стали бы с ними обниматься! — сострил Мориц.
— С Бернадоттом дело особое. Император до сей поры не принял его.
— Сказывается больным, — откликнулся Мориц. — А ведь помазаннику божьему лгать не к лицу!
Карл Лихновский пожал плечами, а Мориц продолжал свои атаки:
— Позор, что в городе для посольства Франции не находится помещения, так же как и для его служащих нет квартир.
— Это в самом деле удивительно, — загадочно улыбнулся Карл Лихновский. — Ведь в городе достаточно дворян, которым французское золото пришлось бы весьма кстати.
— Ничего нет удивительного, — выпалил младший. — Кое-кто боится проявить внимание к французам, уж не говоря о том, чтобы сдать им свои покои. Вена хорошо знает, что императорскому двору это придется не по вкусу!
— Видите, сколько он сплетен набрался всего за три дня!
Бетховен слушал пикировку братьев немного удивленный. Неужели они пришли к нему только затем, чтобы спорить?
— Простите, маэстро, что мы отнимаем у вас время такими глупостями, — сказал Карл Лихновский. — Но вы убедились, какой упрямец и бунтарь мой брат? Боюсь, что вы с ним найдете общий язык. Вам парижская революция тоже разум возмутила. Но меня интересуют не столько политические дела, сколько музыкальные. Вы не хотели бы сыграть что-нибудь моему бунтовщику в честь знакомства?
Заставить композитора играть среди бела дня, в самый разгар работы обычно было делом безнадежным. Но сейчас он на удивление охотно поднялся и подошел к фортепьяно. Без колебания Бетховен начал играть удивительную фантазию, полную огня и отваги.
Пораженный Мориц сразу понял, что пламенные аккорды выливаются в гимн французской революции. Бетховен подчеркнул этим свое доброжелательное отношение к молодому гостю, заступившемуся за Бернадотта. Старший же Лихновский «Марсельезы» не знал и потому не понял происходящего. Бурный мотив повторялся снова и снова. Мелодия возникала все в новых вариациях и славила свободу.
Когда прозвучали последние аккорды, Мориц Лихновский сказал с заговорщицким видом:
— Мне кажется, маэстро, что тема вашей фантазии мне известна. Тема боевая и смелая. Она должна быть по душе людям. — Помолчав некоторое время, он спросил: — Вы не хотели бы посетить Бернадотта?
— Я? — искренне изумился Бетховен. — Не могу же я постучать в его дверь и сказать: «Я человек, которого вы никогда не видели, пойдемте потолкуем».
Молодой Лихновский опять загадочно усмехнулся:
— Бернадотт чуткий, образованный человек и любит искусство. Коль скоро местная знать не отвечает на его дружеские приглашения, он собирает у себя избранных артистов. Может случиться, что он пошлет приглашение и вам. Вы пошли бы?
— Прошу тебя, Мориц, никого не зови к тем, кого император считает своими врагами, — произнес быстро князь, прежде чем композитор успел ответить. Он поднялся, и оба брата направились к выходу.
А через неделю почта доставила Бетховену непривычно большой конверт. Он торопливо разрезал этот конверт и извлек плотный лист бумаги, в левом верхнем углу которого в изумлении прочитал:
Посол республики Французской
единой и неделимой
ЖАН ЖЮЛЬ БЕРНАДОТТ
Далее было выведено твердой рукой:
Нижеподписавшийся почел бы за честь, если бы Вы любезно согласились принять участие в вечере, имеющем быть 2 марта 1798 года по случаю начала деятельности посольства.
С искренним удовольствием жму Вашу рукуЖ. Ж. Бернадотт.
Композитор был радостно удивлен. Скажите пожалуйста! Двери в таинственный мир французской свободы приоткрываются сами!
Бернадотту удалось наконец, после долгих поисков, нанять для посольства пустовавший дворец, принадлежавший некогда князьям Лихтенштейнам. Он стоял на месте не слишком подходящем — на улице с оживленным движением. Однако нежеланному послу выбирать не приходилось.
Идти или не идти в этот дворец? Императорский двор явно не желал, чтобы между жителями столицы и французами устанавливались какие-нибудь отношения. Людвиг Бетховен решительно сел за стол и написал, что принимает приглашение.
Ранним вечером установленного дня у дома, где жил Бетховен, остановилась карета, и стройный посланец — офицер с трехцветным султаном на шляпе — пригласил его ехать.
Очень быстро они оказались в салоне, где посол встречал гостей. Он понравился композитору сразу, как только пожал ему руку. Его округлое лицо, обрамленное темными волосами, дышало искренностью. Нос, напоминающий орлиный клюв, соседствовал с живыми глазами.
— Я в самом деле очень рад, что вы пришли, — сердечно сказал Бернадотт.
— Не знаю, чем заслужил честь быть приглашенным, — ответил Бетховен.
— Своим творчеством! И мы в Париже знаем, что гордость немецкой музыки составляют три ее звезды — Гайдн, Моцарт, Бетховен!
— О нет, нет, — отвечал композитор, — на третье место я скорее поставил бы Генделя. Ему надлежит занять это место, не мне.
— Ну, придется нам созвездие из трех звезд превратить в созвездие из четырех звезд, — рассмеялся Бернадотт. — Очень надеюсь, что сегодня мы услышим вашу игру. — Он поклонился и обратился к входящему гостю.
Гостей было не более двадцати человек. В большинстве это были молодые певцы, музыканты, выдающиеся актеры. Из высшего венского общества не было никого, если не считать малозначительного чиновника министерства иностранных дел, присланного будто в насмешку.
Бетховен заметил среди гостей молодого Лихновского.
За ужином они сидели рядом. Потом общество перешло в малый зал, где стояло фортепьяно. В пианистах не было недостатка, в певцах тоже. Зазвучали известные арии из итальянских опер, возникли образы «Волшебной флейты». Гайдн был представлен одним из многих его квартетов. Особенно горячо был принят скрипач Рудольф Крейцер, прибывший в Вену в свите Бернадотта.
Бетховен и Бернадотт часто встречались взглядами как за столом, так и во время концерта.
Наконец они смогли побеседовать, усевшись на диванчике в углу комнаты, почти укрытые пальмами. Бернадотт спросил:
— Маэстро, как вы чувствуете себя в моем доме?
— Здесь витает дух революции, и мне это по душе, — ответил Бетховен. — Мне нравится, когда служащие вашего посольства называют вас «гражданин генерал». К сожалению, мне приходится слышать постоянно «высочество», «светлость», «святейшество». Эти слова всегда произношу с отвращением.
— У нас революция просто смела все эти смешные титулы. Мы признаем благородство только одного рода — благородство духа. Его может обрести своим трудом каждый. На важных должностях у нас находятся люди простого происхождения. Возьмите хотя бы наших генералов! Гош был кучером в королевских конюшнях, Ней — сын бондаря, Журдан был мелким торговцем, Моро происходит из обыкновенной мещанской семьи, так же как и я. Оба мы бывшие студенты…
— А Бонапарт?
— Наполеон Бонапарт? Он происходит из тех рыцарей, о которых говорят, что у них из сапог вместо шпор торчит палец. Он был вторым из восьми детей, и его отец был жалким стряпчим на Корсике. Сам он говорит, что его благородное происхождение ведет отсчет от первой битвы, когда он одержал победу над австрийцами.
И Бернадотт рассказал о молодом артиллерийском офицере, с помощью пушек обратившем в бегство неприятеля в то время, когда французская пехота была уже готова к отступлению.
— Он обладает просто волшебной властью над людьми. Самого скверного солдата Бонапарт способен превратить в героя. Когда ему доверили армию перед началом итальянской кампании, он нашел ее оборванной, голодной и не желавшей идти в поход. Но он сумел кур превратить в орлов, а неуклюжих медведей в львов. При этом он стремится воевать только тогда, когда это совершенно необходимо в интересах революции. Вы читали письмо, в котором он предложил австрийскому императору мир сразу после победы в Италии?
— В Австрии такие вещи остаются неизвестными обществу.
— Жаль! Иначе вы поняли бы, как поступает революционная Франция. Несмотря на то что разгромленные австрийские войска он мог гнать до самой Вены, Наполеон сразу же предложил прекратить военные действия. Конец его письма, в котором он предлагал мир, я помню почти наизусть.
— Скажите мне его, — попросил Людвиг.
— Звучит это так: «Если эти мои предложения сохранят жизнь хотя бы одному человеку, я буду гордиться этим больше, чем печальной славой выигранных сражений».
— Хорошо сказано. И даже если человек защищает свободу, он должен беречь человеческие жизни. Так мне кажется. Ну, посмотрим… — замялся композитор, и лицо его порозовело от волнения.
— Что вы имеете в виду? — с живостью спросил его генерал.
Бетховен смутился еще больше:
— Я как раз кончаю свою Первую симфонию. И я решил, что потом напишу новую и прославлю в ней ваших мужественных борцов за свободу и человечность. Не знаю, удастся ли мне это. Я не пишу с такой легкостью, как Моцарт, и не обладаю гигантским опытом Гайдна. Но я вложу в этот свой труд все, что знаю, все, что чувствую.
Глаза Бернадотта сверкнули.
— Прекрасная мысль! Посвятите это сочинение тому, кто является первым защитником республики — Наполеону Бонапарту!
Бетховен утвердительно кивнул головой. В его душе уже звучала мелодия мужественной песни, исполняемая оркестром, он отвечал собеседнику односложно. Бернадотт понял это и откланялся, предоставив композитора самому себе.
Так началась дружба генерала с музыкантом. Она быстро крепла, и вскоре Бетховен стал частым гостем в доме посла. Это стало достоянием венского общества, так как Бетховена знал в столице чуть ли не каждый. Все узнавали его, когда он, по обыкновению мрачный, с руками, заложенными за спину, в своем прославленном сюртуке, проходил по улицам Вены, привлекая внимание своей характерной наружностью.
Опытный Сальери, все еще продолжавший давать Бетховену уроки вокальной композиции, предостерегал его:
— Сдается мне, что дорожка от вашего дома к французскому посольству слишком хорошо протоптана.
— Это кому-нибудь не по душе?
— Мне-то нет. И все-таки я дам вам дружеский совет: сторонитесь дома Бернадотта. Тайная полиция осведомлена о каждом, чья нога ступает там!
Композитор сердито тряхнул головой так, что грива его черных волос взметнулась.
— Разве нет, однако, мира между Францией и Австрией?
— Вы наивное дитя! — сухо рассмеялся Сальери. — Какой такой мир? Только перемирие, пока император соберет новые войска и обретет новых союзников! — Он заговорил приглушенным голосом: — Говорят, что присутствие французов в Вене побуждает народ к волнениям. Того и гляди, уличные беспорядки начнутся!
— Беспорядки? Я уверен, что в Вене не найдется и десятка человек, которые вздумали бы выступать против Бернадотта.
— Per amor di Dio![7] — перешел на родной итальянский язык раздраженный Сальери, всплеснув руками. — В музыке вы толк знаете, Бетховен, но в политике вы сущий bambino.[8] Да за деньги найдется не десять, а целый батальон бродяг, которые перебьют окна французам!
— Неужели найдется кто-нибудь, кто дал бы хоть единый грош на такое безобразие?
— Ненависть к врагам императора — это не безобразие, а добродетель, — с двусмысленной усмешкой ответил Сальери. — Ну, а кто даст на это деньги? О, caro amico![9] Только такой наивный человек, как вы, не способен понять этого. Вы возлюбили Бернадотта, потому что он molto amante della musica,[10] но таких много и среди наших дворян. Вот к ним вы и держитесь поближе!
— Я не позволю, чтобы мне указывали, куда мне ходить и куда не ходить!
Сальери пожал плечами, как бы снимая с себя ответственность.
— Как вам угодно. Я вас предупредил. То, что я говорил о возможности выступлений против французов, это, разумеется, grande segreto,[11] об этом ни слова! — добавил он решительно.
Бетховен молчал, конечно, но посещать молодого французского генерала продолжал.
Поглощенный всегда своими замыслами, Бетховен не интересовался происходящим вокруг. Когда в один из весенних дней он спешил в посольство, ему было невдомек, что в городе неспокойно. Толпы мужчин и женщин торопились куда-то, где-то вдали слышался военный оркестр.
В этот день Вена готовилась к встрече австрийских волонтеров — участников войны. Их возвращалось куда меньше, чем когда-то уходило. Многие сложили свои головы на итальянских равнинах. Сегодня, пять месяцев спустя после последнего выстрела, жители страны, потерпевшей поражение, снова ощутили его горечь.
Кто-то из правителей рассудил, что боль лучше всего перелить в гнев. Неподалеку от французского посольства стали появляться небольшие группки неприметных личностей. Они что-то кричали проходящим толпам, указывая на здание посольства, подстрекали их. Бетховен ничего этого не замечал. Однако, как только он вошел на ступени, ведущие в бывший дворец Лихтенштейнов, он заметил то, чего раньше не бывало. Над входом трепетал трехцветный флаг Французской республики.
Он нашел Бернадотта стоящим у окна, рядом с молодым адъютантом и скромным скрипачом Крейцером.
— Заметили ли вы, как полиция о нас заботится?
— Полиция?
— Конечно! Вон там, напротив, стоят в толпе ее наемники. Они подстрекают народ против нас.
— Почему вы думаете, что эти люди наняты? Кое-кого вид вашего флага раздражает и без особых побуждений.
Бернадотт лукаво прищурился:
— Мы имеем сведения об отношении к нам. Знаем, как ненавидит нас двор. А наш флаг? Ну конечно, кое-кому он не нравится. Но это наше право украсить нашу резиденцию цветами своей родины. Разве на доме посла Сардинии не висит сардинский флаг, а над посольством турецким — турецкий? Однако предоставим событиям развиваться как положено! А мы лучше послушаем немного музыки. Вы сыграете нам, Крейцер?
Крейцер и Бетховен погрузились в музицирование, а Бернадотт и некоторые члены посольства являли собой благодарную публику.
Внезапно Крейцер опустил смычок и повернул голову к окнам. Бетховен не слышал ничего, все остальные поспешили к окну.
Тут вошел один из офицеров и объявил:
— Перед домом скопление народа и прибывают всё новые толпы. Они показывают на наш флаг, кричат и грозят кулаками!
Бернадотт взглянул на Бетховена:
— Видите, я был прав. Но мы его не снимем. Это означало бы оскорбить нашу страну. Я выйду к ним и буду говорить!
Офицер охраны забеспокоился:
— Они очень возбуждены, а некоторые вооружены. Они могут напасть на вас. Возьмите мой пистолет.
— Лучшее оружие — это доброе слово!
— Тогда с вами пойду я! — заявил Бетховен. — Я такой же простой человек, как те, что стоят на улице. Они выслушают меня!
Бернадотт отрицательно покачал головой:
— Выдающиеся люди тоже обладают одной-единственной головой. Берегите ее!
Он повернулся и вышел. Шум голосов сначала усилился, но сразу же умолк.
Раздался могучий голос:
— Граждане! Мы пришли к вам как друзья, и право каждого посла вывесить на своем доме…
Его слова были внезапно прерваны диким воплем из задних рядов:
— Бейте французов!
Крики понеслись со всех сторон. Слова Бернадотта потонули в них. Над толпой вздымались кулаки. Женщины визжали. Бернадотт вернулся в салон побледневший, но спокойный.
— Они ничего не хотят слушать. Я приказал забаррикадировать ворота. Удары кулаков они выдержат, а другого оружия у этих людей нет.
В это время раздался звон разбитого стекла, осколки рассыпались по ковру, и генерал, рассмеявшись, добавил:
— Но я забыл о камнях. — Потом он обратился к Бетховену: — Я обязан позаботиться о вашей безопасности, маэстро! Извините нас, пожалуйста: концерт закончился прежде времени. Мой адъютант проводит вас.
Композитор отрицательно покачал головой:
— Я не покину друзей в опасности. А если бы захотел уйти, то только тем путем, что пришел.
— Это очень благородно, но неблагоразумно! Если мы откроем парадный вход для вас, в него ворвутся эти безумцы. Будет только лучше, если никто не узнает, что сегодня вы были нашим гостем.
— Я останусь с вами, что бы ни случилось. На свете нет никого, кто бы стал меня оплакивать.
Такой ответ странно подействовал на Бернадотта. Его голос внезапно стал резким:
— Но я отвечаю за жизни всех присутствующих. Надеюсь, вы не отрицаете мое право приказывать. Граждане офицеры, приготовьте пистолеты и шпаги! Вы, адъютант, проводите господина Бетховена через служебный вход! Проверьте сначала, безопасна ли улица. Надеюсь, маэстро, что мы увидим вас у себя, когда воцарится спокойствие.
В каждом слове Бернадотта слышалась сила. Казалось, что в нем не осталось ничего от того человека, который только что спокойно слушал музыку. Он попрощался, отдав честь. Как в дурмане позволил Бетховен провести себя по лестнице и неожиданно очутился один на узкой улочке, на которую выходила задняя стена посольского здания. Здесь не было ни души. Подавленный беспокойством о своих французских друзьях, Бетховен прохаживался около посольства. Он внимательно следил за тем, что происходит перед домом.
Людская орава мрачно гудела перед фасадом, но вдруг гул достиг высшей точки, и она злобно завопила. Какой-то человек подобрался к флагу по спинам волонтеров. Он уже протянул к нему руку, когда в окне, рядом с балконом, появился человек в военном мундире и прицелился.
Яростный рев, как бурлящий кипяток, разлился по улице. Но вдруг у окна во дворе возник другой человек и отвел руку целившегося. То был Бернадотт.
Какой-то человек из толпы ухватился за древко. Бетховену показалось, что он слышит треск ломающегося дерева, и он увидел, что трехцветное полотнище упало, как тяжелораненая птица.
Оно исчезло в толпе, сотни рук тянулись к нему. Казалось, что его мгновенно разорвут. Но произошло иначе.
— Сжечь его, сжечь! — раздалось в толпе, и множество голосов подхватило этот крик.
Кто-то тащил трехцветный флаг над головой, и все двинулись к центру недалеко расположенной рыночной площади. Там поблизости от фонтана были сложены бочки, где и собирались устроить тризну.
Пространство перед посольством стало свободным, толпа исчезла, и вот уже перед фасадом дворца не осталось никого. Лишь вдали слышались крики, раздавшиеся при виде пламени, охватившего флаг.
Композитор облегченно вздохнул. Бернадотт и его друзья остались невредимы. Конечно, толпа может возвратиться, но к тому времени наверняка прискачет конная полиция или подойдут войска, чтобы обеспечить спокойствие. Стражи порядка появятся вот-вот, с минуты на минуту. Ведь императорская власть не позволяет скопляться народу на улицах.
Успокоенный, он отправился домой. В голове звучали неясные мотивы, они станут основой большой симфонии, которая будет носить имя Бонапарта.
Когда Бетховен уселся за рояль, он не знал, что беснующаяся толпа снова появилась у посольства.
Нет, войско не появилось, чтобы охранять французское посольство! Стражи порядка, которых в другое время можно было встретить на каждом шагу, теперь как сквозь землю провалились. Когда трехцветный флаг догорел, тайные подстрекатели снова увлекли толпу к дворцу.
Близился вечер, и в толпе всё прибывали таинственные лица, которые хорошо знали, чего хотели.
Толпа взломала ворота и ворвалась на первый этаж, где никого из служащих посольства не было.
Потом беснующаяся лавина хлынула вверх по лестнице, но там ее ждала стена из людей, полных решимости. Там был и Бернадотт со своими офицерами. В одной руке шпага, в другой заряженный пистолет — так они стояли плечом к плечу, готовые отдать жизнь дорогой ценой.
И темная волна захлебнулась. Она готова была повернуть вспять, но ее не пускали те, что напирали сзади, издавая воинственные клики. Как это часто бывает, храбрее всего вели себя находившиеся в хвосте.
Тайные подстрекатели давно уже исчезли. Они сгинули, когда увидели, что здесь могут засвистать пули и зазвенеть сабли. Они сделали свое дело.
Теперь всем было ясно, что французский посол не может больше оставаться в императорской столице. «Народ» доказал свою ненависть к республиканцам и свою преданность его величеству.
На лестнице метались какие-то люди из тьмы, равно неистовые и малодушные. Они трусливо не решались нападать, но не имели возможности отступить. Кто-то выстрелил сзади через головы нападающих. Выстрел был направлен в потолок. Французы ответили залпом вверх. Их выстрелы были предупредительными.
Потом снова раздался треск нескольких выстрелов. Закричали первые раненые. Толпа взревела от тупой и бешеной ненависти.
И вот наконец, в минуту наивысшего напряжения, с улицы донесся предостерегающий крик:
— Солдаты! Кирасиры!
Бряцание палашей слилось с ревом отступающей толпы. Однако никого не задерживали, виновников не искали. Нужно было только показать, что власти знают свои обязанности, что они старательно охраняют жизнь иностранных послов.
На городских воротах уже пробило полночь.
С этого дня между императорским двором и посольством Французской республики отношения обострились. Министерство внутренних дел потребовало, чтобы Бернадотт покинул Вену. Отъезд даже хотели провести ночью. Будто бы для того, чтобы избежать новых волнений «патриотов».
Бернадотт ответил, что уедет из города так же, как и прибыл — среди бела дня. И в сопровождении всех своих офицеров.
Время было напряженное, и никто из музыкантов уже не дерзал переступать порог посольского дома.
И все же нашлось исключение. Из открытых окон однажды зазвучал голос рояля, пламенный, воинственный, борющийся и победный. Только один пианист в мире мог извлечь из клавиш эту атакующую песню!
Вена хорошо знала, кто это.
Победа всюду
Людвиг ван Бетховен, одетый в точном соответствии с предписаниями моды — в сюртуке с фалдами, стянутом в талии, в узких брюках, с белоснежным фуляром на шее, поспешно спускался по лестнице трехэтажного дома на Стефанской площади. Выйдя из ворот, он еще раз взглянул на свои большие золотые часы и обеспокоенно покачал головой. Потом зашагал в тумане декабрьского вечера.
Вблизи дома его поджидал юноша лет семнадцати, круглолицый и кудрявый.
— Боюсь, Фердинанд, как бы не опоздать к сражению, — сказал Бетховен. — Бегите за угол, там стоят извозчики, наймите карету поприличнее!
Юноша охотно поспешил за угол. Композитор с улыбкой смотрел ему вслед — ведь это музыкант из Бонна! Как было не любить его!
Самый старший из десяти детей концертмейстера Риса решил завоевать Вену. Он был в том же возрасте, что и маэстро, когда тот тринадцать лет назад пустился в путь к Моцарту. У Риса в кармане было ровно семь талеров, когда он постучался в дверь Бетховена.
Он вез Бетховену письмо отца, полный страха и сомнений. И сразу же очутился в объятиях своего прославленного земляка и услышал слова, согревшие его:
«Мое сердце всегда открыто каждому честному молодому музыканту. А если он уроженец Бонна и носит имя Рис, в его распоряжении и мой кошелек. Напишите отцу, что я буду заботиться о вас, как о сыне. Я всегда помню, как он первым пришел мне на помощь, когда умерла моя матушка».
Бетховен сдержал свое обещание. Он помог юному земляку деньгами и сам занимался с ним. Учил его требовательно, добросовестно — и безвозмездно.
В этот вечер он хотел ввести талантливого пианиста в общество светских покровителей музыки, хотя мальчик всего лишь несколько недель назад приехал в город.
Когда румяный ученик вернулся с одноконными дрожками, его учитель добродушно проворчал:
— На мой вкус — отличная колесница, но к графу Фрису лучше приплестись на своих двоих, чем в экипаже, запряженном не в пару.
Однако он сел и подвинулся в угол, будто боялся, что не хватит места этому тоненькому пареньку в легком пальто. Потом Бетховен заговорил вполголоса, будто сам с собой:
— С юности я терпеть не мог эти турниры между музыкантами. Однако Вергилий[12] говорил… как это он говорил? «Перед злом не отступай! Смело иди ему навстречу»… Штейбельт — это воплощение поверхностности. А поверхностность в искусстве — это величайшее зло. Как, впрочем, и во всяком деле. — Потом он обратился к Рису: — Сегодня, милый Фердинанд, вы будете свидетелем сражения, которое многие венцы хотели бы увидеть.
Мальчик взглянул на учителя непонимающе:
— Говорят, что Штейбельт замечательный виртуоз!
— Это утверждает прежде всего он сам. Мне рассказывали, будто он специально приехал из Парижа, чтобы меня «ссадить с трона». А некоторые мои друзья, как например присутствующий здесь Фердинанд Рис, опасаются за меня. — Он с улыбкой взглянул на своего ученика краем глаза: — Не правда ли?
— Да, — простодушно ответил мальчик. — Говорят, что в Париже он считается непревзойденным. А когда он был на гастролях в Германии, в газетах ему воздавали такие хвалы!
— Кому по душе жонглеры и канатоходцы, те могут таять перед ним. Этот немец, мнящий себя парижанином только потому, что жил в Париже, просто фигляр. Я ему прощаю то, что он гордится умением изобразить на клавишах звяканье бубенчиков, шум леса, рокот воды… и кто знает, что еще. И вовсе не завидую его умению отстукать на фортепьяно этакое тремоло — подражание скрипичным пассажам. Это все пустяки, прах…
— Простите, маэстро, но в этом все-таки есть что-то и от искусства? — робко возразил юноша.
— Это цирковая ловкость, но никак не искусство. Есть ли в этом хоть какая-нибудь мысль? Искусство возникает не из пустого фортеля, а из творческой мысли! Кто хочет извлекать из фортепьянной клавиатуры только звон колокольчика, может просто повесить его где-то. Но это все глупости! — махнул он рукой. — А вот уж тамбуринов я ему никогда не прощу!
— Каких тамбуринов?
— Вы не слышали об этом? Штейбельт насочинял несколько собственных пьес, и когда он их играет, его жена бьет в это время в тамбурин. Как это ни странно, иным этакое пришлось по вкусу. И Штейбельт использует это в своей выгоде. Мне писали из Праги, что он предложил там некоторым восторженным дамам научить их сотрясать бубен. В течение двенадцати уроков он превращает такую дурочку в виртуоза-тамбуринщицу. И они выступают с ним вместе и раскланиваются рядом с ним у рампы.
Рис рассмеялся:
— Они могли бы сопровождать исполнение на рояле и турецким барабаном!.. Но он получает от этого какой-то доход?
— Ну разумеется! За обучение будущая виртуозка платит двадцать дукатов. Да столько же за тамбурин. Говорят, что он распродал их в Праге целый воз. И приехал в Вену с целым мешком дукатов.
— Так он просто шут!
— Вот именно! Я уже восемь лет внушаю венскому обществу, что к музыкантам нужно относиться уважительно, а этот торговец тамбуринами подрывает уважение к ним. А светская чернь, Бернадотту руки не подававшая, преклоняется перед этим псевдопарижанином!
— Какому Бернадотту, маэстро? — спросил кудрявый юноша.
— Ах, Рис, я забыл, что вы новичок в Вене! Здесь полгода назад был изрядный переполох. Из Вены выставили французское посольство, после того как сама венская полиция организовала против него травлю. Самодовольные черепа австрийских министров были полны тогда победоносных планов: если мы изгнали из Вены французское посольство, почему бы нам с таким же успехом не справиться с несколькими тысячами французских солдат в Италии и в Рейнских землях?
— С этого и началась теперешняя война! — догадался Рис.
— Почти так. Сначала императорским войскам очень везло.
— Потому что помогали русские?
— Да, однако, когда те поняли, что австрийцы используют их помощь для завоевания новых земель, они вышли из войны. Вот когда австрийцам пришлось хлебнуть горя! Особенно когда во главе французских полков опять встал Наполеон Бонапарт. В первые месяцы войны он был где-то в Египте. Но как только узнал, что республика терпит поражение за поражением, он, как альбатрос, перелетел через море и снова очутился в своей испытанной армии.[13] Ему не понадобилось много времени, чтобы справиться с австрийскими вояками. Как тебе известно, они отступили чуть ли не до самой Вены. И говорят, что скоро мы запросим мира!
Бетховен умолк, а потом с удовольствием вернулся к воспоминаниям о Бернадотте. Под мерное постукивание колес он рассказал про французского генерала — посла. Живя в Вене, он собирал в посольстве не дворянскую знать, а служителей искусства.
— Приглашал тех, чья благородная сущность заключена здесь и здесь, — показал он на сердце и на лоб. — Он много рассказывал мне об устройстве Французской республики, и я теперь по убеждениям республиканец. Почему главой государства должен быть непременно какой-нибудь коронованный осел? — выпалил он, не думая о том, что его слова могут быть услышаны кучером.
Молодой Рис был захвачен рассказом. Вот так же маленький «мавр» в Бонне некогда слушал дерзкие речи против господ, произносимые Нефе. Юноша был почти огорчен, когда кучер остановил дрожки у монументальных ворот дворца, богато украшенного в стиле барокко, принадлежавшего графу Фрису, одному из самых горячих поклонников искусства в Вене.
Они вошли в зал, довольно просторный и полный оживления. Рис скромно отошел в сторону, когда увидел, как Бетховену протягивают руки, как встречают его приветливыми улыбками. Примчался и Даниэль Штейбельт, с завитыми волосами, с воротником такой высоты, что он подпирал ему уши. Держался он победителем, только по доброте душевной снисходящим до несчастного побежденного.
Это сознание возникло у него после их первой встречи, неделю назад, после того как Бетховен отказался сесть к роялю во второй раз. Ему уже надоело слушать подражание колокольчикам и щебету птичек, которые демонстрировал его соперник.
Штейбельт воспринял его досадливый уход как бегство, как боязнь поражения. Так он и в разговорах об этом в городе истолковывал. Полный уверенности, вступил он сегодня в решающее сражение с Бетховеном.
Играли квинтет его собственного сочинения. Сам он исполнял партию фортепьяно. Остальные партии вели друзья Шупанцига. Штейбельт продемонстрировал в самом деле необыкновенную виртуозность своих пальцев.
— Браво, браво! — раздались восторженные возгласы, поддержанные шумными аплодисментами.
Такие же горячие похвалы выпали и на долю Бетховена.
Однако окончательное мнение о том, кто же является бо́льшим мастером, должно было сложиться в результате исполнения свободного сочинения «без нот» — любимой импровизации пианистов. Первым к исполнению своей импровизации приступил Штейбельт.
В таких концертах предполагалось, что исполнитель играет не подготовленную заранее пьесу, а экспромт. При первых же тактах по залу прокатился ропот неудовольствия: было ясно, что пианист хитрит!
Его «импровизация» явно была старательно разучена дома. Парижский виртуоз избрал для своих вариаций тему, уже разработанную Бетховеном в одном из своих сочинений. Ехидная усмешка говорила сильнее слов: вот взгляните, мол, что я могу сделать из темы, которую Бетховен развил так беспомощно!
Общество было оскорблено. Оно состояло из подлинных знатоков музыки. Кроме музыкально образованных вельмож, здесь находилось много блестящих музыкантов во главе с неизменным Сальери. Рядом с итальянским композитором сидел чудаковатый долговязый Иозеф Вёлфль. Шли толки, будто он единственный может осмелиться оспаривать славу Бетховена как пианиста благодаря невероятной длине своих пальцев, которыми мог охватить дециму.
Рядом с Вёлфлем расположилась целая группа чешских музыкантов: патер Елинек, известный преподаватель игры на фортепьяно Ва́цлав Че́рни, скрипач Вацлав Кру́мгольц и, наконец, «третий Вацлав» из чешских краев, трубач Штих, известный в Европе под именем Джиованни Пу́нто.
Такой состав ценителей музыки Штейбельту трудно было обмануть своей прозрачной уловкой. Его проводили сдержанными аплодисментами. Так, из вежливости.
В зале воцарилось невероятное напряжение. Как поступит вспыльчивый Бетховен, глубоко уязвленный выходкой? Все знали, что его львиный характер всегда готов к взрыву. Он способен подняться и уйти, даже не взглянув ни на кого.
Взгляды были обращены на побагровевшее лицо Бетховена. Глаза его сверкали под сдвинутыми бровями. Он еще сидел некоторое время, будто размышляя, стоит ли отвечать офранцуженному немчику.
Потом поднялся. Он шагнул к роялю, будто кто-то подтолкнул его вперед. Множество глаз следило за каждым его движением и были поражены тем, что он сделал.
Продвигаясь среди пультов с оставшимися на них нотами квинтета Штейбельта, он как во сне провел руками по ним и, захватив виолончельную партию, установил ее на пианино невиданным способом — вверх ногами!
Потом он начал, переворачивая ноты, выстукивать одним пальцем нелепую последовательность звуков — это была совершенная бессмыслица, мелодия начисто отсутствовала.
Слушатели сидели затаив дыхание. Что хочет сказать Бетховен этой сумятицей звуков? Что же из этого получится в конце концов?
То, что они вслед за этим услышали, было невероятно! Отдельные бессвязные звуки, заимствованные из листа, стоящего перед ним вверх ногами, неожиданно вылились в напев. Постепенно из него выросла мелодия невиданной красоты. То она была ликующей, то жалобной, а потом в ней опять звенела радость победы. И удивительно — в этой фантазии от времени до времени возникаю своеобразное скопление ритмических диссонансов, органично сливающихся с основной мелодией.
Штейбельт был сражен. Он понял, что его соперник достиг высот мастерства, ему недоступных. Его гордость была смертельно уязвлена. Он понял, что проиграл все, ради чего ехал в Вену: славу и богатство. И тихо выскользнул в вестибюль.
Ошеломленный лакей, слушавший у приоткрытой двери, поклонился ему.
— Господин уходит? — спросил он.
Штейбельт излил всю свою злобу на этого человека — чужого, необразованного, равнодушного. Он в бешенстве пробормотал:
— Что же мне остается! Он унизил меня, уничтожил…
Лакей изобразил на лице учтивую мину. Но Штейбельт продолжал, будто перед ним был не слуга, а хозяин.
— Никогда больше не хотел бы встретиться с этим человеком! До самой смерти не буду играть в его присутствии! Если кто-нибудь меня пригласит, пусть поручится, что этого… — он махнул рукой в сторону зала, — там не будет. Он хочет доказать, что мое сочинение ничего не стоит, как его не играй — как положено или вверх ногами! Ничтожество!
Он вышел на улицу.
Лакей недоуменно пожал плечами и снова приник ухом к двери. И его влекла эта удивительная музыка. Он наслушался ее в этом доме достаточно и умел отличить старую уравновешенную музыку от этой неистовой, страстной, неожиданно взрывающейся. По поводу этой, новой, он покачал головой. Господин Моцарт или господин Гайдн такого не написали бы! Когда наконец музыка умолкла, он испуганно отскочил. Из зала донеслось громкое «браво» и еще более громкое «брависсимо».
Победа Бетховена была настолько бесспорной, что на исчезновение Штейбельта никто не обратил внимания.
Высокородные гости потянулись к Фрису. Никто не хотел уходить, пока не наговорятся о событиях этого необыкновенного вечера. Менее знатные откланивались. Они спешили в этот же вечер поведать всей музыкальной Вене, кому сегодня выпал победный жребий.
Бетховен тоже простился, хотя его и удерживали. Когда они вместе с Рисом выходили из зала, Бетховен спросил:
— Хотите сегодня увидеть кусочек Бонна? В таком случае пойдемте со мной в кофейню на Петровской площади! Там нас ждут люди, вам известные. Они, наверное, опасаются, не стукнул ли меня Штейбельт тамбурином!
В отдельной комнате святопетровской кофейни их ждали четверо. Трое из них были почти одного возраста, каждый не старше двадцати пяти лет. Но четвертому было не меньше сорока лет, он был круглолицый, с красноватой кожей лица, с черными сверкающими глазами. Он сидел напротив двери и первым увидел входящего Бетховена. Стремглав вскочив, он высоко поднял полупустую чашу с черным кофе и возгласил сильным, приятным голосом:
— Vivat victor![14]
Так он пропел трижды — ликующе, все более высоким тоном. Закончил он октавой, которую тянул так долго, что композитор прервал его словами:
— Никакой не победитель, а Людвиг и Фердинанд! — Он переступил порог, и только теперь из-за его атлетической спины возникла хрупкая фигурка.
— Так это Рис! — радостно закричал один из ожидавших, и худощавый юнец оказался в распростертых объятиях Стефана Брейнинга.
Средний из трех сыновей доброй покровительницы молодого Бетховена приехал в Вену всего несколько дней назад. Завершив юридическое образование, он искал должности на государственной службе.
Потом нового венца приветствовали еще двое земляков — братья Бетховена: Карл и Иоганн. Им Рис совсем не удивился. Он знал, что они в Вене уже целых четыре года: Карл работал где-то кассиром, Иоганн — аптекарским помощником. В Вене шла нелестная для братьев композитора молва о том, что они без зазрения совести черпают деньги из его кармана.
Наконец композитор познакомил своего молодого спутника с человеком, встретившим их музыкальным приветствием.
— Николай, граф фон Музыка! — торжественно произнес он.
Но сам улыбающийся мужчина пожал Рису руку и представился иначе:
— Цмескаль.
На круглом лице Риса отразилось такое смущение, что все рассмеялись.
— Это маэстро дал мне такое прозвище, присвоил мне такой титул, — разъяснил Цмескаль. — Подождите, он и вас быстро перекрестит. Шупанцига он зовет лордом Фальстафом!
Бетховен весело рассмеялся. Рис с удивлением заметил, что здесь он ведет себя совсем иначе, чем во дворце Фриса.
— Но, дорогой Цмескаль, что вы здесь, собственно, делаете? — сказал Бетховен, положив свои сильные руки на стол. — Вы, кажется, должны были бы находиться в Венгрии? А уж если вы оскверняете Вену своим присутствием, почему вы не соизволили прибыть к Фрису? Откуда вы знаете, кто там одержал победу, если вы дезертировали с поля битвы?
Смуглый, черноволосый и грузноватый Цмескаль обратил к композитору взгляд, полный притворного удивления:
— Смилуйтесь, маэстро! Не оглушайте меня градом вопросов, будто я Штейбельт, оглушенный градом звуков. Из Венгрии я вернулся лишь под вечер и идти к Фрису было уже поздно. А откуда мне известно, что вы победили? Гм, от самого себя! Разве есть в свете препятствие, недостижимое для любимца Вены Людвига Бетховена, предмета тайных мечтаний молодых княжен, графинь и баронесс? Композитор, которому нет равных в фортепьянной музыке, с которым не может соперничать ни один из живущих и ни один из покойных композиторов! Наполеон музыки!
— Но, граф Музыка, не слишком ли много вы пробовали венгерских вин? Не следует ли попросить хозяина, чтобы он вас вывел отсюда, коль вы насмехаетесь над невинным гостем?
Удивленный Рис переводил взгляд от одного острослова к другому. Только спустя некоторое время он понял, что такая шутливая манера разговора между этими двумя друзьями привычна в их отношениях и они с удовольствием придерживаются ее.
Цмескаль родился в Домановицах, в Словакии, в дворянской семье, и стал верным другом Бетховена с первых дней приезда его в Вену. Он самоотверженно помогал гениальному музыканту в житейских делах — с ними Бетховен справлялся далеко не гениально. Обычно отыскивал для него новую квартиру, когда тому вздумывалось сменить старую. А композитор делал это довольно часто, к великой радости соседей.
Почтенный чиновник дворцовой канцелярии по делам Венгрии и блестящий виолончелист, Цмескаль поклонялся Бетховену и опекал его с удивительным старанием. Он заботился о найме служанок и прачек, о разных покупках, о своевременном приобретении чернил и нотных тетрадей. Всякий раз, когда Бетховен витал в облаках, Цмескаль защищал его интересы на земле.
Дружеская пикировка на этот раз продолжалась недолго. Младшие братья требовали подробного отчета о состязании во дворце.
— Поручаю Рису быть корреспондентом с места военных действий, — объявил Бетховен. — Я же заслужил право на покой и чашку кофе!
Румяный юноша был польщен таким вниманием. Он зарделся еще больше и с удовольствием начал рассказывать обо всем виденном, по временам бросая на Бетховена взгляд, полный обожания. За несколько недель, что он прожил в Вене, Рис полюбил своего учителя всей душой. Он почитал в нем не только гениального художника, он видел в нем пример мужественности. Он любовался тем, как тот сидел, склонясь над чашкой кофе — образец физической мощи, — широкоплечий, с головой, которую так красил высокий выпуклый, как купол храма, лоб, с густой гривой волос, с твердыми чертами лица. Что маэстро был невысок ростом, сейчас не было заметно, поскольку он сидел.
Между тем композитор не замечал восторженных взглядов, не слышал слов восхищения. Он дышал сейчас воздухом родины, думал о доме Брейнингов, где бывал так счастлив. Звук голоса Риса был приятен ему, но ему слышалось и многое другое. Перед его взором возникли Элеонора, Вегелер, веселый Вальдштейн и мудрый Нефе.
Он погрузился в себя, убаюканный воспоминаниями. Как хорошо посидеть с тем, с кем можно оставаться самим собой!
Маленькое общество приняло его молчание спокойно. Никто не досаждал ему расспросами. Все знали о его способности замыкаться в себе на долгие часы. Он не выносил, когда его отвлекали внезапным вмешательством, если он хотел остаться наедине со своими думами.
Бетховен оставался таким до тех пор, пока не отзвучал голос Риса и слово взял его брат Карл. Теперь душа его как бы раздвоилась. Часть ее продолжала свой путь по дорогам воспоминаний, другая возмущалась напыщенной болтовней брата, бранила и высмеивала его.
— Людвигу это ничего не стоит, — распространялся Карл. — Только сядет к роялю — и соната уже готова. Остается только записать.
«Глупец, — думал сердито композитор. — Это твои бредовые фантазии. Никогда мне легко не дается ничего. Посмотрел бы ты мои черновики! Ты бы увидел, какого труда стоит каждый такт. Как перечеркиваю, как выбрасываю готовое! Как семь раз отмерю и один раз отрежу…»
— Я теперь у брата за секретаря, — продолжал хвастаться Карл перед Рисом и Брейнингом. — Веду переговоры с издателями. На каждое новое сочинение шесть, семь претендентов. Цены уже можем диктовать мы — и диктуем. За большую славу большая плата.
«Осел! — мысленно бранится Бетховен. — Платят не за славу, а за то, что я тяжко тружусь с тех пор, как только я едва стал доставать до клавиш!..»
— Только вот плохо, что мало песен пишет. Я ему говорю: пиши песни, их легче продать!
«Ох, лучше бы ты помолчал! Мне поет рояль, мне поет целый оркестр. Тот, кто понимает мою музыку, сам найдет нужные слова!»
— Имя «Бетховен» сейчас в моде, — хвастался Карл с таким видом, будто он и есть причина такого положения. — Сколько этих высокородных барышень сейчас к нам льнут! Каждая считает за честь стать ученицей самого прославленного пианиста Вены.
Цмескаль, слушавший все это с неудовольствием, внезапно рассмеялся:
— Больше всего им, наверное, нравится, как он обходится с ними! Ему бы впору розгами обзавестись, чтобы он мог пройтись ими по их нежным пальчикам! Когда они играют плохо, он бросает ноты на пол, бранится!
— Так и нужно! — отозвался аптекарский помощник Иоганн, молчавший до сих пор. — Иначе они могут подумать, что играть на фортепьяно так же легко, как бить в тамбурин. Мы все прошли в Бонне школу куда суровее.
— Возможно, — смеялся Цмескаль, — только вы ведь не такие нежные создания, которые учатся у него. К Людвигу ходят ведь сущие ангелы! Например, некая Гвиччарди. Ручаюсь, милый Рис, что у вас голова пойдет кругом, как только вы ее увидите!
Это имя мгновенно дошло до сознания задумавшегося композитора и сразу же отдалило его от говорливой компании.
Джульетта Гвиччарди!
Он прекрасно помнит тот день, когда она впервые пришла в его дом. Казалось, что от нее исходит свет — будто из-за туч вышел месяц. Чистое, прекрасного овала лицо, такое белое в рамке из черных волос… Глаза удлиненные, и в них удивительная черная глубина, как в колодцах древних крепостей. Ее уста природа создала как маленький, удивительно красный цветок. Они были еще по-детски припухшими…
«Я — Гвиччарди», — войдя, сказала она своим мелодичным голосом.
Он знал, что она придет. Семья его друзей, Брунсвиков, просила его послушать ее игру. Она была двоюродной сестрой милых девушек: Терезы, Жозефины и Шарлотты Брунсвиков, и их брата, молодого Франца Брунсвика, и думал, что она придет в сопровождении матери или горничной.
Он поклонился и движением руки пригласил сесть на единственный свободный стул — прямо у рояля.
Она села? Нет, опустилась на предложенный стул бесшумно, как опускается на землю легкое перышко, долго плававшее в воздухе. Широкая юбка легла вокруг нее, как лилия на озере. Она молча смотрела на него из-под четко обозначенных дуг своих бровей. Джульетта уже была наслышана об этом симпатичном «дикаре». И молча ждала. Так как он тоже молчал, она вдруг произнесла:
— Добрый день!
Это следовало сделать входя, а сейчас это выглядело смешно, и она рассмеялась. Что могло быть хуже! Он сказал ей сухо, как только мог:
— Мне говорили о вас Брунсвики. Ваш двоюродный брат Франц Брунсвик — мой однокашник по университету. Однако я должен предупредить, что с начинающими я не занимаюсь. Поэтому я не могу поручиться, что стану заниматься с вами. Что вы хотите мне сыграть?
Он знал в это мгновение, что будет учить ее, что он уже в плену у ее темных глаз. «Сколько лет ей может быть? — спрашивал он себя. — Шестнадцать? Семнадцать?»
Джульетта разложила принесенные с собой ноты и начала играть его сонату. Он уже привык к тому, что молодые женщины, старавшиеся попасть в число его учениц, поступали так. Они добивались его благосклонности. Но ей этого не требовалось. Она сразу глубоко задела его сердце, не желая этого и не ведая об этом. Впрочем, она была неплохой пианисткой.
Потом Бетховен добивался, чтобы прелесть ее игры не уступала прелести ее облика. Он был к Джульетте строг, как ни к кому другому, в особенности, когда заметил ее склонность к легкомыслию.
Они часто виделись в светских салонах, и он обратил внимание, что она с удовольствием ловит восхищенные взгляды и ей нравится, когда за ее спиной раздается шепот: «Смотрите, какая красивая итальянка!» Это сердило его.
Он топал ногами, бросал ей под ноги ноты, когда она играла небрежно. Полезно проучить их — учеников из дворянских семей! Слишком долго они главенствовали над ним.
Она собирала ноты с пола, улыбаясь своими волшебными устами. Позднее он сам подбирал их, и она вознаграждала его взглядом, в котором порой виделось нечто большее, чем простая благодарность. Этот взгляд укрощал его, и, когда она исчезала, тихо предавался мечтам.
Ему было около тридцати лет, и судьба принесла ему славу, деньги, известность. Только любви недоставало ему. Разве не может он желать ее? Он, который с малых лет знал столько горя и труда. Мечтать о милой жене? Разве не вправе он мечтать о семье? Бетховен рассудил, что у него есть право на это. Но ее чувства были не известны ему.
В один из дней, перед концом занятий с Джульеттой, Бетховен сам присел к фортепьяно. Это было в конце зимы. За окном медленно падали хлопья снега. От камина исходило тепло. Времени оставалось мало. Скоро перед домом остановится экипаж, горничная постучит в дверь и спросит:
— Барышня готова ехать?
Он начал играть, охваченный боязнью: поймет ли она его и не постучат ли в дверь с минуты на минуту, прежде чем он услышит ответ.
В аккордах слышалось страстное признание, мужество и страдание. Она стояла рядом, и ее лицо пылало. Он чувствовал это, не глядя на нее.
Бетховен быстро кончил, перевел дыхание, будто после тяжелого труда. Его голос срывался:
— Я бы хотел, чтобы вы тоже сыграли.
Она села к фортепьяно без колебаний и сделала лучшее, что могла: повторила сыгранное им. У нее был хороший слух и память, а исполнение было сейчас второстепенным делом. Он снова услышал свое признание. В нем слышалось меньше мужественности, зато больше нежности.
Он поцеловал ей руку.
С того времени, казалось бы, все стало ясно. Обычно он сидел молча в ожидании ее и напрягая слух, чтобы сразу же услышать ее легкие шаги. Часы ожидания были так долги, а мгновения, когда она была с ним, так кратки!
Однажды его обожгла мысль: ты сумасшедший! Ты веришь, что Джульетту отдадут тебе! Графскую дочь — музыканту!
Но разве не говорил совсем недавно Цмескаль, что он, Бетховен, любимец Вены? И ведь наступают иные времена! Революция во Франции меняет представления и в графских головах. Равенство между людьми завоевывает признание!
Он счастливо предавался своим мечтам, сидя в маленькой кофейне на Петровской площади, ничего не замечая вокруг себя. Оглушенный своим счастьем, он не слышал разговора, ведущегося возле него.
Внезапно его мозг пронизала страшная мысль. Всплыла в памяти тайна, которую он тщательно хранил от всех, о которой он страшился думать даже наедине с собой. Мысль, которую гнал от себя, а она все снова и снова заявляла о себе, не позволяла забыть ее.
Людвигу Бетховену казалось временами, что он теряет слух. Нет, это невозможно! Это всего лишь временная болезнь уха. Не может он, в самом деле, лишиться того, что составляет суть его существования, его жизнь.
Он горестно сомкнул веки и стиснул зубы, чтобы не разрыдаться. Глухой музыкант! Что может быть более трагично?
Он тряхнул головой и неожиданно поднялся. Так резко и неожиданно, что сидящие рядом удивленно воззрились на него. А он подошел к ветхому пианино в углу.
Струны глухо запели скорбную мелодию. Молоденький Рис вздрогнул от неожиданности. Повернулся к Цмескалю, сидевшему рядом и прошептал:
— «Патетическая»!
Цмескаль благоговейно кивнул.
Лицо Риса было полно радостного воодушевления. Он и не мечтал услышать когда-нибудь в исполнении самого композитора сонату, из-за которой по всей Германии среди музыкантов велись настоящие сражения. Молодые боготворили ее, старшие ненавидели. Профессора запрещали студентам разучивать и исполнять необыкновенное сочинение, разрушавшее все обветшалые представления о законах композиции. Однако молодые музыканты покупали ноты и втайне разучивали сонату.
Сам же Бетховен, называя эту свою фортепьянную сонату «Патетической», и не предполагал, что посеет семена раздора во всем музыкальном мире.
Счастливый Рис буквально впился глазами в лицо игравшего, а слух его напрягся до предела. Ему слышалась не просто мелодия фортепьяно, это был диалог. Будто в одном существе вели страстную беседу две души. Фортепьяно пело. Оно пело без слов, и все же до такой степени зримы были чувства, выраженные в музыке, что слушателям временами казалось, будто они сидят в театре и слушают полный драматизма оперный спектакль.
Сочинение было исполнено глубочайшей грусти, стихавшей лишь временами. В музыке слышалась печаль, а не жалоба, мужественное страдание высокой души. Иногда возникала мятежная нота, как бы далекий отзвук «Марсельезы».
Рис был тонким музыкантом. Несмотря на свою молодость, он понимал, что́ было так чуждо музыкантам старого покроя в этом сочинении Бетховена. Это не были мелодии, полные спокойствия и уравновешенности, как у композиторов старшего поколения. У него основные мелодии не переплетались в уже известных вариациях. Скорее здесь развертывалась драматическая картина, выраженная лишь одной музыкальной темой, разработанной с таким блеском! Те части сонаты, которые в сочинениях прошлого глубоко не разрабатывались, в «Патетической» были наполнены пламенным чувством.
Рис уже дома знал эту сонату, и это было так интересно видеть, какие чувства отразятся на лице композитора, когда он будет исполнять свое творение. Он слышал в ней страдание. Только в третьей, заключительной части сонаты как бы пробивается радостный свет. Грусть звучала приглушенно, слышалась надежда и даже радость.
Отзвучали последние аккорды, и Бетховен сложил руки. Он утолил свою боль музыкой. Тряхнул головой, будто отгоняя от себя отзвуки пережитого горя.
Нет, он не поддастся печали! До сих пор он справлялся со всеми невзгодами, почему бы ему не справиться и на этот раз? В Вене полным-полно знаменитостей-медиков. Переутомленный слух можно вылечить! Богиня счастья не отвернется. Джульетта будет его! И жизнь будет полна трудов и радостей побед, но она будет гораздо счастливее, потому что это будет жизнь вдвоем!
Композитор повернулся к своим примолкнувшим друзьям.
— Домой! — сказал он ясным голосом. — Мы сидим здесь непозволительно долго. И я слишком долго играл. Нужно и музе отдохнуть, чтобы завтра она выглядела свежее.
Жизнь или смерть?
Профессор Шмидт сидел за столом, заставленным коробочками, баночками и бутылочками, и смотрел на композитора — он умел понимать человеческие беды. Старый лекарь читал в человеческих душах. А здесь гордых покидала гордыня, а молчаливых сдержанность так же неизбежно, как им приходилось снимать свое платье, чтобы врач мог осмотреть их.
Такого отчаяния в глазах посетителя он не видел давно.
— Можете себе представить ужас музыканта, сознающего, что день ото дня теряет слух? В тридцать два года! — говорил Бетховен, сидя напротив доктора. Его крепкие руки бессильно лежат на коленях. Он побывал у многих врачей. Болезнь, о которой он недавно только подозревал, уже не вызывает сомнений.
— Почему вы думаете, что обязательно оглохнете? — успокаивал его профессор. — Не пугайте Вену, будто она может лишиться своего лучшего пианиста! И не пугайте самого себя! Скажите себе, что ваши уши просто устали. Они требуют отдыха. Дайте им его! Но не на неделю или две. Не меньше чем на полгода! Советую вам — уезжайте из Вены куда-нибудь в поля.
Глаза композитора засветились робкой надеждой.
— А поможет ли это?
— Нужно твердо верить. Исцеляют не только лекарства, а прежде всего вера.
Бетховен поднялся, его лицо порозовело от радостной решимости.
— Хорошо! Я расстанусь на время с Веной и буду жить за городом до зимы. Но, доктор, пожалуйста, обещайте мне… — не договорил он до конца.
— Что такое?
— Не говорите никому, никому на свете, что Бетховен калека!
Доктор ласково закивал головой:
— Сохранение врачебной тайны — одна из первых обязанностей людей нашей профессии. Но чтобы вы были спокойны, вот вам моя рука.
Композитор пожал руку врача.
— Для меня глухота означает смерть. Это так же страшно, как для художника слепота. Хорошо, если у такого несчастного есть жена и дети, есть любовь, которая привязывает к жизни. У меня нет никого и ничего. Только музыка. Приходилось ли вам слышать о глухом музыканте? Я и теперь уже веду жизнь самую трудную. Вот уже два года, как я сторонюсь общества. Думают, что я заносчивый, нетерпимый, что я не люблю людей. А ведь раньше я любил бывать в обществе, очень любил, но теперь…
Голос Бетховена прервался. Потом он собрался с силами:
— Не могу же я при встрече говорить людям: «Я глухой!»
Как трудно выглядеть нормальным человеком, если приходится в театре наклоняться к оркестру, чтобы слышать его или услышать, что говорят тебе музыканты. Высокие ноты у инструментов и певцов совсем не слышу, если сижу в отдалении от сцены. Странно, что люди не замечают этого. Временами принимают меня за рассеянного. Недослышу чего-нибудь, говорят: должно быть, задумался!.. Один бог знает, что будет дальше со мной!
— Надеюсь, что все наладится. Только быстрее уезжайте из Вены. Вместо медицины пользуйтесь сельским покоем. Увидите, что ваш слух восстановится!
Бетховен смотрел на врача с безграничной благодарностью. Скольких врачей сменил он. Многие мучили его бесчисленными медикаментами, лечили пищеварительные органы вместо уха, изгоняли глухоту ваннами… Но профессор Шмидт, кажется, понимал истинное положение дел.
Пациент ушел от него с надеждой. Через неделю он поселился в деревне Гейлигенштадт, в полутора часах ходьбы от столицы.
Вдали от центра села, почти на краю, стоял сельский дом, невысокий и продолговатый; если смотришь на него снаружи, тебя охватит тоска. Из серого камня, приземистый, с маленькими окнами. Входишь внутрь, и картина меняется. Вид, открывающийся из окон, радует взор. Вот катит свои зеленоватые волны Дунай, вдали голубеют вершины Карпат, а вокруг, сколько хватает глаз, лежат зеленые луга, виноградники, поля и сады. Задние окна смотрят в сад и на пригорки, поросшие мелколесьем.
Река, холмы, луга и берега, покрытые виноградниками! Не было ли все это знакомо Бетховену с детства?
Придунайская земля казалась ему скромной сестрой прирейнского края.
Братьям он сказал:
— Я стал немного странным. Когда погружаюсь в свои мысли, ничего не вижу и не слышу. Говорите мне тогда громче. — Он все еще надеялся скрыть свой недуг.
Деревня и без чьего-либо предупреждения считает его чудаком. Этот угловатый парень, с виду такой, что и быка одолеет, беспокойно мечется по тропинкам, что-то бормочет, говорит сам с собой. Такого чудака в деревне еще не видывали.
Он не носит шляпу на голове, как все благовоспитанные люди, а засовывает ее под мышку или размахивает ею, держа в руках за спиной. Грива черных волос развевается, он будто спешит куда-то. Но вдруг замедляет свой бег и, уставившись в гущу ветвей, слушает шум ручья. По временам он явно прислушивается к щебетанию овсянок, перестуку перепелов, к пению кукушек.
И всегда в руках у него тетрадь, и он делает в ней бесчисленные заметки. Иногда дети подкрадываются к нему, сидящему под деревом, и видят, что на бумаге он пишет какие-то точки, галочки, какие-то каракули.
Бывает он поздоровается, остановится и заговорит с пастухом. А то вдруг будто на лицо наденет маску. Никого не замечает, не отвечает на приветствия. Душа его, должно быть, погружается в миры, недоступные простым смертным, и только тело блуждает здесь в лугах. Однако душа его полна покоя.
Высшая надежда дает ему радость и силы для работы. Здесь, в лугах и полях, рождается мужественная и радостная Вторая симфония. Он начал ее еще в прошлом году — тогда вспыхнула его любовь к прекрасной Джульетте. Сначала в ней звенела нежная песнь любви, потом зазвучал победный марш. Любовь одержала победу над двумя сердцами. Гремели духовые инструменты — в отличие от симфоний композиторов старшего поколения, в которых главную партию всегда вели смычковые. «Я возьму свою судьбу за горло. Не позволю, чтобы она победила меня», — писал он недавно своему старому другу Вегелеру в Бонн. И Вторая симфония вторила ему.
Каникулы в Гейлигенштадте — это отдых лишь для слуха, внутри идет непрестанная работа. Побуждает его к этой работе радость — сильнейший из всех двигателей. И даже новая симфония не в состоянии поглотить полностью его все возрастающую творческую мощь. Одновременно он завершает сонату для фортепьяно — уже семнадцатую! — и пишет новую для скрипки и рояля.
Ему никто не мешает. Часто приезжает только Рис. Заботливый учитель не хотел покидать своего ученика на целых полгода.
Кудрявый юноша проигрывает здесь то, что разучил, и снабжает новостями из Вены и родного Бонна. Когда отзвучит рояль, они вдвоем отправляются на прогулку, и Бетховен с удовольствием слушает его рассказ о том, что происходит в мире, покинутом им на время.
Молодой пианист не переставал удивляться. Он столько слышал о том, как резок бывает маэстро со своими учениками, как умеет накричать на них, как может бросить ноты и твердо поставить непослушные пальцы учеников на клавиши. А он за последние два года не видывал ничего похожего. С ним учитель как ягненок. И хотя заставляет повторять одно и то же место по десяти раз, никогда не сердится, не бранится.
Однажды, когда они гуляли в лугах, юноша отважился спросить, почему же маэстро бывает так строг к своим ученицам? Стоял солнечный майский день, и настроение у Бетховена было таким же радостным, весенним. Он ласково взглянул на ученика:
— Мне уже в Бонне говорили, что я медведь. Надо думать, ты этих зверей видел. Они неповоротливы, малоподвижны, топчутся на задних лапах, а если положат на что-нибудь лапу, то уж непременно раздавят. Вот такой и я. Фарфоровым девицам и барынькам в салонах это кажется смешным. Они разглядывают меня и думают: когда же этот медведь что-нибудь разобьет?
Кто встречается с медведем в лесу, тот, конечно, почтителен с ним. Один вид этого увальня наводит ужас. И надо мною знать смеялась бы, кабы меня не боялись. Некоторые из них даже добры ко мне. Вот хотя бы Лихновские! — рассмеялся он добродушно. — Княгиня заботится обо мне, как бабушка о внуке. Охотно посадила бы меня под стеклянный колпак, чтобы меня не задела ничья непочтительная рука.
Я с уважением отношусь к Лихновским и Разумовскому, да и к Лобковицу в какой-то мере, но привязаться могу только к вам — к Стефану Брейнингу, Шупанцигу, к Вегелерам.
Помолчав, он продолжал:
— Вы, наверное, уже плохо помните покойного органиста Нефе. Это был мой великий учитель. И не только в музыке. Однажды, прежде чем я навсегда уехал из Бонна, он дал мне прочитать свой дневник, хранимый в величайшей тайне. Я прочитал там некоторые вещи, которые выписал и запомнил.
«…К властителям я отношусь хорошо только в том случае, если они добрые люди. Их законы признаю только тогда, когда они на пользу простому человеку. Но к господам никогда не стремлюсь. Плохих правителей ненавижу больше, чем бандитов».
Так думал Нефе. Так думаю и я. Многие из знати сделали для меня немало доброго и еще сделают. Я ни перед кем не остался в долгу. Каждому из них я посвятил по нескольку своих сочинений. Поэтому человечество будет и в далеком будущем знать об этих незначительных людях до тех пор, пока последний музыкант будет знать имя Бетховена.
Он кончил, и воцарилось долгое молчание. Бетховен прервал его неожиданным заявлением:
— Впрочем, человек всегда может ожидать измены от знатных господ.
Рису показалось, что за этими словами что-то кроется. За легкой усмешкой скрывалась горечь. Будто в нем погасло что-то. До конца прогулки он не сказал ни слова.
Иногда тоска охватывает внезапно, будто в ясный день набегает туча. Потом так же внезапно исчезает. Хуже бывает, когда для нее есть серьезные основания, сладить с которыми ты бессилен.
Поводом к внезапному ожесточению Бетховена было письмо, уже несколько дней лежавшее на столе. Он не мог понять его. Вернее, не хотел понимать. Та, с которой он связал все свои надежды на будущее, которая должна была стать его женой, прислала ему странное письмо. В нем не было того, что он находил раньше, — нежных воспоминаний, и, к удивлению его, все письмо было полно упоминаний о другом человеке. Некий граф Галленберг обворожил красавицу Джульетту.
Бетховен знал этого девятнадцатилетнего щеголя, столь же красивого, сколь и пустого. Он претендовал на роль выдающегося композитора, но его слушатели обычно занимались шутливыми подсчетами: что он «позаимствовал» у Глюка, что у Гайдна, что у Моцарта.
Бетховен, добившийся успехов безграничным трудолюбием, решился играть свою Первую симфонию лишь к тридцати годам. Мог ли он без презрения смотреть на музыканта-марионетку, украшением которого был лишь его графский титул.
Но сердце Джульетты, это ясно, легко склоняется от серьезности к легкомыслию. Бетховен страдал, но в глубине души еще верил. Джульетта игрива как дитя, переменчива как морская волна. Возможно, на какое-то мгновение ее заинтересовал этот болтливый щеголь, но не могла она забыть Людвига! Он продолжал писать ей так, будто ничего не случилось.
Но вот пришло еще одно письмо. От него исходил запах фиалок, но оно содержало слова, означавшие крушение всех надежд. Графиня высказалась до конца. Глаза глохнущего музыканта пробегали по строчкам письма и наполнялись слезами. Так, значит, любовь изменила!
Девушке, разумеется, было лестно, что ей предложил свое сердце и руку самый прославленный виртуоз Вены. Такое равносильно роскошной драгоценности и ею можно украсить шею, ловя завистливые взгляды приятельниц, а потом эту драгоценность снять с шеи и отложить в сторону. Значит, графиня Гвиччарди решила сменить украшение?
Галленберг — граф. Говорят, правда, что он из прибалтийских немцев, однако кровь-то благородная в нем течет! Что из того, что во всем мире Бетховена ставят в один ряд с Гайдном и Моцартом?
А письмо кончалось жестокими словами:
«Я ухожу от гения, который уже победил, к гению, который еще борется за признание. Я хочу быть его ангелом-хранителем».
Эту ночь в начале июня Бетховен провел без сна до самого восхода солнца. Потом целый день как помешанный бегал по холмам. Рассудок уже понимал, но сердце не мирилось с тем, что Джульетта покинула его.
Обессиленный, вернулся он домой, когда уже смеркалось. И снова перечитывал строки ее письма.
Потом сел к фортепьяно… Но не играл. Только протянул руки к клавишам и бессильно уронил их.
Как пейзаж, озаренный молнией, возникла вдруг перед ним картина того счастья, пережитого год назад. Прошедшее лето! Ушедшая радость!
…Посреди венгерской равнины, где когда-то хозяйничали турки и болотная лихорадка, в болотистой местности создал некогда упорный человек образцовую усадьбу. Осушил поле, насадил лес, заложил большой парк и посреди выстроил небольшой дом. Этим предприимчивым человеком был дед Джульетты.
Бетховен знал Брунсвиков раньше, чем встретил Джульетту. Ее двоюродный брат Франц появился в Вене два года назад вместе с прелестными сестрами — Терезой, Жозефиной и Шарлоттой. Двух старших двоюродных сестер Джульетты Бетховен учил игре на фортепьяно. Сдружился со всей семьей удивительно быстро.
Эта семья сильно отличалась от тех венских семей, в домах которых бывал Бетховен. Все четверо детей горячо любили друг друга, отличались независимостью характеров и смелостью суждений.
«Над моей колыбелью, — сказала однажды старшая из дочерей, Тереза, — витал дух Вашингтона и Франклина».
Покойный отец научил детей уважению к демократии.
Это было редкое явление в среде знатных семей, обычно безоглядно преданных императорскому дому и страшившихся каждого слова, от которого исходил дух свободы.
После смерти графа в поместье хозяйничала его жена, энергичная и деловая. Целые дни она проводила в полях на коне, наблюдала за осушением болот, за работами в лесу, за посевами и уборкой. При этом ценила музыку и литературу и со своими служащими переписывалась на латыни. Своих четверых детей она воспитанием не угнетала. Росли они на свободе. Зиму проводили в Пеште, а остальные восемь месяцев — в коромпском имении, на бескрайней придунайской равнине. Там бывала и Джульетта. Четверка Брунсвиков уже в детстве основала «республику» — дружеский кружок, в который принимались и наиболее симпатичные из гостей.
У «республики» было святилище — лужок в центре сада, окаймленный могучими липами.
Каждое из прекрасных деревьев носило имя кого-нибудь из членов общества и в отсутствие как бы олицетворяло его. К его кроне обращались слова, предназначенные отсутствующему, а его потрескавшейся коре поверялись тайны.
И Бетховен получил «свое» дерево, когда впервые появился в Коромпе как желанный гость. Его липа росла рядом с деревом Джульетты.
О чем теперь шептала их листва? Смогут ли они понять перемену в девичьем сердце? Тогда, год назад, эти деревья были свидетелями того, как они, двое, обо всем поведали без слов. Красноречивы были глаза, кивок головы, пожатие рук. Все было наполнено обещанием любви навсегда, верности!
Погруженный в воспоминания Бетховен прикрыл глаза, и перед его взором явственно предстала веселая ватага молодых друзей: спокойный Франц, задумчивая Тереза, крестница самой императрицы Марии Терезии, оживленные Жозефина и Шарлотта, приезжие юноши и девушки и, конечно, Джульетта, Джульетта прежде всего!
О, эти тайные прогулки по утрам! В росных лугах, когда сердца были омыты радостью…
После завтрака скачка молодых на горячих и легких венгерских конях. После обеда обычно собирались на своем лугу, окруженном липами. Если кто-то уходил, за него оставалось «его» дерево. Веселье длилось до сумерек.
Незаметно надвигался вечер, который они встречали музыкой, уже в доме. Пение, игра на скрипке, декламация сменяли друг друга. Иногда вместо мелодий слышались строфы стихов. И когда наступала полночь, кому могло прийти в голову отправляться спать? Но раньше это лишь изредка осознавалось как счастье.
Немало времени провел он под старыми деревьями, кроны которых пронизывал лунный свет. Вспоминал радостные волнения, изведанные за день, снова и снова возвращался к ним в мыслях, глядя на окошко, за которым засыпала Джульетта. Иногда ее тень мелькала за легкой шторой, и бывало, что она кивала ему головой, увидев в свете луны. А он захлебывался радостью.
Но иногда ночь приносила горькие раздумья. Его горячая голова пылала не только от любви, но и от горестных предчувствий. Не изменит ли когда-то Джульетта избраннику, не обладающему ни светским лоском, ни красотой… Но если останется верной она, не разрушит ли их счастье ее семья? Отдадут ли они единственную дочь за того, чье благородство имеет истинное значение лишь в царстве музыки?
Воспоминания вернулись из радостной Коромпы в грустный Гейлигенштадт. Джульетта и вправду изменила. Ведь Галленберг — граф, Бетховен — только художник.
Предчувствия лунных ночей не обманули его.
Он ударил по клавишам. В их бурном отзвуке слышалась боль. Мгновение тишины, и Бетховен заиграл сонату, посвященную Джульетте. В ней было все, что он давно предчувствовал, — любовь и ее крушение. Это сочинение, позднее так удачно названное Сонатой лунного света, было издано совсем недавно, в марте.
Тогда девичья ветреность вселилась в дамского угодника, и вот безвестный сочинитель принес издателю свое творение, на первом листе которого было оттиснуто посвящение:
ALLA DAMIGELLA CONTESSA GIULIETTA GUICCARDI.[15]
Ничего не спасла эта песня грустной любви, напрасно простиравшая свои руки к счастью… Значит, случилось то, что предсказала мелодия. Предчувствие счастья сгубила суровая непогодь — покинутому не оставалось ничего иного, как смириться. С горьким спокойствием принял он этот свой крест.
Но так было лишь в Сонате лунного света. Не в жизни!
Гейлигенштадтские рощи и поля были свидетелями его горя. Много дней и недель он влачил свое разочарование по дорогам, бродя с опущенной головой и невидящими глазами. В душе его была пустота, и не было у него сил избавиться от нее.
Приезжал Рис и был удивлен болезненным видом Бетховена. Как видно, сельская тишина не врачует.
— Вам плохо, маэстро? — участливо спрашивал он. — Может быть, я мог бы чем-нибудь помочь? Что-нибудь сделать для вас в Вене?
Бетховен взглянул на него глазами, полными скорби.
— Есть дела, мальчик, которые никто не устроит за меня.
Молоденький пианист думал, что маэстро сокрушается о возрастающей глухоте. Он-то уже давно знал об этой беде, но по тайному уговору со Стефаном Брейнингом и Шупанцигом делал вид, будто ничего не замечает.
Когда же Бетховен недослышал чего-нибудь, он повторял и, улыбаясь, добавлял:
— Вы так задумались, маэстро! Наверное, замышляете новое сочинение?
В эти летние недели глухота как раз не слишком мучила Бетховена, и именно это питало его надежды. Ему казалось, что левое ухо слышит уже несравненно лучше.
— Забуду Джульетту, если опять смогу работать. Искусство излечит меня от любого страдания, — шептал он, полный надежды. — Не будь этого горя, я был бы готов обнять весь мир. Моя настоящая молодость — в самом деле! — ведь она только начинается. Я это чувствую. Мои физические силы прибывают как никогда, а душевные тоже!
Не спеша, вернулся он к работе над Второй симфонией, которую в отчаянии забросил. Слышится в ней душевное спокойствие, пиршество неожиданных идей, постепенно пробивается только ему присущий голос.
Он ищет радость в мелких событиях дня, стараясь благодушно смотреть на мир.
Его забавляет, что он так ловко умудряется скрывать свою глухоту от Риса — паренька внимательного и любознательного. Ему не приходит в голову, что ученик артистически разыгрывает роль ничего не понимающего человека, обманывая учителя из самых добрых побуждений.
Но наступил день, когда он лишился и этого утешения. Близилась осень. Полугодичное лечение сельской тишиной близилось к концу. Рис приехал с почтовой каретой сразу поутру. Когда он подходил к деревенскому строению, выдвинутому к последним садам деревни, из-за облаков выглянуло солнце и осветило все вокруг золотыми бликами, как это бывает только в пору бабьего лета.
Из открытого окна доносилась какая-то пламенная фантазия. Как только Рис показался в дверях, маэстро поднялся из-за фортепьяно и весело произнес:
— Сегодня грех сидеть дома! Сначала навестим леса, а потом уже за рояль!
Такие прогулки по гейлигенштадтским окрестностям часто продолжались по четыре часа и потом завершались в деревенской корчме, куда ученик и учитель заходили, чтобы подкрепить свои силы. Иногда Бетховен становился разговорчив, но чаще, погруженный в свои мысли, потихоньку напевал мелодию, пришедшую ему в голову, а иногда запевал во весь голос.
В такие минуты Рис шагал сбоку и помалкивал. Но сегодня в какую-то минуту ему изменила осторожность. Это была роковая минута.
Когда они ненадолго присели на меже и маэстро напевал вполголоса, из рощицы напротив послышалась мелодия. Как видно, пастух заиграл там на свирели, сзывая своих овец.
Рис знал этот простой музыкальный инструмент. Пастухи делали его из ствола бузины. Поэтому он был удивлен отличным, мягким тоном и мастерством игравшего.
— Хорошо играет! Правда, маэстро?
Бетховен не ответил.
— Давно я не слышал такой отличной свирели!
— Вы о чем? — удивленно спросил Бетховен.
— Пастух играет! И как чисто! Послушайте! — с готовностью объяснил юноша.
— Где это и кто играет? — мрачно отозвался Бетховен. Однако склонил ухо, и на его лице отразилось мучительное напряжение.
Голос свирели звенел в воздухе совершенно отчетливо, и Рис наконец понял, какую он совершил оплошность, и поспешно начал отступление:
— Уже перестал. Было едва слышно. А может быть, мне это показалось. В самом деле, ведь ничего не слышится!
Эта неловкая попытка неопровержимо разоблачила испуганного Риса.
Но Бетховен уже ничего не видел вокруг себя. Его лицо сразу осунулось и посерело. В каждой его черте было страдание. Он вглядывался в рощу, ища невидимого музыканта.
— Пойдем домой! — сказал он резко. Вскочил, поднял лежавшую на траве шляпу и быстро зашагал.
В мучительном молчании дошли они до дома, и Рис, как обычно, проиграл заданные пьесы, не услышав ни одного замечания от учителя.
Композитор сидел в кресле, в глубине комнаты, сраженный горем, и ничего не слышал. Он даже не заметил, что Рис встал из-за фортепьяно и ушел глубоко опечаленный.
С этого дня перед Бетховеном разверзлась земля. Черная пропасть преградила путь в будущее. На что он мог еще надеяться? Правда беспощадно обнажилась. Слух не улучшался ни на йоту. А может быть, и ухудшился, раз он не услышал пастушью песню.
К боли, которая только ненадолго стала слабее, теперь присоединилась новая.
«Рис сегодня ясно убедился в моей глухоте, — размышлял Бетховен. — Но он знал о ней и раньше. Иначе почему бы он так поспешно начал опровергать себя и все твердил, что и сам ничего не слышит. А если о моей тайне знает он, значит, и Брейнинг давно все понял, и Шупанциг, и братья Лихновские, и кто только не знает… И все разыгрывают комедию, делая вид, что верят в мою рассеянность».
Это их притворство из сострадания угнетало его теперь сильнее всего. Долго сидел он в старом кресле, опершись локтями о колени, сжав голову ладонями.
Да, это конец! Кто станет слушать виртуоза, не слышащего того, что играет? А мои сочинения? Они и теперь кажутся кое-кому непонятными и тяжеловесными. Но они не понимают меня только потому, что привыкли к музыке ничтожной и пустой.
Какой издатель отважится напечатать мои сочинения, если вся Вена будет показывать на меня пальцем: глухой сумасшедший! А еще дерзает сочинять!
Что остается? Медленное умирание! А может быть, лучше ускорить его?
Он вскочил, в отчаянии погрузив пальцы в густые пряди своих волос. Глаза его загорелись огнем безумия. Дунай совсем рядом! Туда — и конец всему! Зачем жить, если солнце зашло и уже не взойдет? Умерла любовь, умирает и музыка…
Смейтесь, люди! Всемогущий изволит шутить! Кто он? Мотылек без крыльев, олень без ног, музыкант без слуха!
День за днем он вел борьбу с самим собой, спрашивал у пианино: «Музыкант ли я еще? Живу ли я еще?» Терпеливо испытывал себя: «Слышу ли я этот тон? А что, если я ударю по клавише тише — пианиссимо?»
Низкие тоны слышались прекрасно. Высокие ускользали! Но, к удивлению, только для ушей — не для памяти. Стоило взглянуть на какую-нибудь клавишу — и внутренний слух точно оглашал ее звук.
Это утешало. Слабо. Но достаточно было хотя бы на минуту отогнать призрак смерти. Вспомнил, что где-то читал:
«Человек не имеет права по собственной воле расстаться с жизнью, пока еще способен сделать хотя бы одно доброе дело!»
Доброе дело? Он сделал их сотни, без раздумья. Когда-то он написал Вегелерам, Францу и Элеоноре:
«Ко мне обращаются с таким количеством просьб, что я не всегда в состоянии их удовлетворить. И знаете, это очень хорошо. Например, найду кого-нибудь из друзей в бедности, но мой кошелек не позволяет мне оказать ему помощь. Тогда я сажусь за лист нотной бумаги — и все, уже могу ему помочь».
О такой возможности он вспомнил и теперь. И его раненая душа воспрянула.
«И глухой я смогу помогать людям. И не только деньгами. Моя музыка должна быть такой, чтобы самый несчастный человек, слушая ее, забывал о своей боли. Зачем призывать смерть раньше, чем она явится сама?»
Он говорил это себе, но предчувствие близкого конца не покидало его. Не мог подавить его в себе.
Поздним октябрьским вечером он все же сел за стол, чтобы написать свое завещание. За окном уже рассветало, когда Бетховен закончил свое прощание с жизнью.
Моим братьям Карлу и…[16] прочесть и исполнить после моей смерти.
О люди, считающие или называющие меня неприязненным, упрямым, мизантропом, как несправедливы вы ко мне! Вы не знаете тайной причины того, что вам мнится. Мое сердце и разум с детства склонны были к нежному чувству доброты. Я готов был даже на подвиги. Но подумайте только: шесть лет, как я страдаю неизлечимой болезнью, ухудшаемой лечением несведущих врачей. С каждым годом все больше теряя надежду на выздоровление, я стою перед длительной болезнью (излечение которой возьмет годы или, должно быть, совершенно невозможно). От рождения будучи пылкого, живого темперамента, склонный к общественным развлечениям, я рано должен был обособляться, вести замкнутую жизнь. Если временами я хотел всем этим пренебречь, о, как жестоко, с какой удвоенной силой напоминал мне о горькой действительности мой поврежденный слух! И все-таки у меня недоставало духу сказать людям: говорите громче, кричите, ведь я глух. Ах, как мог я дать заметить слабость того чувства, которое должно быть у меня совершеннее, чем у других, чувства, высшей степенью совершенства которого я обладал, — как им обладают и обладали лишь немногие представители моей профессии. О, этого сделать я не в силах. Простите поэтому, если я, на ваш взгляд, сторонюсь вас вместо того, чтобы сближаться, как бы мне того хотелось. Мое несчастье для меня вдвойне мучительно потому, что мне приходится скрывать его. Для меня нет отдыха в человеческом обществе, нет интимной беседы, нет взаимных излияний. Я почти совсем одинок и могу появляться в обществе только в случаях крайней необходимости. Я должен жить изгнанником. Когда же я бываю в обществе, то меня кидает в жар от страха, что мое состояние обнаружится…
…Такие случаи доводили меня до отчаяния, еще немного, и я покончил бы с собою. Меня удержало только одно — искусство. Ах, мне казалось немыслимым покинуть свет раньше, чем я исполню все, к чему я чувствовал себя призванным. И я влачил это жалкое существование, поистине жалкое для меня, существа чувствительного настолько, что малейшая неожиданность могла изменить мое настроение из лучшего в самое худшее! Терпение — так зовется то, что должно стать моим руководителем. У меня оно есть… О люди, если вы когда-нибудь это прочтете, то вспомните, что вы были ко мне несправедливы; несчастный же пусть утешится, видя собрата по несчастью, который, несмотря на все противодействие природы, сделал все, что было в его власти, чтобы стать в ряды достойных артистов и людей. — Вы, братья мои, Карл и…, тотчас после моей смерти попросите от моего имени профессора Шмидта, если он будет еще жив, чтобы он описал мою болезнь; этот же листок вы присоедините к описанию моей болезни, чтобы люди хоть после моей смерти по возможности примирились со мною. — Вместе с тем объявляю вас обоих наследниками моего маленького состояния, если можно так назвать его. Поделитесь честно, живите мирно и помогайте друг другу. Все, что вы делали мне неприятного, как вы знаете, давно уже вам прощено. Тебе, брат Карл, особенно благодарен я за привязанность ко мне, выказанную в это последнее время. Желаю вам лучшей, менее отягченной заботами жизни, чем моя. Внушайте вашим детям добродетель. Не деньги — лишь она одна может сделать человека счастливым. Говорю по опыту. Она поддерживала меня в бедствиях. Ей и искусству моему я обязан тем, что не покончил жизнь самоубийством. Прощайте, любите друг друга…
…Итак, пусть свершится. С радостью спешу я навстречу смерти. Если она придет раньше, чем мне удастся развить все мои артистические способности, она явится слишком рано; я бы желал, несмотря на жестокую судьбу свою, чтобы она пришла позднее. Впрочем, и тогда я был бы рад ей: разве не освободит она меня от бесконечных страданий? — Приходи, когда хочешь: я мужественно встречу тебя. — Прощайте и не забывайте меня совсем после смерти. Это я заслужил перед вами, так как при жизни часто думал о том, чтобы сделать вас счастливыми. Будьте же счастливы.
Гейлигенштадт, 6 октября 1802 года.
Людвиг ван Бетховен.
Завещание было окончено. Дальнейшая жизнь в Гейлигенштадте не имела смысла. Он уложил свои вещи. Приготовился к отъезду. Простился с местами утраченных надежд несколькими фразами, приписанными в конце своего завещания. Снова прорвалась и мечта хотя бы об одном-единственном счастливом дне.
Гейлигенштадт, 10 октября 1802 года.
Итак, прощаюсь с тобой в печали. Потому, что вынужден расстаться с надеждой, которую принес сюда с собой, на то, что, может быть, хоть немного улучшится слух.
Как сохнут и отрываются осенние листья, так оторвалась от меня и она. Я уезжаю отсюда почти таким, каким приехал. Даже высокое мужество, часто вдохновлявшее меня в прекрасные летние дни, угасло.
О провидение! Дай мне хотя бы один час чистой радости!
…Неужели никогда? Нет, это было бы слишком жестоко!
Дам крейцер…
Бетховен не выходил из своей квартиры на Петровской площади и, совершенно подавленный, думал о своем будущем. Рис явно не сохранил в секрете то, что стало ему известно.
Первый музыкант столицы лишился слуха. Вся Вена знает, что Бетховен не существует больше, хотя еще и влачит себя иногда по ее улицам.
Воздух в комнате затхлый — полгода окна не открывались. Вещи, вернувшиеся сюда вместе с хозяином, так и лежат с тех пор разбросанными на стульях, столах, на фортепьяно и просто на полу. Бетховен никому не открывает дверей. Бесполезно было стучать к нему. Он не впускает даже прислугу.
В сумерки он выскальзывает из дома и поспешно устремляется в предместье, где вряд ли встретишь кого-нибудь из знакомых. На улице пасмурно и неприветливо. Смертная тоска давит город. Солнце на небосводе закрыто туманной пеленой, сырой ветер сотрясает голые плечи деревьев, обдирая с них последние листья.
Время осени — время угасания.
Композитор каждый день обходит город вдоль крепостной стены. Что еще остается поверженному великану, как не вдыхать пыль на этой окраине жизни? И возвращается домой, когда на улицах становится темно.
И вот в один из таких вечеров, безрадостный и серый, неожиданно воскресла новая надежда. Когда понурый пешеход приближался к дому, надвинув шляпу на лоб и опустив голову, его догнали одноконные дрожки. Неожиданно они остановились. Полноватый мужчина в сером пальто проворно соскочил и бросился навстречу композитору. Издалека он протянул ему свою правую руку, размахивая левой, в которой держал шляпу, неутомимо, с пафосом тараторя так, что прохожие оглядывались:
— Приветствую вас, маэстро! Вы здоровы? И уже дома? Вся Вена ждет вас! И больше всех я. Не могу дождаться! Вы должны спасти нас!
Мрачный взгляд не остановил торопливой речи Иоганна Эмануэля Шиканедера — актера, сочинителя комедий, автора либретто оперы Моцарта «Волшебная флейта» и, разумеется, в первую очередь, весьма ловкого директора театра.
Он был одарен одинаково как в области искусств, так и в области коммерции. Но делец преобладал в нем над художником. И Бетховен не любил его. Он вспомнил ходившие в Вене толки, что Шиканедер бессовестно обогатился за счет оперы Моцарта, выплачивая композитору весьма скромные суммы.
— Вы нуждаетесь во мне? Вы?
— Да, и не только я, а все наше искусство! Вена жаждет новой оперы. Вы знаете, искусство Сальери и других итальянцев уже не удовлетворяет. Мы хотим чего-то сильного, чего-то ослепляющего, чего-то такого, чего мир еще не слышал. И это можете создать только вы!
«Заврался», — думает Бетховен, мрачно уставившись на велеречивого Шиканедера.
— Садитесь ко мне! — пригласил его в коляску директор театра. — Конечно, такому художнику, как вы, не пристало ездить в подобной тележке, но мы и в ней сможем потолковать не хуже, чем в императорском экипаже. — Театральным жестом он обнял композитора за плечи, увлекая к своей коляске. И пока он говорил без устали, мысли композитора были о другом.
Этот балаболка явно преувеличивает. Наверняка. Но про новую оперу он не сам, конечно, придумал. Он советовался об этом с уймой других, более серьезных людей. Итак, Вена ждет меня, хотя известно, что способности сейчас находятся на грани гибели.
Робкое чувство радости возникло в его душе, в то время как голос Шиканедера манил и сулил всевозможные выгоды и даже квартиру в самом театре. Угасшее чувство веры в себя воспрянуло.
И как было свойственно Бетховену все воспринимать страстно, надежда и на этот раз мгновенно охватила его с невиданной силой. Он давно мечтал, чтобы театр поручил ему создать оперу. И что же? Это предложение сделано ему тогда, когда несчастье убило в нем веру в себя!
Людвиг ван Бетховен чувствовал, что он опять, несмотря ни на что, станет тем, кем был раньше, — борцом, который не отступает, не складывает оружие.
Однако окончательного ответа Бетховен не дал. Да, что касается оперы, он попробует, свободную квартиру при театре придет взглянуть как можно скорее, а там будет видно. Там будет видно!
Много раз он потом прибегал к этому уклончивому ответу.
Сейчас же он чувствовал, что пока его настойчиво призывает другое дело.
Четыре года назад он сказал Бернадотту, что напишет сочинение в честь самого талантливого защитника молодой республики — Наполеона Бонапарта. Он все больше восхищался этим мужем, который также отважился взять судьбу за горло! Он побеждал на полях сражений там, где другие терпели поражения. Так же должен и так победит Людвиг ван Бетховен!
Воскресшая сила стремилась воплотиться в музыке. Он начал писать свою Третью симфонию.
Думал ли он, что открывает ею новую эпоху в симфонической музыке? До сего времени музыка симфоний чаще всего бывала гладкой, развлекательной, не содержащей глубоких мыслей. Бетховен вкладывал в свое новое творение совершенно определенное содержание — это борьба за счастье, сражение человека против судьбы.
Самый мужественный из всех композиторов создает музыку высочайшего мужества, изображая в ней борьбу могущественного героя за свободу и его гибель.
С чем сравнить это его творение? С полотном, на котором художник изобразил благородного героя?
Но сочинение Бетховена — это больше, чем живописное полотно! В том нет движения, а бетховенская симфония полна его!
Но, может быть, можно сравнить ее с театральным спектаклем? Нет! Никогда! Она неизмеримо шире. В театре зритель видит только кусок жизни и всего лишь горстку людей — тех, что способна уместить сцена. А в героическом сочинении, создаваемом сейчас Бетховеном, за героем идут массы. Весь народ поднимается на отважный бой.
В этом бою он несет утраты, сраженный герой падает и траурный марш провожает его.
Человек может погибнуть. Но не это главная мысль сочинения. В оркестре звучат новые голоса. Молодость вторгается на историческую арену и подхватывает знамя из рук павших героев. На смену горечи утраты приходит решимость.
В завершающей части симфонии слышится победа. Торжествующий звон рисует нам безграничную радость победившего народа. Будто шагает войско под сенью знамен, и вслед за ним народные толпы. А вот прибегают дети. Ликование все возрастает. Суровый бой был не напрасен. Радость вернулась в мир.
Все это скажет «Героическая» симфония каждой впечатлительной душе.
Только весной 1804 года был завершен великий труд. На столе Бетховена лежала толстая связка нотной бумаги, и на верхнем листе виднелась надпись, состоящая лишь из двух имен:
BUONAPARTE.
LUIDGI VAN BEETHOVEN.[17]
Первым ее увидел Рис и с любопытством спросил:
— Так уже готово, маэстро? А вы в самом деле отважитесь поставить в посвящении имя человека, который является злейшим врагом нашего императора?
— Меня не интересуют ни друзья императора, ни его враги. Для меня важно лишь то, что Бонапарт является защитником свободы. Кто сумел защитить революцию, когда казалось уже, что она погибает?
Композитор всегда говорил о своем любимце страстно. Говорят, что Наполеон Бонапарт стал первым консулом, дабы восстановить в стране, ослабленной войной, спокойствие и порядок. Бетховен часто сравнивал его с великими консулами Древнего Рима — мужами храбрыми и преданными своей родине.
Он еще не догадывался, что в деятельности Наполеона произошли серьезные перемены. И первые вести об этом, по обыкновению, принес Рис. Вскоре после того как Бетховен закончил свое сочинение, юноша объявил:
— Вы кончили свою бонапартовскую симфонию, маэстро, а ваш герой кончил со своей консульской славой!
Бетховен воззрился на него:
— Неужели он убит?
Рис только махнул рукой.
— Он сам покончил со своей славой. Решил провозгласить себя французским императором!
Бетховен вскочил.
— Императором? — пробормотал он недоверчиво. — Бонапарт — императором? Это означало бы конец республики!
Рис в замешательстве развел руками:
— Пришли такие сообщения. В Париже уже властвует не консул Бонапарт, а его величество Наполеон Первый!
Бетховен оцепенел. На лбу его вздулась крупная вена. Такое уже было знакомо ученику: это всегда было знаком величайшего волнения.
— Если это правда, он предал республику! — вскричал Бетховен, и его пальцы начали судорожно сжиматься, будто готовые задушить кого-то.
— Говорят, что это так, — опасливо подтвердил Рис и медленно отступил к дверям. Ему казалось, что разгневанный маэстро может броситься на него, ни в чем не повинного вестника дурных известий. — В городе только об этом и говорят. Наверное, завтра об этом сообщат газеты.
Нахмуренное чело композитора отразило бурю, бушевавшую в его душе. Сколько раз повторял он, что республиканская Франция — это залог свободы в Европе, а Бонапарт хранитель этой свободы! Сколько раз объяснял он своему ученику, что Франция создает вокруг себя республики: в Италии, Бельгии, Голландии, и что число освобожденных государств будет расти и в одно прекрасное время дело дойдет до Вены.
Его львиная голова сотрясалась и смоляные волосы вздымались, как грива.
Потрясая кулаком, он вдруг воскликнул, и голос его был полон презрения:
— Этот тоже обыкновенный человек! Теперь он будет топтать ногами все человеческие права, следовать только своему честолюбию, будет ставить себя выше всех других и сделается тираном!
Он быстро подошел к столу, на котором лежала симфония с надписью «Buonaparte», вырвал заглавный лист, одним движением сильной руки разорвал его сверху донизу и бросил на пол.
Испуганный юнец смотрел на это, стоя в полуоткрытых дверях. Ему казалось, что его учитель лишился рассудка.
А тот мерил комнату большими шагами, сопровождая их неразборчивым бормотанием. Рис уловил лишь отдельные слова:
— Император, он император!.. Мерзавец, изменник!..
Вдруг он остановился, о чем-то глубоко задумавшись. Потом подошел к столу и опять взял в руки рукопись симфонии.
У Риса мороз по коже пробежал. Спокойствие, наступившее после вспышки, пугало его не меньше, чем недавний гнев. Не думает ли он разорвать на куски все свое сочинение, как разорвал уже титульный лист? Он приготовился спасать сочинение от самого его создателя. Может быть, вырвать у него из рук ноты — и к двери? А Бетховен, когда опомнится, еще будет благодарить!
Однако композитор опять положил ноты на стол, обмакнул перо и что-то написал крупными буквами. Рис подошел ближе, вглядываясь в буквы, появлявшиеся из-под пера.
Бетховен нарек свое детище по-новому. Удивленный ученик прочитал:
Молодой человек знал итальянский язык настолько, чтобы суметь понять:
«Героическая симфония, сочиненная в память Великого Человека».
Казалось, что композитор был доволен сделанным. Он повернулся к заинтересованному юноше и спросил:
— Ну, Рис, все как надлежит?
— Да, маэстро! — кивнул изумленный юноша, и у него вырвался вопрос: — Но кто этот Великий Человек?
— Это любой, кто боролся и погиб за то, чтобы завтрашний день был свободнее и счастливее, чем сегодня. Человеку свобода нужна, как воздух. Вы знаете, как я люблю жизнь независимую. Свобода и прогресс — единственная цель в искусстве, так же как и во всякой другой творческой деятельности. Великий Человек не может делать ничего иного, как бороться за это своими произведениями!
— Прекрасное название! «Героическая» симфония! Симфония eroica! — с удовольствием повторял мальчик.
— Из всех моих сочинений это самое любимое. Таким и останется навсегда, — задумчиво произнес Бетховен, листая ноты «Героической».
Осталось навсегда это название, как навсегда Третья симфония осталась любимой композитором, созданная им тогда, когда он, дрогнувший на какое-то время, вновь обрел мужество.
Однако вступление этой симфонии в мир не было легким. Впервые она исполнялась во дворце Лобковица, как это часто бывало. Собравшаяся публика рукоплескала холодно, из вежливости.
Как могла зажечь их сердца «Героическая», если они жили еще в старом мире — мире несвободы? Как могли понять мятежную симфонию люди, которые боялись революции больше, чем чумы?
— Это хорошо, в самом деле хорошо, — ободрил Лихновский.
Однако всем показалось, что сочинение слишком длинно.
Бетховен горько рассмеялся:
— Вот уж не знал, что господа считают минуты, для того чтобы понять, хороша музыка или нет. Но если я напишу симфонию, которая будет длиться целый час, «Героическая» покажется короткой!
Непонимание не особенно огорчило его. Он утешал себя: исполним симфонию в публичном концерте. И народ поймет ее обязательно, ведь он и есть ее главный герой.
Махнув рукой на временную неудачу, он ринулся в новую работу. Ничто не могло удержать его теперь, когда он понял, что потеря слуха еще не значит, что жизнь кончилась.
Вышла замуж Джульетта и уехала в Неаполь вместе с франтоватым Галленбергом. Пережил ли он это событие как катастрофу? Нет.
Обманула и надежда вылечить слух сельской тишиной. Опустил ли он руки в отчаянии? Только на мгновение!
Вулкан таил в себе много огня. И если он начал действовать, то с огромной внутренней силой, которая должна была вылиться в новые произведения. Завершив «Героическую» симфонию, Бетховен создал две фортепьянные сонаты, поразившие всех новой, неожиданной красотой.
Одна — ясная, как летнее утро в полях, все называли ее «Авророй». Вторая — мрачная, полная молний и нечеловеческой борьбы против судьбы. Ее назвали точно — «Аппассионата» — «Страстная».
Почти одновременно он создает концерт для фортепьяно, скрипки и виолончели. И сразу же приступает к работе над оперой, названной позднее «Фиделио».
Но и это еще не все. Этот же период подарил миру сонату для скрипки и фортепьяно. В будущем она будет называться «Крейцеровой сонатой», — композитор посвятил ее скромному скрипачу, приехавшему в Вену вместе с первым французским посольством.
Три года прошло с того мрачного вечера, когда доведенный до отчаяния Бетховен написал в Гейлигенштадте свое прощальное письмо. И за эти годы он доказал, что художник, лишившись слуха, не сделался немым. Он принес миру творения такой красоты и силы, равных которым еще не создавал никто.
Казалось, он так решительно замкнулся в своем недоступном ни для кого царстве звуков, что никакая боль не в состоянии тронуть его. Но знавшие его — Рис, Цмескаль и прежде всего Стефан Брейнинг — чувствовали, что сердце его вечно оставалось полем боя.
В своем искусстве он всегда был победителем. Иное дело, когда он возвращался к своим повседневным заботам. Его снедает беспокойство, он мечется, в его движениях нет уверенности. Еще чаще, чем раньше, он меняет квартиры. В 1804 году он снимает их сразу целых четыре: одну совместно с Брейнингом, одну в театре и две за городом. И покоя не находил ни в одной из них. Удовлетворение давала только музыка.
Верный друг композитора Франц Брейнинг пишет Францу Вегелеру о своих опасениях:
Вы не можете поверить, милый Вегелер, какое неописуемое (я должен был бы сказать — ужасающее) впечатление произвела на него потеря слуха. Представьте себе сознание несчастья у этой порывистой натуры! Он замыкается в самом себе, часто относится с недоверием к лучшим друзьям… Во многих вещах он нерешителен. За исключением тех минут, когда проявляется его прежняя подлинная натура, общение с ним поистине требует больших душевных сил.
Да, человек не знает, что его ждет… Когда он приехал ко мне тогда, его постигла горячка, казавшаяся смертельной. Потом она сменилась долгой перемежающейся лихорадкой. Сейчас он уже здоров.
На самом деле он не был здоров. Разве только казался таким. Болезнь покинула его тело, но не было покоя в его душе. За днями, полными спокойного мужества, подкрадывались дни, полные безнадежности и даже ожесточения.
Слух неумолимо ослабевал. Происходило это постепенно, и композитор еще мог играть роль рассеянного, но вечное притворство тяготило его.
Он снова и снова поверял свое горе роялю. Тот никогда не обманывает его. Не делает вид, что глухой на самом деле не глух. Он говорит ему ужасающую правду. Количество тонов, доступных его слуху, все уменьшается. Высоких он уже не слышит, низкие еще доступны ему, да и то требуется сильный удар по клавишам.
Но придет день, когда не помогут уже и сильные удары по клавишам. Это будет смертный день Людвига ван Бетховена — музыканта.
Таков лик дьявола, снова травившего страдальца днем и ночью! Бетховен — этот поразительный сплав силы и отваги — готов был согнуться!
Его снедает подозрительность, свойственная каждому, утратившему слух. Ему постоянно кажется, что люди говорят о нем насмешливо и недружелюбно, даром что это близкие ему люди. Они смеются, а он не знает почему. Говорят с печалью — но о чем? Душа глухого мечется в потемках, и ей всюду мерещатся чудовища.
При этом у ворот была новая беда, давно знакомый ему недуг — нужда! Прославленный композитор не мог уже спокойно пользоваться княжеской помощью. Правда, ему теперь хорошо платят издатели, по он поглощен сейчас большими сочинениями и совсем не пишет мелких, за которые деньги поступают сразу. Когда «Героическая» возместит ему потраченное время? А когда опера «Фиделио»?
Последняя подвигается медленно и трудно. Это его первая серьезная работа для театра, и он слишком старательный, добросовестный его служитель.
И если он кое-как идет вперед и борется в музыке, то в повседневной жизни его бросает, как щепку в море.
Его тянуло к старым друзьям, и потому он поселился в одной квартире со Стефаном Брейнингом. Какое-то время жил там, в затишье, а Стефан самоотверженно взял на себя все заботы об их общем домашнем хозяйстве.
Однажды грянул гром из ясного неба. Брейнинг за что-то попенял старому другу, Бетховен взорвался и переехал на новую квартиру — в пятый раз!
Каждый считал себя обиженным. И вот, встречаясь, они не замечают друг друга. Увидев, отвернутся. Ведь на каждой улице есть две стороны.
Людвиг Бетховен и без того вспыльчив, а недуг сделал его особенно раздражительным. Но в душе он всегда оставался добрым и справедливым. Гнев его остывает, и постепенно он приходит к сознанию, что был несправедлив к другу.
И вот однажды Брейнинг получает таинственный пакет, надписанный рукой его старого друга. Он открывает его, полный неуверенности: что-то ожидает его?
Из конверта выскальзывает маленький портрет Бетховена и покаянное письмо:
Я знаю, я растерзал твое сердце. Мое волненье, которое ты несомненно заметил, наказало меня за это предостаточно. Это была не злоба… Нет, я был бы недостоин твоей дружбы больше. Это была страсть — у тебя и у меня, но во мне было возбуждено недоверие к тебе; между нами стали люди, недостойные тебя и меня… Кому бы я мог подарить его (этот портрет) с таким горячим сердцем, как не тебе, верный, хороший, благородный Стефан? Прости меня, если я тебе сделал больно; я сам страдал не меньше. Когда я так долго не видел тебя, я впервые живо почувствовал, как ты дорог моему сердцу и вечно будешь дорог.
Дочитав письмо, Брейнинг не мешкая отправился на четвертый этаж дома барона Пасквалати, где Бетховен поселился. Его встретили искренние объятия друга.
Однако в прежнюю квартиру Бетховен уже не возвратился. Ему нравилось, что из его окон с высоты расстилался прекрасный вид на крепостные стены, на предместья, на далекие горы.
И еще одна причина удерживала его.
Вот уже несколько раз ему встречался Стефан с красивой девушкой. Он видел ее и раньше на разных музыкальных вечерах. Она была пианисткой, пробовала сочинять музыку.
Стефан посвящал ей пламенные стихи, и было похоже, что не за горами свадьба. Посему квартира Брейнинга не останется полупустой.
Оставшийся в одиночестве музыкант горевал о приближающейся свадьбе друга и своей заброшенности. Он не завидовал другу, нет. Он спрашивал только, почему же счастье обходит его?
А жизнь между тем посылала ему всё новые испытания. Сколько надежд питал он на публичное исполнение «Героической» симфонии. И какое разочарование постигло его!
В апреле 1805 года на утреннем концерте в новом музыкальном зале прозвучала «Героическая» симфония — это было ее первое публичное исполнение. Публика разделилась на три части. Самую маленькую составляли друзья Бетховена, горячо рукоплескавшие. Вторая часть колебалась и не могла прийти к мнению, хорошо это или плохо.
Большая часть слушателей была не удовлетворена: разве это музыка? Эта невыносимо длинная и грубая симфония! Если бы так не грохотали все инструменты, не грохотали так, что стены, того и гляди, могли рухнуть, можно было бы уснуть.
— Дам крейцер, чтобы все это прекратилось! — раздался в мучительной тишине чей-то голос с галерки.
В зале рассмеялись. Значит, они довольны выходкой?
И Бетховен это слышал — он стоял в эту минуту перед оркестром с дирижерской палочкой в руке, готовый приступить к исполнению второй части.
Там наверху, на дешевых местах, сидел венский люд. И никого из них не воодушевили звуки песни, которая славила революцию.
Он уходил домой с опущенной головой.
Что же это такое? Человек из народа обещает крейцер, чтобы скверный музыкант наконец умолк!
Нет, мой слушатель с галерки, этого несчастного крейцера не потребуется! Природа позаботилась об этом. Глухота отбросит его от музыки. До каких пор судьба будет играть с ним, как кошка с пойманной мышью? То обещать ему жизнь, то грозить смертью…
Если бы была у него близкая душа, которая делила бы с ним радость и горе! Как имеет ее Стефан и мало ли кто еще.
…Он поднялся, достал свой дневник. Кроме фортепьяно, у него был еще один друг, его доверенный. Неодушевленный и потому неизменно верный. Бетховен всегда обращался к дневнику, когда его сердце нуждалось в ком-нибудь, кому можно было излить душу до конца.
Он обмакнул перо и написал слова, дышащие горечью:
Только любовь — да, только она может сделать мою жизнь счастливой. Боже, помоги мне! Сделай так, чтобы я наконец нашел ту, которая сделает меня счастливым и будет моей навсегда!
Второе бегство
Даже если бы весь мир погрузился в страдания и войны, был один уголок в белом свете, где можно было найти покой. Он был известен Бетховену. Коромпа — разве само это слово не звучит, как призыв перепелов, слышных в тихих полях?
Предполагал ли дед неверной Джульетты и четверо молодых Брунсвиков, что они заботятся о будущих поколениях, создавая для потомства желанную заводь, закрытую, отгороженную от взбесившегося мира?
Бетховен побывал там уже не раз. Он не любил удаляться от своей городской квартиры, но ведь от Вены всего два шага до Пресбурга,[18] а от Пресбурга в один прыжок можно оказаться в Коромпе. Правда, некоторое время Бетховен избегал этих мест — здесь раздавался некогда нежный голос Джульетты, но он пережил свою утрату и теперь по временам снова навещал степное поместье.
Он укрылся там весной 1806 года от туч, затянувших небо над Веной. Многое случилось за эти десять месяцев под крышами веселого города на Дунае!
В середине лета император Франц затеял новую войну против Франции. За последние десять лет это была уже четвертая война. Паяц, сидящий на троне, сам предсказал свою судьбу: «Это будет разгром!»
О жертвах он не думал. С какой стати? Ни одному из его двенадцати детей не угрожала опасность смерти на полях сражений.
Он предугадал правильно. Суровую трепку он получил раньше, чем предполагал. Наполеон стремительно вторгся в немецкие земли с поразительной быстротой и взял в плен австрийскую армию во главе с тридцатью военачальниками и венценосным командующим. Потом он повернул к Вене, занял ее, преследовал отступающую австрийскую армию вплоть до Моравии и в начале декабря 1805 года разгромил русско-австрийскую армию у Аустерлица.
Для Бетховена этот роковой год был не менее тяжелым, чем для всей Австрии. И его преследовали поражения одно за другим. Холодный прием, оказанный «Героической» симфонии во дворце Лобковица, и провал во время первого публичного исполнения были только прелюдией к более горькому разочарованию, постигшему его в ноябре.
Венский театр увидел наконец представление оперы «Фиделио». Она создавалась долго и трудно, но провалилась сразу и полностью.
Время для постановки было как нельзя более не подходящим. Вену наводнили войска Наполеона, мало кто из коренных венцев отваживался ходить в театр. Богатая венская знать выехала в свои именья, а горожане предпочитали сидеть по домам. В зале сидели преимущественно французы, а на второе и третье представления и тех почти не осталось. Зал оставался почти пустым. Никого не влекло на «Фиделио».
По настояниям друзей композитор переработал оперу. И каков был результат? Одна из самых распространенных газет дала оценку, с которой были согласны многие венцы:
«Еще никогда не была написана музыка настолько бессвязная, резкая, хаотичная, возмущающая слух».
Должно было пройти несколько десятилетий, прежде чем смогли оценить и понять эту музыку. Она казалась тогда слишком необычной, была непривычной и такой грубой в сравнении с итальянскими операми!
В эти горькие дни приходили милые письма от Франца Брунсвика, старого друга из Коромпы:
«Пусть Вена остается для французов и дураков! Приезжай к нам! Ты будешь жить здесь так, будто Вены и на свете нет!»
После провала нового варианта «Фиделио» Бетховен покинул неблагодарный город. В его багаже лежал клавир сонаты, которую из всех своих фортепьянных сочинений он любил больше всего, известной всему миру под названием «Аппассионаты».
Никому еще он не позволял играть ее. Ни для кого еще не играл ее сам. День, когда она прозвучит впервые, должен быть не таким, как все. А тот, кто впервые донесет до постороннего слуха ее аккорды, не должен быть равнодушным.
В усадьбе посреди степи он нашел все таким же, как прежде. Сражения не повредили ни одной ветви в парке. В гостиной ему показали уголок, его называли бетховенским. Показали фортепьяно, оно считалось бетховенским. В саду уцелела липа, носившая его имя.
Вещи оставались на прежних местах, но обитателей дома судьба развела в разные стороны. Не сверкали здесь уже очи неверной Джульетты, не звенел смех сестер Жозефины и Шарлотты. В большом доме обитали вместе с матерью лишь Франц и старшая из сестер, Тереза. Франц по настоянию матери теперь все больше времени отдавал хозяйству. Из их молодой «республики» теперь его могла сопровождать по садовым аллеям только Тереза.
Однажды, когда они шли вдвоем под деревьями, едва покрывшимися зеленью, Бетховен сказал своей спутнице:
— Я рад, что нашел здесь хотя бы одну близкую душу.
— «Нашел»? — с упреком переспросила она. — Находят то, чего не знали раньше. Эта близкая душа была здесь всегда. Однако вы ее забыли.
Голос у нее был мягкий, музыкальный и как бы приглушенный. Он взглянул на нее. Ему показалось, что он в самом деле видит ее в первый раз. Неужели она всегда была такой? Чистые, благородные черты лица, глаза, полные огня, при этом мечтательные, странно задумчивые, красивый рот, нежный и выразительный.
Она почувствовала его взгляд. Быстро согнала с лица тоскливое выражение.
— Вы еще помните, как мы пришли к вам в первый раз — мама, Пепи и я?
— Еще бы не помнить!
— Мы тогда из этой степи впервые свалились в Вену и были буквально опьянены столичным оживлением. Наша энергичная мама всегда знала, что ей нужно. Прежде всего найти в Вене лучшего пианиста — преподавателя для ее дочерей. Но его сиятельство Людвиг ван Бетховен объявил, что у него нет времени. Разве только если мы изволим приезжать для занятий к нему! Мы изволили. Вы тогда восседали на третьем этаже на Петровской площади, как греческий бог на Олимпе. А мы вынуждены были топать к вам по крутым ступенькам.
— Путь к искусству всегда тяжел!
— Но лестницы к служителям искусства могли бы быть менее крутыми! Я пришла к вам с нотами вашей сонаты под мышкой. Душа моя трепетала, как у девочки, впервые идущей в школу. Вы были к нам любезны насколько только могли. Правда, благодаря Францу, который написал вам, что его сестры хотят брать у вас уроки. Мы зовем Франца «ледяным рыцарем», потому что его трудно увлечь чем-нибудь. Его единственная страсть — музыка Бетховена. Впрочем, вам это известно! — Она лукаво взглянула на него.
Он кивнул головой:
— Потому я и обещал ему давать уроки вам.
— Только потому? А я думала, что снискала ваше расположение своей игрой. Вы посадили меня к расстроенному фортепьяно, и я держалась отважно. А так как я одна исполняла трио, то мне приходилось от времени до времени напевать партию скрипки или партию виолончели.
— При этом ваши пальцы не сделали ни одной ошибки. Кто бы так мог? — одобрительно произнес Бетховен и представил себе девушку, которая героически справлялась с партиями трех инструментов сразу. Тогда ему это показалось ужасно смешным, хотя он не мог не признать ее музыкальных способностей.
— Потом вы приходили к нам давать уроки. Шестнадцать дней были мы в Вене, и шестнадцать раз вы приходили, ни одного дня не пропустили. А потом как-то вскоре и в Коромпе нас навестили, а потом… — она немного поколебалась, — потом всех нас затмила Джульетта. А я только ходила каждый день к вашему дереву и спрашивала у него, что вы поделываете. Да еще советовалась с ним, как сыграть какое-нибудь трудное место в вашем сочинении. И, можете себе представить, оно ни разу не оставило меня без ответа!
В ее словах звучала грусть, и ему сделалось жаль ее.
— Я часто в мыслях возвращался сюда. Когда вы уезжали, я, к сожалению, не смог принести вам свою песню «Помню о тебе».
Она рассмеялась:
— О которой мы с Жозефиной часто гадали, кому она предназначена… Однако оставим в покое старые времена. Расскажите лучше, как теперь живете!
— Лучше не надо! За последние месяцы было мало веселого.
— Я знаю!
Это прозвучало просто, но за словами чувствовалось глубокое чувство.
«Что она, собственно, знает? — думал Бетховен. — Что я пишу грубую, невразумительную музыку? Что моя опера ни разу не сделала порядочного сбора? Что слушатели предлагали целый крейцер, только бы кончилась моя музыка?»
«Я знаю!» Сколько раз вспоминал он в последующие дни эти ее слова. Часто они гуляли вдвоем в парке Коромпы, и он не переставал удивляться перемене, происшедшей с Терезой. Она была, как прежде, остроумна и насмешлива, но ее взгляды на жизнь стали глубже. Ему казалось по временам, что стоит только произнести одно слово, как она уже знает, что будет сказано дальше. А достаточно сказать фразу, как она понимает всю глубину его мысли.
Почти каждый вечер в Коромпе завершался музицированием в тесном домашнем кругу. Изредка появлялся кто-нибудь из соседей, приехавший на коне. Частенько заглядывал духовник Брунсвиков — старец с волосами удивительно белыми и с глазами удивительно черными.
Бетховен играл, не дожидаясь просьб. Он чувствовал себя у Брунсвиков как дома. Никто не давал ему почувствовать неравенство их происхождения. На нравах старых университетских друзей они были на «ты» с Францем Брунсвиком. Его сестра была для Бетховена просто Терезой, без всяких титулов.
Он приносил с собой свертки нот, проигрывал отрывки из «Героической» и из злополучной оперы «Фиделио». Несколько раз в груде нот оказывалась «Аппассионата». Но ни разу композитор не сыграл из нее ни единого такта.
Ему хотелось бы сыграть «Аппассионату» для той единственной души! Да, только так! И снова он уносил клавир в свою комнату. И все же однажды забыл его на рояле. Он обнаружил это на другое утро, и самым удивительным образом!
Он возвращался с прогулки из лугов, покрытый росой; подойдя к своей комнате, Бетховен остановился пораженный: его соната, которую он так тщательно таил от света, приглушенно доносилась из гостиной.
Или он ошибается? Может быть, это звуковой мираж? Может быть, его мозг переутомлен? Он прислонился к стене и слушал.
Нет! Кто-то в действительности играл его «Аппассионату», ее первую часть, в которой мечется Душа, а Зло нападает на человека, а тот взывает о помощи и предчувствует печальный конец.
Кто посмел прочитать его исповедь?! Он без стука открыл дверь. За роялем, спиной к двери, сидела Тереза. Она отрешилась от всего и ничего не слышала вокруг себя.
— Тереза! — позвал он, и в этом возгласе слышалось и удивление и гнев.
Она испуганно вскрикнула, повернулась к нему и поднялась со стула; ее лицо залилось краской.
— Простите, ведь ноты лежали здесь! — Она опустилась на стул, почти упала на него, закрыв лицо руками. — Это так удивительно, Людвиг, это ужасно, это прекрасно… Почему вы никогда не играли это нам?
Он молчал некоторое время, потом сказал:
— Есть вещи, которыми человек до поры до времени не делится ни с кем.
Она прикусила губу:
— Вы очень страдали!
— Все, что хочет выжить под небесами, вынуждено бороться против рока — трава, человек, все человечество. Но мало кому приходится вести столь тяжкую борьбу, как мне.
— Я знаю, — ответила она теми же словами, как и когда-то. — Но Бетховен не может проиграть бой.
— Не может? — горько переспросил он. — А если у него связаны руки? Если он осужден к ужасной каре — глухоте?
— Луиджи! — позвала она. — Я отдала бы свою жизнь, чтобы освободить вас от вашей беды. — Она в первый раз назвала его этим именем — раньше позволяла себе это только в своих думах.
— Иногда легче умереть, чем жить, — сказал он глухо. При этих словах он быстро нагнулся и поцеловал ее руки — одну и другую. — Но я не сто́ю того, чтобы за меня умирал кто-нибудь. За человека такого ничтожного таланта? За такого грубияна, за недотепу?
— Луиджи, но вы должны чувствовать, что… — запнулась она, охваченная нежностью. — Не вынуждайте меня, чтобы я сказала вам…
Он смотрел на нее смущенно и непонимающе. Потом сказал сдержанно:
— Эту сонату я еще не давал играть никому. И никому не играл сам. Ждал, что придет день — один из тысяч. Ждал, что придет человек — единственный из миллионов… — Он помолчал и горячо добавил: — Тереза, хотите, чтобы я сыграл ее вам?
Она покраснела и отошла от рояля:
— Очень прошу вас!
— Я буду продолжать оттуда, где вы кончили, — сказал он, усаживаясь.
И вот струны запели баюкающее анданте. Это мечта о счастье, мольба и благодарность. Мирный голос благожелательной судьбы обещал блаженный покой. Но в заключительной части снова возникают враждебные силы. Погибнет ли человек в разбушевавшихся волнах? А может быть, в конце концов его могучий дух победит? Этот вопрос должен разрешить сам слушатель — в меру своих сил и отваги.
Она решила его утвердительно. Что может остановить человека, непоколебимо идущего своим путем?
Тереза поднялась с кресла, потрясенная и гордая тем, что именно она стала первой слушательницей этой удивительной сонаты.
— Благодарю вас! Я благодарна вам так, что не нахожу слов. Но чем я заслужила честь первой услышать эту волшебную музыку?
— Чем? — засмеялся Бетховен. — Всем, что в вас есть хорошего. А такого в вас очень много. Столько, что вы заслуживаете большего, чем прослушать первой мое сочинение. Когда я дам печатать сонату, на ней будет ваше имя. Я посвящу ее вам!
— Но чем же я отблагодарю вас? Скажите мне, что я могу сделать для вас?
Он ненадолго задумался, и его глаза сказали ей то, чему она боялась поверить.
— Позвольте мне сказать это сегодня вечером!
Весь день провел он в мучительных раздумьях. Только к вечеру, когда багряное солнце садилось за горизонт, он подвел итог своим размышлениям. Любовь к Джульетте напоминала дорогу в тупик. Разве могло быть что-то прочное между ними? Он серьезен, а она так легкомысленна. Истинная любовь возможна при условии родства душ! Встретил ли он теперь человека равноценного?
Пришел вечер, такой, будто его придумал поэт. Влажный майский ветер донес в комнаты запах цветущих лип, над черными кронами деревьев плыла луна — круглая, золотая. Небольшое общество сидело в музыкальной гостиной, единственная свеча горела на открытом рояле. В углах комнаты был таинственный полумрак. Лунный свет, лившийся в окна, навевал мечтательное настроение.
Бетховен сел к роялю, и его взгляд искал Терезу. Он смотрел на ее лицо, и оно показалось ему удивительно бледным. На нем темнели ее большие умные глаза. К нему был обращен ее вопросительный взгляд. В креслах сидели привычные слушатели — хозяйка дома, молчаливый Франц и духовник с белоснежными волосами.
Рояль заговорил нежно и робко, будто боялся нарушить счастливую тишину. Мелодия лилась легко, неуверенная и приглушенная. Но вот она стала расти, усиливаться, и постепенно возникал мотив, уже знакомый Терезе. Певучее анданте из таинственной сонаты, полное человеческого тепла, в котором не было места злу, шептало о надежде.
Девушка дрожала от волнения. Вот теперь, сейчас грянет эта буря и унесет все, что дорого человеку.
Но сурового нападения темной силы не было. Неожиданно для нее анданте постепенно перешло в аккорды в басах. Эти дивные звуки, которых раньше в сонате не было, рассказывали о появлении чего-то важного, торжественного. Постепенно они стихли, стали доверительными, и Тереза узнала в них «Арию», давно знакомую «Арию» Иоганна Себастьяна Баха:
«Если хочешь отдать мне сердце свое, пусть это будет нашей тайной, чтобы мысли наши ни одна душа не могла ни узнать, ни разгадать».
Сердце Терезы забилось в смятении. Ведь это же признание в любви! Испуганно оглядела она комнату. Понимают ли и остальные? Кажется, нет! Брат сидел, погруженный в свои мысли, мать и старый духовник задремали.
Взволнованный мужественный напев зазвучал опять, но теперь едва слышно: «Если хочешь отдать мне сердце свое…»
Завороженная музыкой и взглядом музыканта, она почувствовала жизнь во всей ее полноте.
На другой день они встретились в парке. Композитор сказал, глядя куда-то вдаль:
— Я уже работал сегодня и никогда еще не чувствовал себя на таких вершинах. Все вокруг меня и во мне свет, чистота, ясность. До сих пор я был похож на ребенка из сказки, собирающего на дороге камешки и не видящего великолепного цветка, расцветшего рядом. Пять лет меня ослепляли своим блеском блестящие камешки, теперь я не знаю, смею ли я склониться к цветку.
Они долго гуляли в саду и наконец поведали липам на площадке «республики», что решили связать свою судьбу навеки.
После стольких тяжких сражений, после множества разочарований Бетховен наконец почувствовал дуновение покоя. Наконец он нашел ту, о которой просил судьбу! А счастье рождало решимость бороться со всеми невзгодами, посланными ему судьбой. В тот день он записал в своем дневнике:
«Твоя глухота теперь уже ни для кого не тайна — и в музыке тоже! Если Тереза знает о несчастье и ее не пугает будущее, что мне до остального?»
Но как после спокойного ожидания в «Аппассионате» возникают мрачные аккорды, так в его душе зародились темные предчувствия. Если их деревья оставались безмолвными при обручении, что скажут люди, и в первую очередь ее мать? Скорее всего, ее отношение будет неодобрительным.
После нескольких дней размышлений Тереза решила:
— Помочь нам может только брат. Он любит тебя, и, возможно, ему удастся уговорить маму!
Франц не показался слишком удивленным. Может быть, он понял тихую песню в тот майский вечер? Он сердечно пожал руку старому другу и поцеловал Терезу.
— Вы два лучших человека, которых я знаю! Какая бы это могла быть прекрасная жизнь! — произнес он горячо, что было совсем не похоже на него, «ледяного рыцаря». Потом лицо его стало озабоченным, и он задумчиво взглянул на сестру: — Ты не могла бы, Тереза, оставить нас наедине?
Когда сестра вышла, Франц некоторое время повертел в руках бронзовую фигурку Амура, взятую с маленького столика в своей комнате. Он явно взвешивал каждое слово.
— Я очень рад, Людвиг, что ты и Тереза… — начал он неуверенно. — Но я должен предупредить тебя, что будут трудности.
— Я знаю, друг! Короче говоря, я не дворянского происхождения! — с горечью сказал композитор.
Брунсвик пожал плечами и пробормотал:
— Это все предрассудки! Глупость человеческая! Я на такие вещи просто плюю, но мать, сестры…
— Тереза только на пять лет моложе меня. Может быть, ей уже можно позволить решать самой? И мне нужна только она. Никакого имущества, никаких денег.
— Да, конечно, — печально кивнул головой Франц. — Но ты не представляешь себе, как сильна любовь моих сестер друг к другу. Тереза никогда не отважится на разрыв с семьей. И ты учти, что Шарлотта вышла замуж в семью Телеки. Это знатная венгерская фамилия, владеющая сейчас половиной венгерских земель.
— Достаточно, Франц! Ты хочешь сказать, как я понимаю, что Тереза не для меня!
— Нет, — нерешительно возражал Франц. — Я хочу только сказать, что понадобится немало времени, чтобы подготовить родственников…
Решительный голос снова прервал запинающуюся речь молодого графа:
— Сообщи тогда своим почтенным родственникам, что человек, по имени Бетховен, осмелился претендовать на руку твоей сестры. И растолкуй им, что его имя значит больше, чем знатное происхождение. Я подожду вашего решения. Подожду из любви к Терезе! Но не здесь! Могу ли я просить тебя одолжить мне экипаж до Пресбурга завтра утром?
Огорчение отразилось на полном лице уравновешенного Франца.
— Людвиг, ты не можешь уехать так неожиданно!
— Тереза поймет, что я не могу дожидаться здесь у дверей, как нищий. Нашу любовь не сломит ни время, ни расстояние. Ты тоже убедишься в этом. А до остальных нам нет дела! Я буду тебе очень признателен, если ты поможешь мне уехать отсюда завтра как можно раньше!
В середине следующего дня он уже был в Пресбурге. Отпустив кучера Брунсвиков и щедро вознаградив его, Бетховен задумался: что же делать дальше? Возвращаться в Вену?
Ну нет! Чтобы на каждом шагу натыкаться на какого-нибудь пажа его величества Наполеона Первого? Он достаточно встречал их на пресбургских улицах! Они наблюдали здесь за отправкой военной добычи. Побежденная Австрия должна была отдать свое вооружение — две тысячи орудий, сто тысяч ружей. Часть добычи погружалась здесь на речные суда, уходившие по Дунаю на запад.
Так прочь от Дуная!
Вдали его манило убежище, такое же спокойное, каким некогда была для него Коромпа. Князь Лихновский заблаговременно укрылся с семьей подальше от полей сражений — в замке в Градце близ Опавы. Он много раз приглашал Бетховена приехать туда.
Сейчас композитор решил принять это приглашение и отправился на почтовых вдоль Моравы на север, через Ольмюц,[19] в Силезию. Этот край, где прежде ему не пришлось бывать, давно его интересовал.
На спутников, которые постоянно менялись в почтовых каретах, он не обращал особого внимания. Мрачный и молчаливый, он боролся в душе сам с собой. Два голоса спорили друг с другом. Один был радостный и обещал счастливое будущее. Другой был горьким и сомневающимся. Радость и горечь сомнения попеременно охватывали его.
У тебя теперь есть то, чего ты давно уже так жаждал. Любовь большой души, близкой тебе, любовь женщины доброй, нежной и преданной. Разве не призналась она, что думала о тебе много лет? Разве не доверялась она «твоему» дереву, когда ты гонялся за иными призраками?
Безумный! Против тебя ополчится вся семья! Мать, сестры, дяди, тети и двоюродные братья — все восстанут против тебя! Разве могут они отдать графскую дочь человеку простой крови! Ведь она крестница императрицы Марии Терезии! И вдруг превратилась бы в обыкновенную Терезу Бетховен!
Не верь знати, Бетховен! Не верь! Она предаст тебя! Мало кто из них относится к тебе как к равному, и кто знает, когда в любом из них пробудится голос предков. И вместо друга однажды перед тобой возникнет господин, который видит в тебе невольника.
Вспомни хотя бы Гайдна! Мир знает, что его гений будет выситься над всеми музыкантами целые столетия. Но когда Гайдн был в Лондоне, никчемный князишко послал ему письмо с требованием вернуться к обязанностям придворного капельмейстера! В юном господине пробудился вечный дух повелителей.
Гайдн, конечно, продолжал свои концерты в Лондоне, где он имел такой успех. Однако послал письмо с извинениями.
Ах, Гайдн, такой необыкновенно уравновешенный и такой умудренный! Случись такое со мной, я бы при первом же столкновении с князем обрушил бы на его голову все ноты, которые оказались бы поблизости! Я сказал бы: мне не нужна ваша капельмейстерская пенсия! Я не тот человек, который продается! Ни за какие сокровища, ни за какие милости!
Если в душе Бетховена была такая горечь, не мудрено, что на французских офицеров он поглядывал отнюдь не ласково.
Их послал сюда Наполеон. Император и изменник! Предатель, мерзавец, корыстолюбец! Ему уже мало самому быть императором, он теперь родственников своих женит и отдает замуж только в королевские семьи. Хочет кровными узами породниться с остальными тиранами! И своих генералов развратил всех до одного. Бывшим кучерам, писарям, ремесленникам он присваивает титулы князей и герцогов, только бы совсем оторвать их от тех, от которых они происходят.
И Бернадотту выделил какое-то княжество, украденное у итальянского народа, и нарек его герцогом Понте Корво. А если уж Бернадотта одурманил княжеский титул, то кому же тогда верить?
С горечью Бетховен вспоминал о своем кратковременном знакомстве с ним. Измену Наполеона и Бернадотта он пережил так тяжко, что не стал вводить мелодию «Марсельезы» в свои сочинения. Сейчас он рассчитывал, что уже не встретит на моравской земле ни одного французского вояки. Однако встречался с ними на каждом шагу. Ольмюц, бывший одной из самых неприступных австрийских крепостей, буквально кишел чужестранцами.
А будет ли их меньше в Опаве? В соседней Пруссии еще идет война, и в этих местах разместились резервы.
Скорее бы уж очутиться у Лихновского! Он знал, что Градец расположен в добрых двух часах езды от силезской столицы — Ольмюца. Уж там-то среди полей и лесов он найдет отдых от горьких дум и от французов. Лихновский манил его в письмах:
«Если хотите спрятаться от света, приезжайте в Градец! Здесь есть парк, в котором вы исчезнете, как в озере. В нем есть такие уголки, где вас не найдет никто — разве только дух королевны Кунигунды, которая некогда обитала здесь».
Бетховен нанял экипаж и, не мешкая, отправился в Градец.
Когда он подъезжал к замку, его ожидала встреча, поразившая его куда сильнее, чем если бы появилась сама королева Кунигунда. По извилистой тропинке по косогору ехало пятеро всадников. Сразу за холмом они повернули вправо и поскакали в луга, но и этой мимолетной встречи было достаточно, чтобы лицо Бетховена, едва прояснившись, снова омрачилось: опять французы!
Пожимая руку Лихновского, он первым долгом спросил:
— И у вас французские солдаты?
— В замке нет, а в окрестностях стоят.
— Надеюсь, хотя бы к себе вы их не приглашаете?
— Что поделаешь, — пожал плечами Лихновский. — Если бы к вам в дом ворвались татары с саблями в руках, вы и им улыбались бы. Они — победители, мы — побежденные!
— Именно потому я и не открыл бы им дверей!
Лихновский безнадежно махнул рукой.
— Но они могли бы принести мне много вреда. Впрочем, их офицеры образованные люди и любители музыки. Им знакомо ваше имя. Если они узнают, что вы здесь, они появятся в надежде познакомиться с вами.
— Упаси бог, — проворчал Бетховен.
В последующие дни ему не удалось избегнуть встреч с непрошеными гостями, но он всегда старался, чтобы они были холодны и кратки, как удары бильярдных шаров.
Впрочем, встречи на «зеленом поле» бильярда бывают иногда такими стремительными и острыми, что какой-нибудь шар перескакивает через край. В градецком замке тоже могло произойти такое.
Бетховен с непрошеными гостями был неприветлив, хозяин замка старался поддерживать хорошие отношения. Захочется господину генералу поохотиться в княжеских лесах, Лихновский готов загнать для него последнюю косулю. Интересует гостей величайший композитор Европы? Пожалуйста! Хозяин с радостью обещает его охотникам.
Итак, готовится знатный обед — съедутся дворяне из соседних имений и явятся господа в сапогах со шпорами. Яства отличные, изысканные, вина выдержанные, старые — и за спиной слышится шепот: «Сегодня мы услышим Бетховена».
— Сегодня, господа, будет играть Бетховен!
Бетховен сидит за столом невеселый. Он и половины не слышит из того, что говорится за столом, чему смеются дамы. Его французский весьма коряв, он говорит мало, отрывистыми фразами.
— Маэстро, я слышал, что вы прекрасно играете на фортепьяно! — старается быть любезным молодой капитан. — А на скрипке тоже, не так ли?
Вопрос кажется композитору безгранично глупым. Можно ли быть виртуозом на целой дюжине инструментов? И кажется, повеяло опасностью. Похоже, что его повлекут к фортепьяно.
Он не отвечает, сделав вид, что он не расслышал вопроса, и незаметно удаляется из столовой.
С облегчением уселся он в кресло в своей комнате. Спокойно, тихо, никаких глупых речей… Конец комедии.
О, как он ненавидит этих прилизанных, словоохотливых офицериков! Если бы они еще умерили свои восторженные речи о своем императоре! Бывшие революционеры гордятся, что их тиран — более выдающийся, чем остальные, подобные ему. Их не волнует, что он обманул собственный народ, что он обманул всю демократию в мире, обманул доверчивого музыканта, едва избежавшего позора, намереваясь посвятить симфонию лукавому изменнику.
Кто-то стучит в дверь — осторожно, но настойчиво. Что еще такое? Входит слуга, почтительно кланяясь:
— Его сиятельство настоятельно просит вас выйти в маленькую гостиную, он хочет сказать вам несколько слов.
Бетховен вышел взвинченный, насупленный. Ноги не шли, будто были налиты свинцом.
Князь раскраснелся, возбужден. Как видно, он не уступал французам в возлияниях.
— Я обещал французам, мой друг, что вы немного поиграете — это будет для них самым лакомым блюдом.
Бетховен пришел в ярость:
— Вы можете им обещать, ваше сиятельство, устриц, омаров или токайское, но не Бетховена!
Хозяин настаивал, поначалу шутливо, потом повелительно. Композитор сердито махнул рукой в знак отказа и вышел из гостиной.
Вслед ему слышалось как бы шутливо, но не без угрозы:
— Мы приведем вас силой! Не забывайте, что мне придут на помощь не кто-нибудь, а воины Наполеона!
Хуже этого он ничего придумать не мог. Грозить художнику силой! Тому, кто не признавал ничьей власти над собой. И пугать его чужеземным хлыстом!
Он вернулся в свою комнату и повернул ключ трижды. Пусть теперь попробуют войти!
Но добрейший князь под воздействием винных паров сегодня не склонен был отступать. Через несколько минут он снова был у двери. На этот раз, к счастью, без французов, но все же не без помощников. Он привел с собой соседа — графа Опперсдорфа и еще нескольких собутыльников.
Господа звали, стучали, колотили в дверь, а позади стоял слуга — громадного роста.
В комнате Бетховена стояла грозная тишина.
— Ломай замок! — приказал князь.
Лакей нажал, дверь затрещала. Он с силой надавил снова — послышался скрежет ломающегося железа. В замке сухо треснуло.
Во главе с Лихновским все ворвались в комнату. Бетховен вскочил, лицо его потемнело, глаза бешено сверкали.
— Вон! Как вы смеете!
— Мы уйдем отсюда только с вами! — закричал князь. — Я вас обещал.
— Никто ничего не смеет обещать за меня!
— К чему эта комедия? Вас же не убудет от этого. Пойдемте! — И князь сделал шаг, намереваясь взять за руку взбешенного музыканта.
— Не подходите! Не прикасайтесь ко мне! — прорычал Бетховен. Казалось, что он совершенно обезумел. Он смотрел на старого друга глазами, налитыми кровью. Все зло, существовавшее в мире, сосредоточилось сейчас для него в этом человеке.
Итак, в его друге все же пробудился властелин. С плеткой в руках! Он ведь князь, князь! Один из тех, которые хотят отнять у него единственное его счастье — его Терезу! Князь, а нянчится с наполеоновскими лакеями. А чего еще и ожидать? Рыбак рыбака видит издалека!
Но и Лихновского душила злоба. Хозяин он в замке или нет? И он снова, взяв Бетховена за руку, попытался вести к двери.
Но гнев уже переливался через край. Бетховен отскочил назад, быстро повернулся, и они снова стояли лицом к лицу. В сильных руках Бетховена над головой тяжелый дубовый стул.
Еще секунда, и он размозжит князю голову.
Удара не последовало, и это не было заслугой ни того, ни другого. Тучный Опперсдорф громко закричал и бросился между ними. Он теснил композитора, подталкивал к двери князя. И между ними уже оказалась стена из людей, одновременно говоривших, хотя никто друг друга не слушал.
Потом сразу наступает тишина. Только где-то на лестнице звучат взволнованные голоса, но и они стихают.
Композитор стоит среди комнаты, тяжелый стул валяется у его ног. Он толкнул его ногой, рванулся к шкафу, натянул плащ и уже в шляпе, обмотав горло шарфом, начал выбрасывать все свои вещи на середину красного ковра.
Потом, будто вспомнив что-то, бросился к кипе бумаг, вытащил из нее связку каких-то нот и чистую бумагу.
Стоя он быстро пишет несколько строк. Записка остается на столе, когда он уходит со связкой нот в руках. Изуродованная дверь остается открытой настежь.
Он постучал в каморку слуги:
— Завтра утром доставьте мои вещи в Опаву. Я возвращаюсь в Вену.
Заспанный слуга мигает глазами и, заикаясь, повторяет:
— В Опаву? В Вену? А как же я вас там найду?
Вместо ответа композитор только махнул рукой. Поспешные шаги затихают. Темная фигура в плаще покидает замок — он оказывается в черной тьме позднего вечера. Под дождем. Ведь и небо редко бывает милосердным к Бетховену!
Композитор выбирается на дорогу, ведущую к Опаве. Он не останется под крышей дома, где барское насилие настигает вас даже в вашей комнате.
Людвиг Бетховен не станет дожидаться пинка, которым его сбросят с лестницы. На него обрушилась непогодь, потоки воды обдавали его из луж и падали на него с неба. Под плащом он прижимал к себе самое дорогое, что у него есть — «Аппассионату», свою страстную сонату, посвященную Терезе Брунсвик. Композитор промок до нитки. Намокли и ноты.
И через столетия люди будут всматриваться в рукопись, отыскивая следы этой страшной ночи.
Промокший до нитки, брел Бетховен по незнакомой дороге. После полуночи он прошел ворота опавской крепостной стены.
Утром Лихновский обнаружил на столе письмо:
Князь!
Тем, чем вы являетесь, вы обязаны случайности своего рождения. Тем, чем я являюсь, я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи. Бетховен — только один.
Посол от поэта
Уже давно Бетховена все сильнее притягивает поэзия величайшего из современных немецких писателей Вольфганга Иоганна Гёте. Некоторые стихотворения поэта неотступно живут в памяти, непрестанно звучат в ушах и требуют, чтобы их красоту он воплотил в музыке.
Сейчас Бетховен сидит над одним из самых любимых. Он заканчивает музыку на «Песнь Миньоны». Это печальная жалоба итальянской девушки, разлученной с родиной. Как страстно звучат ее воспоминания о счастливом детстве!
- Ты знаешь край, лимоны там цветут…[20]
Миньона тоскует о родном крае, где жизнь была безмятежной, спокойной, и Бетховен вкладывает в эту мелодию свою собственную тоску. Он думает не об Италии, а о том уголке венгерской земли, где в парке стоит белый дом.
Там у деревьев есть свои имена, а может быть, есть человеческие души. По глухим дорожкам там бродит задумчивая Тереза.
Путь от Вены в Коромпу недолог. От Вены Коромпа совсем недалеко, но поездка туда несбыточна. Как пропасть лежит на его пути запрет родственников. Разве он жених для Терезы? Он, неимущий, не обладающий фамильным гербом, даром что в свои неполных сорок лет он признан первым среди немецких композиторов.
Снова и снова он проигрывал эту песню, надрывавшую его сердце, внося последние поправки. Перед его мысленным взором была Миньона из стихотворения Гёте, стройная девушка с пламенными очами и нежным лицом в рамке черных волос.
Вдруг чьи-то маленькие руки легли на его плечи. Он сердито повел плечом. Кто осмелился войти, когда он играет!
Вместе с прикосновением чужих рук до него донесся аромат тонких духов. Прежде чем он повернул голову, таинственный посетитель склонился к нему, и женский голос сказал ему на ухо:
— Это я — Брентано.
За его спиной стояла прелестная женщина, с овальным розовым лицом и большими глазами, сверкавшими в тени соломенной шляпы. Разве только отсутствие южной смуглости не позволило принять ее за ожившую Миньону! Мрачное настроение сразу покинуло его. Бетховен, не вставая из-за рояля, подал ей руку через плечо и весело сказал:
— Я только что сочинил для вас песню. Хотите ее послушать?
Она молниеносно кивнула головой, прошла вперед и оперлась руками о рояль. Ее карие глаза смотрели ему в лицо. Рояль запел, и за ним вступил мужской голос:
- Ты знаешь край, лимоны там цветут…
Странный голос… Резкий, громкий, такой, какой часто бывает у глухих. Девушка слушала с грустью. Но скоро ее так захватила сама песня, что она забыла обо всем. Щеки ее запылали, когда она зааплодировала:
— О, как это красиво! Прекрасно!
— Тогда я спою еще одну. Хотите? — воодушевился Бетховен и запел другую песню Гёте, о любимой Италии, голосом еще более громким и резким:
- Лейтесь вновь, слезы вечной любви!
Беттина снова аплодировала ему, и он поблагодарил ее:
— Обычно люди плачут, услышав что-нибудь хорошее. Но такие люди — это не художественные натуры. Художники обладают могучими душами. Они не плачут!
Беттина широко открыла глаза.
— Нам, женщинам, слезы иногда можно и позволить. А кроме того, вы могли бы предложить мне сесть!
Не дожидаясь приглашения, она присела на край кушетки, заваленной нотами и книгами. Она вытянула ноги и, постучав по полу кончиками черных туфель, выглядывавших из-под длинной юбки, сказала:
— Наши говорили мне, что вас нелегко разыскать. Будто у вас три квартиры: одна в городе, другая здесь, у городской стены, а третья за городом. Но от меня вы нигде не укроетесь, маэстро! Я вас и на дне Дуная найду!
Бетховен добродушно кивал головой. И хотя молодая дама старалась говорить как можно яснее, он слышал ее достаточно плохо. Однако ему доставляло большое удовольствие любоваться дерзким и таким милым существом. Она пришла к нему лишь во второй раз, но чувствует себя здесь как дома.
Бетховену было свойственно — это несомненно — с доверием тянуться к людям, как тянется к незнакомому прохожему котенок, потерявшийся в полях.
— Ко мне так и валят визитеры! Всякие знатные господа, которых я не люблю. Если бы я не скрывался, не было бы отбоя от посетителей…
— …которые влезали бы в вашу квартиру незваными, как я, да? — засмеялась она.
— Меня засыпа́ли бы приглашениями к обеду, ужину и даже завтраку!
— А меня как раз послали для того, чтобы заманить к нам на обед.
— Но у меня, право, нет времени, барышня, — пожал он плечами.
Она сделала вид, что огорчилась, но тут же вскочила с кушетки, и снова раздался взрыв смеха.
— Вы думаете, что я огорчилась тем, что вы не хотите идти к нам? Как бы не так! Я знала, что вы не пойдете. И огорчилась оттого, что вы назвали меня «барышня».
— Но как же иначе!
— Беттина! Я бы в самом деле хотела, чтобы вы так меня называли, — повела она прелестной головкой. — Гёте зовет меня просто «дитя». Кое-кто уже тоже стал меня так называть, вслед за ним. Будто я и правда вечное дитя. Но я, представьте, через год выйду замуж, — подняла она вверх розовый пальчик.
Композитор явно любовался ею. Он действительно находил в этой веселой девушке что-то детское и безуспешно гадал, сколько может быть ей лет. Пожалуй, между семнадцатью и двадцатью годами. Она мгновенно поняла, о чем он думает.
— Сколько мне лет? Все дают мне меньше, но мне уже идет двадцать пятый год. Я, слава богу, сама этому не верю и не стараюсь держаться с важностью.
Она и в самом деле не старалась. Беттина явно чувствовала себя здесь как дома, может быть и потому, что ее родные были знакомы с композитором давно.
Впервые к Бетховену ее привела сестра, вышедшая замуж за известного профессора римского права, знакомого с Бетховеном еще с Бонна. Обе они гостили у своего родственника, Биркенштока, в доме которого Бетховен бывал на музыкальных вечерах уже многие годы.
Она в самом деле обладала даром легко сходиться с людьми. Недаром Гёте любил ее, как дочь.
Она начала рассказывать о Гёте, почувствовав, что композитор с удовольствием слушает ее рассказ о жизни поэта. Образованная и любящая музыку семья Брентано была прибежищем композитора в первые месяцы его венской жизни. Младшая Брентано приехала в Вену только недавно, однако ей казалось, что она знает Бетховена уже много лет.
Поэзия Гёте давно притягивала Бетховена. Только неделю назад он закончил музыку к трагедии «Эгмонт», она должна была идти вскоре в венском театре.
Беттина была талантливой рассказчицей: перед ним возникали живые картины жизни гостеприимного дома в Веймаре, фигуры желанных гостей, звучали мудрые речи Гёте. Девушка оказалась не такой наивной, как это можно было подумать. Она повторяла, почти дословно, серьезные суждения об искусстве, услышанные ею в разное время, которые она быстро усваивала.
Это она переняла у своего брата-поэта, размышлял Бетховен, слушая ее. Однако подозрение это было необоснованным. Беттина обладала незаурядным умом и была образованна. Композитор постепенно попадал под ее обаяние, девушки, очаровательной и остроумной, так отличавшейся от жеманных и необразованных девиц из мещанских семей. Как и Гёте, он был захвачен бурным потоком ее речей, искренних, страстных. Беттина постоянно была чем-то увлечена. Он говорил с ней откровенно:
— Стихи Гёте сильно увлекают меня не только своим содержанием, но и ритмом. Его язык меня волнует и буквально понуждает к сочинительству. Из этого волнения возникает мелодия, и я должен разрабатывать ее. Музыка — это как бы переводчик между духовной жизнью и нашими чувствами. Я хотел бы поговорить об этом с Гёте, если бы мог рассчитывать быть понятым.
Давно уже мечтал он о встрече с Гёте, и ему показалось, что Беттина могла бы быть посредницей между ними. Он неуверенно заговорил о такой возможности.
— Конечно, — просияла девушка. — Давно уже следовало вам встретиться — величайшему поэту и величайшему композитору Германии! Я непременно позабочусь об этом.
Бетховен растроганно поблагодарил ее. Никогда он не навязывал свою дружбу никому, но слишком сильным было желание встречи с великим поэтом. Обрадованный Бетховен не заметил, как согласился пойти на обед, ради чего девушка и пришла, от чего поначалу отказался.
Он расправил свои густые волосы двумя руками и отыскал шляпу. Беттина была немного озадачена. Она разглядывала его старый сюртук оливкового цвета, с обтрепанными манжетами и порядком залоснившимся воротником. На груди, словно знаки отличия, выделялись застарелые чернильные пятна.
— Мой дорогой маэстро, — сказала она немного неуверенно, не переставая улыбаться, — простите за дерзкий вопрос, но не забыли ли вы сменить свой домашний костюм на парадный?
Бетховен ответил молниеносно:
— Если вам нужен не я, а мой фрак, я могу послать его обедать вместо себя! Вы посадите его там за стол.
— Но, маэстро! — лукаво прищурила глаза Беттина. — Если даже вы явитесь к нам в одном жилете, и то будете самым драгоценным гостем. Я сказала про костюм только потому, что сегодня впервые в жизни пойду по городу с таким прославленным человеком. Это меня очень радует. Но мне хотелось бы, чтобы память об этом событии не была связана с этими двумя чернильными пятнами на сюртуке. Пойдемте, я помогу вам выбрать из вашего платья то, что больше всего к лицу вам.
Со смехом и шутками они нашли нужное, и наконец Бетховен вышел из дома вместе со своей изящной спутницей, облаченный в синий фрак. Однако через несколько шагов он остановился:
— Простите, милая, я должен на минутку вернуться.
Он быстро проскользнул обратно в дом и вскоре появился в дверях.
— Я поступаю в соответствии с вашим желанием, — сказал он с плутовской улыбкой. — Если для вас в самом деле является удовольствием пройти по улицам Вены с Бетховеном, я обязан предотвратить возможность подозрений в обмане. Никто бы вам не поверил, что это был я, если бы видели этакого франта в костюме, который я надеваю, только когда дирижирую.
— Отлично, — согласилась Беттина. — Но тогда обещайте мне, что всю дорогу будете держать руки сложенными на груди. Не обязательно каждый встречный должен видеть, как композиторы брызгают чернилами на свою одежду. А кроме того, это будет выглядеть так, будто вы все время прижимаете руку к сердцу и признаетесь мне в своих чувствах, а это приумножит мою славу.
Он выслушал ее и двинулся вперед. Потом опять остановился.
— Вы думаете, что мне следует держать руки все время так, и во время обеда?
— Непременно! Закрывая пятна!
— А обед будет хороший?
— Отменный!
Он громко рассмеялся:
— Вы думаете, что вам в угоду я буду только смотреть, как другие едят? Мне это не подходит! — Он повернулся и снова исчез в доме.
Беттина стояла на мостовой в раздумье. Что он — рассердился? Может быть, обиделся? Знакомые предупреждали ее, что Бетховен под влиянием растущей глухоты становился все более и более раздражительным, нужно быть очень и очень осторожной с ним! «Что же делать? — раздумывала она. — Вернуться за ним? Уйти?» И вдруг увидела его выходящим из дома. Он шагал в новом синем фраке, в том, который уже заставляла его надевать Беттина.
В отличном настроении вошли они в дом Биркенштока. Общество, сидевшее в столовой, так и замерло, увидев входящего Бетховена под руку с Беттиной, — все знали, что он не терпит, чтобы кто-нибудь осмеливался помешать ему работать в это время дня.
Столь эффектное появление Беттине удалось осуществить в обмен на обещание, данное Бетховену, и оно было ей по душе.
— Раз я принял ваше приглашение, не примите ли и вы мое? — спросил он, прежде чем они вошли в дом.
— К обеду? — удивилась она.
Бетховен безнадежно махнул рукой:
— Какой может быть обед у старого холостяка! Я хочу пригласить вас к иному пиршеству. Завтра утром в театре в первый раз будем репетировать «Эгмонта». Желаете послушать?
— Маэстро, от такого пиршества я никак не могу отказаться! Принимаю приглашение и страшно рада ему! — Ее глаза просияли.
На следующий день он приехал за ней во фраке без чернильных пятен.
Через полчаса она уже сидела одна-единственная в большой и темной театральной ложе. Перед ней разверзлась черная глубина сцены, на ней не было ни единой души. На девушку веяло тоской от этой тьмы и безлюдья. Композитор, проводив ее в ложу, погладил ее по плечу и пошутил:
— Надеюсь, Беттина, вы не побоитесь сидеть здесь одна? «Эгмонт» — сочинение о мужественных людях.
Ей можно было не напоминать об этом. Прославленную трагедию Гёте она знала на память.
Он изобразил в ней судьбу благородного полководца, руководившего восставшим народом Нидерландов. Нидерландцы восстали против испанской тирании в шестнадцатом веке, и во главе восстания встал Эгмонт. Он был коварно схвачен и осужден на смерть. Отважная девушка Клерхен призывает народ выступить на его защиту. Эгмонту не удалось избежать тяжкой кары. И мужественная Клерхен расплачивается жизнью за свою любовь и борьбу.
Еще по дороге в театр Бетховен рассказал Беттине, что он написал к трагедии увертюру, музыкальные антракты между действиями, две песни и музыкальную картину «Смерть Клерхен». Он создал также мелодраму к последнему монологу Эгмонта в тюрьме. В нем он призывает народ поднять оружие против угнетателей. Трагедию завершает краткий победный финал.
— Финал этот я написал не таким мрачным, как у Гёте, — рассказывал композитор. — Такая умная головка, как ваша, поймет, почему я сделал так.
Эти слова еще больше подстегнули любопытство Беттины, и без того возбужденное до крайности.
Темное пространство перед ее взором постепенно посветлело. Слуги принесли в оркестр свечи и расставили их у пультов. Понемногу приходили музыканты. Они рассаживались, настраивали инструменты, раздавались трели отдельных инструментов, музыканты разминали пальцы.
Потом она увидела Бетховена. В темно-сером фраке он пробирался среди музыкантов. Поговорил с одним, похлопал по плечу другого, третьему указал на что-то в нотах, лежавших наготове. Когда он наконец поднялся на свое возвышение, музыканты умолкли, не дожидаясь взмаха его палочки.
Беттина сразу же поняла, о чем она давно мечтала: услышать, как величайший из музыкантов сам дирижирует своим сочинением! Но как поступить ей — постараться запечатлеть в памяти то, что видели ее глаза, или следить за тем, что несла ее чуткому уху музыка. Затаив дыхание она не спускала глаз с Бетховена, уверенно управлявшего оркестром с помощью своей дирижерской палочки.
Она вспомнила вдруг о своем старом друге. О, если бы он мог сидеть рядом с ней, слушать и видеть!
«Когда я увидела того, о ком хочу теперь тебе рассказать, — писала она Гёте, — я забыла весь мир…
…Я хочу говорить тебе теперь о Бетховене, вблизи которого я забыла мир и даже тебя, о Гёте! Правда, я человек незрелый, но я не ошибаюсь, когда говорю (этому не верит и этого не понимает пока что, пожалуй, никто), что он шагает далеко впереди всего человечества, и догоним ли мы его когда-нибудь?».
— Как хочется, чтобы он прожил столько, сколько понадобится для того, чтобы мощная и возвышенная тайна, которая заложена в его существе, не достигнет полного выражения!..
Так шептала самой себе Беттина, охваченная еще никогда не виданным волнением.
Беттина сознавала величие музыки, доносившейся к ней снизу, и ее революционность. Там, где поэт закончил трагедию гибелью предводителя повстанцев, композитор привнес другую идею. Музыка звала к победе.
Вот почему композитор предупредил ее, чтобы внимательно следила за концом!
Беттина понимала. Она хорошо чувствовала тайное брожение, охватившее молодую Европу. «Свободу! Дайте свободу Человеку!» — звучал призыв из темницы, перед которым правители напрасно зажимали уши.
И музыка Бетховена призывала к свободе.
Когда композитор пришел в ложу, чтобы проводить гостью домой, она сказала ему, что поняла финал его сочинения.
— Это не первый и не последний случай, когда я призываю своей музыкой к свержению тиранов, — говорил он, когда они сидели в коляске. — Вы видели мою оперу «Фиделио»? Хотя напрасно я спрашиваю вас. Как вы могли видеть, если ее не ставят нигде! Музыку не понимают, а сюжет слишком смелый. Опять там бунт против угнетения. Уже в первом действии вы могли бы увидеть двор замка, полный узников, — их ненадолго вывели на прогулку из подземелья. Тиран Писарро еще властвует. В тюремном подземелье держат в цепях человека, который первым осмелился поднять голос против угнетателей. Это Флорестан. Его жена пришла к тюремщикам, переодетая юношей под именем Фиделио. Неузнанная, она попадает в камеру, где томится ее муж. Когда тиран Писарро решает убить Флорестана, Леонора — Фиделио становится между ними, помешав убийце и сохраняя этим жизнь мужу, потому что в этот момент в замке появляется дон Фернандо, старый друг Флорестана. Он послан, чтобы покарать Писарро за все его злодейства.
И, немного помолчав, добавил:
— Впрочем, это только сухая схема, музыка сказала бы вам больше. Сказала бы вам, какой должна быть опера в моем представлении, и как я высоко ценю человеческую свободу, и о том… — Он не договорил и вдруг обратился к девушке: — А за кого, собственно, вы собираетесь выходить замуж в будущем году?
Беттина слегка покраснела:
— За Иоахима Арнима. Это лучший друг моего брата. Он на четыре года старше меня.
— Хороший человек?
— Говорят, что без недостатков людей нет. Но у Арнима я не вижу ни одного. Он поэт и природовед. Но прежде всего он настоящий мужчина. Он знает, чего он хочет, он добивается, чего хочет, а то, что он хочет, всегда благородно!
Бетховен лукаво взглянул на девушку:
— А знаете, Беттина, я бы не взял вас в жены. У вас слишком уж строгие требования к мужу!
— Но, маэстро, вы как раз образец такого человека! Вы знаете, чего хотите, вы воплощаете в жизнь свои желания, и они всегда благородны. Сегодня я услышала вашу музыку к «Эгмонту». Гёте закончил свое сочинение смертью героя-революционера. Вы хотите большего. Борьба за свободу должна кончаться победоносно. Это обещает ваша музыка.
— Жаль только, что музыке не дано совершать революции. И жаль, что мне не пришлось изучить военное дело. Я бы показал Наполеону и остальным тиранам!
— Но вы совершаете революцию в музыке, которой до вас не совершал никто! И победоносную при этом!
Композитор недоверчиво покачал головой:
— Я, собственно, хотел говорить о другом. Я спросил вас, кто станет вашим мужем, потому что «Фиделио» — это пример того, какой должна быть истинная любовь между супругами. Даже дружба требует величайшего родства душ и сердец. Тем более супружество. «Fidelis» значит по-латыни «верный, крепкий, надежный». Поэтому Леонора принимает имя Фиделио. Она пошла за своим мужем в тюрьму, а если нужно было бы, пошла бы и на смерть.
— Но, маэстро, если вы сами так хорошо рассуждаете об этом, почему же вы сами…
Он остановил ее взмахом руки:
— Что сказать вам о себе? «Сожалею о своей судьбе» — восклицаю я вместе с Иоанной д’Арк.[21] Лучше не будем об этом! Но я говорю с вами так, будто вы слушали «Фиделио». Может быть, и услышите когда-нибудь. Правда, от меня, наверное, опять потребуют, чтобы я снова переработал ее. Судьба этой оперы создаст мне ореол мученика… Но вернемся к «Эгмонту». Я написал его только из любви к Гёте. И кто в силах полнее выразить признательность столь великому поэту? Если будете писать Гёте, найдите такие слова, которые выразили бы мою бесконечную благодарность ему и мое глубокое уважение.
— Я напишу ему о вас много хорошего, и уже сегодня, — пообещала Беттина горячо.
И действительно, она написала поэту в тот же день. Она полностью выразила в своем письме все, что пережила и перечувствовала, наблюдая из ложи Бетховена, когда тот дирижировал, и постаралась пересказать пространные рассуждения Бетховена об искусстве.
Гёте ответил без промедления.
Счастливая Беттина пришла к Бетховену, радостно помахивая письмом:
— Вот оно! Гёте хочет встретиться с вами и надеется, что научится у вас пониманию музыки.
— Ну, если кто-нибудь и может научить его понимать музыку, то это в самом деле я, — сказал композитор уверенно, но без хвастовства.
Беттина расположилась на кипе нот и книг. Вокруг, как всегда, были разбросаны ноты и вещи, и ей не удалось найти свободный стул, чтобы сесть.
— Подождите, маэстро, — сказала она взволнованно. — Я это письмо разделю между нами двумя. Что написано для меня, я пропущу; что ваше, я прочту вам.
Она водила пальцем по строчкам, что-то неясно бормотала, потом начала читать звенящим голосом:
— «Передай Бетховену мои сердечные поздравления. Я с удовольствием принесу какую угодно жертву для того, чтобы встретиться с ним лично. Обмен мыслями и опытом принес бы нам много пользы. Может быть, ты сможешь уговорить его поехать в Карлсбад, куда я езжу почти каждый год. Там я имел бы прекрасную возможность слышать его и учиться у него»…
— Простите! — прервал девушку Бетховен. — Это я хочу учиться у Гёте! Я был бы счастлив узнать, что он доволен тем, как я переложил на музыку его сочинения. Вы написали ему об этом?
— Я написала, но он не хочет вас поучать в чем-либо. Послушайте терпеливо! — И она снова склонилась над письмом. — «…Обучать его было бы дерзостью даже со стороны более проницательного человека, ибо гений освещает ему путь и дает ему частые просветления, подобные молнии, там, где мы погружены во мрак и едва подозреваем, с какой стороны блеснет день».
Потом она опять что-то бормотала, переворачивая страницы письма.
— Дальше уже только для меня, — сказала она, подняв голову и рассмеявшись. — Но вот еще кое-что для вас! Гёте был бы очень рад, если бы вы послали ему те две песни, которые вы мне недавно пели. Только он просит, чтобы было написано разборчиво.
— Жизнь слишком коротка, чтобы я забавлялся вырисовыванием нот. Даже самые красивейшие ноты мне, например, нисколько не помогут. Но для Гёте я дам их своему лучшему переписчику! — удовлетворенно заметил он. И обратился к Беттине со словами благодарности: — Дорогая, весна этого года — самая прекрасная, это так — ибо я познакомился с вами… Я был как рыба на суше, милая Беттина. Вы застигли меня в момент, когда мною всецело владело отчаяние; но оно исчезло поистине благодаря вам. Я сразу понял, что вы из другого мира, не из этого, абсурдного, которому при всем желании нельзя довериться.
Потом он вспомнил, что, возможно, еще этим летом испытает счастье встречи с любимым поэтом.
— Почему я не мог сделать этого давно? По правде говоря, я и раньше уже подумывал об этом, но меня сдерживала моя робость. Мною она частенько овладевает. Словно я не такой, как все! Но теперь я перед Гёте робеть не буду!
Король среди поэтов или поэт своего короля?
Уставившись в пространство, Бетховен сидел в своей скромной комнате, снятой им в Теплице вместе с расстроенным фортепьяно. Уже в прошлом году влекли его в этот северочешский курортный городок две вещи: необходимость восстановления своего здоровья и надежда на встречу с Гёте. Не повезло ни в том, ни в другом. Какие-то обязанности высоко придворного чиновника не позволили поэту приехать в назначенное время. А лечение? Болезнь изводила слух все больше и больше. Не то чтобы быстро, скорее, — медленно, но неуклонно.
Композитор как будто уже смирился с болезнью. Она крадется за ним как тень вот уже много лет. А кто оглядывается на свою тень?
То, что в этом году он особенно радовался поездке в Теплице, не было связано с надеждой на выздоровление. Он надеялся встретиться здесь наконец с поэтом, который был так дорог ему.
Беттина Брентано, теперь уже Арним, подготовила эту встречу. Сама она тоже приедет вместе с мужем в конце сезона. Значит, в Теплице его ожидают радостные дни.
Но сегодня душа Бетховена охвачена печалью. На столе лежит только что оконченное письмо. В сущности, их три: два он написал вчера, сразу по приезде, сегодня — третье. Нет, эти неразборчивые строки не были написаны кое-как! Просто его рука не могла спокойно держать перо.
Тереза тоже это поймет!
Шесть лет же прошло с того счастливого вечера в Коромпе, когда прозвучало тихое признание: «Если ты хочешь отдать мне свое сердце…»
Шесть лет не сдаются ее спесивые родственники. Бетховен гордо замкнулся, Тереза страдает.
Но дороге в Теплице произошла их краткая встреча в Праге. Тереза живет поблизости у сестры Жозефины, воспитывая ее четверых детей.
Ее сердце полно любви, она щедро делится ею. Но отдать свою любовь тому, кому хотела бы, не может.
Эти мгновения в Праге принесли радость и тоску. Теперь, как и до встречи, их общение ограничивается перепиской. Но как затруднительны такие беседы в письмах! Только два раза в неделю идет почта в Карлсбад и уже оттуда в Прагу!
Он взял письмо и снова перечитывает строки, полные тревоги:
«Мой ангел, мое все, мое я — сегодня лишь несколько слов, и именно карандашом твоим… Отчего эта глубокая печаль, там где господствует необходимость? Разве наша любовь может устоять только ценой жертв?..
…Ты страдаешь, мое самое дорогое существо… Ах, всюду, где я нахожусь, ты тоже со мной.
…Что это за жизнь! — Так! Без тебя — настигаемый повсюду человеческой добротой, которую я не стремлюсь заслужить и не заслуживаю… Я люблю тебя, — как и ты меня любишь, только гораздо сильнее…»
Он переворачивал листы, перечитывая самые утешительные места. Вот оно, лежащее здесь с утра.
«…Доброе утро! Еще лежа в постели, я был полон мыслей о тебе, моя бессмертная возлюбленная! Они были то радостными, то грустными. Я вопрошал судьбу, услышит ли она наши мольбы.
…О боже, почему надо расставаться, когда любишь друг друга?.. Твоя любовь сделала меня одновременно счастливейшим и несчастливейшим из людей.
Навеки твой,
Навеки моя,
Навеки принадлежащие друг другу».
Вечно принадлежащие друг другу! И вечно разлученные друг с другом!
Он не смеет выполнить свое обещание и посвятить ей «Аппассионату». На клавире значится посвящение ее брату Францу. Но тот-то знал, кому оно принадлежит!
Уже больше шести лет длится напрасное ожидание. Как можно жить покинутым, будто Робинзон на пустынном острове, перенося тяготы глухоты, ощущая холодность мира, совсем одному! Уже семьдесят месяцев, каждый из которых тягостен, как бессонная ночь.
«И все же, Тереза, любовь делала меня сильнее. Ни один период моей жизни не был таким плодотворным, как этот. Хорошо, что уже в детстве я научился забываться от горя в работе! Моя жизнь, милая любимая девушка, стала похожа на тот холодный чулан, в который меня запирали в детстве.
В отчаянии я пробиваюсь от страдания к радости! И число творений моих все увеличивается, растет и слава. Если бы так же возрастала моя радость!»
В мыслях он подсчитал все сочинения, написанные в дни болезни и печали.
Среди множества небольших произведений высятся большие симфонии. После «Героической» он сочинил Четвертую, полную радостного настроения того лета, когда в Коромпе родилась надежда на счастье.
Но уже через два года в Пятой симфонии — симфонии Судьбы, солнце счастья зашло. Болезнь преследовала неотступно. Слух музыканта находился под угрозой, отчаяние охватывало его. Однако эта несокрушимая душа продолжала искать путь к свету. Он искал его не дома, в четырех стенах, а наедине с природой. Свидетельство тому Шестая симфония. Он дал ей название «Пасторальная». Пастушеская, сельская, она была сладостно спокойной. Правда, впервые она прозвучала в кровавом 1809 году, когда Австрия возобновила войну против Франции.
Бетховен не забудет этих дней! В апреле симфония была издана, а через четыре недели над Веной рвались снаряды. Кольцо наполеоновских войск сдавило город со всех сторон. При обстреле Бетховен вынужден был скрываться в подвале дома, где жил брат его, Карл, сидел, заложив уши ватой, оберегая больной слух, потому что на город изливалась лавина железа и огня, земля сотрясалась и окружающие дома были объяты пламенем.
Когда гарнизон сдался и бомбардировка прекратилась, беды не кончились. Город заняли французы, связь с деревнями прекратилась, мосты через Дунай были разрушены. Наступил голод. На город была наложена контрибуция в пятьдесят тысяч дукатов.
В сумятице, когда неприятельские пули стучали о стены домов, перестал дышать благородный Гайдн, и его похоронили украдкой.
От былого блеска Вены не осталось и воспоминания. Выехал императорский двор, дворянство укрылось в безопасных местах, люди богатые выехали в Моравию, в венгерские земли. Строгости победителей, не вызванные военной необходимостью, душили всякую жизнь. Однажды, когда Бетховен отправился на свою обычную прогулку за город, его задержали как шпиона.
Житейские тяготы день ото дня возрастали.
И все же этот год войны принес три новые сонаты для фортепьяно. Лучшую из них он посвятил своей «бессмертной возлюбленной».
Он со вздохом отогнал воспоминания и медленно сложил исписанные листки, чтобы отнести их наконец на почту.
Едва он взял в руки шляпу, как в дверь раздался стук. Кто же это опять? На каждом шагу, во всякое время дня его донимали незваные чужестранцы. Обычно им не нужно ничего, кроме возможности похвастать дома, что они пожали руку величайшему композитору из живущих на свете и видели его квартиру, о беспорядке которой шло множество толков.
Стучавший не стал дожидаться приглашения. В дверях появился худощавый молодой человек несколько болезненного вида, с жгучими глазами.
Бетховен, готовый уже взорваться гневом, рассмеялся, увидев старого знакомого, Франца Оливу. Он любил подающего надежды юношу, служившего в одном из венских банков, а по вечерам изучавшего разные искусства и особенно увлекавшегося музыкой. Еще в прошлом году они ездили вдвоем в Теплице.
— Оливы падают с деревьев в июле, почему же эта олива упала в мою комнату сейчас? — шутливо сказал композитор.
Желтоватое лицо гостя порозовело.
— Маэстро, несу вам весть, которая вас заинтересует. Только что я узнал, что через неделю приедет герцог Веймарский! Уже прибыл гофмейстер и готовит для него покои.
— Что же в этом интересного? — произнес композитор разочарованно. — Летом человек поминутно натыкается в Теплице на всяких герцогов и князей. Будто бы и сама императрица прибывает сюда с целым выводком герцогов. Сколачивают союз против Наполеона. Он где-то в России шатается, а эти плетут заговоры за его спиной. Похоже, что восемьсот двенадцатый год принесет Австрии новую войну.
— Но с герцогом Веймарским…
Композитор не дал ему закончить. Он помахал письмом, которое держал в руках, и загремел:
— Никакой герцог меня не интересует! Может быть, он вознамерился нанять меня в услужение? А вас подрядил в качестве посредника? Скажите ему прямо, что я не нуждаюсь в милости. Даже лучшие из этих господ способны на низость. Шесть лет назад Лихновский дошел до такого… выломал замок в моей комнате, чтобы принудить меня к послушанию.
— Однако теперь вы в хороших отношениях с неким князем! Вы даже приехали сюда вместе с ним! — засмеялся Олива.
— Это не моя заслуга. Но примирения не было долго. Больше четырех лет я не знался с ним. В обществе он значил для меня не больше пустого кресла!
Бетховена задели за больное место. Разве не эти господа виноваты в том, что он вынужден писать вот такие отчаянные письма, как то, что держит сейчас в руке? И не оскорбляет ли его всю жизнь эта высокородная публика?
— Я удивляюсь тому, что именно вы защищаете знать! Вы, не раз дававший мне советы в моих бедах! — гневно махнул он рукой, когда Олива безуспешно пытался вставить слово. — Достаточно вспомнить только эту историю трехлетней давности, — гремел зычный голос. — Вестфальский король предложил мне тогда отличное место. Работы немного, вознаграждение достойное: шестьсот дукатов в год! И за это я иногда должен был продирижировать в концерте. Но наши господа воспротивились. Они испугались. Ведь тогда Бетховен уедет из Вены, куда-то в Рейнские земли, откуда он прибыл! Тогда трое вельмож — герцог Рудольф, князь Лобковиц, граф Кинский — предложили пособие в четыре тысячи дукатов в год, только бы я остался в Вене или хотя бы в пределах Австрийской империи…
Такова знать. А вы приносите мне «радостную весть», что какой-то новый бездельник приезжает. На какого черта он мне нужен?
— Если бы вы дали мне вставить хоть слово! Я пришел вам сказать, что вместе с ним приедет и Гёте! — сказал Олива, с лукавым видом наблюдая за выражением лица композитора.
Губы Бетховена радостно дрогнули. На мгновение он утратил способность говорить, потом выдохнул:
— Уже приедет?
Внезапно он положил письмо на стол, подбежал к молодому человеку, сильными руками стиснул его плечи так, что Олива вскрикнул.
— Дружище, и вы говорите мне об этом только теперь?! Вы же знаете, как я жду его! Сколько лет я не читаю ничего, кроме Гёте! Когда же он приедет? Где будет жить? Я пошлю ему приглашение! Или раньше я должен нанести ему визит? Впрочем, это неважно. Важно то, что мы наконец сможем с ним поговорить по душам!
Он снял свои руки с плеч Оливы, дважды обежал свою комнату и снова остановился перед ним:
— Что значит весь этот коронованный сброд рядом с ним — королем поэтов? Пойдемте-ка зайдем на почту, а потом вы покажете мне, где он будет жить.
Он первым вышел в дверь и все еще продолжал возбужденно:
— Гёте приглашал меня приехать в Веймар. Прислал весьма любезную записку. А я скажу ему, что намерен написать оперу на сюжет его «Фауста»! Я давно уже помышляю о ней. — Он говорил непрерывно, и в потоке отрывистых фраз снова и снова повторялся вопрос: «Вы думаете, он приедет ко мне?»
Он ощущал свою духовную близость с величайшим немецким поэтом — так же, как некогда казался ему близким по духу Наполеон. Как часто, когда судьба наносила ему тяжелые раны, а мир не понимал его творения, он думал: если бы здесь был Гёте, он понял бы меня! А Беттина укрепляла в нем эту веру.
Великий мастер слова пришел в его комнатку вскоре по приезде. Элегантный, удивительно моложавый для своих шестидесяти трех лет. У него было красивое лицо с правильными чертами, глаза, полные ума, и удивительно высокий и чистый лоб, над которым волнились длинные волосы с проседью.
Бетховен поднялся и какое-то мгновение как бы взвешивал: следует ли ему склониться перед ним или заключить в объятия, чтобы выразить всю силу своих чувств. Гёте опередил его. Протянул руку, рассмеялся и спокойно сказал:
— Наконец-то мы встретились! Я рад этому!
— О, я знаю вас уже давно, ваше превосходительство! С детских лет, — сказал Бетховен смущенно, усилием воли укрощая свою восторженность. — В последние годы вы вытеснили из моего сердца всех поэтов. Только Гомер сохранил частицу моей любви… Прошу вас, присядьте.
Он всегда избегал употреблять титулы, но сейчас дважды назвал поэта «превосходительством». Он готов был отдать поэту все сокровища своей души.
Гёте принимал почести как должное. Говорил мало. Был немногословен, прекрасно понимая, что полуоглохшему композитору вести беседу тяжело. Сев в предложенное ему кресло, он направлял беседу так, чтобы говорить пришлось главным образом Бетховену.
— Я имел удовольствие слышать некоторые из ваших фортепьянных сочинений, но не знаю почти ничего о ваших симфониях. Хотелось бы услышать о них что-нибудь непосредственно от вас. О них говорят и хорошо и плохо, в зависимости от того, с какой ноги встал критик, — начал беседу Гёте с ободряющей улыбкой.
— На свете нет человека, которому я бы с большей охотой рассказал о своей работе, — благодарно ответил композитор.
Он подвинул свой стул ближе к гостю, чтобы не упустить ни одного изменения дорогого ему лица, и с видимым удовольствием начал:
— Вам, может быть, трудно будет поверить, что свою Первую симфонию я вынашивал целых девять лет. Не чувствовал себя в силах завершить столь серьезное сочинение. В конце концов я решился сыграть ее в 1800 году — и она имела успех! Тогда я невольно шел еще по стопам своих учителей, Моцарта и Гайдна. Но когда во Второй симфонии я заговорил собственным голосом, все было по-иному.
Это было два года спустя. Я до сих пор помню почти дословно, что писал тогда венский «Журнал для элегантного мира»: «Эта симфония — крикливое чудовище, дракон, пойманный и дико извивающийся, он не может умереть и бьет вокруг себя поднятым хвостом, который уже кровоточит».
Гёте нахмурился. Бетховен пожал плечами.
— То же произошло и с моей Третьей симфонией «Героической»! Тогда во время ее исполнения некий добряк, сидевший на галерке, предлагал крейцер… — От горького воспоминания у него перехватило горло. И сразу же он продолжил: — Если позволите, я расскажу вам еще кое-что о Пятой симфонии, названной мною симфонией Судьбы. Прямо в начале там слышится, как судьба стучится в дверь. — Бетховен быстро поднялся со стула и энергично проиграл на фортепьяно два первых такта.
Гёте вполголоса повторил мелодию, которая и в самом деле звучала так, будто кто-то стучал в дверь. Он покачал головой:
— Судьба настигает, и судьба недобрая… Как я это понимаю!
— О, дорогой маэстро, уж вам ли не понять меня! Зло в самом деле ломилось в мои двери — и сейчас ломится непрестанно. Я глохну — медленно и неотвратимо. Но человек не должен поддаваться. Моя симфония Судьбы — симфония воинственная. Человек ведет сражение с судьбой, не уступает ей.
Я много страдал, но наконец снова обрел свою прежнюю жизненную силу и сказал себе: только мужество! При всех наших телесных недугах должен победить дух! И Пятая симфония, полная тяжкой борьбы, кончается так, что должна подбодрить каждого, страдающего подобно мне. Знаете, ваше превосходительство, самым большим счастьем моим было, когда я мог своим искусством хоть сколько-нибудь помочь людям несчастным и страдающим.
— Вы сильный человек и благородный, — серьезно произнес писатель. — А как ваша Шестая симфония? Вы написали их шесть, не правда ли?
— Шестая? «Пасторальная»? Я облегчил обществу ее пониманием, тем что отдельные части обозначил точными наименованиями: «Пробуждение бодрых чувств по прибытии в село», «Сцена у ручья», «Веселая компания поселян», «Пастушеская песня» и тому подобное. Сейчас я работаю над Седьмой и Восьмой симфониями.
— Одновременно? — удивился Гёте.
— Да-да! — засмеялся композитор. — Ведь вся моя жизнь заключена в нотах, и едва одна вещь готова, другая уже начата. Часто я работаю над тремя, четырьмя сочинениями одновременно.
— Значит, эти ваши две симфонии мы скоро услышим?
— Услышите непременно, но, точнее говоря, не так уж непременно. После исполнения Пятой некоторые критики написали, что просто не понимают ее. Это хотя бы честно, по крайней мере! Но немало и таких, которые бранят произведение искусства только потому, что не понимают его.
— Ну, так, наверное, будет во веки веков. Большинство людей упорно противятся новому. Laudatori temporis acti[22] никогда не переведутся, — заметил поэт и добавил: — Надеюсь, что со временем мы услышим в Веймаре все ваши симфонии. Но особенно хвалят ваши свободные импровизации. Вы оказали бы мне большую любезность, если бы сыграли мне что-нибудь. Усердно прошу вас об этом!
Композитор охотно сел к фортепьяно. Он, который с таким презрением относился к знати и брата императора только что не бил по пальцам, сейчас был покорным, незначительным, готовым выполнить любое желание своего гостя. Старенькое фортепьяно под его руками изливало поток восхищения и любви. Он был охвачен пламенем чувства.
Гёте сидел откинувшись на спинку кресла. Он слушал, и его душа тоже пламенела. Но по-иному. Это не было горение факела. Так горит лампа в гостиной — ровным, спокойным пламенем. Он еще никогда не слышал такой игры и не мог оторвать взгляда от лица пианиста. Вот художник, способный с такой силой отдаваться своему искусству, что в голову ему бросилась кровь и вены на висках, того и гляди, лопнут!
Страстная мелодия звучит и звучит, но поэт наконец встает, натягивая перчатки на свои выхоленные руки. Визит окончен.
— К сожалению, я должен идти, — с улыбкой произнес Гёте. — Это было великолепно. Я никогда не встречал художника столь собранного, столь энергичного и проникновенного, как вы. Вы еще многое скажете миру!
Коренастый силач был наверху блаженства, как ребенок, которого похвалили. Каждый звук дорогого голоса звучал для него как благовест. Заикаясь, он произносит:
— Позвольте мне проводить вас!
Поэт учтиво отказался:
— Вы очень любезны, но в этом нет необходимости. Меня ожидает экипаж. Я слышал, как он только что остановился перед домом.
Бетховен разочарован. Экипаж? Как мог Гёте слышать экипаж, когда он играл так, что сердце его едва не разорвалось?
Гость тотчас же заметил огорчение композитора и поспешил утешить его:
— Я был бы очень счастлив, если бы вы завтра после обеда согласились немного погулять со мной.
— С удовольствием, с истинным удовольствием! — сердечно ответил Бетховен.
Но прогулка на другой день не принесла ему ожидаемой радости. Ему казалось временами, что поэт похож на совершенное произведение скульптора, безупречно выполненное в каждой линии, благородное — но холодное. Он еще не понимал, как различны их натуры: один — воплощение спокойствия, другой — истинный пламень.
Оба добросовестно старались понять друг друга. И действительно, не было тогда в Европе более значительных людей, чем они да еще Наполеон. И вот этот, третий, неожиданно разделил их.
Гёте рассказывал, как он встречался с императором и как тот приветствовал его словами:
«Вы воистину Человек!»
Но Бетховена это не тронуло.
— Он лжец! — сурово произнес композитор. — Я бы похвалам из его уст не радовался. Когда он в восемьсот девятом году занял Вену, то вздумал поставить у моего дома почетный караул из своих гусаров. Но моя квартира была пустой. Я сбежал к брату, а потом в Коромпу.
Спокойное лицо Гёте внезапно вспыхнуло.
— Я думаю, что вы не понимаете Наполеона. Он слишком велик для Европы, для нашего времени. Это человек железного характера. Ничто не может поколебать его. Он одинаково тверд — перед битвой, в битве, после победы, после поражения! Он стоит на ногах твердо, и ему всегда ясно, что нужно делать, — так, как вам, скажем, ясно, должны вы играть аллегро или адажио.
Бетховена сравнение почти оскорбило:
— Я не признаю никаких особых черт характера, дающих право ставить человека в число лучших из всех, когда либо живших на свете. Что мы должны требовать от великого человека, равно как и от обыкновенного? Чтобы он был благороден, добр и всегда был готов помогать ближнему. Для кого же действует Наполеон? Только для себя и ни для кого иного! Я вычеркнул его из числа уважаемых мною людей.
Произнося свою горячую речь, Бетховен зашагал быстрее, опережая поэта. Он не привык к такой степенной ходьбе.
Гёте и не подумал спорить. Было ясно, что Бетховен, того и гляди, сойдет с гладкой колеи почтительной беседы и ринется в атаку с такой же стремительностью, с которой он играл свои импровизации. Искушенный мастер салонных бесед осторожно перевел разговор на другую тему. Он похвастался, что написал комедию для молодой императрицы Марии Людвиги. В ней участвует она сама, эрцгерцоги и дамы из придворных кругов. И с гордостью добавил, что сам руководит репетициями и императрица послушно следует его указаниям.
— Зачем это! — сердито отозвался Бетховен. — Вы не должны так делать! Это не годится. Вы почаще напоминайте им, что вы значите, не то они уважать вас не будут. Ни одна из принцесс не интересуется вашей поэзией больше, чем это необходимо для удовлетворения ее тщеславия… Я с ними обхожусь иначе!
Однажды, когда я занимался с эрцгерцогом Рудольфом, он заставил меня долго ожидать его в передней. Ну и давал я ему в тот раз по пальцам, когда он ошибался! Он был шокирован и спросил меня, почему я так нетерпелив сегодня? Я ответил ему, что все мое терпение иссякло в передней. После этого он уже не заставлял меня ждать. Я заметил ему также, что он доказал лишь свою невоспитанность. Я сказал ему: «Вы можете любому нацепить орден, но этим вы не сделаете его лучше ни на йоту. Вы можете сотворить придворных советников — но не Гёте и не Бетховена. Поэтому научитесь уважать то, чего сами вы не умеете и еще долго не будете уметь!» Вот как следует обращаться с ними!
Гёте не произнес в ответ ни слова. На ветвях деревьев, под которыми они проходили, не шелохнулся ни один лист. Тишина сделалась особенно ощутимой. Бетховен опечалился.
— Вы молчите, — сказал он разочарованно. — Я ожидал, что вы будете откровенны. Вы, написавший «Эгмонта» и «Гёца фон Берлихингена».[23] Разве они не борцы против тирании? Разве вы не вложили в их уста горячие речи в защиту свободы?
Старый поэт некоторое время хранил молчание и наконец, вздохнув, произнес:
— Сейчас я на многое смотрю иначе.
И снова наступило тяжкое молчание. Лишь иногда раздавался хруст раздавленной веточки. Бетховен первым прервал молчание. Он преодолел свое возмущение, но все-таки за спокойными словами проглядывало волнение:
— Как жаль, что мы не могли встретиться с вами в одном возрасте! Так, между двадцатью и тридцатью годами. Тогда вы не были тайным советником и министром. Вы призывали к свободе, были одним из пророков революции. А теперь, боюсь, что воздух гросс-герцогского двора нравится вам больше, чем это надлежит поэту. Поэты должны быть первыми учителями своего народа, и им не следует ради своей славы забывать, как отвратителен этот мир. Судьбой человека до могилы распоряжается случайность, только она и определяет, где он родится — во дворце или в бедной хижине.
Гёте резко повернулся к нему, но отвечал, сохраняя корректную манеру человека светски воспитанного:
— Вы, вероятно, правы, утверждая, что этот мир отвратителен. Но неужели вы думаете, что для вас и для других будет лучше, если вы будете так необузданно нападать на все окружающее?
— Жизнь есть борьба, и я борюсь так, как умею, — ответил композитор, и снова он оказался на добрый шаг впереди поэта. — И сделай меня хоть десять раз придворным советником, я все равно не стал бы иным. Еще в молодости я установил для себя правило, которого придерживаюсь непреклонно: делать добро, где только возможно, любить свободу превыше всего, никогда не скрывать правду, даже на троне!
Гёте слабо, почти незаметно усмехнулся — особенно этому юношескому «на троне». Однако последние фразы, сказанные композитором, ему явно понравились. Он повторил их за Бетховеном и добавил:
— Когда вам было двадцать лет, мне было уже за сорок. Может ли старый Гёте взять на себя смелость добавить к трем вашим принципам еще кое-какие?
— Прошу вас!
— Так вот: верность добру, свободе, правде — сохранять, но при этом уживаться с окружающим миром. С тем миром, который существует вокруг нас. Один человек его не переделает. Скорее лишится головы. Эту истину вы не уяснили до сего дня! И теперь не в ладу с миром. И постоянно приходите в столкновение с ним.
У Бетховена наготове была горестная отповедь. Мир никогда не станет лучше, если каждый человек будет так охотно мириться с несправедливостью, в нем царящей!
Но он сдержался на этот раз. Он подумал, как это странно, в самом деле! Вот он, Гёте, совсем рядом. Достаточно протянуть руку, и можно коснуться рукава из тонкого сукна. И все-таки он безмерно далек! Так далек, что им не понять друг друга.
Поэт ощутил возникшее отчуждение, и ему стало жаль глохнущего композитора. Он взял его под руку и, наклонившись к самому уху, сказал примирительно:
— Ваше искусство безмерно велико, порой до отчаянности. Я почти боюсь его. Оно пробуждает во мне то, что я с таким трудом сломил в себе — юношескую гордыню и мятежность духа. Временами меня так потрясает сила вашего воображения, что я начинаю бояться, что на меня обрушится небо. Вы правы! Мы должны были встретиться молодыми!
Найти благодарный отклик в искренней душе музыканта было нетрудно. Бетховен сильно сжал руку Гёте. Но в то же мгновение он почувствовал, что Гёте поспешно старается высвободить свою руку.
— Императорский двор, императорский двор… — шептал он взволнованно.
На повороте дороги показалась группка разодетых дам и господ. Супруга австрийского правителя Мария Людвига со свитой эрцгерцогов и придворных дам шествовала навстречу им.
Бетховен оставался спокойным.
— Идите, как прежде, рядом со мной. Они должны уступить нам, а не мы — им! — сказал Бетховен поэту.
Гёте воспротивился требованию Бетховена: освободил свою руку, и, задолго до приближения знатной толпы, сняв шляпу, отступил с дороги. Склонив обнаженную голову, Гёте ожидал, пока пройдет императрица, придворные дамы и целая толпа князей.
Между тем Бетховен, заложив руки за спину, спокойно продолжал свой путь. Свита императрицы расступилась перед ним, эрцгерцоги кланялись ему. Композитор ответил им, слегка приподняв шляпу, и, не оглядываясь по сторонам, продолжал идти.
Когда высокородное общество удалилось достаточно далеко, он остановился, поджидая Гёте.
— Я вас ожидал, потому что почитаю вас. Но тем особам вы оказали слишком много чести.
Поэт в растерянности смотрел на своего спутника и взволнованно кусал губы.
— Это невозможно! Это безумие! — бормотал он.
Гёте уже не был расположен к беседе, отвечал Бетховену отрывисто и заторопился к выходу, сославшись на важные дела. Пожатие его руки было весьма сдержанным, хотя в душе он искренне старался оправдать несдержанность композитора.
«Конечно, его следует извинить. Бедняга заслуживает сожаления. Он лишается слуха, и это несомненно портит его характер. Может быть, на музыку его это не оказывает влияния, но для общения с людьми очень существенно… Советов он не принимает. А его музыка? Да, она сильна и отмечена новизной, но мне она всегда будет чужда».
Гёте благороден и добр и все же не сумел понять неукротимой души композитора. Ибо поэт принадлежал к старому миру, а Бетховен был провозвестником нового.
Гёте уходил не оглядываясь. А если бы оглянулся, то увидел бы, как тот, от которого он отрекся, стоял прислонившись к дереву и смотрел ему вслед. Как долго Бетховен ждал этой встречи, сколько надежд связывал с ней — теперь все рухнуло!
И все-таки он всегда будет любить творения поэта. Ведь они, подобно солнцу, величественны и светлы, раздумывал Бетховен, охваченный печалью. Но почему же как человек Гёте совсем иной?
Он смотрел, как фигурка поэта постепенно исчезает среди группок гуляющих, не спуская с него глаз до тех пор, пока тот не исчез совсем.
«И опять один! Как и всегда!» — вздохнул Бетховен, уходя из парка. Он таил надежду, что в эти дни возникнет дружба, которой он не знал до этой поры, зародится родство сильных и благородных душ.
Гёте неустойчив. То он создает прекрасные, мужественные стихи, то унижается перед двадцатипятилетней женщиной, благодаря капризу судьбы, носящей на голове императорскую корону, а не деревенский платок.
Мы с Моцартом боролись за свободу человека. Гайдн с улыбкой носил господский ошейник. Иначе он не мог. Он был человек тихий, всегда склонный к смирению, не борец. Но ведь Гёте был рожден для борьбы! Природа вооружила его для этого, как никого. А он сгибается в поклонах в герцогском дворце!
Министр! Тайный советник! Сочинитель комедий для ее величества императрицы! И мне еще предлагал выступить с каким-нибудь сочинением. Будто бы сам герцог пожелал этого!
Некогда правители имели при дворах собственных шутов и придворных поэтов. Гёте последний придворный поэт. И самый трагический, потому что самый большой!
Нет, он не король поэтов, а поэт своего короля.
Музыка для лошадей
В середине суровой зимы 1812 года Европу пересекал странный спутник. Из бескрайних русских равнин, через Польшу и Германию, несся он все дальше на Запад. В шапке, закутанный в шубу и одеяла, невеликий ростом, он был почти не виден в своей крытой кибитке. Его воспаленные глаза сверкали как у волка, обложенного охотниками.
На всех почтовых станциях путника ожидали свежие лошади. Сани неслись днем и ночью, будто седок задумал как можно скорее проложить в снегах прямой путь между Москвой и Парижем.
Наполеон Бонапарт, властитель всей Европы, бежал с поля боя. Впервые в жизни он потерпел жестокое поражение такого масштаба, которого никогда не наносил другим. Он вторгся в Россию весной во главе полумиллионной армии. А возвращался один, без войска. Темной декабрьской ночью его возок остановился в неосвещенном городе.
— Где мы? — спросил он.
— В Веймаре, ваше высочество!
— В Веймаре? Что делает Гёте? Передайте ему мой поклон.
Пока кучера при свете фонарей меняли лошадей, он смотрел на мертвый город, потом уселся в возок, и кучер снова защелкал кнутом над спинами лошадей.
…Да, сегодня уже нет времени для беседы, как тогда, шесть лет назад, после удивительной победы над Австрией и Пруссией. На этот раз он уже не скажет поэту, что тот «истинный Человек».
…Хорошо быть поэтом. И плохо — завоевателем.
Далеко на востоке по следам императора, проваливаясь в снегу, бредут толпы оборванных солдат. Тащатся остатки самой многочисленной из армий, когда-нибудь маршировавших по равнинам и селениям Европы! В тылах у французов раздавалась канонада. Это катилась лавина русских войск…
Император сменил возок на коляску. Во Франции зимы бесснежны. В середине декабря он въехал в ворота Парижа. И французский народ узнал ошеломляющую новость: великая армия разгромлена!
Однако император здоров, и ему требуется не менее ста двадцати тысяч солдат, чтобы заменить убитых и замерзших. Империя погрузилась в скорбь, но дала императору безусых и седых.
В октябре 1813 года в битве у Лейпцига встретились сто восемьдесят тысяч солдат Наполеона и триста тысяч русских, австрийцев и пруссаков. Трехдневная битва была проиграна французами.
И опять император бежал в Париж! Союзные войска преследовали его по пятам. В канун нового, 1813 года они перешли Рейн. Плененного императора отправили на Эльбу, потом на остров Святой Елены, что затерялся в просторах Атлантического океана.
В Европе шло брожение. Народы, помогавшие прогнать незваного гостя, ждали, что правители поумнеют и дадут им свободу. А коронованные властители, наоборот, полагали, что вместе с Наполеоном они разгромили и Францию и революцию.
Тираны устранили тирана для того, чтобы утвердить новую тиранию.
Именно для этой цели съехались на конгресс в Вену венценосные властелины Европы. Роскошные фейерверки, пышные рауты, маскарады сопровождали его. Дворянство снова чувствовало себя у власти. Недоставало только возврата к парикам и косам! Торжества стоили баснословной суммы в тридцать миллионов флоринов. Они начались в сентябре 1814 года и закончились лишь в июле 1815-го.
Тогда же великий полководец, находившийся на острове Святой Елены, уходил из жизни. Человек, изменивший революции, угасал…
И удивительное дело: в эти два года, когда закатилась слава Наполеона, небывало возросла слава Бетховена. Вена приносила к ногам съехавшихся монархов все лучшее, что только имела. Бетховен был тогда самой выдающейся знаменитостью столицы. Значит, они должны были увидеть Бетховена.
…В продолговатом Редутензале, изящно отделанном, с идущими поверху балконами, собралось множество людей. В предпоследний день ноября 1814 года именитые гости конгресса слушали новые сочинения Бетховена, в том числе симфоническую батальную пьесу «Битва Веллингтона при Виттории».
Знати представлялась возможность на этот раз не только услышать музыку, но и стать свидетелями удивительного зрелища — оказаться лицом к лицу с прославленным музыкантом, про которого говорят, будто он наполовину гений, наполовину безумец. Он слывет грубым и невоспитанным, способным не поклониться императрице, разбранить княжеских дочерей, как простых девчонок, поэтому вызывает необычайное любопытство. К тому же, говорят, он почти оглох. Но и глухой сочиняет такую музыку, что, пожалуй, и покойный Гайдн мог бы позавидовать!
Концерт должен был начаться в полдень. Задолго до начала в зале набилось более пяти тысяч человек. Ложи монархов оставались пока пустыми, хотя на сцене уже разместился оркестр, составленный из лучших музыкантов Вены.
А пока быстро заполнялись последние свободные места, рассаживалась знать Германии и Италии — князья, герцоги, курфюрсты и епископы в сопровождении своих свит. Головы зрителей непрестанно повертывались в разные стороны, чтобы разглядеть этих господ во фраках и мундирах, разукрашенных звезда́ми.
Здесь можно было видеть и представителя побежденной Франции, лукавейшего министра иностранных дел Талейрана,[24] состоявшего на службе у Наполеона, а теперь столь же ревностно служившего французскому королю Людовику XVIII — брату казненного Людовика XVI.
Но вот по залу пробежал шепот, и все головы повернулись в одну сторону. В ложу вошла тройка самых могущественных на конгрессе властителей: русский царь Александр Первый, австрийский император Франц и прусский король Фридрих Вильгельм Третий.
Но вот под сводами зала раздались приветственные овации — казалось, что рушатся стены.
На подмостках лицом к собравшимся стоял невысокий широкоплечий человек, в его пышной шевелюре уже проглядывали серебряные нити.
Вспомнила ли австрийская правительница, как нелюбезен был он два года назад в Теплице?
Бетховен поднялся на дирижерское возвышение и оглядел зал. Не только вся австрийская столица — вся Европа застыла в ожидании того, как он взмахнет своей палочкой.
В программе было три сочинения, — первое и последнее были специально сложены в честь окончания многолетней войны.
Первой прозвучала кантата в честь победы над самозванным французским императором. Когда она закончилась, тишина не была нарушена ни единым хлопком. На присутствующих как бы легла тень пережитых страданий.
Но надежда живет вечно, мир лелеет мечту о новом счастье, которое дарует воцарившийся мир. Об этом свидетельствовала Седьмая симфония, полная радости. Зал вознаграждал композитора долгими и шумными аплодисментами.
В антракте кто только не стремился к нему! Его приглашали в ложи, где сидела самая высокопоставленная публика, хвалам и рукопожатиям не было конца.
Между тем в оркестре число музыкантов возросло. Для исполнения третьей части торжественного концерта потребовался гигантский оркестр, и пришлось дополнить его музыкантами-любителями.
У дверей зала стоял со скрипкой под мышкой побледневший Олива, некогда сопровождавший Бетховена в Теплице. Рядом с ним юноша лет двадцати, худощавый, высокий, узколицый, с небольшими глазами. Оба были в черных фраках с белыми жабо. Олива беспокойно оглядывался вокруг:
— Мы одни, милый Шиндлер, следовательно, можем говорить то, что думаем. Седьмой симфонии, которую мы с вами слышали, следует отдать должное. Но вот сейчас будет исполняться «Победа Веллингтона» — навострите слух! Короли и князья будут плакать от умиления, но Бетховену тут гордиться нечем. Впрочем, эта парадная композиция не самим им задумана.
— Не хотите ли вы сказать, что он присвоил себе чей-то замысел? — возмутился юноша, готовый, как видно, сражаться с целым светом за честь композитора.
— Нет, конечно. Но идею эту ему подсунули другие, а он принял фальшивую карту за настоящую.
— Вам не нравится «Победа Веллингтона»? — спросил юноша.
— А вам?
Шиндлер пожал плечами и что-то пробормотал. Олива торжествующе рассмеялся:
— Видите! Если бы это я сочинил, то каждое утро сам себе в зеркало кланялся бы и говорил: «Ну, Франц, ты молодец!» Что же касается Бетховена, для него это слишком крикливо. Это не музыка, это шум, производимый под управлением дирижера. Так ли уж должен он был сочинять этот вздор?
— Этот вздор принес ему славы больше, чем все восемь симфоний, вместе взятых!
— А мне это кажется чем-то цирковым.
Преданный друг Бетховена, Олива решительно нападал на его последнее сочинение.
Студент Шиндлер был хорошим музыкантом, но еще недостаточно искушенным в музыке и к тому же поклонялся Бетховену безоглядно. В глубине души он не очень одобрял громовую батальную музыку, но защищал своего любимца как умел:
— Вся Вена влюблена в это сочинение. И я сегодня убедился, что публика слушала его восхищенно.
— Еще бы! — язвительно рассмеялся Олива. — Такую музыку и конь оценит. Высший свет отныне будет поклоняться Бетховену, будто марионетки, подвешенные на одной проволоке. От такого у человека и в самом деле голова закружится! Золото и слава кого только не испортят. Полюбуйтесь на министра Меттерниха![25] Смолоду мятежник и бунтарь, а теперь? Верховодит в конгрессе и подстрекает всех участников к подавлению малейших ростков свободы. Сажает в тюрьмы даже тех, кто поднимал голос против наполеоновского гнета.
— Но Бетховен республиканец. Мы в университете считаем его таковым. И очень опасаемся за него. Говорят, что полиция следит за ним.
— Ну нет, сейчас Меттерних не засадит его в тюрьму. Господам он пока нужен. Только бы они не привязали его золотой цепочкой — самой прочной из всех цепей! А обычной тюрьмой его не испугаешь!
Шиндлер задумался:
— Я слышал, что русский царь прислал ему двести дукатов в уплату за сегодняшний концерт.
— Если бы только царь! Другие тоже. Например, фельдмаршал Рудольф. Да и цесаревна тоже прислала гонца с двумястами флоринов, только бы он пришел сыграть на рояле. Может после этого наш республиканец остаться республиканцем? Деньги ему, конечно, нужны. Еще несколько месяцев назад он был совсем без гроша. Несколько дней даже не появлялся в нашем погребке «У цветущего куста». Он туда похаживает читать газеты и повидаться с друзьями. Когда он наконец появился, мы его спросили, не был ли он болен, так он ответил:
«Больны были мои башмаки, а так как они у меня единственные, то я находился под домашним арестом».
Он не умеет беречь крейцеры. Когда они заводятся, он их раздает. Деньги у него утекают между пальцев как вода.
Шиндлер горько рассмеялся:
— Ему бы следовало сделать меня своим кассиром. Бедный студент много раз подумает, прежде чем вытащить из кармана геллер!
Олива посмотрел на него серьезно:
— А знаете, Бетховену и в самом деле нужен серьезный помощник. В музыке-то он способен выиграть любое сражение, что касается всего остального, то тут он беспомощен. Всегда витает в облаках, а о делах повседневных должен заботиться кто-то другой.
Лицо Шиндлера порозовело.
— Господин Олива, — сказал он просительно, — вы друг Бетховена. Я был бы счастлив служить маэстро хоть чем-нибудь. И ничего бы за это не желал, только бы иногда послушать, не мешая ему, как он играет, или увидеть, как он сочиняет. Скажите ему об этом!
Олива невольно рассмеялся над его пылким энтузиазмом:
— Друг мой, это не так просто. Разве только если бы вы родились не на моравской земле, а где-нибудь на берегах Рейна. Он больше доверяет землякам.
— Я так был бы ему предан! — увлеченно твердил студент, будто не слышавший возражений.
— Попробую сказать ему, — размышлял вслух Олива. — Ему нужен кто-то, кто мог бы выполнять его поручения. Но я не могу сейчас ворваться в императорскую ложу и привести его к вам.
Внезапно Шиндлер умолк. Он посмотрел в сторону двери и, понизив голос, проговорил:
— Он как раз возвращается. К сожалению, он для меня сейчас также недоступен, как солнце.
Вступление Бетховена в толпу музыкантов напоминало триумф победителя. Его сопровождали самые прославленные музыканты Вены. Что ни имя, то знаменитость.
Справа шел Сальери со своей горькой усмешкой на тонких губах, слева пианист-виртуоз Гуммель, искусство которого Бетховен высоко ценил. За ними подвигался прозванный Бетховеном лордом Фальстафом толстяк Шупанциг рядом с композитором Мейербером и скрипачом Вейгелем. Каждый из них играл свою роль при исполнении гигантского сочинения. Все почтительно смолкли при их приближении и поворачивались к Бетховену с его развевающейся гривой волос и горящими глазами, одетому в элегантный черный фрак. Он узнавал знакомых и улыбался музыкантам, стоявшим здесь со своими инструментами. Неожиданно его взгляд задержался на лице Оливы. Внимательно в него вгляделся, будто вспоминая что-то. Потом покинул окружавших его друзей и быстро направился к нему:
— Мой друг, не можете ли мне помочь? Рекомендуйте мне кого-нибудь, кто мог бы завтра отнести письмо эрцгерцогу Рудольфу. Но обязательно благовоспитанного. В императорском дворце надо кланяться беспрестанно. А уж какую-нибудь бестактность я и сам сделаю.
Олива чувствовал, что Шиндлер за его спиной быстро повернулся. Он шутливо подмигнул ему и сказал:
— Маэстро, я с удовольствием сам сделал бы это для вас, но весь день должен находиться в банке. Однако, совершенно случайно, такой гонец, что называется, тут как тут. Это мой друг Шиндлер — студент университета и музыкант.
Шиндлер как раз в это время вышел вперед и поклонился до смешного низко. Сердце его билось где-то в горле.
— Я очень рад, маэстро…
Бетховен пытливо взглянул на него:
— Я вас откуда-то знаю.
Шиндлер был наверху блаженства:
— Маэстро, значит, вы не забыли меня? Я приносил вам как-то письмо от господина Шупанцига.
Бетховен явно не понял его, но кивнул.
— Так сможете ли…
— Я приду с радостью!
— Так, пожалуйста, в три часа пополудни.
— В три часа, маэстро. — И студент, раскрасневшийся от волнения, опять поклонился в высшей степени учтиво.
Но Бетховен уже не видел этого поклона. Он повернулся к музыкантам и громко приказал:
— Так идем, господа! Спокойно и по порядку. Первыми идут басы.
Толпа музыкантов с трубами, барабанами, скрипками, виолончелями и другими инструментами по порядку направилась в зал. Олива с Шиндлером со своими скрипками тоже заторопились в зал, успев на ходу обменяться несколькими фразами:
— Вам везет, Шиндлер!
— Это произошло как в сказке! — счастливо улыбаясь, сказал студент. — Я мог бы за него душу отдать!
— Я тоже, — рассмеялся Олива, — только вот это его сочинение с удовольствием порвал бы на куски и сжег. Но смотрите, как бы вместо «Победы Веллингтона» в один прекрасный день вас не разорвали. Он иногда взрывается как пушечное ядро. А может, наоборот, сердце отдать.
— Это удивительно в человеке такого ума.
Олива задумался.
— Чтобы ноты зазвучали, в начале нотной линейки должен быть ключ. Если вы хотите понять Бетховена, вы должны знать такой ключ к его жизни.
— И этот ключ…
— Глухота, глухота и глухота, мой друг. И если в самом деле он когда-нибудь обидит вас, смолчите и скройте свое огорчение. Временами он чувствует себя настолько несчастным, что бывает близок к безумию. Сейчас он еще немного слышит, но хорошо понимает, что его ожидает. В самом деле, думаю я порой, ведь если бы оглох сам ангел, и он временами приходил бы в ярость.
Он умолк, потому что музыканты вдруг пришли в движение.
Шиндлер уже в четвертый раз участвовал в исполнении грандиозной композиции. Но сегодня Олива посеял в его душе семена сомнения. Усаживаясь за свой пульт, он решил, что постарается построже ценить достоинства этого произведения Бетховена.
И вот зазвучало сочинение, приводившее в состояние экстаза всю Вену — от уличных продавщиц до императрицы, от простого драгуна до эрцгерцога.
Симфония заняла половину времени, отведенного на этот торжественный концерт, и состояла из пяти частей.
В первой изображался приход английских войск к месту сражения, во второй вступали в битву французы. Третья часть была ядром всего сочинения. У нее было короткое название — «Битва». Но она была полна диссонансов, до сей поры не виданных. Специальные приспособления воспроизводили ружейные выстрелы, а два огромных барабана — пушечные выстрелы. И так как на сей раз в исполнении сочинения участвовали сплошь знаменитости, то в барабаны били не рядовые музыканты: одна палочка находилась в нежных пальцах пианиста Гуммеля, другая в руках молодого композитора Мейербера.
Чтобы музыка была действительно маршевой, в состав оркестра были включены две сигнальные трубы, с которыми трубачи постепенно приближались из-за кулис, пока наконец весь оркестр не зазвучал во всю мощь. Вспыхнула поистине битва звуков, и хотя Бетховен умел придать ей необходимый ритм и выявить известные художественные достоинства, воздействовала главным образом своей батальной громкостью.
Адский грохот всевозможных инструментов, залпы пушек, ружейная пальба не помешали Шиндлеру понять и оценить художественный уровень произведения.
«Черт возьми, кажется мне, что Олива все-таки прав. Я оглушен, перед моими глазами невольно возникают картины боя, но есть ли это истинное искусство? И музыкант может создавать свое произведение связанным с действительностью, но, однако, он должен его очистить и вознести к чему-то высшему, не слепо копировать. Как это писал Гёте?
„Если ты нарисуешь пуделя так, что будет виден каждый завиток, ты создашь пуделя, но не произведение искусства!“».
Бац, бац! — ворвались в мысли Шиндлера удары барабанов так, что он подскочил на стуле. Но, как это ни странно, его размышлениям они не помешали. Свою скрипичную партию он играл все более равнодушно.
Однако его мысли об этой музыке еще не обрели отчетливой формы. Он несколько успокоился, когда исполнялся штурмовой марш, и почти примирился с Бетховеном при исполнении последней части, названной Победной симфонией. И все же он не переставал спрашивать себя: зачем, собственно, Бетховен написал это?
Его мысли были прерваны громкой овацией. Сидевшие в зале старались выразить свой энтузиазм, не жалея ладоней.
Раскрасневшийся композитор снова и снова в знак благодарности склонял перед слушателями свою внушительную голову.
В эту ночь Шиндлер видел множество тяжелых снов. Сначала он видел Бетховена на белом коне, похожего на Наполеона, когда тот вел сражение, то вдруг тот оказался среди королей и князей с орденами и крестами. И во время этих блестящих картин ему слышался голос Оливы: «Вот он, республиканец! Он сам себя предал!»
«Нет, нет, Бетховен не из тех, которых покупают! — спорил студент и во сне. — Я наберусь смелости и обо всем расспрошу его».
Однако, когда около трех часов дня он стучал в дверь бетховенской квартиры, от его решимости не осталось и следа. Слуга впустил его в переднюю и пошел доложить. И вот уже сам Бетховен появился в дверях, явно в хорошем настроении.
— Пойдемте в комнаты, юноша! Я только что отложил перо. Письмо готово, осталось только положить его в конверт.
Шиндлер вошел в комнату, не в состоянии произнести ни одного слова.
— Вы студент? — спросил Бетховен.
— Да, маэстро.
— Из Вены?
— Нет. Я из Нового Места на Мораве.
Композитор не понял и подал гостю бумагу с карандашом. Шиндлер уже знал, что в последнее время композитор все чаще объясняется таким образом. Он быстро написал название родного города.
— Не знаю, — пожал плечами композитор. — Это далеко от Ольмюца? (Шиндлер кивнул.) А от Троппау? (Шиндлер отрицательно помахал рукой.) Это хорошо, что вы из провинции. Венцы никуда не годятся. Столичные мещане. У меня иногда бывает чувство, что я задыхаюсь.
«Но венцы любят вас», — писал студент.
— Я знаю, — с недовольным видом кивнул головой композитор. — С тех пор, как я написал «Победу Веллингтона»!
Шиндлер продолжал: «Это грандиозное сочинение, но…»
Рука его на мгновение остановилась. Как смеет он говорить о каком-то «но» такому гению, как Бетховен, он, который в музыкальном мире ничто!
И Шиндлер быстро зачеркнул последнее слово.
— Только не бойтесь! — разразился Бетховен своим резким смехом. — Я знаю, что вы хотели написать. Что этот фарс недостоин истинного музыканта. Не так ли?
Шиндлер, неуверенно улыбаясь, переступил с ноги на ногу и, заикаясь от смущения, сказал:
— Да нет же… — Больше он не мог выговорить ни слова.
Бетховен на этот раз понял и без карандаша с бумагой.
— Почему я это написал? Ну, во-первых, потому, что мне это навязали, как лошади хомут. Тогда шла молва о вновь изобретенном играющем механизме. Это меня заинтересовало. Мне предначертали содержание и порядок развития темы сочинения. Потом убедились, что механизм не может этого осуществить, но может получиться великолепная симфония. Вся Европа, мол, ликует по случаю окончания войн, и мы, композиторы, должны внести свою лепту.
Ну, а как это странно было задумано, так странно и осуществилось. Но мне это дало порядочный заработок.
Шиндлер кивнул и хотел что-то заметить, но Бетховен не дал ему договорить:
— Я всегда исполняю вместе с «Победой Веллингтона» какую-нибудь из своих серьезных вещей — в прошлые разы Седьмую и Восьмую симфонии, вчера только Седьмую. Пусть люди учатся слушать и подлинного Бетховена! Конечно, и без того им пора бы уже знать мою музыку. Много ли мне до сорока пяти? Да и в Вене я уже двадцать два года!
Лицо Шиндлера прояснилось. Композитор нашел неплохой способ заставить слушать свою серьезную музыку.
От радости он осмелел и снова попросил карандаш.
«Я вас понимаю, маэстро, но многие мои друзья в университете опасаются, что вы изменяете республиканским убеждениям!»
Бетховен пробежал глазами написанное и сразу же ответил:
— Я не меняю свои политические убеждения, как сюртуки. Так называемое высшее общество является для меня самым никчемные из всего, что только есть на свете. Глухой Бетховен не изменился к худшему. Прочтите, что я написал эрцгерцогу Рудольфу! А он неплохой человек и хорошо ко мне относится. Но господин остается господином и порой должен повелевать. Знаете, что он хочет от меня? Чтобы я написал некую кавалерийскую кадриль. Австрийская кавалерия будто бы должна на каких-то торжествах продемонстрировать свое умение. И эту лошадиную музыку надлежит сочинить мне.
Я должен, милый юноша, должен — не как-нибудь! В этой стране приходится писать за хлеб и деньги, чтобы иметь хоть небольшую возможность для создания большой вещи. Его высочеству господину эрцгерцогу я швырнул предложение в его благородную голову. Вот прочтите это!
Он развернул лист бумаги, подал Шиндлеру. Студент всматривался в неразборчивый почерк, с трудом разбирая лишь немногие слова. Бетховен понял это по лицу юноши.
— Дайте, я сам! Я не могу заниматься чистописанием ради императорского дворца, да нет и желания. Это невозможно читать, я знаю.
Он взял письмо и громко, с явным удовольствием прочитал:
— «Мне известно, что ваше высочество имеет желание проверить действие моей музыки также и на лошадях. Ну что же, я с удовольствием на это и сам полюбуюсь, если при этом ваши всадники хлопнутся. Ей-богу, меня смех разбирает, что ваше эрцгерцогское высочество соизволило подумать обо мне в связи с такими вашими замыслами!
Требуемая вами конская музыка пригалопирует к вашему эрцгерцогскому высочеству в самом скором времени, а я до конца своих дней останусь вашим преданным слугой
Людвиг ван Бетховен».
Дочитав, он разразился долгим раскатистым смехом, как нашаливший мальчишка. Однако студент был в ужасе.
Каждый в Австрийской империи благоговел перед членами правящей фамилии. Это же письмо было неслыханно дерзким. Как мог Бетховен написать подобное брату императора?
— Не стоит рассказывать в городе о том, что вы здесь услышали, но я надеюсь, что в ваших глазах я теперь оправдался, — все еще улыбаясь, сказал композитор удивленному студенту. — А друзьям в университете скажите, что Бетховен останется Бетховеном. И ни золото, ни императорское расположение ни в чем не изменят его!
Тереза
«Скажите нам, маэстро, почему вы, собственно, не женились? В вашем сердце уже нет места для чувства, это известно. Оно целиком принадлежит музыке. Но женитесь хотя бы из благоразумия! Ведь вам же скоро пятьдесят! И что ни неделя, у вас в доме новая прислуга и вечный беспорядок!»
Добродушно улыбаясь, толстый адвокат Бах написал этот вопрос на листке бумаги и передал Бетховену. В окружении верных друзей композитор сидел во главе стола, как вождь некоего племени. Это были: несколько музыкантов, журналист, поэт, а из старых друзей Олива и Цмескаль. На другом конце стола сидел Шиндлер, не спускавший с композитора любящих глаз. Он чувствовал себя здесь таким ничтожным! Все гости Бетховена были или старше его по возрасту, или более знатного происхождения, но выше всех для него был Мастер.
На эти сборища в таверне «У цветущего куста» Шиндлер прибегал при каждой возможности, стремясь побыть вблизи своего кумира. Бетховен все чаще давал ему всевозможные поручения, и студент не находил себе места от радости, когда слышал слова благодарности или похвалу.
Вопрос доктора Баха показался ему более чем дерзким. Ну, теперь разразится буря! В самом деле, кого бы не возмутил вопрос, касающийся самых сокровенных сторон твоей жизни! Он не знал, что в этой дружной компании принято шутить друг над другом, не тая обиды. И Бетховен был среди них первым остряком. По привычке он хотел отшутиться, но потом провел ладонью по лицу, будто хотел отогнать горькие раздумья, и с трудом выговорил:
— К несчастью я не встретил такой женщины… Я знал лишь одну, которую мечтал иметь своей женой, но это несбыточно.
После этого горестного признания наступила гнетущая тишина. Только доктор Бах еще громче запыхтел своей длинной трубкой. Они ожидали услышать шутку, и вдруг открылась старая незаживающая рана. Кроме Шиндлера, все присутствовавшие знали о любви Бетховена и Терезы Брунсвик. До сих пор Тереза оставалась одинокой, а Бетховен не женился.
Тягостное молчание прервал сам композитор, смущенно запустивший пальцы в свою поседевшую шевелюру.
— К черту с женитьбой! Лучше принесите кто-нибудь газеты. Посмотрим, какие там новости из Англии. Что у нас делается, мы и без газет знаем. Гнет, нищета, бумажные деньги, падающие в цене день ото дня. А если что новое и есть, так это новые налоги.
— Зато у нас полно солдат, жандармов, и у каждой двери по шпику, — язвительно обронил поэт, худощавый и носатый, как Мефистофель.
Бетховен внимательно следил за губами говорившего и, кажется, все понял. Теперь он объяснялся исключительно с помощью карандаша и бумаги. Он всегда носил с собой толстую тетрадь и карандаш, но сам, конечно, не писал. Временами же отвечал собеседнику таким громовым голосом, что бывало слышно на улице, если он вел беседу дома, и в домах, если он говорил с кем-нибудь на улице. А иногда он говорил так тихо, что его не слышал сидящий с ним рядом. Сейчас он почти кричал, и друзья его не без опаски оглядывались на двери. Они сидели, правда, в задней комнатке, предназначенной для самых избранных гостей. Но внимательные уши могли подстерегать и под окном!
— За нами следят, как за преступниками! — бушевал Бетховен. — Меттерних запрещает не только говорить, но и думать! Говорят, он требует от императора прекратить выпуск всех газет на десять лет. Может быть, еще заведутся школы, в которых будут разучивать писать и читать. Будто уже готовится закон, который установит, как высоко смеют летать птицы и как быстро полагается бегать зайцам. — И он рассмеялся сердито и громогласно, так же, как говорил.
Доктор Бах быстро настрочил ему предостережение:
«Не говорите так громко: кто знает, какие монстры сидят поблизости! И так все в Вене удивляются, что вас до сих пор не посадили в тюрьму».
В это же время кто-то из присутствующих уже подавал ему другую записку: «Не считаете ли вы, что Наполеон лучше, чем ныне правящая свора? Он хотя бы почитал искусства. Говорят, что он смертельно болен. Не следует ли вам уже готовить реквием?»
Композитор сердито насупился. Он не мог простить Наполеону, что тот, имея возможность установить республиканский строй по всей Европе, не сделал этого.
— Я не желаю даже слышать о Франции. Одного Людовика с трона свергли, другого на трон посадили. Давайте лучше прочитаем, что говорят в английском парламенте против рабства…
«Однако мир забывает, что, кроме черных рабов, есть еще и белые, что ими полна Европа», — писал в тетрадь Бетховену его друг Цмескаль.
— Конечно! — воскликнул Бетховен. — Даже в этой комнате их полно! Что представляет собой сейчас любой из венцев, как не раба? Так давайте же мне газеты, Шиндлер! Я с удовольствием читаю каждое слово о свободе, идет ли речь о белых или черных. Вот, послушайте!
Он приготовился читать, но едва развернул газету, как кто-то приоткрыл дверь. Показалось полное лицо трактирщика в невысоком расшитом колпаке. Он кивнул Шиндлеру, сидевшему ближе всех к двери. Общество умолкло, опасливо поглядывая на дверь, закрывшуюся за студентом. Кое у кого екнуло сердце. Полиция наверняка знала, что в трактирчике «У цветущего куста» собирается компания заядлых республиканцев. Известно было и то, что первое лицо среди них Бетховен. От ареста его спасала только всемирная известность.
Шиндлер возвратился быстро, обвел взглядом весь зал, многозначительно подмигнул и вполголоса объявил:
— Маэстро необходимо идти домой. У него гость. — А композитору он написал: «Пришла ваша домоправительница. Говорит, что дома вас ожидает какая-то дама. Вот ее записка».
Он положил перед помрачневшим композитором сложенную вчетверо записку. Бетховен развернул ее с недовольным видом. Кто это явился отнимать у него время? Но едва прочитал, как глаза его засияли радостью. Несколько мгновений он смотрел на записку, а потом, взволнованный, поднялся со стула:
— Я должен идти!
И, даже не попрощавшись, а только помахав рукой, выбежал на улицу. Записку он стремительно засовывал в карман, но в спешке уронил ее. Доктор Бах, медленно наклонившись, поднял ее, и брови его от удивления поползли вверх. Он поднял вверх палец. Внимание! И прочитал вслух единственное слово из записки: «Тереза».
Наступила внезапная тишина.
Между тем Бетховен торопливо шагал по улице, с трудом переводя дыхание. Всю зиму его мучило воспаление легких. Сейчас, весной, вновь давали себя знать последствия болезни, но он не умел беречь себя. Бетховен почти бежал, и сердце его трепетало от радостного ожидания.
Тереза пришла к нему! Бессмертная возлюбленная! Лучшая и чистейшая из женщин, с которыми сталкивала его судьба.
Теперь они встречались редко, но при каждой встрече ему казалось, что для него приоткрывались райские врата. Два года назад Тереза провела в Вене несколько месяцев. Всегда готовая жертвовать собой, она приехала из Коромпы к сестре Жозефине, внезапно потерявшей мужа. Терезе пришлось позаботиться об имущественных делах сирот. Тогда им удалось побродить вдвоем вдоль крепостной стены. А когда она приезжала в Вену, они встречались уже только в чужих салонах. Она никогда не бывала у него дома. Но что же сегодня заставило ее прийти? И почему она заранее не известила его?
Догадки теснились в его голове, то радуя, то пугая. Может быть, она принесла грустные вести? Нет, нет, их было уже предостаточно!
Одиннадцать лет прошло с того обручения под липами Коромпы, и это были горькие одиннадцать лет! Прошло немало времени, пока утихла горечь обиды. Ночь сменяется днем, дождь — ясной погодой. Так и с людскими судьбами. Может быть, Тереза нашла способ, как помирить с ним свою семью…
Или она решила пойти наперекор своей семье?
Он так бежал, что встречные люди оглядывались на него с усмешкой. Видано ли, чтобы господин с проседью так мчался? Да еще неся шляпу в руке!
Он ничего не видел, не замечал и в свою квартиру влетел, как буря, радостный, с раскрасневшимся лицом и развевающимися волосами. Тереза сидела за столом, побледневшая, красивая, смущенная. Прежде чем она успела подняться, он наклонился и поцеловал ее сложенные руки.
— Как долго я не видел вас, Тереза, как невыносимо долго! Я не верю себе, что вы опять со мной, Тереза!
Она отняла у него руку и гладила его поседевшие волосы.
— Мой милый Луиджи, мой славный и несчастный Луиджи! — шептала она, склонившись к нему и позабыв, что он ничего не слышит.
Понимал ли он, что она говорит? Хотел ли знать точно? Он поднял мокрое от слез лицо и проговорил жалобно:
— Я теперь уже так плохо слышу, Тереза! Напишите мне все! — Он подал ей бумагу и карандаш. Она начала писать без промедления:
«Я люблю вас, мой дорогой, добрый Луиджи. Я полюбила вас с первого дня нашей встречи».
— Как и я, — шептал он. — Все эти годы вы были со мной, в моем сердце. Тысячи раз я чувствовал ясно, что вы рядом со мной и помогаете мне.
Она благодарно рассмеялась, и ее лицо порозовело от нежного подбородка до гладкого лба и черных как вороново крыло волос.
Она опять взялась за карандаш:
«Да, Луиджи, я постоянно слежу за тем, что вы делаете. Радуюсь вашим успехам, страдаю, когда вас постигает неудача. Ваша музыка трудна, поэтому ее не всегда понимают. Зато тот, кто поймет, находит в ней поддержку для себя. Мне кажется, что вы неустанно по-новому говорите миру:
„Боритесь за свое счастье, люди! Будьте мужественны, судьбу можно одолеть!“ А я наконец решила…»
Он не дал ей договорить. Его охватила безумная радость. Наконец она решилась! Пусть ее родные говорят что угодно! Он вскочил, протянул руки, будто желал обнять ее и, взволнованный от возродившейся надежды, прошептал прерывающимся голосом:
— Наконец! Вы будете со мной, Тереза! Как мне благодарить вас? Я ждал вас так долго! Теперь с вами я начну работать по-настоящему. То, что написано до сих пор, было только прелюдией. Тереза! Единственная!..
Он ожидал, что она встанет и устремится к нему. Но Тереза не пошевельнулась. Она сидела, кусая губы, и судорожно сжимала край стола. Он умолк. Склонившись над столом, она писала.
«Мне так жаль, что вы неправильно поняли меня, Луиджи. Я решила трудиться на благо людей так же горячо и бескорыстно, как вы. Ваш пример зовет людей. Я хочу быть похожей на вас. Но я ведь женщина. Слабая женщина. Я посвящу всю свою жизнь брошенным детям».
Он смотрел на нее пораженный. И ничего не понимал.
— А как же я? Как я?
Разговор, который наполовину велся на бумаге, продолжался мучительно долго. Охваченный страхом, он жадно читал еще недописанные слова. Какую еще боль и страдание принесут они ему? Иногда Тереза принималась что-то говорить, и он с болезненным вниманием следил за движением ее губ.
Было тяжко видеть его таким.
Наконец, измученный, он покачал головой:
— Я не понимаю!
Она снова обратилась к тетради и карандашу. Было исписано еще две страницы, пока он понял, что она надумала решительно изменить свою жизнь.
Она отрекается от любви, отказывается от личного счастья, она будет искать его в ином. Тереза торопливо говорила ему о том, как несколько лет назад с детьми своей сестры она приехала в Швейцарию. Там она встретилась с человеком, с которым они вели беседы о смысле жизни. Нужно делать добро, но делать его во имя общественных интересов, а не личных. Нужно воспитывать новое поколение.
«Это был Песталоцци,[26] — писала она. — Это небольшого роста, неприметный человек, но какая сила исходила от него! Он полон любви к детям. В тот раз, когда я слушала его, меня прямо заворожили его речи, но тогда мне и в голову не пришло, что они могут касаться и меня».
Потом она написала ему об удивительном потрясении, пережитом ею полгода спустя во Флоренции. Это было весной, в канун пасхи. Окружающая природа и людские сердца готовились цвести. Только в ее душе были холод и пустота. Потом зазвучали колокола. Улицы заливали потоки радостных людей… И в этот миг произошло чудо. В ней расцвело то, что давно ожидало своего времени, подавленное безнадежностью. Жизнь женщины с обманутыми надеждами не должна быть пустой и несчастной! Если у нее нет собственных детей, она может в любом месте найти сотни несчастных малышей, нуждающихся в защите. Это сироты, это дети из семей таких бедных, что их матери и отцы тяжко трудятся ради куска хлеба и у них не остается времени для детей.
Терезе показалось, что среди ликующих звуков колоколов с ней говорит некрасивый человек с прекрасной душой: «Ты богата, отдай все, что ты имеешь, нуждающимся детям. Ты мудра, поделись своей мудростью с другими. Ты не знаешь, что делать со своим исстрадавшимся сердцем? Отдай его малышам!»
И она решила по примеру великого швейцарца создавать на свои средства детские сады.
«Поэтому, милый Луиджи, я кончаю думать о своем будущем, — писала она. — Нам не дано соединить наши жизни. А теперь это уже и слишком поздно. Будем трудиться каждый на своем поприще. Со временем мы увидим, что нам удалось, а пока будем работать каждый по-своему».
— Это значит… — в отчаянии вымолвил Бетховен, не в силах окончить роковую фразу.
В эти минуты женщина оказалась сильнее. Может быть, потому, что уже давно все обдумала и горько оплакала.
«Мы не будем больше видеться, разве что случайно. Не будем писать. Постараемся не думать друг о друге. Зачем мучить себя надеждой, которой не суждено сбыться?»
С горечью он спрашивал ее: почему же не продолжать встречаться и не вести беседы в письмах?
Тереза отрицательно покачала своей красивой головой. Потянулась за сумочкой, лежавшей на столе, достала из нее какие-то бумаги, но, словно испугавшись, положила обратно.
«Может быть, у вас, как у мужчины, более твердое сердце. Для меня каждая мысль о вас мучительна и каждое письмо приносит такую же боль, как прикосновение к затянувшейся ране. А мне теперь понадобятся все мои силы. Думы о вас будут мешать мне идти избранным путем. Не сердитесь на меня!»
Внезапно Бетховена охватило подозрение. В памяти воскресло прошлое, Джульетта, перед ним возникла тень измены. Он бросил в лицо Терезе обвинение:
— Вы хотите выйти замуж!
Она быстро схватила бумагу и карандаш, и от волнения строчки, выходившие из-под ее руки, были неровными.
«Лгала ли я вам когда-нибудь, Луиджи?»
Нет, никогда! Даже теперь он чувствовал это.
— Простите, Тереза!
«В моей жизни уже все решено, — продолжала она писать. — Если это не может быть Бетховен, значит, не может быть никто. Но мы должны кончить эту главу нашей жизни. Слишком больно! Я возвращаю вам самое дорогое, что есть у меня». Она опять протянула руку к своей вышитой сумочке и положила на стол сложенные листки, по-видимому те, которые она не решилась достать сначала.
— Вы возвращаете мне мои письма, — едва выговорил Бетховен. — Значит, и я должен…
Она отрицательно покачала головой, показала, что она возвращает не все. «Только три письма из Теплице, — написала она быстро. — Вы так красиво называли меня в них: „Бессмертная возлюбленная“. Я плакала сотни раз над этими словами. Никогда жена, никогда супруга, — навеки любимая! О, если бы я могла навсегда остаться с вами и быть действительно бессмертной, как ваша „Аппассионата“, Луиджи!»
— Почему вы возвращаете мне письма? — жалобно спросил он.
«Чтобы вы уничтожили их! Я не могу хранить их у себя. Они терзали бы мне душу. Сожгите их, Луиджи. У меня нет сил сделать это!»
Она отложила карандаш и начала складывать исписанные листки. Должно быть, хотела этим показать, что не намерена больше писать и хочет уйти. В самом деле, все уже сказано. Она встала.
Он сделал движение, будто желая удержать ее. Она уклонилась, печальная, протянула ему руку и, глядя в лицо, сказала отчетливо:
— Прощайте, Луиджи! Прощайте, мой бессмертный возлюбленный!
Мужество покинуло ее. Закрыв лицо руками, она разрыдалась. Он положил руки на ее плечи, но она освободилась, схватила свою шляпу и сумочку и выбежала из комнаты.
В воздухе еще ощущался слабый запах тонких духов. На столе белели листки бумаги, написанные пять лет назад.
На какой-то миг силы оставили его. Потом он бросился к окну. Может быть, он еще увидит ее? Может быть, она оглянется и махнет ему рукой, улыбнется?
Напрасно! Он не увидел и края ее платья.
Конец, конец всего!
— Ах, Тереза, Тереза! — простонал он, и ему показалось, что ноги не держат его, что он падает. Потом вдруг мелькнула спасительная мысль: она исчезла, но остались следы ее любви — несколько исписанных страниц. Он подошел к столу. Где они? Не было ничего, кроме его теплицких писем. Безумным взором он обвел всю комнату. На стульях, на пианино, даже на полу лежали свертки нот. Терезиных листков не было и следа.
Она взяла их с собой? Унесла последнее свидетельство ее любви. Она боялась, что я посмею выбросить их? Или хотела оградить меня от воспоминаний, которые мучили бы меня, как ее мучили мои письма?
Его вопросы остались без ответа. Заходило солнце, и запах ее духов медленно исчезал в застоявшемся воздухе комнаты.
И все же кое-что осталось! Бетховен на ощупь протянул руку в глубь письменного стола и, открыв тайную задвижку, достал сверток в белом полотне. Он боязливо оглянулся, запер дверь на ключ и развернул сверток.
В нем был портрет — может быть, не слишком искусное изображение Терезы. Лицо, полное благородства, спокойствие в чертах, напоминавших прославленные греческие скульптуры. И внизу надпись: «Редкостному гению, великому художнику, прекрасному человеку. Т. Б.»
Он смотрел на портрет, и его губы дрожали.
— Тереза, — шептал он, — ты хочешь отдавать свою любовь несчастным! Но кто же несчастнее меня на всем свете? — И он разразился тяжелыми, мужскими рыданиями.
Пришла ночь горячечных раздумий, ночь бесконечно долгая, бессонная. Лишь перед рассветом сомкнулись его веки и измученный мозг погрузился в обманчивый, волшебный мираж.
Приход Терезы тоже был миражем.
Внезапно он пробудился от мощного чувства радости. Он вскочил и зажег свечу. Греза еще владела им. Нужно было убедиться, что все это было на самом деле…
Он бросился к письменному столу. Открыл потайной ящичек, всунул руку не глядя. Пальцы нащупали портрет, зашуршала бумага. Да, это его письма, которые она вчера вернула ему и он запер их вместе с портретом.
Так все это правда!
Глухой композитор Людвиг Бетховен остался в одиночестве, как вырванный из земли дуб.
Совершенно обессиленный, он сел на краю кровати. Потайной ящичек был открыт. Он не обращал на это внимания. Размышлял.
Тереза добровольно ушла из его дней, из его мечтаний!
Скольких же друзей он лишился за последние годы! Брат Карл, несмотря на все свои ошибки, верный, преданный и всегда готовый помочь, умер два года назад. Иоганн живет в Линце и думает только о своей торговле. Карл Лихновский, упрямый и все-таки добрый, умер. Кинский разбился, упав с лошади. Нет в живых веселого Лобковица. Разумовский исчез из венского общества, после того как его дворец вместе с богатой коллекцией картин и скульптур сгорел дотла. Шупанциг уехал в Россию, Олива собирается туда же. Рис пожинает лавры в Лондоне, Цмескаль почти не подвижен из-за ревматизма. Обиженный Брейнинг не появляется…
Кто еще покинет его, кто сделает одиночество Людвига Бетховена еще ощутимее? С горечью он сделал вывод:
«Последняя надежда — маленький Бетховен, Карл, сынишка умершего брата, но мальчику всего одиннадцать лет. Как дядя и опекун я его, конечно, выращу, но доживу ли до того времени, когда он станет зрелым человеком? А если доживу, что потом? А что теперь? В эти дни, такие тяжелые?
Глухота, старость, болезнь, одиночество!»
Уготовил ли для него ад еще худшие напасти?
Не сдамся никогда!
Разлука с Терезой надломила могучую натуру Бетховена. Он подвел итог своим утратам: им не было числа. Шаг за шагом близилась старость. Кто знает, может быть, пройдет еще немного дней и люди будут разыскивать его безымянную могилу?
Нужно позаботиться о маленьком племяннике. Мать его особа грубая и каверзная. Еще при жизни брата она отбыла в тюрьме целый месяц за свои скверные поступки. Карла может уберечь от ее дурного влияния только он — его дядя и опекун!
Но как он может это сделать? Он, глухой, смертельно больной музыкант! Так размышлял он во время своих послеобеденных прогулок у крепостного вала.
Со всех сторон его обступал мрак. И вот в его растревоженную душу закралась мысль, которая никогда прежде не могла возникнуть.
Что, если на какое-то время стать на тот же путь, что и Гёте? Льстить знати и этой ценой извлекать у нее эти проклятые деньги!
Он подумал: эрцгерцог скоро будет ольмюцким архиепископом. Значит, он станет владельцем огромных земель, неоглядных лесов, сел и самого города. Разве не мог бы он, Бетховен, иметь в его владениях маленький домик, где-нибудь у леса… И жить там, воспитывая маленького Карла, не заботясь о куске хлеба до конца дней!
Архиепископу таких домиков положено немало… Что бы стоило ему подарить музыканту один из них или, по крайней мере, предоставить в его распоряжение на несколько лет, пока он не закончит свой жизненный путь.
Измученный заботами о будущем мальчика, в смятении от того, что его спасение находится в руках архиепископа, Бетховен попытался играть роль услужливого верноподданного. Но вот беда! Старый бунтарь не умел быть льстецом. Когда эрцгерцог сочинил сорок нелепых вариаций, маэстро оценил их таким образом, что похвала звучала как насмешка. Его письмо эрцгерцогу сильно напоминало некогда посланное им по поводу «лошадиной музыки».
После недолгих дней слабости он выпрямляется и отказывается лить елей по адресу архиепископа. Правда, по случаю вступления на ольмюцкий престол он написал «Торжественную мессу» — сочинение значительное, серьезное, прекрасное.
Проходит год, другой, и жизнь Бетховена постепенно становится прежней, напоминая волны моря с их вечным приливом и отливом. Однако морским волнам не дано подниматься и опускаться по собственной воле — ими движет ветер. Бетховен же, падая, сам поднимается на ноги и способен устоять, надеясь только на свои силы. Музыка — вот спасательный пояс, не дающий ему утонуть в жизненной пучине.
Он опять твердо стоит на ногах, пока судьба не решает отнять у него последнюю из радостей — дирижерскую палочку!
Хотя Вена увлечена Россини, итальянским композитором, недавно вошедшим в моду, венский театр наконец вспомнил о «Фиделио». Композитор опять переработал ее и написал новую, уже третью, увертюру «Леонора».
С надеждой ожидал Бетховен того дня, когда его опера после трехлетнего перерыва снова зазвучит со сцены. Он добросовестно посещал репетиции, советовал, помогал, не сознавая, что из-за глухоты только мешает.
Маэстро пожелал сам дирижировать на генеральной репетиции. Директор театра ежился в предчувствии печальных последствий, а дирижер Умлауф безнадежно пожимал плечами. Но можно ли отказать стареющему композитору в последней радости!
Он пришел в сопровождении Шиндлера, ставшего с годами его доверенным лицом, секретарем, другом.
Молодой человек, хотя и не был знатоком музыки, обладал преданным сердцем и редкостной терпеливостью. Не жалел он и своего времени. Когда Бетховен уселся за дирижерским пультом, тот устроился за его спиной, в первом ряду зрительного зала, чтобы быть поблизости.
С самого начала стало ясно, что композитор плохо слышит оркестр и совсем не слышит певцов. Возникло непонимание. Бетховен замедлял темп, и оркестр послушно следовал его руке, певцы же придерживались прежнего темпа и опережали оркестр. Композитор ничего не замечал, но рядом с ним находился капельмейстер Умлауф. Когда расхождение между хором и оркестром стало чрезмерным, он поднялся и крикнул оркестру:
— Довольно!
Оркестр сразу же умолк. Бетховен смотрел непонимающе.
Умлауф ласково улыбнулся ему:
— Ничего, ничего! Маленькая ошибка. Начнем снова.
Новое затруднение не заставило себя долго ждать. Опять певцы оказались на несколько тактов впереди оркестра. Умлауф снова прервал репетицию.
Всем было ясно, что продолжать под руководством композитора репетицию невозможно. Но у кого хватит мужества сказать: «Уйди, несчастный глухой музыкант. Дирижировать ты уже не можешь!»
Бетховен почувствовал недоброе. Резко обернулся:
— Шиндлер!
В его зове было отчаяние и призыв о помощи. Молодой человек подбежал к нему. Композитор протянул «разговорную» тетрадь и движением руки приказал писать. Шиндлер начертал отчаянную мольбу:
— Очень вас прошу, не продолжайте. Я все объясню дома!
Композитор понял. Отбросив палочку, он мгновенно перескочил через барьер, отделяющий оркестр от кресел.
— Скорее прочь отсюда! — крикнул он.
Они добежали домой в тяжком молчании, и Бетховен бросился на диван, закрыв лицо руками, не спрашивая ни о чем.
В таком состоянии он пробыл до обеда. Наконец Шиндлеру удалось уговорить его немного поесть. Он сидел за столом, и его руки двигались автоматически. На лице его было написано глубочайшее страдание, а уста не произнесли ни одного слова.
Только после обеда, когда Шиндлер собрался уходить, Бетховен прохрипел:
— Останьтесь, прошу вас!
И снова погрузился в свое мертвое одиночество.
Шиндлер пережил с Мастером уже немало бед, однако не помнил времени столь тяжкого, как этот хмурый ноябрьский день.
Бетховен пережил ночь, каких не бывало с той, памятной, после разлуки с Терезой. Судьба нанесла ему новый удар куда сильнее, чем все предыдущие. Он лишился возможности дирижировать, у него отнято самое действенное лекарство против отчаяния!
Временами он впадал в мрачное тягостное забытье и, пробуждаясь, резко вздрагивал. Будущее лежало перед ним мертвой пустыней.
Но едва рассвело, несокрушимый Бетховен снова обрел мужество. При первых лучах тусклого солнца он вновь почувствовал в себе силы.
«Настоящий человек выстоит и в самых неблагоприятных тяжелых обстоятельствах, думал он. Ведь я умел это всегда! Сто раз сбитый с ног, я поднимался снова. Зачем же мне сдаваться сейчас?
Ну, моя судьба, покажи на что еще ты способна! Ты отняла у меня Терезу и день за днем отнимала мой слух. Ну ладно! Я уже не могу больше дирижировать. Но каждый тон звучит во мне по-прежнему ясно. Я еще могу писать! Я могу утешать своей музыкой несчастных и придавать мужество малодушным.
Я не сдамся без борьбы. Я поклялся, что возьму тебя за глотку, проклятая судьба! И я сделаю это!..
Я одинок и глухотой отторгнут от мира. Но все же я способен сделать больше, чем иные, кого не постигли горести и недуги. Одинокий, я буду героем до конца. Но я больше чем герой — я Человек. Может быть, я погибну, но не сдамся!»
Он вскочил с постели.
— На свете есть много дел, делай их! — сказал он себе громко.
Он разделся до пояса, до краев налил умывальник холодной водой и начал плескать ее себе в лицо, на грудь, на голову, издавая торжествующие клики.
Он всегда чувствовал себя счастливым под этим маленьким водопадом, который весело расплескивался по комнате, образуя лужицы на полу, подчас проникавшие через пол в квартиру соседей. Может быть, потому так любил он воду, что в детстве привык смотреть из окна, как Рейн катит свои волны, такой изменчивый и такой вечный.
Наверное, будь он мусульманином и то не предавался бы совершению мусульманских обрядов так ревностно, как своим ежедневным водяным обрядам.
Сев потом за письменный стол, он погрузился в работу, будившую в его душе чувство радости. После двух часов напряженного труда вновь «водные процедуры», а затем пение гамм так громко, сколько хватало голоса. И вновь он обрел радостное сознание своей силы.
В таком состоянии его застал Шиндлер, прибежавший около десяти часов утра, полный беспокойства после вчерашнего взрыва отчаяния. Пораженный, он увидел, как маэстро, склонясь над умывальником, распевает громовым голосом.
— Как видно, вам стало уже лучше, маэстро? Так и должно быть! — с облегчением заметил он.
Бетховен обратил к нему свое мокрое лицо:
— Вчера думал, что жизнь кончена и лучше умереть. Но Аполлон и музы еще не выдали меня костлявой. Сегодня отправимся с вами слушать «Фиделио», а если все пройдет хорошо, поедем за город. По календарю вроде и не полагается, сегодня ведь у нас уже второе ноября, но солнышко такую прогулку рекомендует!
Солнце в самом деле уже несколько дней сияло так, будто принимало ноябрь за летний месяц.
Представление оперы прошло с успехом, и композитор вместе со своим спутником отправился за город. Вдвоем они выглядели довольно забавно: Бетховен, у которого все было массивным — лицо, грудная клетка, спина, и Шиндлер, вытянутый как свечка, тощий и прилизанный от кончиков волос до начищенных ботинок. Но это несходство внешности еще не свидетельствовало о невозможности дружбы.
Шиндлер обладал приятным свойством — молчать тогда, когда Бетховену это было необходимо. А тот, сидя в коляске, напевал какие-то загадочные мелодии без слов, покачивая в такт своей обнаженной головой.
Лошади бежали не спеша, кучер, прикрыв глаза, дремал, изредка по привычке понукал лошадей, прищелкивая языком. Вокруг царили спокойствие и осенний свет. Хотя Шиндлер уже давно привык к быстрым сменам настроения у Бетховена, даже он был поражен счастливым выражением его лица.
Значит, опасения были напрасны. Мастер усердно напевал. Он явно искал какую-то ликующую мелодию.
Неторопливая езда привела их в Мёдлинг, маленький городок в двух часах езды от Вены. Это место композитор давно любил и не раз приезжал сюда летом.
Было уже далеко за полдень, приближался час возвращения, но Бетховен никогда не торопился уезжать из этих приветливых мест.
— Как насчет чашки кофе и музыки, Шиндлер? — спросил он, кивнув в сторону садика возле корчмы, носившей название «У трех воронов». Из ее окон доносилась музыка — скрипучая и прерывистая.
Композитор, конечно, не слышал ни единого звука, не слышал даже пискливого кларнета. Однако он знал, что каждый день после обеда и вечером в корчме играет оркестр.
— Что ж, кофе — это неплохо, — согласился Шиндлер, а про себя подумал: «И зачем нам нужна эта визгливая банда! Мастер все равно не услышит ни одной ноты, а мои уши такую музыку не приемлют».
Они уселись за круглый стол, усыпанный опавшими кленовыми листьями. Композитор пристально смотрел на музыкантов, с удовольствием наблюдая, как ловкие пальцы перебирают струны или пробегают по кнопкам трубы, как поднимается и опускается смычок, как раздувают щеки музыканты, играющие на духовых. Он старался понять, что играют: вальс, медленный лендлер или какой-нибудь вихревой танец.
Послушав немного, Бетховен извлек из кармана флорин.
— Дайте им и позовите ко мне их капельмейстера, — обратился он к Шиндлеру.
— С вами хотел бы поговорить маэстро Бетховен, — не без смущения сказал Шиндлер старшему из музыкантов, передавая ему монету.
— Дева Мария! — пролепетал скрипач. — Он здесь? А я и не вижу. Только ради всего святого, пусть уж нас не ругает! Мы играем как умеем. Должен же человек чем-то заработать кусок хлеба!
— Не пугайтесь. Он не услышит ни единой фальшивой ноты. Он совсем глух!
Музыкант поправил свою фуражку и неуверенно направился к композитору. Бетховен сердечно пожал ему руку.
— Так что у вас есть в репертуаре?
Капельмейстер бросил испуганный взгляд на Шиндлера: как же разговаривать, если маэстро совершенно глух? Но у того уже был наготове блокнот и карандаш.
— Говорите, а я буду ему писать.
Тощий музыкант диктовал. Кто сочинил музыку, он не представлял, однако каждое произведение имело цветистое название: «Пробуждение весны», «Последние розы», «Вздох покинутой» и другие, еще более чувствительные. Губы Бетховена от времени до времени расплывались в улыбке.
— А откуда вы, товарищ?
Музыкант пробасил недовольно:
— Как это откуда? Мы из Мёдлинга, откуда же еще!
Композитор заметил его недоумение:
— И родом отсюда?
Музыкант помрачнел и выразительным взглядом призвал на помощь Шиндлера.
«Родом-то я не из этих мест, да не люблю говорить про это. Они, венцы, больше всего своих любят, а я в этих местах не с рождения. Папаша сюда прибыл как бродячий музыкант. А родился я поблизости от Кобленца».
Как только Бетховен увидел, что из-под руки Шиндлера появилось знакомое с детства название, он прямо завопил:
— Из Кобленца! Значит, с берегов Рейна! А я — из Бонна! Земляка встретил! Я должен сочинить что-нибудь для вашего оркестра.
На лице музыканта вместо радости отразился испуг.
— Но, господин, это нам не подойдет, — бормотал он испуганно. — Мы же бедняки, где мы возьмем столько денег? Господин очень знаменитый, это нам известно!
— Для вас это ничего не будет стоить! Неужели я с земляков возьму деньги? Сыграйте же мне что-нибудь, что вам самим по душе!
Когда компания музыкантов, поглядывая на своего прославленного коллегу, начала играть что-то невероятно грустное, Бетховен спросил своего помрачневшего спутника:
— Что это вы, Шиндлер, как перед грозой? Вам что-нибудь не нравится?
Шиндлер согласно кивнул головой и написал в блокноте:
«Да, мне не нравится, что вы намерены тратить время на всякий вздор, на сочинение какой-то безделицы. Вы, кажется, уже начали несколько серьезных вещей. Жаль терять хотя бы минуту».
Композитор ответил весело:
— В самом деле, я еще не кончил «Торжественную мессу» для архиепископа. Тружусь над ней уже пятый год. Но сегодня ведь не воскресенье, чтобы играть торжественное богослужение. Ведь есть же обычные дни и музыка обычная. Почему бы бродячим музыкантам не подарить немного хорошей музыки! Я вам вот что скажу. — С хитроватой усмешкой он наклонился к своему молодому другу: — Вы когда-нибудь были на деревенском балу? Скажем, уже к концу, когда музыканты играют вторую, а то и третью ночь? Видели когда-нибудь, как кто-нибудь из музыкантов вдруг уснет посреди вальса? Потом очнется, дунет в свою трубку разок-другой и задремлет дальше. Смешное зрелище, когда какой-нибудь инструмент пискнет и умолкнет. Я немножко изобразил таких деревенских музыкантов в Шестой симфонии. И знаете что? — Его глаза сверкнули. — Я им сейчас напишу такой танец, в котором и вправду они смогут дремать по очереди. Один из инструментов от времени до времени будет отдыхать! — Он весь засветился, хотя дальше речь шла о вещах менее веселых. — А почему бы мне не писать теперь для этой деревенщины, если в Вене уже мои сочинения не желают знать? Вам, конечно, известно, что говорят в столице: «Моцарт и Бетховен — старые педанты. Их музыку превозносят люди несведущие. Только Россини показал нам, что такое настоящая мелодия, настоящая музыка!» Как видите, они отворачиваются от меня, как когда-то отвернулись от Моцарта. Вот я и должен теперь заботиться, чтобы Бетховена играли хотя бы бродячие музыканты!
Шиндлер неохотно признал, что такие оскорбительные речи ему доводилось слышать, только все это пустая болтовня.
— Нет, мой друг, не скажите! Хотя мой «Фиделио» все же появился на сцене опять, но симфонии уже никто не желает слушать. Вот если бы я им опять новую «Веллингтонову победу» сочинил, тогда бы они были довольны. А теперь? Вы, как видно, не читаете газет?
— А зачем мне их читать, если цензура вычеркивает все самое важное!
— А я нет-нет да и нахожу в них кое-что интересное. Вот недавно прочитал буквально следующее: «С того времени, как имена Моцарта и Бетховена исчезли с афиш, одна только девятилетняя Леопольда Блахеткова отважилась включить в программу своего концерта фортепьянный концерт Бетховена!»
Вот так-то! Бетховена играют только девятилетние дети. Ну, а теперь начнут играть еще и бродячие музыканты.
Шиндлер продолжал возражать композитору, но тот только посмеивался:
— Из Вены по всему свету распространяются слухи, будто Бетховен уже никуда не годен, что у него уже трясется голова и руки дрожат от старости.
Шиндлера удивило, с какой легкостью говорит сейчас Бетховен о всякой лжи, распространяемой о нем, хотя совсем недавно был так болезненно чувствителен к подобным вещам. Он взялся за карандаш:
«Но вы кое-что им показали за последнее время! В прошлом году — прекрасную фортепьянную сонату, уже тридцатую. А в этом году еще две. И при этом одна другой прекраснее!»
Бетховен многозначительно поднял палец:
— Будут и посильнее, милый Шиндлер! Теперь я должен доказать миру, что в любом человеке есть искра; все зависит от человека, возгорится она или нет. — Он мог бы еще сказать кое-что на эту тему, но вовремя остановился и внезапно оборвал: — Вы допили свой кофе?
Он поднялся со стула, уплатил и, помахав рукой музыкантам, вышел из сада.
В коляске за два часа пути Бетховен не проронил ни одного слова, порой напевая какие-то мелодии. Иные обрывались сразу же, а другие он повторял многократно. Шиндлеру показалось, что у них есть что-то общее, нечто загадочно-ликующее.
«Что это происходит с Мастером? — раздумывал Шиндлер. — Что-то в нем бродит, зреет, растет — что-то необычайное. Возможно, возникнет новое творение, еще более крупное, чем „Торжественная месса“?
Да, конечно, что-то должно всегда гореть в человеке! Но боже милостивый, какое сияющее солнце может иметь в своем сердце он, Бетховен?
На венских афишах его имя уже не появляется. Все увлечены легкой итальянской музыкой. Правда, сейчас Бетховен переносит это легче, чем прежде, четыре года назад, когда слава, высоко вознесшая его после Венского конгресса, вдруг сразу угасла. Тогда казалось, что он полностью утратил веру в себя. А разрыв с Терезой Брунсвик едва не убил его. Он писал мало. Казалось тогда, что он полностью исчерпал свои возможности. Потом он постепенно стал приходить в себя.
Но в нем прорезывался совсем иной Бетховен. Кое-кто из друзей уже заметил это. Сотни раз толковали об этом в кофейне „У цветущего куста“. Он стал еще более замкнут, но внутри какой-то просветленный душой, словно в нем зажегся ровный загадочный свет. Не связано ли все это с новым замыслом? Может, он сочиняет Девятую симфонию, о которой не раз упоминал?
Но откуда в ней взяться радости? Под его крышей радость не обретается. Он одинок и заброшен, дом его запущен. Без конца меняется прислуга. Они ругают его, смеются над ним за его спиной, считая помешанным. И хотя он не слышит насмешек, но чувствует их.
Племянник Карл совершенно отравляет его существование. Композитор поместил его в лучший венский пансион, но парень не желает учиться, не слушает его советов. А ему всего лишь шестнадцать лет. Чего же ожидать дальше!
Здоровьем бедный маэстро тоже не может похвалиться. Одна болезнь сменяется другой. Его часто мучают легкие, больна печень и бог знает что еще! Немало есть и других причин, чтобы быть мрачным. Откуда же, из каких источников черпает он свою бодрость?
Некоторые говорят, что он год от году молодеет. Будто лет ему не прибавляется».
Раньше, чем Шиндлер успел произнести слова сомнений, дрожки остановились у дома, где жил Бетховен.
Не успели колеса остановиться, композитор, вскочив с места, вложил своему спутнику в руки кошелек и крикнул:
— Заплатите, мне некогда!
Он вбежал в дом и взлетел по лестнице, будто его пятидесяти двух лет как не бывало.
Когда через несколько минут Шиндлер вошел в комнату, Бетховен замахал навстречу ему нотной тетрадью:
— Есть! Уже есть!
— Что?
— Мелодия, которую я искал весь день!
Он бросился к роялю, расстроенному, с оборванными струнами, полопавшимися под ударами его пальцев, и проиграл что-то, в чем Шиндлер не усмотрел ни единого красивого такта. От прежней блистательной игры не осталось и следа. Виртуоз ударял по клавишам с невероятной силой, будто надеясь услышать хотя бы отдаленный намек на звук. А когда он хотел извлечь из клавиш пианиссимо, его туше было таким слабым, что мелодия не слышалась совсем. Жалкое нагромождение разорванных, как бы торчащих, как оборванные струны, отдельных нот — вот что было результатом его усилий.
Но лицо пианиста светилось таким же восторгом и священным огнем, как в те времена, когда он своей игрой покорял мир. Не могло быть сомнения: ему слышалась не жалкая трескотня, а мелодия, полная красоты и гармонии.
— Вы слышите? Слышите? Это песнь о радости! — победно закричал он и торжественно поднял вверх палец, желая подчеркнуть важность своих слов.
Шиндлер словно онемел. Он стиснул зубы, ничего не понимая и готовый скорее плакать, а не радоваться.
Но Бетховен уже не спрашивал ни о чем. Он как бы опустил занавес между собой и миром, умолк и ничего не видел вокруг. Он снова замкнулся в одиночестве, погруженный в свой таинственный мир, полный света.
Песня радости
Несколько недель спустя Шиндлеру уже многое было ясно, но потому-то он и тревожился. Он очень любил Бетховена и боялся за его будущее, беспокоился о его завтрашнем дне, о днях наступающей старости. Вот он идет к композитору в таком волнении, что размахивает руками и чуть ли не разговаривает сам с собой вслух. Он, Шиндлер, скажет ему все! Как это можно так вот опрокинуть все, что создавалось веками?
Девятая симфония! Она могла бы превзойти все предшествующие, если бы, конечно, маэстро послушался его совета. Разве есть что-нибудь подобное у Моцарта, Гайдна, Генделя или Баха!
Шиндлер уже говорил ему:
— Мастер, выбросьте из головы эту идею! Старые правила не позволяют ничего подобного.
А он рассмеялся и сказал:
— Не позволяют? Ну, вот я и позволю!
Как будто он папа римский! Теперь его критики во всеуслышание заявят о том, о чем до сих пор говорили лишь между собой шепотом:
«Бетховен сошел с ума».
Сколько раз уже ему самому казалось, что так, пожалуй, оно и есть. Достаточно вспомнить историю в Мёдлинге, с этими бродячими музыкантами. В самом разгаре работа над «Торжественной мессой» — сочинением грандиозным. И что же? Он прервал ее, чтобы сочинить танцы для этих семи бедняг из трактирчика «У трех воронов». А потом еще тряслись в коляске до Мёдлинга, чтобы вручить этот дар, которого эти бродячие музыканты никогда не оценят! Безумие! Чистое безумие!
Однако это такая малость в сравнении с тем, что он задумал теперь! Вставить хор и вокальные партии в ткань симфонии! Все равно что на черные брюки нашить красную заплату. Слыханное ли дело! Симфонии исполняет оркестр. Это не опера и не оратория!
Пока Шиндлер — преданная душа — переживает все эти страхи, уверенный, что его учитель лишился здравого рассудка, тот напевает, ударяет по клавишам, что-то мурлычет себе под нос и пишет.
Шиндлер вошел без стука. Мастер все равно бы не услышал. Как только они поздоровались, сразу начались пререкания, и на этот раз карандаш ученика вел себя очень наступательно:
«Я говорил о вашей симфонии с многими известными музыкантами. Они все удивляются, почему вы, вопреки здравому смыслу, хотите пение включить в симфонию?»
— Положим, этого не я хочу. Этого требует идея симфонии.
«Ваши предыдущие восемь обошлись без человеческих голосов. В самой музыке люди ощущали героизм „Героической“, спокойствие Второй, очарование сельской жизни в „Пасторальной“ или радость танца в Восьмой симфонии».
— Но на этот раз я должен найти еще более убедительные средства. Я хочу сказать людям, что все мы родились для страданий и радости, но самые великие из нас те, кто умеет и в страданиях черпать радость.
«Но все это вы должны выразить только с помощью музыкальных инструментов!»
— А разве человеческий голос — это не лучший инструмент? Я включаю в симфонию оду Шиллера, потому что мне самому свою идею не выразить с такой ясностью. Почему же поэт не может соединиться с музыкантом?
«Может, но в опере или в песне!»
— Я и вставлю песню в ткань симфонии.
«Но никто из композиторов этого не делал!»
— Так сделаю это я!
«Вы всех насмешите!»
— Будущие поколения меня поймут. И моя музыка поможет людям одолеть несчастья, выпадающие на их долю. Для меня всегда было величайшим счастьем помогать людям страдающим.
Конечно, мне в моем одиночестве часто казалось, что судьба не уделила мне ни малейшей крупицы счастья. И много раз я сам говорил себе: ты не имеешь права жить для себя! Только для других! Для тебя уже счастье невозможно, ищи его в себе самом, в своем искусстве!
Нет такой пропасти, из которой не вела бы наверх хотя бы маленькая тропинка. Моя тропинка — это музыка. Для других это может быть наука или какая-нибудь иная деятельность, полезная для человечества. Так любой может найти радость для себя.
«Я понимаю главную мысль вашего сочинения, но…»
— Нет, не понимаете! Иначе как вы можете оспаривать мое намерение включить оду Шиллера в симфонию! Человека приводит в волнение уже первая ее фраза, этот страстный призыв!
Композитор так увлекся, что подбежал к столу и начал рыться в бесчисленных бумагах, разыскивая потрепанную книжку. Перелистывая ее, он продолжал защищать свой замысел.
— Вы только послушайте, как Шиллер призывает радость:
- Обнимитесь, миллионы!
- В поцелуе слейся свет![27]
Это именно то, что хочу сказать я. Все люди будут братьями! Язык, вероисповедание, цвет кожи — все эти старые, глупые предрассудки, опутывающие веками, все они должны исчезнуть.
«Может быть. Когда-то! Как вы сделаете всех братьями сейчас, если мир разделен на королевства, княжества, империи? А у нас самих-то! Меттерних не дает никому свободно вздохнуть. Где уж тут толковать о равенстве для всего человечества!»
Бетховен задумался:
— В самом деле, Шиллер словно забыл, что без свободы невозможно никакое счастье. Странно! Но все иные источники счастья он упоминает — сплочение человечества, мир, дружба, семейная любовь. Послушайте хотя бы это:
- Кто верховной взыскан силой,
- Предстоит, как другу друг,
- Кто женой обласкан милой,
- Влейся весело в наш круг.
- Кто своей, в земных просторах,
- Душу на́звал хоть одну!
- Кто не мог, — с тоской во взорах
- Пусть отыдет в тишину!
Ну, я-то такой своей души не обрел, — с горькой усмешкой перескочил Бетховен от шиллеровских стихов к собственным делам.
«И я тоже, маэстро», — грустно отозвался преданный Щиндлер.
— Правда, — успокоительно промолвил Бетховен, — он здесь говорит о своей душе! Я знаю такую, но…
Он не договорил и уставился в пространство. Прошло время, прежде чем он очнулся.
— К сожалению, мы с вами, Шиндлер, сейчас не понимаем друг друга. Вы хотите, чтобы я сочинял симфонии по вашему рецепту…
«Но…»
— Знаю. Я делаю нечто такое, чего до сего времени не делал никто. Но если бы не искали новых путей, мир оставался бы ничтожным. Главное в жизни две вещи: свобода и прогресс. Ну, однако, уже достаточно. Не мешайте мне, да и вам нужно работать.
Он резко повернулся к роялю, а Шиндлер, сделав недовольную гримасу, уселся у круглого стола, где он обычно занимался.
Прошло еще немало времени, прежде чем было завершено это необыкновенное сочинение.
Никто еще не слышал его, знали только, что оно уже лежит в столе композитора, но шло уже много толков. Кое-кто решил, что новое сочинение Бетховена если не полная бессмыслица, то во всяком случае дерзость неслыханная.
Включить в симфонию человеческую речь? Это невиданно! Но любопытство возрастало. Преданные друзья настойчиво спрашивали: «Когда будут исполнять вашу новую симфонию? Скоро ли мы ее услышим? Почему откладываете исполнение?»
Шиндлер постепенно примирился со странной симфонией и только передавал Бетховену один и тот же вопрос:
— Когда же Бетховен продирижирует своей симфонией?
Но композитор вновь и вновь говорил о своих сомнениях:
— Кто теперь придет на мой концерт? Разве только друзья, которые займут от силы два ряда. А мне придется расплачиваться за пустующий зал и за свой позор?
Наконец колебания Бетховена вывели Шиндлера из равновесия.
«О вашей симфонии в Вене идет столько разговоров, что они вполне заменят афиши. Ни одно кресло не останется пустым. И если не все придут из любви к вашей музыке, то многие явятся хотя бы из любопытства».
— И чтобы освистать меня, — без злобы и с каким-то удивительным спокойствием сказал Бетховен. — Но найдутся ли музыканты, которые захотели бы исполнить симфонию, уже прослывшую чудовищной? И где я возьму солистов для вокальных партий? Да сейчас и поют-то все на итальянский манер!
«Все будет, — заявил Шиндлер. — Будет любой оркестр и любой театр. Все это я беру на себя. Все выхлопочу я».
Пожав плечами, Бетховен продолжал сомневаться.
— Зачем торопиться? А вдруг Девятая провалится!
Он тяжело пережил неуспех «Героической», едва оправился от провала своей единственной оперы. Последнее детище своего творческого гения он не хотел подвергать подобному риску.
По существу, эта удивительная симфония вызревала в его душе на протяжении всей жизни. Каждый год его жизни как бы давал новый росток будущего творения.
Ода «К радости» Шиллера захватила его еще в Бонне, когда он был двадцатилетним юношей. Но он чувствовал тогда, что еще не созрел для ее понимания.
С каждым сочинением он как бы поднимался в своем понимании все выше, и вот настал миг, когда он почувствовал, что приблизился к вершине. И тогда его совесть сказала ему:
«Пришел час! Собери все свои силы и ударь молотом по наковальне! Покажи, что ты можешь совершить!»
Он отдал этому сочинению все, на что был способен. И все же по временам в нем поднимается голос сомнения: какого понимания ты можешь ожидать, если даже лучшие из музыкантов наперед предают анафеме твое сочинение?
Но и друзья его нажимали все сильнее. Пришел Цмескаль и убеждал его:
— Скоро весна. Кто пойдет тогда в театр, если можно поехать на лоно природы! А вы только топчетесь на месте и ничего не предпринимаете.
Да, он не предпринимал. Разве только начал выходить на весенние прогулки с карманами, набитыми нотными и «разговорными» тетрадями. Блуждая за крепостной стеной, он снова и снова задавал себе вопрос: следует ли ему решиться?
Однажды, возвращаясь с прогулки, он встретился на улице с двумя молодыми певицами императорской оперы. Обе красавицы уже издалека лукаво ему улыбались и явно искали с ним встречи. Ускользнуть не было никакой возможности.
— Небеса благоволят нам, — звенел нежный голос. — А мы только что решили отправиться к вам домой. Мы готовим вам ловушку!
Неуверенно улыбаясь, Бетховен кивал головой, не догадываясь, зачем он понадобился им. Предложил дамам свою тетрадь для разговоров.
Они писали мелким женским почерком, сопровождая это милым щебетаньем: «Дорогой маэстро, говорят, что скоро вы проведете академию и исполните свое последнее сочинение. Мы рассчитываем, что будем иметь честь участвовать в этом событии».
Музыкант нахмурился и проворчал своим резким голосом:
— Какая академия? Я ничего не знаю.
Красавицы притворно огорчились:
«Наверное, у вас уже есть на примете кто-нибудь лучше нас?»
— Нет, нет, но я не готовлю никакой академии, я ничего не знаю об этом! — твердил он, однако уже более любезно.
Они ушли, много раз повторив просьбы не забыть о них.
Расплата обрушилась на голову Шиндлера.
— Кто это распространяет слухи о моем концерте? Это вы, конечно! Никакого концерта не будет. Я не нужен Вене, а Вена не нужна мне!
Между тем в Берлине охотно выхватили бы у императорской столицы лакомый кусок — премьеру новой симфонии, может быть последней симфонии Великого Мастера. О нездоровье Бетховена ходило много толков.
Когда сведения о готовности берлинцев осуществить премьеру Девятой дошли до Вены, весь город всполошился. Композитора посетили два разодетых господина и принесли ему письмо — великолепное послание, подписанное тридцатью известными художниками, критиками, знатоками и ценителями музыки. Они просили, почти умоляли о быстрейшем исполнении таинственной симфонии. Шиндлер ковал железо, пока горячо:
«Теперь уж никаких отговорок, маэстро! Симфония должна быть исполнена, и как можно скорее!»
— А если Девятая провалится? — Бетховен продолжал не доверять Вене. — В ней вся моя жизнь. Я не хочу стоять у рампы, как у позорного столба.
Однако он чувствовал, что не может больше скрывать симфонию в своем столе. Итак, жребий брошен.
Начались репетиции, друзья помогали арендовать зал, найти музыкантов, певцов. И наконец на углах улиц появились афиши, гласившие, что седьмого мая 1824 года в семь часов вечера Людвиг ван Бетховен в дворцовом театре представит публике свое последнее произведение — большую симфонию с хором на слова оды «К радости» Шиллера.
Под вечер прибежал Шиндлер в черном фраке, с белым фуляром на шее, чтобы помочь маэстро облачиться в соответственное торжественному событию парадное платье и заодно приободрить его.
С широкого лица Бетховена не сходили морщины озабоченности. Говорят, билеты проданы все. Значит, Вена явится. Но почему она явится? Чтобы с громом предать поношению творение глухого музыканта, нарушившего веками освященные правила?
Шиндлер говорил без умолку, сильно жестикулируя:
— Все получается отлично, великолепно, замечательно!
В глубине души он, однако, не был так уж уверен в успехе. Вот если бы можно было обойтись без этого злополучного хора! Что, если в зале окажутся в большинстве приверженцы итальянцев и старых правил?!
Еще больше забот доставляет ему туалет маэстро. Напрасно он перебирает его костюмы один за другим.
— Никогда у вас нет порядочного черного фрака, маэстро! — восклицал он огорченно и набросал на бумаге фразу: «Наденьте этот зеленый! При вечернем свете будет незаметно. Но как это можно так — вам не иметь черного фрака?»
Бетховен посмеивался:
— Музыканту, которого нигде не играют, парадный костюм не нужен.
Итак, он поехал в концерт в зеленом фраке.
Площадь перед театром кишела людьми. Кто они — друзья или враги? С ним раскланивались знакомые и незнакомые люди, но Бетховен почти не отвечал им. Он обратил внимание на одного из них, чей вид вызвал слезы на его глазах. Двое мужчин вынесли из коляски на носилках его старого друга Цмескаля. Тяжелый ревматизм лишил его возможности передвигаться, но не помешал ему устремиться на концерт Бетховена. Композитор подошел к нему и поздоровался со своей обычной шумной сердечностью.
Седовласого Цмескаля растрогала эта встреча. Он обеими руками горячо сжал руку Бетховена.
— Видите, каковы мои дела! Уже не могу передвигаться самостоятельно.
Бетховен в смущении кивал головой. Цмескаль дал понять, что хотел бы кое-что написать. Быстро появилась «разговорная» тетрадь, и Цмескаль в неясном свете фонарей написал несколько строк.
— Идите же, — понукал он. — Не читайте сейчас. Я знаю, что у вас нет времени.
Композитор, однако, не сдержался и с любопытством пробежал написанное.
«Знаете ли вы, что ода „К радости“ Шиллера была написана, собственно, как песня о свободе? Если это станет известно полиции, она запретит исполнение. Шиллер писал ее сорок лет назад, во времена еще худшие. Говорят, будто по совету друзей он в последний момент изменил стихи. Вместо опасного слова „свобода“ он вписал слово „радость“. Что будет прославлять сегодня ваша музыка? Радость или свободу?»
Бетховен быстро наклонился к другу и голосом, полным удовлетворения, проговорил:
— Знаете, вы меня очень обрадовали, напомнив эту давно известную новость, но пусть каждый услышит то, что ему нужно. Свобода сама по себе уже радость. И наоборот: нет радости без свободы! Я всю жизнь был за то, чтобы человечество имело то и другое, и когда боролся за одну, тем самым боролся и за другую. Только бы сегодня не потерпели поражение вместе со мной та и другая. — Он кивнул на прощание и вместе с толпой вошел в подъезд высокого здания.
До начала уже оставалось мало времени. За кулисами прохаживались участники хора, не выступавшие в первой части симфонии. Сцена наполнилась музыкантами и множеством звуков, которых композитор совершенно не слышал.
Из кулис он взглянул в зал. В самом деле зал полон! Не было ни одного свободного места. Были переполнены и ложи, абонированные знатью на весь сезон. Пустовала только императорская ложа.
Бетховен порадовался: значит, его имя еще способно притягивать людей! И сразу же нахлынули опасения.
Может быть, они пришли просто из любопытства? На афишах написано, что я принимаю участие в концерте. Глухой дирижер — это же цирковой номер! Как говорящий конь или собака, умеющая читать. И может быть, они пришли только для того, чтобы видеть его провал?
Кто-то тронул его за плечо. Капельмейстер Умлауф давал знать, что пора начинать. Огромный оркестр был готов.
В тот момент, когда композитор в своем видавшем виды зеленом фраке вступил на сцену, загремели аплодисменты такой силы, которые не часто бывали в концертных залах. Бетховен видел лишь движение ладоней и неуверенно поклонился. Потом он повернулся к оркестру и поднял руки. Музыканты подняли смычки и приложили к губам мундштуки духовых. Движение дирижерской палочки, и вот уже зазвучала торжественная увертюра. Бетховенское дирижирование было только видимостью, заранее подготовленной инсценировкой для утешения несчастного музыканта. Настоящее руководство оркестром взял на себя театральный дирижер Умлауф, стоявший сбоку в кулисах. Хотя руки композитора иногда двигались не в унисон с оркестром, мелодия велась безошибочно, так как музыканты играли, смотря на Умлауфа.
Два первых номера концерта прошли гладко и были встречены одобрением. Но еще нельзя было говорить об успехе, пока оркестр и большой хор не перейдут ко второй части концерта — к симфонии с хором.
Поразительная тишина воцарилась в зале после перерыва, перед началом второй части. Но не было сейчас тишины в ушах композитора. В них пульсировала взволнованная кровь. Сердце его бешено стучало.
И как могло быть иначе? Девятой симфонией он сегодня предстает перед миром с обнаженной душой. Эта симфония — итог всей жизни, ее страстей, волнений и радостей. Он сознает — и это сознание волнует его, что это произведение всегда пребудет вершиной его творчества. Все, что было создано им раньше и чем мир так восхищался, было лишь репетицией, подготовкой.
Как примет мир его исповедь? Как воспримет его послание о радости?
Он сделал знак, и музыканты заиграли. Девятая симфония началась.
Первые такты ее напоминали неуверенные шаги ребенка. Будто мысль еще блуждала где-то в туманном далеке. Но постепенно главная идея становилась более зримой. Скорбь и отчаянная борьба с судьбой. Душа рвется к счастью, однако оно не приходит. Человек еще не нашел к нему дороги.
Пока звучали первые три части, публика не проявляла недовольства. Но последняя часть — это просто атака на тех, кто почитал веками освященные законы! Нападение бунтарское, смелое и неслыханное! Ввести в симфонию человеческие голоса!
И вот голос, глубокий и глухой, дважды воззвал:
— Радость! Радость!
Он призывал ее и, может быть, надеялся, что она, радость, выйдет из скалы и явится миру?
Волнение передавалось от человека к человеку как электрическая искра.
Хор молчал. Его время еще не пришло. Тот же мужской голос спокойным речитативом выпевал слова оды Шиллера:
- Радость, чудный отблеск рая,
- Дочерь милая богам,
- Мы вступаем, неземная,
- Огнехмельные в твой храм.
Мощно и настойчиво звал он к братскому сплочению людей, без чего жизнь не может быть счастливой. И призывал радость! Или он и в самом деле призывал свободу?
- Власть твоя связует свято
- Все, что в мире врозь живет,
- Каждый в каждом видит брата
- Там, где веет твой полет!
И здесь влился мощный гимн хора, гимн братства людей. Хор звал всех в радостный и тесный круг:
- Обнимитесь, миллионы,
- В поцелуе слейся свет!
Бетховен смотрит перед собой. В его непотревоженный слух не проникает ни одно слово из этой песни о радости. Он видит хор, уста певцов открываются, но беззвучно. Так же, как беззвучны для него скрипки, флейты, трубы, литавры…
Глухой маэстро давно уже не испытывал отчаяния в своем немом царстве. Но сейчас его терзало сомнение. Что будет, когда отзвучит последняя нота. Одобрение? Или насмешки? Свист? Возмущенный топот ног? А может быть, зал затихнет в смущении и замешательстве от сострадания к безумной душе?
О нет! Лучше уж неприятие и нападки, чем такая милостыня!
Симфония кончается. Допета песня о радости. Музыканты поставили свои инструменты, скрипачи и виолончелисты опустили смычки. Теперь слово за слушателями.
Бетховен продолжал стоять спиной к залу. Он, прошедший через столько сражений, робел, не отваживался взглянуть на своих слушателей.
Музыканты и певцы не спускали с него глаз. Они ждали: как же поступит создатель этого творения?
Мастер понимал, что за его спиной происходит что-то особенное. Но что же там? Овация или гнев? Может быть, гремят раскаты смеха? Или слышится возмущенный голос с балкона: «Дам крейцер, чтобы все это прекратилось!»?
Сомневающийся и неуверенный, он все еще стоял спиной к залу. Наконец к нему подошла одна из прекрасных певиц. Она положила руки ему на плечи и повернула его лицом к залу.
То, что он увидел, поразило его. Сотни восторженных лиц, бесчисленное множество рук, приветствующих его, овация, несущаяся из партера, с балкона, из лож!
Нет, он не слышал, как зал гремел, волны восторга ударялись о стены, вздымались к потолку и падали вниз, чтобы снова взмыть с новой силой! Но он видел людей, закрывших лицо, рыдающих. Многие бросились к нему, стоящему в растерянности у самого края сцены.
И вдруг произошло что-то неожиданное. Он увидел, что рукоплескания оборвались. А потом вспыхнули вновь. Опять на мгновение прекратились — и снова взрыв аплодисментов!
Что это означает? Может быть, кто-то появился в императорской ложе? Взгляд в ложу, и ему ясно, что это не так.
Зато в полицейской ложе поднялся человек в мундире, разукрашенном золотом. Подойдя к барьеру, он злобно и повелительно махнул рукой, запрещая аплодисменты. Почести, которых удостаивается только император — тройная овация, — не могут быть отданы музыканту в потертом зеленом фраке, этому подозрительному республиканцу, про которого порядочные люди говорят, что он безумен. Аплодируя ему, общество оскорбляет отсутствующего императора!
Но зал был так возбужден, что не обращал внимания на чиновника. И как будто нарочно в четвертый раз взорвался гром оваций. И потом в пятый! И продолжался неутомимо и нескончаемо.
В передних рядах люди вскакивали, бросались к сцене, протягивали к Бетховену руки, будто хотели пожать ему руку за всех, кто не может приблизиться. Из кулис к нему подошли какая-то красивая дама и мужчина, оба в праздничном туалете. Они протягивали ему цветы.
Поднялись со своих мест и музыканты. Они постукивали смычками по своим скрипкам, виолам, виолончелям, контрабасам; потом отложили инструменты на сиденья и бешено захлопали вместе с хором.
Бетховен склонил свою голову, увенчанную густой гривой волос, в которой виднелись серебряные пряди, и цветы на длинных стеблях тоже склонились в его руках.
Его душа в эти мгновения находилась далеко. На крыльях песни о радости она вернулась к родному Рейну. Он видел себя мальчиком, не достающим до клавиш. И он словно коснулся, как когда-то, руки матери: «Все хорошо, все прекрасно, мамочка! Разве я не обещал тебе это когда-то?»
Вслед за матерью перед ним возникли и другие сияющие тени. Нефе — учитель протеста и непокорности. Моцарт — первый борец за творческую свободу художника. И рядом любезный старец — воплощение смирения — Гайдн. И Тереза здесь. Милая и верная душа! Где-то там, вдалеке, она отдает свое сердце обездоленным детям! Воспоминание о ней приносит боль. Но она не обжигает, не режет острым ножом, потому что мужественный человек умеет переплавить в деяние всю свою любовь к людям. К тысячам и миллионам страдающих шел его ободряющий призыв: «Не падайте духом, люди! И я не сдавался, хотя и переносил тяготы, казалось непосильные для человека.
Девятая симфония — это мой призыв к мужеству!»
И композитор с убеленной сединами головой, кланяясь залу, где не стихали аплодисменты, ясно понимал, что он достиг вершины. И останется на ней в веках перед лицом всего человечества. Ему аплодирует не только Вена, неблагодарный город, который еще раскается… Сейчас ему аплодируют, выражая признательность, далекие поколения. И не только за Девятую, но и за «Героическую», за «Аппассионату», за «Лунную», за все его песни о мужестве, об отваге, о борьбе против судьбы, о борьбе за свободу и радость, которую нужно извлечь из глубины страданий.
Бушующий зал вдруг потускнел перед его взором. Его глаза наполнились слезами радости.
Послесловие
Окончено повествование о жизни мужественного человека и величайшего из музыкантов. В Девятой симфонии его искусство достигло вершины. Французский писатель Ромен Роллан, написавший о Бетховене несколько книг, так говорит об этом его сочинении:
«Какая победа может сравниться с этой победой? Какое сражение Бонапарта достигает славы этого сверхчеловеческого труда, этого блестящего успеха, который когда-нибудь одерживал человеческий дух! Страдающий, неимущий, больной и одинокий человек, которому жизнь отказывала в радостях, сам творит радость, чтобы даровать ее миру».[28]
Он помышлял о Десятой симфонии, задумал написать оперу «Фауст» по драме Гёте, но судьба не отпустила ему времени для совершения всего этого. После шумного успеха Девятой в императорском театре в Вене Бетховен прожил лишь три года. Его слава росла и ширилась по всему миру. Его приглашали с концертами в Англию, да и денежных затруднений он уже не испытывал бы, если бы не необходимость содержать племянника. И поистине имя Карла Бетховена, как черная тень, лежит на последних годах жизни великого композитора. Чем меньше мы будем говорить о неблагодарном молодом человеке, тем лучше. И все же нельзя полностью обойти его молчанием.
Великий художник в течение всей жизни страдал от одиночества и мечтал о близкой душе. Он считал такой душой племянника Карла и отдал ему всю любовь, на которую был способен. Но Карл относился к композитору грубо, был фальшив, неблагодарен.
В декабре 1826 года Людвиг Бетховен отправился с ним к брату Иоганну. Он хотел склонить бездетного и хорошо обеспеченного родственника завещать свое имущество племяннику. (Сам он уже сделал такое завещание.) Но это не удалось! Двадцатилетний бездельник, который не умел ничего, кроме игры в бильярд и с таким же мастерством лгать, в наследники не годился. На обратном пути композитор сильно простудился и заболел воспалением легких, за которым последовала болезнь печени и водянка. Племянник в течение трех дней «забывал» позвать врача.
Бетховен боролся с болезнью целых три месяца. В дни болезни он вернулся к столь любимым всю жизнь древним грекам. Он читал Гомера, Платона, Аристотеля. Радовался приходу старых друзей, особенно своего давнего друга Брейнинга, с которым они помирились после долгого разрыва, старого Цмескаля и преданного Шиндлера. Но самым желанным гостем, навещавшим больного композитора, был тринадцатилетний ласковый сынишка Брейнинга.
Он прибегал каждый день в полдень, в перерыве между утренними и дневными занятиями, и приносил хорошее настроение. Бетховен в шутку называл его «Кнопкой», а иногда вполне серьезно именовал его Ариэлем — так звали доброго духа в пьесе Шекспира «Буря».
Узнав о болезни Мастера, его друзья, даже жившие вдалеке, слали ему знаки внимания. Из родного края ему прислали рейнское вино. Он смог сделать лишь несколько глотков. Много радости доставил ему рисунок, изображающий родной домик Гайдна, и роскошное издание всех сочинений Гайдна.
Лондонское филармоническое общество выслало ему значительный гонорар в счет будущих концертов.
Растроганный композитор обещал написать для лондонцев симфонию, увертюру или что-либо другое, что будет по душе им. Но смерть помешала ему выполнить обещание. Его жизнь оборвалась на пятьдесят седьмом году.
Он скончался двадцать шестого марта 1827 года. Последние минуты его жизни так описывали его близкие друзья.
Это было около четырех часов дня. Тяжелые тучи все больше и больше застилали небо. Внезапно началась снежная буря с градом. Как в бессмертной Пятой симфонии и великой Девятой раздавались удары судьбы, так теперь казалось, что небо ударами в гигантские литавры оповещало весь мир искусства…
Перед домом Бетховена лежал снег. Вдруг из туч блеснула молния и озарила своим блеском комнату, в которой расставался с жизнью великий Мастер. Бетховен открыл глаза, сжал правую руку в кулак и погрозил им в окно. Его лицо было грозно, будто он хотел сказать:
«И все же я не поддался вам, враждебные силы! Прочь от меня!» Да, смерть могла сокрушить его тело, но не могла победить его дух.
Двадцать тысяч человек провожало его в последний путь, но он остался с людьми. Он бессмертен, он всегда с нами, мужественный и человечный, борющийся и нежный.
Ромен Роллан обращал к нему свое взволнованное слово:
«Дорогой Бетховен! Немало людей отдавали должное его величию художника. Но он, конечно, больше, чем первый из музыкантов. Он самая героическая сила в современном искусстве. Он самый большой и лучший друг всех, кто страдает и борется. Когда нас удручают горести нашего мира, он приходит к нам, как приходил к матери, потерявшей сына, садился за фортепьяно и без единого слова утешал ее, плачущую, своей песней сострадания. И когда нас охватывает усталость в нашей непрерывной борьбе, как несказанно хорошо окунуться в этот животворный океан воли и веры. Мы черпаем и отвагу, которая все ширится, и счастье, что мы можем и будем воевать».
Никто не доказал лучше, чем Юлиус Фучик, какую отвагу и радость придает человеку музыка Бетховена. Зная, что через неделю будет казнен, он писал в своем последнем письме домой:
«Верьте мне: ничто, абсолютно ничто не убило во мне радости, которая живет во мне и проявляется каждый день каким-нибудь мотивом из Бетховена. Человек не становится меньше оттого, что ему отрубят голову. И я искренне желаю, чтобы тогда, когда все будет кончено, вы вспоминали обо мне не с грустью, а с радостью, с которой я всегда жил».
Людвиг Бетховен зажег солнце, которое светит и будет светить в нашем будущем.
Радостное мужественное солнце в нас самих.