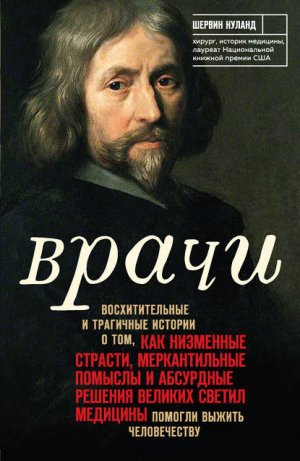
Sherwin B. Nuland
Doctors. The Biography of Medicine
© 1988 by Sherwin B. Nuland
© Sherwin B. Nuland, текст, 2017
© Скворцова Н. В., ООО «Наше слово», текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Шервин Б. Нуланд
Шервин Бернард Нуланд родился в 1930 году в Нью-Йорке в семье российского иммигранта Мейера Нудельмана.
Шервин был профессором клинической хирургии Медицинской школы Йельского университета, где преподавал биоэтику, историю медицины и медицину.
Шервин Б. Нуланд – доктор медицинских наук, хирург и автор известных во всем мире бестселлеров «Как мы живем» и «Как мы умираем. Размышления о финальной главе жизни». Последний в 1994 году был удостоен Национальной книжной премии.
Он опубликовал многочисленные статьи в различных медицинских журналах и таких изданиях как The New Yorker, New York Times, The New Republic, Time и The New York Review of Books (книжное обозрение Нью-Йорка), а также вел постоянную колонку «Неуловимое искусство» блога The American Scholar. Вплоть до своей смерти в 2014 году доктор Нуланд проживал с семьей в штате Коннектикут.
Саре и Сэлу
Эта книга и моя жизнь подарены вами
По существу, история медицины – это история самого человечества со всеми его взлетами и падениями, его дерзким, но тщетным стремлением постичь истину и конечную цель бытия. Историю медицины можно представить в виде бесконечной вереницы книг, характеров, сменяющих друг друга теорий и человеческих заблуждений или совсем иначе – как подлинную квинтэссенцию развития культуры. Как писал Мэтью Арнольд о «Деяниях святых»:
«Вся человеческая жизнь здесь».
Филдинг Гаррисон, 1933
Выражение признательности автора
В мою память навсегда врезалась педагогическая формула, которую я и мои сокурсники биологического отделения медицинского колледжа выучили сорок лет назад: чтобы экзаменационное эссе было оценено достойным количеством баллов, ответ на каждый вопрос должен удовлетворять пяти критериям – быть ясным, последовательным, кратким, полным и правильным. Если эти условия не соблюдены хоть в малейшей степени, работа не может считаться идеальной. Звенящее наставление любителя нематод, заскорузлого мизантропа, не испытывавшего ничего кроме презрения к тем из нас, кто беспокоился о млекопитающих (и, не дай бог, планировал строить карьеру в области клинической медицины), звучит эхом в моей голове каждый раз, когда я собираюсь изложить свои соображения на бумаге. К словам профессора Горация Уэсли Станкарда я отношусь с религиозным почтением, возможно, из-за чувства вины за то, что подвел его, отказавшись от лаборатории в пользу клиники. Хотя, вероятнее всего, ряд его определений мне запомнился потому, что в целом они звучат как здравый совет.
Помня наставления Станкарда, я вынес на суровый суд читателей очень разные главы этой книги. Естественно, предмет моих исследований было невозможно (и даже нежелательно) раскрыть полностью в отличие от темы экзаменационного эссе. Согласно моим требованиям повествование должно быть связным и согласованным. Если читатель решит, что книга удовлетворяет всем критериям Станкарда, то это заслуга тех моих коллег и друзей, которые подзадоривали меня во время работы над ней. Если же обнаружатся какие-то недостатки, то только потому, что иногда я уделял мало внимания их рекомендациям. Недостаточно просто перечислить здесь их имена; я хочу выразить им свою признательность не только за вклад в эту книгу, но и за их умелое понукание.
Моя жена Сара Петерсон всегда была первым и самым суровым редактором моих работ. Она большой специалист по поиску плохо согласованных и трудно читаемых предложений. Поистине счастлив автор, если тот, кто выполняет первоначальную вычитку его рукописи, умеет точно формулировать мысли и уверен в том, что делает. Мне хотелось бы гораздо больше написать о заслугах этого конкретного редактора, но она все равно запретила бы мне, считая это слишком сентиментальным и слащавым.
После тщательной проработки материала Сарой некоторые главы отправлялись коллегам, обладающим более глубоким знанием определенных тем и периодов. Каждая часть возвращалась с весьма полезными комментариями или предложениями. Выражаю свою глубокую признательность всем и перечисляю их имена в алфавитном порядке: Марк Лорбер, Роберт Массей, Джереми Норман, Джон Харли Уорнер, Рут Уитемор и Раймонд Эдвардс.
Особую благодарность заслуживают четверо моих товарищей за квалифицированное рецензирование книги в целом: учитель литературы Джон Бехар, историк медицины Томас Форбес, ученый в области биомедицинских наук Ион Грессер и директор библиотеки медицинской истории Ференц Гьергей. Не могу не отметить отдельно участие Ференца. Без наших бесконечных дискуссий, его обширных знаний литературы по истории медицины и щедрости, с которой он позволил мне пользоваться всеми сокровищами его уникальной библиотеки, эта книга умерла бы не родившись; без нашего вдохновляющего содружества я никогда не задумал бы этот проект – Koszonom kedves baratom![1]
Написать серию биографий врачей мне предложил Лесли Б. Адамс младший, лет пять назад. В разделе Classics of Medicine Library он опубликовал пятнадцать моих монографий и книг, среди которых была и «История анестезии». Он и его издательство Gryphon Editions (теперь филиал компании Macmillan) всегда поддерживали меня и любезно позволяли использовать значительную часть материалов из перечисленных выше публикаций. Части глав, посвященных Гиппократу, Паре, Морганьи, Хантеру и Холстеду, как и отрывок из работы об анестезии, сначала вышли в свет в форме эссе, которые я написал по заказу Леса Адамса.
Большая часть материала об Игнаце Земмельвейсе взята из моего эссе, напечатанного в 1979 году в «Журнале истории медицины и смежных наук». Фрагменты из главы о Листере были представлены в 32-й ежегодной лекции по истории хирургии Самуэля К. Харви в Йеле в 1987 году.
За те несколько лет, которые я вынашивал идею о создании этой книги, у меня появилось два новых друга: Роберт Готлиб, поверивший в мой проект с самого начала и ставший капитаном моей команды поддержки; его участие и интеллект были топливом для костра моего энтузиазма. Уйдя из Knopf, он не оставил меня.
И, наконец, Корона Мачемер. Она влилась в наш коллектив, когда работа над рукописью была уже в самом разгаре, но проявила поистине материнское участие в проекте. Отличный специалист в английском языке, преданный своей работе, она чудесным образом поняла цель, которую я хотел достичь своей книгой. Имея тридцатилетний опыт работы хирургом, я полагал, что знаю толк в заботливой опеке, пока она не присоединилась к команде врачей и не начала делиться со мной своими озарениями. Когда Боб Готлиб унес свои кроссовки и синий карандаш с собой в The New Yorker, он заверил меня, что нашел «абсолютно идеального редактора» на свое место. К его восторженному отзыву могу добавить только: «Да, и аминь».
Ш. Б. Н.
Введение
Хороший терапевт знает своих пациентов вдоль и поперек, и его знания дорогого стоят. Необходимо щедро дарить время, сочувствие и понимание, а награда вас найдет в личных связях, которые приносят наибольшее удовлетворение от врачебной практики. Одно из базовых качеств клиники – это заинтересованность в человеке, поскольку секрет заботы о пациенте состоит, собственно, в заботе о пациенте.
Доктор Фрэнсис Уэлд Пибоди, лекция студентам медицинского факультета Гарварда, 1927 год
Эту книгу я писал в библиотеке. Среди библиотек всех образовательных учреждений мира нет другой, подобной этой. Мне нравится думать о ней как о моем кабинете, хотя сюда приходят сотни мужчин и женщин – так же, как я, увлеченных необходимостью оглянуться на прошедшие события, чтобы эффективно продвигаться вперед. Замечу, что до сих пор никто из нас не превратился в соляной столп[2].
Моя огромная, уютная, заполненная книгами комната – это святилище накопленных знаний и мемуаров об искусстве врачевания, это музей, портретная галерея, хранилище литературы о прошлом медицины и убежище от беспорядочного наплыва современных научных технологий. По крайней мере, для тех из нас, кто имеет привилегию заботиться о больных или проводить исследования, позволяющие лечить болезни, Йельская библиотека истории медицины с момента своего создания была укрытием от дневных тревог и живительным родником, несущим обновление и силы.
Все лаборатории и больницы нашего медицинского центра расположены не дальше нескольких минут ходьбы от этой обрамленной балконами комнаты с высокими сводами и залежами сокровищ. От операционных, где я провожу бо́льшую часть своего дня, библиотека находится на расстоянии, точно совпадающим с длиной двух футбольных полей. Тридцать лет назад я мог преодолеть весь путь за двадцать пять секунд. Даже моя теперешняя шаркающая походка позволяет мне тратить на дорогу туда не более трех минут, включая лестничные пролеты.
Здесь так просто совершать, как сказал один из благотворителей библиотеки, «путешествия по иным эпохам и далеким местам». Такая возможность представилась благодаря трем страстным библиофилам, объединившимся в 1930-х годах для создания библиотечного рая, в котором их обширные личные литературные собрания могли слиться и разместиться таким образом, чтобы каждый, желающий узнать что-нибудь об истории медицины, мог получить к ним доступ. Речь идет о Джоне Фултоне, одном из наиболее плодовитых исследователей в области нейрофизиологии и очень энергичном человеке, чьи неустанные усилия катализируют многочисленные крупные проекты в сфере науки и гуманизации медицины; о Харви Кушинге, который недавно приехал в Йель после ухода на пенсию с поста главы отделения хирургии в больнице Питера Бента Бригама в Гарварде, где он учредил специализацию нейрохирургии, а также о швейцарском враче-библиографе Арнольде Клебсе, авторе фразы про путешествия. В честь их объединенного проекта они присудили себе титул «Триада».
Со времени церемонии открытия в 1941 году, основанная тремя друзьями библиотека растет со скоростью, превышающей их самые оптимистичные прогнозы. Библиотека истории медицины Йеля стала одним из немногих мест в мире, где авторы медицинских работ могут забронировать проход для непрерывного паломничества в прошлое. Действительно, если использовать критерий лорда Маколея о том, что «идеальный историк показывает в миниатюре дух и характер века», то эта библиотека, которую я называю своей, – идеальный историк для западной медицинской цивилизации, на что не может рассчитывать ни один претендент из плоти и крови. Ее можно считать наглядным доказательством концепции Маколея, утверждающей, что процесс написания истории требует «соединения поэзии и философии».
Над огромным камином, встроенным в стену в дальней части читального зала, расположена большая металлическая пластина с выгравированным напутствием о том, как использовать собрание для достижения поставленных целей наилучшим образом. Чтобы оценить мудрость этих слов, посетителю следует лишь бродить среди манускриптов и «слушать»: «Здесь, в тишине, звучат голоса величайших умов минувших эпох».
Автор этих строк провел немало часов, внимая им, прежде чем эта книга увидела свет. Я выбрал для нее подзаголовок «биография медицины» потому, что решил вести рассказ в форме серии биографий тех, кто внес значительный вклад в развитие методов врачевания. Но меня преследовала мысль, особенно когда я приступил к последним главам, что, возможно, слово «автобиография» лучше могло бы передать суть моей идеи, поскольку я старался описать процесс эволюции, благодаря которому каждый современный врач создает свои основополагающие гипотезы, а также общие теории, в рамках которых мы рассматриваем течение заболевания. Таким образом, история медицины – это история моей профессиональной жизни.
Сидя у постели больного и пытаясь восстановить последовательность патологических изменений в его теле, заставивших его обратиться ко мне, я применяю метод рассуждений, который практиковался в Греции еще две с половиной тысячи лет назад. Каждый раз, прослеживая развитие болезни до момента встречи с пациентом, я также следую по пути развития теорий, на которые опирается современная медицина. Снова и снова я начинаю заново с понятия о том, как возникают отклонения от здорового состояния. При этом я опираюсь на правило, что лечить заболевание эффективно можно только тогда, когда я как врач определю причины и место возникновения болезни у конкретного пациента, смогу правильно оценить созданный недугом внутренний хаос и направление, по которому процесс будет развиваться. С этими знаниями я смогу поставить диагноз, назначить лечение и предсказать исход.
Греческие медики проработали каждый из этих этапов во времена Гиппократа, отца медицины. История этой науки – это история все более результативных усилий многих поколений врачей в поисках ингредиентов, способных привести организм пациента в идеальное состояние. Получив в шестнадцатом веке первые реальные знания о внутренних анатомических структурах, а позже, в восемнадцатом столетии, понимание того, какие изменения возникают в этих структурах в результате различных заболеваний, целители продолжали совершенствовать методы медицинского обследования, чтобы по различным симптомам и признакам определять органы, в которых произошли изменения. Позже они могли оценить точность диагностики, исследуя многих из своих пациентов на патологоанатомическом столе.
Идентификация больного органа постепенно становилась все более конкретной с изобретением диагностических инструментов, таких как, например, стетоскоп. С помощью усовершенствованных технологий создания линзовых систем было установлено, что к заболеваниям органов приводят болезни мельчайших клеток внутри них. Научившись определять место возникновения заболевания, врачи занялись поиском первичных провоцирующих агентов, которые изменяют нормальные физиологические процессы. Так обстояли дела в середине девятнадцатого века.
По мере того, как миновали годы этого столетия, искусство врачевания становилось все более зависимым от объективных знаний об органах, тканях и клетках, иными словами, все большее значение приобретал уровень развития науки. В результате врачи, неизбежно фокусируясь на деталях, – явление, называемое историками редукционизмом, – иногда упускали из виду самого пациента, который пришел за исцелением. Лучшие доктора всегда старались охватить перспективу всей жизни пациента, а требования науки делали эту задачу все труднее.
Разумеется, в целостном подходе (или холизме) нет ничего, что делает его несовместимым с научной медициной. И сегодня, в последние годы двадцатого века, когда мы получаем все больше информации о процессах, приводящих к заболеваниям у здоровых людей, мы более полно оцениваем сложность вызывающих недуги факторов. В наши дни мы намного реже, чем раньше, ищем отдельные причины недомогания. Гораздо чаще мы выясняем все до единого из длинного ряда элементов, которые вызывают нарушения здоровья каждого конкретного пациента. Для того чтобы кто-то заболел, несколько отдельных процессов в организме должны развиваться неправильно, при этом набор нарушений, возможно, различен для каждого из нас. Если в ваше и в мое воспаленное горло попал стрептококк, мы имеем разные анамнезы, то есть индивидуальные пути подготовки сцены для микроба и его грязной работы.
Этот новый взгляд на болезнь точно сформулировал В. Джеффри Фессел, врач и дальновидный философ, работающий в области теории медицины:
В большинстве случаев болезнь не является неизбежным следствием одного события, происходящего одномоментно. Как правило, она является вероятностным результатом многих факторов, каждый из которых оказывает негативное влияние на организм в разное время и запускает собственную последовательность биологических реакций. Общая сумма этих событий приводит к существенному дискомфорту для человека, который признается больным…
Хотя конечная, клинически определяемая реакция ткани может быть одинаковой у разных пациентов, что подразумевает наличие конкретной болезни и, в общем смысле, заболевания как самостоятельного субъекта, у каждого человека, похоже, имеется свое отдельное уникальное заболевание в силу вероятности того, что никто другой не имеет такой же комбинации и последовательности предшествующих недугу факторов и их соотношения во времени. В этом смысле каждая болезнь состоит из множества заболеваний; то есть болезней не существует, а есть больные люди.
Под этим утверждением мог бы подписаться как Гиппократ, так и каждый добросовестный доктор, практиковавший когда-либо с момента возникновения медицины. Поэтому Джеффри Фессел, и я, и любой врач, который пытался поставить диагноз, провести плановое лечение и сделать прогноз, все мы являемся преемниками той же традиции – бенефициарами наследия эскулапов, описываемых в следующих главах. По этой причине книгу следует считать автобиографией, которую мог бы написать любой из нас.
Но для начала, как и каждому, кто использует биографическую форму изложения, мне следует попросить читателя отнестись к моей работе со снисхождением и не придираться к моему выбору героев. Есть и другие звезды, сияющие на медицинском небосводе не менее ярко. Безусловно, их истории также могли бы послужить достойным материалом для достижения той цели, ради которой я создавал эту книгу. На самом деле, некоторые из них являются более выдающимися личностями и, возможно, объективно больше заслуживают упоминания, чем те, о ком я написал. Мой выбор пал на этих конкретных представителей медицины потому, что они заинтересовали меня больше остальных; я решил, что они лучше других позволят мне рассказать мою историю.
Возможно, я заслуживаю критики за встречающиеся в моем повествовании анекдоты и красочные эпизоды, которые профессиональные историки, изучавшие жизнь моих героев, не всегда могут посчитать значительными. В свое оправдание приведу слова Маколея: «Идеальный историк… не считает анекдот, какую-либо особенность манеры изложения или поговорку слишком незначительными для выражения своей мысли и иллюстрации действия законов, религии, образования и прогресса человеческого разума. Людей следует не просто описывать, их нужно делать близкими нам». Хотя эти слова вызывают у меня чувство благодарности, и я позволяю себе их цитировать, они не должны в полной мере применяться к несовершенному историку вроде меня (скорее дилетанту, чем профессионалу). Кроме того, мои мотивы не так чисты и, возможно, представляют собой довольно своеобразный взгляд на историографию. Кроме того, одна из моих личных скрытых причин состоит в том, что, честно говоря, я очень любопытный человек и неравнодушен к сплетням. Мне нравится изучать жизни известных врачей, и я пишу о них, чтобы поделиться тем, что мне удалось узнать. Идеальный историк в человеческом облике еще не родился на свет. А до тех пор, пока она или он не появится и не посрамит наши потуги, все мы можем позволить себе рассказывать свои истории.
И последнее замечание. Один из коллег, чье мнение для меня имеет особую ценность, указал на то, что некоторые могут посчитать заметным недостатком этой книги мою склонность к излишней восторженности. По мнению моего друга, кажется, что меня чрезвычайно впечатлили заслуги всех моих героев в развитии медицины, в то время как некоторые из них недостойны такого количества комплиментов. Что ж, это справедливое замечание. Но я не собираюсь извиняться. Меня, несомненно, не только впечатляют, но просто изумляют талант, трудолюбие и достижения большинства из этих людей. В конечном счете, среди врачей, живших когда-либо на Земле, все персонажи этой книги являются величайшими новаторами в медицине. Выдающийся (понимаете, что я имею в виду?) преподаватель медицины Уильям Ослер однажды сказал, что мы изучаем историю не только ради того, чтобы узнать о происходивших в прошлом событиях, но и из-за «молчаливого влияния персонажа на характер читателя». Изучение жизни выбранных мной врачей возродило мой оптимизм в отношении будущего нашей цивилизации.
В наши дни, когда кажется нереальным предсказать, что будет дальше с человечеством, а может произойти все самое ужасное, в «галерее моих персонажей» я нахожу нечто, что дает мне надежду. Я считаю, что почитание жизни, энтузиазм в изучении тайн природы и готовность пожертвовать собой ради прогресса, о которых вы прочтете в этих главах, – это неотъемлемые черты нашего вида, несмотря на всю массу причиненных самим себе страданий, которым мы стали свидетелями в текущем столетии. Скажу больше: я убежден, что существует такая биологически обусловленная характеристика, как человеческий дух; есть ген или гены, определяющие его, точно так же, как ген или гены, отвечающие за цвет глаз или длину пальцев. Не имею представления, была ли это воля того, кого некоторые называют Богом, или просто воля случая, но человеческий дух воспроизводится внутри нас с такой же предопределенностью, как восход и закат солнца. Критерием человечности не являются ни интеллект, ни даже физическое строение; человек – самое совершенное живое существо на этой планете, потому что в нем живет побуждающий к нравственному развитию человеческий дух. Он делает нас способными к риску в мыслях и поступках. И эта черта в полной мере относится к братству медиков. Предполагаю, что когда-нибудь настанет день, когда человеческий дух будет предметом научных исследований и подтверждающих его существование экспериментов. Хотя такие изыскания, вероятно, начнутся с гуманитарных наук, таких как социология, в конечном итоге они перейдут в область количественной оценки и анализа. Ни на секунду не усомнюсь, что умы, способные разрешить загадку ДНК, в некотором отдаленном будущем откроют удивительную тайну человеческой природы. По словам Гёте, не существует никаких чудес, а есть лишь тайны природы, и они ждут своего открытия.
Когда выяснится биологическая основа человеческого духа, мы сможем объяснить такие качества, как, например, альтруизм и врожденную способность отдельного человека к выздоровлению. Хоть аналогичные возможности наблюдаются и у других видов животных, ни один из них не сравнится в развитии этой способности у человека. Она служит основой многих взаимосвязей, которые мы считаем присущими исключительно человеку. Среди них и неизменный в веках фундамент отношений между врачом и пациентом.
Говоря об этом, я также наполняюсь оптимизмом. В отличие от многих, скептически оценивающих грядущее человечества современников, я верю в будущее медицины хотя бы потому только, что оно обусловлено биологической особенностью, которую я называю человеческим духом. Я использую выражение «неизменный в веках» намеренно, так как не думаю, что когда-нибудь он исчезнет.
Более полувека назад доктор Фрэнсис Уэлд Пибоди обратился к аудитории студентов-медиков в Гарварде с лекцией об опасности, которая возникает в результате вмешательства медицины как науки в искусство врачевания. «Они не противоречат друг другу, – сказал он, – но дополняют друг друга». В заключение он произнес те три предложения, которые я использовал в качестве эпиграфа к этому разделу. С тех пор их повторяли бесчисленное количество раз перед бесчисленным количеством групп студентов, потому что они абсолютно ясно указывают на самый главный ключ к тому, как стать хорошим врачом, и на величайшую жертвенность этой профессии.
Ш. Б. Н.
Нью-Хейвен
Январь 1988
1. Тотем медицины. Гиппократ
Есть те, кто считает, что Иисуса, о котором написано в Новом Завете, никогда не было. Они оспаривают приписываемые ему деяния и подвергают сомнению существование его откровения. Примерно такое же подозрение высказывалось в отношении основателей многих других религий и сект мира. Даже когда имеются, казалось бы, убедительные свидетельства жизни святых, некоторых они не убеждают.
Несмотря на личную приверженность рациональным или, напротив, религиозным убеждениям, каждый из нас обладает бесспорным знанием о том, что такое реальность. Те, кто исповедует традиционную веру, не нуждаются в документальном подтверждении событий. История для них освещена светом Господним, который чудесным образом сияет из того же пространства, которое скептикам представляется черной пустотой. Поэтому до тех пор, пока будут жить наши потомки на этой Земле, будут продолжаться споры между теми, кто стремится к Истине, и теми, кто ищет Правду.
В чисто практическом смысле нет абсолютно никакой разницы, кто из них прав. Исследование скрытых истоков современных духовных религий гораздо менее важно, чем понимание того, какими были разные группы изначально и как они повлияли на историю мира. Возможно, самой главной проблемой является их общее воздействие на мышление современного человека.
Почти то же самое можно сказать о Гиппократе, греческом враче, которого мы называем отцом медицины. Нам как будто известны некоторые факты из его жизни, не имеющие ничего общего с легендами о нем, и мы считаем, что имеются все основания выразить ему наше уважение за парарелигиозный подход, которому нас научили хранители знаний медицины. Но, помимо факта существования его манускриптов, нет никакой другой информации, в которой мы могли бы быть уверены. Традиция – учитель, обладающий огромной силой убеждения, даже когда само учение ложно. Считается, что все сочинения Гиппократа являются работами одного автора; то же самое говорят о Пятикнижии Ветхого Завета, и все же весьма веские литературные свидетельства опровергают такое утверждение в отношении как основоположника медицины, так и Закона Моисея.
Как и книги Библии, манускрипты Гиппократа, похоже, были составлены в разное время разными авторами, которые донесли до нас суть изначально устных традиций веры и медицинской практики. Хотя и менее пространная, чем Священное Писание, с которым мы проводим аналогию, коллекция манускриптов Гиппократа (или, как ее часто называют, Гиппократов корпус) содержит некоторые извечные истины и некоторые поражающие воображение произведения. Все они объединяются на базе теологии, и именно богословие, а не принадлежность одному автору, интегрирует их в единое собрание. И Библия, и корпус имеют дело со взаимоотношениями людей между собой, а также со взаимодействием человека с внешними силами. В греческих работах, однако, этими силами является Природа; Бог и другие сущности, которых можно увидеть, лишь обладая сверхъестественным зрением, не рассматриваются.
Установка не брать в расчет божественные силы и мистическое влияние на причины возникновения и процесс лечения болезни было величайшим вкладом школы Гиппократа в искусство врачевания. Швейцарский медицинский историк Эрвин Аккеркнехт назвал его «Медицинской декларацией независимости».
Во всем корпусе нет ни малейшего намека на то, что болезнь возникает по причинам, выходящим за пределы понимания врача. Каждый набор симптомов определяется одним конкретным или несколькими факторами, и лечение должно быть направлено на коррекцию условий, в которых они появились, а не только на устранение последствий их присутствия. Таким образом, обстоятельства происхождения болезни следует считать таким же важным фактором, как и проявления самой болезни. Греки были первыми, кто поверил, что Вселенная функционирует по рациональным, разумным законам. Они дали нам понятие причины и следствия и тем самым заложили фундамент для создания науки. Гиппократ жил еще до Аристотеля; в своем корпусе он оставил нам сокровищницу, содержащую самые ранние из всех открытых на данный момент научных трудов.
Хотя за полученные знания мы обязаны не столько самому отцу медицины, сколько сложившимся в те века философии и практике, названным его именем, тем не менее Гиппократ на самом деле существовал и, похоже, был выдающимся врачом своего времени. Но прежде чем сообщить то немногое, что известно о его жизни, необходимо рассказать о его легендарных антецедентах, его современниках-медиках и, в первую очередь, о системе верований, группа последователей которой была известна как культ Асклепия.
В постгомеровские времена исцеляющие силы, изначально приписывались трем старшим божествам: Аполлону, Артемиде и Афине, а позже постепенно стали ассоциироваться с менее важным богом – Асклепием, сыном Аполлона и нимфы Коронис. Полиморфный миф об Асклепии возник, как и вся греческая культура, из слияния множества ранних цивилизаций и традиций. Легенда приписывает этому богу многочисленные чудесные исцеления, происходившие в основном во время сна верующих больных в построенных в честь Асклепия храмах.
Места расположения святилищ, посвященных божеству, отличались характерными чертами, которые во всех культурах считались идеальными для восстановления здоровья: часто это были обдуваемые бризами холмы вблизи прозрачных рек и источников, богатых высоким содержанием минералов. Целебный воздух, прекрасные виды на окружающие леса и живописные сады, а также благотворно влияющее на душевное состояние присутствие облаченных в великолепные одежды священников создавали успокаивающую атмосферу, которая способствовала возвращению здоровья телам больных паломников. Естественно, страждущие просили помощи у божества, поэтому практиковались молитвы, жертвы животных и усердная резьба священных табличек. Чудотворные змеи смазывали тонизирующим секретом поврежденные конечности, скользя от одной раны к другой и облизывая их. Во время проведения этой поразительной терапии больные слушали звучные голоса священников, распевающих сакральные заклинания и магические заговоры. Окруженные неистово благочестивыми просителями, они рассказывали о чудесных излечениях, дарованных Асклепием и его прославленными детьми, среди которых были дочери Гигиея и Панацея. Сам бог присутствовал в виде объемного изображения фигуры в длинных одеждах, вокруг которого обвивались легендарные священные змеи; именно от этого трансцендентного образа произошел символ современной медицинской науки.
Сам процесс излечения фокусировался на сновидении, посылаемом богом, в котором Асклепий сообщал спящему пациенту, прямо или в виде символов, информацию о средствах, с помощью которых тот сможет достичь выздоровления. Доведенный с помощью мистических церемоний в религиозной атмосфере святилища до надлежащего уровня эмоциональной готовности пациент проводил несколько ночей в прекрасном храме до появления во сне видения оракула. Тогда священники интерпретировали призрачное послание в соответствии с практикуемой ими системой оздоровления, то есть они, вероятно, рекомендовали диету, физические упражнения или, как мы сказали бы сегодня, рекреационную или музыкальную терапию. Иногда методом лечения было кровопускание, очищение кишечника с помощью слабительных средств или даже довольно причудливая установка на мгновенное восстановление здоровья, которая, вероятно, действовала благодаря силе внушения. Если примененная священниками терапия была успешной, слава доставалась Асклепию и его доверенным лицам, которые принимали благодарственные молитвы и деньги своих пациентов с равным благочестием. Если вылечить больного не удавалось, тогда в неудаче обвинялся сам страждущий.
В целом система Асклепия, несмотря на «курортные» методы восстановления здоровья, имевшиеся в ее терапевтическом арсенале, была основана на философии мистического источника заболевания: болезнь вызывают непостижимые сверхъестественные силы, поэтому лечение должно исходить из тех же источников.
Портрет Гиппократа на французской гравюре восемнадцатого века. Именно так он традиционно изображается на протяжении веков. Это общепринятый образ, хотя составлен он на основе весьма скудных данных. (Любезно предоставлен Йельской медицинской исторической библиотекой.)
На протяжении долгих веков историки считали, что способы врачевания Гиппократа формировались на базе системы Асклепия, а священники были предшественниками и наставниками Гиппократа и его школы. На самом деле это не совсем так: учение Гиппократа развивалось в противоположном направлении от принятой в храмах теории о сверхъестественных причинах заболеваний. Новые концепции были рациональными, эмпирическими и опирались на принцип, что для каждой болезни существует лекарство, вполне натуральное и понятное. Путаница в истории, вероятно, возникла из-за того, что некоторые медики называли себя асклепиадами, а исследователи впоследствии ошибочно решили, что они были последователями культа Асклепия.
Гиппократ родился около 460 г. до н. э. на острове Кос, недалеко от западного побережья Малой Азии. Несмотря на все появившиеся позже исторические легенды, это все, что нам о нем доподлинно известно, при этом исключительно из современных источников – двух диалогов Платона: «Протагор» и «Федр». Впоследствии писали, что он сын Гераклита, наследственного асклепиада. Однако, полученные в двадцатом веке археологические данные свидетельствуют о том, что культ бога Асклепия появился на острове Кос лишь после 350 г. до н. э., когда отец медицины уже не жил, что ставит под сомнение остальную часть его классической биографии. Можно не верить в миф о том, что он был девятнадцатым потомком Асклепия по прямой линии, но бо́льшую часть его истории жизни невозможно ни доказать, ни опровергнуть, поэтому здесь она будет представлена в общеизвестном виде. Большая часть деталей взята из довольно льстивой биографии, написанной неким Сораном Эфесским во втором веке н. э., к тому времени предмет его обожания был мертв уже более пятисот лет. Этот опус заслуживает такого же доверия, как и современная биография Жанны д’Арк, которая была составлена на основе только устных свидетельств лидера женского движения Франции, которая к тому же была религиозным мистиком. Тем не менее это, кажется, первое описание жизни отца медицины, и оно является источником нашего нынешнего поверхностного наброска.
Медицине Гиппократ обучался у своего отца Гераклита. Как и все врачи того времени, он провел немалую часть времени в путешествиях, практикуя свое искусство в соседних городах и на Эгейских островах. Во время этих поездок он, видимо, читал лекции по медицине и хирургии, получая оплату от студентов и пациентов. По мере того как распространялась слава о нем, его услуги становились все более востребованными. Ходили слухи о разных удивительных случаях исцелений, которые ему удалось совершить, и об оказываемых ему почестях. Никто не может с уверенностью сказать, как он выглядел, но несколько статуй, которые были «идентифицированы», ко всеобщему удовлетворению, представляют его пожилым, благородного вида мудрецом с лысой головой, бородой и умным добрым лицом. Уважаемый член медицинской академии, которая располагалась на острове Кос, он был одним из самых влиятельных врачей своей эпохи. Кажется, он дожил до весьма почтенного возраста и умер в Ларисе, когда ему было около ста лет.
Чтобы понять, в какие времена жил Гиппократ, полезно вспомнить, что он был современником Сократа, Платона, Перикла, Еврипида, Эсхила, Софокла и Аристофана, а умер приблизительно за десять лет до рождения Александра Великого, когда Аристотель был молодым человеком. Отметим, что это был период бурного расцвета науки в Греции, явление миру великих мыслителей, таких как Гиппократ, Геродот и Аристотель, посвятивших свои жизни развитию медицины, историографии и литературной критике, соответственно. Это было время одного из тех великих взрывов ментальной энергии, которые время от времени случаются в культуре западной цивилизации, толкая ее к новым свершениям, непривычному образу мышления и незнакомым способам выражения.
С появлением школы Гиппократа медицина, как известно, начала активно развиваться. Отделившись от суеверий и некромантии, систематически наблюдая за беспорядочными процессами жизнедеятельности и придерживаясь определенных этических принципов, которые провозгласили главной обязанностью врача быть рядом со своим пациентом, школа сформировала базовую платформу, на которую прогрессивная медицинская мысль впоследствии могла опереться.
Ирония истории состоит в том, что академия острова Кос, так называемая Косская школа, конкурировала с расположенной на противоположной стороне полуострова в городе Книд академией, практиковавшей форму медицины, больше похожую в некоторых отношениях на современную, чем та, которой придерживались их оппоненты с Коса. В центре внимания докторов из Книда была болезнь, а у Гиппократа – больной. Академики из Книда, как и наши современники, были редукционистами, направлявшими все усилия на классификацию патологических процессов и постановку точного диагноза. Они стремились определить конкретные нарушения отдельных органов, вызывавшие симптомы, которые они так усердно систематизировали. Возникает вопрос: тогда почему именно практики Гиппократа пережили века и стали основой современной медицины?
Книдскому подходу в Древней Греции была присуща одна фундаментальная слабость: для достижения успеха им требовались гораздо более глубокие знания об анатомии и функциях органов, чем те, которыми они на тот момент обладали. Тогда закон предписывал хоронить умерших сразу после смерти и запрещал препарирование человеческого тела в силу превалирующей в те дни религиозной доктрины. Вместе с тем люди испытывали панический страх перед трупами вследствие культурных особенностей того времени. Даже свободным от предрассудков врачам было нелегко преодолевать свой ужас. Хотя некоторую информацию о внутреннем строении организма добывали благодаря исследованиям анатомии животных и частичным посмертным вскрытиям людей, проводившимся редко и поспешно, сведения оставались разрозненными и случайными, основываясь на возможности заглянуть иногда в открытую полость тела раненого воина. Во всей коллекции Гиппократа нет ни одного убедительного, неопровержимого доказательства официального вскрытия человеческого тела.
Даже если бы необходимые подробные знания анатомии были доступны, следовало бы провести тысячи тщательных исследований больных органов, чтобы понять, каким образом патологические процессы приводят к симптомам, которые проявляются у пациента. И даже выяснив это, что мог бы сделать врач, понимая, с каким заболеванием он имеет дело, не зная при этом способа лечения? Для больного бесполезны достижения диагностики, если не разработаны средства исцеления. Бесплодная фантазия примитивного в научном отношении века. Только развитие медицины до современного уровня, с постепенной эволюцией понимания морфологической и биохимической основы механизмов заболевания, а также последующие шаги в совершенствовании технологии лечения могли бы способствовать внедрению книдских практик. Такого уровня прогресса медицина не добьется до периода позднего Возрождения; книдские врачи появились на арене задолго до того, как настало их время.
Если учитывать ограниченные возможности науки в Греции, то положение приверженцев Косской школы было намного лучше. Единомышленники Гиппократа рассматривали болезнь как событие, которое происходит в контексте всей жизни пациента, и ориентировали свое лечение на восстановление естественных условий, реабилитацию больного и воссоздание его целесообразного отношения к своему окружению. Безусловно, их система была небезупречна, и главной ошибкой было соединение разнородных клинических состояний в одну смешанную группу, что приводило к такому положению вещей, когда болезнь классифицировалась на базе ее основного симптома, такого как лихорадка, например. Однако, сосредоточивая лечение не на фактическом диагнозе, а на состоянии пациента и обстоятельствах его жизни, при этом включая его в специфическую терапевтическую команду, они добивались успехов, не достижимых для их соперников. В подобной практике можно разглядеть зачатки холистической медицины, как ее сейчас называют, или, по крайней мере, целостной медицины, не имеющей ничего общего с теми сумасшедшими идеями, коих в последнее время развелось великое множество.
(В предыдущем абзаце я впервые использовал слово «клинический», которое в дальнейшем встретится много раз. Несмотря на то, что врачами определение «клинический» воспринимается как нечто само собой разумеющееся, этот термин часто вводит других людей в заблуждение. Он происходит, в соответствии с его нынешним контекстом, от греческого слова kline, которое означает кушетку или кровать. Вот почему оно стало использоваться в отношении лежащего пациента. Фактически одним из его филологических потомков является глагол «возлежать» (recline). Таким образом, слово «клинический» применяется к описанию больных людей и их заболеваний, в отличие от терминологии, к которой прибегают в лекциях, лабораториях и чистой науке. Иными словами, оно употребляется в области практической медицины. Целитель – это клиницист; он является экспертом в клинической медицине; место его работы – клиника, будь то небольшой сектор амбулаторного лечения в конце больничного коридора или сложная корпоративная структура с таким известным именем, как Mayo или Lahey. Хотя людей, посещающих такие места, называют пациентами (от латинского patior, «страдать»), их также можно называть клиентами, другим словом, которое произошло от kline.)
Отсюда можно сделать вывод, что именно целостный клинический подход Гиппократа осветил греческой медицине путь из болота теургии и мистики. К сожалению, такое положение вещей продлилось всего пятьсот лет. После падения Римской империи систему Гиппократа трактовали неверно, исказив ее суть, и, измененная до неузнаваемости, она не уступала сцену другим теориям еще не одну тысячу лет. Концепции Гиппократа, указавшей в начале своего существования направление прогрессивной мысли, в конечном счете, суждено было стать препятствием на пути пытливого духа, породившего ее.
Даже после эпохи Возрождения архаично мыслящие последователи извращенной, фрагментарно сохранившейся системы Гиппократа продолжали сопротивляться постепенно усиливающемуся авторитету патологоанатомов и химиков, неуклонно накапливающих знания сначала об органах, потом о тканях и, наконец, о структуре самой клетки. Следующее столкновение между школами Коса и Книда произошло не позже двух столетий назад, когда научный мир был готов принять сторону концепции лечения патологий отдельных органов. Вследствие этого микроскоп заменил внимательный глаз клинициста, а молекула заменила пациента. Редукционисты взяли верх, и с их победой получили развитие принципы современной медицинской науки.
Гиппократов корпус, неправильно истолкованный (и на какое-то время утраченный), несмотря ни на что оставался основой лечебной практики врачей Коса в течение долгих столетий между Римом и редукционизмом. По мнению большинства авторитетных специалистов, остатки библиотеки хранились в учебном медицинском центре на этом острове. Существование таких материалов не вызывает сомнений, хотя корпус – единственная из уцелевших реликвий. Можно с уверенностью предположить, что они содержали много разнообразных текстов, от работ ведущих асклепиадов до приобретенных случайно книг, включая клинические записи, лекции, справочники и пособия, а также очерки, касающиеся медицины или сопряженных с ней философских вопросов. Другими словами, книги и документы всех медицинских библиотек связаны между собой единственным критерием, суть которого в том, что все они содержат материалы, используемые для изучения болезней. Это касается и корпуса Гиппократа. Он представляет собой собрание приблизительно семидесяти разнообразных сочинений, написанных на ионийском диалекте, в непохожих друг на друга стилях, и порой обосновывающих совершенно противоположные точки зрения. Весьма вероятно, что корпус целиком попал в одну из древних библиотек, появившихся позднее, возможно, в крупнейшую античную библиотеку в Александрии, и хранился там как выдающаяся работа гениального ученого, чья имя тогда уже было известно.
С общего согласия лучших знатоков этого собрания, некоторые из текстов корпуса выделяются среди остальных ясностью суждений, высоконравственной позицией создателя и научной объективностью подхода. Поскольку эти качества формируют определенное стилистическое сходство, эту группу трактатов когда-то считали – даже те, кто был убежден, что корпус в целом объединяет работы многих ученых, – коллекцией сочинений одного автора и называли ее подлинными произведениями Гиппократа. Хотя подлинность этого собрания маловероятна, нелишне определить их индивидуальные особенности, потому что это позволит дифференцировать отдельные части корпуса, представляющие собой величайший вклад греческой научной мысли в медицину. Благодаря, главным образом, этим конкретным работам, Гиппократ увековечил свое имя в истории и заслужил титул отца медицины.
Часто последователи выдающихся лидеров, религиозных или политических, выбирают в качестве своего философского кредо наиболее лаконичные и содержательные утверждения своих патриархов. Врачи с острова Кос вдохновлялись афоризмами Гиппократа. Одно изречение из коллекции литературы из области древней медицины, а возможно, и всей медицинской науки, или, как говорили греки – искусства врачевания, цитируется чаще других:
Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно.
Можно ли описать лучше препятствия, с которыми сталкиваются те, кто посвящает себя целительству? Любой, кто когда-либо пытался стать врачом, знает, что для достижения мастерства в этой профессии требуется слишком много времени и труда. Но все ли врачи сознают, как мало появляется возможностей для изучения людей и их болезней – достаточно тщательного, чтобы внести по-настоящему весомый вклад в копилку человеческих знаний в этой области? Мы часто говорим о ценности опыта, но всем нам приходилось быть свидетелями тому, как могут вводить в заблуждение чьи-то истории из жизни, даже если рассматривать их со всей клинической объективностью, которой может обладать зрелый врач. Примечательно, что проводимые многими врачами подсчет и оценка различных клинических случаев, которые мы награждаем такими пафосными названиями, как биометрия и статистика, также являются иллюзорными. Если бы дело обстояло иначе, то полученные количественные данные всегда совпадали бы, но в реальности этого часто не происходит. Полагаемся ли мы на память, данные или интерпретацию, очевидно, что опыт слишком часто не ведет нас к истине.
И, наконец, о суждении. Мы стараемся научить наших учеников формированию собственной точки зрения, но возникает вопрос, понимаем ли мы сами суть этого процесса. Имея тридцатилетний опыт работы в медицине, я даже не знаю, как определить значение этого слова, и, более того, я не готов признать, что оно возникает в моей голове у постели больного. Я стараюсь делать то, что представляется мне правильным, но иногда курс, который кажется полезным для конкретного пациента сегодня, совершенно не совпадает с тем, что вчера я счел необходимым провести кому-то с точно такой же проблемой. Если даже статистика дает неоднозначные ответы, насколько более неточным должно быть суждение? Будь оно абсолютно непогрешимым, врачи и тогда не пришли бы к единому мнению. Как и сведения статистики, суждение одного специалиста часто противоречит мнению другого; и как в статистике нет согласования между данными, так и в медицине нет гарантии, что тот или другой курс приведет к успешному результату. Таким образом, в первом афоризме Гиппократа выкристаллизована основная проблема: суждению трудно научиться, его сложно применять и даже распознается оно с трудом; в медицине мало в чем можно быть уверенным – древние совершенно справедливо называли ее искусством.
Для практикующего систему Гиппократа врача фундаментальным принципом его искусства была теория о том, что природа всегда стремится поддерживать устойчивое состояние, постоянно корректируя и приспосабливая различные системы организма для сохранения баланса между ними. Пока существует этот баланс, мы здоровы. Под воздействием любого из многообразных факторов равновесие может быть нарушено, в результате чего одна из систем начинает доминировать. Когда это происходит, развивается болезнь. Вид заболевания зависит, прежде всего, от того, какая из составляющих преобладает. Задача врача заключается в том, чтобы помочь природе восстановить баланс. Поскольку каждое заболевание имеет свои определенные признаки, врач должен быть подкован в знаниях достаточно, чтобы предсказать последовательность развития событий и понимать, есть ли необходимость применять лечение, которое поможет природе сделать ее работу, и если есть, то когда именно.
Концепция баланса сил природы была впервые предложена не Гиппократом. Задолго до его появления некоторые целители считали, что болезни вызывают дисбаланс между четырьмя жидкостями – кровью, желтой желчью, черной желчью и слизью. Согласно их теории, эти основные жидкости постоянно обновляются благодаря поступающей в организм пище. Предполагалось, что кровь образуется в сердце, желтая желчь – в печени, черная желчь – в селезенке, а слизь – в головном мозге.
Эта теория была в значительной мере привлекательной для греческих медиков, так как удовлетворяла требованию объективности в их системе, в том смысле, что эти жидкости можно было увидеть при некоторых обстоятельствах и никаких сомнений в их существовании возникнуть не могло. Они были вполне реальными веществами. Только черную желчь обнаружить было нелегко, но считалось, что она присутствует в черном стуле при желудочно-кишечном кровотечении или в похожей на кофейную гущу рвоте, которая часто наблюдается в разнообразных клинических условиях.
Греки думали, что гуморы (жидкости) перемещаются и смешиваются в организме благодаря движущей силе «врожденного тепла», что является формой энергии, генерируемой сердцем, которая, в свою очередь, вырабатывается из съеденной пищи и имеет тенденцию поддерживать баланс «соков». Таким образом, «врожденное тепло» представляет собой основной компонент человеческого тела. Оно считалось частью целительной силы природы, действующей для поддержания и восстановления равновесия в случае его нарушения.
Гуморы имели непосредственное отношение к четырем «элементам» – огню, воздуху, земле и воде, а, следовательно, соответствовали четырем «качествам» – теплому, сухому, холодному и влажному. Таким образом, кровь представляла собой теплую и влажную характеристики, желтая желчь – теплую и сухую, черная желчь – холодную и сухую, а слизь – холодную и влажную. Из-за воздействия этих свойств на организм состояние равновесия зависит от времени года. Нетрудно было заметить, что количество слизи, холодного и влажного гумора, увеличивается зимой. Поскольку весна в Греции влажная и теплая, считалось, что это должно приводить к увеличению количества крови. Желтая желчь преобладает сухим теплым летом, а во время холодной и сухой осени доминирует черная желчь. В описаниях болезней Гиппократа часто встречаются рвота желчью, дизентерия, носовые кровотечения, катар, желтуха и разного типа лихорадки, при этом каждый из симптомов можно соотнести с одним или несколькими гуморами и сезоном, в котором он доминировал. Особенно заметно эта зависимость выражена у тех инфекционных заболеваний, которые наиболее широко распространяются в определенные периоды года. Таким образом, здоровье человека связано не только с гуморами внутри его организма, но и со всей огромной вселенной, частью которой он является.
Есть и другие аспекты этой теории. Естественные сезонные изменения в гуморах отслеживались плохо, если наблюдались некоторые аномальные отклонения в характеристике каких-то сезонов в разные годы. Более того, жители определенных районов имели предрасположенность к конкретным заболеваниям в зависимости от преобладающих в тех местах ветров, источников воды, высоты солнца над горизонтом и даже такие нюансов, как направление, в котором был сориентирован населенный пункт, в котором они жили. Нетрудно понять, что заметные быстрые колебания температуры и влажности считались особенно опасными для здоровья из-за резких изменений в гуморальном балансе, к которым они приводили. Очевидно, что употребление разнообразных пищевых продуктов в разных объемах также имеет значительное влияние на количество любого конкретного гумора.
Существовало много других факторов, которые врачи, практикующие систему Гиппократа, должны были принимать во внимание, чтобы выяснить причину любой болезни и помочь природе в восстановлении баланса. Не последним из них было изначальное состояние пациента, поскольку основные показатели гуморальной среды оказывают влияние на личность и характер. Наши старания в описании разных видов человеческого темперамента, таких как сангвиник, меланхолик, холерик и флегматик, обогатили наш язык и литературу.
Для определения природы гуморального дисбаланса, лежащего в основе конкретной болезни, необходимо было рассматривать не только очевидные симптомы, но и искать объективные доказательства произведенного на гуморы влияния. С этой целью была разработана очень сложная модель физикального осмотра пациента, во время которого врач, умело используя свои пять чувств, определял проявления основного нарушения. Весьма увлекательно читать некоторые из историй болезни, написанных Гиппократом, с подробным описанием изменения температуры, цвета и выражения лица, характеристик дыхания, положения тела, состояния кожи, волос, ногтей, очертаний брюшной полости и других бесчисленных подробностей, которые лучшие в мире диагносты по-прежнему фиксируют в ходе консультации. Предвосхищая лабораторные исследования, которые придут на помощь врачам только две с половиной тысячи лет спустя, последователи Гиппократа пробовали на вкус кровь и мочу, а также без сомнения делали то же самое с секретами кожи, ушной серой, носовой слизью, слезами, мокротой и гноем. Они нюхали стул и делали соответствующие отметки о степени липкости пота. Ни один выделяемый телом пациента секрет не ускользал от их тщательного зоркого взгляда.
Следует подчеркнуть эмпирический характер процесса диагностики, который, как и вся гуморальная теория, опирался в основном на наблюдаемые проявления. Для медицины того времени это был революционный подход. Раньше заболевания диагностировались без учета каких бы то ни было, пусть даже широко распространенных и ярко выраженных симптомов. Полагая, что исцеление полностью зависит от вмешательства сверхъестественных сил, доктора даже не пытались выявить первоначальную причину недуга. Метод Гиппократа отличался поразительной последовательностью, поэтому, когда его ученики познакомились с новой системой и приняли ее, дальнейшее развитие медицины последовало по пути, обоснованному его базовой концепцией. Очевидно, что сама теория была сформулирована на основании ошибочной интерпретации наблюдаемых изначально событий, но в рамках определенных исходных условий она оставалась вполне рациональной и привлекательной в силу своей логичности. Помимо этого, она стимулировала визуальное обследование пациента и тем самым прокладывала дорогу научному подходу в медицине. Гиппократ стал основоположником комплексного экспериментального метода, отличительной чертой которого было тщательное фиксирование данных и выводы, производившиеся только на основе идентифицируемых проявлений. Преподавалась система Гиппократа так же, как однажды будет преподаваться научная медицина, с составлением истории болезни, с обучением практическим навыкам, с клиническими лекциями и наглядными пособиями.
Краеугольным камнем его философии было то же рациональное понимание, с которым современные врачи подходят к проблемам больных людей. При таком взгляде болезнь следует рассматривать как борьбу между природой и тем, что можно назвать причиной патологии. Роль врача заключается в том, чтобы наблюдать за этим сражением достаточно внимательно, чтобы определить благоприятный момент для вмешательства, которое в большинстве случаев должно быть минимальным, если вообще требуется. При этом необходимо помнить, что диапазон разнообразных болезней очень велик: от простуды до рака.
Последователи Гиппократа понимали, что сила, которую он называл природой, по своей сути является созидательной, конструктивной и целебной; человеческое тело само стремится вылечить себя. Только при стечении необычных обстоятельств патологические процессы могут подавить естественную склонность организма к восстановлению сбалансированного состояния здоровья. Руководящим принципом современного врача и его профессиональной деятельности остается тот же, которому доверяли греческие мудрецы. Встречающийся в различных сочинениях корпуса, наиболее четко он сформулирован в книге «Эпидемии» (I, II): «Помоги или, по крайней мере, не навреди». По причинам, которые станут очевидными в следующих главах, это фундаментальное напутствие дошло до нас в латинском переводе: Primum non nocere – прежде всего, не навреди.
Один из мыслителей нашего времени высказал ту же мысль о целительной силе природы в словах, пусть не таких громких, но не менее глубоких, несмотря на их простоту. Около пятнадцати лет назад в августовских окрестностях Йельской корпорации величайший из исследователей биологии Льюис Томас в нескольких предложениях выразил весь опыт своей и, без сомнения, моей работы в клинике. Я не помню точно его слова, но могу с легкостью воспроизвести их сейчас, так как манера его изложения отличается чудесным лиризмом и афористической точностью. Вероятно, его фраза прозвучала так же, как она написана в его эссе Your Very Good Health:
Великий секрет, известный терапевтам и их женам [а в наши дни и их мужьям тоже], но до сих пор скрытый от широкой общественности, заключается в том, что большинство вещей становятся лучше сами по себе. На самом деле, утром все кажется лучше.
Каким образом природа достигает исцеления, и чем врач может помочь ей? Заболевание приводит к тому, что один из четырех гуморов начинает доминировать над другими, и пациент не может выздороветь, пока избыточная жидкость не удалена из его организма. Чтобы справиться с этой задачей, тело использует свое «врожденное тепло», стараясь преобразовать вредный избыток гумора в такую форму, которая может быть безболезненно выведена. Этот процесс был назван пепсисом, или перевариванием, и его результатом считали образование таких широко известных выделений, как мокрота, гной, диарея, кишечные кровотечения и носовая слизь. Если переваривание проходило успешно и болезненный материал был надлежащим образом выведен, пациент выздоравливал; если нет, он умирал. Выделение конечного продукта могло быть быстрым и обильным. В подобном случае говорили о наступлении кризиса. Если все происходило постепенно, процесс называли лизисом. По сути, это война между болезнью и внутренними защитными силами пациента. Греческий врач не обладал обширными фармацевтическими или физическими ресурсами, чтобы помочь природе сделать ее работу. Изучая различные выделения тела, он искал свидетельства переваривания и внимательно наблюдал за признаками лизиса, кризиса или приближающейся смерти. Согласно самой главной доктрине медицинской концепции Гиппократа, основной задачей врача было достичь мастерства в искусстве прогнозирования дальнейшего течения заболевания. Учитывая условия, в которых целителям приходилось работать в те времена, такой навык был весьма полезен. В обществе, где не предусматривалось ни лицензирования, ни другого определенного способа доказать свою квалификацию, опытному врачу был нужен какой-нибудь способ выделиться среди других претендующих на звание целителя. В те дни большинство врачей проводили свою жизнь в разъездах, путешествуя с места на место и предлагая свои услуги так же, как странствующие мастеровые. Если в каком-то поселении дела шли хорошо, доктор мог задержаться там до тех пор, пока потребность в его заботах не шла на убыль. В такой ситуации необходимо было быстро завоевывать репутацию, чтобы пациенты знали, что будут иметь дело с хорошо обученным мастером искусства исцеления. А какой способ для этой цели может быть лучше, чем составление точного прогноза?
В школе Гиппократа самым важным предметом считалось изучение течения и проявлений заболевания. Уровень развития науки позволял Гиппократу достигнуть экспертного знания эволюции клинических синдромов. Он понимал, что некоторые симптомы часто объединяются в конкретные группы и определенные стадии болезни предсказуемо наступают вслед за вызывающими их состояниями. Несомненно, что Гиппократ обладал достаточными знаниями для составления прогноза и был полон энтузиазма в оказании помощи больным людям. Сегодня хорошо известно, что врач, уверенный в своем мастерстве, оказывает этим услугу не только самому себе, но и пациенту. Нет никакого божественного откровения в том, что доверие пациента к врачу является одним из кардинальных факторов в искусстве исцеления. Говоря словами нашего древнего автора:
Некоторые пациенты, зачастую осознавая всю опасность своего состояния, легко выздоравливают просто в силу уверенности в компетенции своего врача.
Справедливость этого афоризма Гиппократа хорошо иллюстрирует история болезни, приведенная ниже. В истории, которую вы сейчас прочтете, нет ничего уникального – любой опытный врач мог бы вспомнить немало подобных случаев.
Двадцать пять лет назад я был одним из нескольких врачей тогдашнего капеллана Йеля, харизматичного (это слово часто использовалось в те стремительные дни Камелота Кеннеди) Уильяма Слоуна Коффина. После особенно жесткой кампании по защите гражданских прав Билл Коффин, измученный от пребывания в ужасной тюрьме Миссисипи, вернулся в Нью-Хейвен с лихорадкой и кашлем. Капеллан вызывал восхищение удивительной природной физической и моральной стойкостью, но состояние ухудшалось несколько дней подряд, что заставило его уступить и позволить перевезти себя в Йельскую больницу Нью-Хейвен.
Там обнаружили, что его состояние обусловлено тяжелой формой стафилококковой пневмонии со скоплением большого количества гноя в груди. В течение нескольких дней исход оставался неопределенным, так как его температура держалась около сорока и его болезнь упорно сопротивлялась как усилиям специалистов по инфекционным заболеваниям с их антибиотиками, так и моим гнойным иглам и трубкам для удаления гноя. Наконец стало очевидно, что только серьезная и рискованная операция спасет его жизнь. Приняв это трудное решение и обсудив его с пациентом, я назначил операцию на следующее утро, в среду. Во вторник вечером изматывающая силы больного лихорадка внезапно прекратилась, как будто закончилось некое чудодейственное переваривание, и в предпоследний момент перед опасным хирургическим вмешательством наступил кризис. Операция была отменена, и в ходе последующих дней капеллан продолжал быстро восстанавливаться. Никто из нас никогда не сможет сказать, какое средство встряхнуло иммунную систему нашего критически больного пациента. А возможно, мы просто ошиблись в оценке его состояния.
Пять лет спустя я оказался на студенческой свадьбе на одном из факультетов Йеля, где честно служил преподобный мистер Коффин. Несмотря на то что город невелик, наши пути не пересекались после его выздоровления. На приеме я отошел с ним в угол зала и поинтересовался, что, по его мнению, произошло в тот драматический вечер и чем можно объяснить его внезапное и, по-моему, почти противоестественное исцеление. Ожидая услышать какую-то глубоко личную историю о религиозном озарении, я был совершенно не готов к его ответу. «Я поправился, – сказал он с абсолютной уверенностью, – для Биззозеро». Может я ослышался? Он сказал «Вельзевул»? Возможно ли, что главный священник Йеля, действительно считал, что в лихорадочном порыве он заключил контракт с дьяволом, чтобы не проводить несколько опасных часов со мной в операционной? Как последователь школы Гиппократа, я не очень-то верю в мистическое провидение, и, насколько мне известно, здоровый Уильям Коффин был абсолютно рациональным человеком, поэтому я решил, что ошибся. Приложив ладонь ракушкой к уху для захвата звуковых волн, рассеивающихся в шумной комнате, я почти крикнул, не обращая внимания на грамматику: «Для кого?» На этот раз я совершенно отчетливо услышал имя Биззозеро.
Кто был этот вдохновитель, этот махатма Биззозеро, сумевший настолько активизировать природные силы капеллана, что они позволили ему изгнать смертельный гумор из охваченного лихорадкой тела? В те времена вошли в моду разнообразные гуру, и в моем сознании пронеслась мысль, что, вероятно, то, что я услышал, была нестандартная личная манера Коффина произносить какой-то индуистский титул. Затем я вспомнил. Биззозеро – никакой не гуру, а интерн, хорошо подготовленный, талантливый и чрезвычайно сострадательный молодой человек, который проводил бесчисленные часы у постели своего пациента, корректируя и титруя терапевтическую модальность, меняя другие по мере необходимости, короче говоря, делая все, на что способен преданный врач, чтобы вывести своего пациента из долины теней. Большинство вечеров, когда лихорадка немного утихала, они вели долгие разговоры: эмбрион врача и его смертельно больной подопечный. Со временем эти беседы и тщательная забота доктора Биззозеро (и его внимание) начали заполнять грудь Билла Коффина лекарством, необходимым ему больше всего, – светом осознания того, что, по крайней мере, один из его медицинских консультантов искренне стремится восстановить здоровье человека, и не просто излечить интересное заболевание, которое случайно поселилось в чьем-то теле. По отношению к врачу, который вложил в процесс исцеления так много души, было бы просто несправедливо умереть. Джо Биззозеро совершил чудо там, где остальные потерпели поражение. Он смог это сделать, потому что знал лучше, чем его учителя, что значит быть целителем. Поэтому его абсолютно здоровый пациент тогда сказал мне в тот праздничный вечер: «Я сделал это для Биззозеро, я не мог его подвести».
Брак, благодаря которому я случайно снова встретился с Биллом Коффином, продлился всего несколько лет. Истина, которую я узнал на том приеме, останется со мной навсегда. Врачи, практиковавшие систему Гиппократа, понимали вещи, которые мы только теперь, тысячелетие спустя, начали изучать и структурировать. После ста лет анализа отдельных причин, объясняющих отдельные болезни, даже лабораторные исследования начинают подтверждать новые интерпретации ранее неизвестных факторов. Мы стремимся доказать, что одного пневмококка недостаточно, чтобы вызвать пневмонию, а для рака легких нужно что-то еще, кроме сигарет. Когда мы научимся формулировать правильные вопросы, ответы на них будут найдены в природе патологии, поскольку для того, чтобы болезнь началась, требуется наличие не одного, а многих условий. Большинство глав этой книги посвящены истории медицинских исследований, направленных на совершенствование диагностики и лечения, а также на борьбу с причинами распространения невежества в медицине. Глава, которая еще не написана, расскажет о следующем шаге. В ней будет сформулирована концепция, которую медики-философы называют новой парадигмой. В соответствии с ней болезнь представляется комбинацией нарушенных функций, и весьма вероятно, что некоторые из них будут обнаружены в человеческом разуме.
Таким образом, сейчас, в начале двадцать первого века, мы, похоже, готовимся к следующей фазе давней борьбы между книдискими и косскими врачами, фазе сближения, в которой две системы могут оказаться вполне совместимыми. В обеспечении сохранения здоровья и излечения болезней веками противоборствующие концепции дополняют друг друга. Чем выше уровень развития медицины, тем меньше вопросов для споров. Пациент в целом и каждая его клетка только выиграют от этого.
Врачи, которых осуждали за то, что они не уделяют эмоциональным потребностям своих пациентов достаточного внимания, могут найти себе оправдание в том, что такое обвинение предъявляли их коллегам-медикам со времен Гиппократа. Возможно, профессиональная беспристрастность особенно характерна для технологической эры, в которой мы сегодня живем, но невозмутимость врачей обсуждалась в окрестностях острова Кос так же часто, как в кондоминиумах Нью-Йорка. Именно за акцент на прогнозировании критиковали греческих врачей. Оглядываясь на прошлое, некоторые наши современники – как правило, не медики, а историки – считают Гиппократа немногим более, чем наблюдателем и секретарем, фиксирующим течение природных процессов. Критики подобной точки зрения утверждают, что он был больше заинтересован в дальнейшем развитии болезни, а не в выздоровлении пациента. Иначе говоря, подразумевается бессердечное отношение врача к страданиям больного. Не существует никаких подтверждений таким обвинениям. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно прочитать главные трактаты корпуса и хотя бы поверхностно познакомиться со знаменитой клятвой Гиппократа.
Тем не менее многим своим пациентам врач школы Гиппократа мало что мог предложить, за исключением поиска обнадеживающих признаков или подтверждения печальной реальности, что больному следует примириться с богами на небе и близкими на земле. Целитель мог делать достаточно точные прогнозы, распознавая факторы, известные ему в силу глубокого изучения течения заболевания. Чем больше он наблюдал и записывал, тем лучше понимал суть происходящего и, следовательно, был способен помочь в тех ситуациях, где его вмешательство было необходимо. Врач может оказывать содействие во многих формах, начиная от плацебо психологической поддержки и заканчивая фактическим вмешательством физическими методами, некоторые из которых применяли целители Древней Греции.
Некоторые из этих средств Гиппократа легли в основу медицинского инструментария и незаменимы даже почти две с половиной тысячи лет спустя. Среди них слабительные, рвотные, ванны, припарки, кровопускание, вино, болеутоляющие и спокойная атмосфера. Очевидно, цель большей части этого списка доступных методов лечения состояла в том, чтобы помочь природе избавить организм от избытка преобладающего гумора. За исключением некоторых растительных и нескольких других препаратов, авторы корпуса могли бы легко описать медицинский арсенал лекаря начала девятнадцатого века в Париже или в Филадельфии, что свидетельствует о величайшем и неоценимом вкладе врачей Греции в развитие медицины, а также о сдерживающем прогресс влиянии, которое ошибочная интерпретация их наследия преемниками оказывала на продвижение истинной науки до относительно недавнего времени.
Самым трудным тестом для философии Гиппократа, считавшего важнейшим принципом медицины объективность данных, стала область хирургии. Теории хороши до тех пор, пока болезни поражают скрытые от глаз внутренние органы и воздействуют на организм посредством бесшумно циркулирующих жидкостей. Когда проблема появилась на поверхности тела, где каждый может ее увидеть, пациент нуждается в лечении, за которым можно наблюдать и которое, безусловно, должно быть успешным. Если хирургическое вмешательство не привело к желаемому результату, то неудача врача и его методов быстро обнаруживается. Особенно очевидной эта ситуация была в древние времена, когда все операции проводились на поверхности тела. Так что в отношении хирургии врачи-«гиппократики» покинули спокойные луга философии и вступили на суровую арену прямой конфронтации с болезнью.
Часто победа была за целителями. Помимо всего прочего, греки были очень практичны и высоко ценили знания, извлеченные из собственного опыта, поэтому они не поддавались самообману, игнорируя неудачные операции. Они разработали весьма эффективную техническую экспертизу, которая подверглась значительно меньшим искажениям последующими поколениями, чем их строго терапевтические методы. У современного читателя не возникает никаких сложностей в понимании хирургических техник Гиппократа. Рекомендации, ясные и целесообразные, были сделаны, несомненно, обладающим высокой квалификацией и мудростью практикующим врачом.
Предполагается, что греки умели лечить много разнообразных травм. Они имели представление о правилах фиксации и шинирования переломов, а также понимали необходимость отпиливания концов выступающих костей при сложных переломах. Они умели выводить кровь и гной из груди, эффективно удалять жидкость из брюшной полости, вентилировать печеночные и почечные абсцессы, весьма результативно лечить заболевания прямой кишки, такие как геморрой и фистула, при этом методы древнегреческих целителей по сей день лежат в основе успешного лечения этих двух недугов, приносящих страдания, которые могут полностью оценить только те несчастные, кого они поразили. Кто знает, может быть, именно успешное лечение больного ануса Сорануса с использованием приемов «гиппократиков» побудило его в благодарность написать ту льстивую биографию отца медицины. Особенно успешными древнегреческие врачи были в лечении ран головы. Они придерживались разумных правил в определении, какие травмы требуют трепанации, а какие перфорации черепа. Они хорошо понимали, к каким последствиям приведет давление на мозг, если не выполнить своевременные манипуляции. В отличие от египтян, своих предшественников, они предпочитали серьезный подход. И, повторюсь снова, они умело прогнозировали исход.
Во всех трудах по хирургии повторяется настоятельная рекомендация добиваться максимального мастерства во владении руками. Современный хирург, убежденный, что тонкие оперативные техники – это феномен двадцатого века, должен также помнить о том значении, которое его предки «гиппократики» придавали квалификации и мастерскому использованию обеих рук. Они признавали, как и каждый современный интерн, что подобный навык не дается Богом; он приобретается только благодаря прилежной практике и бесконечному стремлению к недостижимому, в конечном счете, совершенству. Директор факультета хирургии в одной из больниц нашего огромного университета едва ли смог бы дать совет лучше, чем тот, что был предложен Гиппократом два с половиной тысячелетия назад:
Практикуйтесь во всех операциях, выполняя их каждой рукой отдельно и обеими сразу, чтобы владеть ими с одинаковым мастерством, пока не достигнете этой способности, а также изящества, быстроты, безболезненности, элегантности и точности.
Даже в клинических записях можно найти определенные свидетельства, позволяющие более глубоко понять философию Гиппократа и обнаружить рассеянные по трактатам, тесно связанные друг с другом нравственные принципы древнегреческого целителя. Именно они послужили основой этики западной медицины, современная версия которой по большей части представляет собой соединение иудео-христианских заповедей, доктрин философов-моралистов и наследия школы Гиппократа. Все они смешались до такой степени, что сегодня трудно выделить первоначальные источники отдельных принципов. Поэтому, естественно, возникает вопрос о значительности вклада древнегреческих мудрецов в общую концепцию. Вместе с двумя упомянутыми выше течениями в общей системе этики присутствуют другие весомые факторы: влияние монотеизма, приверженцы которого стремятся к отождествлению себя со вседобродетельным и любящим Господом, а также взгляды философов, утверждающих среди прочего, что все мы являемся частицами единого целого; и каждый из факторов предписывает обязательное проявление заботы и милосердия. По-видимому, существует множество примеров того, как религиозные и философские принципы внедряются в сознание целителей. Но, при всем уважении к тем, кто верит во врожденную добродетель человека, греческая этика медицины по-прежнему остается не вполне понятной. Почему именно врачи «гиппократики» практиковали свое искусство так, что не только не заслуживали ни малейшего упрека за свой моральный уровень, но и являлись эталоном нравственности почти для сотни последующих поколений? Что стимулировало их нравственность и побуждало заботиться о каждом больном как об отдельной личности? Почему в то время, когда многие целители, не принимавшие систему Гиппократа, были корыстными шарлатанами, последователи отца медицины с острова Кос проповедовали доктрину, в соответствии с которой долг врача перед пациентом должен был преобладать над всеми другими соображениями? Почему при отсутствии внешних органов управления в языческих общинах, где «гиппократики» также практиковали, они действовали в такой манере, которая ассоциируется у нас с самыми высокими образцами наших религиозных и философских убеждений? Невольно задаешься вопросом: а что они получали взамен?
Дело в том, что в те времена не существовало никаких социальных или юридических ограничений для врачей, методы сертификации также отсутствовали. Сами греки не понимали, как могла возникнуть такая ситуация, в которой власти не имели возможности каким-либо образом наказывать врачей или накладывать на них штраф. Корпус описывает это состояние дел в коротком трактате под названием «Закон», цитата из которого представлена здесь из Лебовской серии[3] в переводе Джонса:
Медицина – самое выдающееся из всех искусств, но из-за невежества тех, кто практикует его, и тех, кто поверхностно судит о таких практиках, оно является сегодня наименее почитаемым. Главные причины этой ошибки, как мне кажется, в следующем: медицина – единственное искусство, которое наше государство не подвергает никакому наказанию, за исключением бесчестия, а бесчестие не ранит тех, кто заключает с ним договор. Такие люди на самом деле очень похожи на статистов в театре. Подобно тому, как они имеют внешний вид, платье и маску актера, не являясь таковыми, так и врачи: имея репутацию доктора, очень немногие из них владеют своей профессией на самом деле.
Классик Людвиг Эдельштейн выдвинул предположение, что решающим фактором в развитии греческой медицинской этики был один из самых практичных: система нравственности, основанная врачами школы Гиппократа, отличала их от вышеупомянутых шарлатанов, с которыми они конкурировали. Таким образом, их этический кодекс выполнял ту же функцию, что и предписание овладевать мастерством прогнозирования. Для пациентов и их семей он служил доказательством того, что этот врач и его школа олицетворяют другой вид целителя, в отличие от самозванцев, которые рыскали по земле в поисках кошельков больных людей. С точки зрения Эдельштейна, их «этика была направлена на достижения во внешнем мире, а не внутренней потребностью».
Даже согласившись с мнением Эдельштейна в том, что их целью были репутация и совершенствование методов практики, мы все же не можем не отметить великолепный побочный продукт этого стремления: практикующие косские целители стали внимательно наблюдать и тщательно регистрировать течение заболеваний, старательно лечить и точно прогнозировать их исход, создали систему этики, ставшую отличительной чертой искусства исцеления с тех пор, как она впервые сформировалась благодаря их прагматическому источнику. Точку в этом вопросе удачно поставил немецкий историк Маркуарт Михлер:
Поскольку эта этика может в строго философском смысле быть далека от теоретической системы медицинских моральных принципов, ее можно сравнить с тем достоинством, которое позднее Аристотель приписывал нравственным поступкам благородного государственного деятеля. Такая традиция praxis kale в специфической медицинской практике увеличивает ее «полезность» и становится подобием клятвы, согласно которой врач должен делать все для пользы пациента; это делает ее ядром нравственной философии, которая впоследствии помогла сформировать гуманизм древнегреческого врача.
Это убедительные аргументы и, несомненно, обоснованные. Но тот факт, что греческая медицинская этика возникла на основе прагматичной необходимости, никоим образом не опровергает утверждения, что принципы морали были не менее важной мотивирующей силой. Нельзя читать тексты Гиппократа, имеющие отношение к терапии или предписываемым врачу действиям, и не почувствовать в его отношении к пациенту преданность, чувство долга и порядочность, которыми пронизаны все его трактаты. В его трудах сформулирована так называемая деонтологическая концепция: концепция, основанная на чувстве долга и обязательном выполнении действий просто потому, что они являются правильными. Существует универсальный моральный закон, и именно этот нравственный закон пронизывает философию «гиппократиков».
Таким образом, Гиппократ предстает перед нами как идеальный врач и идеалист. В любом веке его принципы рассматривались как высочайший образец интеллектуальной чистоты и этического поведения медика. В западном обществе он стал каноническим образом. Благодаря ему врачевание приравнивается, с одной стороны, к религии, а с другой – к акту проявления гуманизма; в его «Наставлениях» написано: «Где есть любовь к человеку, там есть и любовь к своему искусству».
Принципы этики Гиппократа нашли отражение в его клятве. Обычных людей, никогда не слышавших ее, и врачей, давно ее забывших, объединяет уверенность в том, что все болезни, с которыми имеет дело современная медицина, переварятся и постепенно растворятся, только если мы вернемся к тому, что они считают недвусмысленным кодом добродетели. Не беспокоясь о полном незнании содержания знаменитого документа, некоторые из медицинских критиков все же уверены, что его высокий титул означает, что в нем содержится некое всеобъемлющее утверждение этической безупречности. Как все, кто стремится к утраченному совершенству, они жаждут чего-то, чего никогда не существовало; нравственная чистота древнегреческих врачей, приносивших эту клятву, безвозвратно исчезла в прошлом, подобно Атлантиде.
Безусловно, мы смотрим на историю через ретроспектроскоп с розовыми линзами, тем не менее не следует думать, что нет смысла оглядываться назад и пытаться переоценить некоторые простые добродетели былых времен. Последовательная нравственная позиция – это цель, к которой стоит стремиться, несмотря на ее недостижимость в обычной жизни. Греки понимали это и старались, как и мы, делать то, чего от них ждали. Я предполагаю, что в своей повседневной практике они были успешными не более и не менее, чем мы. Клятва делится на две части, одну из которых можно назвать заветом, а другую – этическим кодексом. Как и все древние рукописи, клятва вызывает среди ученых постоянные споры о ее происхождении, интерпретации и главной идее каждой из частей. Вероятно, так будет продолжаться до тех пор, пока последний классик на Земле будет листать бесконечную книгу истории цивилизации. Некоторые рассматривают клятву как продукт аскетического морализма секты Пифагора, другие же считают, что эта группа не имела такого большого влияния, если имела его вообще. Элемент путаницы вносит также тот факт, что однозначный запрет клятвы на аборты и помощь в самоубийстве бросает вызов не только общепринятой медицинской деятельности наших дней, но особенно противоречит традициям, принятым в областях медицины, где практиковали некоторые из «гиппократиков». В ряде предложений из других разделов корпуса содержатся установки, не согласующиеся с практикой современной хирургии. Единственный способ справиться с несоответствиями такого рода в своей профессиональной деятельности – это избегать их, что я и стараюсь делать, прибегая к простой уловке, принимая текст как он есть. Поскольку ни у одного из авторитетов нет неопровержимых доказательств ни по одному из спорных вопросов, то проще поступать таким образом, чем пытаться представить свою точку зрения.
Первый раздел клятвы содержит основные правила профессионального сообщества. Для начинающего студента-медика в наши дни нет ничего более вдохновляющего, чем осознание того, что с самого первого дня занятий его ведущие профессора начинают смотреть на него как на коллегу, с которым они должны делиться огромной массой знаний – технологических и научных, философских и субъективных одновременно. Вступительный абзац клятвы – это заявление о добровольно принимаемом всеми членами профессии обязательстве делиться знаниями друг с другом и передавать его последующим поколениям врачей, чья квалификация позволяет принять их. Преподавание медицины всегда было и остается до сих пор основной обязанностью врача.
Вторая часть клятвы представляет собой фактически не более чем краткую форму этических доктрин, которые проходят красной нитью через весь корпус. Хотя коллекция Гиппократа содержит несколько трактатов, посвященных непосредственно поведению врача («Закон», «О приличиях», «Врач» и «Заповеди»), студенты должны принимать клятву Гиппократа как признание всего учения, изложенного во всех работах корпуса. Непонятно, в начале или в конце обучения проходила церемония принесения клятвы, важнее то, что приступать к лечению пациентов не разрешалось до тех пор, пока Аполлон ее не услышит.
Следует отметить, что, взывая к Аполлону и семье Асклепия, клятва тем не менее не является религиозным обетом; она скорее залог доверия, чем священная грамота. Хотя первое и последнее предложения имеют непосредственное отношение к мистическим верованиям или древнегреческим богам, к последним и в клятве, и в любой части корпуса обращаются не как к агентам этиологии или лечения болезни. Наука полностью отделена от религии.
Клятва Гиппократа
Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, соответственно моим силам и моему разумению, я буду исполнять эту присягу и этот завет: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство.
Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.
В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной.
Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена. Преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.
Запрещение клятвой прерывания беременности дает богатую пищу для научных размышлений. Хорошо известно, что аборты были обычным делом в Древней Греции, и на самом деле некоторые, в том числе Платон и Аристотель, рассматривали их как хорошую возможность решения проблемы в идеальном государстве. Учитывая это отношение, все еще остается непонятным, до какого срока беременности можно безопасно выполнить процедуру и при этом избежать убийства зародыша, который уже является человеком.
Тем, кто ожидает, что наука, философия или добрая воля конца двадцатого века разрешат эту вечную нравственную дилемму, следует пересмотреть историю Древней Греции. Аргументы будут все те же. Аристотель считал, что аборт должен проводиться до того, как начнется жизнь особи, но даже современные неонатологи не смогли решить эту неприятную проблему ни в отношении слова «особь», ни в отношении слова «жизнь». Платоники и стоики полагали, что началом является мгновение рождения, а пифагорейцы определяли его моментом зачатия. Приняв во внимание точку зрения пифагорейцев, все аборты следует запретить, что и выражено в доктрине клятвы. Из-за этого вердикта «гиппократики» оказались в меньшинстве. Почему в свете их чувства долга за общее благополучие тех, кто обратился к ним за помощью, врачи-«гиппократики» должны были отказываться прервать беременность?
Причина, по моему мнению, заключалась в общем принципе Primum non nocere, которым они руководствовались в своей практике. Они стремились не мешать естественному ходу развития событий, а скорее, сотрудничать с природой. Аборт в то время, когда еще не было антисептиков, несомненно, должен был приводить к неприемлемому количеству осложнений и значительной смертности. Метод Гиппократа не допускал риска нанесения ущерба здоровому человеку. Если женщина умерла в результате аборта, значит, она была убита, что не только аморально само по себе, но и фатально для репутации, которая так много значила для врача-«гиппократика». Аборт нес за собой угрозы, которые нарушали два основополагающих принципа отца медицины – принципы нравственности и прагматизма.
Трудно понять, почему «гиппократики» не помогали пациентам покончить с их жизнью. По этому поводу можно сказать следующее: в общем, отношение греческого общества к суициду было либеральным; самоубийство, обычно с помощью яда, считалось приемлемым решением в случае мучительной болезни и отчаянных страданий. Почему же тогда врач-«гиппократик» не мог оказать помощь больному? Весьма вероятно, что ответом вновь послужат те же два основополагающих соображения. С прагматической точки зрения самоубийство означало, что лечение не увенчалось успехом, а с точки зрения морали это было преднамеренное уничтожение человеческой жизни. Ни то, ни другое не мотивировало к действию, независимо от того, насколько болезненным и отчаянным было положение страдающего пациента.
Эти аргументы также убедительны в отношении операций по «вырезанию камней». Позднее комментаторы корпуса отмечали шокирующие описания отвратительных методов, которые применялись в те далекие времена для извлечения камней из мочевого пузыря через разорванные разрезы между ног визжащих страдальцев. Едва ли их муки уменьшали проглоченные зерна мака или мандрагора. Многие пациенты умирали: некоторые после операционного вмешательства, другие – в самый мучительный момент этой жестокой хирургической пытки. У остальных оставались свищи, через которые постоянно просачивалась инфицированная ужасно пахнущая моча. В этические нормы врача-«гиппократика» не укладывались подобные операции, и они предпочитали оставить вырезание камней «тем людям, которые практикуют такую работу», – странствующим мастеровым, специализирующимся на этой конкретной форме нанесения вынужденного медицинского увечья.
Ученики Гиппократа не стеснялись обратиться за помощью, когда это было необходимо, к таким хирургам-ремесленникам, вырезавшим камни, или к своим товарищам-медикам. Фактически природа профессионального братства отражена и в клятве, поощряющей взаимные консультации и коллегиальное обсуждение историй болезни, и в словах корпуса: «Если врач не уверен в отношении состояния пациента и его беспокоит необычное течение болезни, которого он никогда раньше не наблюдал, он ни коем случае не должен стыдиться пригласить других докторов для обследования пациента вместе с ним».
Вершины философии персональной моральной ответственности медика клятва достигает в параграфах, запрещающих врачам использовать свое привилегированное положение, в котором они оказываются в силу того, что от них зависит жизнь пациента. Сексуальная сдержанность и соблюдение конфиденциальности предписываются вступающим в ряды врачебного братства так же твердо, как обязанность лечить и обучать. Заключительное напутствие о надлежащем поведении можно найти в тексте «Врач»:
В отношении душевного состояния необходимо следить за следующим. Он должен не только понимать, когда нужно хранить молчание, но и поддерживать размеренный образ жизни, так как это полезно для укрепления репутации. Следует вести себя, как подобает человеку чести и в спокойной дружеской манере общаться со всеми достойными людьми. Торопливость и запальчивость нежелательны, даже когда они полезны для дела. Что касается терпения, лицо должно выражать сочувствие, а не раздражение, являющееся признаком высокомерия и мизантропии. С другой стороны, присутствие врача, который всегда весел и готов рассмеяться, становится обременительным, поэтому такого поведения следует избегать особенно.
Теоретики культуры психоанализа утверждают, что источники религиозных верований включают в себя практики тотемизма. Члены примитивного общества, согласно этому определению, выбирают самого решительного человека, который должен вывести их из трясины невежества, или рабства, или страха. Позже соплеменники приписывают этому лидеру качества бога-короля. Как только за ним закрепляется место на троне, некоторые (обычно молодые) члены общины делают все возможное, чтобы уничтожить его, чтобы унаследовать его силу и власть. После гибели вождя его возводят в ранг верховного божества культа. Создаются мифы о его жизни, ему приписывается создание священных манускриптов, и его образ окружается ореолом бессмертия. Ему поклоняются как воплощению достоинств племени. Традиционный тотем может быть окутан неправдоподобной легендой и полностью изменить образ, возможно, абсолютно случайного человека, послужившего поводом для его создания. Последователи Моисея и Иисуса, согласно утверждениям фрейдистов, так же как адепты языческих культов дикой природы прошли, эти стадии на ранних этапах эволюции их религий.
В некотором роде это напоминает то, что произошло с учением Гиппократа за сотни веков. Недостает одного важного ингредиента – убийства. Гиппократ – наш медицинский тотем. Как говорили основоположники других религий, с практической точки зрения абсолютно не важно, жил он на самом деле или нет; действительно ли он совершал поступки и писал сочинения, которые сегодня приписываются ему. Мы поклоняемся не человеку, а величию его наследия и силе влияния его мировоззрения на последующие поколения. Таким образом, суть культуры, направление нравственного развития которой сформулировано в Десяти заповедях, можно выразить словами отца медицины в одном предложении:
С чистотой и святостью я буду идти по жизни и практиковать свое Искусство.
2. Парадокс Галена из Пергама
Александр Поуп. Эссе о человеке
- Заключено в природе мастерство,
- Хоть неспособен ты постичь его.
- В разладе лад, не явленный земле;
- Всемирное добро в частичном зле,
- Так покорись, воздай творенью честь:
- Поистине все хорошо, что есть.
Когда Александр Поуп написал эти строки в 1734 году, он облек в стихотворную форму доктрину предопределения, которая дала направление развитию медицины на долгие полторы тысячи лет. Для скептического разума современного ученого вера в то, что всему предначертано служить какому-то большому благу, просто немыслима. Оглядываясь назад, невозможно понять, как эта идея, вопреки здравому смыслу, могла владеть умами так долго. Тем не менее в те дни, когда английский поэт сочинял свой шедевр, острая борьба, раз и навсегда разделившая медицину и доктрину генерального плана, которая была краеугольным камнем науки еще со времен Римской империи, только начиналась. То, что врачи Средневековья и эпохи Возрождения получали образование, лишь подтверждающее догму, столь враждебную научному прогрессу, было интеллектуальным наследием одного человека: греческого целителя второго века Галена из Пергама.
Богословская биология Галена, как и его жизнь, состояла из длинного ряда противоречий. Вся его карьера была одним бесконечным упражнением в непоследовательности: его вера в сверхъестественного Творца не согласовывалась с научным вкладом непредвзятого исследователя; его зачастую одиозные манеры были насмешкой над его самопровозглашенной философской безмятежностью; он был создателем экспериментального метода медицинского исследования и одновременно тормозящей силой, которая препятствовала дальнейшему развитию медицины в течение полутора тысяч лет после его смерти; ему мы обязаны признанием современной медициной необходимости знания анатомического строения для понимания болезни, и на его же неизменное влияние следует возложить ответственность за противодействие исследованиям анатомии вплоть до шестнадцатого века; он был самым красноречивым сторонником непосредственного наблюдения и планового эксперимента, и все же позволял философским и богословским домыслам влиять на интерпретацию того, что видел. Его влияние на медицину было наилучшим и, одновременно, наихудшим из всех возможных.
Изучавшие древние науки и философию заметят, что в этом описании Галена присутствуют некоторые признаки миропонимания, присущего классическому периоду. Как и Аристотель, с рационалистическими исследовательскими методами которого сравнивают противоречивый подход Галена, последний иногда проводил блестящие эксперименты, при этом делая из них абсолютно ошибочные выводы. Но в случае Галена проблема была более серьезной. Его непоследовательность принимала такие угрожающие размеры, что он не только оказал самое значительное влияние по сравнению с другими врачами на развитие медицины в течение последующих двух тысяч лет, но и вошел в историю этой науки как величайший парадокс.
Поскольку слова «Бог», «Творец» и «Природа» довольно часто появляются в трудах Галена, необходимо понимать, что он подразумевал под этими понятиями. Дело в том, что он жил в самый ранний период развития христианства и был достаточно хорошо знаком с новой религией, чтобы знать, какими чертами христианство и иудаизм наделяют Всевышнего, которому они поклоняются; в некоторых из его сочинений он предпринял немало усилий, чтобы отделить свои убеждения от иудео-христианских воззрений. Его теистические понятия произрастали на почве другой традиции, некритическая вера в которой рассматривалась как препятствие на пути познания истины. Он придерживался традиции Сократа, Платона и Аристотеля. Их концепция позволила врачам-«гиппократикам» отринуть как мистические теории и методы лечения, практикуемые культом Асклепия, так и язычество с десятком его божеств. Такое мировоззрение исключало веру в чудеса и божественное откровение. Именно поэтому эта традиция по самой своей природе противоречила иудейской и христианской теологии.
Единственная доктрина, которой придерживались все три авторитета, провозглашала веру во Всевышнего, при этом они придерживались различных представлений о его теологических характеристиках. Иудеи и христиане второго века считали, что Бог создал вселенную со всеми растениями и животными из ничего. Покончив с этим делом, Он продолжил совершенствовать результат своего творчества, являя время от времени чудеса разного масштаба. Он говорил со своими созданиями, раздвигал воды, исцелял неизлечимые болезни, навлекал бедствия на тех, кто отверг его слово или навредил его избраннику, и Он послал мессию, чтобы исправить нравственные изъяны человечества, или, согласно религии иудеев, обещал, что когда-нибудь сделает это. Было непозволительно подвергать сомнению то, что эти события происходили на самом деле или будут происходить в будущем. Адепты всё принимали на веру, отвергая любую вероятность доказательства того, что вся эта история лишь результат простого недопонимания или сборник мифов. К тому же среди верующих бытовала вера в возможность воскресения мертвых из могильного праха и пыли.
Этот атрибут иудео-христианской веры был самым неприемлемым для греческих, а следовательно, и римских ученых. Авл Корнелий Цельс, римский автор труда по медицине, живший в первом веке до н. э., резюмирует классическую языческую точку зрения по данному вопросу:
В самом деле, какое тело, совершенно разложившись, способно вернуться в первоначальное состояние, притом к тому первому составу, из которого оно распалось? Не зная, что ответить на это, они прибегают к глупейшей уловке – для бога, мол, все возможно. Но бог не может совершить ничего безобразного и не желает ничего совершить против естества; и даже если бы ты потребовал в силу своей порочности чего-либо постыдного, то бог этого не сумеет [сделать], и надо прямо думать, что [так] будет.
Именно с утверждением, что «для Бога нет ничего невозможного» древнегреческие философы были не согласны. Они заменили многочисленных богов более ранних времен единым Всевышним, но не обладающим неограниченной силой Господом. Он не мог создавать материю из ничего и действовать вопреки неизменным законам природы. Мир Аристотеля и Галена – это мир, в котором события определяются естественными законами, которые не может нарушить даже верховное божество. С этой точки зрения, долгом благочестивых верующих становится открытие этих законов при помощи своих критических суждений, а не слепая вера догматам. Некритическое мышление, основа иудейской и христианской ортодоксии, было для Галена врагом истинного знания, а вера в божественное откровение расценивалась им как преграда между интеллектом и истиной. Образцом надлежащего поклонения Творцу, таким образом, должны были стать не молитвы и жертвоприношения, а опыты и наблюдение, которые позволят познать Его пути и распространить Его совершенство повсюду. В своей самой значительной из сохранившихся до настоящего времени работ по анатомии De Usu Partium («О назначении частей человеческого тела») Гален назвал свое сочинение «священным дискурсом, который я написал как подлинный гимн во славу нашего Создателя». И дальше:
И я считаю, что я выражаю Ему подлинное почтение не когда жертвую Ему несчетное количество быков и сжигаю благовоний на десять тысяч талантов, а когда я сначала сам познаю Его мудрость, силу и доброту, а потом передаю свои знания другим… Понять, как все должно быть устроено наилучшим образом – это высота мудрости, а следовать Его воле во всем значит доказать Его непобедимую мощь.
Врачи-«гиппократики» отвергли сверхъестественные силы, чтобы понять возможности природы; Гален изучал природу, чтобы постичь великие и совершенные рецепты своего Создателя. Ни метафизика, ни чудеса не имели никакого значения. Это принцип, достойный современного ученого.
Естественно, тезисы Галена не остались без внимания. В частности, иудейские философы пытались опровергнуть его взгляды, особенно после нападок Галена на историю сотворения и Пятикнижие Моисея, а также утверждения, что сила Бога небезгранична. Однако критику его самого красноречивого оппонента мир услышал лишь тысячу лет спустя, когда величайший из иудейских врачей-философов Маймонид оспорил богословие Галена в «Афоризмах в медицине», несмотря на то что почитал его труды как основной источник своих медицинских знаний. Заявляя, что Бог всемогущ, то есть способен действовать вопреки законам природы, Маймонид просит только о том, чтобы каждый сомневающийся, ставший свидетелем хотя бы одного чуда, осознал, что раз оно могло произойти, то из этого естественно следует, что Бог способен сотворить любое чудо. По словам этого еврейского мудреца: «Свидетельство очевидца даже одного-единственного чуда является убедительным доказательством божественного сотворения мира».
Согласно Маймониду, силу Бога ограничивает только Его неспособность творить зло. Здесь мнения обоих богословов совпадают. Древние греки использовали платоновское понятие «демиург» или «мастеровой», которое можно найти в ранних английских переводах; но в этом смысле Всевышний греков, христиан и иудеев воплощает единственную характеристику, которая представляет собой краеугольный камень монотеизма: Бог есть доброта; мы должны познать Его пути, чтобы быть как Он. Оксфордский специалист по истории средних веков Ричард Уолзер отмечал в своей краткой монографии «Гален, иудеи и христиане», что эта идея прослеживается в трудах древнегреческих ученых вплоть до «Тимея» Платона, в котором философ писал: «Демиург был благ, а тот, кто благ, никогда и ни в каком деле не испытывает зависти. Будучи чужд зависти, он пожелал, чтобы все вещи стали как можно более подобны ему самому». Таким был Бог Галена: с одной стороны, он был стимулом для исследовательской работы, которая могла бы продемонстрировать совершенство Его творения, а с другой – он вселял веру в то, что структуры и их функции были созданы безупречно, а, следовательно, как только основные факты определены, необходимость дальнейшего изучения отпадает.
Гален использовал эксперимент и наблюдение для познания природы, но полученные знания он и его преемники рассматривали как некую форму окончательного приговора, что оказало самое продолжительное и наиболее сильное влияние из всего противоречивого наследия Галена, тормозя дальнейшие исследования в течение последующих полутора тысяч лет. В те годы изучать медицину значило изучать труды Галена. Его усердное следование созданному Гиппократом методу бесстрастного наблюдения не только способствовало развитию собственной методологии, но и оказывало услугу его имиджу. Он хотел войти в историю как первый толкователь легендарных сочинений Гиппократа и преуспел в этом, гордясь тем, что стал преемником великого целителя, разъяснившим его учение таким образом, что оно стало более доступным к применению. Он сравнивал замощение Траяном проложенных античными предками военных дорог Римской империи со своей работой по улучшению проходимости сложных путей корпуса Гиппократа. Галена считали интеллектуальным наследником врачей острова Кос не только из-за тщательного следования объективному анализу в своих исследованиях, но и благодаря саморекламе, в которой он был весьма искусен. В памяти последующих поколений он остался как ученый, сделавший значительный вклад в науку и, по общему признанию, вдохнувший новую жизнь в философию Гиппократа.
После окончания золотого периода Греции стройное и последовательное учение Гиппократа разделилось на несколько различных направлений, каждое из которых опиралось на ту или иную форму спекулятивного искажения его теории. В результате постепенно образовалась группа медико-философских сект, постоянно конфликтующих между собой. Несмотря на то, что все объединения поддерживали отказ от мистики, косская рациональная традиция начала исчезать, хотя репутация Гиппократа как целителя с течением времени только укреплялась. Разные секты создали разнообразные системы взглядов, больше основанные на гипотезах, чем на реальности. Теория заменила эксперимент; с некоторыми исключениями, точные описания практик врачей-«гиппократиков» уступили место предположениям, догадкам и необоснованным выводам. Со временем осталось единственное суждение Гиппократа, которому следовали не только на словах, – отрицание сверхъестественных причин возникновения заболеваний, но даже эти древние костыли, в конце концов, утратили свое обветшалое обаяние.
Вместе с растущей Римской империей развивались теоретические доктрины различных школ. К середине второго века, каждый молодой человек, начинавший обучение врачебному искусству, сталкивался с обескураживающим множеством теорий. Возможно, разнообразие древнегреческих философских течений – стоицизм, неоплатонизм, пифагорейство, перипатетизм, эпикурианство – послужило моделью для создания разномастных медицинских школ: догматиков, методистов, эмпириков, пневматиков и эклектиков. Их междоусобные публичные дискуссии сопровождались нарастающей сложностью формулировок тезисов, приводимых в подтверждение своей позиции. Таким образом, они подготовили сцену для появления логиков, задачей которых было извлечь все истинное из каждой системы и вернуть медицину назад, на путь регулярного непосредственного наблюдения. Именно эту роль сыграл Гален.
Наилучшим образом вклад Галена в историю медицины описал мой коллега в мимолетном замечании, сделанным незадолго до того, как эта книга начала вырисовываться. «На самом деле, все началось с Галена, – сказал он, – не правда ли?» Гален представил врачам анатомическую концепцию болезней, интеллектуальную систему, в основе которой лежала доктрина о том, что представление о заболевании должно базироваться на доскональном знании структуры тела. До недавнего времени все успехи медицинской науки были результатом все более ясного понимания строения человеческого организма и способов функционирования каждого органа в здоровом состоянии и во время болезни.
Привлекательность описания заслуг римского ученого выражением «все началось с Галена» зависит только от оценки того, что именно с него началось. Речь идет об основополагающем принципе: врач может должным образом вылечить болезнь, только если он понимает, как работает организм и каким образом болезнь нарушает его функции. Чтобы оценить состояние пациента, врачу требуется подробное знание внутреннего строения тела, то есть анатомии, и функций всех органов, иными словами – физиологии. Для современных людей этот принцип настолько очевиден, что кажется непостижимым, что его не всегда понимали и принимали. То же самое можно сказать и о циркуляции крови, нагнетании крови сердцем и того факта, что мы думаем нашим мозгом. Все это настолько легко доказуемо, что мы не можем себе представить времена, когда мужчины и женщины, обладающие интеллектом, не знали об этом. Но представления о болезнях в обществе являются следствием уровня культуры, а не интеллектуальных возможностей людей. Современный западный человек предпочитает объяснять явления природы с помощью науки, что предполагает использование не только наблюдения, но и проведение эксперимента с фиксацией полученных данных; при этом он резонно отказывается признавать какие-либо аргументы, которые не поддаются проверке пятью чувствами. Совершенствование научного метода заняло две с половиной тысячи лет, и медицина стала применять его во всей полноте, только когда Гален начал создавать свои сочинения.
Предшественники Галена считали, что знание анатомии необходимо лишь в самом общем смысле. Он осознавал, насколько абсурдно оставаться в таком плачевном состоянии невежества, и посвятил свою жизнь патологоанатомическим исследованиям, экспериментам и демонстрации формы и функций, которые он считал образцом совершенной работы Бога. Веря как Аристотель, что «природа ничего не делает напрасно», он хотел доказать, что каждая структура выполняет конкретную функцию, потребность в которой и является причиной существования данной структуры. Таким образом, из всех его многочисленных сочинений самым известным является книга «О назначении частей человеческого тела» или «Использование частей тела». В ней он хотел показать, как Бог, словами вышеупомянутой книги, «показал Его благость в мудром обеспечении всем необходимым для счастья всех Его созданий». Исследования Галена в области анатомии и физиологии проложили путь к новому пониманию тела и тому, как оно заболевает. Возможно, это он, а не Гиппократ, заслуживает титула отца медицины.
В крайнем северо-западном углу Малой Азии, в пятнадцати милях от Эгейского моря вглубь страны, вдоль зеленой долины реки Каик расположен процветающий город Пергам, небольшой шумный островок греческой культуры и римского права. В ранние времена между библиотеками Пергама и Александрии была такая конкуренция, что один из Птолемеев попытался воспрепятствовать росту первой, запрещая экспорт папируса. Тогда ученые Пергама начали использовать кожу животных, которую стали называть пергаментной бумагой (charta pergamena), или пергаментом (pergamentum), от которого произошло наше слово «бумага» (parchment). Хотя бумага была менее пригодна для производства свитков, оказалось, что из нее удобно создавать рукописи и книги. Вот почему, в конечном итоге, именно эта форма получила дальнейшее развитие. Так, в городе Пергам, руины которого сегодня можно увидеть в турецком городе Бергамо, появились на свет пергамент, книга и в 130 году Гален.
Несмотря на то что Пергам сам по себе был прекрасным примером эллинистической общины, весь римский мир к тому времени настолько уподобился таким сообществам, что глубокое знание греческого языка, литературы и философии были необходимы для ученых и деятелей культуры. Все научные работы было принято писать на греческом, так как вся наука тех дней развивалась на основе работ греческих мыслителей, а Рим пронизывала атмосфера уникальной эллинской культуры, превосходство которой подтвердила вся жизнь Галена. В более поздние годы он писал с присущей ему прямотой:
Можно ли пренебречь таким приятным для слуха греческим языком, способным так ярко выразить глубочайшие чувства человека, языком, в котором так много изящества и красоты? Вы бы предпочли использовать собственные фигуры речи, которые столь же непригодны, как и уродливы? Намного лучше выучить один, самый лучший язык, чем овладеть шестью сотнями плебейских наречий… Вы не хотите, сэр, учить язык эллинов, что ж, оставайтесь варваром, если хотите!
Итак, 22 сентября 130 года родился Гален в семье интеллигентного, очень успешного архитектора и землевладельца Никона, в неповторимой греческой атмосфере. Мальчика назвали именем, происходившим от греческого слова galenos, означающего спокойствие и безмятежность – качества, которыми, по словам самого Галена, был щедро наделен его отец, и полностью отсутствовали в характере его матери: «Мне очень повезло, что мой отец был очень спокойным, справедливым, галантным и надежным человеком; моя мать, напротив, была настолько вспыльчивой, что иногда кусала своих горничных. Она болтала без умолку и постоянно ссорилась с отцом, как Ксантиппа с Сократом… и в то время как он никогда не раздражался всерьез, она задыхалась от гнева из-за любого пустяка». К сожалению, среди своих современников Гален был известен такими чертами характера, которые были самым неприятным наследием его матери.
К четырнадцати годам Никон обучил Галена литературе, грамматике, арифметике, геометрии и основам философии, а также передал ему знания, необходимые для успешного управления семейной фермой. Когда Галену исполнилось пятнадцать, отец отправил его на три года изучать философии всех ведущих систем того времени. Никон не хотел, чтобы его сын выбрал одну из сект, скорее наоборот, он надеялся, что юноша поймет, как важно сохранять независимость от всех подобных сообществ. Гален навсегда запомнил и часто цитировал совет своего отца. На протяжении всей своей жизни он избегал ситуаций, в которых его имя могло бы ассоциироваться с какой-либо философской или медицинской школой, предпочитая идти своим путем и разрабатывать собственные модели.
В это же время у него появилась другая традиция, которой он следовал всю свою жизнь, хотя ее природа была гораздо менее рациональна. Никону, который дал сыну прекрасное образование, чтобы обеспечить ему карьеру на имперской службе, приснился воодушевляющий сон, в котором Асклепий сказал ему, что ему следует отдать юношу в обучение медицине. Никон и Гален серьезно отнеслись к этому совету, в результате чего вскоре после этого события молодой человек начал свое профессиональное образование. Так зародилась хроника противоречий, которые сопровождали Галена на всем его жизненном пути. В возрасте двадцати семи лет ему приснилось, что нужно вскрыть артерию на руке, чтобы вылечить абсцесс брюшной полости; когда ему исполнилось тридцать восемь, сон запретил ему идти на войну под предводительством императора Марка Аврелия; когда ему было сорок три года, сон велел ему завершить незаконченный трактат о строении и функции глаза. На протяжении всей своей врачебной деятельности он время от времени применял методы лечения, открывавшиеся ему во сне. Человек, не верящий в чудеса, никогда не терял детской веры в могущество Асклепия.
Город Пергам был сосредоточением великолепных храмов; возможно, ни Гален, ни Никон не смогли противиться их мистическому очарованию, несмотря на то, что Гиппократ отрицал существование сверхъестественных сил. Есть свидетельства того, что на самом деле Гален считал себя и врачей с острова Кос существами, возведенными в ранг всемогущих богов, с которыми он надеялся однажды встретиться в вечной обители бессмертных. Вероятно, такое поклонение божествам никогда не казалось ему несовместимым с его неверием в чудеса. Если бы он считал свои взгляды противоречивыми, он бы, конечно, никогда не писал о них так открыто в своих сочинениях. Возможно, только на западе в эпоху постпросвещения люди беспокоились о таких несоответствиях, требуя абсолютной приверженности либо атеизму, либо вере, по крайней мере, от других. Похоже, что подобная преданность – это стандарт, который для большинства из нас абсолютно недостижим сегодня.
Гален начал изучать медицину в Пергаме в возрасте семнадцати лет. Спустя четыре года умер его отец, и он ушел из дома, возможно, чтобы не оставаться под одной крышей с матерью. Он посещал лекции и демонстрации в разных центрах обучения медицине, в основном в Смирне и Коринфе. В 152 году он отправился в великую Александрию, где провел пять особенно важных лет своей жизни.
Хотя экспериментальные работы Галена стоят особняком от изысканий других ученых, его талант открывать и описывать ранее неизвестные анатомические структуры ставит его в один ряд с греческими целителями золотого века Александрии. Герофил и Эразистрат, например, препарировали человеческие трупы в третьем веке до н. э., и, возможно, даже некоторых живых осужденных преступников. К несчастью для прогресса науки, период свободных изысканий, когда разрешалось вскрытие умерших людей, был слишком кратким. Римские законы в конце концов наложили запрет на подобную деятельность и заставили и так небольшое количество серьезных анатомов вернуться к изучению животных, со всеми вытекающими из этого ошибками. Тем не менее результаты тех ранних исследований были доступны для изучения в Александрии, и Гален, несомненно, почерпнул из них много знаний о строении человеческого тела. Кроме того, там он мог изучать первый, на сегодня утраченный, всеобъемлющий двадцатитомный трактат по анатомии, написанный в первом веке римским врачом Марином, на которого Гален позже с большим уважением ссылался в своих работах.
По окончании первого этапа обучения в Пергаме образование Галена соответствовало уровню современного аспиранта, продолжающего посещать курсы, даже если он проводит собственные исследования и пишет научные работы. Он работал с некоторыми ведущими врачами своего времени и получал самое лучшее медицинское образование, изучая не только то немногое, что в те годы было известно об анатомии и физиологии, но и овладевая глубокими знаниями теории и практики медицинского наследия Гиппократа, хотя и весьма раздробленного на тот момент.
Во втором веке при поиске причины заболевания косские врачи, как и столетия до этого, обращали внимание на климат, кухню, географическое положение, род занятий, темперамент и влияние каждого этого фактора на баланс четырех гуморов. Тело пациента тщательно обследовали, и, как учили врачи-«гиппократики», внимательно изучали всевозможные выделения организма. Терапия была несколько более агрессивной, чем пять веков назад, хотя нет никаких свидетельств того, что она была более успешной. С большим энтузиазмом начали прописывать больным огромное количество средств растительного и животного происхождения, несмотря на отсутствие доказательств их эффективности.
Что касается теоретических основ, то греки были виталистами: они считали, что живые существа отличаются от неодушевленных предметов, потому что они наделены духовной сущностью, которая и является жизненным принципом. В различных формах концепция витализма сохранялась на протяжении веков, и даже современная молекулярная биология еще не полностью размежевалась с этой доктриной. Древние греки считали, что во вселенной существует неопределенный, неописуемый дух, не имеющий ни субстанции, ни текстуры, которому они дали название «пневма». Согласно этой теории, нас окружает мировая пневма, представляющая собой не совсем воздух; при вдохе она втягивается в легкие, откуда попадает в левую часть сердца, а затем переходит в артерии, пульсация которых возникает в результате их ритмичного расширения; считалось, что артерии, заполнены не кровью, а пневмой. Таким образом жизнь проникает в плоть человека. С другой стороны, полагали, что кровь течет только по венам, чтобы питать части тела, имеющие более выраженные вещественные свойства. Согласно древнегреческим представлениям, основные элементы человеческого тела составляли четыре гумора, возникавшие в результате процесса пищеварения, «врожденное тепло», вырабатываемое в сердце, и пневма, поступающая извне.
К тому времени, когда Гален вернулся в Пергам в 158 году, он был не только профессиональным врачом, глубоко изучившим эту систему, но и известным автором трактатов по анатомии и физиологии. К тому же он, как и «гиппократики», был практикующим хирургом.
После двенадцати лет обучения он владел техникой выполнения трепанации черепа, умел лечить переломы, вывихи и травмы головы. Он зашивал и перевязывал порезы, связывал лигатурой порванные сосуды, удалял ножом или прижигал горячим железом поверхностные карциномы, кисты и полипы, выводил жидкость из груди и живота, вырезал и зашивал различные виды грыж, даже выполнял операции по удалению камней из мочевого пузыря, несмотря на клятву Гиппократа и вопли жертв.
Профессионализм Галена и хорошие отношения с местными жрецами культа Асклепия обеспечили ему хорошую репутацию, поэтому, когда первосвященнику поручили выбрать хирурга для гладиаторов городского Колизея, он назначил на эту должность Галена, который выполнял свои обязанности настолько эффективно, что договор возобновлялся каждый год в течение всего времени, пока он жил в Пергаме. Такое положение давало молодому врачу превосходную возможность для изучения анатомии на живых людях и исследование изменения функций при различных видах травм. Нетрудно представить, что ужасные открытые раны некоторых участников состязаний представляли собой некий вид частичной вивисекции человеческого организма, который был невозможен при любых других обстоятельствах. Биение сердца, мощную пульсацию крупных внутренних кровеносных сосудов, а также змеевидные волны кишечника можно наблюдать у животных, но для врача, который хочет раскрыть секреты человеческого тела, равноценной замены не существует.
К 162 году, однако, Гален решил, что в Пергаме он достиг всего, что было возможно; исполненный амбиций и сознания своих незаурядных способностей, он стремился найти более подходящую арену, где в полной мере мог бы проявить и расширить свои профессиональные возможности. Когда разразилась война между Пергамом и соседней Галатией, он собрал пожитки и отправился в Рим. В возрасте тридцати двух лет он начал свою карьеру в имперском городе.
Рим в то время был великолепным процветающим мегаполисом с миллионом жителей, чьим медицинским нуждам служили около двух тысяч целителей различных школ. В дополнение к пяти основным направлениям – догматикам, методистам, эмпирикам, пневматикам и эклектикам – там были представители менее известных течений, некоторые из которых имели громоздкие названия, такие как фессалоникийские методисты, пневматики Эразистрата и пневматики-эклектики. Кроме того, в городе было приблизительно 150 акушерок, которые принимали роды и лечили женщин, а также около сотни религиозных целителей. Известно, что была, по крайней мере, еще сотня практикующих рабов, которые лечили незначительные болезни членов семей их владельцев. Интересно, что многие из них были евреями, захваченными после неудачного восстания под предводительством Бар-Кохбы в 132 году.
Фортуна с самого начала улыбнулась Галену. По стечению обстоятельств ему быстро представился случай проявить впечатляющие диагностические способности и обрести благосклонность членов верхнего эшелона римского общества. Благодаря превосходному образованию в области литературы и философии он легко подружился с некоторыми из лидеров этих кругов, особенно с философами, которые принимали его как одного из них. В течение первых двух лет пребывания в городе он проводил публичные демонстрации по анатомии, которые оказались популярными сверх его ожиданий. Успешная профессиональная деятельность и новые связи принесли ему известность как среди пациентов, так и среди тех, кого впечатлили его исследовательские и педагогические таланты. Но вскоре появились и завистники.
Медицинское сообщество делилось не только на секты, различными были и уровни подготовки, и способности. Конкурирующие врачи безжалостно оскорбляли друг друга, публично высмеивая противников в самых унизительных выражениях. Гален был талантлив и очень гордился этим. Чем больше были его достижения, тем резче становились поношения в его адрес, и все более скандальными разоблачениями отвечал Гален своим противникам и сектам, к которым они принадлежали. Он беззастенчиво хвалился своими успехами и щедро изливал презрение (хотя часто заслуженное) на головы своих менее удачливых коллег. Это было отвратительно, и ситуацию не спасало то, что многие из его противников не годились ему в подметки.
Галена повсюду окружали враги. Хотя он вращался в литературных кругах Рима и его обожали представители денежной элиты, выплачивая ему высокие гонорары, его выпады в адрес различных сект и их отдельных членов в конечном итоге привели к тому, что ему грозила физическая расправа. Со временем оставаться в Риме ему стало небезопасно. Он поспешил тайно покинуть город и вернулся в Пергам. Некоторые обвиняли Галена в том, что он не так боялся убийства, как быстрого приближения большой эпидемии чумы, которая уже охватила восточную часть империи, и в этом была истинная причина его побега. Это утверждение трудно доказать, так как болезнь, похоже, уже широко распространилась в Александрии к моменту отъезда Галена. Определенно, однако, можно сказать лишь одно. То, что лечащий врач покидает свой пост во время разгула эпидемии, не делает ему чести. История не простила Галену этот побег, хотя его римские покровители встретили врача с радостью, когда он вернулся в город через год.
Приехал Гален назад по приглашению самого императора – Марка Аврелия. Готовилась военная кампания против полчищ маркоманов, которые угрожали с севера, и император «попросил» известного врача сопровождать его армию. Галену не оставалось ничего другого, кроме как отправился навстречу экспедиции в Аквилею зимой 168–169 годов. Однако вновь разразилась чума, и Марк был вынужден вернуться в Рим, взяв Галена с собой. Пока проводилась реорганизация кампании, во сне, который упоминался раньше, врачу явился Асклепий и посоветовал ему остаться в городе. Он смог это сделать, взяв на себя заботу о юном наследнике Коммоде, а после смерти придворного врача вскоре после этого Гален был назначен на эту почетную должность.
Находясь под защитой императора, Гален мог больше не бояться вендетты со стороны своих противников и с 169 года до смерти Марка в 180-м, он занимался важными научными исследованиями. Он мог свободно продолжать свои изыскания и собирать материал для своих манускриптов. Неизвестно, какие отношения у него были с последующими императорами, но в любом случае они, как представляется, были достаточно доверительными. Хотя считается доказанным, что он дожил до 201 года, но где он умер – неизвестно, как и место его жительства в Риме и Пергаме, в котором он провел свои последние годы.
На протяжении всей своей долгой жизни Гален играл в обществе две совершенно разные роли. Рассуждая иногда, как мудрый Сократ, о возвышенной самоотверженности медицины, он утверждал, что идеальный врач должен быть одновременно философом. Эту фразу он использовал в качестве названия для одного из своих небольших сочинений. В своих произведениях он часто обращается к диалогам Платона и наставлениям своего отца, который говорил ему, что «потребны все науки, но еще более потребны мудрость, справедливость, мужество и умеренность, добродетели, которые превозносят все, даже те, у кого их нет».
Во-первых, среди «тех, у кого их нет» был сам Гален. Он был тщеславным, раздражительным, вздорным, нетерпеливым и очень обидчивым. Подражая в мудрости Богу, лишенному зависти, сам он был завистливейшим из людей.
В жажде денег и славы он, кажется, также придерживался двойных стандартов: один выражался в его трудах, а другой в его поступках. В конце жизни он писал:
Правилам, которым меня научил мой отец, я следую по сей день. Я не принадлежу ни к одной секте, хотя изучал все направления с одинаковым жаром и усердием, и как мой отец я иду по жизни без страха перед будущим. Мой отец учил меня презирать мнение других и искать только правду… Также он настаивал на том, что основное назначение личного имущества – это утолить голод, жажду, прикрыть наготу, а все, что останется, следует преобразовать в хорошую работу.
Он описывал, как «делился одеждой с одними, давал еду и оказывал бесплатную медицинскую помощь другим, выплачивал долги третьих». В результате перед читателем представал образ человека, который не стремился к богатству и предпочитал вести жизнь ученого потрепанного аристократа.
Несомненно, что значительную часть доходов Гален тратил на переписчиков для публикаций своих трудов и на покупку книг. Меньше известно о его благотворительности, но нет оснований сомневаться в том, что́ он написал об этом. Однако следует отметить, что Гален всегда получал довольно внушительные доходы и вел при этом простую холостяцкую жизнь. Легко высокопарно декларировать, что деньги не главное в жизни, когда унаследовал от отца приличного размера ферму, приносящую пожизненный доход. Гален писал: «Невозможно одновременно вести бизнес и практиковать такое великое искусство». Он постоянно критиковал тех, кто поступал таким образом, но сам он пользовался наследством, и, кроме того, его практика была в значительной степени связана с благодарными богатыми пациентами. На протяжении многих веков циники подчеркивали, что жизнь философа становится намного приятнее благодаря уверенности в полном животе. Относительно того, что следует быть человеком, «презирающим мнение других», это требование кажется просто возмутительным. Едва ли найдется в истории науки персонаж, в чьих сочинениях столько многословной саморекламы, самодовольства, высокого самомнения, самовосхваления и самого Галена. Он не был ни скромным, ни сдержанным, когда настаивал на своем превосходстве над соперниками, несмотря на некоторые попытки продемонстрировать иногда возвышенное презрение к почестям и одобрению, а подчас философскую отрешенность от таких человеческих слабостей, как стремление к признанию.
Такая критика, хотя и имеет право на существование, ни в коей мере не должна умалять значение достижений Галена; в конце концов, никакие недостатки характера не мешают развитию превосходной ясности ума. Это справедливо и для Галена из Пергама. Склочный, высокомерный, сварливый и зачастую лицемерный, он обладал талантом и прозорливостью, которая позволяла ему, наблюдая за явлениями природы, видеть истину там, где другие лишь строили домыслы. Отвергая догматические понятия различных сект того времени, он проводил свои исследования без тени предубеждения. Именно появление его доктрины позволило преобразовать бытующий раньше философский подход к болезни в экспериментальный. Гиппократ разработал для целителей концепцию, согласно которой медицина – это искусство; а Гален доказал, что это искусство должно опираться на научную истину. Врачи, последователи системы Гиппократа, сделали беспристрастное наблюдение первым правилом клинической медицины; Гален использовал его в своих исследованиях. То, что это правило стали игнорировать после его смерти, возможно, величайший из парадоксов Галена в том смысле, что именно благодаря его неограниченному посмертному влиянию на развитие медицины свобода мысли и экспериментальные изыскания тормозились почти полторы тысячи лет. В шестнадцатом и семнадцатом веках ученые, забывшие об авторе завета, воскресили научный метод познания.
Свою систему Гален строил на основе вскрытий, экспериментов в физиологии, а также на материале клинических наблюдений пациентов. Безусловно, в чем-то он ошибался, потому что он был человек своего времени – грек, для которого философские гипотезы, логичные рассуждения и непредвзятое наблюдение имели одинаковое право на существование. Ученый, который верит, что все структуры и функции предопределены Высшим разумом, не понимает, что в таком случае предрешены и его выводы, согласно логике телеологии, то есть вследствие интерпретации его наблюдений как доказательства существования в природе грандиозного плана. Он не считает себя непоследовательным, заполняя пробелы между изученными понятиями чем-то неизвестным, при условии, что результат раскрывает рациональный план Бога. Отдавая дань уважения этому великому плану, Гален считал его своей огромной силой, хотя на самом деле он оказался его самой большой слабостью.
Гален был просто не способен понять, что, когда дело касалось описания структур и функций человеческого тела, его мыслительные способности не могли заменить ему органы чувств. Для него гипотеза была столь же обоснованной, как очевидный факт, а догадка столь же убедительна, как эксперимент. То, чего он не мог видеть, он воображал, а затем вплетал придуманный образ в тезис о превосходной работе Мастерового, каждое творение которого совершенно и чьи создания наполняются жизнью, когда пневма входит в их тела.
Возможно, нам не следует слишком резко критиковать Галена за то, что он так полагался на свою способность создавать гипотезы, так как это часть любой науки, и особенно медицины, этого бесконечно удивительного соединения науки и искусства, где необходимость в лечении часто предшествует возможности увидеть проблему. В современных исследованиях мы оправдываем выводы, сделанные на базе гипотез, называя их теориями. Но справедливости ради нужно добавить, что наши коллеги по науке строят свои теории, опираясь исключительно на серьезные надежные доказательства. Правда, такая возможность появилась у них только потому, что прошло восемнадцать столетий со времени Галена, и современные исследователи обладают значительно более совершенными методами получения необходимых данных; кроме того, гораздо большее количество людей работают в этом направлении. В свете того, что в прошлом теории опирались всего на несколько известных тогда фактов, гипотезы Галена заслуживают большего снисхождения. Это, однако, не оправдывает того, что весьма талантливый экспериментатор тратил так много времени и сил на построение бесчисленных умозаключений. Именно здесь пути современной науки и Галена расходятся. В наши дни исследователь – это, главным образом, экспериментатор и наблюдатель; теория должна формироваться под давлением массы полученных данных. Гален же был в первую очередь теоретиком, и применяемый им научный метод содержал в себе две фундаментальные ошибки. Во-первых, он подходил к наблюдениям с телеологической точки зрения, то есть считал, что все существует и функционирует в соответствии с неким грандиозным планом. Во-вторых, он проводил правильные эксперименты недостаточное количество раз, поэтому, естественно, часто отклонялся от направления, которое большее количество повторений, возможно, могло ему подсказать. Его метод можно сравнить с попыткой начертить график по слишком небольшому количеству установленных хаотично разбросанных точек, при этом, заранее решив, как этот график должен выглядеть. Величие Галена заключалось в умении блестяще разрабатывать эксперименты, которые обеспечивали получение данных для каждой точки, а его недостатком было слишком маленькое число точек, метод их объединения и экстраполирования полученных данных.
Иными словами, современный ученый вдохновенно анализирует мельчайшие детали результатов своих ежедневных исследований, в конечном итоге формирующие модель, неустанно приближающую его к доказательству теории, в которую он верит. С другой стороны, действия Галена были обусловлены уверенностью, что ему уже известна абсолютная Истина – его исследования, независимо от того, насколько объективно был разработан каждый эксперимент, проводились ради этой Истины, и их результаты интерпретировались для ее подтверждения.
В работе Галена было еще одно слабое место, одно из тех, которые он в какой-то степени осознавал: его анатомия была анатомией животных. Гален никогда не видел вскрытого человеческого тела. Однажды он случайно натолкнулся на почти полностью объеденный птицами труп грабителя, лежавший на обочине дороги. В другой раз он нашел сгнившее тело, выброшенное на берег реки после наводнения. Осмотр этих разложившихся останков не сообщил ему ничего нового. Конечно, он довольно много знал о строении человеческого скелета после своей практики в Александрии, но всю остальную информацию он получил, благодаря вскрытию разных животных, как живых, так и мертвых. Его любимым объектом изучения была макака, которая внешним видом очень напоминает человека и имеет тело подходящего размера для того, чтобы успеть завершить исследования до того, как труп начнет разлагаться в жарком бо́льшую часть года климате Южной Европы. Обычно он топил подопытных обезьян, чтобы не повредить их внутренние органы. Он сам снимал кожу с мертвых животных, не перепоручая это дело помощникам, и это принесло ему дивиденды, когда он обнаружил плоские подкожные мышцы, которые упустили из виду другие античные анатомы. Гален провозгласил свое кредо во втором томе трактата «О назначении частей человеческого тела» с присущим ему хвастовством:
Теперь позвольте мне раз и навсегда сделать это заявление в отношении всего моего трактата, чтобы мне не пришлось повторять его многократно: я описываю внутренние органы точно так, как они выглядят при вскрытии, и никто до меня не делал ничего подобного. Поэтому, если кто-нибудь хочет своими глазами увидеть творение природы, ему следует доверять не книгам по анатомии, а собственному опыту, либо прийти ко мне или обратиться к одному из моих ассистентов, хотя, можно и в одиночку прилежно практиковаться в проведении вскрытия; но если речь идет только о чтении, то невольно придется верить более ранним работам анатомов, тем более что их немало.
По иронии судьбы, Андреас Везалий в 1543 году и Уильям Харви в 1628 году обнаружили ошибки Галена именно потому, что они не очень-то полагались на его книги, а предпочли на все посмотреть своими глазами. Каждый из них «в одиночку» прилежно практиковался во вскрытии и ставил эксперименты до тех пор, пока бо́льшая часть храма медицины, построенного Галеном, не начала рассыпаться.
Но его храм не разрушился полностью ни тогда, ни когда-либо позже. Гален следовал своему кредо и был несравненным исследователем; его пример и мудрые наставления могли бы принести пользу молодым ученым любой эпохи. Именно Гален доказал, что по артериям течет кровь; по общему мнению, это наиболее важное из его достижений в области медицины. Его предшественники считали артерии каналами, по которым передвигается пневма, попадая в них из левого сердечного желудочка, который при вдохе заполняется пневмой по легочным венам, крупным сосудам, соединяющим сердце и легкие. Тот факт, что из разрезанной артерии течет кровь, объясняли наличием связей (предполагаемых, но не существующих на самом деле), или анастомозов, расположенных между венозными и артериальными сосудами, по которым кровь из первых вытекает в последние, когда случается порез. Гален оборвал этот полет фантазии с помощью эксперимента, в котором он дважды перевязал артерию живого животного, изолировав достаточно короткий сегмент сосуда, чтобы можно было показать, что к нему не присоединен ни один анастомоз. Кровь, которая была, как и следовало ожидать, обнаружена в нем после разреза артерии, могла попасть туда только до рассечения.
Он также использовал лигатуры, чтобы продемонстрировать, что пульсация артерий берет начало в сердце, а не возникает, как думали его современники, в результате ритмического расширения пневмы внутри них. Перевязав главную артерию в собачьей лапе, он остановил пульс за пределами перетяжки, несмотря на то, что нижняя часть сосуда все еще была заполнена кровью. После удаления лигатуры пульс возобновлялся, что позволило ему сделать правильный вывод о передаче пульсирующего движения артерии сверху, а именно – от сердца.
Чтобы продемонстрировать, что сердце животного, как и артерии, содержит не только пневму, Гален ввел тонкую прочную трубку через стенку бьющегося левого желудочка внутрь его камеры, в результате чего в трубку резко выплеснулась пульсирующая порция красной крови. В этот момент, однако, в нем заговорил греческий философ со своими привычными соображениями, что привело к тезису о том, что кажущаяся более жидкой и более яркой красная субстанция в левой части сердца и артериях – это кровь, с которой смешивается вдыхаемая, животворящая пневма. Заметив, что стенка левого желудочка сердца всегда толще, чем стенка правого, он утверждал, что такое строение необходимо для поддержания центрального баланса и вертикального положения органа, поскольку наполняющая левую сторону пневма не такая тяжелая, как темная и, видимо, более вязкая кровь в правой части.
Знания о сердцебиении Гален почерпнул из своей практики в вивисекции животных и как минимум из одного случая из жизни, когда у больного ребенка разрушилась грудина, что позволило ему увидеть работу сердца воочию. Его концепция циркуляции крови слишком сложна для обсуждения в книге такого рода. По существу, он описывал орошающее течение крови в прямом и обратном направлениях, а не круговое движение, во время которого одна и та же жидкость очищается, насыщается кислородом, обогащается и перекачивается снова и снова. Поскольку по его теории пневма каким-то образом попадала в вены, он предположил, что в перегородке между левым и правым желудочками имеются поры, по которым духовная субстанция проникает в тот поток крови, который переносит питание в периферические отделы организма, когда кровь течет в противоположном направлении, из правого в левый желудочек. Уильям Харви в 1628 году доказал, что этих пор не существует, и этот факт стал одним из самых сокрушительных ударов, нанесенных исследователями семнадцатого и восемнадцатого столетий репутации греческого врача.
Однако для изучения роли диафрагмы и грудной стенки в процессе дыхания Гален выполнил еще одно образцовое исследование, проведя серию гениальных экспериментов, в ходе которых он разрезал различные специфические нервы и мышцы, чтобы определить, как именно происходит движение воздуха внутри организма. В результате Гален первым предположил, что именно расширение грудной полости с помощью диафрагмы и мышц груди заставляет легкие наполняться, а не наоборот. Эксперимент, который он сделал, чтобы доказать свой тезис, иллюстрирует сложность его методов, настолько опередивших свое время, что они не отличаются от лабораторных исследований гораздо более позднего периода. Позволив небольшой порции воздуха проникнуть в грудную полость, он делал небольшой разрез между двумя ребрами животного, вокруг которого затем плотно пришивал мешок или мочевой пузырь животного. Затем он мог наблюдать, как мешок заполняется и опорожняется во время выдоха и вдоха соответственно, демонстрируя при этом частичный вакуум, создаваемый расширяющейся грудной полостью. Именно этот частичный вакуум затягивает воздух снаружи в трахею и легкие. То, как Гален смог доказать свою гипотезу, ярко свидетельствует о ясности его ума в тех ситуациях, когда он не позволял густому туману философии скрывать результаты своих научных изысканий.
В еще одном блестящем эксперименте Гален опроверг общепринятое мнение о том, что моча образуется не в почках, а в мочевом пузыре. Здесь он также мудро воспользовался лигатурой. Он перевязывал канал (мочеточник), соединяющий эти органы, отмечая, что место перетяжки не влияло на результат, при этом столбик мочи никогда не выходил за пределы лигатуры. Если он перевязывал каждый мочеточник в месте его соединения с почкой, оба канала и мочевой пузырь оставались пустыми; простое подтверждение того, что именно в почке, а не в мочевом пузыре, образуется моча. Иногда чем проще доказательство, тем оно элегантнее.
В сочинениях Галена приводится еще много примеров таких хорошо продуманных и правильно интерпретированных экспериментов. Я не собираюсь каталогизировать все его открытия, а ограничусь лишь описанием весьма показательного исследования нервной системы.
Эти эксперименты греческого ученого в области физиологии являются образцами четкости и точности. Раньше уже упоминалось об изучении Галеном механизма дыхания: он перерезал диафрагмальный нерв, спускающийся вниз от шеи к диафрагме, чтобы продемонстрировать роль этой структуры в дыхании; разрушая соединение нерва с мышцами грудной стенки, он определял функции этих образований; перерезая спинной мозг на различных уровнях в верхней части спины, он последовательно обездвиживал разные сегменты мышц для того, чтобы исследовать скоординированные усилия, необходимые для расширения полости грудной клетки.
Он заметил, что если надрез сделан вверх и вниз вдоль центральной оси спинного мозга, то паралич не наступает, так как нервные окончания отходят от обеих сторон, независимых друг от друга. С другой стороны, спинной мозг, перерезанный на любом уровне в поперечном направлении, приводит к параличу всех мышц, которые соединяются с нервами, расположенными ниже разреза. Если сделать разрез только с одной стороны, то наблюдается паралич мышц либо левой, либо правой половины тела, соответственно. Результаты экспериментальных исследований спинного мозга подтверждались клиническими наблюдениями травм, с которыми Гален сталкивался в своей практике. Поскольку иннервация верхней конечности происходит с участием нервов шеи, травмы шейного отдела позвоночника давали ему возможность оценить, как сдавление спинного мозга влияет на состояние функции руки, диафрагмы и других мышц, расположенных ниже травмы.
Гален первым установил все эти факты, применяя неизвестные до него экспериментальные методы. С помощью похожих техник он вновь и вновь демонстрировал всем, кто откликался на постоянно повторяемое приглашение «прийти и посмотреть самим», что голос образуется не в сердце, как считали его современники, изучившие труды Аристотеля, а в гортани, то есть в самой верхней части трахеи, или, иными словами, дыхательного горла. Он доказал, что возвратный гортанный нерв, который он обнаружил, активирует гортань и заставляет ее трансформировать поток выдыхаемого из легких воздуха таким образом, чтобы вызвать вибрацию голосовых связок. Так как нервные волокна берут начало в мозге, то именно он контролирует речь, а не сердце; какой бы заманчивой и романтичной ни казалась эта версия. «Голос, – обращаясь к читателю, объяснял Гален, – сообщает мысли разума». В своей интерпретации этого процесса Гален предупреждает об опасности использовать простое утверждение вместо наблюдаемых фактов для иллюстрации работы тела, совершенно забывая о том, что он сам терпел неудачу каждый раз, когда не следовал принципам собственного кредо, увлекаясь богословием и догадками. Таков был Гален, нападавший на тех, у кого есть глаза, но кто не видит истину, которую он несет им:
Когда я говорю это и добавлю, что все произвольные движения выполняются мышцами, которые в свою очередь контролируются нервами, берущими начало в мозге, они называют меня сказочником, при этом не имея никаких аргументов, кроме простого утверждения, что трахея расположена недалеко от сердца. Но то, что я говорю, я могу подтвердить демонстрацией на вскрытии. Они выбрали короткий и легкий путь вместо долгого и трудного, единственного, способного привести к желаемому концу; но короткий и легкий путь не помогает дойти до истины… Никто никогда не смог опровергнуть мои слова после того, как я продемонстрировал мышцы, контролирующие дыхание и голос. Мускулы отвечают за движение определенных органов, но чтобы двигаться, им необходимы нервы, соединяющие их с мозгом, и если вы преграждаете путь одному из них с помощью лигатуры, мышца, с которой он соединен, и управляемый ею орган немедленно оказываются обездвиженными. Любой, кто действительно стремится к истине, пусть приходит ко мне, и если с его органами чувств все в порядке, он ясно увидит, что свободный нормальный вдох животного вызывается определенными органами, мышцами и нервами… Также я покажу вам орган, где образуется голос, гортань, ее двигательные мышцы и нервы этих мышц, исходящие из мозга; аналогичная история с языком, органом речи. Я подготовлю несколько животных и покажу, что иногда одна, иногда другая из этих функций аннулируется, когда несколько нервов отделены.
Новые анатомические открытия Галена были важны, но его скрупулезное детализированное описание уже известных структур и их взаимодействия является гораздо более ценным вкладом в развитие науки. В его анатомических очерках формируется трехмерное изображение, которое обеспечивает понимание того, где именно находятся различные органы, ткани и сосуды в живом пациенте. Как и все хорошие преподаватели клинической медицины наших дней, он подчеркивает важность топографической анатомии, чтобы опытный врач мог точно знать, что лежит под каждой небольшой областью поверхности кожи; без таких знаний любое медицинское обследование превращается в совершенно бесполезное упражнение.
Опираясь на идеи своих предшественников, Гален создал концептуальную схему механики человеческого тела. Согласно его теории, тремя основными органами тела являются сердце, мозг и печень; пневма, врожденное тепло и четыре гумора по-прежнему считаются базовыми ингредиентами. Наполняющая воздух из своего источника пневма входит в левый желудочек сердца, где она подвергается изменениям и превращается в то, что называется животворящей пневмой. Сердце, являясь источником врожденного тепла, передает субстанцию из левого желудочка в артерии – это согретая внутренним теплом сердца кровь, в которой содержится сама жизнь, поскольку к ней примешана животворная пневма. В соответствии с одной из анатомических гипотез Галена, пневма, поднимаясь к мозгу, превращается в «психическую пневму»: так как в основании черепа подопытных животных ученый нашел свернутую сеть кровеносных сосудов, называемую rete mirabile (чудесная сеть), он решил, что, проходя через все эти витки и извилины, пневма задерживается в них достаточно долго для того, чтобы начать превращаться из животворной пневмы в психическую. Мозг, являющийся регулятором мышления, чувств и движения, в свою очередь, посылает психическую пневму в нервы, которые в силу необходимости должны быть полыми, чтобы пневма могла достигнуть конечных точек назначения по всему телу.
Роль печени, по теории Галена, состоит в том, что она принимает переваренную пищу в своей нижней части и трансформирует ее в кровь, которая выходит по большой вене, расположенной в верхнем ее отделе. Проникшая в организм с дыханием жизненная сущность превращается в этом органе в «вегетативную пневму», источник питания животного. Вегетативная пневма, смешанная с кровью, выходит в эту большую полую вену, которая сразу же разветвляется, давая начало всем остальным венам тела.
Таким образом, складывается понятная общая схема. Вены являются каналами для питающей ткани крови, по артериям передвигается жизненно важная животворная пневма; а по нервам – психическая пневма, которая передает тканям движение и чувствительность. Периферия сообщается с центром посредством жизни и врожденного тепла. Еще в семнадцатом веке, не говоря уже о втором, эта система казалась довольно убедительной.
К сожалению для репутации Галена, сегодня хорошо известно, что в человеческом организме нет пневмы, нет гуморов и врожденного тепла, так же, как нет и никакой чудесной сети. В том самом абзаце в трактате «О назначении частей человеческого тела», где ученый описывает, как он понял назначение чудесной сети, несмотря на то, что не имел экспериментальных доказательств, он гордо заявляет, что телеологическая рука богословия направляет его исследовательские опыты даже больше, чем наука:
И теперь я должен повторить то, что говорил в начале этой работы, а именно, что никто не сможет правильно определить функцию какой-либо отдельной части, если не будет четко понимать, как действует весь инструмент.
Для Галена «действие всего инструмента» – это демонстрация совершенства работы Бога.
Возможно, это слишком упрощенное резюме для ряда его оригинальных идей, которые зачастую гораздо более сложны и часто противоречат друг другу. Но оно приводится здесь лишь с целью показать, насколько сильно Гален был увлечен философскими размышлениями и богословием. Именно этот образ мыслей приводил в отчаяние начинающих медиков в эпоху Возрождения в процессе обучения. Раздражаясь из-за его ошибок, они забывали о его реальном вкладе в науку и о том, что именно он разработал те экспериментальные методы, которые они применяют в своей деятельности.
Гален делил заболевания на три категории: те, что возникают из-за нарушения баланса гуморов, болезни тканей и органов. Его методы лечения, что неудивительно, аналогичны тем, которые использовались «гиппократиками». Вредные вещества, такие как гумор, должны были быть выведены из организма приемлемыми способами. С симптомами предписывалось бороться с помощью средств, оказывающих противоположное действие. То есть при охлаждении прикладывали тепло, а кровотечение использовали для уменьшения избытка гумора. Кровопускание также считалось полезным при лечении лихорадки, острого воспаления и сильной боли. Поскольку необходимо лечить не только конкретное заболевание, но и организм в целом, часто предписывали изменения диеты, смену климата и того, что сегодня мы называем образом жизни. Пациентам рекомендовали массаж, гимнастику, а также различные ванны, от солнечных до грязевых.
Гален унаследовал от своих учителей глубокую веру в эффективность фармацевтических препаратов, предписываемых отдельно или в различных комбинациях. Сам он был весьма экстравагантным в применении лекарств, особенно растительного происхождения. Назначение сразу нескольких лекарственных средств в значительной степени соответствовало обычаю того времени, но Гален, кажется, превзошел сам себя, пытаясь угодить своим пациентам, – искушение, которому некоторые доктора по сей день не могут противостоять. Историк медицины Джордж Сартон отмечает, что Гален заказывал препараты из всех частей Римской империи и за ее пределами. Ингредиенты для его снадобий импортировались из таких далеких стран, как Сирия, Египет, Малая Азия, Индия, Македония, Северная Африка, Испания и Галлия. В его сочинениях содержится множество очень сложных рецептов, один из которых включает сто компонентов. Определение «галенический» до сих пор остается в фармацевтическом словаре и означает класс препаратов, полученных нехимическим путем.
Концепции заболеваний и методы лечения Галена продолжали оказывать огромное влияние на повседневную медицинскую практику даже после того, как теории, на которых они основывались, были развенчаны. На самом деле, то, что большое количество его средств по-прежнему используется XXI веке, многое говорит о прогрессе медицины за последние пятьдесят лет. В 1934 году Джозеф Уолш, большой знаток научного наследия Галена, перечислил в одной из своих публикаций следующие ингредиенты:
Опиум, гиосциамус, дубильная кислота, мел, имбирь, алоэ, скаммоний, колоцинт, кассия, ревень, касторовое масло, оливковое масло, ячменная вода, солодка, скипидар, морской лук, хлорид аммония, сера, оксид цинка, сульфат меди, валериана, горечавка, кардамон, корица, а также различные бальзы и смолы. Они [древние врачи] открыли слабительные и диуретические [вещества, вызывающие обильное выделение жидкостей, таких как моча или жидкий стул], желчегонные [лекарства, увеличивающие выделение желчи], такие как скаммоний, отхаркивающие средства и несчетное количество аналогичных препаратов. Они могли порекомендовать больше эффективных средств от облысения, чем дюжина современных парикмахеров, и больше депиляторов, чем рекламируется в наших ежедневных газетах. Кроме того, мы все еще прибегаем, хотя и в меньшей степени, к массажу, мазям, ваннам, горчичным пластырям, банкам и кровопусканию.
Неудивительно, что Оливер Уэнделл Холмс сказал на собрании Массачусетского медицинского общества в 1860 году: «Я твердо убежден в том, что если бы все используемые сегодня лекарственные препараты можно было утопить на дне моря, тем лучше было бы для человечества, и тем хуже для рыбы».
Из всех принципов Гиппократа самым важным Гален считал умелое прогнозирование. Как видно из его сочинений, он считал, что понимание пути дальнейшего развития заболевания оказывает большую помощь не только в определении надлежащего лечения, но и вносит неоценимый вклад в дело расширения практики, что, безусловно, ценилось докторами с острова Кос, а также признается врачами Нью-Йорка и Бостона. Похоже, самым важным из элементов лечения, которое Гален в 176 году применил к недугу Марка Аврелия, был правильно поставленный диагноз – злоупотребление удовольствиями. Император далеко не сразу оценил вердикт, прогноз и терапию Галена, и должно было пройти немало времени, прежде чем выдающийся пациент проникся уважением к своему врачу и назначил его на высокую должность, которую он занимал в течение многих лет. Описание Галеном этого события полно красочных нескромных подробностей и заканчивается пересказом выражения Марком благодарности:
Он заявил, что теперь наконец у него есть врач, притом весьма мужественный, и не раз повторил, что я первый из врачей и единственный философ; у него было много целителей, не только алчных, но жадных до славы и почета, полных зависти и злобы. Как я только что сказал, это самый замечательный из сделанных мной диагнозов.
Гален педантично записывал все свои исследования. Он нанимал помощников, писцов и других подручных, кого сегодня мы бы назвали персоналом лаборатории старшего научного сотрудника вкупе с издательством и типографией. Объем его научного наследия ошеломляет. Он начал писать, когда был еще подростком, и продолжал до самой смерти в возрасте семидесяти лет. Уцелевшие работы Галена составляют половину всех древнегреческих сочинений в области медицины, дошедших до нас; если исключить Гиппократов корпус, соотношение становится пять к шести. Они занимают двадцать два толстых тома (с размером страницы в 1/8 газетного листа) плотно напечатанного текста в стандартном издании, выполненном Майклом Куном с 1821 по 1833 год. Несомненно, было много других греческих врачей, публиковавших множество работ до и после Галена; но то, что очень небольшое количество их манускриптов сочли заслуживающими сохранения для потомков, многое говорит о том уважении, которым пользовался Гален.
Чтение немногих переведенных на английский язык трактатов Галена приносит неожиданно большое удовольствие. Помимо всего описанного выше, его автобиографические комментарии, а также рассуждения, касающиеся этики, философии, религии и окружающей его действительности абсолютно хаотично рассеяны по всем сочинениям, поэтому читатель никогда не угадает, на какой странице засверкает сквозь время жемчужина познания. Среди моих самых любимых – тот, который имеет к современному миру даже большее отношение, чем к периоду, в котором он был написан. Речь идет о чрезмерном многословии, литературные памятники которому оставили авторы медицинских трактатов всех веков. Согласно данным Кеннета Уоррена, бывшего директора здравоохранения Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, в 1981 году в мире насчитывалось двадцать тысяч журналов по биологии и медицине. Количество таких изданий сегодня можно оценить, только сославшись на цифры, предоставленные историком Йельского университета Дереком де Солла Прайс: «На протяжении более трехсот лет стабильно сохраняются высокие темпы роста количества всей научной литературы с экспоненциальным увеличением примерно на 6–7 % в год, с удвоением количества изданий каждые 10–15 лет и десятикратным умножением в каждом поколении от 35 до 50 лет». Подобная статистика подтверждает обоснованность комментария, сделанного в 1985 году корреспондентом журнала New England journal of Medicine, который отметил, что множество доступных торговых точек гарантирует, что будут опубликованы все высококачественные и важные произведения, а также почти все посредственные сочинения, не говоря уже о подавляющем большинстве плохих или тривиальных». Каждый, кто читает хотя бы некоторые из основных журналов по своей специальности, хорошо знает, что в современной медицинской литературе содержится значительно больше дублирующих друг друга материалов, чем требуется для описания открытий, гораздо больше слов, чем нужно для ясных объяснений, и слишком много плохих писателей, чем читатели могут вынести. Хотя сегодня дела, безусловно, хуже, чем когда-либо, болезнь уходит корнями в древность и прослеживается, по крайней мере, до эпохи египетской цивилизации. Гален, который горячо возражал бы, если бы ему сказали, что он повинен так же, как любой другой, кто когда-либо испытывал восторг, увидев свое имя на обложке книги, предлагал любопытное решение:
В Древнем Египте существовал закон, согласно которому все изобретения в ремеслах должны были оцениваться собранием образованных людей, прежде чем будут написаны на колоннах в священном месте. Точно так же нам следует собрать ассамблею из справедливых и одинаково хорошо подготовленных ученых. Они будут тщательно изучать все написанное и оставлять для пользы общества только то, что сочтут заслуживающим внимания, и уничтожать все никчемное. Было бы еще лучше не сохранять имена авторов, как было раньше в Древнем Египте. По крайней мере, это обуздало бы чрезмерное рвение к славе.
Гален был убежден, что сумел разгадать многие тайны природы, и его открытия навсегда войдут в историю как истина в последней инстанции. Его послание потомкам гласило, что в дальнейших исследованиях нет никакой необходимости: «Тот, кто хочет заслужить славу делами, а не только умными речами, должен лишь познакомиться, что не кажется мне слишком большой проблемой, со всем, чего я достиг на пути активного исследования в течение всей моей жизни». На протяжении всего Средневековья и большей части шестнадцатого века люди верили ему на слово: вместо того чтобы осознать, что он заложил принципы научного исследования, они игнорировали те части его трактатов, которые описывали экспериментальные методы, обращая внимание лишь на сделанные им выводы, но при этом не вникая в суть вопросов, которые он ставил; вместо того чтобы отбросить его иррациональные соображения и домыслы, они цеплялись за них, как будто они были написаны оракулом; вместо того чтобы думать самим, они поработили свои умы слепым доверием Галену.
У нас немного информации о полутора веках, последовавших за смертью Галена. Известно лишь то, что к середине четвертого века его авторитет в медицине стал неоспорим.
С этого момента он стал источником информации для каждого врача – истинным целителем, пришедшим на эту землю для того, чтобы разъяснить и распространить учение отца Гиппократа, который стал к тому времени уже мифологической фигурой. Галену же удалось возвести его в статус божества. Когда слава Рима померкла, нарастающая волна галенизма начала накрывать Византию и Восток, мерцая особым светом полунауки. Преломляясь через призму избирательности и перевода, становясь в результате все более суеверным, это спектральное сияние освещало меньше, чем скрывалось в отбрасываемой им тени.
В конце четвертого века власть Рима пошла на спад, уступая дорогу Восточной империи с центром в Константинополе. Ее господство продлилось более тысячи лет. За это время медицина наряду с другой научной деятельностью не продвинулась вперед ни на йоту, поскольку все силы империи были направлены на преодоление религиозных конфликтов, и в государстве преобладала политика своего рода бездействия, которую со времен тех мрачных дней по сию пору называют византийской. К счастью, появление мусульманской нации в восьмом веке вызвало к жизни культуру, жаждущую знаний, и вскоре научные трактаты греков были переведены на арабский язык. Не только работы Галена и Гиппократа, но также манускрипты Евклида, Птолемея и Аристотеля стали путеводной звездой для арабов, значительная часть последующих медицинских и научных сочинений которых была интерпретацией и развитием греческих учений. Арабские тексты стали вместилищем греческой науки.
Но процесс сопровождался проблемами, которые обычно возникают при переводе трактатов с одного языка на другой и передаче знаний от одного общества к другому.
Первая трудность заключалась в том, что перевод сам по себе сильно искажает передаваемые мысли, даже когда речь идет о гораздо менее разнородных культурах, чем эллинская и мусульманская. Более того, побывав в руках нескольких поколений составителей и биографов, многие из древних сочинений попали в руки переводчиков уже утратившими первоначальный вид. Когда арабский врач трудился над трактатами Галена, он, скорее всего, изучал перевод не оригинала, а его интерпретации кем-то из немногочисленной группы самозваных комментаторов, появившихся в Византии после смерти великого мастера. Среди наиболее плодовитых литературных шакалов были Орибасий в четвертом веке, Флавий Аэций и Александр Тралесский в пятом и шестом веках, соответственно, и особенно Павел Эгинский в седьмом веке. Последний написал семь томов, по большей части, на основе трудов Галена, заложив основы медицины на весь период, в течение которого мусульманские врачи были на пике своей славы. Он был одним из величайших хранителей медицинских знаний, унаследованных от древних греков, и, одновременно, самым известным ревизионистом, несмотря на его достойные одобрения намерения. Канон Павла спустя двести лет после его создания был переведен на арабский язык и стал фундаментом медицины, которую практиковали как мусульманские, так и говорящие на арабском языке еврейские врачи того времени. Среди них Рази, Али Аббас, Альбукасис, Исаак Исраэли, Маймонид и великий Авиценна, чей «Канон врачебной науки» в одиннадцатом веке стал, говоря словами Филдинга Гаррисона, «первоисточником мудрости в Средних веках». О том, что некоторые критики были возмущены его ревизионизмом, свидетельствует замечание, сделанное два с половиной столетия спустя врачом-философом Арнальдо де Виланова, который смотрел на него как на «профессионального писаку, который оболванил европейских медиков неправильным толкованием Галена».
Именно эти арабские тексты в конце концов были переведены на латинский язык в одиннадцатом и двенадцатом веках. Все началось в бенедиктинском аббатстве Монте-Кассино в одиннадцатом столетии.
Там карфагенский монах, известный как Константин Африканский, «Магистр Востока и Запада», перевел множество арабских медицинских трудов на латынь. Немецкий историк медицины Карл Зудгоф назвал его работу «симптомом великого исторического процесса» внедрения мусульманского и еврейского научного метода в западную медицину и возвращения блудного искусства исцеления к своим истокам. Хотя перевод греческих текстов на латынь оказал большое стимулирующее воздействие на европейскую мысль, в конце концов, европейцы изучали именно работы Галена, которые были переработаны компиляторами, такими как Павел, и переведены с греческого на арабский, а затем на латинский язык. Когда к проблеме неоднократного перевода прибавляются потенциальные ошибки, сделанные необразованными книжниками, кропотливо печатающими вручную каждую рукопись, становится очевидным, что только чудо могло предотвратить появление крупных искажений. Увы, но чуда не случилось, и истинного возрождения греческого учения пришлось ждать до завоевания Константинополя турками в 1453 году, когда греческие ученые мигрировали в Италию, забирая с собой подлинные книги и древние рукописи. Вследствие этого европейцы начали изучать греческий язык, читать Галена и Гиппократа в оригинале, переводя их сразу на латынь. Только тогда настоящая медицинская наука вновь могла начать развиваться с того места, где ее оставил Гален тысячу триста лет назад. Печальная ирония заключается в том, что его новые интеллектуальные наследники использовали его же экспериментальный метод, чтобы развеять репутацию древнего ученого в пыль; акцентируя свое внимание на его ошибках и искажениях его учения, они забыли, что именно он создал каркас, на основе которого они теперь могут строить. В 1896 году в ежегодной посвященной памяти Гарвея лекции для врачей Королевского колледжа доктор Джозеф Пейн, врач из больницы Святого Томаса, напомнил о незаслуженно забытых заслугах Галена:
Открытие Гарвеем кровообращения [1628] было кульминацией движения, начавшегося полтора века назад с возрождения греческой медицинской классики и особенно работ Галена; ибо без настойчивости Галена в отношении важности анатомии в каждой отрасли медицины и хирургии дальнейшее развитие анатомии, вероятно, никогда не состоялось бы. Какие почести или благодарность получил Гален за эту выдающуюся услугу? Либо скудная похвала наших современников, либо ее полное отсутствие… В некоторых современных работах, иногда даже в наших ежегодных лекциях мы слышим только о поразительных ошибках Галена. Пожалуй, не существует другого человека, равного ему по интеллекту, которого так упорно неправильно интерпретировали и даже искажали, что, несомненно, является последствием того экстравагантного поклонения, с которым к нему относились в прошлом.
В конечном итоге именно к Марку Аврелию нам следует обратиться, чтобы найти слова, которые сам Гален хотел бы о себе услышать. Десятки поколений европейских школьников усовершенствовали свой греческий, читая «Размышления» философа-императора, которые классицисты называют самым возвышенным этическим произведением древнего разума. Каждое мгновение жизни благородного автора, и только в лучшие моменты жизни Галена, эти два великих мыслителя второго века подтверждали и показывали пример неуклонного следования одному из наиболее часто цитируемых величественных обетов:
Я ищу истину, от которой еще никто никогда не потерпел вреда.
Фронтиспис тома I латинского перевода Галена, опубликованного венецианской типографией Джунта в 1541 году. Фотография Уильяма Б. Картера. (Предоставлено Йельской медицинской исторической библиотекой.)
3. Пробуждение. Андреас Везалий и Ренессанс медицины
Существует несколько сочинений, которые внесли ни с чем не сравнимый вклад в развитие наук, к которым они имеют отношение, а имена их авторов знакомы даже тем, кто не обладает глубокими знаниями в соответствующих областях. Пожалуй, наилучшим примером является работа Чарлза Дарвина «Происхождение видов». Лишь небольшое количество произведений воспринимается как действительно монументальные творения признанных гениев, известных всему миру, таких как Галилео, Ньютон, Фрейд и Эйнштейн. Однако такое отношение к выдающимся шедеврам недальновидно. Следует принимать во внимание факт, что выход в свет единственной публикации, менее известной и менее универсальной по значимости, чем опусы этих неоспоримых авторитетов, приводил к тому, что другие ветви научного знания, которые не считаются такими же важными, как, к примеру, физика и психология, кардинально меняли направление своего развития.
Есть и еще один недостаток такого ограниченного восприятия. Он возникает не столько из-за близорукости, сколько из-за неясного представления о том, как на самом деле осуществляется научный прогресс. Эта специфическая форма интеллектуального астигматизма произрастает из убеждения, что любой значительный шаг вперед возможен только в результате озарения, подобного удару молнии, когда новые знания создаются на пустом месте. В реальности ни одно большое научное открытие не было сделано в одно мгновение; важные концепции вырастают только из ценных предшествующих находок. Для первого предложения этой главы я выбрал глагол «вносить», а не более эффектный «создавать». По сути же, великие ученые представляли свои дары миру, только когда он был готов их получить (хотя иногда брыкался и вопил), в силу культурных изменений, которые привели человечество в ту точку и подготовили такую среду, из которых могло возникнуть озарение в выдающихся умах. Появление каждого столпа науки было предопределено, а предшественники, чья работа определила рождение нового направления, благодаря их находкам и интерпретации информации сделали их открытия просто неизбежными. Итак, знаменитое произведение скорее вносит свой вклад в общее дело, чем создает абсолютно новую концепцию в тот момент, когда один человек смело объявляет, что настало время открыто признать то, о чем другие начали догадываться. Тогда появляется новое видение истины и обретает форму, и все потому, что конкретный исследователь собрался с духом и рискнул сделать решающий шаг, выйдя вперед из шеренги своих собратьев.
Даже менее заметные поворотные точки в науке немногочисленны, хотя и не так редки, как принято считать. Тем не менее их разделяют продолжительные временные интервалы, но, как ни странно, в один год произошли сразу два подобных открытия – одно в астрономии, другое в медицине. Еще более неординарным это удивительное совпадение делают два обстоятельства: во-первых, ученым-астрономом был один из старейших ученых, заслуженный научный авторитет, в то время как плодотворные усилия в медицине принадлежали одному из самых молодых исследователей; во-вторых, они оба получали докторскую степень в одном университете в Падуе. Семидесятилетний Николай Коперник в 1543 году увидел, вероятно, уже на смертном одре, первую печатную копию своего труда De revolutionibus orbium coelestium («О вращениях небесных сфер»), в котором он доказал, что именно Солнце, а не Земля является центром нашей Солнечной системы. Двадцативосьмилетний Андреас Везалий впервые в своей работе De Humani Corporis Fabrica («О строении человеческого тела») точно описал анатомию человека и метод ее изучения, проложив путь для современной научной медицины.
Книга Везалия – это олицетворение слияния науки, технологии и культуры, какого не встретишь, возможно, ни в одном другом произведении. Она появилась как квинтэссенция живительного духа эпохи Возрождения и представляет собой в некотором смысле наивысшее выражение образа мыслей, свойственного тому времени: празднуя возвращение к логике и методам наблюдения древних греков, автор избегает их пристрастия к гипотезам и философским спекуляциям, возрождая лучшие традиции античности и избавляясь от ее ошибок. Особенно ярко это выражено в языке текста, который представляет собой научную редакцию латинского, напоминающего самую точную римскую риторику. Публикация Fabrica, как ее обычно называют, позволила медицине выйти наконец из средневекового мрака, в который ее погрузили разнообразные компиляторы, интерпретаторы и переводчики Галена. Здравый смысл и научная непредвзятость пронизывают суждения автора, воспитанного на лучших произведениях классики, хорошо владеющего языком и знающего литературу двух древних культур, человека, который проникся вновь открытыми для человечества ценностями античности, подарившими Европе эпоху Ренессанса.
Возвращаясь к греческой традиции изучения естественной природы, Fabrica впервые в истории предоставила специалистам техническое средство – точные, великолепно аннотированные иллюстрации, – по которым можно было изучать секреты строения человеческого организма. Ибо, несмотря на литературные достоинства, не текст принес успех этой книге; на самом деле, приведенные в Fabrica описания остаются наименее читаемыми по сравнению с другими великими трактатами, посвященными медицине, и по сей день лишь некоторые фрагменты этой книги переведены на английский язык. Величайшую славу шедевр Везалия заслужил своими иллюстрациями. Выполненные одним из лучших учеников Тициана, они являются живым воплощением анатомии на печатных страницах.
Для художников эпохи Ренессанса был важен не только ракурс изображения, но и составляющие элементы движения – как и почему каждое движение выполняется. Именно стремление постигнуть эту тайну мобильности, шла ли речь о живых объектах или механических, побуждало Леонардо да Винчи на протяжении всей жизни исследовать человеческое тело. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на его рисунки. Современная медицина во многом обязана своими знаниями Андреасу Везалию, проделавшему множество вскрытий, но, возможно, еще больше Леонардо, Микеланджело, Тициану, Рафаэлю и всем остальным художникам-гуманистам, кто не жалея времени и титанического труда изображал человеческое тело в движении. Уже в самом названии книги Везалия отражен тот факт, что в ней описывается не статическая анатомия. Писатель и художник выходят за рамки представления формы – они воссоздают движение. Вслед за Галеном Везалий объясняет, каким образом функционируют различные органы человеческого организма. О значении слова fabrica размышлял английский историк медицины Чарльз Сингер в статье, которую он написал для литературного приложения Times в честь четырехсотлетия событий 1543 года.
Его нельзя переводить как «устройство», слово «механизм» также не передает его сути. В классическом использовании оно означает «мастерская ремесленника», в которой что-то происходит или, если смотреть шире, само искусство или ремесло. Это значение отражено в современном немецком Fabrik (фабрика), и даже лучше во французском fabrique, которое описывает и процесс создания, и место, где он происходит. В латинском эпохи Ренессанса слово имеет кинетические ассоциации. Хорошо передает смысл – если пренебречь литературностью выражения – «работает» или «деланье». De Humani Corporis Fabrica, On Man’s Bodily Works («О том, как работает человеческое тело»). Речь всегда идет о «работе» в действии, о живой анатомии, которую Везалий пытался описать и, как следствие, он всегда имел в виду тело в целом – живое тело.
Соответственно, необходимо понимать, что страницы Fabrica – это кульминация совместной работы многих мастеров. Их появление было бы невозможным, если бы художники того времени не могли наблюдать и принимать участие во вскрытии человеческих трупов, и триумф итальянской художественной школы никогда бы не состоялся, не будь анатомов.
Над страницами Fabrica потрудились талантливые мастера и других специальностей. Это полиграфисты с их новыми разработками в области методов печати, и изготовители великолепных деревянных матриц, на которые нарисованные иллюстрации переносились способом, используемым лишь последние семьдесят лет, предшествующие публикации. Для большинства не увлеченных историей науки читателей, важность значения Fabrica состоит в том, что это издание само по себе является шедевром искусства изготовления книг. Печать, иллюстрации, раскладка текста и изобразительного материала – все эти факторы сделали эту публикацию поворотной точкой не только в медицине, но и в истории образования, а также в развитии книгопечатания. Некоторые современные издания приблизились к качеству изготовления Fabrica, но ничего подобного до сих пор так и не сделано; этот фолиант стал эталоном оформления научной литературы. Технология его печати ушла довольно далеко от методов печати его ближайших предшественников и стала образцом для создателей современных учебников.
Итак, публикация Fabrica стала возможной благодаря развитию более совершенных технологий книжного производства и возникновению новых гуманистических философских идей в эпоху Ренессанса. Весьма важную роль сыграло также появление университетов, особенно в Италии.
Смысл слова «университет» определить непросто. Первоначально им называли более или менее организованное сообщество учащихся и учителей. Возникновение данной концепции обычно связывают с академией Платона, которая была названа в честь оливковой рощи Академии, в которой читал свои лекции древнегреческий философ. Огромная библиотека Александрии, основанная в третьем веке до н. э., являлась интеллектуальным центром аналогичного пространства для обучения и преподавания, но гораздо более обширного. Близким по духу явлением было развитие раввинских академий в первые столетия н. э., где были сформулированы принципы талмудического иудаизма и которые положили начало возникновению иешив, или семинарий. Фактически они, возможно, оказали большее влияние на генезис европейских университетов, чем существовавшие ранее учреждения, поскольку иешивы, в отличие от греческих центров обучения, продолжали процветать и в Средние века.
Как бы то ни было, школа, основанная прежде всего для изучения медицины в Салерно в девятом веке, обычно считается первым университетом. Косвенным доказательством влияния иудейских академий является то, что, несмотря на разгул религиозных преследований в те времена, Салерно оставался безопасным интеллектуальным убежищем для еврейских учителей и студентов. Хотя, честно говоря, среди последователей старой медицинской школы Галена было так много арабоговорящих евреев, что у администрации университетов не было особого выбора в этом вопросе, независимо от их пожеланий.
В одиннадцатом и двенадцатом веках, когда арабские рукописи начали переводить на латынь и Европа вновь открыла для себя мудрость греческих ученых, в разных городах появились обучающие центры, на основе которых один за другим начали возникать знаменитые университеты эпохи Ренессанса. Несмотря на различия в организационной структуре и целях их создания, основные функции всех учреждений совпадали: научные исследования, изучение и обсуждение вопросов профессорско-преподавательским составом и студентами, которые собирались из разных уголков страны, а в особенно важных случаях – из всех частей Европы.
Из вышесказанного можно заключить, что тогда в обществе царила известная свобода мысли и отсутствовало определенное гражданство, но в целом дело обстояло не совсем так. С одной стороны, преподавание в университете обычно контролировалось духовенством; в последующем процессу обучения заметно препятствовали различные территориальные конфликты, религиозные войны и иные проявления нетерпимости, свойственные тому периоду. В Италии ситуация была иной. Власти Венецианской республики понимали, что экономическое процветание является следствием свободной торговли, поэтому для защиты интересов государства они обеспечивали безопасность прибывающим иностранцам и поощряли открытие иноземцами предприятий на своей территории. Интеллектуальная свобода – результат просвещенных взглядов общества – принесла свои плоды тогда и стоит на службе западной цивилизации по сей день. Не последнюю роль в этом сыграла своевольная академическая атмосфера университета в Падуе, в котором согласно мудрым законам Венеции учились студенты из всех европейских стран. Именно отсюда началось возрождение и процветание науки в эпоху Ренессанса. Историк медицины Артуро Кастильони так описал этот итальянский город:
В то время, когда неукротимая страсть к учебе, бесконечная любовь к красоте и неиссякаемое стремление к славе одухотворяли все работы итальянских художников и ученых, студенты и преподаватели из всех уголков Европы прибывали в Падую, ставшую центром научных исследований. Здесь астрономы раскрывали тайны звезд, врачи узнавали секреты жизни, математики искали ответы на самые сложные задачи геометрии и алгебры. Коперник, польский астроном, подготовил почву для исследований Галилея; Везалий и Флеминг предварили открытия Гарвея и Мальпиги; итальянец Фракасторо проложил путь современной патологии.
Из всех проявлений гуманизма эпохи Возрождения наиболее очевидным можно назвать возрождение интереса к изучению человеческого тела. Христианство препятствовало таким исследованиям, пренебрегая телесной оболочкой человека в пользу его духовной жизни и удовлетворяясь телеологическими предписаниями Галена. Хотя его Создатель сильно отличался от иудео-христианского Бога, церкви и синагоги были едины в убеждении, что система Галена гораздо лучше согласуется с их догмой, чем любые попытки объективного исследования.
Тем не менее из всего вышесказанного не следует делать вывод, что церковь официально запрещала вскрытие трупов. Когда медицинская школа в Болонье добавила в свою учебную программу рассечение человеческого тела для анатомических демонстраций в 1405 году и Падуя последовал этому примеру в 1429 году, епископы не выразили никакого протеста. Во Франции еще в начале 1345 года врач, известный под именем Гуидо де Виджевано, опубликовал работу, подробно описывающую процесс вскрытия. А в 1482 году папа Сикст IV, который учился в обоих итальянских университетах, пришел на помощь Тюбингенскому университету, издав папскую буллу с разрешением вскрытия трупов при условии, если будет предоставлено разрешение местной духовной канцелярии.
Сотрудничество священников, вероятно, было вызвано не столько пониманием важности медицинской науки, сколько благосклонным отношением к художникам, которые, украшая своими работами церкви, способствовали укреплению репутации духовенства, поскольку в эпоху Возрождения храмы возводились для прославления не только Бога, но и Его служителей. Не прошло и десяти лет после буллы Сикста, как настоятель церкви Санто-Спирито во Флоренции позволил молодому художнику по имени Микеланджело Буонарроти проводить вскрытия.
Итак, художники собирались вокруг столов анатомов и порой ассистировали хирургам, подавая им инструменты для препарирования. Как правило, преподаватели вскрывали тела казненных преступников и использовали их для демонстрации внутреннего строения организма, описанного в разнообразных научных работах. Процесс обучения изображен на иллюстрации, опубликованной в Венеции в 1491 году в сборнике трактатов Fasciculus Medicinae Йоханнеса де Китама. Профессор, взгромоздившись на стул, стоящий на возвышении, монотонно декламирует латинский перевод работ Галена, а в это время внизу невежественный цирюльник-хирург рассекает труп, и едва ли более сведущий помощник показывает части тела не очень-то заинтересованным студентам. Вскрытия, или анатомии, как их называли, проводились один или два раза в год с целью доказать истинность утверждений Галена. Поскольку профессор никогда не спускался со своего магического престола, чтобы взглянуть на демонстрируемые органы, а хирург и его помощник вряд ли понимали, чем именно они занимаются, несколько дней, ежегодно посвящаемые этим упражнениям, были не чем иным, как формальным выполнением учебной программы, которая носила скорее теоретический, чем практический характер. Только художники действительно нуждались в знании анатомии. Для врачей в такой демонстрации не было особой пользы, исключая возможность получить самые общие представления, – все, что им было необходимо, они могли найти в трактатах Галена.
Иллюстрация из сборника трактатов Fasciculus Medicinae Йоханнеса де Китама (Венеция, 1491) с изображением процесса обучения анатомии до опубликования De Humani Corporis Fabrica Андреаса Везалия. Цирюльник-хирург рассекает труп, а его помощник показывает части тела скучающим студентам; профессор, декламирует работу Галена на латыни, никогда не вставая со своего стула. (Факсимиле, любезно предоставленное профессором Томасом Форбесом.)
И все же были отдельные личности, чье любопытство выходило за пределы простого согласия с истинностью утверждений древних авторитетов. Некоторые анатомы начали вскрывать человеческие трупы, чтобы самостоятельно изучить структуру тела. Хотя они продолжали подгонять результаты своих исследований под данные, полученные Галеном, оправдать такие искажения становилось все труднее. К тому же стоит напомнить: были еще художники. Им не было никакого дела до Галена: все, к чему они стремились, – найти forma diuina (божественную форму). Андреа дель Верроккьо, умерший в 1448 году, был, вероятно, первым из тех, кто последовал за такими общепризнанными гениями как Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Микеланджело, Рафаэль и их менее знаменитыми предшественниками Андреа Мантенья и Лукой Синьорелли.
Зигмунд Фрейд описал Леонардо как человека, который проснулся слишком рано в темноте, когда другие еще спали. В том, что они продолжали дремать, Леонардо был виноват, по крайней мере, не меньше, чем они сами, поскольку он не сумел донести свое видение и широко распространить свои знания. Многие материалы из его блокнотов сегодня расшифрованы, но для современников они были по большей части недоступны, исключая его художественные произведения и работу под названием «Трактат о живописи». Но даже это сочинение было опубликовано спустя много лет после его смерти, и лишь некоторые из его современников были знакомы с этой рукописью. Мало того, что он писал свои заметки в обратном направлении, справа налево, он к тому же соединял или, наоборот, разделял части слов произвольно, не придерживаясь никаких правил. Он не пользовался пунктуацией, изображая некоторые буквы алфавита по-своему, при этом применяя уникальную, разработанную лично для себя, систему стенографии. Вдобавок к этим проблемам он имел привычку бросать мысль посередине в одном углу страницы и записывать ее окончание в другом или вообще на отдельной странице. В результате мы столкнулись с посланием медиума, которое похоже на иероглифы, выбитые на розеттском камне. Задача осложнялась из-за особого склада его необыкновенного ума. Некоторые считают его неординарность своеобразной гранью гения, другие его манеру визуализировать мысли в виде изображений вместо выражения ее в словах называют неадекватностью. Ряды последовательно расположенных справа налево изображений украшают некоторые самые значимые из его страниц.
В результате скрытности да Винчи и использования им тайнописи импульс, который он придал изучению анатомии, почувствовали очень немногие его товарищи. В «Трактате о живописи» он дал понять, что планирует опубликовать большую работу по анатомии, но она так и не была написана. Зимой 1510 года он сотрудничал с молодым анатомом Маркантонио делла Торре, но этот проект был прерван смертью врача уже в следующем году. Джорджо Вазари в своем фундаментальном труде «Жизнеописание живописцев» написал, что делла Торре «пролил свет на анатомию, которая до него прозябала почти в полном мраке невежества… В этом ему были чудесным подспорьем талант и труд Леонардо, который изготовил книгу с выполненным с величайшим усердием изображением органов, которые Везалий своими руками вычленил из тел, при этом собственноручно написав текст красной пастелью и сделав аннотации пером». В другом месте Вазари подчеркивает: «Тот, кто преуспеет в чтении заметок Леонардо, будет изумлен, обнаружив, насколько здраво этот божественный дух рассуждает об искусстве, мышцах, нервах и венах, проникая в самую суть вещей».
Похоже, единственным врачом того времени, написавшим в 1527 году о работе по анатомии да Винчи, был Паоло Джовио, который являлся учеником делла Торре:
Чтобы изображать различные суставы и мышцы, как они сгибаются и распрямляются согласно законам природы, он [Леонардо] вскрывал в медицинских школах трупы преступников, не брезгуя этой бесчеловечной и тошнотворной работой. Затем он с высочайшей тщательностью сводил в таблицы все органы до самой мельчайшей вены и соединения костей, чтобы его работа, которой он посвятил столько лет, могла быть напечатана с медных гравюр, как пособие для мастеров искусства.
Трудно оценить, насколько работа Леонардо оказала влияние непосредственно на врачей, поскольку они, возможно, и пошевелились во сне, но, конечно, не многие из них пробудились, пока Андреас Везалий не вытащил их из постели в 1543 году. Мой любимый друг – покойный Кеннет Киле, который был, несомненно, величайшим из исследователей анатомических работ да Винчи, – ценил его выше, чем большинство ученых, называя его «сутью новой творческой анатомии», и писал:
Смерть стала непреодолимым препятствием на пути его успеха в работе с делла Торре. Но движение продолжилось, особенно во Флоренции. Через Андреа дель Сарто Леонардо познакомился с его учеником Россо Фьорентино, который сам планировал анатомический трактат… Еще раз соединение двух умов осуществилось, когда Микеланджело рассматривал сотрудничество с Реальдо Коломбо в будущей работе по анатомии. Эти примеры демонстрируют, как Леонардо взломал твердыню фанатизма и предрассудков, которые похоронили анатомию на многие века; как он подтолкнул к слиянию искусство и науку на основе анатомии; и как он подготовил рождение шедевра Везалия и Калькара. В 1543 году, когда последний был опубликован, он не остался незамеченным и не заслужил осуждений.
Кто заслуживает похвалы, так это профессора и художники, которые после изобретения наборного шрифта около 1450 года начали сотрудничество по производству учебников анатомии. Первым был уже упомянутый ранее Fasciculus Medicinae Китама с несколькими великолепными гравюрами на дереве. В последующие десятилетия появился целый ряд подобных изданий, среди которых две публикации молодого бельгийца, снабженных превосходного качества иллюстрациями, хотя в текстах по-прежнему описывалась античная анатомическая система Галена. Этим бельгийцем был Андреас Везалий, герой нашей истории.
Если когда-либо существовал человек, воплотивший в себе как архаичные, давно изжившие себя, так и самые передовые, прогрессивные черты эпохи Возрождения, то это, несомненно, был Андреас Везалий. По первому образованию он был классицистом, а по складу ума – активным сторонником научных исследований. Тот же бодрящий ветер перемен, который вел великих европейских навигаторов к еще не открытым континентам, начинает наполнять паруса корабля с еще небольшим экипажем ученых на борту. Магелланы и Да Гамы направляли свои пытливые взгляды через моря на восток и на запад; ученые пристально вглядывались в небо и внутрь человеческого тела.
Родившийся 31 декабря 1514 года, Везалий стал пятым в семейной династии выдающихся медиков, бывших либо учеными, либо врачами королевского дома. Имя Андреас он получил в честь своего отца – аптекаря Габсбургов, сначала Маргариты Австрийской, а позже ее племянника императора Священной Римской империи Карла V. Хотя семья проживала в Брюсселе, их родовой дом был в городе Везель в Клеве, откуда и берет свое происхождение имя Везалий.
С самого момента рождения мальчик был подвержен неуловимому влиянию будущей профессии. Окна задней части дома выходили на незаселенный, частично покрытый лесом клин земли, который называли холмом Галлоуз, потому что в самом дальнем его конце располагался небольшой участок, где проводились казни преступников. Тела мертвых злоумышленников оставляли на волю стихий и на съедение птицам, так что у Андреаса было много возможностей, хоть это и было омерзительно, рассмотреть, как выглядят человеческие кости и внутренние органы. Трудно сказать, сыграли свою роль эти естественные анатомические демонстрации или нет, но в поздние годы он вспоминал, что, будучи еще совсем молодым, начал вскрывать мелких полевых животных, таких как крысы, кроты и орешниковые сони, а также случайных бродячих кошек или собак, которым не посчастливилось встретиться на его пути.
Жалко несчастных животных, но и Андреас Везалий заслуживает сочувствия за то, как был использован этот конкретный отрывок его мемуаров. В раннем образце исторического труда, написанного с точки зрения психоанализа, Григорий Зилбург в 1943 году писал о Везалии: «Его ранний интерес к расчленению и вскрытию животных явно представляет собой довольно сложный набор примитивных деструктивных тенденций. Даже в случае, если они направлены на достижение высоких целей, достигнув значительной силы, они в конечном итоге приводят к депрессивным состояниям, которые, в свою очередь, могут стать настолько тяжелыми, что признаются патологией».
Зилбург изложил в таком духе всю историю жизни Везалия, в конечном счете экстраполируя подобные соображения из области разумных дискуссий в хитроумную страну необоснованной глупости. Автор написал немало странных вещей, прежде чем, наконец, искупил свою вину одним блестящим проницательным обобщением.
Закончив обычное для того времени начальное образование, пятнадцатилетний Андреас переехал из Брюсселя в Левен, чтобы учиться там в университете. Сегодня молодой человек пятнадцати лет может показаться слишком юным, но тогда именно в этом возрасте начинали занятия в колледже. Курс обучения в Левене позволял получить степень магистра искусств, эквивалентную современной степени бакалавра и необходимую для поступления в аспирантуру. Бо́льшая часть учебной программы посвящалась изучению латинского и греческого языков, а также философии и риторики. С самых ранних лет, будучи еще под опекой матери, и на протяжении всей жизни Везалий был очарован классической культурой. (Возможно, именно в Левене он получил начальные знания иврита.) Ко времени окончания курса в университете восемнадцатилетний стипендиат решил продолжить семейную традицию, начав карьеру в медицине. Поскольку в Левене не было хорошей медицинской школы, в августе 1533 года он отправился в Париж.
В отличие от итальянских, парижские университеты были средоточием самой консервативной медицинской доктрины и косных методов обучения. Как кандидат на получение степени бакалавра медицины, Андреас провел первый год, изучая трактаты Гиппократа и работы Галена в компиляции Павла Эгинского и некоторых арабских переводчиков. Второй год был полностью посвящен анатомии Галена, которую преподавали стандартным способом «под руководством» профессора, монотонным, наводящим дремоту голосом читающего латинские тексты. В курсе анатомии, который читал Жак Дюбуа, или, как его иначе называли – Якоб Сильвия, было много неточностей, так как профессор проводил вскрытие собак для иллюстрации фактов, установленных Галеном. В последующие годы Везалий напишет, что он практически ничего не узнал из анатомии человека за годы обучения в Париже. По его словам: «За исключением восьми мышц живота, безжалостно искромсанных и в неправильном порядке, никто… никогда не показал мне ни единой мышцы или какой-нибудь кости, не говоря уже о сети нервов, вен и артерий».
Но юный мятежник не хотел ни тратить свое время, ни хоронить свои таланты. Он был настолько нетерпелив и импульсивен, что не стал скрывать свой опыт в области вскрытий. Поддавшись на уговоры своих товарищей-студентов, уже на третьем по счету вскрытии он взял нож цирюльника-хирурга и выполнил более искусную диссекцию, чем любой из его молодых коллег и даже профессоров могли наблюдать когда-либо. Его опыт самоучки не остался незамеченным. Когда один из его учителей Гюнтер Андернах готовил компиляцию небольшого неопубликованного анатомического трактата Галена, он обратился за помощью к своему, очевидно, самому одаренному студенту. В публикации, которая вышла в результате их общих усилий, Гюнтер описал своего ассистента как «молодое дарование с замечательным знанием медицины, греческого и латинского языков и весьма умелого в искусстве вскрытия». Везалий был не из тех, кто поет дифирамбы недостойным или преуменьшает свои заслуги; он с меньшим пиететом отнесся к своему наставнику, написав несколько лет спустя:
Я глубоко его почитаю и в своих сочинениях всегда называю учителем; но я бы хотел, чтоб мне досталось столько же ударов в жизни, сколько он произвел разрезов на телах людей и животных, за исключением тех, что были сделаны за обеденным столом. И я не думаю, что он обидится, если я скажу, что он, как никто другой, обязан мне за свои знания в анатомии, не считая тех, что есть в книгах Галена, которые являются общим достоянием.
Везалия не удовлетворял скудный материал, доступный для него в тех редких случаях, когда он мог вскрывать человеческие трупы. Он собирал кости из старых разрушенных могил на парижском Кладбище Невинных и вместе с несколькими однокурсниками совершал серии поисковых экспедиций на могильный курган в Монфоконе. Эта мрачная насыпь – невысокий холм – за северной стеной города, где находилась, говоря словами одного писателя, «лучшая виселица королевства». Там был построен большой склеп, украшенный шестнадцатью каменными колоннами более девяти метров в высоту, соединенными деревянными балками. Трупы преступников, казненных в разных частях Парижа, свозили в это место и подвешивали на балках, где они болтались до тех пор, пока не разлагались настолько, что их убирали в хранилище. Это было не очень приятное место. Современная бродячая собака – симпатичный песик по сравнению со свирепыми клыкастыми мародерами, слоняющимися по кургану, и студентам часто приходилось вступать в опасные состязания с ними и вездесущими воронами за остатки разлагающейся селезенки или небольшой части почки.
В отношении этих событий Зилбург также не мог не высказаться. Обсуждая участие Везалия в этих жутковатых приключениях и подчеркивая его лидерство, биограф ученого находит в них признаки того, что он был «пленником своих некрофильных и копрофильных наклонностей» и вообще был молчаливым, меланхоличным, непредсказуемым, угрюмым, душевно больным человеком».
Разумеется, все это может быть правдой; но в результате серьезных исследований свидетельств жизни Везалия не удалось обнаружить никаких сколько-нибудь заслуживающих доверия документальных подтверждений, оправдывающих такие определения. Легче восстановить витраж по нескольким осколкам, чем оценить личность по методам исследования научного материала, особенно учитывая недостаток информации, связанный с давностью событий.
Однако, несмотря на всю психоделическую болтовню, когда Зилбург придерживался проверенных фактов, его посещали некоторые очень красноречивые озарения, и, в конце концов, он смог представить образ Андреаса Везалия в нескольких предложениях, отражающих все, что этот человек олицетворял в зарождающемся мире медицинской науки:
В своей увлеченности [анатомией] он пошел дальше своих учителей Сильвия и Гюнтера. В возрасте четырнадцати лет эта страсть заставляла его вскрывать кошек и крыс. А в семнадцать-восемнадцать лет, повинуясь ее зову, он поднялся с ученической скамьи, отринув скучную декламацию работы Галена, перед лицом профессоров и нескольких сотен студентов вырвал нож из руки цирюльника и самостоятельно провел вскрытие трупа собственным смелым экспериментальным способом. В течение одиннадцати-двенадцати лет Везалий работал, влекомый этим мощным драйвом, для которого он нашел столь счастливое применение, почти полностью преобразуя примитивные, инфантильные, садистские наклонности в наивысшие профессиональные устремления; ни скептицизм друзей, ни открытая враждебность коллег и учителей, казалось, не могли удержать его на пути к своей цели. Он победил саму смерть, потому что, вскрывая и изучая мертвые разлагающиеся тела, он читал тайны жизнедеятельности живого человеческого организма. Кажется, в то время он действительно был одержим, как будто все, чего он хотел получить от жизни, – это осуществить свою единственную мечту.
Таким предстает перед нами Везалий. Здесь психиатру, который в большинстве других случаев вышел за границы имеющихся в его распоряжении доказательств, удалось ухватить самую суть индивидуальности ученого. Везалий был выдающейся личностью; легенды о нем слагали уже при его жизни, а все известные биографические данные подвергали тщательной проверке. Многие высоко ценят его ни с чем не сравнимые достижения, но есть и такие, кто обвиняет его в плагиате. Его целеустремленность подчеркивают так же часто, как его непостоянство, а количество страниц, посвященных его страсти к спорам (в этом он был похож на Галена), почти не уступает тем, что описывают его уважительное отношение даже к тем современникам, которых он мог бы по праву упрекнуть в некомпетентности. Но в целом, известно вполне достаточно, чтобы составить портрет Андреаса Везалия, хотя в оценке его заслуг и преданности науке мнения расходятся. По крайней мере, таким его образ сохранился в анналах медицины.
Везалию не суждено было задержаться в Париже и получить медицинскую степень. Через три года после его поступления в университет между Францией и императором Священной Римской империи Карлом V разразилась война, и ему пришлось вернуться на родину в империю. В 1536 году он был зачислен в медицинскую школу университета в Левене с зачетом предметов, сданных в Париже, и весной 1537 года ему присвоили степень бакалавра медицины. Его интерес к анатомии не ослабевал, как и его рвение в добыче образцов для изучения. Свой энтузиазм и готовность рисковать ради достижения цели Везалий ярко описал в истории про то, как он получил свой первый шарнирный скелет, соврав местным властям, что привез свое сокровище домой из Парижа. Джемма, которую он упомянул в своем рассказе, – это Гемма Фризиус, позже ставшая известным математиком и астрономом:
Прогуливаясь в поисках костей в том месте, куда, к большому удобству студентов, отовсюду привозили тела всех казненных, я наткнулся на высохший труп… Кости были абсолютно голыми и удерживались вместе только за счет связок, от мышц сохранились лишь небольшие части в местах их прикрепления к скелету… С помощью Геммы я вскарабкался на столб и потянул за бедренную кость; вслед за ней сдвинулись лопатки вместе с руками и кистями, хотя пальцев на одной из них, обеих коленных чашечек и одной из ступней не было. После того как мне удалось тайно в несколько приемов перенести ноги и руки домой (голову со всем туловищем я оставил на потом), вечером я решился выйти из города, чтобы забрать грудную клетку, которая висела на прочной цепи. Я горел таким сильным желанием… что не побоялся вырвать у ночи то, чего так жаждал… На следующий день я принес кости по частям домой через другие городские ворота… и составил скелет, который хранится в Левене в доме моего дорогого старого друга Гисберта Карбо.
Некоторое время спустя Везалий понял, что напрасно подвергал себя опасности. Когда он хотел получить труп для вскрытия, чего в Левене не случалось уже восемнадцать лет, ему пришел на помощь бургомистр города. Мы можем предположить, что до этого момента Везалий проводил вскрытия с обычными для того времени целями: чтобы собственными глазами убедиться в правильности учения Галена. Эта гипотеза подтверждается тем фактом, что его дипломная работа была парафразом книги арабского врача Рази.
О событиях жизни Везалия после получения степени известно немного. Мы знаем, что он уехал в Базель, где опубликовал второе издание своего парафраза работы Рази в компании Ruprecht Winter. Вероятно, под впечатлением от недолгого пребывания в швейцарском городе, который был в то время ведущим европейским центром книгоиздательства, он задумал серьезный проект, результатом которого в 1543 году стал его всемирно известный шедевр.
После выхода второго издания парафраза новоиспеченный бакалавр медицины отправился в Венецию, чтобы найти художника, который мог бы помочь ему сделать рисунки для гравюр на дереве с изображением серии запланированных им вскрытий. Вскоре он познакомился, возможно, через Тициана, со своим будущим другом бельгийцем Яном Стефаном ван Калькаром. Одновременно он изучал клиническую медицину, чтобы получить докторскую степень в Падуе. Университет располагался всего лишь в двадцати милях от Венеции, где Везалий проходил практическое обучение в больнице и в декабре 1537 года предстал перед экзаменаторами. Факультет Падуи не только присвоил ему степень доктора медицины с наивысшей оценкой, но на следующий же день назначил его профессором хирургии и анатомии с зарплатой сорок флоринов в год. Хотя в обязанности нового профессора входило чтение лекций по анатомии, его должность не считалась очень престижной по сравнению с положением других преподавателей медицины, чьи зарплаты были в несколько раз выше, чем у двадцатитрехлетнего новичка.
Прогрессивная образовательная политика университета Падуи позволяла членам факультета вводить разумные нововведения в методы обучения. Везалий немедленно воспользовался этой привилегией. Прямо в день своего назначения, 6 декабря, он провел серию вскрытий трупов, в которых сам исполнил все три роли: хирурга, демонстратора и лектора. После такого стремительного начала он быстро сформировал своеобразный педагогический стиль, благодаря которому стал популярным среди студентов: он лично препарировал трупы, параллельно давая разъяснения и иллюстрируя учебный материал на подвешенном рядом со столом скелете. В качестве средства ориентации он рисовал очертания костей на поверхности кожи до того, как произвести вскрытие трупа. Везалий составил большие схемы для демонстрации анатомии и всего того, что было известно о функциях органов. Он проводил вскрытия для демонстрации живых органов, а иногда вивисекцию мелких животных для сравнения их анатомии с человеческой. Таким образом, преподавание было многоплановым, включая объяснение физиологии, коррелирующее со строением скелета, и формируя цельную картину, которая фиксировалась в памяти с помощью схем и диаграмм.
На основе этих вскрытий в течение нескольких первых месяцев в сотрудничестве с Калькаром он изготовил шесть анатомических гравюр. Каждая из них состояла из центрального рисунка со сносками в виде букв и сопроводительным текстом по бокам страницы. В апреле 1538 года под заголовком Tabulae Anatomicae Sex («Шесть анатомических таблиц») были опубликованы эти шесть диаграмм, предвосхитив появление знаменитой Fabrica.
Tabulae – это серия гравюр, выполненных на деревянных досках размером 48,36×34,29 см. Три из них – изображения скелета, выполненные Калькаром, а остальные – собственные иллюстрации Везалия, демонстрирующие три основных системы кровообращения: артериальную, венозную и портальную. Хотя Везалий по-прежнему продолжал подстраивать собственные наблюдения под данные, приведенные в трактатах Галена, в его работах появились признаки того, что он убежден в наличии некоторых ошибок в утверждениях предшественника; например, он указывает на несоответствия между данным Галеном описанием определенных костей и его наблюдениями. Но о степени его неизбывного доверия к старым описаниям можно судить по тому факту, что он изобразил на одной из пластин несуществующую rete mirabile (чудесную сеть), спиральные сосуды, которые Гален якобы обнаружил у основания мозга.
Tabulae была переходной работой. Хотя во всех основных моментах она представляла собой экспозицию анатомии и физиологии в соответствии с учением Галена, это была первая попытка преподавателя медицины создать учебное руководство такой точности и качества. Самое важное то, что в Tabulae Anatomicae Sex уже присутствуют первые неуверенные намеки на будущие величайшие заслуги автора перед наукой – освобождение анатомии от ига авторитетов. Следующий небольшой шаг вперед Везалий сделал спустя месяц, когда опубликовал пересмотренное издание работы, которую два года назад он помогал подготовить Гюнтеру из Андернаха. Эта новая книга содержала поправки к нескольким второстепенным концепциям Галена.
Обе публикации Везалия были встречены с энтузиазмом, но еще более популярными были его лекции. Студенты толпились в амфитеатре, чтобы увидеть своими глазами новый метод обучения анатомии и рассказать о нем в других итальянских городах. По приглашению болонских студентов в январе 1540 года он провел серию анатомических демонстраций в этом городе. В течение нескольких недель он утолял страстное желание учащихся посетить его лекции, благодаря которым он стал знаменитым.
В жизни многих революционеров наступает момент, когда необходимо сделать смелое публичное заявление. Благодаря слову или поступку, согласно плану или по наитию, новый принцип, который до этого был бесформенным зародышем, неожиданно обретает вполне конкретные очертания. И с этого момента новая струя набирает силу, толкая своего создателя вперед, иногда с такой скоростью, что он теряет контроль. При счастливом стечении обстоятельств и наличии сторонников только что провозглашенный принцип становится движением и доктриной, начиная самостоятельную активную жизнь, в политике часто короткую и, в конечном итоге, несущественную; в науке же, как правило, становясь предвестником нового видения в истории идей.
Момент решимости для Андреаса Везалия наступил во время его краткого пребывания в Болонье. По предварительной договоренности он должен был провести серию анатомических демонстраций под руководством лектора некоего Маттео Корти, истового галениста. Различия в их отношении к вскрытию олицетворяло несоответствие философских взглядов двух ученых, а в действительности, – между Средневековьем и Возрождением. Болонский профессор не видел никакого смысла в исследовании мертвого человеческого тела, поскольку единственная цель, которой могли послужить такие отвратительные изыскания, заключалась в том, чтобы подтвердить справедливость данных, уже приведенных в книгах Галена. Его гость, с другой стороны, в своих лекциях и в Tabulae дал ясно понять, что единственным истинным учебником он считает «книгу человеческого тела, которая не может лгать». На самой последней лекции в Падуе Везалий подчеркнул необходимость интеллектуальной независимости в изучении анатомии. К тому моменту он уже указывал несколько ошибок Галена, которые можно продемонстрировать в аудитории. Он сделал несколько осторожных замечаний, выразив скептическое отношение к учению Галена и надежду, как он выразился позже в Fabrica, что некоторые из его наиболее прогрессивных учеников, «побуждаемых любовью к истине, [в будущем] постепенно откажутся от таких [отсталых] взглядов, отбросят эмоции и начнут доверять своему непредвзятому взгляду и здравому смыслу, а не трудам Галена. И тогда не рабская вера в результаты исследований других или в утверждения заслуженных ученых, а факты охотно заговорят… со своими друзьями». Своими сомнениями и скептицизмом он подтвердил самый главный принцип, который сам Гален и «гиппократики» привнесли в науку: свидетельства собственных органов чувств являются самым верным путем к правде. Самое важное послание древних греков, возведенных в ранг богов в деле преподавания и воспитания, гласящее о необходимости интеллектуальной свободы, кануло в Лету неуслышанным. Везалий, как и Коперник, провозгласили его вновь. Истинные гуманисты почитали греков не в силу рабской преданности, а за непреходящую ценность их наследия.
Хотя некоторые пропорции изображения явно нарушены, эта картина из Fabrica, приписываемая Яну Стефану ван Калькару, была любимым портретом Везалия. Он запечатлен во время выполнения вскрытия руки. Фотография сделана Уильямом Б. Картером с копии Fabrica, принадлежащей Харви Кушингу. (Любезно предоставлена Йельской медицинской исторической библиотекой.)
Демонстрации в Болонье были одобрены духовенством и проходили в церкви Святого Франциска. Четыре яруса сидений располагались вокруг стола для вскрытия таким образом, чтобы ни одному из двухсот зрителей ничто не мешало наблюдать за процессом. Демонстрация Везалия началась утром 15 января, после завершения цикла из пяти лекций Корти, во время которых он использовал средневековый трактат, ссылаясь на работы Галена при необходимости внести какие-либо исправления или уточнения. Те, кто подобно Корти считал, что Везалий проводит препарирование трупов только для подтверждения лекционного материала, оказались не готовы к тому, что произошло. Студенты, конечно, по слухам догадывались, чего им следует ожидать, именно поэтому они и пригласили своего гостя-анатома. Их возбужденное ожидание витало в воздухе, хотя, по-видимому, не разделялось профессорами, сидящими на скамейках рядом с ними.
Везалий не разочаровал их. В течение следующих нескольких недель Везалий обнаружил новые несоответствия между внутренним строением человека и данными древнего трактата и впервые начал задумываться над тем, что эти различия могли быть вызваны чем-то большим, чем простые ошибки препарирования или неправильная интерпретация. При сравнении скелетов человека и обезьяны он заметил костную структуру в позвоночнике антропоида, которой не было у человека; эта структура являлась широко известным основополагающим элементом анатомии Галена, и Везалию впервые пришло в голову, что великий грек никогда не вскрывал человеческого тела. Когда для препарирования доставили шесть собак и других мелких зверюшек, он смог идентифицировать некоторые другие органы, присутствующие только в телах животных. И истина озарила Везалия. Тот, кто раньше так боготворил Галена, что иногда скрывал от учеников свои противоречащие описаниям древнего ученого открытия, полагая, что дело в собственных заблуждениях, теперь осознал правду. Когда однажды утром Везалий показал своей болонский аудитории настоящее место прикрепления брюшной мышцы, негодующий Корти, уязвленный самонадеянностью молодого человека, встал, чтобы, обратившись к непререкаемому авторитету Галена, опровергнуть его. Везалий не колебался. Смело и однозначно он заявил, что всякий раз, когда его утверждение не совпадает с данными древнегреческого трактата, он – Андреас Везалий – может доказать, что истина на его стороне, а Гален ошибался. Студенты выразили свое одобрение. Однако некоторые из старших преподавателей вышли из зала, подобно группе протестующих делегатов ООН. Они повернулись спиной к будущему.
Но факты были очевидны, стоило только посмотреть на них более внимательно. Восхищенные студенты, даже наименее доверчивые из них, больше не могли пренебрегать истиной, открытой для них несколькими умелыми движениями ножа.
Тот факт, что Гален черпал знания анатомии, препарируя животных, стал очевидным. Кроме Джакомо Беренгарио да Карпи, профессора анатомии из Болоньи, утверждавшего, что он провел вскрытие сотен тел, и опубликовавшего в 1521 году работу, которая содержала скорее схематические диаграммы, чем детализированные иллюстрации, никто никогда не создавал медицинского трактата на базе данных препарирования человеческого тела. За исключением сведений, полученных в результате вскрытия собак, обезьян и кто знает кого еще, анатомия человека была неизведанной территорией, ожидающей исследователя, знающего как использовать свои глаза и скальпель, чтобы раскрыть ее тайны. Более того, Искусство, как называли медицину древние греки, не могло продвинуться вперед ни на йоту, до тех пор, пока не разрешена загадка внутреннего строения человеческого организма. Чопорные профессора старой школы все еще верили в то, что все необходимые знания им сообщили комментаторы трактатов Галена; Везалий и раньше не был уверен в этом, а теперь он понял, что все это было обманом.
Вернувшись в Падую, он всерьез приступил к созданию своего великого труда. Калькар делал рисунки во время вскрытий, проводимых Везалием, который разоблачал одну ошибку Галена за другой. Молодые люди обсуждали их, составляли схемы и делали записи. В целом, они выявили более двухсот неточностей. Некоторые из самых сакральных элементов учения Галена не были обнаружены в телах людей, среди них жемчужина в диадеме средневековой медицинской теории – rete mirabile (чудесная сеть).
Исследования проводились в сотрудничестве с администрацией Падуи, которая не препятствовала передаче тел мертвых преступников неутомимому бельгийскому профессору и даже откладывала казни до тех пор, пока ему не понадобится новый объект для вскрытия. Когда Калькар полностью закончил оформление иллюстраций, Везалий приступил к описанию. В своей работе, обращаясь к своей потенциальной аудитории, он подчеркивал, что очень важно проверять его заявления, самостоятельно выполняя препарирование трупов, и давал четкие инструкции для каждой части тела. Следует проводить рассечение одной и той же структуры в разных телах, рекомендовал он, чтобы исключить индивидуальные особенности и убедиться в достоверности приведенных им данных. Ни один из признанных авторитетов не должен быть священным, включая самого Везалия, который сегодня объявил всему миру, что Галена «обманули его обезьяны». Ни обезьянам, ни поколениям компиляторов и переводчиков, ни даже самому древнему греку больше не позволялось обманывать кого-либо.
До этого момента Везалий проявлял большое уважение к заслугам Галена. Без устали изучая оригинальные греческие тексты, он испытывал трепет перед экспериментальными методами своего выдающегося предшественника, который, несомненно, послужил серьезным стимулом для его исследовательского энтузиазма. Но к тому времени, когда Везалий закончил сбор материала для Fabrica, он открыто выразил свое презрительное отношение к деградации, которой подверглась греческая наука, и к врачебной практике своих современников, называющих себя учениками Галена:
После нашествия готов, оставивших в руинах все ранее процветавшие и надлежащим образом практикуемые науки, более модные врачи… стали стыдиться работать руками и делегировали рабам заботы, в которых, по их мнению, нуждались их пациенты… Приготовление пищи для больного они оставили медсестрам; составление лекарств – аптекарям; хирургические операции – цирюльникам…
Прискорбное расчленение искусства исцеления применяется в наших школах, и сегодня в моде отвратительная методика, когда один человек проводит вскрытие человеческого тела, а другой занимается описанием органов. Лекторы восседают на вершине кафедры, как галки, и высокомерно разглагольствуют о вещах, которых никогда не видели, но помнят из книг, написанных другими, или читают тексты, лежащие перед их глазами… Таким образом, весь процесс обучения организован неправильно, дни проходят впустую в обсуждении абсурдных вопросов; и в этой путанице учащийся увидит меньше, чем мясник в своей лавке может показать врачу.
Сам фронтиспис Fabrica провозглашает новый авторский метод обучения. Ни на одной другой странице книги невозможно найти более решительного заявления, чем то, что написано на этом живописном шедевре, приписываемом Калькару. Каждый ученик, который увидит это, будет поражен отличием этой картины от сцены, изображенной в работе Кетама 1491 года. В статье, написанной в 1943 году в честь четырехсотлетия публикации Fabrica, философ Чикагского университета Макс Фиш назвал фронтиспис «манифестом реформы системы образования». На гравюре сам профессор препарирует открытый труп (на самом деле это одно из немногих женских тел, которое он смог получить) в присутствии толпы наблюдателей. Здесь мы видим публичную анатомическую демонстрацию. Скелет подвешен рядом для ориентации, а мелкие животные подготовлены для изучения. Присутствуют зрители разных возрастов, и не стоит упускать из виду тот факт, что некоторые из них являются представителями духовенства. На несколько уровней выше Везалия стоит молодой художник, делающий наброски сцены в блокнот, – это Ян Стефан ван Калькар.
Везалий. Рельеф у здания Медицинского факультета, Париж
Один из «мускулистых парней» Везалия. Буквы на иллюстрации соответствуют индексу, указанному на лицевой странице, который устанавливает последовательность поясняющих ссылок. (Факсимиле, любезно предоставленное профессором Томасом Форбесом.)
Репродукция этого фронтисписа висит в моем хирургическом кабинете. Рядом с ней на стене находятся два других изумительных творения Калькара, так называемые «мускулистые парни». На них изображен наружный мышечный слой тела. Каждая из фигур показана в движении; каждая мышца очерчена так, словно она находится в действии прямо сейчас. Мы наблюдаем за движением, за работой. Как бы подчеркивая исполненную жизни сущность анатомии, фоном для «мускулистых парней» служат реальные пейзажи. Если их разместить рядом друг с другом в правильной последовательности, можно увидеть непрерывную картину изображения Эуганских холмов, расположенных на юго-западе Падуи. Здесь мы имеем дело с реальным человеческим телом. Анатомия начинается именно с этой книги, так же как и вся современная научная медицина.
Если гравюры Fabrica – шедевр точности и мастерства, то сопроводительный текст – это триумф педагогического таланта своей эпохи. Несмотря на временами излишнее многословие, в целом стиль Везалия обращаться непосредственно к читателю в легкой разговорной манере и превосходная организация материала компенсируют некоторую туманность изложения и свидетельствуют о том, что автор прекрасно понимал потребности своих учеников. Хотя повествование несколько утомительно по сравнению с более размеренной прозой современных учебников, элегантность риторики Fabrica и грамматическая корректность латыни делают работу Везалия большим шагом вперед по сравнению с предшествующими медицинскими изданиями. Т. Р. Линд, известный переводчик работ Везалия, отмечал, что «стиль его латыни представляет собой один из лучших образцов, созданных мыслителями эпохи Возрождения». Отсутствие четких формулировок и изобилие путаных отступлений – такие приемы использовали составители опубликованных раньше медицинских пособий, чтобы завуалировать свое невежество. (Время от времени Везалий позволял себе рассказать в качестве иллюстрации анекдот, например, про «хитрого испанца», который по частям проглотил ожерелье проститутки, когда она крепко спала после соития. Эта история доказывала, что выход из желудка больше, чем утверждал Гален. «Она не снимала дорогое украшение с шеи даже в постели, чтобы его не украли. Испанец, жадно глядя на ожерелье, которое могло восполнить его затраты на услуги проститутки, занялся с ней страстным сексом, чтобы она, утомившись, погрузилась в приятный сон: после этого он расстегнул ожерелье и проглотил жемчужины одну за другой, затем крест с застежкой, не оставив и следа после своей кражи. Откуда можно сделать вывод, что нижнее отверстие желудка, даже если оно меньше верхнего, обладает размерами, которые позволяют иногда пропускать достаточно крупные объекты.)
В работе Fabrica («О строении человеческого тела») Везалий уделил огромное внимание подробному изложению материала и обстоятельным примечаниям, содержащим исчерпывающую информацию по каждой скрупулезно выполненной иллюстрации. Впервые в истории медицины были представлены анатомические рисунки такой точности и учебник, все структурные части которого были так удачно интегрированы друг с другом. Книга является идеальным сочетанием научного материала и великолепных детализированных иллюстраций. Везалий рекомендует своим читателям самостоятельно проводить вскрытия и дает обстоятельные инструкции по препарированию. Как это ни парадоксально, но необъятная эрудиция и практически трехмерное представление анатомического строения человека в этой книге позволяет овладеть предметом, не прибегая к этим советам.
Андреас Везалий знал, что его Fabrica станет одной из важнейших поворотных точек в эволюции идей. Стремительный темп подготовки публикации, настойчивое внимание к каждой детали исполнения, взыскательное отношение при выборе художника и мастеров печати, тщательный личный контроль на всех этапах окончательного изготовления являются яркими доказательствами его уверенности в том, что он готовит ценнейший дар миру науки. Везалий осознавал, что на страницах своей книги он выставляет на всеобщее обозрение и суд любого критика или недоброжелателя не только внутренности трупа, но и свои представления об анатомии человека. В двадцать восемь лет он делал рискованную ставку на собственное будущее.
Подвергая такой опасности всю свою карьеру, Везалий, естественно, проявлял высочайшую требовательность к квалификации мастеров, которые должны были помочь ему в процессе производства. Самые лучшие резчики по дереву были найдены в Венеции, одному из них он и доверил изготовление своих драгоценных иллюстраций. Хотя нам неизвестно имя этого человека, но мы можем оценить его талант по качеству гравюр, которые вплоть до конца двадцатого века находились в относительно хорошем состоянии. В конце концов, человек уничтожил то, что не смогло разрушить время: сохранившиеся доски были уничтожены вместе с библиотекой Мюнхенского университета во время авиационного налета 16 июля 1944 года.
К августу 1542 года вся подготовка к публикации была завершена. Из опыта сотрудничества с превосходными типографиями в Базеле Везалий знал, что ему следует отправиться в этот город, в издательство Иоганна Опорина. После тщательной упаковки и маркировки гравюр он составил подробные письменные инструкции, и длинное опасное путешествие на спинах мулов через Альпы началось. Вскоре Везалий последовал за ними и оставался в Базеле до тех пор, пока его не удовлетворили точность и интенсивность процесса изготовления книги. За время пребывания там Везалий и будущие поколения стали счастливыми бенефициарами одного происшествия местного значения. Казнили двоеженца, который убил свою первую жену, чтобы упростить свое семейное положение. Как только палач снял веревку с раздувшейся шеи злоумышленника, труп был предоставлен гостю-анатому для публичного вскрытия и последующего изготовления скелета. Части этого костлявого сувенира от разрушителя семейной гармонии можно и сегодня увидеть в анатомическом институте университета в Базеле.
В июне 1543 года работа над Fabrica была завершена. Когда книга поступила в продажу в августе, – 663 страницы формата фолио[4], включая одиннадцать больших гравюр и почти триста других иллюстраций, – она сразу была признана эпохальным событием в искусстве книгопечатания. Даже самые суровые критики не могли не восхищаться мастерством исполнения издания, которое они немедленно поспешили изучить.
Текст под названием De Humani Corporis Fabrica Libri Septem был опубликован в семи книгах в следующем порядке: кости, мышцы, кровеносные сосуды, нервы, репродуктивные органы и органы брюшной полости, органы грудной клетки, головной мозг. На иллюстрации, помещенной на первой странице, перед нами предстает автор во время препарирования самого хитроумного подвижного творения природы – человеческой руки. Несмотря на некоторую непонятную диспропорцию изображения, Везалий считал, что этот образ обладает наибольшим сходством с оригиналом. Это единственный аутентичный портрет Везалия. Одну копию серии книг он подарил императору Священной Римской империи Карлу V, которому и посвятил это издание.
Желая иметь «шпаргалку» для использования в аудитории, Везалий подготовил конспект, который назвал Epitome («Краткое изложение»). Опубликовав эту работу одновременно с Fabrica, автор считал ее путеводителем, или «маршрутом», к основному изданию. Несмотря на то что Epitome было написано на латыни, уже две недели спустя оно вышло в немецком переводе, что еще больше увеличило доступность этого недорогого превосходного концентрата мысли, особенно для цирюльников-хирургов. Автор посвятил его наследнику императора, который позже стал Филиппом II, королем Испании, собравшим злополучную Непобедимую армаду.
Большинство современников Везалия, прочитав Fabrica и познакомившись с его открытиями, поверили ему; приведенные в книге данные нашли подтверждение в реальности, и врачи «охотно делились информацией со своими друзьями», выстраивая новую доктрину медицины. Однако консерваторы не собирались отступать. Некоторые из них поносили Везалия, другие пытались вдохнуть новую жизнь в умирающее учение Галена, объясняя его ошибки тем, что анатомия людей изменилась со времен древнегреческого ученого в результате общей деградации человеческого вида. Их ухищрения не могли предотвратить неумолимое распространение новых представлений об анатомии человека, но они глубоко ранили автора книги. Наиболее болезненными для Везалия были агрессивные выпады его старого парижского учителя Якоба Сильвиуса, который весьма истерично осуждал своего бывшего ученика, возможно, потому, что видел, как презрительно тот относится к знаниям, которые получил в Париже. После восьми лет яростной критики семидесятидвухлетний профессор направил весь свой гнев на создание книги с не очень деликатным названием «Опровержение клеветы сумасшедшего на работы Гиппократа и Галена», опубликованной в 1551 году. Работа имела целью разоблачение, говоря словами автора, «неправедной скверны» «того дерзкого и невежественного очернителя, который вероломно атаковал своих учителей жестокими наветами». Хотя Везалий и сам, безусловно, был большим мастером, когда дело касалось оскорблений, но он был ошеломлен яростью риторики Сильвиуса, который нарушил все границы приличия, даже если учесть, что тот век славился скандальными баталиями ученых. Вот несколько выдержек из заключительных строк книги:
Было бы легче вычистить авгиевы конюшни, чем избавиться хотя бы от самой ужасной лжи из этой смеси наворованных идей и отвратительной клеветы…
Я умоляю Его Императорское величество наказать по всей строгости, какой заслуживает это чудовище, рожденное и воспитанное в его доме, этот худший образчик невежества, неблагодарности, высокомерия и непочтительности, усмирить его, чтобы он не мог отравить остальную Европу своим тлетворным дыханием. Он уже заразил некоторых французов, немцев и итальянцев своими мертвящими испарениями, но только тех, кто не знает анатомии и других разделов медицины…
Верные сыновья Асклепия, французы, немцы и итальянцы, я заклинаю вас прийти ко мне на помощь и стать новобранцами для защиты ваших учителей, которая может им понадобиться в будущем, поскольку сам я уже слишком утомлен годами и трудами. Если эта Гидра отрастит новую голову, уничтожьте ее немедленно; разорвите и растопчите эту химеру чудовищных размеров, это пошлое месиво из мерзости и нечистот; его работа совершенно недостойна вашего внимания, поэтому предайте ее огню.
Такие нападки производили разное впечатление на тех, кто их читал: некоторые отвернулись от учения Везалия, другие, напротив, стали его убежденными сторонниками, понимая отчаяние Сильвиуса и его единомышленников-реакционеров. Но Везалий, у которого критика всегда вызывала раздражение, начал сознавать, что принципиальные разногласия превращаются в обычные интриги. И он не ошибался. Вернувшись в Падую, его бывший помощник Реалдо Коломбо, преподававший в его отсутствие тем самым студентам, которые поступили в эту медицинскую школу, чтобы обучаться у знаменитого бельгийца, отнесся с пренебрежением к научному новаторству Fabrica и высмеял автора работы. Коллегиальность в те дни, как и сегодня, в реальности часто противоречила значению этого слова.
Хотя от хора недоброжелателей не было никаких неприятностей, кроме шума, Везалий больше не мог выносить такую ситуацию. Представляя миру истину во всем ее блеске, он провел свое последнее публичное вскрытие в Падуе в декабре 1543 года, препарировав тело, по словам ученого, «красивой проститутки, которое студенты достали из могилы у церкви Сан-Антонио». Вскоре после этого он совершил драматический жест, символизировавший его отвращение к ненавистным распрям, в которые его втянули: он собрал все свои заметки и рукописи в большую кучу и поднес к ней факел. Его бесценная аннотация к работам Галена, заметки для будущих публикаций в области медицины и хирургии и парафраз Рази – все погибло в огне.
Но то, что на первый взгляд казалось эмоциональным всплеском отверженного пророка, на самом деле было вполне обдуманным поступком; видимо, он хотел быть абсолютно уверен в том, что уничтожает все, что могло бы послужить соблазном остаться в Падуе, – он сжигал все мосты к возвращению. Везалий принял самое важное решение в жизни – стать клиническим врачом – и отрезал себе все пути к отступлению. Он уже ответил согласием на предложение Карла V служить врачом при императорском дворе и не планировал в будущем возвращаться к научным исследованиям.
Все литературные работы, посвященные Везалию, изобилуют рассуждениями о том, почему ученый оставил Падую и стал практикующим врачом. Некоторые изображают его отъезд как бегство в порыве гнева, как импульсивный, злобный поступок в состоянии, близком к настроению парня, который отрезал себе нос, чтобы досадить лицу: «Я покажу вам, негодяи, уеду и буду хандрить». Зилбургу этот эпизод, со всей его «внезапностью» и «напряженностью», доставил немалое удовольствие. Игнорируя наличие многих известных друзей Везалия, публичный характер его работы, готовность ученого ездить по разным городам для распространения своей доктрины и его популярность среди студентов, он пишет: «Такие затворники редко меняют свой образ жизни, но если они решаются на подобный шаг, то делают это импульсивно, агрессивно, разрушительно».
Те авторы (а Зилбург – лишь один из многих, которые объясняют решение Везалия его озлобленностью, разочарованием или психопатологией), кажутся мне виновными в грехе, который чаще других осуждается и, одновременно, чаще всего совершается историками. Они приписывают представления своего века и собственного ума ситуациям, не имеющим ничего общего ни с их временем, ни с их характером. Какие бы усилия ни предпринимали историографы во избежание давно известной ловушки, о которой они так любят всех нас предупреждать, но, как оказалось, редкая персона в тот или иной момент не становится жертвой этого тайного искушения.
К счастью, несколько исследователей жизни Везалия сохранили историческую объективность и признали, что кажущийся внезапным и безрассудным стремительный отъезд ученого на самом деле был логичным и запланированным шагом. Везалий всегда считал, что главная причина для изучения анатомии – это стремление быть хорошим врачом. Когда ему было двадцать три года, он утверждал то же самое в парафразе на работу Рази, написанном в качестве диссертации кандидата медицинских наук. Николай Флорен, которому была посвящена эта публикация, был другом и покровителем молодого студента, а кроме того, врачом императора, что, возможно, и вызывало у Везалия такое почтение к нему. Tabulae были посвящены главному врачу императора Нарциссу Партенопею, Fabrica – самому Карлу, а Epitome – его сыну Филиппу. Невольно возникает подозрение, что, возможно, Везалий начал готовить почву для вступления в должность при дворе задолго до событий зимы 1543–1544 годов, кажущихся стороннему наблюдателю такими неожиданными. Везалий, несомненно, был весьма амбициозным человеком; и было б удивительно, если бы он не постарался обеспечить себе уважение и безопасность до вступления в должность врача императора, особенно если принять во внимание долгую историю службы его семьи при дворе. Современное общество относится к ученым с бо́льшим уважением, чем к клиническим врачам, но в годы расцвета наук эпохи Возрождения срок пребывания на посту профессора был не определен, а его зарплата неоправданно мала, и у своих коллег Везалий чаще вызывал зависть и неприязнь, чем уважение. Что же касается населения, люди по большей части были необразованными; что они могли знать или думать о науке, университетах и профессорах? Но каждый человек независимо от его общественного положения знал, какое почтение оказывается личному врачу императора. Отставка в академии и поступление на должность доктора королевской семьи были для Везалия лишь переходом на лучшее место работы.
Должно быть, эти соображения были важны для Везалия, но его исторический образ не следует рассматривать только с точки зрения прагматических побуждений. Медицинскую практику он считал самым священным из искусств. Везалий постоянно думал о практическом применении полученных им данных, и каждая глава Fabrica содержит комментарии с описанием анатомических изменений, вызываемых болезнью. Он рассматривал исследование анатомии как единственный подлинный способ подготовки к карьере практикующего целителя. Это был маршрут, по которому прошли многие светила в процессе развития медицины, особенно это касается девятнадцатого века. «Анатомия» Грея, выдержавший самое большое количество переизданий медицинский учебник, был написан в 1858 году, когда автор готовился осуществить свою мечту и стать хирургом известной лондонской учебной больницы. Как писал еще один выдающийся исследователь-хирург Харви Кушинг:
Со времени публикации Fabrica почти до наших дней неотступное стремление к изучению описательной и топографической анатомии прокладывает широкую дорогу для начинающих хирургическую практику. Но не только выпускники, имеющие склонность к хирургии, ищут места прозекторов у стола для вскрытия. Во многих школах до недавнего времени профессора часто объединяли обе специализации, преподавая и анатомию, и хирургию. То, что Везалий, который в значительной степени способствовал зарождению этой тенденции, был назначен на службу в качестве врача императора вскоре после того, как ему исполнилось всего лишь тридцать лет, свидетельствует о прогрессивном мировоззрении его нанимателя.
Таким образом, величайший анатом своего времени или всех времен оставил свои исследования и поступил на службу к императору. Однако новая работа не удовлетворяла его в той мере, на которую он рассчитывал. Полный кошелек и дорогая одежда, от которой не несет зловонием разлагающейся плоти, не были достаточной компенсацией за потерю исследовательского азарта, наполнявшего его дни в Падуе. Кроме того, Карл V слишком много ел и пил, никогда не прислушиваясь к советам врачей; он страдал астмой, подагрой и разнообразными желудочно-кишечными расстройствами, вызванными безудержным обжорством и невоздержанностью. Не обращая особого внимания на рекомендации своих целителей, он мог принять любую лекарственную смесь, которая случайно попадалась ему на глаза. У каждого из докторов было несколько пациентов. Для Везалия ситуация была особенно сложной, не только в силу очень высокого ранга его пациента, но и потому, что весь смысл его деятельности теперь заключался в том, чтобы сохранить этому невозможному человеку некое подобие хорошего здоровья, – цель, которую, несмотря на внушительный клинический опыт, ему никак не удавалось достигнуть. Везалию было гораздо легче справиться с несколькими сотнями членов суда, которые также были его пациентами, но случай с высочайшим нарушителем предписаний стал для него источником все нарастающего разочарования и безысходности.
Ситуацию не облегчало присутствие медицинского персонала императора, бо́льшую часть которого составляли галенисты, решительно выступавшие против доктрины Fabrica и не скрывающие своего враждебного отношения к Везалию. Согласно условиям его назначения, он был вторым по рангу после пожилого главного врача, но весь его день протекал в атмосфере недовольного брюзжания. Сам Карл относился к своему молодому доктору с теплотой и добротой, несмотря на пренебрежение его рекомендациями, но общая обстановка при дворе не способствовала доверительным отношениям. В целом, переход на новую работу оказался ошибкой, о которой Везалий горько сожалел. Даже сложные хирургические операции, в которых нуждались раненые воины, участвовавшие в многочисленных кампаниях императора, не удовлетворяли интеллектуального голода скромного исследователя, который когда-то ежедневно делал больше открытий, чем иной академик за всю жизнь, при этом чувствуя себя сполна вознагражденным, в отличие от врача избалованных богачей. Падуя, оставшаяся в зияющей пустоте за сожженными мостами, при взгляде издалека казалась все прекраснее и прекраснее. Больше никогда не наступит для Везалия такое же волшебное время, как те прошедшие дни, о которых он вспоминал как о «славном периоде безмятежного труда среди талантливых ученых божественной Италии».
Всякий раз, когда предоставлялась возможность, Везалий использовал ее для экспериментальной работы. Если в постоянных путешествиях с императорской свитой он оказывался недалеко от медицинской школы, он спешил туда, чтобы провести анатомическую демонстрацию. Когда император провел долгие четырнадцать месяцев с августа 1550 года по октябрь 1551 года в Аугсбурге, бывший профессор переработал текст первых пяти книг Fabrica для второго издания. Постоянные походы и перипатетические привычки двора оставляли ему мало времени для научных изысканий, так что только летом 1555 года эта работа была завершена.
В 1544 году, закончив свои анатомические труды и поступив на имперскую службу с хорошим жалованием, которое позволяло ему содержать семью, Везалий женился. В следующем году у пары родилась дочь. Даже если он и подумывал оставить должность врача императора, теперь такой шаг стал невозможным. Не потому, что он согласился исполнять обязанности придворного медика до конца правления Карла, просто материальные потребности его семьи жалкая академическая зарплата удовлетворить не могла. Возможно, именно это соображение заставило Везалия искать королевского покровительства даже после отречения его подопечного от престола в 1556 году. Он подписал контракт в качестве лечащего врача придворных голландцев Филиппа II, ставшего теперь королем Испании. Задолго до этих событий он имел обширную практику среди семей официальных лиц посольства в Мадриде.
Однако атмосфера в Испании оказалась еще более удушающей, чем при дворе Карла, и когда тогдашний профессор анатомии в Падуе Габриэле Фаллопио умер в 1562 году, Везалий подал Филиппу прошение о том, чтобы ему было позволено уехать из Испании и вернуться в Италию. Филипп не удовлетворил его просьбу. Детали последующих событий несколько туманны, но точно известно, что вскоре после этого Везалий отправился в паломничество в Иерусалим. Один современный историк написал, что Везалий предпринял это путешествие в благодарность за выздоровление от серьезной болезни; несколько источников указывают на другие апокрифические причины. По их данным, ходили слухи, что Везалий начал проводить аутопсию тела женщины, которую сочли мертвой, но после вскрытия грудной клетки было обнаружено, что ее сердце все еще слабо билось. Анатом в ужасе решил покинуть город на некоторое время.
Какими бы ни были истинные мотивы, ускорившие дальнейшие события, наиболее вероятно, что настоящая причина паломничества Везалия заключалась в том, что он хотел уехать из Испании и вернуться в Падую. Он сел на корабль из Венеции в апреле 1564 года, известно также, что в обратный путь он отправился в начале осени. Некто Пьетро Биззари сделал в 1568 году заявление, которое историки считают правдивым, что вскоре после того, как пилигрим ступил на Святую Землю, «прославленный Сенат пригласил Везалия в известный университет в Падуе, предложив ему весьма почтенную стипендию, на место ученого Фаллопио, который чуть ранее перешел в лучший из миров». Поскольку недавно избранный профессор должен был знать о своем назначении до отправления в обратный путь, можно с уверенностью сказать, что он не собирался возвращаться к испанскому двору. Здесь должна бы начаться славная сага о блудном ученом, вернувшемся, чтобы сделать массу открытий в разных областях науки. Но заканчивается эта сказка трагедией. Паломнический корабль, на котором путешествовал Везалий, попал в сильнейший шторм, сбивший судно с курса и кидавший его по волнам в течение нескольких дней. Когда запасы еды и воды на не подготовленном к такому повороту событий судне начали иссякать, пассажиров выбрасывали за борт одного за другим, когда они умирали или становились слишком слабыми, чтобы тратить на них остатки провианта. Наконец, как раз в тот момент, когда все казалось потерянным, шторм утих, и корабль смог причалить в порту маленького острова Занте, у западного побережья Пелопоннеса. Везалий оставил судно и почти сразу же стал жертвой серьезной неизвестной болезни. Через несколько дней, по словам Биззари, «его жизнь оборвалась в муках, на отвратительном убогом постоялом дворе вдали от родины, без чьей-либо помощи». Венецианский ювелир, чей корабль сделал остановку на острове, случайно узнал, что там заболел и умер знаменитый анатом. Биззари продолжает: «С большим трудом он получил разрешение островитян на его захоронение, своими руками вырыл могилу и похоронил тело, чтобы оно не осталось на растерзание диким зверям». Никто не знал, кто был этот ювелир: могилу, которую он выкопал октябрьским утром, обнаружить не удалось.
Вот так погасла звезда Андреаса Везалия. За пять лет беспрестанных вдохновенных исследований он проложил путь в мир современной медицины, а остаток своей жизни провел в разочаровании и сожалениях. Несносный ребенок, любитель анатомии вырос, так и не став зрелым исследователем, который, возможно, сократил бы извилистый путь к следующей неизбежной ступени развития искусства исцеления – к пониманию того, что каждый симптом заболевания вызывается специфическими, обычно морфологическими изменениями в каких-либо органах или тканях тела. На страницах Fabrica есть свидетельства того, что его исследования могли пойти в этом направлении, если бы он смог освободиться от обязательств перед императором. Андреас Везалий заслуживает слов самого глубокого сочувствия и сожаления.
Но теперь нет смысла рассуждать о том, как могли бы развиваться события. В любом случае его трактат Fabrica стал воплощением духа эпохи Возрождения, достижением такого масштаба, творческая энергия которого могла исходить только из утопического видения грядущего науки. В этом будущем исследователи будут полагаться только на свидетельства своих органов чувств, как делали «гиппократики», а их выводы будут логическим следствием имеющихся конкретных, вещественных фактов. И тогда они найдут самую лучшую технологию своего времени, плод их культуры, для регистрации наблюдений и передачи миру своего опыта, чтобы другие могли еще больше обогатить сокровищницу человеческих знаний. Такова была роль Везалия в истории медицины: размышляя о нем, невозможно не вспоминать о его книге, этой квинтэссенции его интеллекта. Уолт Уитмен, вероятно, никогда не видел своими глазами копию Fabrica, но он знал главное:
Друзья, это не книга: кто прикасается к ней, тот прикасается к человеку.
4. Деликатный хирург. Амбруаз Паре
Хирургия – это занятие, требующее интеллекта. Лукавые терапевты с их вечными насмешками предпочитают, чтобы хирургов рассматривали только как умелых ремесленников, выполняющих рутинные задания, возлагаемые на них более интеллектуально одаренными специалистами. Я приписываю эти издевки некой беззлобной братской зависти не столько нашему звездному статусу, сколько очевидному результату лечения, которого мы, хирурги, достигаем, не говоря уже о личном удовлетворении, которое мы получаем при этом. Может показаться странным такое забавное описание ежедневных забот хирурга, но немногие врачи (кроме терапевтов) могут оценить, насколько хорошо мы проводим время, почти всегда. Трудный случай разжигает азарт, и главная задача заключается не в том, чтобы творить чудеса пальцами, а в том, чтобы совершать волшебство с помощью ума.
Даже самый драматический компонент хирургии – операция – это не столько демонстрация ловкости рук, сколько осмысление путей исправления ситуации. Операция – тот момент, когда ум целителя на основе знаний и интуиции заставляет его или ее руки сделать выбор между путем, который, предположительно, приведет человеческое тело в рабочее состояние и путем, в конце которого ждет неудача. Это глубокое понимание течения болезни с самого начала до момента оперативного вмешательства, которое позволяет врачу понять, что он видит перед собой, и выбрать из нескольких путей тот, который исправит нарушенные функции в теле пациента.
Как только область больного органа открыта, начинается процесс обдумывания и принятия решения, протекающий практически мгновенно. В результате формулируется план, который затем воплощается в упорядоченной последовательности шагов. По степени влияния на жизнь человека операция, возможно, наиболее прямой и практический тип воздействия, который может совершить врач; с другой стороны, невидимые постороннему глазу мельчайшие манипуляции, безусловно, делают хирургическое вмешательство самым абстрактным действием. Доведенные до автоматизма точность разреза, наложение швов и завязывание узлов – лишь помощники в процессе синтеза интеллекта и логики, который является одним из самых высоких достижений как головного мозга, так и души. Хотя до сих пор никто не заходил так далеко, чтобы обвинять хирургов в чрезмерной скромности, тем не менее они имеют некоторую склонность недооценивать уровень своих возможностей. Когда английский хирург начала девятнадцатого века Эстли Купер перечислял необходимые его коллегам качества, такие как «глаз орла, сердце льва и женские руки», он дипломатично не упомянул самый важный атрибут – ум ученого, чтобы избежать недовольства врачей других специальностей.
Но ум ученого бесполезен, если отсутствуют технические навыки. Если руки не могут адекватно выполнить задачу, поставленную мозгом, такой хирург – не хирург; если делая свою работу, он не может проявить доброту, он не целитель. Рука, которая повреждает ткань, не может вылечить ее; хирург, позволяющий себе грубость, не может рассчитывать на быстрое послеоперационное восстановление.
Этот элементарный факт часто недооценивается. В трудах Гиппократа, Галена и их учеников встречаются мимолетные упоминания об этом, но только в шестнадцатом веке учение Амбруаза Паре стало стандартом хирургической помощи. Паре вел своих последователей к современной хирургии по особому пути, олицетворяя идею нежной заботы, которая до сегодняшних дней остается самым важным его наследием.
Парадоксально, но концепция деликатной обработки тканей внедрялась в разгар чудовищной по своим разрушениям войны. Искусство хирурга всегда было особенно востребовано на поле брани. Сложные открытые ранения требуют эквивалентного оперативного лечения. В двадцатом веке самые большие успехи в некоторых областях хирургии достигались во время крупных военных американских конфликтов. В Первую мировую войну – в операциях на кишечнике; во Вторую мировую – в операциях в области грудной клетки; в Корейскую – в сосудистой хирургии; в войну во Вьетнаме – в быстрой транспортировке раненых. Во время каждого из конфликтов методы ухода за больными, приемы реанимации и хирургические навыки в целом развивались особенно быстрыми темпами. При этом наряду с улучшениями в общих направлениях лечебного процесса продвижение вперед происходило и в различных аспектах медицины внутренних органов. Молния, озаряющая мрачные тучи войны, несет с собой свет, который в долгосрочной перспективе может осветить столько же жизней, сколько и уничтожить в результате катастрофического удара.
Одной из причин, по которым каждая новая война требует дальнейшего совершенствования медицинской помощи, является непрерывное создание все более эффективных методов уничтожения. Ранения становятся тяжелее и требуют все более глубоких знаний о человеческом организме для его исцеления. Независимо от того, насколько продвинутыми становятся медицинские технологии, кажется, что они всегда будут на шаг позади военных разработок, калечащих нас. В наши дни, когда открыта тайна ядерного синтеза и миру грозит тотальное уничтожение, трудно себе представить ужас, охвативший средневековую Европу перед лицом изобретения огнестрельного оружия. Считается, что порох был открыт в Китае около 1000 года, затем арабы, которые, похоже, первыми начали применять его для изготовления орудий убийства, привезли смертельное вещество на Запад. В сражениях начала четырнадцатого века, таких, например, как битва при Креси в 1346 году, уже использовали маленькие пушки, но только в итальянских войнах шестнадцатого века артиллерия прошла первый серьезный тест, став нелегким испытанием для возможностей медицинской науки. В этом состязании неторопливые профессора в длинных халатах оказались неспособными дать на этот вызов достойный ответ. В конце концов, скромный, необразованный цирюльник-хирург Амбруаз Паре понял, что нужно делать, и нашел решение проблемы. Прежде чем описать обстоятельства, при которых происходили эти события, следует представить нашего героя, и лучше всего это можно сделать с помощью взятой из его же сочинения цитаты, иллюстрирующей сложность задачи, с которой он столкнулся, и раскрывающей величие этого человека:
С того же убогого склада жестокости пришли все виды мин, контрмин, тигелей, аркебуз, огненных стрел, копий, арбалетов, пищалей, огненных шаров, кулеврин и тому подобных стреляющих и разрывных устройств. Плотно набитые порохом и затравкой для возгорания, брошенные защитниками среди тел и палаток нападавших, они моментально вспыхивают при прикосновении к ним. Это, безусловно, самый отвратительный и разрушительный вид изобретений, из-за которых мы часто видим тысячи случайно подорвавшихся, не подозревавших об опасности людей. Иногда, в самый разгар боя, можно видеть, как крепкие солдаты загораются подобно свечкам от этих стреляющих штук и пылают со всей своей амуницией, поскольку нет достаточного количества воды, чтобы сбить и погасить неистово бушующее пламя, охватившее все тело. Как будто недостаточно было иметь оружие, железо и огонь для уничтожения человека, и, чтобы сделать атаку быстрее и эффективнее, мы снабдили орудия подобием крыльев, чтобы они как можно скорее летели, неся погибель людям, для сохранения которых Бог создал все в этом мире. Воистину, когда я размышляю обо всех видах приспособлений для убийства, которые использовали древние, они кажутся мне просто спортивными снарядами и детскими игрушками по сравнению с теми, что я описываю. Современные изобретения легко оставляют позади все наилучшим образом сконструированные ужасные устройства, которые можно вспомнить или вообразить, по форме, жестокости, и принципу действия.
Казалось бы, что может быть более грозным и пугающим, чем гром и молния? И все же ужас грозы почти пустяк по сравнению с жестокостью этих адских орудий, если рассматривать последствия их воздействия. Гром и молния, как правило, ударяют лишь один раз и могут поразить только одного человека из множества; но одна большая пушка одним выстрелом может убить и покалечить сотни человек. Разряд молнии – это явление природы, и он случайно попадает то в вершину высокого дуба, то в гору или в высокую башню, но довольно редко в человека. Но это адское орудие, исполненное злобой и направляемое рукой человека, нападает только на людей, берет их на мушку и направляет свои снаряды прямо в них. Гроза заранее предупреждает о своем приближении раскатами грома; но это инфернальное устройство ревет во время выстрела и, стреляя, гремит, отправляя в один момент смертельную пулю в грудь и оглушительный грохот в уши. Поэтому каждый из нас по праву проклинает создателей этих смертоносных орудий; и, напротив, возносит до небес тех, кто старается словами и благочестивыми призывами убедить королей не использовать их, а также трудится, создавая научные работы и составляя лекарственные средства, подходящие для ран, нанесенных этим оружием.
Именно представление о «подходящем лекарственном средстве» для исцеления ранений, было самой большой ошибкой врачей шестнадцатого века. Они были убеждены, что в огнестрельные ранения из пороха каким-то образом попадает яд, и поэтому их следует очищать, подвергая обработке кипящим маслом. Лежащая в основе их концепции теория не имела никакого смысла, а лечение было невыносимо болезненным и травматичным. Ужасная боль сопровождалась разрушением тканей, и, тем не менее, эту практику продолжали применять, придерживаясь ложной догмы о том, что необходимо проводить детоксикацию «отравленной» раны.
Еще во время обучения специальности цирюльника-хирурга в Париже Амбруаз Паре уверовал в этот принцип, поскольку тогда у него не было причин сомневаться в его справедливости. Он имел большой опыт в приготовлении надлежащего качества «ортодоксального масла для ошпаривания с примесью небольшого количества патоки». Он знал, как следует промачивать повязки и бинты, а затем накладывать их на огнестрельные раны или на обширные участки обожженной поверхности кожи бьющегося и кричащего от боли солдата. С двадцати двух до двадцати шести лет он работал в должности полкового хирурга и хирурга-акушера в знаменитой парижской больнице «Отель Дье». Он был слишком беден и не смог оплатить экзамены, которые позволили бы ему получить официальный аттестат для вступления в корпус цирюльников-хирургов. Каким-то образом ему удалось добыть назначение в качестве личного хирурга маршала де Монжана, генерала французского короля Франциска I.
Армия успешно отразила попытку захвата Прованса императором Священной Римской империи Карлом V и начала преследование отступающего в Италию противника. Так в 1537 году молодой Паре оказался у осажденного Турина. Он впервые принял участие в военной кампании и первый раз в жизни обрабатывал только что полученные солдатами ранения, которых было значительно больше, чем он ожидал, поэтому вскоре все приготовленное кипящее масло было полностью израсходовано на прижигание ожогов и огнестрельных ранений. Вдохновленный данной ему от Бога изобретательностью, с безумной храбростью отчаяния он провел на поле боя клинический эксперимент: вместо применения «вышеупомянутого, разогретого до максимальной температуры масла» начинающему хирургу пришла в голову идея использовать смягчающую, успокаивающую примочку. Паре понимал, что серьезно рискует, и если его нетрадиционный метод лечения не сработает, он, в лучшем случае, потеряет свою должность. Вот как он описывал произошедшее:
Наконец масло закончилось, и мне пришлось применить вместо него смесь яичных желтков, розового масла и скипидара. Ночью я не мог заснуть, опасаясь ужасных последствий. Меня мучил страх, что те, кому я не прижег раны кипящим маслом, умрут от отравления. На заре я пошел осмотреть раненых и вопреки моим ожиданиям увидел, что у солдат, к ранам которых я применил мое новое средство, стихла боль, их раны не воспалились и не отекли, и ночью они смогли отдохнуть, насколько это было возможно. Других же, после обработки кипящим маслом, я нашел в лихорадке, страдающими от сильной боли, с большими отеками по краям ран. И тогда я решил для себя, что никогда больше не стану так жестоко прижигать огнестрельные ранения… Теперь посмотрите, как я научился обрабатывать раны, полученные от выстрела. Не так, как показано в книгах.
Неопытный хирург был поражен заметной разницей в состоянии двух групп солдат. Те, чьи раны были обработаны горячим маслом (их можно рассматривать как экспериментальную контрольную группу), провели обычную бессонную ночь, полную мучительной боли, в то время как те, кого лечили мягким успокаивающим средством, чувствовали себя намного лучше, кроме того, у них не наблюдалось повреждения тканей вокруг ран. Когда Паре обследовал солдат, его опасения исчезли, сменившись на невероятное воодушевление. Из примитивного целителя он мгновенно и полностью превратился в современного врача.
После такого драматического опыта в самом начале карьеры Паре взял за правило применять самый мягкий и осторожный подход к лечению ран. Молодому человеку было суждено стать величайшим хирургом своего времени, и, невзирая на его пренебрежение к тому, что написано в медицинских книгах, он оставил последующим поколениям серию трудов, которые считались каноном хирургии на протяжении столетий. Его трактаты были переведены на многие языки мира. Они были весьма популярны среди читателей, и именно с их помощью большинство европейских хирургов постигали тонкости своей профессии. Врачам того периода они служили и стандартными справочниками, и учебными пособиями, и руководствами, и теоретическими трудами по хирургии. Как и его современник Андреас Везалий, Паре еще на эмбриональной стадии своего профессионального развития понял, что учения его предшественников содержат лишь некоторые непреложные истины, но подлинные принципы его ремесла все еще ждут новых открытий, экспериментальных доказательств и констатации в новых трактатах. Не имея академического образования и, следовательно, не зная латыни, Паре вел свои записи на французском языке. Когда высокие профессора Парижского университета критиковали его за то, что он не использует общепринятый для научных работ язык, он отвечал, что сам Гиппократ писал свои сочинения на родном языке.
По мере знакомства с историей Амбруаза Паре становится очевидным, что его влияние на развитие искусства хирургии было настолько огромным, что его нельзя оценивать только с точки зрения конкретных нововведений, а следует рассматривать скорее как триумф его философии. Благодаря его заслугам изменилась роль хирурга и роль хирургии в медицине: он показал на собственном примере, каким должен быть хирург и образ его мыслей, а также, какое наследие он должен оставить тем, кто идет по его стопам. До Паре только Гиппократ оказал сравнимое по значению влияние на хирургию, а после Паре одного Джона Хантера можно поставить в один ряд с этими двумя великими врачами. Существовали и иные исторические школы хирургии, и было много разных новаторов в этой области, но лишь трижды за долгую историю западной медицины философия хирургии и ее практическое воплощение, не говоря уже о ее перспективах и имидже, претерпели настолько внушительные преобразования по сравнению с ее прошлым. Вот почему имена Гиппократа, Паре и Хантера заслуживают быть написанными заглавными буквами среди прочих известных имен. Благодаря работе Амбруаза Паре и написанным им сочинениям цирюльники-хирурги, занимавшие унизительное место в иерархии целителей, поднялись до уровня, где было уже невозможно игнорировать их знания о болезнях и их методы лечения. Социальный статус цирюльника-хирурга вырос, умножились их права и привилегии, а их профессия стала более привлекательной для молодежи. На этой почве произошло существенное повышение уровня этики и подготовки хирургов, что привело к большим клиническим достижениям в течение последующих столетий, поскольку у них появилась возможность вносить собственный вклад и одновременно извлекать пользу из быстрорастущей сокровищницы медицинских знаний.
Паре написал много трудов в простой разговорной манере, и его работы были вскоре переведены на английский, немецкий, голландский и другие европейские языки. Результатом стало не только обогащение знаний в области хирургии, но и быстрое распространение этических принципов Паре и его подхода к анализу данных.
Именно в методах оценки медицинских показателей проявился огромный талант Паре. Он начал с классификации сведений, содержащихся в работах его предшественников. Затем он сравнивал их с результатами собственных наблюдений, полученных в процессе обширной хирургической практики. Паре проводил свой анализ максимально объективно, что позволяло ему видеть собственные ошибки и заблуждения своих коллег. И, наконец, всю мощь своих аналитических способностей он направил на систематизацию собственных обширных знаний и огромного практического опыта. Полученный им результат очевиден для любого современного хирурга, знакомого с сочинениями Паре: его суждения о методах диагностики, хирургической технике, лечении ран, исцелении внутренних болезней, протезировании и составлении прогноза течения заболевания удивительно точны. Тысячи экспериментов, проведенные в сотнях лабораторий за прошедшее столетие, подтверждают то, что писал Амбруаз Паре о хирургии четыреста лет назад. На вступительных страницах одной из его книг он клянется, что предлагает рецепты, только «проверенные и подтвержденные собственным опытом». Книги Паре пользуются большим успехом потому, что он сдержал свое обещание.
Авторитет Амбруаза Паре базировался на глубоких знаниях трактатов Гиппократа, Галена и более поздних работ по хирургии разных авторов; на врожденном таланте и огромном опыте, полученном в военное время. За свою жизнь Паре участвовал в двух длительных военных конфликтах, следовавших практически сразу один за другим, так что его карьера состояла из длинной серии приключений на поле боя. Речь идет об итальянских войнах 1495–1559 годов и так называемых религиозных войнах 1562–1598 г.
На следующих страницах будет представлена историческая ситуация, на фоне которой протекала долгая жизнь Амбруаза Паре, – с 1510 по 1590 год. В частности, важно понимать, что именно вследствие содержания французской политики того времени были созданы многочисленные исследовательские медицинские лаборатории, а состояние французской хирургии обеспечило огромное поле для практических и экспериментальных разработок. Шестнадцатый век, подобно нашему, запомнится как великими достижениями, так и невероятной жестокостью, которая получила свое воплощение в двух военных кампаниях: во время первой Священная Римская империя десятилетиями боролась с Францией за контроль над Италией, а во время второй католические короли стремились подавить протестантскую Реформацию во Франции.
Шестьдесят пять лет итальянских войн были отмечены непрерывной цепью кровопролитных сражений, которые в конце концов завершились победой правящего тогда императора Филиппа II испанского. Договор о Като-Камбрезийском мире, формально положивший конец боевым действиям, на самом деле не остановил распрей и бойни. Одним из факторов, который принудил короля Франции Генриха II к заключению мира с Филиппом, было желание первого посвятить всю свою энергию борьбе с распространяющейся властью протестантов в его королевстве. На самом деле, он так хотел привлечь его католическое величество короля Испании к этому делу, что отдал свою дочь Элизабет замуж за Филиппа. Это был политический переворот, ставший, однако, причиной личной катастрофы французского короля, получившего смертельное ранение на турнире, который был частью свадебных торжеств. После однолетнего правления умер его сын Франциск II, и власть перешла в руки вдовы Генриха, рожденной в Италии королевы-матери Екатерины Медичи, расчетливого, проницательного политика и манипулятора, главной целью которой было укрепление власти других ее сыновей, сначала Франциска III, а затем его преемника Генриха III. Противостояние между католиками и протестантами обострилось и 1 марта 1562 года после убийства совершавших богослужение гугенотов в городе Васси началась религиозная гражданская война.
Своего апогея эта борьба достигла 24 августа 1572 года, когда несколько десятков тысяч гугенотов были уничтожены в результате четырехдневной вакханалии, известной под названием Варфоломеевская ночь. Но это кровопролитие не сломило волю протестантов, а только усилило их решимость. Убийства, баталии, эпидемия бубонной чумы, измена и политически целесообразные преобразования были характерными чертами этого периода, пока безбожная война велась во имя Бога, завершившись наконец восшествием на трон бывшего протестанта Генриха IV. «Париж стоит мессы» – выражение, приписываемое первому Бурбонскому королю в связи с его прагматическим решением в 1593 году принять католичество.
Возвращаясь к ранее использованной метафоре: если считать поля битвы Западной Европы лабораторией Паре, незрелое состояние французской хирургии и униженное положение хирургов обеспечило огромное количество пустых страниц, которые ему предстояло заполнить. В Париже четырнадцатого и пятнадцатого веков лечение больных было возложено на три иерархические группы. Первую как по качеству знаний, так и по социально-экономическому уровню составляли врачи, бывшие членами медицинского факультета Парижского университета. Как и большинство докторов Европы, они обучались на латинском и греческом языках, считались высокообразованными и лечили своих подопечных микстурами и полезными рекомендациями. Привилегированное положение и высокий статус позволяли им не только смотреть сверху вниз на другие группы целителей, но и осуществлять серьезный контроль над всеми аспектами медико-хирургической практики и обучения. С особым неприкрытым презрением они относились, в частности, к занимающей самое низкое положение в иерархии группе – цирюльникам. Считалось, что они не намного лучше, чем такие мало подготовленные, бродящие по всей Европе лекари, больше похожие на шарлатанов, как костоправы, специалисты по вырезанию грыж, вырыванию зубов, и так называемые литотомисты, занимавшиеся камнесечением.
Между врачами и цирюльниками располагалась группа, которая существовала только в Париже. Это было содружество хирургов, известное как «Братство Святого Пришествия», позже, когда его статус несколько повысился, названного колледжем Св. Пришествия. Члены организации отличались высокомерным и зачастую смешным, с претензией на свойственное университетским профессорам достоинство, поведением. Но, надевая халаты (их называли хирургами в длинных халатах), следуя квазиакадемическим церемониям и раздавая степени, они не становились академическим факультетом. Все, что они делали, это постоянно конфликтовали с настоящими академиками медицинского факультета и настоящими хирургами, которыми были скромные цирюльники.
Братья Святого Пришествия не были хирургами. С их притязаниями на статус врачей с академической степенью Парижского университета на протяжении многих десятилетий они постепенно отдалялись от практического ухода за больными. Они редко делали операции, предпочитая решать хирургические проблемы с помощью медикаментов, надменных советов или прижигая каленым железом воспалившиеся или кровоточащие раны. Объединение в братство позволяло им, прежде всего, отстаивать свои права, подражать сообществу врачей-академиков и защищать, как мы бы сказали сегодня, их епархию от постоянных посягательств цирюльников. По словам биографа Паре Джозефа Малгьяна, написанным в девятнадцатом веке, колледж Святого Пришествия был «гораздо менее знаменит… своими заслугами перед наукой, чем светскими схватками с цирюльниками и врачами Парижа».
И еще кое-что о цирюльниках. По всей Европе именно они на протяжении веков занимались лечением мелких ран и болячек. Когда врач предписывал кровопускание или скарификацию, физически процедуру выполнял цирюльник. Постепенно врачи стали все с большим презрением относиться к практическим хирургическим процедурам, и их все чаще и чаще проводили цирюльники, за исключением Парижа, где братья Святого Пришествия пытались оттеснить цирюльников от этой деятельности в собственных интересах. Результат всех этих событий лучше всех описал Монтень: «Цирюльники все больше становились похожи на хирургов [колледжа Св. Пришествия] и посягали на их сферу деятельности; хирурги же, с одной стороны, стремились сокрушить и унизить цирюльников и, с другой стороны, подражали врачам; и, наконец, врачи, в первую очередь занятые размежеванием и оскорблением хирургов, позже, подчиняясь естественному ходу вещей, начали привлекать цирюльников в качестве помощников».
В течение двухсот лет между ними продолжалась борьба, с прошениями, судебными исками, постановлениями и постоянным соперничеством не только в отношении сферы деятельности, но и в области преподавания: кто, чему и кого должен учить и на каком языке. Наконец, в первом десятилетии шестнадцатого века факультет медицины принял несколько итоговых решений. Во-первых, было официально узаконено положение цирюльников, которых теперь стали называть корпусом цирюльников-хирургов, обязали посещать лекции по анатомии и хирургии на факультете и сдавать не только экзамен на звание мастера-цирюльника, но и проходить квалификационное испытание под эгидой университета. После этого их принимали в колледж Св. Пришествия, а члены данного сообщества должны были поступать на медицинский факультет в качестве врачей-регентов. Хотя соперничество на этом не закончилось, накал хронической вражды заметно снизился. Таково было положение дел, когда Амбруаз Паре начал свою карьеру хирурга в 1536 году.
Сын краснодеревщика, он родился в 1510 году в городе Лаваль, в то время провинции Мэн, граничащей на севере с Нормандией и на западе с Бретанью. Существует немало причин полагать, что члены его семьи были гугенотами, что, возможно, осложняло положение Паре во время религиозных войн, о чем будет сказано ниже. Его первым учителем был капеллан, с которым его отправили за границу. Позже его отдали в ученики цирюльнику-хирургу, и в течение короткого периода времени он получил должность полкового хирурга в больнице «Отель Дье», а четыре года спустя отправился на войну с маршалом де Монжан к стенам Турина, где произошел подробно описанный выше решающий эпизод с кипящим маслом.
Когда маршал де Монжан умер в 1539 году (по-видимому, от болезни печени, традиционной для француза болезни), его преемник настоял на том, чтобы Паре остался в армии, поскольку репутация молодого хирурга значительно возросла благодаря хорошим результатам его работы. Однако он предпочел вернуться в Париж, где заработанные на войне деньги позволили ему сдать квалификационные экзамены в 1541 году. В том же году он женился и поселился у моста святого Мишеля на левом берегу Сены, где купил лавку и занимался практикой в качестве опытного цирюльника-хирурга. Когда спустя годы его финансовое положение улучшилось, он приобрел ряд зданий по соседству (сегодня это площадь св. Мишеля) и в Медоне, в нескольких милях к юго-западу от Парижа. Любопытно, что кюре Медона в то время был не кто иной, как деспотичный Франсуа Рабле. Трудно поверить, что Паре и блестящий врач-священник не знали друг друга, однако никаких письменных свидетельств об их знакомстве обнаружено не было.
В 1542 году Паре вернулся в армию, на этот раз в качестве хирурга М. де Рогана, великого лорда Бретани. Речь идет об осаде Перпиньяна, еще одном приключении, о котором Паре часто рассказывал. Маршал де Бриссак был ранен выстрелом из мушкета в область правой лопатки, и трое или четверо «самых опытных хирургов армии» не смогли определить местонахождение пули. Паре попросил маршала принять позу, в которой он получил ранение, после чего легко нашел и удалил снаряд. Такой простой и логичный маневр, насколько известно, никогда раньше не упоминался ни в одном медицинском трактате. Похоже, это была еще одна совершенно новая идея.
К тому времени Паре имел завидную профессиональную репутацию. После окончания военных действий он вернулся в Париж, где был приглашен на встречу с великим преподавателем медицинского факультета Жаком Дюбуа, которого также называли Сильвий (тот самый Сильвий, который был первым учителем и другом Андреаса Везалия, а позже его самым жестоким критиком). Сильвий предложил Паре написать о своем опыте лечения ранений, в результате чего тридцатипятилетний хирург опубликовал в 1545 году свою первую книгу «Способ лечения ран, нанесенных аркебузами, другими огнестрельными орудиями, стрелами и т. п.; а также ожогов, особенно полученных от пушечного пороха».
Некоторые из побудительных причин для создания сочинения любого автора легко распознаются его читателями, другие идентифицируются с трудом, а часть остается скрытой, даже от самого писателя. Среди вполне определенных и понятных стремлений Амбруаза Паре очевидно его желание помочь молодым начинающим хирургам в процессе накопления профессионального опыта. Ниже приводится предисловие к этой первой из книг Паре в переводе Уоллеса Б. Хамби:
МОЛОДЫМ ХИРУРГАМ ДОБРОЙ ВОЛИ
Мои друзья и собратья по хирургической профессии, действуя в соответствии с вашей просьбой, я написал для вас этот небольшой трактат, где описал метод, которому следовал сам и убедился в его работоспособности для эффективной хирургической практики, как на поле боя (что происходит довольно часто), так и в любом другом месте при лечении ран, полученных от огнестрельного оружия, стрел, копий и иных подобных орудий, а также ожогов, особенно от пушечного пороха. Я не считаю возможным в моем нынешнем качестве учить вас (для этого потребовалось бы больше инструкций), но хочу этой работой частично удовлетворить ваше желание, а также стимулировать ваш интерес, чтобы все мы уделили этой теме больше внимания. Теперь я прошу покорно прочитать эту маленькую книгу, и если вы отнесетесь к моему труду благосклонно, я напишу что-то большее, насколько мне позволят мои скромные способности. Поэтому, собратья и друзья, я молю Творца всесторонне поддержать нашу работу Его милостью, все время увеличивая нашу доброту, чтобы мы могли совершить что-то плодотворное и полезное для поддержки хрупкой человеческой жизни в честь Единого Вечного Бога, в ком скрыты все сокровища науки.
Насколько Паре преуспел в своих попытках обучать других, свидетельствует, во-первых, широкое распространение этого трактата и его более поздних произведений, которые были переведены на другие языки для удовлетворения потребности в знаниях хирургов по всей Европе; и, во-вторых, весьма плачевное состояние сохранившихся до наших дней книг, которые можно обнаружить в собраниях библиофилов, что является естественным следствием, как объяснили мне хорошо осведомленные антиквары, постоянного использования этих томов в течение двух столетий после их публикации, до выхода в свет знаменитых работ Джона Хантера (1728–1793), содержащих более специфическую практическую информацию для хирургов, особенно в отношении лечения огнестрельных ранений. Историк медицины Филдинг Х. Гаррисон писал: «До Джона Хантера первенство в хирургии было целиком за французами, а Париж был единственным местом, где этот предмет преподавали должным образом». Так произошло во многом благодаря широко распространенному непреходящему влиянию Амбруаза Паре.
Много написано о ревностном благочестии и глубокой приверженности Паре христианской вере. И действительно, последнее предложение его предисловия к работе «Способ лечения ран, нанесенных аркебузами», как и то, что в его клинических отчетах часто повторяется смиренное «Я перевязал его, а Бог его исцелил», похоже, подтверждает этот факт. Может показаться несколько недостойным оспаривать его религиозность, но следует помнить, что Паре жил в то время, когда научные труды часто посвящались во славу Бога и высоких покровителей – проводников Его замысла на земле. Религия проникала во все аспекты повседневной жизни, и Божественное провидение читалось во всем.
Кроме того, в шестнадцатом веке было очень мало агностиков, а исповедание атеизма было сродни признанию в безумии. Те немногие выдающиеся ученые, которые вступали в конфликт с церковью, не отказывались от религиозных воззрений; они просто старались убедить епископов, что новые знания не противоречат догме. Галилео Галилей (1564–1642) является наиболее очевидным и самым выдающимся подтверждением этим словам.
Посвящение Богу содержало тонкий подтекст, указывающий, что благородный покровитель, как и сам автор, также является достойным и религиозным человеком. Изысканные комплименты, таким образом, адресовались великим сеньорам. Посвящение работы «Способ лечения ран, нанесенных аркебузами» выглядит следующим образом: «Весьма прославленному и очень могущественному лорду, монсеньеру Рене, виконту де Роган, принцу де Леон, графу Поре, Ла Гарнаш, Райуе-сюр-Мер и Карантана». Неуверенность в религиозности Амбруаза Паре ни в коем случае не опровергает нашу концепцию о его высокой нравственности и не умаляет значения многочисленных свидетельств его чрезвычайной доброты и милосердия.
Такой скептицизм становится особенно уместным, если принять во внимание его религиозную принадлежность. С относительной уверенностью можно утверждать, что он родился в гугенотской семье. Подтверждение этому находится в некоторых его трудах и работах других авторов. Паре каким-то образом удалось пережить гонения его единоверцев, сохранив при этом не только жизнь, но и свое положение. Многие высокопоставленные гугеноты были убиты во время резни в ночь святого Варфоломея, но его миновала их участь, вероятно, благодаря вмешательству Карла IX. Второй брак Паре в 1573 году был заключен в католической церкви. Более того, он служил хирургом в католической армии во время религиозных войн и, кажется, не чувствовал себя скомпрометированным этим обстоятельством. По тому, что нам известно о его открытости и честности, трудно представить, что Паре скрыл свою религиозную принадлежность от своих католических покровителей или что он каким-то образом скомпрометировал преданность своему вероучению ради продвижения по службе. Также нет никаких доказательств о его переходе в католицизм после Варфоломеевской ночи. Легче поверить, что он не сильно акцентировал свое внимание на официальной религии. Я полагаю, что формальная сторона вероисповедания не играла большой роли в его жизни. Он, несомненно, верил в Бога и, очевидно, поручал своих пациентов Божественному провидению после того, как сделал для них все, что было в его силах. Но Паре был, прежде всего, гуманистом, посвятившим свою жизнь упорному труду и прославлению этого мира.
Великодушие и доброта Паре чувствуются в каждой строке его сочинений. Он нисколько не стеснялся описывать те случаи, когда боялся за свою жизнь или за свою профессиональную репутацию, что также служит примером для подражания молодым хирургам. Одним из самых ценных скрытых преимуществ многолетних программ подготовки хирургов в наши дни является то, что у нас есть возможность видеть всех наших преподавателей-профессоров в минуты неуверенности, страха или несостоятельности. Мы были свидетелями того, как самые уважаемые нами авторитеты совершали технические, интеллектуальные или даже нравственные ошибки. Это помогало нам справиться с душевным смятением и оставаться в профессии, когда наши случайные неудачи оказывались слишком сильным ударом по самооценке.
Таким образом, философия Амбруаза Паре и есть его самое важное наследие потомкам: сострадание, честность, мягкость, любознательность, лояльность и глубокая убежденность в том, что каждая человеческая жизнь достойна спасения. Все эти принципы он пытался передать своим сверстникам и будущим поколениям хирургов. Наградой ему служило его личное удовлетворение и уважение коллег, мнение которых он высоко ценил. Всего этого было у него в избытке наряду с финансовым успехом: он служил хирургом четырем французским королям, стал богатым человеком, и он практически стоял во главе французской хирургии.
Но я поторопился и упустил нечто важное. Во всех своих работах Амбруаз Паре снова и снова повторял свое простое кредо хирурга: «Я перевязал его, а Бог его исцелил». И сегодня мало что изменилось. Бог или Природа тому причиной, но в процессе исцеления существует рубеж, преодолеть который пациенту не поможет ни один врач. Хотя современная наука постоянно повышает шансы, окончательное выздоровление остается в значительной степени во власти пока неизвестных факторов, о которых мы можем только догадываться. Роль врача – сделать для пациента все, что позволяют современные методы лечения. После этого остальная часть пути к выздоровлению оказывается под контролем необъяснимых факторов веры или физиологии, а возможно, обоих сразу. Ни одному врачу никогда не стоит быть столь высокомерным, чтобы думать как-то иначе.
В момент публикации трактата «Способ лечения ран, нанесенных аркебузами» во Франции был период относительного перемирия. После смерти Франциска I в 1547 году на престол взошел его сын Генрих II. Амбруаз Паре все это время оставался дома, изучая анатомию и, вероятно, практикуя хирургические операции. В 1550 году он издал свою вторую книгу под названием «Краткое введение в анатомию». В предисловии к ней есть отрывок, в котором содержится мысль, скрыто присутствующая в каждой научной работе, выходящей из печати, но авторы редко открыто декларируют ее. Вот так ее для нас сформулировал Амбруаз Паре:
Если кто-то более знающий останется недоволен этой книгой и скажет, что я не достиг желаемого совершенства в изложении материала или допустил ошибки, то я попрошу его вспомнить, что я не святой, а простой человек, и во благо республики – взять на себя труд и прояснить вопрос лучше, чем я, или довольствоваться обучением аспирантов нашей профессии. Уверяю, что это меня не обидит, и я буду первым, кто поблагодарит его и даже похвалит за предпринятые усилия.
После публикации этой книги Паре проработал второе издание тома, посвященного огнестрельным ранениям. Он закончил свою работу как раз вовремя, чтобы по призыву о мобилизации отправиться в армию в Шампани и присоединиться к силам виконта де Рогана, который предпринял в 1552 году вторжение в Лотарингию и, потеснив войска Карла V, с легкостью захватил города Мец, Тул и Верден. Во время военных действий Паре удалось спасти жизнь обычного солдата, раны которого были настолько тяжелыми, что его товарищи уже выкопали для него могилу. Рядовые солдаты оценили милосердие личного хирурга виконта, который заботился о них так же, как о благородных капитанах.
При осаде Данвиллера, которая была частью кампании 1552 года, произошло важное событие, повлиявшее на эволюцию методов, используемых Паре в его практике. Во втором издании своей книги об огнестрельных ранениях он по-прежнему рекомендовал применять прижигание тканей раскаленным железом для остановки кровотечения при ампутации. Тем не менее он размышлял над тем, чтобы использовать лигатуры для перевязки крупных сосудов, как это делали некоторые хирурги при лечении обычных ран; бои при Данвиллере были хорошей возможностью для экспериментальных исследований. Когда один из офицеров виконта был ранен в ногу, Паре перевязал сосуды на культе после ампутации, не прибегая к прижиганию железом. Новый метод стал вторым значительным шагом вперед в военной медицине, который станет известен всей Европе благодаря сочинениям Паре, его ученикам и распространению славы талантливого хирурга.
Боевые действия в Лотарингии не только позволили Паре усовершенствовать хирургическую методологию, но и способствовали значительному продвижению в карьере новатора: о его достижениях узнал Генрих II и назначил его, несмотря на то, что он был лишь цирюльником-хирургом, одним из своих «хирургов-ординарцев».
Разгневанный из-за потери трех епископств Туля, Вердена и Меца, император Карл V взял на себя командование армией и попытался отбить Мец. Потери среди солдат были пугающе большими, и услуги Паре стали как никогда востребованы. Его тайно провели в осажденный город к большому облегчению французских офицеров.
Так или иначе, под руководством военного гения герцога де Гиза французские войска выдержали атаки императора, и осада была снята на следующий день после Рождества 1552 года. В своих книгах Паре со смесью горечи и иронии описал ужасы последующего отступления имперской армии по глубокому снегу. Насмешки Паре были вызваны его негодованием из-за варварского поведения испанских солдат во время осады. По иронии судьбы или по какому-то закону великого исторического возмездия, через 250 лет именно императору Франции, потерпевшему катастрофическое поражение в осажденном неприятельском городе, будет суждено пережить крушение своих надежд в позорном отступлении по заснеженной вражеской территории. Так же, как вывод армии Наполеона из Москвы ознаменовал начало заката его военной карьеры, закончившейся в конечном итоге полной потерей власти, в этот мрачный зимний день у Меца перед Карлом V открылась унылая дорога, ведущая его к отречению от престола в пользу Филиппа II.
Хотя императору еще предстояло несколько сражений, но не в Лотарингии. В 1553 году вернувшийся домой Паре был снова призван королем, на этот раз в Гедин в Пикардии, «где у меня было столько работы, что я без отдыха дни и ночи напролет перевязывал раненых». Битва была жестокой, существует несколько описаний этой войны, столь же колоритных и ужасающих, как то, что оставил нам Паре о событиях тех нескольких дней. Наконец, французский гарнизон капитулировал, став жертвой вероломства испанских солдат, которые пытали и убивали своих пленников, нарушив согласованные условия сдачи.
Известность таит в себе свои угрозы. Опасаясь, что его убьют, если он не сможет откупиться, Паре надел мундир простого солдата и остался в услужении одного из раненых французских офицеров. Не признавшись, что он знаменитый хирург короля, но не скрыв своих знаний медицины, он получил возможность относительно свободно передвигаться по территории, так как ему поручили лечение полковника вражеской армии с хронической язвой на ноге. После удачного побега он явился с докладом к королю Генриху, а затем снова вернулся в Париж.
Теперь сорокачетырехлетний опытный цирюльник-хирург был весьма популярен среди пациентов и коллег. Братья Святого Пришествия, которые раньше так стремились унизить и скомпрометировать цирюльников, понимали, что присутствие Амбруаза Паре на факультете добавит блеска репутации их колледжа. Он был не только признанным ведущим специалистом европейской хирургии, но и другом короля, вследствие чего ему с готовностью доверяла свое здоровье вся французская знать.
Проигнорировав требования об обязательном прохождении экзамена по латинскому языку, они признали его магистром-хирургом 18 декабря 1554 года. А в 1557 году Генрих снова послал Паре на поле битвы при Сен-Кантене, где французы потерпели сокрушительное поражение. В следующем году, когда Итальянские войны шли к завершению, он снова принял участие в военных действиях при Дурлане.
Все это время власть протестантов в стране усиливалась. Теперь у них было более двух тысяч церквей по всей Франции, а знатные гугеноты занимали руководящие посты среди духовенства и даже заключили союз с немецкими принцами и королевой Англии. Генрих считал необходимым уничтожить еретиков и утвердить свой политический контроль. Мирный договор был заключен с новым императором Священной Римской империи Филиппом II и скреплен, как отмечалось ранее, браком Филиппа с принцессой Елизаветой, дочерью французского короля.
Из-за случайной смерти Генриха во время брачных торжеств на трон взошел Франциск II и правил в течение года, а в 1560 году был коронован его одиннадцатилетний брат Карл IX, и власть фактически перешла к уже упомянутой Екатерине Медичи. Паре, который был хирургом Франциска, теперь был назначен личным хирургом Карла.
Гражданская война стала неизбежной, поскольку судебный совет, состоявший преимущественно из католиков, не желал делить власть с гугенотами. Резня протестантской конгрегации в Васси стала искрой, воспламенившей взрывчатую смесь. Весь остальной военный опыт Паре приобрел в течение почти сорока лет боевых столкновений, грабежей, массовых убийств и погромов, которые в учебниках истории торжественно называются религиозными войнами. После осады Руана Паре был возведен в должность главного хирурга короля.
Тот факт, что столь высокое положение занимал цирюльник-хирург, оказал огромное влияние на направление будущего развития французской медицины. Он означал, что наивысшая квалификация в лечении травм и некоторых болезней больше не ассоциировалась ни с врачами, ни с хирургами Святого Пришествия. В лице их главного авторитета, когда-то скромных цирюльников-хирургов, теперь признавали хорошо обученными и умелыми практиками, которыми они сейчас и являлись.
В 1564 году Паре опубликовал интересное сочинение под названием «Десять книг по хирургии со сборником необходимых для практики инструментов», содержащее серию ясных иллюстраций тех приспособлений, которые автор использовал в своей работе. Трактат состоит из глав, имеющих отношение как непосредственно к хирургии, например, раздел «Об извлечении стрел», так и к вопросам внутренней медицины, подобно статье о лечении инфекций мочевыделительной системы под заголовком, который в изложении английского переводчика звучит как «Общее лечение при болезненном мочеиспускании».
Хотя Паре периодически участвовал в различных военных кампаниях, бо́льшая часть его жизни после этой публикации в 1564 году протекала в Париже, в анатомических исследованиях и сочинении книг. В 1574 году после смерти Карла IX его брат Генрих III не только сохранил за Паре должность главного хирурга, но и сделал его своим камердинером.
Жизнь Амбруаза Паре была достаточно долгой, поэтому он мог своими глазами наблюдать кульминационный момент Религиозных войн в 1589 году, когда Париж был осажден, Генрих III убит, и сцена была подготовлена для восшествия на трон бывшего протестанта Генриха IV. И когда мир, казалось, вот-вот будет достигнут, выдающийся хирург, который несчетное количество раз был на волоске от смерти на поле битвы, мирно скончался в возрасте восьмидесяти лет в собственной постели 20 декабря 1590 года.
Амбруаз Паре оставил весьма авторитетное наследие будующим поколениям хирургов: его книги отличаются основательностью и здравым смыслом. Благодаря тому, что он перемежал описания клинических наблюдений с рассказами о многих из наиболее значимых событий своей жизни, мы имеем удовольствие узнать много информации из его биографии. Собрание сочинений 1575 года и «Апология и трактат», написанные спустя десятилетие, а также обе его главные работы, о которых речь шла выше, содержат множество как специфических знаний из области медицины, так и личного опыта автора.
Паре был в зените своей славы и профессионального мастерства, когда первое издание его magnum opus «Полное собрание Амбруаза Паре, советника и главного хирурга короля» увидело свет. Отклик, вызванный его книгой, является прямым свидетельством высокого авторитета автора среди хирургов Европы и его огромного влияния на обучение будущих врачей на протяжении многих десятков лет. К пятнадцатилетию с момента смерти Паре вышло четыре издания его книг, и многие годы спустя его произведения оставались востребованными и выдержали несколько переизданий, последнее из которых, тринадцатое, вышло из печати в 1685 году.
В 1634 году «Полное собрание» было переведено на английский язык Томасом Джонсоном, лондонским аптекарем. Короткая выдержка из вступительной статьи, адресованной Джонсоном своим читателям, проливает свет на значение работ Паре для его современников:
Я путешествовал по Германии, а затем в течение четырех лет следовал за испанской армией в Нижние страны[5], где не только заботливо лечил раненых и больных солдат, но также внимательно прислушивался и с интересом наблюдал за методами врачевания известных итальянских, немецких и испанских хирургов, работавших в госпитале вместе со мной. Я убедился, что все они использовали в лечении тот же подход, который в этой книге представляет Паре. Так как я не знаю французского языка, то за внушительное вознаграждение я поручил им некоторые части этого «Собрания» перевести на латынь или на другие известные им языки, и они бережно хранили эти отрывки и придавали им большое значение; и они оценили, восхитились и назвали эту работу лучшей среди всех других собраний по хирургии и т. п.
Самая известная работа Паре «Апология и трактат» первоначально была опубликована как часть четвертого издания «Полного собрания», хотя обычно печатается отдельно. Как отмечал английский историк медицины сэр Джеффри Кейнис (брат теоретика экономики Джона Мейнарда Кейниса), «Апология и трактат» «охватывает пятьдесят лет жизни Паре: с двадцати пяти до семидесяти пяти лет». Книга родилась, как мы увидим, в результате вражды.
Современные ученые могут не соглашаться друг с другом в печатных изданиях, но при этом они не опускаются до прямых оскорблений. Редакторы подвергают цензуре комментарии сомнительного содержания, прежде чем они попадут в типографию; в наши дни даже устные дискуссии на академических собраниях, как правило, протекают в рамках приличий. Что не означает, конечно, что мы в действительности не питаем никакой враждебности к нашим профессиональным противникам, просто мы менее откровенно выражаем наши чувства. Но еще совсем недавно словесная перепалка считалась формой искусства или, по крайней мере, допустимым видом диалога. Первоначально бестолковая и грубоватая перебранка превратилась в своего рода дуэль, и положение дел не менялось в течение большей части девятнадцатого века. Постепенно словесная перестрелка трансформировалась в более тонкую и деликатную форму, пока наконец не стала неуловимой ни ухом, ни глазами.
Но четыреста лет назад такие состязания в риторике часто достигали олимпийского размаха, достаточно вспомнить, например, атаку Сильвия, предпринятую против Везалия. Еще одним примером служит конфликт между Амбруазом Паре и деканом факультета медицины Этьеном Гурмеленом. Вероятно, причиной вражды послужила книга Гурмелена «Краткий обзор хирургии». Когда в 1571 году работа была переведена с латыни на французский язык одним из хирургов Святого Пришествия, и автор, и переводчик ожидали, что адаптированный текст будет пользоваться у их коллег большим успехом.
Амбруаз Паре в зрелые годы; гравюра сделана с портрета в школе медицины в Париже. (Предоставлено Йельской медицинской исторической библиотекой.)
Однако труд Гурмелена полностью затмила очередная публикация Паре «Пять книг о хирургии», вышедшая в следующем году. Жаль бедного Гурмелена, но ни его латинский текст, ни французский перевод больше никогда не переиздавались. Он и его сторонники жаждали мести, и некоторое время обвинения сыпались на Паре со всех сторон. Скандал достиг апогея в 1581 году, когда Гурмелен выпустил три новые книги по хирургии и решил воспользоваться этой ситуацией для атаки на Паре. К несчастью для него, он допустил ошибку, выбрав в качестве основной цели для удара доктрину Паре, которую его противник мог с легкостью защитить – использование лигатуры при ампутациях. Попытка победить более мощного врага с помощью лобовой атаки на его самой сильной позиции не была рекомендуемой тактикой ни в одной войне и привела лишь к полному разгрому Гурмелена его оппонентом. Паре ответил книгой «Апология и трактат», в которой он не только дал отпор конкуренту, но и продолжил сокрушительную контратаку не только присущими ему «авторитетом, здравым смыслом и опытом», а также сарказмом и автобиографическим перечнем заслуг за весь период его деятельности в качестве хирурга. Гурмелен остался, фигурально выражаясь, биться в судорогах в пыли, с его единственным ответом, которым послужил документ, лучше всего описанный словами Монтеня как «бедный аргументами и богатый оскорблениями». Он не осмелился даже подписать свое клеветническое нападение, и оно вышло в свет под именем одного из его учеников.
Иллюстрация из одного из томов полного собрания сочинений Паре, опубликованного в шестнадцатом веке; хирург изображен во время выполнения операции с использованием некоторых изобретенных им инструментов. (Предоставлено Йельской медицинской исторической библиотекой.)
Тем не менее потомки должны быть благодарны Гурмелену. Не стоит забывать, что его сочинения послужили полезному делу: они стимулировали величайшего хирурга эпохи Ренессанса к написанию краткого и очень компетентного описания своего профессионального опыта, своей доктрины и времени, когда ему довелось жить и работать. Эта книга была последней из опубликованных работ Амбруаза Паре и воспринимается нашими современниками как один из бриллиантов в сокровищнице литературы, посвященной хирургии.
Том «Апология и трактат» полностью достигает цели, с которой был создан. Как и было обещано, сначала звучат голоса заслуженных авторитетов. Может возникнуть вопрос, как получилось, что цирюльник-хирург, владеющий только французским языком, настолько хорошо знал произведения как древних, так и современных ему авторов, которые писали почти без исключения на латинском или греческом языках?
Хотя историки отмечают, что переводы многих источников Паре в шестнадцатом веке уже были доступны, этот факт не может быть единственным ответом. Известно, что он разбогател и собрал большую библиотеку. Вероятно, он оплачивал ученым перевод нужных ему разделов книг по медицине, а возможно, даже иногда организовывал ренессансный эквивалент современного поиска необходимых справочных данных. Иначе трудно представить, как он мог изучить столько разнообразных источников. В целом, двести авторов перечислены в качестве библиографических ссылок в его «Полном собрании сочинений».
Прибегая к мнению известных авторитетов, он обращается к здравому смыслу, чтобы обосновать свой аргумент, а затем приводит в доказательство своей правоты ряд историй болезни. Так как к тому времени Паре уже достиг больших успехов, укрепивших его положение и поднявших статус хирургического искусства в целом, он считал, что имеет право оскорблять высокомерного профессора внутренней медицины. Он не только использует по отношению к нему обращение «мой маленький мэтр», но также высмеивает серию операций, рекомендованных Гурмеленом в его работе по хирургии. Он сравнивает своего противника с самонадеянным «молодым парнем с пухлыми ягодицами из Бретани», который утверждает, что умеет играть на органе, хотя все, что он может, – это надувать меха. Обучение по книгам ничего не стоит без практики, укоряет Паре своего недоброжелателя: «Вы не выходите из своего кабинета и колледжа… Земледелец получит немного прибыли, говоря о временах года, обсуждая способы обработки земли или показывая, какие семена подходят для разных видов почвы; все это ни к чему не приведет, если он не запряжет пару быков в плуг и не займется делом». Он цитирует энциклопедиста в области медицины I века Корнелиуса Цельса: «Болезни излечиваются не красноречием, а средствами, своевременно и должным образом применяемыми». В остальной части краткого тома описываются эти «своевременно и должным образом применяемые средства», начиная с первой военной кампании Паре в 1537 году и заканчивая походом во Фландрию в 1569 году. К моменту создания этого тома Амбруаз Паре был на пике своей славы и считался ведущим хирургом Европы. За исключением шедевров самого Везалия, ни одна из книг других авторов не имела такого влияния на медицину, как те, что принадлежат перу Паре. Присущий ему стиль драматического повествования, обманчиво простой в построении фраз, настолько совершенен, что не существует никаких способов его как-то улучшить. Пришлось бы обратиться к создателям Библии, чтобы узнать о ярких, стремительных событиях, переданных в такой же понятной описательной манере и содержащих ценные уроки, изложенные в столь лаконичной форме.
Метод передачи знаний грядущим поколениям хирургов, используемый Амбруазом Паре, так же глубок, как его профессиональный опыт, которым он делится так щедро, – ситуация, которая вновь и вновь повторяется не только в истории медицины, но и в истории всех существующих наук. Что касается Паре, его главным средством был родной язык. До того времени цирюльники не публиковали заметок с рассказами о своей работе; кроме того, они не имели доступа к трудам известных ученых, писавших на латыни. Они обучались у опытных цирюльников на практике, наблюдая за процессом и слушая инструкции мастера. Даже надменные хирурги из колледжа Святого Пришествия использовали латынь, поскольку считали необходимым подражать более образованным специалистам медицинского факультета. Некоторые книги переводились на современный язык, но выбранные произведения не всегда заслуживали внимания, а переводы часто были слишком буквальными и трудными для восприятия. Затем появился Амбруаз Паре, писавший на простом разговорном французском языке, понятном всем. Его знание классических произведений, отличная подготовка в больнице «Отель Дье», обширная практика на поле боя и логический подход к решению задач позволили ему стать хрестоматийным профессионалом: ученым, изобретателем и преподавателем. А бесхитростная ясная манера изложения Паре делает его образцом самого высокого стандарта в методике представления обучающего материала. Ему довелось жить в эпоху, когда среди выдающихся научных деятелей, конкурирующих между собой, было принято атаковать друг друга в печати. Паре имел дополнительное преимущество перед своими оппонентами: он обладал способностью предвидеть возражения своих менее сообразительных коллег и умел убедительно обосновать свою точку зрения. В целом, говоря современным языком, он писал хорошие книги.
В работах Амбруаза Паре можно найти немало информации, представляющей значительный интерес для современного читателя. Знакомство с его произведениями помогает понять образ мыслей Паре, а высокий уровень сложности научного материала может показаться неожиданным для книги, написанной четыре столетия назад. Например, при поражении французов в Гедине в 1553 году ему пришлось лечить офицера с многочисленными ранениями, и самым тяжелым из них была зияющая рана в груди, через которую воздух втягивался внутрь. Паре поместил в рану пропитанную маслом губку, чтобы «остановить кровотечение и перекрыть доступ воздуху», при этом он расположил ее таким образом, чтобы кровь могла вытекать, не накапливаясь в груди. Из его описания можно понять, что он сделал не очень плотный тампон, который выполнял функцию одностороннего клапана в то время, пока он готовил бинты и повязки для стабилизации подвижной грудной клетки пациента. Понятно, что, сталкиваясь с большим количеством подобных ранений, Паре смог определить основные шаги в процессе их лечения, которые торакальные хирурги начали осваивать только 350 лет спустя: остановить неконтролируемое движение воздуха внутрь и изнутри, снять давление посредством эвакуации крови и стабилизировать стенку грудной клетки.
Во время этой битвы Паре был захвачен испанцами, но ему удалось освободиться, как упоминалось раньше, благодаря успешному лечению трофической язвы на ноге одного из императорских полковников. В описании этого события есть сцена, напоминающая современный обход больных лечащим хирургом в сопровождении младшего медицинского персонала, во время которой Паре продемонстрировал ухаживающим за полковником санитарам не только очевидные результаты лечения пациента, но также и тот факт, что язва образовалась из-за «большой варикозной вены, которая постоянно ее питала». В качестве лечения Паре применил, как в подобном случае сделал бы и сосудистый хирург двадцатого века, иссечение язвы и компресс с целебной пастой на голень до колена. Больному был рекомендован постельный режим, и нога постепенно заживала. Единственное, чего недоставало в клиническом отчете Паре, если его сравнивать с современной историей болезни, это кожного трансплантата. А для тех, кто думает, что демонстрация образа до и после операции берет свое начало от элегантной практики пластических хирургов последних лет, следует отметить, что Паре имел в своем распоряжении не менее наглядный способ доказательства эффективности лечения. Он «взял кусок бумаги и вырезал отверстие размером с язву, которую ему предстояло исцелить, и хранил ее для сравнения», чтобы убедить своего пациента в успехе его средств, если бы возникли какие-либо сомнения.
Единственное упоминание Паре о применении анестезии можно найти в главе, посвященной военным действиям во Фландрии, где он рекомендует опиум и белену в качестве снотворного. Несмотря на отсутствие других указаний, он, вероятно, часто использовал эти наркотики, как это делали практически все хирурги того времени. Даже самые жестокосердные из хирургов-кустарей пытались облегчить агонию оперативного вмешательства с помощью этих веществ или мандрагоры и крепкого алкоголя. Кроме того, их широко применяли, чтобы уменьшить боли выздоравливающим или сделать умирающим путь к могиле менее мучительным.
В электронные 1980-е медицинские учреждения широко оборудованы убаюкивающими устройствами, включая магнитофонные записи звуков мягко падающего дождя, которые погружают даже самый беспокойный ум в нежные объятия Морфея. Как бы отреагировали махатмы из патентного ведомства США, если бы им сказали, что Амбруаз Паре был первым, кто подумал об этом? «Можно вызвать дождь искусственно, если лить воду с какого-то высокого места в чайник, чтобы звуки падающих капель мог слышать пациент. Таким образом мы спровоцируем его сон». Ренессанс или модерн, но хорошая идея – это всегда хорошая идея.
В книге «Апология и трактат» есть и другие бонусы. Одна из фраз, процитированных ранее, где автор выступает против использования пороха и огнестрельного оружия, напоминает увещевания библейских пророков, возмущенных грехами человечества. Речь идет об отрывке: «Гроза заранее предупреждает о своем приближении раскатами грома; но это инфернальное устройство ревет во время выстрела и, стреляя, гремит, отправляя в один момент смертельную пулю в грудь и оглушительный грохот в уши».
Способ построения фразы кажется преднамеренным литературным приемом, помогающим автору сделать главу «украшением всего моего трактата». Аналогично, мысли, перекликающиеся в следующих друг за другом пятистишиях, что весьма характерно для стиля Ветхого Завета, легко обнаружить в следующих отрывках, но на этот раз цитаты напечатаны таким образом, чтобы подчеркнуть одну идею, выраженную в двух отдельных строфах:
Это разоблачающее, почти поэтическое произведение библейского типа сочинил пророк эпохи Возрождения, первым учителем которого был капеллан, а первым учебником – перевод древних свитков Израиля.
Мне не просто так пришло в голову процитировать некоторые выдержки из этой главы. Я стремился описать жизнь и заслуги Амбруаза Паре в том контексте, в котором одаренный хирург формировался как личность. Я пытался описать его гуманизм в эпоху жестокости, его скромность в эпоху высокомерия, его объективность в эпоху предрассудков, его оригинальность в эпоху консерватизма, его независимость в эпоху авторитетов, его логичную рациональность в эпоху путаных непостижимых теорий и его глубокую порядочность в эпоху господства прагматического лицемерия и массовых убийств, совершаемых во имя религии.
С его необычайными способностями к наблюдению, талантом обобщать информацию и делать универсальные выводы из полученного опыта Амбруаза Паре можно сравнить с великими клиническими учеными более поздней эпохи. Но есть и разница, которая ставит его в один ряд скорее с древними целителями, чем с нашими современниками. Амбруаза Паре интересовал не столько процесс течения заболевания, сколько его пациент, страдающий человек. Это была старая концепция Гиппократа: именно на восстановление внутреннего равновесия индивидуума, по большей части, была направлена греческая терапия. Поскольку такой подход приводил к серьезным ошибкам в понимании специфики болезни, постепенно, ближе к концу восемнадцатого века, он стал уступать место исследованиям патологической анатомии. Так как ученые медики сначала фокусировались на органах, потом на клетках и, в конце концов, на молекулах, им становилось все труднее разглядеть за ними испуганного больного пациента, который пришел к ним за помощью. Своей сосредоточенности на деталях болезни мы обязаны огромным успехам, которых добилась современная медицинская наука. Но именно эти достижения уменьшили нашу способность, хотя мы этого и не желали, сопереживать страдающим от болезней пациентам, которых мы так хорошо лечим.
Таким образом, Паре старался не столько проникнуть в суть патологических процессов, сколько облегчить страдания раненых и больных пациентов. Это видно в каждом описанном Паре случае. Он искал эффективные методы лечения и обучал им всех желающих. В этом он был больше похож на своих предшественников, чем на своих последователей. Он отбрасывал не оправдавшие себя идеи медиков прошлых поколений и включал в свой арсенал те средства, которые нашли подтверждение в его практике. Он был гигантом, стоящим на плечах гигантов – Гиппократа, Галена и своего почти современника Андреаса Везалия. Он твердо стоял на ногах там, где их научное наследие поддерживало его опыт, и избегал мест, где это было невозможно. Таким образом, надежно опираясь на знания выдающихся мэтров медицины и собственную практику, он заглянул в будущее гораздо дальше, чем любой хирург в истории медицины.
5. Наш главный консультант – сама природа. Открытие большого круга кровообращения Уильямом Гарвеем
Доктор Уильям Гарвей учился у классиков. Свободно владея греческим и латинским языками, изучив произведения великих писателей античного мира, он включил в свой личный пантеон бессмертных авторов всего несколько ученых постантичного периода. Что касается современных литераторов, чьи публикации были популярны в Англии семнадцатого века, то он не питал к ним ни малейшего интереса. Гарвей говорил об эпохе, в которой ему довелось жить, как о «веке, в котором толпа писателей, лишенных вкуса, столь же многочисленна, как рой мух в очень жаркий день, и мы того гляди задохнемся от зловония их нелепых и пустячных сочинений». Он не стеснялся высказывать свое мнение об этой «толпе писателей» в откровенных грубых выражениях, которые так легко соскальзывали с языка в те времена, когда люди были более прямолинейны.
Он называл их сворой пачкунов и засранцев, при этом список тех из них, чьи работы были популярны тогда, включал некоторые широко известные имена: Бен Джонсон, Кристофер Марлоу, Эдмунд Спенсер, Фрэнсис Бэкон и три Джона – Донн, Драйден и Милтон. А самое грязное нижнее белье при таком раскладе, безусловно, должен был носить плодовитый продюсер Уильям Шекспир. Хотя список не делает большой чести памяти доктора Гарвея, тем не менее не многие из людей откажут ему в прощении. Во-первых, никто никогда не требовал от ученых, чтобы они были образцом литературного вкуса. Более того, Уильяма Гарвея просто не за что прощать; отдельные критические голоса в его адрес за некоторые странности тонут в дружном хоре благодарного человечества. Поскольку именно он преподнес науке и искусству медицины величайший дар, который в силах сделать один человек, – открытие кровообращения.
В один прием Гарвей разрешил самую неуловимую загадку, которая многие столетия сдерживала прогресс медицины, и одновременно возродил концепцию экспериментального исследования как принципиальный метод развития биологической науки. Только Луи Пастера можно сравнить с Гарвеем по масштабу уникального вклада в сокровищницу медицинских знаний. В память о великом ученом учреждены премии Гарвея, общества Гарвея и регулярные дни поминовения Гарвея. Одной из самых высоких наград, которая может быть присуждена выдающемуся деятелю британской медицины, является его избрание из ряда претендентов для оглашения ежегодной торжественной речи в память о Гарвее перед врачами Королевского колледжа; этой чести ученый может быть удостоен лишь раз в жизни и только за самые незаурядные достижения. Если рассчитать холодный индекс стоимости, используемый на рынке, для небольшого тома, в котором Гарвей сформулировал свою доктрину в 1628 году, он окажется самой дорогой из когда-либо написанных книг по медицине: продажная цена каждого из немногих сохранившихся экземпляров первого издания, достигнув более 300 000 долларов, продолжает быстро расти. К тому времени, как вы прочтете эти слова, книга будет стоить гораздо дороже.
Чтобы оценить величие достижения Гарвея, необходимо изобразить карту местности, в которой произошли интересующие нас события. В 1543 году Андреас Везалий совершил революцию в анатомии. Образ человеческого тела, созданный Галеном, был развенчан, а истинная структура человеческого организма больше не была предметом умозаключений и гипотез. Но молодой бельгиец не просто заменил ошибки античного ученого реальными фактами; не согласившись с мнением признанного авторитета, он продемонстрировал важность скептического подхода, ничего не принимая на веру до тех пор, пока не будут представлены доказательства кем-то, кто возьмет на себя труд убедиться в справедливости приведенных аргументов. Одной из важнейших заслуг Везалия было то, что он создал атмосферу, в которой никому из смелых независимых исследователей больше не препятствовали полученные в наследство от прошлых эпох ошибочные теории, принимаемые в те времена за истину. Такой возбуждающий интеллект климат вызвал к жизни любопытство Галилея, Ньютона, Бойла и небольшой группы несколько менее блестящих, но не менее решительных талантливых ученых. Таким настроениям мы обязаны тем, что современная наука, какой мы знаем ее сегодня, родилась в семнадцатом веке. Среди самых выдающихся ее создателей был Уильям Гарвей.
Хотя Гален уже не мог скрыть новые свидетельства об анатомической структуре человека, его давно омертвевшая рука все еще лежала холодным и тяжким грузом на общем понимании функционирования тела. В начале семнадцатого века врачи по-прежнему считали печень источником крови, которая, как они полагали, постоянно производится внутри этого крупного губчатого органа из переваренной пищи, попадающей в него из кишечника. Образовавшаяся из пищи кровь по венам распространяется во все части тела, пропитывая ткани темно-красной жидкостью, которая постоянно пополняется по мере потребления ее тканями, как в некой замкнутой ирригационной системе. Правая часть сердца рассматривалась просто как отдельный элемент системы вен, предназначенный для питания легких кровью. Согласно учению Галена, часть крови, достигающая правой стороны сердца, просачивается в его левую долю через поры в разделительной перегородке. Хотя Везалий, опорочивший своими открытиями анатомию Галена, не обнаружил эти поры, он не смог освободиться от мощного влияния замысловатого теоретизирования своего предшественника и решил, что кровь попадает в левый отдел сердца в результате неопределенного процесса, подобного выделению кожей пота. В соответствии с этой теорией, в левом желудочке кровь смешивается с пневмой, духовной сущностью, вдыхаемой через легкие. Затем желудочек выталкивает согретую внутренним теплом смесь крови и этой жизнетворной субстанции в артерии. Таким образом, существует два различных вида крови: более темная венозная, питающая органы и ткани, и ярко-красная артериальная, источник жизни, несущая в себе пневму и внутреннее тепло. Гален не подозревал о наличии оттока крови из легких, полагая, что кровь переносится в эти структуры исключительно для их питания. Функция легких, как предполагалось, заключалась в том, чтобы вдыхать пневму в тело, доставляя ее в левый желудочек. То, что ни малейшего доказательства этих теоретических построений не было найдено, казалось, никого не беспокоило. Эта схема считалась истиной, потому что так сказал бессмертный Гален: она принималась на веру и не подвергалась каким-либо сомнениям почти полторы тысячи лет.
(На самом деле, некоторые врачи понимали истинную природу циркуляции крови между сердцем и легкими, так называемого малого круга кровообращения. Однако их теории не получили широкого распространения. Один из них, испанский врач Мигель Сервет, выдвинул в целом правильную идею малого круга кровообращения в своем трактате «Восстановление христианства» (Christianismi Restitutio), который церковь сочла еретическим, как и другие его произведения. В Женеве, столице кальвинизма, с попустительства самого Кальвина, Сервет был сожжен на костре в 1553 году, и его труды исчезли в огне вместе с ним.)
Человек, которому было суждено вывести медицину на уровень, недосягаемый для влияния теорий Галена и религиозной критики, родился 1 апреля 1578 года в городе Фолкстоун графства Кент на юго-восточном побережье Англии. Уильям Гарвей был самым старшим ребенком из семи сыновей и двух дочерей Джоанны и Томаса Гарвей. Его отец вел самостоятельный бизнес и занимался международной торговлей. Когда Уильям вырос, предприятия его отца процветали, но юноша никогда не стремился к роскошной комфортной жизни. Он был единственным из сыновей Томаса, которого не привлекал мир коммерции. Пятеро из них принадлежали к когорте иностранных торговцев, известных в Лондоне как турецкие негоцианты, поскольку они вели свои дела с восточными странами. Они заботились о том, чтобы их старший брат имел широкие возможности для развития своих талантов в медицине. Элиаб Гарвей, ставший, в конечном счете, самым богатым представителем семейного клана, даже взял на себя управление финансовыми делами Уильяма, чтобы на протяжении всей своей жизни ему не приходилось отвлекаться на обычные житейские проблемы.
Юный Уильям начал свое официальное обучение в возрасте десяти лет. Он был зачислен в Королевскую школу в Кентербери, устав которой требовал, чтобы «независимо от того, чем заняты ученики, уроками или играми, они должны говорить только на латинском или греческом языках». Таким образом, как и его предшественник Андреас Везалий, разрушивший учение Галена, Уильям Гарвей уже на раннем этапе жизни в совершенстве овладел произношением и нюансами языков древности. Когда ему было шестнадцать, он поступил в Гонвилл-энд-Киз-колледж в Кембридже. Последнее имя в названии этого учебного заведения принадлежит доктору Джону Кизу, который какое-то время арендовал жилье вместе с Везалием в Падуе. Неудивительно, что колледж Киза всегда привлекал студентов, заинтересованных в изучении медицины. Во времена учебы Гарвея для обучения анатомии ежегодно подвергали вскрытию тела двух казненных преступников, так что к моменту получения степени бакалавра в 1597 году у него было много вопросов, связанных с интерпретацией наблюдаемых анатомических структур.
В дальнейшем начинающий врач поступает, естественно, в Падую. По причинам, указанным в третьей главе, среди всех учебных заведений Европы в этом университете была самая открытая интеллектуальная атмосфера для изучения любой из четырех классических дисциплин: права, теологии, медицины и философии. Этот университет был самым безопасным академическим приютом для протестантов и иудеев, которым Пий IV, занимавший должность папы с 1559 по 1565 год, пытался папской буллой запретить присвоение научных степеней как представителям других религиозных конфессий, в ответ на что Венеция передала полномочия папы римского по предоставлению научных званий пфальцграфам[6]. Университет Падуи обладал и другими дополнительными преимуществами, которые заключались в его организационной структуре, дающей учащимся свободу самоуправления вплоть до найма преподавательского состава. Студенты из разных стран делились на группы, так называемые «Нации», каждая из которых выдвигала своего представителя – советника, и эти советники вместе с ректорами составляли исполнительный орган университета.
Но главным достоинством Падуи всегда была плеяда звездных преподавателей как в прошлом, так и в наши дни. Одним из величайших ученых в глазах Уильяма Гарвея был Иероним Фабриций, его еще называли Фабриций Аквапенденте, преемник столь же талантливого Габриэля Фаллопия, в честь которого названы тонкие трубы, через которые должны пройти свой путь на репродуктивное свидание яйцеклетки всех поколений. Тот факт, что Галилео Галилей был в университете профессором математики, кажется, не имел для Гарвея особого значения. Самым обожаемым учителем Уильяма был Фабриций; исследования эмбриона цыпленка и процесса формирования плода в значительной степени определили направление, в котором в будущем будет работать английский врач.
Возможно, наиболее важной предтечей обнаружения кровообращения является работа Фабриция, где он описал венозные клапаны. Годы спустя Гарвей скажет Роберту Бойлу, что понимание односторонней функции клапанов, направляющих кровь обратно в сердце, которое привело его в дальнейшем к главному открытию его жизни, пришло к нему благодаря анатомическим находкам его наставника и друга Фабриция.
В академической и социальной свободе Падуи разнообразные таланты Гарвея расцвели. Его избрали советником английской нации, что давало ему право иметь собственный герб или стемму, нарисованную на видном месте в Большом зале университета. Две из них, дизайн которых разработал лично Гарвей, можно по сей день увидеть на дугообразном потолке нижней лоджии, и еще одна была когда-то в старом анатомическом театре. Магистр и стипендиаты колледжа Киза восстановили ее вскоре после того, как были обнаружены ее следы в 1893 году. Они идентичны гербам на докторском дипломе, выданном университетом Падуи Уильяму Гарвею 25 апреля 1602 года.
Сам диплом изобилует вычурными украшениями и содержит перечень специальностей и особых привилегий владельца, выполненный в восторженных выражениях, как было принято в те дни. Далее приводится образное описание церемонии окончания университета.
Тогда Иоганн Томас Минад также торжественно украсил благородного Уильяма Гарвея (который самым возвышенным образом попросил об этом, и его обращение было благосклонно принято) обычными символами отличия и эмблемами, принадлежащими доктору; затем он передал ему книги по философии и медицине, сначала закрытые, а спустя некоторое время – открытые; он надел на его палец золотое кольцо, а на голову шапочку доктора как символ венца добродетели и одарил его поцелуем мира с благословением Магистра.
Диплом вручал не имеющий религиозного звания пфальцграф Сигизмунд де Капилисти, назначенный венецианским сенатом. Именно в его дворце проходила церемония. Гарвей взял свое кольцо, шапочку и с воспоминаниями о схоластическом благословении Минада отправился домой в Англию. Там он обратился с просьбой принять его в члены колледжа врачей и, получив положительный ответ, вскоре начал играть активную роль в делах этого сообщества. В том же 1604 году он женился на Элизабет, дочери доктора Ланселота Брауна, в прошлом врача королевы-девственницы, а в то время выполнявший те же функции при короле Джеймсе I. По иронии судьбы, у Элизабет Браун был брат по имени Гален.
Об этом браке известно лишь то, что детей у супругов не было, что у миссис Гарвей был попугай и она умерла более чем на десять лет раньше своего мужа. К сожалению, сохранилось совсем немного информации об Уильяме, это касается как его личной жизни, так и его характера. Нам остается полагаться лишь на отрывочные сведения, которые можно обнаружить в современных источниках. Наибольшее число подробностей содержит относительно краткое биографическое эссе, написанное Джоном Обри, у которого завязались дружеские отношения с Гарвеем в 1651 году, когда автору сочинения было двадцать пять лет, а знаменитому врачу семьдесят три. Эссе было частью позже опубликованного двухтомника «Кратких жизнеописаний» Обри, в который входили также материалы, имеющие отношение к Шекспиру, Милтону и Гоббсу. Биография Гарвея в изложении Обри представляет собой ассорти из беспорядочных наблюдений, субъективных суждений и большого количества слухов, вызывающих сомнения в исторической ценности некоторых деталей. Поскольку он тесно общался с Гарвеем только на закате жизни великого доктора, информацию относительно личности героя своего эссе и его репутации врача за время его профессиональной карьеры Обри получал, по большей части, из вторых рук. Более того, в преклонные годы Гарвей, похоже, отличался некоторой желчностью характера, о чем свидетельствуют его комментарии о литературе. Сэр Джеффри Кейнс, автор всестороннего исследования работ Уильяма Гарвея, считал, что Обри «любопытный, доверчивый и безалаберный. Следует признать, что он часто допускал неточности, но никогда не писал неправду, что является большим достоинством при оценке достоверности описанных им событий». В письме Энтони Вуду, историку Оксфорда семнадцатого века, Обри прокомментировал свое отношение к созданию биографических произведений:
Здесь я открываю вам Правду, насколько мне позволяют мои способности, с таким же благоговением, как исповедующийся своему духовнику, ничего, кроме правды; обнаженная незамысловатая истина разоблачена здесь столь откровенно, как неприкрытый срам, давая много поводов залиться румянцем щечкам юной девы. Так что я должен выразить вам свое желание, чтобы после прочтения моего труда вы совершили некую кастрацию и нашили бы фиговые листки, чтобы стать моим Index Expurgatorious[7].
Хорошо это или плохо, но эссе Обри – это практически все, что у нас есть, так что мы вынуждены полагаться именно на его описание, согласно которому Гарвей «был очень маленького роста, с круглым лицом, похожим на восковую маску оливкового цвета, маленькими, очень темными, одухотворенными глазами; с когда-то черными как вороново крыло, но почти полностью поседевшими в последние двадцать лет жизни волосами». Насколько следует доверять этим деталям, можно судить по портретам Гарвея, написанным в его зрелые годы.
В отличие от Галена, Паре и Везалия, Уильям Гарвей не оставил после себя автобиографических заметок. Поэтому у нас нет возможности принять во внимание его слова, чтобы заполнить многие пробелы в дошедших до нас скудных, размытых описаниях и воссоздать близкий к реальному образ его личности. Обри уверял, что он был необычайно вспыльчивым: «Он обладал, как и все его братья, ярко выраженным холерическим темпераментом; и в дни своей молодости носил с собой кинжал… но этот доктор был готов вынуть из ножен свой кинжал при любой самой незначительной ссоре». Маловероятно, что Гарвей легко поддавался чувству гнева и хватался за свой клинок при малейшей провокации. Значительно более приемлемой интерпретацией этих слов можно считать, что он просто был нервным порывистым человеком. В письме друга Уильяма лорда Арундела есть подтверждение этому предположению: в нем аристократ характеризует товарища как «маленькое, вечно подвижное существо по имени доктор Гарвей». Если бы привычка часто хвататься за кинжал означала, что у него был буйный дерзкий нрав, можно быть уверенным, что ему не удалось бы дожить невредимым до восьмидесяти лет. Далее Обри рассказывает нам, что «он был весьма возбудимым, и поток мыслей часто не давал ему уснуть; он говорил мне, что если ему не спится, он поднимается с кровати и ходит кругами по комнате в одной рубашке, пока совсем не замерзнет, то есть до тех пор, когда его не охватит сильная дрожь, после чего он возвращается в постель и благополучно засыпает».
Так перед нами возникает образ темноглазого, с лицом оливкового цвета, небольшого роста, импульсивного и эмоционального человека. Но хотя его физические движения могли быть порывистыми и беспокойными, его мозг был сосредоточен на цели, и не было ничего суетливого или случайного в работе его одаренного серого вещества.
Год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием врачи, которые должны произносить торжественную речь в память о Гарвее, оказываются в тупике, пытаясь найти оригинальные способы рассказать об этом великом человеке. Многие из них говорили о сложности этой задачи, но лучше всех ее сформулировал сэр Уилмот Херрингем в 1929 году. Его размышления по этому вопросу можно найти не в самой речи, а в письмах, которые он написал своему американскому другу Гарвею Кушингу за несколько месяцев до церемонии. Историческая библиотека Йельского университета хранит сборник речей, произнесенных с 1661 по 1975 год, бо́льшая часть которых изначально принадлежала Кушингу. Читая их, я обнаружил заметки, написанные от руки на бумажных листах, забытых в небольшом томике с речью сэра Уилмота, одна из которых начинается с жалобного скрежета зубов автора:
13 января 1929 года
Уважаемый Кушинг! Вы совершенно правы. Этот крошечный человечек заставляет меня работать днем и ночью. Мелкая скотина практически не писал писем или, скорее всего, просто почти ничего не сохранилось – и нет ничего, от чего можно было бы оттолкнуться, за исключением случайных замечаний в других документах. И даже они необычайно редки. И т. п.
К тому времени, когда в октябре Херрингему нужно было произнести, как он написал в этом письме, «речь, черт бы ее побрал», он уже успокоился и выразил все свое разочарование по поводу практически безрезультатных изысканий во вступительном слове, бесстрастный тон которого дает нам прекрасный пример сдержанности, отличающей представителей его нации: «Похоже, у Гарвея был необыкновенный талант не привлекать к себе внимания».
Таким образом, все вышесказанное следует рассматривать как объяснение тому, что остальная часть этого эссе почти не касается личности ученого Гарвея, а повествует скорее о его работе и ее значении для развития медицины.
Вскоре после того, как он стал полноправным членом колледжа врачей в 1607 году, Гарвея назначили помощником врача в больнице святого Варфоломея, что способствовало значительному расширению его частной медицинской практики. На протяжении всей своей жизни он оставался, как мы сказали бы в двадцатом веке, клиницистом-исследователем, врачом, который занимался научными изысканиями и одновременно лечил больных. В действительности, его карьера с самого начала развивалась весьма успешно, по крайней мере, если в качестве критерия принять его популярность среди высокорожденных пациентов; со временем он стал врачом Джеймса I, позже Карла I, а также многих представителей аристократии, среди которых был и лорд-канцлер сэр Фрэнсис Бэкон.
Иронично, что, согласно утверждению историков, именно Бэкон впервые сформулировал метод индуктивного познания, а следовательно, и «научного метода» (о котором пойдет речь позже), как мы его сегодня называем. При этом считается, что именно Гарвей был первым врачом, применившим на практике подход Бэкона. Сам Бэкон никогда не пользовался своим рецептом, и не найдено никаких доказательств тому, что Гарвей использовал этот метод под влиянием теории Бэкона. Строго говоря, эти двое как представители научной мысли едва ли уделяли друг другу какое-то внимание. Гарвей сказал о своем уважаемом пациенте, что он «писал о философии» (слово «философия» часто использовалось в качестве синонима слова «наука») как лорд-канцлер; я излечил его от этого.
Уже в первые годы своей медицинской практики Гарвей уделял внимание экспериментальным исследованиям в области анатомии и физиологии, а также изучению функций различных органов тела. В скором времени он стал известен не только как очень хороший врач, но и как многообещающий молодой ученый, если этот термин применим к медику, проводившему относительно примитивные опыты в соответствии с уровнем знаний той эпохи. Несмотря на то что Гарвей все еще считался начинающим врачом, в 1615 году руководство колледжа врачей поручило ему чтение лекций Ламли. Упомянутая серия лекций была организована Джоном лордом Ламли в 1582 году с целью распространения знаний в области анатомии и хирургии. Согласно условиям их учреждения, выбирался ведущий научный сотрудник колледжа для чтения двух публичных лекций каждую неделю на базе шестилетнего цикла. Назначение на эту должность было пожизненным. Гарвей занимал этот пост до 1656 года, когда добровольно сложил полномочия в возрасте семидесяти лет.
Свою первую лекцию Ламли Уильям Гарвей дал утром во вторник, 16 апреля 1616 года, ровно за неделю до смерти Уильяма Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне. В течение двух веков рабочие заметки к этому выступлению считались утраченными, но в 1876 году они были обнаружены в Британском музее. С тех пор эти рукописи были подвергнуты тщательному изучению, на основе которого можно с уверенностью утверждать, что Гарвей начал исследование важнейших вопросов, связанных с циркуляцией крови и ставших впоследствии главной темой труда его жизни, задолго до его публикации в 1628 году. Далее представлены общие тезисы его работы и экспериментальный метод его открытия, как они описаны в заметках для лекции и в книге «Анатомические исследования движения сердца и крови у животных» (Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanquinis in Animalibus). Общепринятое сокращенное название этого сочинения – De Motu Cordis.
Гравюра Роберта Ханна портрета Уильяма Гарвея, демонстрирующего сердце оленя Карлу I. Оригинал находится в Королевском врачебном колледже, в Лондоне. (Предоставлено Йельской медицинской исторической библиотекой.)
Подробные исследования, сделанные учеными в последние десятилетия, указывают на то, что Гарвей, по-видимому, сделал свое открытие кровообращения в два этапа, между которыми прошло целых десять лет. В соответствии с концепцией Джерома Байлебила из Института истории медицины Джонса Хопкинса, Гарвей изначально намеревался открыть многовековую тайну сердцебиения и пульса, а также связь между ними. Разобравшись, как он полагал, с этой проблемой к моменту презентации своей первой лекции Ламли в 1616 году, он написал трактат, посвященный этому вопросу. Поскольку первая половина De Motu Cordis представляет собой законченный анализ и описание физиологии сердца и артерий (без каких-либо ссылок на общую систему кровообращения), этот раздел книги, вероятно, является исходным трактатом. А остальные главы, в которых изложена теория циркуляции крови по замкнутой системе, видимо, были написаны позже. Таким образом, De Motu Cordisy состоит из двух отдельных фрагментов, написанных автором в разные периоды жизни и соединенных позже в одно полное описание процесса кровообращения, начиная от момента распространения крови по цепочке артерий в ткани до ее возвращения к сердцу по венам.
По словам Байлебила:
Таким образом, кажется, что De Motu Cordis как общеизвестный трактат был создан в два отдельных этапа. Сначала Гарвей, видимо, написал самодостаточное исследование о сердцебиении и артериальном пульсе. Впоследствии он изменил свой план и решил добавить описание циркуляции крови. Тогда он вставил с восьмой по шестнадцатую главы в предыдущую работу, заменив… новым введение в расширенный трактат и тем самым преобразовав труд, имеющий большое значение, в один из величайших научных шедевров всех времен.
Сердцебиение и его связь с пульсом интересовали ученых со времен Аристотеля. Частичное сжатие, фрагментарный изгиб, каждая сердечная пульсация и толчок с быстротой молнии приводили в отчаяние врачей, пытающихся найти секрет этого механизма или определить последовательность этапов основного движения. В начале первой главы De Motu Cordis Уильям Гарвей написал: «Когда я впервые провел эксперименты на животных с целью исследования движений и функций сердца посредством непосредственного наблюдения, а не читая книги других людей, оказалось, что это настолько сложно, что я почти поверил Фракасторо (Джироламо Фракасторо, венецианский эрудит шестнадцатого века), что движение сердца может понять только Бог».
Но Гарвей не сдавался. Преисполненный решимости расшифровать значение сердечных конвульсий, показавшихся ему сначала плохо скоординированными, «возникающими и проходящими со скоростью молнии», он провел множество наблюдений на вскрытых животных, прежде чем перешел к изучению хладнокровных существ, в частности змей, так как их сердца бьются заметно медленнее. Кроме того, он использовал каждую возможность «внимательно следить за сердцем [собаки и свиньи], когда его движения замедляются, прежде чем остановиться совсем. Его сокращения становятся все реже и слабее, а паузы дольше, поэтому становится легче рассмотреть само движение и понять, как оно происходит». Я провел много сотен часов в лабораториях хирургии и физиологии, наблюдая за тем, как умирают собачьи сердца и могу поручиться за справедливость слов Гарвея, когда он описывает паузы между ударами и почти безжизненные движения последних сердечных пульсаций, предшествующих фибрилляции или остановке.
Повторяя эксперименты, Гарвей доказал к своему большому удовлетворению, что сердце сильно сжимается в фазе цикла, называемой систолой, чтобы вытолкнуть содержащуюся в нем кровь в крупные артерии. В тот момент, когда сердце сокращается, оно выталкивает себя вперед, ударяясь своей вершиной о грудную стенку. В это же время происходит расширение артерий. Таким образом, пульс вызывается сокращением сердца и синхронизирован с ним. Обнаруженный факт опроверг прежнюю теорию, утверждавшую, что артерия расширяется в пульсирующем режиме сама по себе в результате независимого активного растяжения ее стенок. Стоит вспомнить, что, по мнению древних греков, пульс связан с ритмичным расширением пневмы, содержащейся в артериях. Гарвей доказал, что он возникает благодаря сердцебиению.
Дальнейшие экспериментальные наблюдения показали, что сокращение предсердий (верхних камер резервуара сердца) происходит непосредственно перед желудочками (двумя мощными насосными камерами). Гарвей продемонстрировал то, о чем некоторые врачи в прошлом могли только догадываться: когда кровь выталкивается из желудочков, большие сердечные клапаны препятствуют ее возвращению в сердце, так что кровь течет по артериям всегда от сердца к периферии.
К 1616 году Гарвей пришел к главному выводу, который он изложил в своем первоначальном трактате, составляющем первую половину De Motu Cordis: в момент расслабления сердца между ударами оно пассивно заполняется кровью, поступающей с периферии тела по двум большим венам, входящим с правой стороны (полые вены), и по большим венам, входящим с левой стороны, по которым кровь возвращается к сердцу из легких (легочные вены). Когда предсердия заполняются, кровь переливается в желудочки, и они начинают сокращаться, таким образом, как выразился Гарвей, «пробуждая дремлющее сердце». За сокращением предсердий немедленно следует аналогичное сокращение камер желудочков, вытесняющее кровь из правого желудочка в основную артерию, ведущую к легким (легочную артерию) и одновременно из левого желудочка в основную артерию, направляющую кровь к периферии (аорта). Это означает, что единственное активное скоординированное движение сердца – это сокращение предсердий, распространяющееся на желудочек, который вытесняет кровь от сердца к периферии по основным сосудам, создавая пульсирующую волну, в результате которой «все артерии тела реагируют, подобно перчатке, в которую с усилием вдыхают воздух».
Гарвей доказал цикличность процесса: кровь проникает в сердце через полую вену, выталкивается в легкие правым желудочком, возвращается с левой стороны и левым желудочком направляется в аорту, а оттуда к остальным частям тела. Это объяснение циркуляции крови опиралось на экспериментальные исследования, описанные в первых главах De Motu Cordis, то есть на полное понимание движения сердца, функционирования основных сосудов, а также движения крови через легкие. До сих пор все выводы основывались на наблюдениях, сделанных в ходе опытов, в ходе которых Гарвей анализировал действие сердечных и сосудистых структур. Не стоит забывать, что никакие измерения при этом не проводились. Больше того, не было сказано ни одного слова об общем кровообращении в теле.
Именно во второй половине De Motu Cordis Гарвей решает проблему, на которую его предшественникам никогда не приходило в голову обратить внимание, поскольку считалось, что в этом вопросе все уже давно известно: фактический путь следования крови к тканям организма. Определить ее истинный маршрут ученому помогли как новые экспериментальные данные, так и прежние знания анатомии. Новые данные он получил, начав использовать измерения при проведении медицинских опытов. Все историки согласятся с утверждением, сделанным Чонси Ликом в 1913 году в примечании к своему переводу De Motu Cordis: «Использование количественных показателей для доказательства физиологических концепций было величайшей заслугой Гарвея перед философией, и он, по-видимому, осознавал это, поскольку вновь и вновь прибегал к этому методу, неизменно получая красноречивый результат».
Иллюстрация из трактата De Motu Cordis, демонстрирующая, как клапаны предотвращают обратный кровоток в венах. Фотография Уильяма Б. Картера. (Предоставлено Йельской медицинской исторической библиотекой.)
«Количественные показатели» Гарвея, по существующим сегодня строгим стандартам, были довольно приблизительными. Но за всю историю медицины никакие измерения не производили большего эффекта. Он выяснил, что желудочек сердца человека может вместить приблизительно от шестидесяти до девяноста миллилитров крови. Учитывая, что нормальный сердечный ритм составляет в среднем семьдесят два удара в минуту, в течение одного часа через сердце должно проходить от 60×72×60 или 259,2 литра крови, а значит, 565,2 литра в час протекает через аорту. (Можно по-разному судить, насколько эти данные приблизительны, но оценка Гарвея вполне согласуется с результатами изучения минутного объема сердца, полученными лучшими кардиологами нашего космического века.) Эта величина более чем в три раза превышает вес среднего человека, что явно опровергает доктрину Галена о производстве новой крови в печени из поступающей пищи и поглощении ее тканями. Поскольку такое огромное количество крови сбрасывается в аорту, а ее источник уже был описан в первом трактате (речь идет о полой вене), возникает очевидный вопрос: откуда кровь приходит в полую вену? Единственный возможный источник – это другие вены. Следующим логическим шагом было доказать, что кровь путешествует по венам только в центростремительном направлении: с периферии к полой вене и сердцу.
Диаграмма, представляющая ток крови через сердце: полая вена подходит к правому предсердию, оттуда кровь течет в правый желудочек, затем в легочную артерию, к легким в легочные вены, в левое предсердие, к левому желудочку до аорты
Здесь ему пригодились уже известные факты об анатомии. Учитель Гарвея Фабриций описал венозные клапаны, не имея ни малейшего понятия об их назначении. Опираясь на доктрину Галена, согласно которой кровь распространяется в центробежном направлении от печени к периферии для питания тканей, он предположил, что их функция состоит в замедлении потока, чтобы ткани периферии не переполнялись кровью. С помощью простого эксперимента, потерев в направлении от сердца пальцем одной руки вдоль поверхностной вены другой руки, вы можете продемонстрировать, что наполнение сосуда кровью происходит от более отдаленной его части к той, что расположена ближе к центру. Таким образом можно обнаружить даже клапаны, поскольку они набухают, препятствуя обратному току крови. Несколько иллюстраций в трактате De Motu Cordis показывают, как этот небольшой опыт может сделать любой физиолог-теоретик.
В главе VIII Гарвей писал:
Я размышлял над этим и другими подобными вопросами часто и серьезно. Я долго пытался понять, сколько крови перекачивается и насколько быстро она проходит свой путь. Не допуская мысли, что переваренная пищевая масса может обеспечить такое изобилие крови… если только она как-то не возвращается к венам из артерий и не попадает в правый желудочек сердца, я начал думать, что движение крови должно быть круговым.
Проанализировав такое объяснение, Гарвей понял, что оно верно. Он обобщил свою теорию кровообращения в главе XIV. Вся глава состоит лишь из одного абзаца, но насколько он поразителен:
Здравый смысл и эксперимент привели к выводу, что желудочки ритмично выталкивают кровь, которая, протекая через легкие и сердце, перекачивается через все тело. Там она проходит через поры в плоти в вены, по которым возвращается от периферических отделов всего организма к центру, от небольших вен к крупным и наконец попадает в полую вену и правое предсердие. Объем крови, учитывая отток через артерии и поток в обратном направлении по венам, настолько велик, что он не может образовываться из потребляемой пищи. Кроме того, ее намного больше, чем необходимо для питания тканей. Поэтому следует сделать вывод, что кровь в теле животного непрерывно перемещается по кругу и что действие или функция сердца заключается в обеспечении этого движения путем перекачки. Это единственная причина, объясняющая сердцебиение.
Последнее предложение заслуживает особого внимания. Больше никакой пневмы, никакого врожденного тепла и никаких Галеновых фокусов. Как Гарвей писал в другой своей работе, концепция пневмы, или жизненной сущности, – это «обычная уловка невежества». Как только упала завеса тайны с функции сердца, оно оказалось простым механическим устройством, единственная цель которого – непрерывно перекачивать кровь по замкнутому контуру. Теория Гарвея привела бы в восторг самых строгих врачей, следующих принципам Гиппократа, поскольку в ее справедливости можно убедиться посредством простого наблюдения и несложных экспериментов. Но впервые количественные измерения сыграли свою роль в истории медицинских исследований.
Осталась только одна ложка дегтя в бочке меда новой концепции физиологии Гарвея: он не мог объяснить точный путь, по которому кровь попадает из самых мелких артерий в периферических отделах тела в крошечные вены для своего дальнейшего путешествия назад к сердцу. Поэтому ученый предположил (и тем самым спрогнозировал новое открытие), что существуют, пользуясь его формулировкой, некие «поры», несомненно, ожидая, что когда-нибудь в будущем ученые их обнаружат. Его надежды оправдались. В том же году, когда был опубликован De Motu Cordis, родился человек, который в 1660 году с помощью микроскопа продемонстрирует капилляры, те километры нитевидных каналов, по которым кровь преодолевает свой путь от артериальной системы кровообращения до венозной. Пять лет спустя тот же талантливый исследователь Марчелло Мальпиги из Болоньи доказал наличие красных форменных элементов, малюсеньких дисков, в которых, как в высокоскоростных железнодорожных вагонах, мчится кислород, доставляя вдыхаемый воздух клеткам тела.
В своей диссертации Гарвей упомянул и о других порах, тех, которые, согласно теории Галена, пропускали кровь из правого желудочка в левый, чтобы там она могла смешаться с жизненной сущностью. Везалий не смог их обнаружить, и из-за отсутствия этих пор ему пришлось немало попотеть, скомпрометировав свои обычные принципы малодушным сокрытием неудобного факта. Гарвей был более откровенным: «Черт возьми, таких пор не существует, и я не могу их продемонстрировать!», – провозглашает он во введении к своей книге.
Все «обычные уловки невежества», имеющие отношение к движению сердца и крови, были забыты. Сначала благодаря Андреасу Везалию, а позже Уильяму Гарвею медицинский мир начал пробуждаться от длительного сна, навеянного опиатом галенизма. Наряду с остальными науками и культурой медицина в течение этого блистательного семнадцатого века стряхнула оковы неведения, авторитетов и античности. В 1664 году один из самых ранних ученых-философов Генри Пауэр выразил сущность своей эпохи такими словами:
Это век, когда все человеческие души находятся в своего рода брожении, и дух мудрости и образования начинает укрепляться и освобождаться от порочных будничных ограничений, где он бесконечно прозябал, и от безжизненного равнодушия и бесполезных понятий, сжимавших его в тисках так долго. Это век, когда, как мне кажется, философия наступает подобно весеннему приливу; и перипатетики не смогут остановить поток прилива, или (с Ксерксом) набросить путы на океан, так же как и воспрепятствовать нахлынувшей волне свободной философии: мне кажется, что весь старый мусор должен быть выброшен, а ветхие здания разрушены и смыты таким могучим наводнением. Эти дни должны заложить новый фундамент для более основательной философии, которая будет существовать вечно, эмпирически и разумно анализируя явления природы, определяя причины вещей из наблюдаемых феноменов, создаваемых искусством и непогрешимой демонстрацией механики. Конечно же, это и есть путь, и не существует никакого другого, чтобы построить истинную и вечную философию.
Семнадцатый век был великой эпохой. Как ни одно из предшествующих столетий в истории западной цивилизации он подарил человечеству ни с чем не сравнимое количество выдающихся гениев, пробудивших науку от долгого сна. Гарвей почти потерялся в длинном списке имен, перечисления которых будет достаточно, чтобы напомнить о великих свершениях этого времени. Здесь упомянуты только самые известные, в алфавитном порядке, чтобы произвести большее впечатление; меня бросает в дрожь от мысли, что я, возможно, кого-то упустил: Бернини, Бернулли, Бойль, Браге, Бэкон, ван Левенгук, Веласкес, Вермеер, Галилео Галилей, Галлей, Гоббс, Гук, Декарт, Деккер, Донн, Джонс, Джонсон, Драйден, Иниго Караваджо, Кеплер, Корнель, Лафонтен, Лейбниц, Локк, Мальпиги, Милтон, Мольер, Монтеверди, Ньютон, Паскаль, Пипс, Расин, Рембрандт ван Рейн, Рен, Рубенс, Сервантес, Скарлатти, Спиноза, Халс, Шекспир и Эль Греко.
Эти люди осветили мир своим творчеством. Их предшественники считали, что все необходимое человеку уже известно. Для них наследие древних мудрецов было незыблемой истиной, а их книги так же сакральны, как Священное Писание. Но представители семнадцатого века были совсем другими. Это были философы, ученые, писатели, музыканты и художники, чьи «души находились в своего рода брожении». Научные мыслители из этой блестящей плеяды искали истину, доверяя только своему опыту и экспериментальным данным, доказательством которых были их чувства. Непререкаемым свидетельством этой истины считалось только то, что она может быть продемонстрирована и подтверждена любым, кто имеет желание убедиться в ее справедливости. После такого теста даже у самых воинствующих скептиков не должно оставаться сомнений. Все жившие в «дни, которые должны заложить новый фундамент для более основательной философии» знали основные правила. Уильям Гарвей сформулировал их в письме к президенту и стипендиатам врачебного колледжа, которое он использовал впоследствии в качестве предисловия к своей великой книге. Вот небольшая цитата из него:
Я очень боялся, что меня обвинят в высокомерии, если я представлю свою работу публике дома или отправлю ее в заморские страны с целью всех поразить раньше, чем я предложу этот предмет к вашему рассмотрению, подтвердив свои выводы наглядными демонстрациями в вашем присутствии, ответив на ваши сомнения и возражения, и получив одобрение и поддержку нашего уважаемого президента… Что касается истинных философов, то они стремятся только к истине и познанию, никогда не считая себя всесторонне осведомленными и приветствуя новую информацию независимо от того, от кого и откуда она приходит; они не настолько узколобы, чтобы вообразить, что какие-либо из искусств или наук унаследованы нами от древних в состоянии такого развития и полноты, что ничего не осталось для применения изобретательности и предприимчивости других; очень многие, напротив, утверждают, что все, что мы знаем, составляет бесконечно малую часть того, что остается неизвестным; философы не связывают свою веру с чужими заповедями настолько, чтобы потерять свободу и перестать доверять собственным ощущениям. Кроме того, они не клялись в верности ее величеству Античности, чтобы открыто, у всех на глазах отвергнуть и покинуть свою подругу Истину… Я исповедую и изучение, и преподавание анатомии, но не из книг, а посредством вскрытия; не с позиций философа, но обращаясь к сути самой природы… Я провозглашаю себя сторонником одной только истины; и я действительно могу сказать, что сделал все от меня зависящее, приложив все свои таланты, пытаясь открыть нечто важное и полезное, что потомки сочтут достойным изучения.
Прощайте, самые достойные из врачей, и отнеситесь благосклонно к своему анатому,
Уильям Гарвей
Трактат De Motu Cordis – это небольшая книга из семидесяти двух страниц размером в четвертую долю листа: 13,97×19,05 см. С точки зрения печатного искусства это ничем не примечательный образец. Взяв ее в руки, в ней не обнаружишь достоинств, которые стоило бы отметить. Несколько лет назад в медицинской библиотеке большого американского университета мне рассказали короткую печальную историю, которая красноречиво свидетельствует о том, насколько скромно оформление этой книги. В конце 1940-х годов школьный куратор истории медицины обнаружил на полке одного лондонского дилера неопознанную, чудом сохранившуюся копию монографии, выпущенной тиражом пятьдесят пять экземпляров. Он заплатил назначенную сумму – пятьдесят с лишним центов – ничего не подозревающему торговцу и торжествующе отправился домой со своим сокровищем, ставшим жемчужиной его университетской коллекции. Тридцать лет спустя, когда рыночная стоимость книги взлетела до 125 000 долларов, она исчезла во время перевозки библиотеки в новое здание: для безопасности ее поместили в простой коричневый бумажный пакет, чтобы скрыть ее истинную ценность. Поскольку никто из небольшого коллектива не сообщал о находке пропажи, которая в случае кражи принесла бы, вероятно, целое состояние, предполагается, что грузчик просто бездумно бросил ее в кучу мусора, кинув лишь мимолетный взгляд на показавшееся бесполезным содержимое пакета.
Так же как Fabrica и другие книги, несущие революционный переворот в науке, публикация De Motu Cordis некоторыми была встречена с одобрением, другими – с яростным отрицанием. Уильям Гарвей не относился к тем людям, которые получают удовольствие от злобных нападок или скандалов. Он разработал новые эксперименты, подтверждающие некоторые из приведенных в работе аргументов, и даже зашел так далеко, что ответил нескольким критикам, но, не считая этого, всю свою неиссякаемую энергию он сохранил для других целей. В торжественной речи 1662 года в память о Гарвее сэр Чарльз Скарбург, преданный друг и личный врач ученого, процитировал следующие его слова:
Не будет большого смысла, если я ради своего удовольствия во второй раз стану досаждать республике ученых[8]. Я не буду автором или поручителем какой-либо новой спорной доктрины. Пусть погибнут мои идеи, если они бесполезны, и пропадут зря мои эксперименты, если они ошибочны или если я их неправильно понял. Я удовлетворен своей работой. Не в моем характере нарушать установленный порядок. Если я ошибаюсь (ведь, в конце концов, я всего лишь человек), пусть то, что я написал, покроется плесенью от пренебрежения, но если я прав, надеюсь, на этот раз человечество не отринет истину.
Стоит отдельно сказать о применении доктрины, изложенной в книге Гарвея: дело в том, что новая теория мало повлияла на медицинскую практику того времени как врачей, поверивших в новую концепцию, так и самого автора. Это было связано с тем, что с помощью давно принятой схемы движения крови объяснялась бо́льшая часть симптомов, наблюдаемых в повседневной клинической работе, и, казалось, что вполне удовлетворительно. Считалось, что кровь обладает способностью быстро менять концентрацию и месторасположение в ответ на различные виды воздействия. Таким образом, рвотные средства, яды, пищевые продукты, изменения температуры и травмы могут вызывать прилив крови к отдельным органам или, наоборот, их недостаточное кровоснабжение. В первом случае могут появиться покраснение, отек, лихорадка, ускоренный пульс, набухшие вены или аналогичные ярко выраженные признаки; второй случай сопровождается бледностью, онемением, обмороками, холодностью кожных покровов или слабым пульсом. Считалось, что кровь может быстро перемещаться внутрь, концентрируясь в центре тела, или наружу к конечностям. Из-за этой способности крови перераспределяться и сосредоточиваться в любой области увеличился арсенал лечебных средств местного и общего характера воздействия, стимулирующих соответствующую реакцию организма таким образом, чтобы преодолеть симптомы болезни. Применялись кровопускание, банки, массаж и наложение жгутов, все способы изменения объема крови в конкретном месте. Врачи того времени считали, что такая система лечения позволяет достигать нужного результата. Даже сам Гарвей не намеревался отказываться от терапевтических методов просто потому, что он опроверг теорию, на которую они опирались, тем более что его личный опыт подтверждал их эффективность. Для реализации теории Гарвея были необходимы дополнительные исследования и более глубокое практическое понимание болезни. Прошло более ста лет, прежде чем его концепция нашла практическое воплощение.
Хотя публикация De Motu Cordis мало изменила методы лечения пациентов, применяемые Гарвеем, но она оказала сильное влияние на его практику в целом. Обри писал:
Я слышал, как он говорил, что после выхода в свет его книги о кровообращении количество его пациентов значительно уменьшилось, потому что многие из них решили, что он спятил… Наконец, не без сложностей, где-то через 20–30 лет, трактат стал учебником во всех университетах мира, и, как написал г-н Гоббс в своей книге «О теле политическом», он был, возможно, единственным человеком в истории науки, увидевшим при жизни реализацию собственной доктрины.
Независимо от того, насколько сократилась практика Гарвея в результате публикации его книги, после этих событий он стал посвящать больше времени королю Чарльзу в ущерб остальным, не столь знатным, пациентам. Кроме того, как до, так и после публикации De Motu Cordis, он продолжал исследования развития эмбриона, начатые еще в студенческие годы в Падуе. Поскольку в De Motu Cordis есть упоминания о вопросах, связанных с зарождением жизни, весьма вероятно, что Гарвей еще до 1628 года проделал значительную работу над этой проблемой и, возможно, даже начал писать книгу на эту тему. За долгие годы он накопил огромное количество наблюдений, сделанных как невооруженным глазом, так и с использованием простейших линз. Поскольку пределом увеличения микроскопа в то время была область биологических исследований, результаты его работы были быстро забыты, несмотря на их общую достоверность. Тем не менее книга De Generatione Animalium («Зарождение животных»), которую он опубликовал в 1651 году, не теряет своей актуальности, потому что она проливает свет на те методы сбора доказательств, которые привели к открытию кровообращения. В частности, во введении к трактату автор описывает свои способы поиска истины. Изучая эту и другие его работы, можно реконструировать образ мыслей, отражающий различия между мыслителями семнадцатого века и (почти всеми) теми, кто развивал науку во всех областях знания до этого периода. Здесь мы имеем дело с первоисточником научного метода.
Если попытаться сформулировать, чем отличались методы исследования того времени от научных изысканий предшествующих лет, можно сказать следующее: философы семнадцатого века стремились отвечать на вопросы, начинающиеся скорее со слова «как», чем со слова «почему». Сам Гарвей довольно ясно выразился по этому поводу, написав: «Я склонен считать, что наша первая обязанность выяснить, существуют конкретные явления или нет, прежде чем интересоваться, почему». Другими словами, задача ученого – не искать причины чего-то, а лишь выяснить объективно существующие факты. Телеология – это мировоззрение, а не наука. Когда главным провозглашается вопрос «почему», теряется объективность, и каждое наблюдение встраивается в заранее предопределенную схему. Врачи-гиппократики прославились не тем, что искали причины заболеваний; сила их системы заключалась в умении сложить многокомпонентную мозаику болезни из свидетельств, полученных при помощи органов чувств. Когда Гален игнорировал эту самую основную часть их учения, он сильно рисковал. Его интерпретация собственных ощущений зависела от того, что подсказывало ему его сердце. Он заполнил пустые места своей уже выстроенной системы знаний домыслами и гипотезами, основанными на концепции того, что всё на земле создано бесконечно мудрым Творцом. Итак, пользуясь формулировкой Александра Поупа, он неправильно понимал «всё на свете», потому что рассматривал все явления предвзято, исходя из собственных убеждений о том, как все должно быть устроено.
Уильям Гарвей играл по другим правилам. Он считал, что цель ученого – узнать, как происходят те или иные процессы, а не почему. Областью изучения науки является то, что можно наблюдать и измерять; а все, что служит предметом для мистических спекуляций, не имеет никакого отношения к серьезным исследованиям. Он стал первым врачом, применившим научный метод познания, который английский физиолог сэр Джордж Пикеринг в своей речи в честь Гарвея в 1964 году очень точно и, одновременно, поэтично охарактеризовал, как «дисциплинированное любопытство».
Гарвей неожиданно и смело отказался от методологии своих предшественников и указал новый путь развития медицины. Хотя потребовалось полтора тысячелетия для избавления от всепроникающих миазмов галенизма, но большой шаг вперед уже был совершен. Сэр Уильям Ослер, величайший преподаватель медицины и гуманист, выступая в 1906 году перед аудиторией коллегии врачей сказал, что
здесь впервые был использован экспериментальный метод исследования серьезных физиологических проблем человеком с современным научным складом ума, который оценивал полученные свидетельства, не выходя за пределы объективных данных и был убежден в том, что выводы должны естественным однозначным образом вытекать из имеющихся в распоряжении ученого наблюдений. Эпоха слушателя, когда люди могли только слушать, сменилась эпохой наблюдателя, современники которой привыкли доверять только своим глазам. Но, наконец, пришло время действия – осмысленного, творческого, спланированного; действия как инструмента ума, вновь представленного миру в скромной небольшой монографии объемом семьдесят две страницы, положившей начало экспериментальной медицине.
Выражение «вновь представленного» имеет особое историческое значение. Выбрав его, Ослер напомнил своим слушателям, что Гален в своих работах приводил врачам примеры собственных экспериментальных изысканий, но они были забыты. Причиной этому послужило то, что описанные им методы не привели к раскрытию истины, поскольку он встроил их в систему умозрительных гипотез, с помощью которых стремился объяснить все сразу. Поэтому никому не приходило в голову, что необходимо проводить дальнейшие исследования. С этой точки зрения, последователи Галена сами являются грубыми нарушителями одной из главных заповедей своего прародителя, его основополагающей рекомендации, что «нужно доверять не книгам по анатомии, а собственным глазам» и полагаться на «свои усердные практические упражнения в искусстве вскрытия». Андреас Везалий и Уильям Гарвей, сокрушившие концепцию Галена, на самом деле были первыми последовательными учениками мастера эксперимента, доктрина которого была до неузнаваемости извращена за столетия ошибочных интерпретаций. К сожалению, Гален был не единственным среди пророков, которых постигла такая несправедливая судьба.
Гарвей вновь представил медикам экспериментальную физиологию, но на этот раз она пришла в мир свободной от спекуляций и телеологии, предоставив врачам возможность «оценивать полученные свидетельства, не выходя за пределы объективных данных». Такой подход демонстрирует, в чем, собственно, заключается суть научного метода познания. В классическом случае исследователь получает некие данные, анализирует их, определяет важные характеристики и выдвигает гипотезу, объясняющую какое-то явление. Затем он тщательно проверяет гипотезу с помощью специально разработанных воспроизводимых экспериментов. А что представляет собой эксперимент? Это не более чем запланированное событие, которое позволяет исследователю проводить наблюдения в контролируемых условиях. Его также можно трактовать просто как беспрепятственное расширение опыта ученого в отсутствии посторонних воздействий, которые могли бы помешать объективной оценке наблюдаемых процессов и явлений.
Проведя ряд соответствующих экспериментов, результаты которых подтвердили выдвинутую гипотезу, исследователь представляет ее миру в форме так называемой теории. Идеальный настоящий ученый, редко встречающийся в наши прагматические дни академической конкуренции, всегда помнит, что истина и суть неопровержимого доказательства неизвестны никому. Поэтому он никогда не выйдет за рамки выводов своей теории: значение самого этого слова по своей этимологии подразумевает всего лишь надежный способ изучения чего-либо. Даже при наличии «доказательств», которые позволяют получить современные исследовательские технологии, она остается, выражаясь словами песни Уильяма С. Гилберта, «несмотря на все соблазны», только теорией, к великой чести беспристрастной науки, не создавшей никаких дополнительных оговорок и предлогов. Не имеют значения ни уверенность, ни убеждения, с которыми теория провозглашается этому миру. Ни один исследователь не осмелится настаивать на достоверности своих выводов, тем не менее это хороший способ для изучения каких-либо явлений и объяснения, каким образом происходят те или иные процессы; метод, который достоин доверия в силу результатов проводимых экспериментов. Только теоретику известна истина; ученый знает только теорию.
Книга De Generatione Animalium («Зарождение животных») вышла в свет, когда ее автору было семьдесят три года. Из подробностей этой публикации известно, что она представляет собой сборник исследований и писем, написанных много лет назад. Похоже, Гарвей не проводил масштабных исследований в последние два десятилетия своей жизни. В 1648 году он оставил свою лондонскую резиденцию и жил со своими братьями: с Элиабом в Роэхэмптоне и с Даниэлем в Ламбете, по-видимому, в то же время он отошел от активной медицинской практики. В июле 1651 года он пожертвовал средства в фонд коллегии врачей для возведения дополнительных этажей на здании, чтобы в нем могли разместиться библиотека, музей и конференц-зал. Стипендиаты в благодарность поставили памятник своему выдающемуся благодетелю. Некоторое время спустя Гарвею предложили пост председателя коллегии врачей, от которого он отказался в силу ухудшения здоровья. Кроме того, с возрастом его стала мучить подагра: для облегчения нестерпимой боли он держал ноги в холодной воде. Стремительный, пылкий маленький исследователь превратился в хрупкого старичка, сгорбившегося над треснувшей деревянной ванной, шевелящего больными пальцами в ледяной воде, чтобы активизировать циркуляцию крови, открытую им для мира четыре десятилетия назад.
Время от времени коллеги писали ему, некоторые из них пытались пробудить его «дисциплинированное любопытство» к изучению новых проблем в физиологии, но он всегда отказывался. Одному из таких корреспондентов он написал в 1655 году: «Слишком длинная теперь повесть лет вызывает непреоборимую усталость и заставляет меня подавлять любое желание исследовать новые нюансы; после долгих трудов мой разум требует мира и тишины, не позволяя мне принимать активное участие в напряженных обсуждениях недавних открытий».
Последние годы прошли в покое. Гарвей наслаждался компанией друзей, которые не замечали в нем ни малейшего признака надменности и самодовольства, которыми переполняются некоторые великие люди с возрастом. Обри пишет: «Ах, мой старый друг доктор Гарвей – я знаю его так хорошо, – он посадил меня рядом, и мы разговаривали два или три часа. Конечно! Если бы он был холодным, надменным, чопорным стариком, как другие напыщенные доктора, он знал бы не больше, чем они». Обри, похоже, был не единственным молодым человеком, приближенным к старому вдовцу: «Я помню, у него жила симпатичная молодая женщина, с которой, как мне кажется, он согревался так же, как король Давид». Преклонный возраст несет с собой свои привилегии, но, похоже, они помогали Гарвею не больше, чем сладкоголосому певцу из Израиля: и девица была прекрасна, и почитала короля, и служила ему; но король не знал ее.
Все, чего хотел правящий монарх медицинских исследований, – закончить свои дни в покое. 24 апреля 1657 года он писал коллеге: «Я не только зрел годами, но и, позволь мне признаться, несколько поизносился. Мне действительно кажется, что я имею право просить о почетной отставке». Вскоре его желание исполнилось. Два месяца спустя, 30 июня, у него случился инсульт, и через несколько часов он умер. Его молодой друг Джон Обри был среди тех, кто нес его гроб к месту захоронения.
В своем предисловии к De Generatione Animalium Уильям Гарвей сформулировал принципы, согласно которым молодые ученые семнадцатого века изучали явления природы. Хотя они оставались последователями древнегреческого учения, они сознавали отсутствие необходимой полноты унаследованного знания. Они считали важным признать, что ошибки свойственны даже самым почитаемым древним авторитетам и их книгам. «Наш главный консультант – сама природа» – провозгласили они своим кредо. Им было недостаточно просто избавиться от старых ограничений, они выстроили новый подход к науке, наиболее точно сформулированный Гарвеем в предисловии к своей последней книге: наука продвигается вперед благодаря интуиции; наука – это тяжелая работа, когда все делается как следует, но тяжелая работа приносит удовольствие, а высшей наградой является открытие; наука оперирует индуктивным рассуждением – на основе отдельных доказанных фактов определяются общие принципы, этот процесс Гарвей описал решительной фразой: «Мы полагаемся на собственные глаза и совершаем восхождение от открытий меньших явлений и процессов к выявлению высших».
Как отмечал Обри, Уильям Гарвей еще при жизни стал свидетелем реализации своей доктрины, по крайней мере, если считать его главной доктриной замкнутый цикл кровообращения. Хотя до применения его концепции в медицине было еще далеко, его открытие сохраняло свою значимость для многих образованных людей. В старости его окружали почет и уважение, а его открытие было признано бессмертным. Но важнейшая часть его учения, выраженная в его описании науки, лишь столетие спустя была понята и принята всеми, а не только избранным авангардом мыслителей семнадцатого века, каждый из которых, как это часто случается, постигал истину независимо от других. Любой из них мог бы подписаться под словами великого ученого из предисловия к книге De Generatione Animalium:
Нашим главным советником должна быть сама природа; путь, проложенный ею, должен стать нашей дорогой. До тех пор, пока мы полагаемся на собственные глаза и совершаем восхождение от открытий меньших явлений и процессов к выявлению высших, мы будем прилежно постигать ее скрытые тайны.
6. Новая медицина. Анатомическая концепция Джованни Морганьи
Клиническая история болезни начала восемнадцатого века:
Пожилой мужчина семидесяти четырех лет, худощавого телосложения, любящий вино, в течение последнего месяца при ходьбе стал переносить вес тела главным образом на левую ногу. Хотя его слуги заметили хромоту, сам он не говорил об этом и не жаловался на какой-либо дискомфорт. После двадцати двух дней хромоты у него появилась генерализованная боль в животе. Он принял порошок териака[9], популярное средство при таких симптомах со времен античности. Боль отступила. Спустя двенадцать дней около полудня он почувствовал сильную боль в правом нижнем квадранте живота, которую он описал как «будто собака вгрызается внутрь». Над болезненной областью образовался отек, и при глубокой пальпации врач, к которому на этот раз обратился пациент, отметил уплотнение. Врач обратил внимание на учащенный пульс, странный, опрокинутый взгляд ввалившихся глаз и сухой язык. Пациент пережил ужасную ночь.
На следующее утро пульс стал чаще, и усилилось сердцебиение. Боль и отек теперь расширились до середины нижней части живота, и вскоре достигли левой стороны. Врач прописал кровопускание в объеме двухсот миллилитров. После проведения процедуры на поверхности сгустка крови была обнаружена желтая, болезненного вида корочка. У пациента появилась тошнота, но без рвоты. Следующая ночь была очень тяжелой.
На следующий день пульс ослаб, пациент отрыгивал из желудка горько-кислую жидкость. Его речь стала невнятной, он то погружался, то выходил из бредового состояния. К следующему утру появились частые приступы судороги, продолжающиеся до четверти часа каждый. Пульс стал настолько слабым, что врач мог воспрепятствовать ему легким прикосновением кончиков пальцев. Пациента рвало жидкостью, зловонной, как фекалии. Дыхание стало очень затрудненным. В тот же вечер его сознание по непонятным причинам прояснилось от бреда, мужчина судорожно вздохнул один раз, содрогнулся в конвульсии и умер.
При вскрытии, проведенном следующим утром, самые поразительные изменения были обнаружены, как и ожидалось, в правом нижнем квадранте брюшной полости. Начало толстой кишки, или, иными словами, основание слепой кишки, превратилось в гангренозную массу в том месте, где она пролегала над мышцами, ведущими к ноге. Сильно пахнущий абсцесс проник в эти мышцы так глубоко, что было невозможно отделить его без надреза, в результате которого было открыто большое скопление гноя и сукровицы.
Таким образом, был выявлен очаг проявившихся симптомов, но первопричину развития патологического процесса обнаружить не удалось. По словам врача, проводившего вскрытие, «каким образом воспаление распространилось в смежную область кишечника и причины других описанных мной обстоятельств объяснить невозможно». Еще полтора столетия нельзя будет поставить диагноз в подобном случае, поскольку основной причиной симптомов пациента была болезнь, которой еще не знали в тот день 1705 года в городе Болонье, где проходила аутопсия. Пациент умер, как мы можем догадаться сегодня, от разрыва аппендикса.
Болезнь не имела отношения ни к гуморам, ни к врожденному теплу, ни к окружающей среде пациента или сезону года. Это был специфический патологический процесс в определенной части тела. Симптомы, наблюдавшиеся у пациента, были результатом не общей разбалансировки организма, а четко локализованного изменения состояния слепой кишки. История болезни, которую вы только что прочитали, была первой из семисот, которые патологоанатом соберет в последующие пятьдесят лет. Эти документы, облаченные в форму семидесяти писем, подтвердили теорию древних книдийцев о том, что ключ к происхождению каждой болезни следует искать в конкретных изменениях отдельного органа. Определение места нарушения естественного функционирования должно было стать первой заповедью новой медицины.
В то утро 1705 года молодой патологоанатом только начинал свое паломничество на неуклонно растущую гору трупов, с которой он однажды спустится, чтобы вручить миру медицины долгожданные ключи к царству научного клинического мышления. После этого появилась новая библия исцеления, согласно канону которой открывался путь для открытий, полученных с помощью наблюдений и экспериментов. Когда этот, к тому времени пожилой анатом, наконец опубликовал свои выводы в 1761 году, его книга вкупе с Fabrica и De Motu Cordis стала третьим краеугольным камнем пирамиды, в которой старая медицина могла быть забальзамирована и похоронена навсегда. Во время вышеупомянутого вскрытия патологоанатом был двадцатитрехлетним ассистентом профессора анатомии университета Болоньи Антонио Вальсальвы. Звали его Джованни Баттиста Морганьи: именно ему было суждено изменить взгляд медиков на природу возникновения болезни. Многое из того, что говорится о Уильяме Гарвее и Андреасе Везалии можно сказать и о Морганьи: как будто он был специально послан на Землю для выполнения миссии осмысления и объединения собранных за всю историю медицины данных. Его предназначение заключалось в том, чтобы донести до научного мира важное сообщение, сутью которого была весьма простая мысль: бесполезно искать причины заболеваний в густой пелене четырех гуморов или любых других вариаций подобных теорий. Болезнь возникает не из-за общего дисбаланса организма пациента, а скорее благодаря довольно специфическим нарушениям в конкретных структурах тела. Иными словами, каждая болезнь возникает в каком-то органе вследствие неких изменений. Обязанность врача – определить этот орган.
Позднее писатели назвали сообщение Джованни Морганьи «анатомической концепцией болезни», и эта концепция стала фундаментом для всего дальнейшего развития медицинской мысли. Симптомы, говоря словами автора, – это «крик страдающих органов». Теперь нам известно, что не только органы, но и ткани, клетки и даже субклеточные структуры и молекулы могут быть очагами заболевания. Но независимо от того, насколько всесторонними и доскональными на субмолекулярном уровне могут стать наши знания о течении болезни, принцип, сформулированный Морганьи двести лет назад, останется в центре нашего внимания. Ubi est morbus? – Где гнездится болезнь? На этот вопрос должен дать ответ каждый врач каждому пациенту. Только тогда может быть начато лечение.
Ни один врач, прошедший обучение в двадцатом веке, даже в самых диких своих фантазиях не поставит под сомнение очевидный факт, что в основе всех болезненных процессов лежат различные анатомические или биохимические изменения в органах, тканях и клетках. В наше время истинной задачей медицинских исследований является выявление первичных этиологических факторов, вызывающих такие изменения. Таким образом, ученые осуществляют изыскания в области микробиологии, генетики, иммунологии, психологии, общественного здравоохранения, цитологии и ряда других специализаций для того, чтобы выяснить основные виды воздействия, провоцирующего патологические явления.
Для многих из нас трудно представить себе время, когда большинство врачей считали, что между симптомами пациента, с одной стороны, и сопутствующими патологическими расстройствами, с другой, не существует непосредственной взаимосвязи: они не пытались идентифицировать пораженный болезнью орган по звуку его крика. Для современных клиницистов основной целью сбора анамнеза и физического обследования является реконструкция серии анатомических и физиологических событий, которые привели к существующей ситуации, и тем самым поставить точный диагноз, который затем может быть подтвержден исследованиями жидкостей и тканей организма, а также всеми другими мыслимыми методами.
Конечно, так было не всегда. На самом деле, тревожно сознавать, насколько недавно было совсем иначе. Провозглашение независимости Соединенных Штатов как суверенного государства в 1776 году можно принять за приблизительную точку отсчета, когда образ мыслей многих врачей начал меняться благодаря осознанию того, что симптомы болезни возникают вследствие патологических процессов, протекающих в каком-то органе. Теории, предполагающие влияние гуморов, духовной сущности и других, еще более мистических причин, повсюду господствовали до этого времени. Непонятные и неопределенные факты и процессы скрывались за квазинаучной терминологией. Обрывки учений Гиппократа и Галена все еще считались актуальными; их смешение с теоретическими концепциями жизненно важных элементов не приводило к ожидаемым результатам; большинство плохо подготовленных врачей по-прежнему обвиняли миазмы и морально-нравственные проблемы в возникновении многих болезней. Даже Андреас Везалий и Уильям Гарвей, несмотря на их научный подход в исследованиях, обращались к прежним методам диагностирования и лечения пациентов. Очевидные доказательства патологии органов, которые они наблюдали в кабинете для проведения вскрытий, радикально изменили их понимание анатомии и физиологии; однако в повседневной клинической практике они так и не смогли освободиться от удушающей хватки галенизма.
Но в некоторых европейских университетах уже появились сообщества вдумчивых исследователей, особенно в Падуе, где молодое поколение медиков унаследовало многовековые традиции и научный багаж знаний, оставленный великими учеными, в том числе Везалием и Гарвеем, чьи идеи опирались на тщательно фиксируемые наблюдения и личный опыт. В кредо Джованни Морганьи звучит эхо философии двух его выдающихся предшественников: «С почтением блюсти не античность, не новизну, не традиции, а только истину, независимо от времени и места».
В своей погоне за правдой Джованни Морганьи создал еще один литературный памятник, ознаменовавший самый важный переломный момент в развитии медицины. Как и большинство других названий научных трудов, представляющих миру кардинальную смену парадигмы, наименование его книги является квинтэссенцией его работы: «О местонахождении и причинах болезней, открытых посредством анатомирования» или на латинском языке: De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis. В ней он разъяснял своим коллегам-медикам, что понимание болезни следует искать не в умозрительных заявлениях о невидимых потоках в теле, а в трупах: ключ к диагнозу и к истине – это анатомирование и пять органов чувств врача, как учил Гиппократ. Очевидно, что его идея не была откровением, которого никто никогда раньше не слышал, но после книги Морганьи его уже нельзя было игнорировать. К тому времени, когда молодой патологоанатом из Болоньи был готов представить свою работу миру, он стал мудрым пожилым профессором в Падуанском университете, человеком, вызывающим чувство уважения, близкое к благоговению, не только своими научными достижениями, но и благородством натуры. В течение шести десятилетий, разделяющих эти события, он не страдал ни от неистовой амбициозности Везалия, ни от импульсивной нервозности Гарвея. Напротив, он был безмятежным Гибралтаром эмоциональной субстанции, столь же деликатной в манерах, сколь заслуживающей доверия в характере. Его человеческие качества не уступали его репутации самого уважаемого анатома своего времени.
Достоинства характера Морганьи относились к такого рода качествам, которые Уильям Ослер, должно быть, превозносил в своем памятном обращении «Книги и люди» в Бостонской медицинской библиотеке в 1901 году. Ослер, самый выдающийся американский профессор медицины, был также ведущим историком этой науки на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. В этой часто цитируемой бостонский речи он сказал о тех людях прошлого, с которых нам следует брать пример и чьи труды мы обязаны ценить: «Они постоянно будут нам напоминать, что среди представителей ни одной другой профессии не найдется такое количество людей, соединивших в себе интеллектуальное превосходство с благородством характера». Выбор такой высокопарной гиперболы доказывает, что даже великий Ослер позволял себе время от времени небольшое преувеличение. Тем не менее в истории медицины есть несколько персон, в отношении которых это утверждение звучит абсолютно справедливо. Первый среди них – Джованни Морганьи. Иконоборцы никогда не тратят свое время на тщетные усилия опорочить его непререкаемый образ, а историки не пытаются переиначить события его жизни, чтобы добавить яркости к золотому сиянию воспоминаний о нем.
Среди многочисленных достоинств Морганьи было огромное терпение. Он откладывал публикацию книги до тех пор, пока не доказал правоту своей позиции настолько, что она стала неуязвимой. Когда его работа наконец вышла в свет в 1761 году, автору исполнилось семьдесят девять лет. Вероятно, это мировой рекорд в области медицинских исследований, многие открытия в которой совершались довольно молодыми учеными. Вышеупомянутый Ослер, между прочим, говорил в другой своей известной речи о том, что люди старше сорока лет относительно бесполезны для науки, а те, кто старше шестидесяти, абсолютно бесполезны. Он зашел настолько далеко, что позволил себе рассуждать о преимуществах, которые даст миру возможность обеспечить таким отжившим свой век мудрецам, по словам автора, «мирный уход с помощью хлороформа». Я скорее пожелал бы Ослеру самому или даже тощему Копернику воспользоваться хлороформом, вместо того чтобы затормозить развитие клинической медицины, поднеся фатальный пузырек к ноздрям такого ученого, как Морганьи.
Поскольку в восемнадцатом веке не было ни Ослера, ни зеленого ядовитого газа-анестетика, Джованни Баттиста Морганьи посчастливилось прожить долгую, плодотворную, безопасную жизнь, а миру достались плоды его открытий. Сдержанный характер Морганьи отличался постоянством привычек, неизменной преданностью научной работе, большой семье и религиозным принципам, служившим ему нравственным ориентиром в его исследованиях. Дошедшее до нас описание его личности рисует образ безмятежного ученого, которого очень любили его многочисленные ученики различных национальностей и друзья, среди которых были самые влиятельные деятели того времени, такие как папа Бенедикт XIV и император Священной Римской империи Иосиф II. Морганьи поддерживал теплые коллегиальные отношения с великими умами своего времени: Германом Бургаве из Лейдена, Альбрехтом фон Галлером из Берна, Иоганном Меккелем из Геттингена и Ричардом Мидом из Лондона, спектр интересов которых отражал кругозор самого Морганьи – от преподавания до научных изысканий и исцеления больных.
Морганьи родился 25 февраля 1682 года в маленьком городке Форли на севере Италии, примерно в тридцати пяти милях к юго-востоку от Болоньи, куда он и отправился в возрасте шестнадцати лет для изучения медицины и философии. Там он вскоре попал под покровительство Антонио Марии Вальсальвы, великого анатома, который был учеником Мальпиги. Получив в 1701 году диплом с отличием, девятнадцатилетний Морганьи стал ассистентом Вальсальвы и работал с ним в течение последующих шести лет. В период с 1707 по 1709 год Морганьи прошел последипломное обучение и вернулся в родной город Форти, чтобы заняться практикой. Здесь высокий, обладающий красивой внешностью, располагающими чертами характера и талантом, молодой человек стал весьма востребованным врачом, несмотря на отсутствие опыта. Тогда же он женился на Паоле Верзери, представительнице одного из знатных родов этого города. Вместе они воспитали двенадцать дочерей и трех сыновей: восемь девочек стали монахинями и один из мальчиков священником.
В 1711 году Морганьи был приглашен в Падую на должность младшего профессора теоретической медицины, где проявил себя настолько ярко, что спустя всего лишь четыре года его стали называть преемником таких выдающихся профессоров анатомии старейшей и самой уважаемой кафедры университета, как Везалий, Фаллопио, Фабриций и Спигелий. В тот момент ему исполнилось тридцать три года. А уже через несколько лет вся Европа узнала о блестящем анатоме, и ученые со всех концов континента обращались к нему за консультацией. Он был избран почетным членом многих зарубежных научных организаций, наиболее известными из которых являются Королевское общество Лондона, Королевская академия наук в Париже, Королевская академия Берлина и Императорская академия Санкт-Петербурга.
Хотя основной специализацией Морганьи была анатомия, совершить главное открытие своей жизни ему помогло убеждение, что прежде всего он является врачом, первостепенная обязанность которого – лечить больных. Анатомия служила ему лучшим инструментом в стремлении проникнуть в тайны болезни, и позволила стать хорошим специалистом. Он занимался медицинской практикой на протяжении всей своей долгой карьеры, при этом постоянно консультируя коллег из многих европейских стран. Свои рекомендации он часто оформлял в виде писем, поскольку пациенты находились вдали от своего лечащего врача. Сотня историй болезни, которую он передал своему ученику Микеле Жирарди незадолго до смерти в 1771 году, была издана и переведена на английский язык Саулом Ярхо, писавшим: «Хотя мы имеем основания полагать, что он рассматривал анатомические исследования в качестве средства, а не конечной цели своих научных изысканий, именно они оказались самым важным источником его клинических возможностей». Изучив письма Морганьи, Ярхо оценивал его способности лечащего врача следующим образом: «Читая некоторые его консультации, можно как наяву увидеть великого врача у постели больного. Каждый описанный им случай представляет собой образец наивысших достижений академической медицины восемнадцатого века».
В историю медицины Морганьи вошел не столько как ученый, сколько как талантливый врач-клиницист. Его главной целью было излечение больного, и именно достижения на этом поприще оказывали решающее влияние на его профессиональную самооценку. Глубокий интерес к клинической медицине и постоянные эксперименты в области физиологии привели его к поиску разумных, подтверждаемых фактами объяснений проявлений болезни с целью классификации и описания каждого патологического процесса как отдельного элемента заболевания.
Преемники научного наследия Морганьи, опираясь на принципы, изложенные ученым в De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis, сформулировали основополагающие принципы всей современной клинической медицины. В 1894 году Рудольф Вирхов, благодаря блестящему таланту которого патологическая анатомия достигла наивысшего развития, отмечал, что только после появления De Sedibus медицина приобрела свое истинное значение. Говоря о влиянии Морганьи на методы научных исследований и преподавания медицины в девятнадцатом веке, он подчеркивал: «Зерна, посеянные Морганьи, дали богатые всходы в Лондоне и в Париже, в Вене и в Берлине. Поэтому мы можем сказать, что благодаря его работе догматизм старых школ был полностью разрушен, и именно Морганьи положил начало новой медицине». Исследователи девятнадцатого века, составляя свои программы, руководствовались ориентирами, намеченными кропотливыми наблюдениями и методами профессора анатомии в Падуе.
Невозможно переоценить масштаб заслуг Морганьи. В 1874 году, спустя столетие после публикации De Sedibus, У. T. Гайрднер, президент общества клинической патологии в Глазго, выступая перед ведущими представителями шотландской медицины, сказал:
Несмотря на то, что выдающиеся современные ученые опираются на последние достижения физиологии, гистологической [микроскопической] анатомии и органической химии, а также имеют возможность применять в своих исследованиях новейшие средства и приборы… все они являются последователями и полноправными наследниками трудов и методологии Морганьи… Ибо именно его методы и его образ мыслей составляют сущность отличия современного врача или хирурга… от человека, которого изобразил Мольер в знаменитой эпатажной карикатуре… Я утверждаю, что не только редкие признанные патологоанатомы, но также – и, пожалуй, в еще большей степени – почти все выдающиеся врачи и хирурги нашего и предыдущего столетий являются законными преемниками Морганьи и наследниками его научного метода… Диагностика была проведена точно, а статистические выводы представляют собой, возможно, просто результат буквального применения многими разнообразными умами принципов, которые в значительной степени ведут свое происхождение от трудов Морганьи.
Гайрднер имел в виду методологию Морганьи, которая в долгосрочной перспективе приобрела большее значение, чем наблюдения, которым она положила начало. Речь идет о научном методе: наблюдение, гипотеза, эксперимент, регистрация данных и осторожное умозаключение, основанное на результатах повторяющихся, воспроизводимых экспериментов. В своей работе ученый опирался на четыре конкретных источника: клинический, патологический, экспериментальный и книжный. Каждое из семисот его дел содержит подробную историю болезни и отчет о патологии, обнаруженной при вскрытии. В некоторых указано, что проводились соответствующие эксперименты, а также описан поиск материалов, имеющих отношение к предмету исследования в существующей литературе. Это модель формы преподавания, которую медики в будущем будут называть конференцией по клинической патологии, или ККП (CPC). Каждую неделю по всему миру в больницах, где проводится обучение и на страницах медицинского журнала Новой Англии (New England Journal of Medicine) проводится ККП, в ходе которой врач пытается поставить диагноз по клинической истории болезни, после чего его заключение подтверждается или опровергается отчетом патологоанатома о вскрытии, операции или биопсии. Спустя два с половиной века ККП по-прежнему остается одним из наиболее эффективных методов обучения в медицине. Это был один из непреходящих даров Джованни Морганьи своим последователям.
Конечно, Морганьи был не первым, кто связал проявления болезни с нарушениями в конкретных структурах. Даже Гален, чьи работы послужили ярко выраженным сдерживающим фактором развития научной медицины, выдвигал идею о такой корреляции. В своей книге On the Affected Parts («О пораженных органах») древнегреческий врач писал: «Существует очень немного базовых симптомов заболеваний, не указывающих на поражение какого-либо органа. Фактически изменения в функционировании органа непосредственно указывают на его поражение». То, что такие утверждения ученого были забыты, а вошли в анналы и преподавались только его гуморальные теории, является величайшим парадоксом Галена.
Даже если бы на эту анатомическую концепцию болезни, сформулированную Галеном, обратили внимание и запомнили ее, строгий запрет на вскрытие человеческого тела в Греции, а затем и в мусульманских странах, не позволил бы получить дополнительные разъяснения к утраченному тезису Галена. Только спустя тысячу лет после создания его манускриптов начинают появляться случайные описания аутопсии, среди которых встречаются даже такие, которые были сделаны специально с целью определения причины смерти. Для изменения ситуации положительную роль сыграла католическая церковь, дав в тринадцатом веке разрешение на вскрытие трупов, что оказало существенное влияние не только на исследование анатомии, но и на изучение болезней. Например, папа Климент VI не просто разрешил, а фактически обязал врачей проводить вскрытие тел жертв, погибших в результате эпидемии чумы, разразившейся в Сиене в 1348 году.
По мере того как медики все чаще выполняли аутопсию с целью исследований в области анатомии, появлялось все больше описаний разнообразных патологий, но они всегда интерпретировались в контексте теории о четырех гуморах. Андреас Везалий был убежден в необходимости изучения пораженных заболеванием органов и писал о своем намерении опубликовать книгу, посвященную этому предмету. Несмотря на то что он собрал изрядное количество исследований на эту тему, его записи, по-видимому, были утеряны, и публикация так и не появилась на свет.
Во всех трудах Уильяма Гарвея также можно найти ссылки на его исследования в области патологической анатомии, которые он рассматривал как естественное продолжение наблюдения пациентов, лечившихся у него, пока они были живы. Такой подход вполне соответствует современной методологии, которая начала постепенно укореняться среди ведущих врачей великолепного семнадцатого века. В письме французскому врачу Жану Риолану Гарвей писал:
Я собираюсь поторопиться с манускриптом «Медицинская анатомия» или «Применение анатомии в медицине»… поскольку благодаря большому количеству вскрытий тел больных я могу рассказать о том, каким образом меняются внутренние органы при различных заболеваниях в размере, структуре, форме, консистенции и других возможных качествах по сравнению с их естественным состоянием, которое обычно описывается анатомами… Позволю себе заметить, что исследование одного тела умершего от чахотки или какой-либо другой болезни, от которой человек страдал долгие годы, приносит больше пользы, чем аутопсия десяти повешенных.
Обещанное Гарвеем издание постигла та же участь, что и сочинение Везалия – оно так и не было написано.
Еще до Гарвея Фрэнсис Бэкон, величайший философ семнадцатого века, в своей книге Advancement of Learning («Распространение образования») в 1605 году утверждал, что после смерти пациента необходимо выполнять аутопсию, поскольку «по изменению внутренних органов часто можно немедленно определить причины многих заболеваний». (Это высказывание согласуется с основным сформулированным Бэконом принципом, суть которого состоит в том, что следует узнать причины и предпосылки явления, чтобы понять его сущность.) И тот же доктор Николас Тульп, урок анатомии которого послужил сюжетом для одной из самых знаменитых картин Рембрандта, написал в 1641 году трактат Observationes Medicae («Книга монстров»), которая содержала не только отчеты по аутопсии, но и рисованные иллюстрации с изображением органов с патологией.
Однако, несмотря на все нарастающее число подтверждений клинико-патологических взаимосвязей, даже самые дальновидные врачи по-прежнему считали, что причиной заболевания является гуморальный дисбаланс в организме. Например, согласно отчету о вскрытии, сделанном в 1661 году, было установлено, что пациент умер от перфорированной язвы нижнего отдела тонкого кишечника, вызванного «избытком едкого испорченного желчного гумора». При этом патологом, выполнившим аутопсию, был не врач из захудалой деревеньки, а выдающийся датский анатом Томас Бартолин, один из ведущих исследователей века.
В конечном счете, открытие кровообращения Гарвеем стало оказывать влияние на интерпретацию результатов аутопсии. Описание реального процесса функционирования сердца и сосудов, приведенное в его работе, послужило стимулом, по крайней мере, для некоторых врачей для поиска анатомических доказательств, которые могли бы объяснить причину возникновения серьезных патологий, вызывающих смерть. Показательным примером можно считать швейцарского врача Иоганна Якоба Вепфера, убежденного в важности вскрытия трупов пациентов, которых он лечил до их смерти. На склоне лет Вепфер страдал от низкого нерегулярного пульса, болей в груди, отеков, похолодания ног и одышки, усугубляющейся в лежачем положении, – всех известных сегодня симптомов хронической сердечной недостаточности. Незадолго до смерти в возрасте семидесяти пяти лет в 1695 году, он попросил своего зятя Иоганна Конрада Бруннера провести вскрытие своего трупа. Бруннер опубликовал подробный отчет об истории болезни и аутопсии, в ходе которой было обнаружено увеличение сердца, наличие жидкости в груди и в брюшной полости, а также атеросклеротические бляшки в аорте и других крупных артериях. Изображение кровеносных сосудов, приложенное к отчету, является первой в мире иллюстрацией артериосклероза. Установив ярко выраженную корреляцию между клиническими наблюдениями и патологическими изменениями органов, Бруннер объяснил смерть своего тестя нарушением кровообращения и замедлением кровотока, или застоем крови. Публикация Бруннера не оставляет сомнений в том, что он был в курсе последних научных исследований: «Те, кто придерживается взглядов авторов древних медицинских трактатов, причиной смерти назвали бы потерю жизненного тепла. Но в нашем конкретном случае ошибочность такой концепции очевидна; именно кровь в действительности отвечает за естественное тепло тела. При нарушении циркуляции конечности становятся холодными, и именно на этот симптом Вепфер жаловался так часто».
На здании гуморальной теории начали появляться первые трещины, но до полного разрушения было еще далеко. До этого момента лишь несколько исследователей работали над подтверждением взаимосвязи между симптомами и органами, которые их вызывают. Однако другие ученые, не менее заслуженные в мире медицины, включая ведущего врача Англии Томаса Сиденхема, считали поиски в этом направлении бесперспективными. Основания для разногласий с патологоанатомами сформулировал друг Сиденхема знаменитый Джон Локк, который также был врачом: «Даже разрезая тело и заглядывая внутрь, мы видим лишь внешнюю сторону органов и открываем для обозрения лишь новую поверхность… Природа выполняет все свои манипуляции в теле настолько мелкими и незаметными порциями, что даже применение очков или других изобретений не поможет их разглядеть». Такое заявление не умаляет величие Локка как философа; оно просто делает очевидным тот факт, что он был плохим пророком.
До этого времени не составлялся подробный план аутопсии, обнаружение клинико-патологических корреляций было случайным, а полученные результаты не систематизировались. Большинство свидетельств обнаруживались непреднамеренно и описывались в анекдотическом стиле. Все еще не существовало веских оснований не выказывать пренебрежительное отношение к тем, кто утратил веру в традиционные, проверенные временем теории. Первая значительная попытка представить и упорядочить аргументы в пользу взаимосвязи симптомов, наблюдаемых при жизни, с данными аутопсии была предпринята Теофилом Боне из Женевы в 1679 году в публикации под названием Sepulchretum Sive Anatomica Practica («Морг, или Практическая анатомия на основании вскрытия трупов больных»). Основной тезис книги в полной мере выражает английский перевод заголовка: «Морг, или Практическая анатомия на основании вскрытия трупов умерших от заболеваний, с историями болезни, отчетами об изменениях человеческого тела с указанием обнаруженных причин смерти». На самом деле, она [анатомия] заслуживает того, чтобы называться основой подлинной патологии и правильного лечения болезни, а также, пожалуй, вдохновением для старой и современной медицины. К сожалению, Боне не справился с поставленной перед собой грандиозной задачей. Потребуется научная точность Джованни Морганьи, чтобы добиться результата, достойного великого замысла.
Боне же собрал из уже существующей литературы около трех тысяч случаев, когда клинические истории болезни коррелировали с отчетами об аутопсии, снабженных комментариями. Наличие такого количества примеров свидетельствует о том, что все больше внимания уделялось патологоанатомическим исследованиям умерших, хотя и без какой-либо системы. Этот факт также подтверждается тем, что Боне процитировал работы 470 авторов на 1700 страницах своей книги. Серьезные проблемы возникли с Sepulchretum, когда Мангет в 1700 году выпустил второе расширенное издание трактата. Его дополнения сделали работу практически бесполезной для ученых из-за ошибок в цитатах, неправильного толкования и неточных наблюдений. Кроме того, в книге отсутствовал надлежащий указатель, что делало поиск информации трудоемким, а иногда просто невозможным. В следующем столетии Рене Лаэннек назовет работу «непереваренной и непоследовательной компиляцией».
Молодой Морганьи, тем не менее, внимательно изучил Sepulchretum. Ему стало ясно, что, раз концепция основана на фундаментальной истине, необходимо пересмотреть работу, чтобы исключить все неточности и сделать ее удобной для пользования. Переписывание массивного тома показалось бы абсолютно невозможным любому, только не страстному юноше, неспособному в полной мере оценить обременительные требования академической жизни медика. Позднее Морганьи так написал о своем решении начать работу:
Помню, что тогда, как все молодые люди, которые, как правило, достаточно самонадеянны, чтобы лелеять мысли о самых сложных и трудоемких начинаниях, я даже не чувствовал отчаяния. Я думал, что, если у меня будет в будущем довольно свободного времени, мне придется не только исправить недостатки, которые я указал в Sepulchretum, и другие, помимо этих, но также переделать указатели. Я даже составил план, следуя которому все это можно сделать, и сообщил о нем уважаемому обществу, которое сейчас называется Академией наук.
Последнее предложение дает ключ к определению момента, когда Морганьи начал свой труд. После окончания медицинской школы в 1701 году в возрасте девятнадцати лет он был приглашен на место своего учителя Вальсальвы, который в то время уехал в Парму. Благодаря популярности среди учащихся его вскоре выбрали президентом общества увлекающихся наукой студентов и недавних выпускников, которое сами они называли Академией непосед. Как следует из названия, организация состояла из молодых людей, которых не удовлетворяли теории их предшественников, и место лояльности к медицине древних заняло стремление самим раскрыть тайны природы. В 1714 году это общество было преобразовано в Академию наук Болоньи; таким образом, Морганьи, по-видимому, было около двадцати или двадцати одного года, когда он начал собирать материал, который в конечном итоге станет книгой Sepulchretum.
Джованни Баттиста Морганьи. Портрет французского гравера Жана Ренара. (Предоставлено Йельской медицинской исторической библиотекой.)
Хотя первоначальным планом Морганьи, возможно, было просто отредактировать Sepulchretum, в конце концов, он создал совершенно новую работу, основанную на подробных описаниях клинических наблюдений, бо́льшая часть которых включала отчеты об аутопсии пациентов, выполненной им самим или Вальсальвой. Он привел очень точные данные, не загромождая их незначительными подробностями, которые менее квалифицированные врачи не могли отличить от важных деталей процесса эволюции болезни. Он рационально интерпретировал факты, используя время от времени физиологические эксперименты для доказательства некоторых из своих выводов, при этом все его рассуждения опирались на хорошее знание исторического наследия древних медиков. В эту огромную работу он привнес свой выдающийся талант практикующего врача, неоспоримое превосходство опытного анатома, изобретательность физиолога-экспериментатора и бесконечное терпение. Способность Морганьи интегрировать и синтезировать информацию, а также его целеустремленность позволили ему справиться с задачей и создать труд, в котором остро нуждалась медицинская наука для дальнейшего развития. Независимо от того, осознавали современные врачи существующее положение вещей или нет, но без этого шага ни о каком прогрессе в диагностической и терапевтической методологии не могло быть и речи.
Книга De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis («О местонахождении и причинах болезней, открываемых посредством рассечения») написана в форме семидесяти писем к молодому человеку, с которым Морганьи встретился в процессе своей работы. Своего адресата ученый описал как «одаренного в изучении наук и, особенно, медицины». Юноша обратился к Морганьи с просьбой присылать ему для коллекции описания историй болезни и наблюдений, подобные тем, что составляют Sepulchretum. По-видимому, тогда пятидесятидевятилетний профессор начал в 1741 году посылать своему анонимному (или, возможно, вымышленному) другу одно за другим письма с тщательным анализом историй пациентов, до тех пор, пока не завершил создание пяти книг, озаглавленных в соответствии с категориями: (1) «Заболевания головы», (2) «Заболевания груди», (3) «Заболевания живота», (4) «Хирургические и универсальные расстройства» и (5) «Дополнение», к которому прилагалась серия указателей для удобства поиска нужного материала.
Каждая из пяти книг посвящена выдающимся зарубежным врачам: две – медикам из Германии и остальные – докторам из Франции, Англии и России. В семидесяти письмах содержатся истории болезни, согласованные с результатами аутопсии, соответствующими ссылками на других авторов, историческими справками, а в некоторых случаях с описаниями экспериментов, проведенных автором с целью уточнения деталей течения болезни. Создавая De Sedibus, Морганьи стремился составить руководство, с помощью которого практикующий врач мог бы установить взаимосвязь каждого симптома с пораженным органом, ставшим причиной его появления.
Книги написаны простым доступным языком, вызывающим у читателя чувство, словно он слушает наставника, который делится с ним своим опытом и пониманием жизни по мере того, как история каждого пациента постепенно разворачивается перед его глазами. Автор приводит исторические справки, прослеживая эволюцию современных суждений, цитируя признанных авторитетов, обсуждая их теории, шаг за шагом, проясняя логику развития своих выводов. Комментаторов оригинального латинского текста поражали литературные достоинства описаний историй болезни, настолько скрупулезных, что они позволяли реконструировать каждый симптом, начиная от ощущений больного и заканчивая клиническими проявлениями, фиксируемыми лечащими врачами.
Морганьи делает своего читателя свидетелем каждого этапа вскрытия и отправляется вместе с ним в библиотеку ссылок. Вся книга написана от первого лица в форме обращения к читателю, который рассматривается не как ученик, а как уважаемый коллега, коими являлись и молодой адресат-аноним, и профессора-иностранцы, которым посвящены отдельные тома. Таким образом, молодой человек становится медиумом, через которого каждый читатель получает персональные инструкции.
Итак, многотомный труд De Sedibus вышел далеко за рамки первоначального замысла автора. Сочинение, начинавшееся как переработка Sepulchretum, превратилось в колоссальный литературный музей клинической медицины, в котором экспонаты организованы в таком идеальном порядке, что каждый случай можно найти без малейшего усилия и каждый значимый элемент снабжен указателем для облегчения поиска дополнительных ссылок. Один из перечней позволяет читателю находить патологические данные со ссылкой на клинические симптомы и заболевания, в то время как другой, напротив, направляет к результатам аутопсии, идентифицируя страницу, на которой можно обнаружить клинический симптом, вызвавший смерть пациента. Третий указатель содержит список элементов в алфавитном порядке, организованный в виде оглавления. И, наконец, последний регистр озаглавлен в соответствии с содержанием: «Названия и параграфы, заслуживающие наибольшего внимания». Таким образом, указатели служат каталогом музея медицины Морганьи, благодаря которым каждый экспонат находится в моментальном доступе. Сам автор описал назначение указателей так:
Допустим, какой-то врач столкнется с необычным или любым другим симптомом у пациента и захочет узнать, какие внутренние нарушения, как правило, соответствуют такому симптому, или какой-то анатом обнаружит при вскрытии тела нечто особенно патологическое и пожелает выяснить, какой симптом возникал при изменениях такого рода в других случаях; врач, обратившись к первому из указателей, анатом, проверив второй, немедленно найдут историю болезни, в которой обнаружат интересующие их сведения (если мы наблюдали таких пациентов).
С публикацией De Sedibus послышались первые отчетливые звуки поминального звона гуморальной теории. Миру был представлен совершенно новый принцип понимания природы болезни. С этих пор человеческое тело следовало рассматривать как соединение групп скоординированных телесно-механических структур, работающих в безупречной гармонии. Речь идет об органах и группах органов, которые мы называем системами. Следовательно, причиной заболевания служит отказ в какой-либо части механизма. Цель посмертного вскрытия заключается в определении места поломки, а также в изучении способов, посредством которых больной орган вызывал при жизни пациента болезненные симптомы.
К чести Морганьи, он не пытался угадать, что инициирует процесс, приводящий к нарушению функций органов и систем. Ответ на этот вопрос невозможно было получить до девятнадцатого века, когда получили развитие такие дисциплины, как бактериология и биохимия. Намерением Морганьи было обнаружить очаг заболевания и, хотя бы отчасти, объяснить те внешние проявления расстройства внутренних органов, которые мы называем признаками и симптомами. Поколение врачей, пришедшее вслед за ним, высоко оценило результаты его работы, осознав, что «Указатель 2» не просто алфавитный список жалоб пациентов, сопряженный с перечнем соответствующих патологий, а парадигма для диагностики болезни по месту расположения и органа, в котором возникли нарушения. Точно так же можно найти в этом указателе симптом и определить его скрытое происхождение в теле: обязанность врача идентифицировать все подсказки, которые можно получить, задавая вопросы и осматривая пациента, с тем чтобы установить внутреннюю патологию, что и является целью процесса диагностической оценки.
Врачи-гиппократики разработали сложную систему физического осмотра, помогавшую им определять характер гуморального дисбаланса в организмах их пациентов и составлять прогноз дальнейшего течения болезни. Теперь, две тысячи двести лет спустя, давно забытое искусство оценки физического состояния пациента начало возрождаться и совершенствоваться, так как появилось новое поколение исследователей медицины, воспитанных на учении Морганьи, позволявшего определить ключи к постановке диагноза. Именно в этот период обследование организма приобрело тот вид, в котором мы знаем его сегодня. Четыре кардинальных принципа этого процесса включают: осмотр, перкуссию, пальпацию и аускультацию – выстукивание, ощупывание и выслушивание стетоскопом. Более подробно о развитии современных методов диагностической оценки будет написано в последующих главах, но на данный момент достаточно сказать, что назначение ее выразил Морганьи в следующем тезисе: чтобы определить страдающий орган, нужно научиться интерпретировать его жалобные крики. Каждый рентген и сканирование, каждый образец крови, мочи или ткани, каждый микробиологический или химический анализ имеют своей целью проследить процесс болезни до очага ее возникновения и определить, как патологический процесс привел пациента в состояние, в котором он предстал перед врачом.
Морганьи вошел в историю медицины как отец патологической анатомии, но можно с уверенностью утверждать, что он также является основателем современной медицинской диагностики. Благодаря его работе был сделан еще один шаг в развитии научной медицины, а анатомическая концепция настолько прочно укоренилась в умах ученых, что даже спустя столетие после его смерти она по-прежнему оставалась, выражаясь словами Рудольфа Вирхова, произнесенными в 1894 году, «концепцией будущего». Как верно сказал Вирхов, «это будущее берет свое начало со времен Морганьи. Слава ему и честь!»
Хотя именно Морганьи медицина обязана величайшим прорывом в истории человечества, дух его творчества – это суть века, в котором он жил, эпохи, название которой достойно быть написанным заглавными буквами, подчеркнутыми яркой линией, выделенными курсивом или каким-либо другим способом, достаточно выразительным, чтобы продемонстрировать ее отличие от любой другой. Это был период, в течение которого современный мир оформился и проявился. Это был век Просвещения.
До семнадцатого века и выхода на сцену его просвещенного потомства в восемнадцатом столетии умами владели невежество, традиционность, догматизм и отсутствие любопытства. Современный мир, этот новорожденный младенец, скептически отнесется к каждой йоте мудрости, доставшейся ему от предков. Большая часть научного наследия в области медицины изобиловала ошибками. То, что ложные концепции пережили столько веков, объясняется тем, как люди привыкли объяснять явления природы. На протяжении всей своей истории человеческий ум бесконечно упражнялся в создании теорий. К сожалению, мы склонны делать это и сегодня, независимо от того, располагаем мы или нет достаточной информацией для обоснования поспешных выводов. Выражаясь современным языком, мы слишком часто действуем, не имея достаточной базы данных. Выбираем несколько имеющихся в наличии результатов наблюдений, делаем некое допущение, которое мы субъективно называем объективным, и вскоре формулируем удобное обобщение, объясняющее, как мы пришли к такому заключению. В результате такого рода философствования на свет появляется теория, которая обычно не представляет собой никакой угрозы для мировоззрения, к которому наша культура, наш опыт и наши гены приучили нас. Это весьма малоэффективный подход к пониманию абстрактных феноменов, таких как любовь или политика, и абсолютно точно не метод для изучения природы.
Тем не менее в каждом поколении всегда находились люди, позволявшие себе реально смотреть на вещи и мыслить разумно, независимо от влияния, которое оказывали на них принятые обществом постулаты. Так или иначе, они были невосприимчивы к общепринятой интеллектуальной софистике и самообману. И поскольку наш вид бо́льшую часть времени существовал в атмосфере постоянно расширяющегося поля знаний, все больше его членов начали осознавать определенную интеллектуальную лень, известную человеческую склонность объяснять явления без предварительного их изучения, смотреть на вещи, не видя их. Многие из нас сейчас признают, что в поисках систем взглядов, способных объяснить устройство вселенной и самого человека, мы часто поддаемся спекуляциям и домыслам.
Определенный хрупкий порядок вещей сохранялся до тех пор, пока причудливые всеобъемлющие системы взглядов могли скрывать необъяснимое и маскировать неприятные несоответствия. Но во времена Просвещения появились образованные мужчины и женщины, показавшие, насколько опасно игнорировать непрочность ткани, из которой соткано догматическое покрывало. Только благодаря очищающей силе истины можно интерпретировать реальность таким образом, чтобы она соответствовала наивысшему благу и биологическим потребностям человечества.
Гипотетические системы взглядов, оказавшиеся несостоятельными в истории медицины, были по своей сути донельзя сверхъестественными и квазирационалистическими или вопреки логике опирались на механистические принципы, предназначенные имитировать более точные дисциплины, такие как математика или физика. Когда врачи начали понимать, что нужно решать менее претенциозные задачи, родилась наука.
Стало очевидным значение простых воспроизводимых данных, беспристрастных наблюдений, доказательств и индуктивных рассуждений, и философы-медики начали больше уподобляться ученым. И с этого момента современная эпоха медицины была готова принять бразды правления.
Поскольку все мы несем на своих плечах большой груз устаревшего наследия, несложно понять, почему становление науки, и особенно медицины, потребовало так много времени. Это могло произойти только тогда, когда мир подготовился, по словам Иммануила Канта, к «выходу человечества из возраста несовершеннолетия». Философскому движению, сложившемуся в период, когда мы начали думать и рассуждать по-новому, немцы дали название Aufklärung (просветление). Англичане, которые, похоже, первыми начали все это, перевели это идеально подобранное слово как «просвещение», и именно так мы и называем это время по сей день. В течение большей части восемнадцатого века европейские и американские философы работали в атмосфере, пронизанной духом эпохи Просвещения. Мыслители этой эры интеллекта отличались готовностью, больше похожей на рвение фанатика, подвергать сомнению все, что им было завещано. Непривычное мышление проникало в политику, религию, литературу и искусство и вместе с ним появился скептицизм нового сорта. Стоит ли удивляться, что в такое время естествознание (или естественная философия, как тогда называлась эта область научных знаний) вышло на первый план человеческой мысли? Даже благочестивый итальянский католик с таким христианским именем, как Джованни Баттиста, едва ли мог избежать влияния волнующего воздуха свежего бриза перемен. Хотя учения агностиков Просвещения и деистов никак не изменили религиозную веру Морганьи, он был опьянен новоявленным духом эпохи так же, как любой здравомыслящий человек. Он способствовал осознанию эволюционной объективности ученых-медиков и сформировал логическую систему, которая приведет поколение исследователей, идущих по его стопам, к взрывному ускорению прогресса.
Отличающаяся невероятной точностью наблюдений, написанная ясным разговорным языком, монография Морганьи (поскольку его письма в действительности представляют собой именно монографию) сегодня является во многих отношениях такой же увлекательной, какой она, должно быть, была для читателей, живших двести лет назад. В отличие от «пятидесятисемилетней белой праворукой компьютерной программистки, беременной третьим ребенком», пришедшей на прием в современный медицинский центр, пациенты, которых описал Морганьи в De Sedibus выглядят скорее как «мясник, у которого в течение четырнадцати месяцев наблюдалось нарушение умственной деятельности, по его словам, из-за любовного зелья, умер в начале 1719 года в результате сильного переохлаждения, поскольку недостаточно тепло одевался в самую холодную погоду». При вскрытии в мозге мясника были обнаружены уплотнения, или склеротические очаги, что в современной медицине согласуется с одной из форм дегенерации головного мозга.
Читая De Sedibus, можно с самого первого предложения истории болезни понять, с какого рода заболеванием пациент обратился к врачу: «Н. Феррарини, священник из Вероны, прежде лечился от чахотки в Венеции и в течение десяти лет до приема у доктора от односторонней головной боли в Падуе; в возрасте полных сорока трех лет, волосы седые, лицо время от времени сильно краснеет; по комплекции тела стройный, но не худой; и хотя кажется бодрым и радостным, склонен беспокоиться о пустяках и подвержен приступам гнева». Неудивительно, что однажды отец Феррарини внезапно умер, и при вскрытии было обнаружено, что он стал жертвой кровоизлияния в мозг, несомненно, из-за разрыва одного из кровеносных сосудов мозга в результате гипертонии.
Некоторые из описаний Морганьи создают яркие зарисовки особенностей и симптомов, сопровождающих начало болезни, реконструируя их так точно, что каждый стажер в наши дни сможет безошибочно воспроизвести их спросонья, обратившись к собственному опыту в работе с подобными, встречающимися во все времена случаями: «Некий мужчина, уроженец Генуи, слепой на один глаз, живущий попрошайничеством, будучи пьяным, в драке с другими подвыпившими нищими получил два удара палкой; один незначительный пришелся по руке, а другой сильный – по левому виску; так что из левого уха пошла кровь. Но вскоре после этого ссора утихла, они все вместе сели у костра; выпили большое количество вина за мир и дружбу; и немного позже, той же ночью, он умер». У современного интерна, услышавшего эту историю болезни, не возникнет сомнений в том, что покажет посмертное вскрытие: пьяный нищий умер из-за давления на кору головного мозга, оказываемого сгустком крови (который сегодня называется эпидуральной гематомой), образовавшегося между черепом и окружающей мозг мембраной. На утреннем обходе после обсуждения такого эпизода стажер, скорее всего, будет ссылаться на него, прибегая к выражению, которое чрезмерно любят молодые доктора, и называя его классическим случаем, имея в виду, что даже люди в возрасте самого старшего из лечащих врачей, вероятно, неоднократно наблюдали подобное в давно минувшие дни их стажировки еще на заре медицины. Чтобы поставить диагноз, стажеру понадобится одно из новейших медицинских устройств – томограф, а для лечения болезни он воспользуется одним из старейших инструментов – дрелью.
Морганьи не мог назвать диагноз так же, как формулируем его мы сегодня, поскольку очень немногие из симптомов, которые он так точно описал, были классифицированы и имели названия в те времена. Его исследование течения болезни ограничивается описанием посмертного вскрытия и попыткой резюмировать, чем были вызваны наблюдавшиеся при жизни симптомы. Его метод анализа настолько ясен, что не только всезнающие интерны, но даже их старшие коллеги могут поставить диагнозы из информации, изложенной на страницах его великого труда. Долгими холодными вечерами в Новой Англии я согреваю душу, вновь и вновь просматривая De Sedibus.
Одним из основных мотивов, заставляющих мужчин и женщин изучать историю, наверняка должно быть чувство приобщенности к тайным знаниям, которое приходит с размышлениями над воспоминаниями и артефактами прошедших времен. Предназначение историка – сохранение. Он пытается поучаствовать в каждой игре, в которую когда-либо играла цивилизация. Ему известно то, чего не знали участники суровых реалий, которые он изучает, и у него есть время для этого. Надежно отгородившись архивами и кипами книг от круговорота современных событий, происходящих вне его святилища, он рассказывает нам то, что исследовал вчера, проливая свет знаний на сегодняшний день. «Вчера», как оказывается, довольно уютное местечко.
Когда меня одолевает чувство усталости из-за необходимости следить за нескончаемым потоком достижений современного научного прогресса (это именно поток, говоря клише, в чем хирурги всегда были особенно хороши) в таких высокотехнологичных областях, как иммунология опухолей и хирургические техники, я хватаю медицинский журнал, лежащий на самой вершине достигающей потолка стопки его собратьев, и обращаюсь к материалу, посвященному чему-то, связанному с далеким прошлым. В целости и сохранности, элегантный и спокойный, я могу мгновенно проскользнуть в мир медицины, который, застыв передо мной, позволяет мне неторопливо его исследовать. Обладая преимуществами развития медицины последних двух веков, я нахожу такие вещи, которые старые врачи даже не предполагали обнаружить под самыми их диагностическими носами. Наполнившись теплом собственного самодовольства, я забываю, по крайней мере, на мгновение, каким невеждой я себя чувствую, сканируя заголовки статей в американском журнале по физиологии (American journal of Physiology) за последний месяц, а иногда даже (пусть Бог простит меня за это признание) и в «Анналах хирургии» (Annals of Surgery).
Морганьи – мое любимое противоядие. Когда я, скрываясь от настоящего, погружаюсь в прошлое, он всегда ждет меня там с изумительно подробными историями болезни, представляющими собой ровно настолько сложную задачу, чтобы позволить мне блеснуть своими талантами, как своего рода Уолтеру Митти в области диагностики. На написанных им двух тысячах четырехстах страницах я обнаружил случаи, среди которых первые описания известных сегодня болезней: легочной пневмонии, аневризмы, коарктации и сифилиса аорты, а также недостаточности и стеноза клапанов, сердечной блокады Стокса – Адамса, легочного стеноза, тетрады Фалло, митрального стеноза и регургитации, эндокардита, туберкулеза легких, эмболии бедренной артерии, нефрита, сифилиса головного мозга, рака желудка и кишечника, кишечных полипов, язвенного колита, болезни Крона, свища прямой кишки, грыжи Рихтера, цирроза печени, панкреатита и увеличенной предстательной железы. В его работе осталось еще много неоткрытых сокровищ, которыми можно заняться в будущие зимние вечера.
Морганьи описал атеросклероз коронарных артерий, который сопровождает боли, вызываемые стенокардией. Также он был первым, кто показал, что инсульт возникает не из-за повреждения мозгового вещества, а из-за патологических изменений в питающих его кровеносных сосудах. Каждый из этих обзоров был гигантским прорывом в понимании болезни. Пациенты, представленные читателю иногда по имени и каждый раз по профессии, фигурально выражаясь, сходят с книжных страниц, и невольно приходит на ум внушающее благоговейный страх замечание, которое должно быть выгравировано на стенах современных больничных кабинетов аутопсии: Hic est locus ubi mors gaudet succurso vitae – «Это место, где торжествует смерть, приходя на помощь жизни».
В De Sedibus есть и другие сверкающие самородки, о ряде которых я стесняюсь (но лишь на мгновение) упомянуть, потому что эти истории иногда звучат скабрезно, а иногда зловеще. Морганьи был слишком достойным человеком, чтобы обвинять его в преднамеренном стремлении вызвать у своих читателей нездоровый интерес, но тем не менее он невольно делал это. Морганьи описывает случай, произошедший с молодой жрицей любви, которая в последний момент была охвачена таким неистовым порывом сексуального наслаждения, что разорвала выстилку аорты и умерла, предположительно, в момент особенно напряженного сладострастного изгиба. Вскрытие выявило, что причиной летального события явилось то, что мы сегодня называем расслоением аневризмы аорты с гемоперикардом. Вот бесстрастное описание Морганьи клинической истории болезни, которое может представлять собой первый отчет о редком наследственном заболевании, которое станет известным как синдром Марфана – по имени француза, сделавшего его обзор в 1896 году:
Проститутка двадцати восьми лет, худощавого сложения, имела жалобы в течение нескольких месяцев и особенно в последние пятнадцать дней на определенную вялость, а также отвращение к пище и почти ко всему остальному, вследствие чего меньше употребляла еды и больше неразбавленного вина, которым всегда была склонна злоупотреблять. Некий распутник пришел в ее дом и спустя немного времени вышел с выражением недоумения и беспокойства на лице; прошло два или три часа, она не появлялась; соседи, ставшие свидетелями этих событий, вошли и обнаружили ее мертвое, уже остывшее тело, лежащее в постели в такой позе, что не вызывало сомнения, чем она занималась, когда умерла, тем более, что на половых органах была видна мужская сперма.
Иногда история болезни, представленная Морганьи, настолько ужасает, что поражает воображение читателей. В 1704 году в Болонскую больницу для неизлечимо больных был госпитализирован мужчина с аневризмой, вызванной в его случае сифилисом; со вздувшимся участком аорты, который был готов в любую секунду прорваться сквозь кожу груди:
В одном месте начала просачиваться кровь; и мужчина сам чуть не порвал кожу (она была предельно тонкой в этой области, а пациент совершенно не представлял, какая опасность ему грозит), когда начал стаскивать бинты, чтобы показать свою проблему. Понимая серьезность ситуации, врач вовремя остановил его, порекомендовав не двигаться и со всей серьезностью и благочестием подготовиться к концу его бренной жизни, который был очень близок и неизбежен. На следующий день это действительно произошло из-за огромного избытка крови, как и было предсказано, хотя и не так скоро, как ожидал пациент. Тем не менее он оставался в сознании; почувствовав, как хлынула кровь, он не только вручил себя Богу, но собственными руками поднял таз, стоявший у постели, как если бы собирал кровь другого человека, и пристроил его под зияющую опухоль, пока к нему со всех ног бежали санитарки, на чьих руках он вскоре скончался.
Умерев, этот несчастный человек принес жертву медицинской науке, как и старик с аппендицитом, и проститутка с синдромом Марфана, и семьсот других пациентов, чьи органы были описаны Морганьи, а истории болезни изучались врачами по всей Европе и Америке с целью обучения методам, разработанным в Падуе. Пять профессоров, которым Морганьи отправил копии De Sedibus, сразу же поняли важность его работы, как и многие участники научных сообществ, членом которых был его автор. В течение трех лет после публикации потребовался выпуск второго, а затем и третьего издания книги из-за высокого спроса на нее. В 1764 году Морганьи посетил врач из Филадельфии Джон Морган. Американец написал в своем дневнике, что трактат De Sedibus получил «наивысшую оценку по всей Европе, и все копии последнего [третьего] издания уже раскуплены». В том же году Сэмюэль Бард, основатель колледжа врачебного дела и хирургии при Колумбийском университете, писал своему отцу из Эдинбурга, что De Sedibus – это книга, на которую, насколько мне известно, здесь возлагают большие надежды».
И их ожидания оправдались. Благодаря De Sedibus врачи узнали, что симптомы их пациентов указывают на внутренние источники болезни. После публикации работы Морганьи было уже недостаточно просто выслушать историю пациента, осмотреть его, проверить пульс и взглянуть на мочу. Отныне врачи будут искать новые жалобные крики страдающих органов, крики не столь очевидные, требующие большего внимания, чтобы быть услышанными. Выучив уроки De Sedibus, целители стали составлять более подробные истории болезни и задавать пациентам наводящие вопросы, чтобы получить дополнительную информацию, не лежащую на поверхности. Это самый деликатный элемент искусства диагноста, искусства физического осмотра, которое берет свое начало не в безвозвратно утерянных навыках Гиппократа, а в техниках, разработанных после выхода в свет работы Морганьи. Используя знания трехмерной анатомии, врачи стали проводить пальпацию более тщательно; перкуссию, выстукивание для выявления различий в плотности ткани, описал в 1761 году немецкий врач Леопольд Ауенбруггер, но его работа не была оценена по достоинству, поэтому эту методику пришлось заново открывать ученику Морганьи французу Жану-Николасу Корвисарту. Но самое сакраментальное событие в развитии физической диагностики произошло в 1816 году, когда Рене Лаэннек изобрел стетоскоп, вдохновив врачей к дальнейшим открытиям в методологии медицинской экспертизы.
Репутация Морганьи и до 1761 года была впечатляющей, а после опубликования De Sedibus на него стали смотреть как на ведущего ученого в области медицины. В своем журнале Джеймс Босуэлл рассказывает забавную историю о Сэмюэле Джонсоне, предложившем ему написать в Падую письмо и попросить профессора произвести вскрытие скорпиона, чтобы разрешить биологический спор между ними. Босуэлл предпринял грандиозный тур на континент для встречи с Морганьи, которого он описал в своих воспоминаниях за 27 июня 1765 года как «прекрасного достойного человека в летах», считавшего, что он посвятил научным исследованиям слишком много времени из своих восьмидесяти трех лет: «Я провел свою жизнь среди книг и трупов». Фредерик Поттл, биограф Босуэлла, писал, что молодой шотландец отправился в Падую с целью «отчасти встретиться со знаменитым ученым, отчасти получить профессиональный совет» относительно постоянно возобновлявшейся гонореи, которая преследовала его после частых любовных интрижек. Морганьи посоветовал ему не употреблять алкоголь, делать легкие физические упражнения и прекратить спринцеваться. Ни к одной из рекомендаций Босуэлл, похоже, не прислушался. Отношение профессора к медицине и к жизни иллюстрируют слова, сказанные им британскому гостю: «Врач учится у природы, которая действует поступательно, шаг за шагом, без рывков и ограничений». Порывы и ограничения были в стиле Босуэлла, так что он был обречен на долгую и глубокую связь со своей капающей болезнью.
За год до консультации Босуэлла Морганьи посетил ранее упомянутый доктор Джон Морган, один из основателей факультета Филадельфийского колледжа – учреждения, ставшего впоследствии первой медицинской школой Америки. В своем журнале 24 июля 1764 года Морган описал свое впечатление о старом анатоме: «Пошел выразить свое уважение и вручить письмо от доктора Серрати из Болоньи знаменитому Морганьи. Он принял меня с величайшей обходительностью, какую только можно вообразить, и благосклонно оказал мне массу любезностей. Ему сейчас 82 года, но он все еще читает без очков и бодр, как пятидесятилетний». Дальше Морган рассказывает трогательную историю, произошедшую, когда гостеприимный хозяин показывал ему рисунки своих предшественников, выставленные в Падуанском музее анатомии. Среди них были два портрета красивых молодых женщин, выполненных пастелью. На вопрос, кто они, Морганьи ответил, что это его младшие дочери. Восемь из его дочерей ушли парами в четыре разных монастыря. Две последние выбрали строгий орден францисканцев, где требовалось всегда ходить босиком и скрывать лицо за вуалью. «Перед тем, как они отгородились таким образом от жизни, известная художница Розальба, подруга Морганьи, втайне от него нарисовала эти портреты и подарила ему. Поскольку другие, менее строгие ордена позволяли оставлять лица открытыми, поводов для создания портретов остальных дочерей не было». Итак, среди научного снаряжения и сувениров, собранных за долгую жизнь, проведенную «среди книг и трупов», висели портреты двух горячо любимых юных дочерей, Маргариты и Луиджии Доменики Розы, устремивших взгляды на своего обожаемого отца так же, как когда он смотрел в их лица в последний раз.
Непоколебимый нежный союз Джованни Морганьи и его верной жены Паолы закончился с ее смертью 2 сентября 1770 года. Престарелый вдовец ненадолго задержался на этой земле после ухода свой половины. Тот, чья работа пролила свет на патологическую основу инсульта, теперь умер от кровоизлияния в мозг, так же, как его учитель Вальсальва и учитель его учителя Мальпиги. Он умер в своем доме под номером 3003 по улице Via S. Massimo, где он жил со своей семьей, где и сейчас можно увидеть мемориальную доску с простой надписью «Дж. Б. Морганьи, основатель патологической анатомии, умер здесь 6 декабря 1771 года».
За восемь лет до смерти Морганьи отцы его родного города разместили в муниципальном зале мраморный медальон с изображением самого известного сына Форли. В стиле, типичном для маленьких городков, они перестарались с надписью на медальоне, определяющей место своего героя в истории человечества: «Джованни Баттиста Морганьи – дворянин Форли. В 1763 году горожане Форли возвели в его честь мраморный памятник, потому что он отличился перед своей страной и всеми людьми в мире своими открытиями и великолепными книгами. Деятели науки искренне убеждены, что Морганьи – самый выдающийся представитель человеческой расы». Не сохранилось никаких записей о сдержанной реакции Морганьи, когда он впервые прочитал эти слова. Скорее всего, благодушное стремление городских жителей прославить себя, восхваляя его, вызвало у него лишь снисходительную улыбку. Слишком тактичный, чтобы обидеть мэра, выразив неудовольствие высокопарным преувеличением, написанным на медальоне, он, вероятно, поблагодарил комитет, пожал всем руку, вернулся в свой экипаж и уехал в Падую, чтобы сделать очередное вскрытие.
7. Почему цвет листьев меняется осенью. Хирургия, наука и Джон Хантер
Ни одно природное явление невозможно изучить адекватно само по себе. Для должного понимания его следует рассматривать в связи со всей природой.
Сэр Фрэнсис Бэкон
Фрэнсис Бэкон провозгласил основной постулат Евангелия от науки. Основополагающее единство всех природных явлений предполагает переплетение работы каждого ученого каждой дисциплины каждого периода истории с открытиями других мыслителей. Устанавливаются родственные связи между всеми, кто испытывает лишающее покоя любопытство к ускользающим от поверхностного взгляда тайнам природы, независимо от того, на что устремлены их глаза: на звезду или вглубь материи. Не существует мужчины или женщины, которые хоть однажды не поддались искушению заглянуть в сокровищницу матери-природы. Они наверняка оценили бы яркий образ, созданный современником Бэкона Уильямом Гарвеем: «допуск в ее хранилище секретов» вызывает не только чувство удовлетворения от сделанного открытия, но также ощущение единства со всеми неутомимыми искателями истины со времен предков Аристотеля и с самой природой.
В течение многих лет, пока Джованни Морганьи намеренно фокусировал свой взгляд на узком круге вопросов, чтобы заглянуть в тайник матери-природы, другие ее любознательные сыновья изучали ее подноготную, делая прямо противоположное. Джон Хантер выбрал в качестве области изучения все царство жизни. Он полагал, что сфера его компетенции включает все, что связано со строением живого организма и его функциями с момента зачатия до того мгновения, когда искра жизни затухает в нем навсегда. Он горел желанием узнать все: как работают структуры в здоровом состоянии, почему они ломаются и каким образом они противостоят силам, которые неизменно стремятся их уничтожить.
Невозможно описать неиссякающее любопытство Хантера, используя слова, применимые к другим людям. Только обратившись к концепции гениальности можно передать смысл его жизни и его достижений. В противном случае нам пришлось бы уверовать в такие неопределенные явления, как предвидение, везение и божественное озарение. Интеллектуальные и социальные барьеры, удерживающие нас в плену заурядности, не могут остановить таких людей. Теория о колоколообразной кривой, ограничивающей человеческие способности, не имеет к ним никакого отношения. Формальное школьное образование для Джона Хантера было совершенно излишним, и обычные методы приобретения знаний – лишь препятствие на пути развития его интеллекта. Нам не следует пытаться судить о других людях и разгадывать источники их вдохновения. Достаточно того, что мы можем извлечь пользу из их пребывания на этой Земле.
Джон Хантер был изобретательным художником медицинской науки, видным ученым с неортодоксальным подходом, создавшим собственные стандарты и нашедшим свой особый путь, указавшим новое направление развития когорте талантливых учеников, которые преобразовали не только искусство хирургии, но и образ врача в целом. Его интересовало все живое, и любопытство пробуждало в нем такое внимательное отношение к природе, что его проницательный взгляд видел то, чего никто другой не мог даже вообразить.
Так же как Везалий, Гарвей и Морганьи, Хантер игнорировал готовые решения предшествующих поколений и полагался исключительно на свои способности в определении важности проблем, их описании и сопоставлении данных больших групп тщательно выполненных исследований. Все эти ученые были наделены необычайной способностью отделять зерна от плевел. И хотя Хантер написал тысячи страниц, ему не удалось произвести на свет что-либо похожее на De Sedibus, De Motu Cordis и тем более на Fabrica. Он не создал ни одного выдающегося произведения, но посвятил всю жизнь непрерывному изучению базовых закономерностей здорового состояния и заболевания организма. Иногда он продвигался вперед небольшими шажками, а в отдельных случаях он достигал истины как скороход в волшебных туфлях и преодолевал огромные интеллектуальные расстояния в своем научном путешествии. Его величайшим шедевром была не книга, а он сам – человек, который горячо верил в то, что любознательность и упорный труд помогут ему найти ответы на любые вопросы.
Щедрые дивиденды нестандартного видения Хантера достались его коллегам-хирургам. Благодаря ему появилось новое понимание той роли, которую они могли бы сыграть в выяснении процессов болезни. Но значительно важнее то, что он представил своим коллегам-хирургам новую концепцию их профессии, предполагающую не только использование эмпирических методов, но и применение научного подхода. Если бы этот величайший натуралист-медик не оставил никакого другого наследия, кроме этого, он все равно заслуживал бы каждого выражения благодарности и восхищения, сказанного в его адрес поколениями его последователей. Как писал Филдинг Гаррисон: «Хантер считал, что хирургия – это механическое искусство, и относил ее к экспериментальным наукам».
Расширяя научные горизонты своих собратьев, Хантер вывел их на новую ступень общественного престижа, которой раньше достигали немногие из них. Один из его коллег заметил: «Только он смог сделать нас джентльменами». Восхождение по спирали профессионального статуса, первый виток которого неторопливо начался с Амбруаза Паре, теперь приобрело значительное ускорение: повышение престижа привлекло более образованных и более целеустремленных людей, чьи достижения также улучшили репутацию хирургии, и этот процесс повторялся снова и снова. Через столетие после смерти Хантера можно было с уверенностью сказать, что многие величайшие достижения в области медицины были сделаны хирургами, к тому времени самыми почитаемыми в народе целителями.
Хантер продемонстрировал, что хирургия – это профессия, достойная самых лучших умов. Нет сомнений в том, что благодаря его работе многие выбрали профессию хирурга: в противном случае они посвятили бы свою жизнь внутренней медицине или вообще поменяли бы род деятельности. В исследованиях эволюционного развития любой профессии существует два, в значительной мере недооцененных, важных стимула, которые неизменно оказывают мощное прогрессивное влияние: повышение интеллектуального уровня вступающих в группу новичков и развитие профессиональных обществ. Неординарная личность Джона Хантера подобно магниту притягивала самых ярких и инициативных представителей молодежи к хирургии и медицине в целом, все больше повышая престиж их организаций.
Студенты Хантера – а в некотором смысле каждый хирург, получивший образование на рубеже девятнадцатого века, был его студентом – были живым напоминанием об их великом профессоре. Благодаря ему было сделано множество открытий, подтверждающих истинность его методов и делавших блеск его имени еще ярче. Однажды он написал своему любимому ученику, ставшему самым известным среди его воспитанников: «Я думаю, что вы нашли правильное решение, но зачем раздумывать? Почему бы не провести эксперимент?» Этот совет молодому хирургу Эдварду Дженнеру привел последнего к использованию нового подхода к научным исследованиям, результатом которого спустя годы стало открытие вакцины против оспы.
Королевская коллегия хирургов учредила ежегодное представление выдающимся избираемым оратором панегирика в честь Хантера в день его рождения, 14 февраля, по примеру Королевской коллегии врачей, увековечившей таким же образом своего первого ученого – Уильяма Гарвея. В 1963 году на банкете, организованном для оглашения речи, спикер сэр Стэнфорд Кейд сел около двух иностранных дипломатов, которые попросили его что-нибудь рассказать о великом хирурге. «Хантер – наш Леонардо да Винчи, – сказал он итальянскому послу, а французу он пояснил: Он для нас значит то же, что Амбруаз Паре для Франции». Эти сравнения заслуживают внимания, поскольку они относятся не просто к людям, изменившим время, в котором им довелось жить, но к ученым, бывшим по большей части самоучками, образ мыслей которых был часто непонятен признанным мэтрам медицины. Столь же уместным был комментарий эдинбургского анатома Роберта Нокса, жившего в девятнадцатом веке: «Он не только не был творением своего века, а находился в прямом антагонизме с ним… Он преодолел все преграды и оставил в своем музее памятник, подобный “Тайной вечери“ Леонардо, чтобы объяснить потомкам, пятьсот лет спустя, что не время формирует великих людей, в котором они живут, а они время».
Самым ранним проявлением противостояния Хантера стандартам того времени было его отношение к школе: он никогда не позволял формальному образованию вмешиваться в его обучение. В то время как другие мальчишки попадали в ловушку тесных лабиринтов латыни, греческого языка и математики, Джон наслаждался свободой, ежедневно открывая для себя чудеса шотландской сельской природы Ланаркшира, где он родился в 1728 году. Его детское любопытство ни на йоту не пострадало от стремления педагогов втиснуть его уникальные интеллектуальные способности в общепринятые жесткие рамки. С раннего детства и до конца своих дней он был очарован красотой окружающего мира, разнообразием биологических форм и способами защиты, найденными для них природой. Похоже, что он никогда не рассчитывал найти в книгах ответы на свои многочисленные вопросы.
Многие неправильно оценивали период жизни Хантера до двадцати лет. Большинство писавших о нем считали потерянными зря годы его юности. Ежегодные панегирики и биографические статьи, посвященные Хантеру, усеяны заявлениями, подобными тому, что написал его первый и в других отношениях самый достойный ученик, его зять сэр Эверард Хом: «Его отправили в начальную школу, но, не обладая способностями к языкам и не имея достаточного контроля над собой, он пренебрегал учебой и проводил бо́льшую часть времени в развлечениях на природе».
После этого комментария Хома бо́льшая часть авторов, писавших о великом хирурге, будет оценивать юность Хантера в похожем ключе. Его самый известный биограф конца девятнадцатого века Стефен Педжет писал в 1897 году:
Нет никаких сведений о том, что в детстве он выделялся среди своих сверстников особой любовью к природе или необыкновенными умственными способностями… Кажется странным, что ум Джона Хантера, несомненно выдающийся, мощный и дерзкий, никоим образом не проявлял свою силу до тех пор, пока случайно не был направлен на научную работу. Его жизнь протекала не среди невежественных злобных людей, напротив, его отец был проницательным и здравомыслящим человеком, мать хорошо образованна и оба брата отличались высоким уровнем интеллекта. В такой семье у Хантера была масса возможностей развивать свой ум и культуру, но он не видел в этом смысла. Он жил среди тех же чудес органического мира, тех же природных реалий, которые в будущем сделали его неутомимым исследователем, не обращая на них, похоже, ни малейшего внимания. Он не стремился к знаниям, пока не ощутил на себе влияние людей, увлеченных наукой… Его ментальная сила не имела направления, пока он не нашел для нее подходящей работы, а определив свое призвание, он стал счастливым.
Хом, Педжет и другие глубоко заблуждались на его счет. Джон Хантер всю свою жизнь не изменял своему Богом данному увлечению природой; он был настолько поглощен ею, чтобы другим казалось, что он провел свои юношеские годы, беззаботно гоняясь за лунными лучами и радугой. Самообразование первого ученого-хирурга проходило в школе без стен, среди бессловесных учителей, не использовавших книги и не следующих никакой учебной программе. Его юность была одной долгой, можно даже сказать, бесконечной прогулкой.
Возможно, именно косность и ограниченность их образования помешали многим из тех, кто изучал жизнь Джона Хантера, постичь реальный смысл его кажущегося отсутствия стремления к знаниям. Если бы они правильно поняли значение его романа с природой длиною в жизнь, они бы не пропустили его слова, написанные много лет спустя: «Когда я был мальчишкой, мне хотелось узнать все об облаках и травах и почему цвет листьев меняется осенью; я наблюдал за муравьями, пчелами, птицами, головастиками и ручейниками, донимая людей вопросами, ответов на которые никто знал и знать не хотел». Его племянница Агнес Бейли говорила о его детстве: «Он делал только то, что ему нравилось, и не любил уроки чтения, письма и другие дисциплины, а предпочитал бродить среди лесов, деревьев и т. д., заглядывая в птичьи гнезда, сравнивая количество яиц, их размер, расцветку и другие особенности».
Он был не заурядным деревенским парнем, а юношей с ненасытной пытливостью ума и мудростью ученого, понимавшего, что тайны природы можно разгадать, только наблюдая и анализируя. Возможности исследователя совершенствуются благодаря постоянной практике, помогающей определять, что нужно искать, и указывающей путь к пониманию увиденного. Обучение классификации данных – это главный ключ к их анализу. Таким и было самообразование Джона Хантера: пристальное наблюдение и оценка того, что он видел, систематизация собранных данных, позволяющая провести их анализ, а затем поиск неких объединяющих принципов. Он самостоятельно постиг метод индуктивных рассуждений, целью которых, в конечном итоге, являлось использование установленных общих принципов для объяснения отдельных биологических фактов. Таким образом, его подход, по сути, заключался в дедуктивных рассуждениях, ведущих от формулировки основного принципа к описанию конкретного явления. Инстинктивно, сам того не сознавая, Джон Хантер еще в юности научился думать как ученый. При этом он преследовал единственную цель: удовлетворить свое любопытство.
Еще в четырнадцатом веке король Шотландии Роберт II, основатель династии Стюартов, и его сын Брюс даровали семье Хантеров поместье Ланаркшир. Даже в лучшие времена жизнь мелких землевладельцев в графствах, окружавших Глазго, была трудной, а два десятилетия, предшествовавшие рождению Джона Хантера, были особенно мрачными. В течение нескольких лет плохие погодные условия были причиной бедного урожая и подавленного настроения деревенских жителей. Поэтому даже «маленький шотландский лорд», отец Джона, испытывал трудности с обеспечением своей семьи, особенно если учесть, что у него было десять детей. К тому времени, когда родился последний из его детей, дела старшего Хантера немного поправились, но его здоровье оставляло желать лучшего. Когда он умер в 1741 году в возрасте семидесяти восьми лет, вся ответственность за благополучие семьи легла на плечи его двадцатитрехлетнего сына Уильяма, который после завершения медицинского образования практиковал тогда в Лондоне. Семь лет спустя, когда Джону исполнилось десять, Уильям занимал очень уверенное положение в имперской столице и был на пути к тому, чтобы стать главным преподавателем анатомии и ведущим практикующим акушером. Он был очень начитанным, утонченным человеком и заслуженно имел прекрасную репутацию и как лектор, и как профессионал-практик. Среди его пациентов были самые популярные и влиятельные представители светского общества, среди которых он чувствовал себя как рыба в воде.
В противоположность элегантному, благопристойному врачу Уильяму Хантеру его вечно небритый, небрежно одетый брат обладал взрывным темпераментом. Там, где Уильям был склонен проявлять учтивость, Джон был грубоват. Изысканность светского поведения, которому учатся на официальных приемах, бесполезна на скотных дворах и среди полей; некоторые друзья Уильяма, представители аристократического круга, считали, что манеры его брата больше подходят для конюшни, чем для салона, и были абсолютно правы. Отсутствие работы привело Джона к братскому порогу в 1748 году. Он прибыл в Лондон искренним, пылким молодым человеком, чьи благие намерения часто приводили к разочарованию из-за его невосприимчивости к чувствам обычных смертных, окружавших его. У него был тип личности, который обычно называют вздорным те, кто восхищается им настолько, чтобы потакать его резкости, и огорчает всех остальных. Требовалось немало терпения, чтобы пробиться через шотландские шипы к его теплой и доброй натуре.
Когда к такому характеру прибавляется всеобъемлющее чувство честности и откровенное презрение к глупости, обладатель такого созвездия качеств практически обречен тратить большую часть своей энергии на конфликты и выяснение отношений. Гневливость, конфликтность, неуживчивость и воинственность были присущи обоим Хантерам, но прагматичный Уильям, по крайней мере, научился контролировать себя; а Джон не собирался тратить время на такие пустяки. До конца его дней манеры Джона оставались далеко не безупречными.
Когда Джон впервые приехал в Лондон, надеясь найти свое призвание, Уильям, не зная, что делать с нахальным мальчишкой, пристроил его за символическую зарплату в кабинет аутопсии своей анатомической школы. Очень скоро Джон начал понимать, что там, среди препаратов брата, он нашел идеальное место для удовлетворения своего любопытства к окружающей природе. Но прежде чем полностью посвятить себя серьезной работе, ему пришлось избавиться от строптивости сельского парня в его характере. Приехав в большой город с карманами, полными дикого овса, он приступил к их посеву по всем злачным местам и публичным домам Лондона. Дрюри Оттли описал в биографии Хантера в 1885 году, как вначале «он много времени проводил в обществе молодых людей своего круга, предаваясь беззаботному распутству, к которому были весьма склонны люди его возраста, не обремененные сдержанностью. Он не всегда был разборчив в выборе компании и иногда искал грубых развлечений, которые можно найти среди низших слоев общества».
Разочарование Уильяма из-за склонности брата к разврату вскоре сменилось восхищением, когда молодой человек продемонстрировал свой талант в аутопсии. Ловкость его рук не была неожиданностью для доктора Хантера, но его способности к освоению новой дисциплины стали невероятным источником удовольствия. Дикий овес дал всходы гораздо быстрее, чем ожидалось: не прошло и года, как начинающий целитель стал изучать хирургию под началом знаменитого Уильяма Чеселдена в клинике Челси. Вскоре после этого брат назначил его на должность демонстранта в своей школе. После смерти Чеселдена в 1751 году Джон стал учеником в больнице Святого Варфоломея, где работал ведущий английский хирург Персиваль Потт.
Все свободное от своих клинических обязанностей по уходу за больными время Хантер посвящал аутопсии и обучению хирургии в школе своего брата. В конце концов, он решил получить квалификацию хирурга, для чего в больнице Св. Варфоломея требовалась подготовка в течение пяти лет при полном отказе от занятий аутопсией. Требования к обучающимся в больнице Св. Георгия были не такими жесткими, поэтому он поступил туда в 1754 году. Годом позже он решил все же попытаться получить формальное образование. В июле 1755 года он поступил, вероятно, по совету Уильяма, в Оксфорд. Не стало сюрпризом, что этот древний университет не сделал из него нормального студента, как и школа латыни в Килбрайде. По его словам: «Они хотели сделать из меня старую бабку, заставить зубрить латынь и греческий в университете; но я нарушил их план, как многие из той шпаны, которая училась до меня». Не закончив первый год обучения, он покинул Оксфорд.
Несмотря на то, что Уильяму не удалось осуществить план по преодолению неприязни своего вольнодумного брата к академическим правилам, он все больше гордился успехами Джона в качестве демонстратора и всеми доступными средствами старался посодействовать развитию его карьеры. Однако назначение Джона на должность преподавателя анатомии принесло Уильяму лишь разочарование. Неискушенный в тонкостях ораторского искусства и грамматики, не имевший достаточного опыта вербальной коммуникации и навыка формулирования своих мыслей, Джон Хантер чувствовал себя на кафедре неуютно. Недостаток красноречия всю жизнь будет досаждать профессору и его ученикам; позднее Хом писал, что он «никогда не начинал первую лекцию своего курса без тридцати капель лауданума, чтобы избавиться от чувства неловкости и беспокойства». Он редко поднимал глаза от записей лекции. Самым худшим из его грехов, по мнению студентов, была непоследовательность в изложении материала, поскольку иногда он противоречил собственным утверждениям, высказанным в предыдущей лекции. Подобные вещи происходили не из-за рассеянности Хантера, просто новые исследования порой заставляли его менять свою точку зрения. Представляя очередные теоретические концепции, он не умел сформулировать достаточно четких, легких для понимания объяснений, и студенты, ожидавшие получить знания на блюдечке, считали его лекции неудобоваримыми. Его занятия никогда не посещало более тридцати учеников одновременно, тогда как годы спустя превосходные ораторские способности его учеников Джона Абернети и Эстли Купера, преподававших в основном тот же материал, который они почерпнули у Хантера, привлекали сотни студентов.
Поэтому то, что Джон Хантер, в конце концов, стал одним из величайших учителей, произошло скорее вопреки, чем благодаря его методу обучения. Именно личность Хантера и его знания привлекли тех, кто позже образует когорту выдающихся представителей следующего поколения медиков Европы и Соединенных Штатов. Неиссякающий энтузиазм Хантера и его философия объективности вызывали воодушевление и восхищение у его студентов. Они стали посланниками, которые переводили то, что казалось неясным, на понятный язык и, таким образом, убедили многих хирургов в необходимости использовать научно-экспериментальный подход в лечении больных.
В 1756 году Хантер был назначен на должность домашнего хирурга в больницу Св. Георгия – что-то вроде современной стажировки, – где он и проработал в течение следующих пяти месяцев. Его обязанности предполагали ежедневный уход за пациентами старших хирургов, лечение большинства переломов и проведение некоторых незначительных процедур, требующих оперативного вмешательства. За исключением короткого периода, все время между 1756 и 1759 годами он занимался преподаванием и изучением анатомии, как человеческой, так и сравнительной. Именно тогда Хантер разработал собственную модель исследования, которой будет придерживаться следующие четыре десятилетия. Поскольку структура и функции многих частей человеческого организма слишком сложны, Хантер решил начать свои изыскания с проще устроенных животных и сделал первый шаг в создании своей коллекции низших форм. Он всеми возможными способами старался достать редких животных и в этом стремлении зашел так далеко, что договорился даже со смотрителем диких зверей лондонского Тауэра, что будет забирать трупы умерших животных. Он совершал подобные сделки с владельцами цирков и всеми, кто имел доступ к необычным созданиям.
Постоянное выделение миазмов в анатомическом кабинете негативно повлияло на самочувствие молодого анатома, и с целью поправки здоровья (хотя, возможно, ему просто хотелось отдохнуть от неотступной опеки старшего брата) осенью 1760 года он записался в армию в качестве хирурга. В то время Англия вела Семилетнюю войну, которую, по словам историка Самуэля Элиота Морисона, «на самом деле следовало назвать Первой мировой войной, поскольку боевые действия велись на такой же большой части земного шара, как в 1914–1918 годах». Как и во многих других конфликтах, в которых участвовало Соединенное Королевство, вначале англичане терпели одно поражение за другим, но в какой-то момент им удалось переломить ход событий и одержать победу, завоевав господство над Северной Америкой и Индией и еще раз подтвердив свое военное превосходство на море.
30 октября 1760 года, через два месяца после разгрома французов в Северной Америке, в конце кампании, известной как Франко-индейская война, Джон Хантер получил возможность проявить свои профессиональные качества. С этого момента до окончательного завершения конфликта после заключения Парижского договора в феврале 1763 года, все свое время он в основном посвящал заботам о солдатах, страдающих от лихорадки, малярии и дизентерии, свирепствовавших в армии с самого начала войны. Но от своей службы Хантер получил и неожиданные дивиденды, впервые имея возможность заниматься морской биологией. Раньше ему не доводилось изучать морских птиц и представителей прибрежной фауны, таких как морские ежи, анемоны, кальмары, крабы и угри. Созерцая их бесчисленные разновидности, он начал прорабатывать возможность классификации филогенетических видов животных. Утверждение, что исследования Хантера предвосхитили открытие Дарвина, не будет слишком большим преувеличением. Если бы он прожил дольше, возможно, он закончил бы систему классификации, которая неизбежно привела бы к созданию теории эволюции.
Хотя Хантер воспринимал своих армейских коллег по больнице как «чертово мерзкое сборище», тем не менее среди них у него появился один друг, хирург полка легкой кавалерии генерала Джона Бургойна, Роберт Хом. Его дочь Анна стала миссис Джон Хантер в 1771 году, а о ее брате Эверарде уже упоминалось несколько страниц назад.
Каким бы ни было качество разрозненных медицинских знаний Хантера, к моменту возвращения из армии он был хирургом. Пришло время заняться собственной практикой. В те времена эта профессия не обеспечивала своим адептам материального благополучия. Как сказал современник Хантера, она «не приносила хлеба своим труженикам, пока у них не выпали зубы». Хотя доход от новой хирургической практики был недостаточным, половина армейского содержания и небольшой доход от преподавания анатомии позволяли Хантеру выжить в тяжелые дни его молодости. В 1765 году он купил участок земли в графстве Эрл (который в те времена находился в двух милях от города), чтобы построить дом и организовать небольшой зверинец. Он был готов серьезно заняться сравнительной анатомией, которая в действительности представляет собой наилучший способ изучения человеческого организма.
В те годы, когда Джон Хантер начинал свою практику, все хирургическое лечение было основано на единичном опыте отдельных целителей. Ни в хирургии, ни в медицине в целом не было понимания общих принципов ни заболеваний, ни функционирования здорового тела. И практическое искусство хирургии, и общая медицина, опиравшаяся в основном на теорию, были источником множества ошибочных суждений. В первой использовались прагматические методы, разработанные ведущими специалистами, а другая по-прежнему зависела от остатков традиционной философии Галена. За исключением того, что новый трактат Морганьи De Sedibus продемонстрировал проявления болезни, которые могли наблюдать патологоанатомы, никто не имел ни малейшего представления о том, как противоестественные болезненные процессы возникают в здоровом организме, и почему и каким образом появляются те или иные синдромы. Менее всех прочих были изучены природные методы лечения.
Джон Хантер ясно понимал, чего не хватает. Он поставил себе задачу создать прочную основу для понимания физиологии человека, как здорового, так и больного. Он совершенно справедливо полагал, что для того, чтобы «узнать» человеческий организм, необходимо изучить все виды животных. Выполнению именно этой задачи он посвятил свою жизнь. Дрюри Оттли так описал генеральный план, который составил герой его сочинения в один из дней 1765 года, приступая к работе: «Это предприятие было не менее грандиозным, чем изучение феномена жизни в здоровье и в болезни, во всем диапазоне классифицированных по видам существ, которыми Хантер предполагал заняться; начинание, требовавшее его гениального ума, чтобы спланировать такую работу, перед трудностями выполнения которой спасовал бы любой менее энергичный, менее трудолюбивый и менее преданный науке ум».
Насколько известно, Хантер, как и прежде, продолжал разыскивать животных, и он их нашел. Сэр Джон Блэнд-Саттон в своей ежегодной речи в честь ученого в 1923 году описал зверинец в графстве Эрл следующим образом:
Леопарды и шакалы жили в специально построенных убежищах, буйволы, жеребцы, овцы, козы и бараны содержались в загонах. По листьям тутового дерева ползали шелкопряды, а пчелы собирали пыльцу со зверобоя. Для уток и гусей, которые откладывали яйца для стола и эмбриологических исследований, был устроен пруд. Он вел наблюдение за пчелами в ульях и обнаружил, что воск – это выделяемый ими секрет, а также оставил великолепные заметки о взаимосвязи овощей и животного жира.
Действительно, дикие животные жили в специальных постройках, леопарды, как правило, были связаны особым образом, и в целом ферма исследователя именно так и выглядела. Здесь ученый провел множество экспериментальных исследований. Тут же был построен дом, в который Хантер привел свою прекрасную юную невесту Анну в 1771 году. Трудно представить, что привлекало чувствительную, благородную, красивую дочь Роберта Хома в косноязычном, низкорослом (всего метр пятьдесят семь), круглолицем диссекторе животных, с которым она провела медовый месяц среди этого полчища крылатых, чешуйчатых и пушистых соседей в графстве Эрл. Но в браке они оба были счастливы. Казалось, они восхищались талантами и достоинствами друг друга. Резкий и вспыльчивый Джон с Анной был мягким и нежным; немногие в его окружении удостаивались такого отношения. Она была хорошо образованной девушкой, увлекающейся литературой и музыкой; у нее было много друзей, разделявших ее интересы; она обладала большим талантом к сочинительству поэм: одно из ее стихотворений было положено на музыку самим Джозефом Гайдном. Она относилась к тем дамам, которых называли «синими чулками» в те дни, когда образованные женщины начали заниматься литературой вместо бесконечных карточных игр, за которыми убивало время большинство людей их класса.
За три года до свадьбы Джон Хантер арендовал дом своего брата на улице Джермин. После проведенного за городом в графстве Эрл медового месяца пара поселилась в городском доме, который одновременно был местом частной практики Хантера. Позже, в 1783 году, с улицы Джермин они переехали на площадь Лестер, продолжая пользоваться поместьем в графстве Эрл.
У Хантеров было четверо детей, родившихся друг за другом в первые четыре года их совместной жизни, и в конечном итоге они создали семью, считавшуюся огромной даже по тем временам. Уильям Клифт, который был личным секретарем Джона в последние годы его жизни, составил список имен всех из почти пятидесяти членов клана Хантеров, включая тех, кто выполнял домашнюю работу, и тех, кто занимался животными и принимал участие в экспериментальных исследованиях. Издержки на домашнее хозяйство, расходы, связанные с лабораторией и научными изысканиями в графстве Эрл, а также склонность Джона Хантера тратить все имеющиеся средства на свои коллекции приводили к постоянному недостатку денег. Наличности всегда не хватало.
Большая часть его заработка уходила на покупку образцов для музея, который он организовал в доме на площади Лестер. К моменту смерти в 1793 году он стал ведущим авторитетом мирового уровня в области сравнительной анатомии и известным коллекционером, которому натуралисты несли все редкие образцы, попадавшие в их руки. Он проводил вскрытие животных и включал их в свое собрание. Количество экспонатов его коллекции приближалось к четырнадцати тысячам. Он составил десять рукописных томов с их описанием. В целом на свой музей он потратил около 70 000 фунтов стерлингов: по тем временам монументальная сумма, а в наши дни – просто неисчислимая. Хотя в лучшие годы хирургическая практика приносила ему годовой доход 6000 фунтов стерлингов, каждый лишний пенни уходил на его исследования и музей. Имущества, оставшегося после его смерти, едва хватило, чтобы выплатить все его долги.
Но в 1765 году все это только начиналось. Обширный ряд экспериментов был в стадии разработки, а один из них был произведен над самим исследователем. В феврале 1766 года Хантер повредил ахиллово сухожилие левой ноги. Предположительно, это случилось во время танца темпераментного хирурга, но так как происшествие, согласно его учетной записи, приключилось в четыре часа утра «во время прыжков на пальцах ног, без опоры пятками на пол», возможно, он просто прыгал на месте, чтобы размяться и разогнать кровь после долгого сидения за описанием эксперимента. В любом случае, эта история характеризует способность Хантера использовать каждую появившуюся возможность для научных наблюдений. В дополнение к записям о том, как заживало его разорванное сухожилие, он занялся изучением повреждений ахиллова сухожилия в целом, делая надрезы на лапах собак через крошечное отверстие размером с игольное ушко в коже. Затем он убивал их с разными интервалами, и таким образом Хантер впервые продемонстрировал, что сухожилия восстанавливаются так же, как и кости, посредством прочной рубцовой субстанции, которая образуется в организме для надежного соединения разрезанных концов.
В 1767 году Хантера избрали членом Королевского общества; по всей видимости, эту честь ему оказали скорее в качестве аванса за будущие успехи, чем за какое-то конкретное достижение, поскольку это произошло за пять лет до того, как он опубликовал законченную работу в журнале, публикующем труды ученых этой организации. Его брат Уильям, на десятилетие старше и на десять лет дольше живший в Лондоне, был избран лишь нескольких месяцев спустя.
По мере того как Джон Хантер становился все более известным, спрос на его услуги хирурга и консультанта быстро увеличивался. Его рабочий день становился все длиннее. Он начинал делать вскрытия до шести утра и заканчивал к завтраку в девять. До полудня он принимал пациентов в своем доме, после чего отправлялся на вызовы по домам и в больницу, где при необходимости проводил хирургические операции. Обедал он в четыре, после чего ложился вздремнуть в течение часа. Вечера он проводил, диктуя секретарю результаты своих исследований или за подготовкой и чтением лекций. В полночь, когда семья ложилась спать, дворецкий приносил свежую лампу, чтобы его хозяин мог продолжать работать еще несколько часов. Это описание вызывает в памяти слова английского эссеиста Уильяма Хэзлитта: «Гениальные люди не потому преуспевают в какой-либо профессии, что старательно трудятся на выбранном поприще, а они упорно работают, потому что преуспевают».
В том же году, когда Хантер был избран в Королевское общество, он провел на себе эксперимент, ставший одним из самых известных за всю историю науки: он привил себе две венерические болезни в попытке доказать, что сифилис и гонорея являются двумя отдельными проявлениями одного и того же «токсина» (некоторые ученые ставят под сомнение факт, что сам Хантер был тем анонимным субъектом, о котором он писал в своих работах, хотя считается, что это был именно автоэксперимент). Эту историю пересказывали и перевирали так много раз, что те, кто кроме этого мало что знает о Хантере, помнят его как бескорыстного человека, который заразил себя гонореей и сифилисом во имя науки, проведя следующие три года за анализом своих выделений и язв.
Последовательность событий описана в книге, опубликованной Хантером в 1786 году под названием «Трактат о венерических заболеваниях». В мае 1767 года он окунул ланцет в гонорейный гной и заразил себя, проколов крайнюю плоть и головку своего пениса. Симптомы гонореи развились быстро, а затем появились проявления сифилиса. Области, пораженные на ранней стадии заболевания, он лечил прижиганием и локальным химическим ожогом. Для избавления от более поздних симптомов он прикладывал на поврежденные участки ртуть, как было принято в то время. Эти методы лечения часто были эффективными. Фактически ртуть работала так хорошо, что она в различных формах оставалась основным лекарством от сифилиса даже после того, как Пауль Эрлих представил миру «волшебную пулю» сальварсан в 1910 году. До широкомасштабного использования пенициллина ближе к середине нынешнего столетия каждому студенту-медику, размышлявшему о сомнительном свидании, приходилось принимать во внимание хорошо известную максиму, что ночь с Венерой (Venus) может привести к году с Меркурием (Mercury – ртуть).
Поскольку в результате своего автоэксперимента Хантер заразился и гонореей, и сифилисом, возросла его убежденность в том, что это лишь разные проявления одной болезни, сопровождающейся различными поражениями разных тканей тела. Источником его ошибки был загрязненный инструмент, с помощью которого он инфицировал себя. Он неосознанно привил себе обе болезни сразу. Хотя главный вывод был ошибочным, эксперимент Хантера, безусловно, был научным успехом. На протяжении трех лет он внимательно наблюдал за проявлением возобновляющихся симптомов и сделал первое подробное описание клинического течения венерических заболеваний. Несколько десятилетий после публикации работы Хантера его метод изучения эволюции патологического процесса в человеческом теле служил примером для многих ученых. Естественно, никто не знал, что сам Хантер был объектом эксперимента, но легионы читателей, прочитав его сочинение (еще при жизни автора вышло второе издание книги и были сделаны ее переводы на многие языки), поняли, что лучший способ исследования хронических заболеваний состоит в непрерывном наблюдении за одним пациентом с момента заражения до окончания процесса.
Сифилис во многих отношениях является показательной болезнью для исследования. Поскольку эта инфекция поражает каждую ткань тела, появляется возможность наблюдать, как реагируют отдельные органы на патогенный агент. Это новая, крайне важная парадигма, суть которой состоит в том, что процесс воспаления, с одной стороны, вредит жертве болезни, а с другой – является механизмом излечения.
Воспаление – это процесс, с помощью которого организм реагирует на травму. Когда живая ткань повреждается вследствие воздействия микробов, химических веществ или раны, она защищается набором реакций в месте нанесения ущерба. В общем случае сама травма инициирует последовательность различных стадий, первая из которых начинается с определенных изменений в микроскопических сосудах на этом участке, приводящих к излиянию белков плазмы, форменных элементов и других составляющих крови, либо их просачиванию через стенки сосудов, либо капилляры, артерии и вены оказываются фактически разорванными травмирующим агентом. В этих составляющих крови, общее название которых – воспалительный экссудат, можно найти все элементы, необходимые для процесса исцеления.
Задача воспалительного экссудата – уничтожить патогенного агента, ограничить его распространение и нейтрализовать последствия его воздействия. Если эта контратака проходит успешно, разрушительная сила интервента быстро иссякает, и процесс воспаления переходит в стадию восстановления поврежденной ткани. Если же тело не способно адекватно бороться с врагом на начальном этапе, пораженная область увеличивается, и воспаление усиливается, переходя в стадию открытой формы болезни, которая может оставаться относительно локализованной, например в случае язвы или ожога, или может приобретать генерализованный характер путем распространения через смежные ткани и кровоток, а также появлением многих других инфекционных синдромов.
Совершенно очевидно для всех, кто когда-либо получал незначительную травму или испытывал на себе какое-либо заболевание, что само воспаление сопровождается рядом симптомов, которые становятся признаками той или иной болезни. Классическим свидетельством наличия воспаления является квартет, известный еще со времен Гиппократа: rubor, calor, dolor и tumor, то есть покраснение, повышение температуры, боль и опухоль. Таким образом, сами симптомы, которые нас так огорчают, когда мы болеем, могут говорить о том, что наши тела борются против вредоносных сил. С другой стороны, они могут быть свидетельством совершенно противоположного процесса: иногда функционирование всех структур тела нарушается; в таких случаях воспаление выходит из-под контроля и становится частью атаки противника. Неуправляемое воспаление в сочетании с непреодолимым ущербом здоровью от болезни приводит к смерти. Многие из самых опасных заболеваний убивают воспалительной реакцией, которую они вызывают в организме своего хозяина. К ним относятся туберкулез и сифилис – две болезни, многие века прорежающие ряды человечества.
До Джона Хантера никто никогда не проводил серьезных исследований процесса воспаления. Подлинным триумфом его жизни можно считать не только создание труда, в котором он изложил основополагающие принципы этого явления, но и тот факт, что своим примером он заставил последующие поколения медиков признать фундаментальное значение понимания болезни. Результатом исследований ученого стал «Трактат о крови, воспалении и огнестрельных ранениях», опубликованный уже после его смерти. Эта книга, как и все его работы, отличается скрупулезным вниманием к самым мелким деталям. Его наблюдения за эволюцией сифилиса можно рассматривать как прелюдию к изучению роли воспалительного процесса во всех болезнях.
Хотя в трактате речь идет о травме и восстановлении, автор использовал термин «воспаление» для описания прежде всего тех элементов процесса, посредством которых происходило исцеление больного органа: в качестве примера он использовал случай со своим ахилловым сухожилием, расширив данный опыт до универсального принципа. Поскольку хирургическая операция представляет собой в значительной степени запланированную, контролируемую травму, успех которой зависит от прогнозируемой картины исцеления, фундаментальный характер такого исследования является очевидным. Трактат Хантера, как и его исследования сифилиса, стал основой дальнейших научных изысканий на протяжении всего девятнадцатого века. До сегодняшнего дня по всему миру разрабатываются самые изощренные методы современных технологий для продолжения изучения воспалительного процесса, которые были начаты Джоном Хантером более двухсот лет назад.
Оба трактата – о венерической болезни и воспалении – стали образцами клинико-патологического описания и исследований в области физиологии, соответственно. Именно посредством этих публикаций Джон Хантер трансформировал ранее механическое искусство хирургии в область научной медицины. Теперь хирурги интересовались проблемами функционирования человеческого тела так же, как и их собратья-терапевты. Отныне специалисты в хирургии не ограничивались изучением оперативных техник. Впервые они обратили внимание на то, как организм реагирует на различные формы заболеваний. Они стали физиологами и патологоанатомами и, таким образом, действительно достойными членами армии целителей.
Для описания этих исследований Хантеру пришлось превзойти самого себя, чтобы преодолеть невнятность своей манеры изъясняться. Он так и не научился выражать свои мысли на печатной странице яснее, чем на кафедре. Его инновационный подход к пунктуации также не способствовал улучшению ситуации: филадельфийский хирург девятнадцатого века Самуэль Гросс называл его синтаксис отвратительным. Так недостаточно грамотный Джон Хантер объяснял, что воспаление играет положительную роль для организма, но иногда может стать серьезной проблемой:
Воспаление следует рассматривать только как болезненное состояние какой-то области, требующее нового, благотворного воздействия для восстановления до того состояния, в котором возможно естественное функционирование: при таком взгляде на предмет, следовательно, воспаление само по себе не следует рассматривать как болезнь, но как целебную процедуру, проводимую вследствие какого-то нарушения или какой-то болезни. Но эта же процедура может оказать другое воздействие и делает это; часто распространяясь дальше, даже в здоровые области, производя совсем другой эффект и приобретая форму, совершенно отличную от первой; вместо усиления и захвата органа под контроль выделяет и выталкивает его: этот процесс называется нагноением, и его развитие зависит от обстоятельств. Однако даже при захвате здоровых органов оно приводит к излечению, хотя восстановление происходит иначе или является побочным эффектом; при болезни, где оно может оказать влияние на неправильное функционирование, оно также приводит к излечению; но там, где оно не может выполнить свою живительную миссию, при раке, золотухе, венерических заболеваниях и т. д., оно наносит ущерб организму.
Экспериментальные исследования, описанные в «Трактате о крови, воспалении и огнестрельных ранениях», а не язык изложения, заслужили восхищение Филдинга Гаррисона. Уже при первом знакомстве с книгой читателю открывается образец индуктивного и дедуктивного методов рассуждения автора: проведенные им эксперименты и наблюдения позволили ему определить общие физиологические принципы воспалительного процесса, отталкиваясь от которых он затем посредством дедукции возвращается к разъяснению специфики отдельных заболеваний, таких как остеомиелит, перитонит и флебит.
Хантер никогда не читал Фрэнсиса Бэкона и, похоже, ничего не знал о его работе. По-видимому, он самостоятельно пришел к методу индуктивного рассуждения. Несмотря на это, он применил логику Бэкона в хирургии и тем самым внедрил хирургию в логическую схему науки. В своем эссе «Наблюдения за пищеварением» Хантер писал о прочных связях, связывающих великие истины и великих искателей истины во всех поколениях. Сравните следующие слова Хантера с цитатой Бэкона, помещенной в начало этой главы. Если не акцентировать внимание на пунктуации и некотором многословии, легко заметить, что хирург выражает ту же мысль, что и его предшественник, хотя и не так изящно:
Следует помнить, что ничто в природе не существует само по себе; что каждое искусство и наука соотносятся с другими искусствами или науками, а поскольку они взаимосвязаны, их тоже необходимо знать, чтобы достичь совершенства в области, завладевшей нашим особым вниманием.
Некоторые из экспериментов Джона Хантера стали частью легендарных тайных знаний медицины. Среди них его исследования в области трансплантации тканей, о которых он говорил: «Самая необычная ситуация, если говорить о теле, это удаление какой-то части из одного организма и объединение его с какой-то другой частью другого… Возможность такого вида соединения показывает, насколько велика должна быть объединяющая сила. Благодаря ей можно заставить шпоры молодого петуха расти на его гребешке или на гребешке другого петуха; а его яички можно извлечь и поместить во внутреннюю полость любого животного. Удаленные зубы можно вставить в челюсти другого человека. Эта операция называется трансплантацией». Результат одного эксперимента Хантера, когда он пересадил человеческий зуб в центр гребня петуха, можно увидеть сегодня в музее Хантера Королевской коллегии хирургов на площади Линкольнс-Инн-Филдс в Лондоне.
Другим классическим экспериментом он продемонстрировал принцип развития коллатерального кровотока. Когда пропускная способность крупной артерии нарушена, из точки, расположенной выше препятствия, образуются мелкие сосуды для переноса крови за пределами этой точки, так что ткани, которые снабжались кровью, поставляемой по этой артерии, продолжают получать некоторое питание, хотя меньшее, чем при отсутствии затора на пути основного кровотока. Эти каналы меньшего размера называются коллатеральными сосудами, и они спасли множество органов и конечностей от гангрены при поражении крупной артерии артериосклерозом. Джон Хантер первым продемонстрировал наличие коллатеральных сосудов с помощью следующего эксперимента.
Он попросил, чтобы для него поймали в лондонском Ричмонд-парке молодого оленя. Пока несколько человек удерживали его неподвижно, он перекрыл ему сонную артерию – крупный кровеносный сосуд – на одной стороне шеи, перевязав ее плотной нитью. Как и ожидалось, пульс на этой части бархатистых пантов немедленно исчез, и они стали холодными. В течение нескольких дней отмечалось замедление роста ответвлений рогов с этой стороны, тогда как противоположная половина оставалась теплой и здоровой. Но не прошло и двух недель, как поврежденная часть рогов снова потеплела, и возобновился их рост. После убийства животного и инъекции окрашенной жидкости в сонную артерию Хантер определил, что циркуляция крови восстановилась посредством развития коллатеральных сосудов; позже на базе этого открытия он разработал операцию, с помощью которой спас ноги и, возможно, жизни нескольким пациентам с аневризмой или утолщением стенки артерии.
Поскольку в наши дни уделяется много внимания вопросам, связанным с различными формами искусственного оплодотворения человека, отмечу немаловажный факт, что первый успешный опыт в этой области был сделан Джоном Хантером. В 1776 году за консультацией к нему обратился мужчина, страдающий от гипоспадии – врожденной деформации пениса, не позволявшей им с женой зачать ребенка естественным образом. Используя подогретый шприц, Хантер ввел эякулят мужа, полученный путем мастурбации, в шейку матки женщины. Результатом, если использование этого слова допустимо в данном контексте, операции было успешное оплодотворение. Таким образом, первая в мире попытка реализации идеи демократии в масштабе целой страны и первое искусственное зачатие ребенка осуществились в одном и том же году.
В стоматологии, похоже, Джон Хантер достиг такого же значительного прогресса, как в хирургии, написав две книги о зубах, многократно переизданных и переведенных на многие иностранные языки. В то время, когда они были опубликованы, престиж стоматологов был на одном уровне с репутацией странствующих костоправов, среди которых часто встречались малограмотные ремесленники, освоившие несколько трюков. Методы удаления зубов были грубыми, а остальная часть стоматологической работы предполагала создание искусственных зубов из костей разнообразного происхождения и дерева, а также примитивных попыток заполнить полости, образовавшиеся в результате разрушения. Большинство практикующих были ненамного лучше шарлатанов, не имеющих специального образования. Большое значение имел сам факт, что хирург такого масштаба, как Джон Хантер, обратил свое внимание на проблемы, связанные с ротовой полостью. Структура и развитие челюстей, их мышц и движения, постоянные зубы и процесс их кальцификации были очень подробно описаны в его книгах. Анатомическая классификация, используемая сегодня, впервые была предложена в его работе. Каждый раз, когда ваш дантист упоминает клык, премоляр, моляр или резец, он использует терминологию, введенную Хантером. Среди прочих заболеваний он лечил воспаления десен и костей, периодонтит, невралгию тройничного нерва и слюннокаменную болезнь. Он первым указал на необходимость удаления зубного камня до того, как он вызовет раздражение, рецессию десен и заболевание зубных альвеол.
Иногда в результате исследований природы и животных в жизни Хантера происходили захватывающие приключения или комедии, на грани фарса. В качестве иллюстрации этих слов можно привести эпизод, произошедший в его зверинце в графстве Эрл. Однажды вечером, услышав за окном неистовый испуганный лай и громкие визги, он выбежал во двор и обнаружил своих собак в состоянии панического ужаса. Собаки загнали в угол двух плененных леопардов, сорвавшихся с цепи, которые, оскалившись, издавали низкое раскатистое рычание, готовясь к смертоносному прыжку. Импульсивный, как обычно, Хантер бросился между кошками и их добычей, схватил за загривки по леопарду в каждую руку и потащил ревущих зверей назад в их клетки. Защелкнув замок, он осознал, что сделал, и рухнул на землю в глубоком обмороке.
В других случаях, надо признать, исследовательская работа неугомонного ученого провоцировала ситуации, полные интриги или даже бездумного обмана. История об ирландском гиганте Чарльзе Бирне (известном также под именем O’Брейн) имеет две версии, даже когда она звучит из уст рассказчиков, забывших имена главных героев и события, на фоне которых разворачивалась эта конспирологическая повесть. Сага о Бирне – это рассказ о похищении тела. Более того, этот случай олицетворяет собой методы, которые до недавнего времени использовали лучшие ученые-медики для изучения устройства человеческого тела.
Итак, вернемся к самой истории. Первый вариант, наиболее распространенный, впервые рассказал Дрюри Оттли в жизнеописании Джона Хантера в 1835 году. Второй – менее известный, но, вероятно, более достоверный, поскольку его автором был Джон Клифт, личный секретарь Хантера в последние годы жизни ученого. Далее следует повествование о происшествии в изложении Клифта.
Чарльз Бирн родился в 1761 году у родителей среднего роста, живших в маленькой деревне Литтлбридж у границы между уездами Тирон и Дерри на севере Ирландии. Уже в юношеском возрасте его рост достигал 250 сантиметров. В наши дни такие долговязые молодые люди нанимают себе спортивного тренера, покупают пару кроссовок и отправляются в Мэдисон-сквер-гарден[10]. Но тогда профессиональный баскетбол еще не был изобретен, и длинноногий парень стал демонстрировать себя на ярмарках, в театрах и в других местах, где любопытные сельские жители охотно платили за необычное зрелище. Понимая, какую финансовую выгоду можно получить от более обширной и респектабельной аудитории, предприимчивый парень из соседней деревни Коук – некий Джо Вэнс – стал агентом Бирна. Он выбрал для своего клиента, не обладающего изобретательностью мелкого деревенского деляги, звездный псевдоним Ирландский Гигант, и они отправились, естественно, в Лондон, чтобы сделать состояние на поприще шоу-бизнеса. Импресарио и его потенциальная звезда прибыли в большой город 2 апреля 1782 года, а две недели спустя разместили в лондонской газете такое объявление:
Ирландский гигант. Можно увидеть ежедневно на этой неделе, в его большом элегантном номере, в магазине, торгующем тростником, рядом с музеем покойного Кокса, расположенным в Весенних садах. Мистеру Бирну 21 год. Он необыкновенный ирландский гигант, самый высокий человек в мире. Его пребывание в Лондоне будет недолгим, поскольку в ближайшее время он намерен посетить континент… Часы приема с двух до трех и с пяти до восьми, ежедневно, кроме воскресенья, за полкороны с каждого человека.
Сначала все шло хорошо. Но вскоре блестящая монета королевства показала свою оборотную сторону: большой и слишком быстрый заработок погубил наших провинциальных Матта и Джефа[11]. Бирн начал выпивать примерно в то время, когда его удивительные размеры утратили свою новизну для аудитории. Толпа зрителей становилась все меньше, ловкий Вэнс бросил его ради более перспективных юношей, к тому же Бирн стал жертвой бандитов, ограбивших его, когда он напился, как это часто случалось, до бесчувствия. Его легкие, привычные к бодрящей свежести ирландского воздуха, не смогли приспособиться к бедному кислородом, грязному и сырому лондонскому смогу. Проснувшись однажды утром в грязной канаве, кашляя кровью, он понял, что стал жертвой бича городских жителей – туберкулеза.
К июню 1783 года Бирн слег. Джон Хантер, наблюдавший издалека за развитием событий, жаждал получить его скелет и отправил своего человека, Ховисона, следить за передвижениями ирландского гиганта в надежде наложить лапу на тело несчастного незамедлительно после его смерти. Ховисон был похож на своего хозяина: без тени смущения он открыто преследовал свою добычу. Вскоре Бирн узнал, что его труп собирается анатомировать известный хирург, и мысль об этом вызвала в нем неизбывное чувство ужаса. Собрав остаток сбережений, он заплатил нескольким своим ирландским друзьям, чтобы они увезли его останки подальше к Северному морю и утопили их в огромном свинцовом гробу.
Хантер узнал имя человека, выбранного Бирном для подготовки захоронения в воде его тела, и предпринял попытку подкупить его, чтобы получить труп и как можно скорее провести его вскрытие. Ни один ученый не имел более подходящей своему характеру фамилии. Хантер и распорядитель похорон встретились в пивной, где тут же начали торговаться. К сожалению, для кошелька страстного коллекционера ученый был хорошо известен своей готовностью платить большие деньги за ценные биологические трофеи, будь то человек или животное. Его первое предложение в пятьдесят фунтов было отклонено. Каждый раз, когда он поднимал ставку, гробовщик поспешно предлагал новую цену, заручившись поддержкой своих друзей, собравшихся вокруг. Чувствуя горячую заинтересованность, которую Хантер не мог скрыть, они увеличивали цену все больше и больше. Наконец, было достигнуто соглашение на сумме пятьсот фунтов, так что постоянно испытывающему недостаток наличности хирургу пришлось уйти, чтобы занять деньги.
Когда через несколько дней Бирн умер, уверенный, что его бренные останки скоро будут благополучно переданы Нептуну, подкупленный распорядитель похорон добровольно вызвался сопровождать труп к его морскому мавзолею. Клифт оставил красочное описание атмосферы, в которой в тот же день в начале июня кортеж отправился к северу от Лондона к месту захоронения, маленькой набережной: «Дорога была длинная, погода жаркая, несли тяжелый гроб и провожали Бирна в последний путь ирландцы. Они бодрым шагом шли довольно долго и остановились выпить у гостиницы вдали от города».
Подойдя к постоялому двору, они обнаружили, что входная дверь слишком узка, чтобы внести гроб внутрь. Гробовщик предложил запереть громоздкий ящик в стоящем рядом амбаре. Ключ на сохранение отдали предводителю охранников, и вся пьяная компания скорбящих скрылась за дверями таверны. Нанятые Бирном для защиты его тела охранники не подозревали, что весь этот сценарий был заранее разработан распорядителем похорон, помощники которого с инструментами прятались за грудой соломы в сарае. Чтобы отвинтить крышку гроба, вынуть тело и заполнить освободившееся место камнями, понадобилось меньше времени, чем требуется шайке современной шпаны для снятия колес с припаркованной машины в Нью-Йорке. После отдыха похоронная процессия вернулась и, забрав гроб из амбара, возобновила свое ошеломляющее путешествие к морю. Как только они исчезли из поля зрения, труп Чарльза Бирна был надлежащим образом упакован и погружен на повозку для возвращения в Лондон.
В глухой ночи беглый катафалк ирландского гиганта остановился рядом с модным частным экипажем. Из-за края слегка сдвинутой занавески нетерпеливо выглядывал великий сценарист этой шпионской пьесы. Через несколько минут Бирна перенесли в его повозку, и Хантер, взгромоздившись на сиденье рядом со своим огромным и теперь довольно твердым пассажиром, с грохотом и бряцаньем отправился в дорогу домой в графство Эрл. Опасаясь разоблачения, он немедленно разрезал труп, сварил его в специально построенном для таких целей чане, отделил плоть и собрал скелет. В последующие годы многие посетители будут отмечать необычный коричневый цвет костей, не подозревая, что эта тонировка появилась благодаря ускоренному процессу кипячения.
Историю об ирландском великане обычно рассказывают (и я описал ее в таком же ключе) как один из забавных и несколько жутковатых анекдотов, которые печатают мелким шрифтом на страницах истории медицины. Комизм этого происшествия, по сути, состоит в невероятно мрачных подробностях похищения трупа исполненной ужаса жертвы, которые разительно контрастируют с хладнокровием доктора, с героическим бесстрастием делавшего свою исследовательскую работу. Современные врачи и далекие от медицины люди смотрят на этот случай, как на шалость с гробами и скелетами во время Хэллоуина, не имеющую ничего общего с их обычной жизнью и не способную повредить общепринятому гуманистическому имиджу врачей или банальному чувству защищенности людей от ужасных мародеров, охотящихся за их телами. Взгляд на эту историю с другой стороны заставит как врачей, так и их пациентов вспомнить неприятную истину, состоящую в том, что до относительно недавнего времени многие исследователи, пользуясь своей ролью ученого, считали себя выше не только земных законов, но и фундаментальных норм морали, регулирующих отношения между людьми. Чем более целеустремленным был медик-экспериментатор, тем более ревностно он стремился раскрыть тайны природы и тем больше был склонен нарушать, сознательно или нет, права ее творений.
Для такого рьяного ученого, каким был герой этой главы, ирландский гигант был не человеком, а лишь одним из образцов «исследовательского материала», на сбор которого он направил всю свою энергию. Для следующего поколения его учеников, которые будут рассказывать и записывать историю Бирна, цель предпринятой Хантером кампании оправдывала его средства. И если они были несколько предосудительны, что ж, так тому и быть. В конце концов, он был великим Джоном Хантером, и его методам скорее можно позавидовать, нежели подвергать их критике. Его независимость от ограничивающих правил общества и отсутствие собственных комплексов делали знаменитого хирурга в глазах многих идеальным ученым и врачом. Но уже в следующем столетии после смерти Хантера отношение к истории Чарльза Бирна изменилось. В далеких от медицины людях поступок исследователя вызывал ужас и негодование; оценка представителей медицинских профессий была амбивалентной. С одной стороны, похоже, не было возможности добыть научную информацию определенного рода иначе, чем обойти обычные общественные запреты; с другой, требовалось некоторое бессердечие и высокомерие или, по крайней мере, притупление нравственного чувства, чтобы использовать ничего не подозревавших пациентов в качестве подопытных животных, а их мертвые тела – в качестве анатомических препаратов.
В девятнадцатом веке все большее распространение получали идеи милосердия и гуманизма, а протесты людей становились все громче, и решение проблемы было найдено. Когда сэр Эстли Купер, один из лучших учеников Хантера, предстал перед парламентским комитетом по расследованиям в 1828 году и сообщил его членам, что среди них нет ни одного, чей труп он не смог бы получить с помощью расхитителей могил на следующий день после их смерти, стало ясно, что настала пора действовать. В Великобритании и других странах были разработаны законы, регламентирующие правоотношения в области анатомии, обеспечивающие способы передачи врачам трупов частными лицами или гражданскими властями. Атмосфера сотрудничества между профессиональным медицинским сообществом и другими людьми постепенно улучшилась, поскольку все начали проявлять большее понимание проблем друг друга и общих задач в деле улучшения здоровья последующих поколений. Хотя случаи злоупотребления со стороны ученых-медиков (особенно против меньшинств и бедноты) встречались вплоть до нашего столетия, скандальных вопиющих происшествий становилось все меньше. В конечном итоге сформировался этический кодекс поведения, отражающий заботу исследователей о благополучии и правах тех, кого они изучали. Сегодня медики могут гордиться своей профессией, поскольку члены современных комитетов по расследованию нарушений прав человека являются самыми непреклонными защитниками прав и достоинства пациентов, которые так свободно нарушались их предками во имя науки сто лет назад.
На протяжении длительного периода плодотворных научных изысканий частная практика Джона Хантера также успешно развивалась. Начиная с 1775 года, когда он начал зарабатывать более тысячи фунтов, она достигла уровня, позволявшего ему более свободно расходовать средства на покупку любых образцов и необходимых для работы технических приспособлений. Его практика расширилась еще больше после того, как в 1776 году он был назначен главным хирургом короля. После смерти Персиваля Потта в 1788 году Хантер был признан первым хирургом Великобритании. Он занимал пост главного армейского хирурга и одновременно был генеральным инспектором полковых больниц, что приносило дополнительный доход, но отнимало много времени и сил.
Несмотря на успешную практику, Хантера никогда не привлекала однообразная работа, связанная с лечением пациентов. Он без колебаний отправлялся куда угодно, чтобы исследовать интересный случай или оказать помощь в решении сложных проблем в управлении клиникой, но его раздражала необходимость исполнения повседневных рутинных обязанностей. Пренебрегая правилами вежливости, он часто не скрывал своего недовольства, когда многочисленные состоятельные лондонцы приходили к нему с пустяковыми жалобами. Он считал свою огромную практику, ежедневно отнимавшую массу времени, лишь источником средств на исследовательскую работу, и всегда вел себя соответственно. Однажды он сказал своему ученику Уильяму Линну, когда собирался отправиться по вызовам на дом: «Что ж, Линн, я должен пойти и заработать эту проклятую гинею или завтра мне наверняка ее не хватит». Тем не менее он иногда отказывался от платы, если пациент был слишком бедным или лечение, по его мнению, оказывалось бесполезным.
Хантер, как и все хорошие хирурги, считал главным навыком целителя составлять собственное суждение, особенно если речь шла о назначении операции, когда консервативные меры не приводили к желаемому результату. В ту эпоху, до открытия антисептиков и анестезии, такая философия была не только разумной, но и необходимой, хотя многие считали иначе. Однажды он сравнил практикующего врача, прибегающего без необходимости к хирургической операции, с «вооруженным дикарем, который пытается получить силой то, что цивилизованный человек добивается хитростью».
Когда в 1783 году Хантер и его семья переехали в дом 28 на площади Лестер, его доход от практики достиг пяти тысяч фунтов в год и продолжал увеличиваться. У него было достаточно денег, чтобы переделать новое жилище таким образом, чтобы обеспечить себе необходимое пространство и для жизни, и для работы. На это потребовалось два года и шесть тысяч фунтов, но он считал, что не зря потратил столько денег, хотя с тех пор доходы ученого больше никогда не превышали его расходов. К роскошному главному зданию примыкал музей, помещение площадью шестнадцать на восемь с половиной квадратных метров, окруженное галереей, со сделанной из стекла крышей. Из музея стеклянная дверь высотой более трех с половиной метров вела в Большой салон – красиво обставленную комнату площадью тридцать с половиной на пятнадцать квадратных метров, украшенную ценными живописными полотнами. Другая дверь отделяла салон от полукруглого лекционного театра: на стенах по всему периметру были устроены полки с размещенными на них образцами, которые Хантер использовал в качестве иллюстраций на своих лекциях. Рядом с лекционным залом располагалась гостиная для встреч. За всеми этими постройками скрывался внутренний двор, часть которого накрывал стеклянный навес. Пройдя через двор, можно было попасть в заднюю часть другого здания на соседней улице Касл-стрит, также принадлежавшее Хантеру, где он занимался с учениками, и здесь же располагались офисы, включая тот, где он готовил к публикации свои монографии и книги. В целом это было большое имение, объединяющее три здания.
Убедив Джона Хантера позировать для сэра Джошуа Рейнольдса, Уильям Шарп сделал эту гравюру с готового портрета. Великий натуралист в окружении своих реликвий. (Предоставлено профессором Томасом Форбсом.)
Несмотря на то что Хантер был ужасным лектором, он был непревзойденным преподавателем для своих частных учеников. Быть рядом с ним ежедневно, видеть, как он решает сложные клинические проблемы, помогать ему в экспериментах и следить за ходом мысли ученого в процессе его грандиозной работы, – невозможно представить лучшего способа изучения медицины как искусства и как науки. Каждый ученик платил по пятьсот гиней и перенимал знания и опыт своего учителя на протяжении пяти лет. Самыми удачливыми были те, кто имел привилегию жить в его доме вместе с его семьей. Они получали возможность лучше узнать своего мэтра и в полной мере осознать, что перед ними оракул будущей науки. Они научились правильно интерпретировать его слова и улавливать суть его учения, понимая его истинность.
На площади Лестер нередко можно было встретить известных людей: на нее выходил фасад дома Исаака Ньютона, расположенного на улице Святого Мартина, а в 1733 году здесь поселился Уильям Хогарт со своей новой невестой. Когда Джон и Энн Хантер покупали там недвижимость, им было известно, что их соседом будет Джошуа Рейнольдс, живший в сорок седьмом доме с 1760 года. Обосновавшись на противоположной стороне площади, Хантеры подружились с сэром Джошуа и его сестрой, тем более что Энн была увлечена искусством.
Коллеги и, несомненно, сам Рейнольдс часто уговаривали Хантера позировать для портрета, но он всегда отказывался. В конце концов, по настоянию другого друга, гравера Уильяма Шарпа, он согласился пройти через эту неприятную процедуру. Нетерпеливый, беспокойный и не желающий терять впустую ни одной секунды, он был, безусловно, ужасным натурщиком. Потребовалось немало мучений и жалоб, и, наконец, работа, казалось, близилась к завершению. Но однажды в полдень, как раз в тот момент, когда Рейнольдс отказался от мысли создать действительно хороший портрет, произошло нечто удивительное. На несколько минут Хантер, казалось, забыл, где он находится, глубоко задумавшись о чем-то, как будто он мысленно вел беседу с источником своего гения, прислушиваясь к «шепоту Вселенной». Не нарушая тишины этого волшебного момента, Рейнольдс перевернул почти законченный портрет вверх ногами и сделал новый набросок лица Хантера между ногами уже сделанного изображения. Он делал эскизы по всей картине. В следующем году на выставке Королевской академии искусств эти зарисовки получили наивысшую оценку специалистов.
На портрете Хантер окружен реликвиями, которые он собирал всю жизнь. Среди них препарат системы кровеносных сосудов легких, открытый фолиант его рукописи, посвященной, пользуясь авторской формулировкой, «градационным рядам» сравнительной анатомии, и нижние конечности коричневого скелета Чарльза Бирна. Каждый год по случаю очередной речи в честь Хантера над оратором вешают этот портрет. Взирающий с полотна на собравшихся в зале коллег-хирургов, погруженный в мысли среди своих самых ценных экспонатов, Джон Хантер красноречивее любого из приглашенных когда-либо профессоров.
В 1785 году, когда ему исполнилось пятьдесят семь лет, у Хантера появились эпизодические боли в груди: сначала только в моменты физического напряжения, позже – без всякого видимого повода. Как всегда, он воспользовался своим недомоганием, чтобы в зеркале многократно пронаблюдать на собственном лице выражение боли и страха, сопровождающие приступы стенокардии. Постепенно он привык избегать физической активности и быстрого подъема по лестнице, вызывавших спазмы, но на этом этапе жизни он не мог контролировать бурный поток своих мыслей и обрести безмятежное расположение духа. Все ученики и близкие друзья Хантера обожали его за доброту, но были пять человек, ненавидевших каждую клетку его существа. Среди многих, кому он оказывал поддержку в жизни из самых искренних побуждений, были и такие, кого он жестоко оскорблял. Хантер всегда с презрением относился к бездарным людям и яростно бросался в атаку, когда такие посредственности не соглашались с его точкой зрения. Дело не столько в том, что он был не способен благосклонно терпеть дураков, – он вообще не мог их выносить.
К сожалению, теперь кельтские эмоции Хантера рождались в сердце, которое плохо питалось склерозированными коронарными артериями. В моменты стресса его не получающая достаточного количества крови мышца кричала, предупреждая об опасности, о которой он всегда забывал, позволяя в очередной раз своему гневу взять над собой верх. Он понимал, что рискует, но не желал избегать конфронтации в целях профилактики. К его шестьдесят пятому дню рождения стенокардия стала для него давним противником, и Джон Хантер знал, что однажды он проиграет ей последнее сражение. Как-то он сказал: «Моя жизнь в руках любого негодяя, который захочет меня разозлить».
Роковое столкновение произошло в зале заседаний больницы Св. Георгия 16 октября 1793 года. Хантер принимал участие в жарких дебатах, вызванных его поддержкой, оказанной двум молодым шотландцам, которые хотели учиться хирургии. Когда после его выступления ему возразил один из его противников, он выбежал в ярости из зала, и его смертельно раненное сердце последний раз вскрикнуло от боли. Без признаков жизни он рухнул в руки врача, который случайно оказался у двери. Дух целителя покинул тело Джона Хантера.
Так умер самый блистательный из хирургов. Вполне логично, что его благодарные земляки по прошествии шестидесяти шести лет забрали его останки из почти забытого склепа в церкви Св. Мартина «в полях» возле Трафальгарской площади и захоронили их на почетном месте в Вестминстерском аббатстве. Также неудивительно, что один из самых ранних сторонников теории эволюции Дарвина – Чарльз Лайель – будет похоронен над его головой, а Бен Джонсон, известный поэт, – у его ног. Там в северном нефе аббатства можно увидеть медную пластину, которая напоминает живущим о том, чем они обязаны Джон Хантеру:
Королевский хирургический колледж Англии поместил эту табличку на могиле Хантера, чтобы выразить восхищение его гением талантливого интерпретатора Божественной мощи и мудрости, посвятившего себя изучению законов органической жизни, и выразить благодарное почтение за его служение человечеству в качестве основателя научной хирургии.
Ни одна из опубликованных биографий или речей, написанных в честь Хантера, не смогла вместить всю огромную массу информации, анекдотов, записей и историй, оставшихся в наследство от Джона Хантера. Даже самые значительные издания, как правило, описывают лишь определенные направления его деятельности, принося в жертву все остальные. Возможно, когда-нибудь в будущем появится жадный до знаний читатель или мыслитель с развитой интуицией, который сосредоточит свои таланты на том, чтобы создать полное жизнеописание великого хирурга. Потребуется особый дар рассказчика, чтобы соткать многоцветный, многофактурный литературный гобелен, отображающий всю панораму его личности. Такой автор должен быть хирургом, натуралистом, психоаналитиком, историком, философом, физиологом, эмбриологом, дантистом, социальным критиком и обладателем тонкой душевной организации.
Ни один другой хирург никогда не оказывал такого влияния на свою профессию, на науку, которой посвятил свою жизнь, и на образ мыслей своих последователей, благодаря которому они смогли внести значительный вклад в развитие хирургии. И все же, по правде говоря, он был гораздо больше натуралистом, чем хирургом. Один из его биографов Уильям Квист писал о нем: «Джон Хантер поклонялся Природе с глубочайшим смирением. Он не просто изучал естествознание, он был его первосвященником». Более того, он оставался маленьким мальчиком, не утратившим дар смотреть на жизнь изумленными глазами ребенка, желающего «все знать об облаках и травах, и почему листья осенью меняют цвет».
8. Без точного диагноза нет адекватного лечения. Рене Лаэннек – изобретатель стетоскопа
Плод исцеления растет на древе понимания. Без диагностики, нет рационального лечения. Прежде всего осмотр, потом составление суждения, а затем можно решать, как помочь.
Карл Герхардт, Вюрцбург, 1873
Завтра день выпускников в моей медицинской школе. Мне нравится думать, что поскольку после ее окончания я остался в Нью-Хейвене, в то время как мои сокурсники разъехались на стажировку по всей стране, то я служу университету незыблемым напоминанием о старых добрых днях – днях наивной юности, оставшихся далеко позади. На самом деле, это не я такой незыблемый, а скорее сам мой образ наводит на мысли о прежних выпускниках. В буйстве ярких воспоминаний, бурлящих подобно игристому вину, каждый выпускник и выпускница остаются вечно молодыми, как будто какой-то деликатный консервант сохранил их всех такими же, какими они были в дни счастливого окончания четырехлетнего профессионального обучения. Когда я приветствую старого однокурсника, я вижу перед собой того же парня, что видел в день окончания в 1955 году, и говорим мы в начале разговора о том же, о чем говорили тогда. Эти первые мгновения каждой новой встречи невозможно переоценить. Они возвращают юность и возрождают оптимизм и решимость, с которыми мы когда-то намеревались победить, почти в буквальном смысле слова, все болезни человечества.
Прежде чем мы, прежние однокурсники, перейдем к обсуждению сегодняшних проблем, нам нужно в полной мере насладиться шутливыми разговорами в стиле «А помнишь то время, когда?..» Даже если не произносить вслух все мысли, навеянные встречами в эти выходные дни, поток вполне характерных воспоминаний захватывает с появлением каждого вновь прибывшего знакомого лица. Наш выпуск был небольшим – всего семьдесят шесть парней и четыре девушки. Мы вместе провели эти насыщенные событиями четыре года, и много чего пережили за это время. Первые два года мы не расставались вообще, а в последние два нас разделяли лишь несколько коридоров. Мы все купили наши первые стетоскопы одновременно.
Теперь мы вспоминаем о том дне, как об одном из самых замечательных в нашей жизни. Церемония приобретения стетоскопов, которые студент из Оклахомы немедленно окрестил слуховыми аппаратами, ознаменовала второй из четырех ритуалов на долгом пути, который последовательно вел нас к моменту, когда мы стали полноправными наследниками Гиппократа. Первым был пугающий момент знакомства с трупом – самый главный момент инициации в священство медицины. Затем, к концу второго курса, нам даровалось право владеть священным значком стетоскопа, который мы приобретали в обмен на семь-восемь долларов в местном медицинском книжном магазине, называемом «Белым магазином» и возглавляемом опекающим студентов торговцем по фамилии Мейеровиц. Шесть месяцев спустя, с чуть меньшим трепетом, чем незабываемый страх при первом вскрытии трупа, мы получали разрешение на осмотр живого пациента. И, наконец, наступал четвертый этап: когда курсы были завершены, экзамены пройдены и баланс счета казначейства обнулялся, мы становились настоящими врачами, по крайней мере, нам выдавался соответствующий сертификат университетом, который готовил медиков на протяжении почти 150 лет и считался государственным лицензирующим органом, без сомнения, вполне компетентным.
Из всех четырех остановок на нашем пути все мы без исключения считали самым значительным событием покупку стетоскопа. Благодаря этому знаку отличия в нас немедленно начинали узнавать врачей. В те дни медсестрам предоставлялась возможность пользоваться этим инструментом для измерения кровяного давления, но никто другой не осмеливался прикоснуться к нему или носить его вокруг шеи, подобно украшению. Он был одновременно и медалью за достижения, и знаком отличия, и символом, обозначающим власть; все мы, в том числе женщины, ассоциировали его с фаллосом врача. Будучи студентами-медиками третьего курса, мы быстро научили наше стетоскопическое «я» вести себя в соответствии с окружающей атмосферой, наполненной одновременно беззаботностью и мудростью. Я не знаю более выразительного проявления современного эгалитаризма в отношении статуса всех профессий, связанных со здравоохранением, как их эвфемистически называют сегодня, чем тот факт, что стетоскоп теперь является исключительной собственностью врача не более, чем белый халат. Никогда у наследников давно умершего Мейеровица не было так много работы, как в наши дни.
Какова бы ни была его функция как символа ранга, стетоскоп был весьма эффективным инструментом в те дни, когда я впервые узнал, как им пользоваться, и остается сегодня не менее результативным, несмотря на МРТ, КТ и другие современные средства диагностики, скрывающиеся за подобными сложными аббревиатурами. Хотя это не более чем устройство для усиления звука в ухе, его изобретение в 1816 году открыло перед врачами новые возможности, и на протяжении более ста лет медики находили все новые способы его применения для обнаружения неуловимых проявлений заболеваний. Легко подпрыгивая в кармане халата врача, он был всегда под рукой, чтобы оказать поддержку в постановке диагноза и неоценимую помощь в демонстрации студентам элементов патологических процессов. Эта глава посвящена его изобретению и его изобретателю.
В Гиппократовом корпусе содержится первое упоминание о том, что полезно прослушивать звуки, исходящие при простукивании различных участков тела. В De Morbis можно найти следующее описание: «К этому моменту вы должны понимать, что в груди есть вода и нет гноя; если на некоторое время сбоку приложить ухо, вы услышите шум, похожий на тот, что издает кипящий уксус». Хлюпанье воздуха и жидкости в грудной клетке, называемое шумом плеска, еще один звук, описанный одним из авторов корпуса Гиппократа, как и «скрип, как у новой кожи», который появляется, когда часть поврежденного легкого трется о внутреннюю часть стенки грудной клетки. В семнадцатом веке Роберт Гук и Уильям Гарвей описали звук биения сердца. И именно Гук предсказал диагностические возможности, которые будут обнаружены в последующие столетия вследствие изучения шумов, производимых внутренними полостями организма. Гук был настолько дальновиден, что предположил, что, возможно, удастся улучшить способность уха оценивать отдельные звуки и различия между ними:
Независимо от того, идет ли речь о животном, растении или минерале, существует возможность определить смещение внутренних частей организма и изменение функций, выполняющихся в некоторых структурах и отделениях тела, по звуку, который они производят, и тем самым обнаружить, что инструмент или двигатель вышли из строя… Еще больший оптимизм внушает тот факт, что у меня есть личный опыт в этом отношении: я отчетливо слышал биение человеческого сердца; нет ничего необычного в звуках, которые издают газы, движущиеся взад и вперед по кишечнику и в некоторых мелких сосудах; воспаление легких легко обнаружить по хрипам; воспаление мозга – по жужжащим и свистящим шумам; вывих суставов во многих случаях сопровождается потрескиванием и тому подобное… По-моему, такого рода изменения отличаются лишь постольку-поскольку, и поэтому для их определения либо эти отклонения требуется увеличить, либо ухо нужно сделать более чувствительным и разборчивым (попробовать приспособить искусственную барабанную перепонку), чем оно есть. Мне кажется это вполне возможным, и во многих случаях такое устройство могло бы быть полезно.
Современный процесс осмотра пациентов приобрел свой нынешний вид благодаря Джованни Морганьи. Его работа неизбежно привела к развитию искусства физического осмотра пациента. В своем трактате De Sedibus Морганьи представил около семисот случаев, в которых симптомы заболеваний были сопоставлены с посмертными описаниями органов, вызвавших происхождение болезненных проявлений. Сегодня, двести лет спустя, может показаться странным, что его выводы стали откровением, которое многие его современники встретили с изумлением, поскольку привыкли объяснять заболевания такими туманными причинами, как вредные ветра, нравственное несовершенство, миазмы и многократно оклеветанный Господь. После недолгого момента удивления наступил продолжительный период, в течение которого основной целью медицинских исследователей был поиск средств выявления патологии органов при жизни больного, что, безусловно, является и задачей современного физического освидетельствования пациента: осмотр, простукивание и прослушивание, позволяющие обнаружить признаки болезни и определить орган ее происхождения. В процессе эволюции этого искусства решающую роль сыграло изобретение первого и самого полезного диагностического прибора – стетоскопа, который стал результатом уникального французского подхода к открытию Морганьи.
Но прежде чем перейти к истории стетоскопа, имеет смысл коротко рассказать о происхождении почти за полвека до его изобретения другого метода постановки физического диагноза – техники перкуссии. Большинство пациентов, грудь которых простукивал семейный врач, наверняка задавались вопросом о том, какого рода информацию можно получить с помощью этой таинственной процедуры. Врач кладет руку ладонью вниз на корпус тела и по выпрямленному среднему пальцу производит несколько легких ударов средним пальцем другой руки. Полученный звук, если слушать внимательно, будет либо глухим, либо резонирующим, в зависимости от того, плотная или полая структура расположена в исследуемой области грудной клетки или живота. Отзвук от удара может быть раскатистым, как грохот барабана, или невыразительным, как стук по деревянному блоку. Если нужно определить, сколько пива, например, осталось в початом бочонке, можно начать перкуссию снизу, постепенно перемещая руку выше. Как только будет достигнута заполненная воздухом верхняя часть бочонка, глухой звук сменится глубоким гулким тоном. Неудивительно, что перкуссия была изобретена сыном владельца гостиницы, австрийским врачом Леопольдом Ауэнбруггером.
Хотя история может быть не вполне достоверной, говорят, что молодой Ауэнбруггер сделал свое открытие, определяя таким образом количество жидкости в пивных бочонках своего отца. Но известно наверняка, что исследование этой техники он проводил уже после того, как стал главным врачом больницы Святой Троицы в Вене. Осознав возможности перкуссии, он в течение семи лет изучал метод на своих пациентах, проверяя полученные результаты при вскрытии. Помимо этого, он проводил эксперименты над трупами, чтобы проверить свои предположения.
Ауэнбруггер был опытным музыкантом. Он разбирался в таких вещах как резонанс, высота и тональность звука и с успехом применил свои знания в процессе изучения перкуссии. Но, будучи скромным добродушным парнем, он был не склонен думать, что другие непременно оценят или просто смогут понять его практику. Вот несколько фраз из предисловия к книге, в которой он описал свое открытие:
Я прекрасно сознавал опасность, которой себя подвергаю; поскольку таков всегда был удел тех, кто разъяснил или улучшил искусство и науку своим открытием, чтобы быть окруженными завистью, злобой, ненавистью, отвращением и клеветой… Все написанное мной, я доказывал снова и снова, посредством моих чувств, прилагая кропотливые утомительные усилия; при этом, стараясь избежать соблазна самолюбия.
Предисловие завершается предложением, которое должно служить неукоснительным правилом для всех авторов научных работ: «Я не был амбициозен, объясняя свой метод или выбирая стиль письма, а преследовал лишь одну цель – чтобы меня поняли».
Ауэнбруггер, похоже, все-таки столкнулся с небольшой порцией зависти, злобы, ненависти, отвращения и клеветы, поскольку такая реакция означала, что на его работу обратили внимание. Научное сообщество Европы отнеслось к его открытию с пренебрежением и равнодушием. Поскольку он не был одним из тех, кто стремится быть на виду, кроме публикации второго издания своей книги два года спустя, Ауэнбруггер не предпринял ничего для популяризации и распространения своего метода. Фактически к моменту повторного выхода своего детища в свет он уже оставил свой пост в больнице в возрасте сорока лет, предпочитая наслаждаться уютной жизнью успешного венского практикующего доктора, фаворита императрицы, любителя оперы и обожаемого мужа красивой жены.
Перкуссия, несомненно, очень полезная техника, но миру медицины она была представлена слишком рано. Еще не стала широко известной работа Морганьи, а поэтому и разработка методов физического обследования еще не началась. Ауэнбруггер сообщил о своем открытии в то время, когда измерение частоты пульса и дыхания были единственными признанными методами оценки состояния грудной клетки. Его книга была написана как раз в тот момент, когда исследования Морганьи привели к поиску физических проявлений заболеваний, составляющему важную часть процесса постановки диагноза. Перкуссия пребывала в неизвестности до тех пор, пока полвека спустя в 1808 году, за год до смерти Ауэнбруггера, французский врач вновь не открыл ее. Жан-Николя Корвизар перевел немецкий текст на французский язык и всячески популяризировал новую методику, демонстрируя множество способов ее применения. Работа Ауэнбруггера была настолько забыта, что Корвизар мог бы легко выдать перкуссию за собственное открытие, но он этого не сделал, говоря позже о своем предшественнике: «Именно о нем и о прекрасном изобретении, принадлежащим ему по праву, я хочу напомнить».
Корвизар был одним из ранних представителей того периода, который можно назвать золотым веком французской медицины. С 1800 года начался переходный этап, который возглавили парижские врачи, делавшие принципиальный акцент на точности диагностики, основанной со времен Гиппократа, в первую очередь, на непосредственном всеобъемлющем наблюдении за больным. Это была эпоха младенчества той клинической медицины, которую мы знаем сегодня. Из Италии к северу свежие ветры несли на своих крыльях идеи Морганьи, стремительно разгоняя прежние причудливые теории о причинах возникновения заболеваний и вчерашние методы диагностики. Французы стали наследниками учения Морганьи, сосредоточив внимание на отдельных патологических процессах, следуя знаменитому падуанскому изречению, гласящему, что болезненные проявления и симптомы – это «крик страдающих органов».
Франция, как ни одна другая из всех европейских стран, была готова к освежающему бризу новых медицинских открытий. В конце концов, именно Франция была родиной великой революции. Результатом всех этих событий стали закрытие старых медицинских колледжей в 1789 году и широкое распространение во врачебной среде исследовательского духа, критерием которого оказались пристальное наблюдение и беспристрастная интерпретация данных. В этой атмосфере французские медики начала девятнадцатого века вдохновлялись примером Корвизара и некоторых других талантливых врачей, сосредоточивших свое внимание на поиске взаимосвязи между симптомами, проявлявшимися при жизни больного, и результатами аутопсии. Корвизар был не только одаренным целителем, но и опытным патологоанатомом. Он был основателем Французской медицинской школы, в которой каждый пациент проходил широкомасштабное трехступенчатое исследование: во-первых, определялись способы последовательного возникновения определенных групп симптомов, сопровождающих определенное заболевание, которое могло быть систематизировано в соответствии с общими принципами классификации болезней; затем выявлялись анатомические изменения, ответственные за проявившиеся симптомы; наконец, к описанию каждого заболевания добавлялся перечень результатов наблюдений, полученных врачом в процессе тщательного физического обследования. Таким образом, Корвизар оказал неоценимое содействие рождению современной клинической медицины.
Неудивительно, что в те дни иностранные гости, посещавшие французские больницы, писали домой своим коллегам о «чувственном» характере Парижской школы. С медицинской точки зрения, это слово подразумевало высокую оценку. Оно означало, что парижские врачи отказались от построения гипотетических теорий и вместо них использовали видимые, осязаемые, слышимые, вкусовые и даже определяемые по запаху характеристики, доступные их пяти чувствам. Гипотезы и догадки больше не считались предметом гордости в диагностическом арсенале, который, таким образом, стал скорее полезным набором инструментов, чем собранием трюков и уловок. Корвизар является олицетворением нового объективного подхода, смысл которого изложен в его широко известной книге «Очерк о болезнях и органических поражениях сердца и магистральных кровеносных сосудов», представляющей собой «работу, основанную исключительно на практических наблюдениях и опыте». На стене его лекционного зала было начертано предупреждение: «Никогда не делайте ничего важного, опираясь лишь на чистую гипотезу или поверхностное мнение».
Как и некоторые другие известные в медицинском мире личности, среди которых был и Везалий, Корвизар поддался очарованию и блеску придворной жизни; в 1804 году он стал врачом Наполеона, и его выход на пенсию совпал с окончательным поражением императора в 1815 году. Но прежде чем он позволил втянуть себя в мир подобострастия и грубой лести первому консулу, его неограниченное влияние на французскую медицину привлекло в его группу обучения выдающихся учеников. Ни один из них не прославил своих коллег-медиков и Францию так, как это сделал болезненный молодой британец, вошедший в историю науки благодаря изобретению стетоскопа, – Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек.
Жизнь Рене Лаэннека (1781–1826) протекала сначала в лучшие и худшие периоды диккенсовской Англии, а затем в наполеоновские и постнаполеоновские времена. Это были весьма неспокойные годы для Франции – страны, проклятой и благословленной одновременно, что в полной мере можно отнести к жизни ее замечательного сына Лаэннека, туберкулезного гения, ставшего величайшим врачом начала девятнадцатого века.
Далеко на западной половине полуострова Бретань, лежащего южнее английского города Плимут, среди покрытых вереском и лесами холмов расположился очаровательный провинциальный городок Кемпер. В архиепархии Ренна недалеко от великолепного собора можно увидеть статую, установленную врачами Франции в честь Лаэннека. Здесь 17 февраля 1781 года его родила мадам Мишель Лаэннек, которая, вероятно, умерла от туберкулеза, когда мальчику было всего лишь шесть лет. Его отец Теофиль на протяжении всей своей жизни был тщеславным, несколько эксцентричным человеком, который мнил себя поэтом, но зарабатывал на жизнь незначительными политическими статейками. Оставшись один с Рене, его младшим братом Мишо и однолетней Мари-Энн на руках, он решил избавиться от бремени родительских обязательств. Девочку он отправил на воспитание к своей тете, обоих сыновей определил жить сначала с дядей, который был приходским священником, а через год в соседний город Нант на попечение другого дяди – доктора Гийома Лаэннека.
Гийом был не просто местным врачом. Он начал изучение медицины в Париже, позже перешел в один из немецких университетов, а степень получил в старинной школе в Монпелье. Увлеченный учением Джона Хантера, он перебрался в Лондон и попытался поступить на хирургическое отделение в больницу Святого Георгия. Когда его прошение было отклонено, в 1775 году он вернулся в Кемпер и, в конечном счете, поселился в Нанте, где его таланты были так высоко оценены, что не прошло и двух лет, как его назначили ректором факультета.
Таким образом, в 1788 году двух осиротевших мальчиков благосклонно приняли в доме одного из самых выдающихся горожан Нанта на воспитание вместе с их трехлетним двоюродным братом Кристофом, который однажды станет известным адвокатом. Мишо, умерший в возрасте двадцати семи лет, также делал большие успехи в этой профессии. Тому, что все три мальчика достигли таких внушительных результатов на выбранном ими поприще, в немалой степени способствовал пример Гийома. Будучи человеком с высоким интеллектом и обширными научными знаниями, он с энтузиазмом взял на себя ответственность за их воспитание и установил для талантливых ребят соответствующие академические стандарты.
Ни в революционном, ни в контрреволюционном движении, начавшемся в 1789 году, братья Лаэннеки не принимали участия до тех пор, пока в феврале 1793 года на западе не разразилась так называемая Вандейская война, охватившая часть Бретани. Она началась восстанием крестьян, протестующих против воинской повинности и налогообложения; распространение народных волнений привело к жестоким репрессиям со стороны республиканского правительства. «Вандея», другое название мятежа, по сути, была только предтечей куда большего движения, которое начиналось по всей стране. Недовольство указами Национального конвента, гнев, вызванный казнью Людовика XVI в январе 1793 года, и ухудшение военной ситуации привели к развитию контрреволюционного движения с некоторыми промонархистскими элементами по всей Франции. В результате Национальный конвент назначил печально известный комитет общественной безопасности, положив начало царству террора. В течение года, начиная с лета 1793 года, были казнены более сорока тысяч «врагов революции». Наконец, в июле 1794 года ультрареволюционеры свергли руководство радикальных робеспьеристов и приступили к ликвидации их завоеваний; в октябре 1795 года было учреждено новое правительство, утверждена консервативная конституция и исполнительная директория из пяти директоров.
В Париже террор отличался особой жестокостью, но Нант, где было казнено три тысячи граждан, также сильно пострадал от действий революционеров. Гильотина была установлена на площади де Буффай, на которую выходили окна Лаэннеков. Но гильотина была недостаточно быстрым орудием уничтожения, чтобы удовлетворить ревностных патриотов Нанта. Они решили, что можно убивать людей более эффективно посредством массовых утоплений в реке – квазисудебная форма казни, которая стала известной как «наяды Луары», с особенно унизительным вариантом le mariage (республиканская свадьба), когда обнаженных мужчин и женщин связывали вместе и бросали несчастную пару в воду. Практиковался также несколько более милосердный способ уничтожения – массовые расстрелы.
Хотя мальчиков старались держать в задней части дома, Рене увидел приблизительно пятьдесят голов, скатившихся в корзину гильотины. Скорее всего, он слышал о расстрелах и утоплениях и, весьма вероятно, даже тайно присутствовал на некоторых из них. В течение шести недель он жил в постоянном страхе за своего дядю, которого местное «правительство» бросило в тюрьму, заподозрив его в недостаточном сочувствии революции.
Однако даже в разгар убийств продолжали осуществляться некоторые обычные виды деятельности, создавая некоторое подобие нормальной жизни: среди них – обучение. Трое мальчиков Лаэннеков продолжали учиться, впитывая все, что не попадало под ограничения террора, и получали академические премии за достигнутые успехи.
На протяжении некоторого короткого периода Рене рассматривал карьеру в области техники, но благодаря увлечению природой и влиянию ученого дяди он выбрал менее престижную профессию медика. В месяц Вандемьера[12] (сентябрь) III революционного года (1795) в возрасте четырнадцати лет он поступил в Нантский университет, чтобы начать свое профессиональное обучение. Не сумевший установить эмоциональную связь со своими детьми отец Рене, женившийся на хорошо обеспеченной вдове и назначенный на должность судьи по договору, как всегда, не имел достаточных средств для поддержки образовательного предприятия сына, письма которого к Теофилю в течение следующих нескольких лет пестрят просьбами о материальной помощи. Рене продолжал зависеть от своего дяди Гийома и в плане духовного руководства, и в отношении средств к существованию.
Во время обучения Рене в больницах, связанных с Нантским университетом, проявились первые признаки его физической слабости. Ростом меньше большинства своих сверстников, с наследственной предрасположенностью к туберкулезу, он постоянно находился под бдительным (и очень заботливым) наблюдением своего верного дяди. Когда умер собственный ребенок Гийома, не дожив четырех месяцев до своего второго дня рождения, став, как удрученный отец писал в письме к Теофилю, «бессознательной жертвой революционной ситуации», дядя начал еще пристальнее следить за здоровьем своего астенического племянника. В том же письме, отправленном в мае 1796 года, он выразил надежду, что достижения Рене утешат его в потере собственного ребенка.
Было ясно, что Гийом питал надежду, что в один прекрасный день племянник унаследует его практику. Но ему было недостаточно, чтобы мальчик стал его профессиональным преемником, он должен был стать таким же высококвалифицированным специалистом, как и сам ректор. Он постоянно призывал Рене быть прилежным в обучении, чтобы в будущем он мог справиться с ответственностью, которая в конечном итоге ляжет на него. «Наше призвание, – говорил Гийом мальчику, – похоже на кандалы, которые необходимо носить все дни и ночи напролет».
Теофиль, со своей стороны, очень хотел, чтобы Рене стал бизнесменом или адвокатом, поскольку представители этих профессий занимали более высокое социальное положение в обществе, чем медики. Мальчик, однако, решил продолжить начатое образование, вероятно, скорее под влиянием дяди, чем из-за уверенности в том, что поступает правильно, и приступил к работе с пылким рвением, которым будет отличаться его профессиональная деятельность на протяжении всей его дальнейшей жизни. Не довольствуясь обычными знаниями, которые в те дни давала клиническая подготовка, он изучал химию и физику, которые, по его мнению, были необходимы для правильного понимания функционирования человеческого организма. Но и этого было недостаточно. Он выжимал у скупого отца достаточное количество денег, позволяющее ему посещать курсы латинского и греческого языков, а также заниматься живописью и танцами. Он освоил игру на флейте, инструменте, который принесет ему множество часов радости и вдохновения в нелегкие годы, ждущие его впереди.
Пройдет совсем немного времени, и свеча его жизни загорится с обоих концов, а воск в ее середине начнет проявлять первые признаки неспособности сопротивляться жару огня. Весной 1798 года у него развилась продолжительная лихорадка, вызвавшая истощение и некоторые трудности с дыханием. Его лечили слабительными средствами, как предписывала современная медицина, полагая, что тело нуждается в очищении от некоего «нежелательного потока». Он выздоровел после долгих недель болезни, вероятно, вопреки лечению, и, уж конечно, не благодаря ему.
Молодой Лаэннек физически ослаб, но не утратил решимости продолжить обучение. В течение следующих двух лет, когда все еще продолжались небольшие вспышки гражданской войны, он и дядя Гийом пытались убедить Теофиля обеспечить Рене материальную поддержку на время учебы в Париже. Между тем он не оставлял работу в больнице на незначительных должностях, что позволяло ему расширять свой опыт в лечении раненых. Наконец 10 ноября 1799 года в истории Франции и жизни Рене Лаэннека произошли разительные перемены к лучшему. В тот день в городе Нант звонили колокола, пушки грохотали салютом, а горожане кричали благодарное «ура» небесам – Наполеон Бонапарт был назначен первым консулом республики.
Оптимизм, витавший в атмосфере Франции, похоже, растопил даже скупое сердце Теофиля Лаэннека. Отправив Мишо в Париж учиться на юриста, он не мог больше противостоять назойливым домогательствам начинающего молодого врача и его дяди. В апреле 1801 года с отцовскими шестьюстами франками в кармане Рене Лаэннек пешком отправился в Париж. За десять дней он прошел триста двадцать километров пути и к концу месяца добрался до цели своего путешествия уставший, но в приподнятом настроении. Поселившись в комнате своего брата Мишо в Латинском квартале, он без промедления поступил в качестве студента-медика в одну из крупнейших парижских больниц Шарите. Сделать выбор не составило труда: в клинике Шарите работал ведущий преподаватель медицины во Франции Жан-Николя Корвизар.
Даже если бы молодой Лаэннек пытался планировать, он не смог бы выбрать для начала профессионального обучения более удачного момента. Благодаря новой философии, принесенной революцией, вся система образования во Франции подверглась полной ревизии, при этом медицина была одним из основных бенефициаров этих реформ. Основой преподавания стала больница, а методика обучения приобрела клинический характер в том смысле, что в качестве основных примеров рассматривались случаи госпитализированных пациентов, живых и мертвых. Париж обеспечивал идеальную почву для практики такого рода. В последние десятилетия восемнадцатого века и первые – девятнадцатого в город устремились потоки молодых людей, которые либо были вынуждены оставить родные места, либо решили попытать счастье в мегаполисе. Волны двух революций – сначала французской, а затем промышленной – выбросили их на улицы столицы. Увеличение численности населения и стесненные обстоятельства, в которых находились многие мигранты, а также их жизнь вдали от любящих семей создали хронический кризис, результатом которого были переполненные палаты сорока восьми больниц города (в 1788 году согласно стационарной переписи было зарегистрировано 20 341 больной) и не пустеющие кабинеты аутопсии. Бесконечная человеческая трагедия, развернувшаяся на улицах Парижа, стала зловещей питательной средой для быстрого развития французской медицины.
В течение всего этого периода происходила реорганизация лечебных учреждений. После 1790 года все больницы принадлежали государству. С 1801 года ими централизованно управлял общий совет. Факультет медицины Парижа, который контролировал обучение со времен Средневековья, был распущен в 1790 году, а обучение врачей в соответствии с требованиями новой философии республики попало в сферу индивидуального предпринимательства. Возможно, такая система обладала какими-то достоинствами для других видов деятельности, но для медицинского образования она не принесла ничего, кроме хаоса. Вскоре после этого в стране началась война, потребность во врачах стала еще более острой, чем раньше, и проблема требовала оперативного решения. Для этого были учреждены три новые медицинские школы, по-французски – écoles de santé, в Париже, Монпелье и Страсбурге.
Порядок денежного вознаграждения преподавателей, установленный в écoles de santé, был предтечей сегодняшней географической штатной системы. Для того чтобы профессора не зависели от прямых гонораров тех, кого они учили, им платили достойную зарплату, хотя и не позволявшую вести роскошную жизнь; кроме этого, им разрешалась неограниченная частная практика – привилегия, которой, похоже, никто особо не злоупотреблял.
Как нетрудно себе представить, престиж, доход и азарт работы в одной из новых школ делали должность профессора весьма желанной для ведущих представителей медицины. В соответствии с революционными принципами Национальный конвент учредил публичные состязания, называемые конкурсами, для претендентов на созданные места профессоров и адъюнкт-профессоров. Кроме того, в каждом институте был декан, библиотекарь и куратор анатомической коллекции. Как часто случалось при зарождении великих медицинских школ, бо́льшая часть выдающихся представителей факультета были моложе сорока лет. Корвизар в свои сорок шесть лет на момент, когда Рене Лаэннек поступил к нему в ученики, был уже признанным светилом в Шарите.
Поскольку госпитализированный пациент или его труп при вскрытии служили наглядным пособием в процессе обучения, поступивший в больницу студент посещал палаты и кабинет аутопсии с самого первого дня занятий. Его учили, руководствуясь заповедью «Читай мало, смотри много, делай много» (Peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire). В начале девятнадцатого века это был вполне оправданный подход; бо́льшая часть того, что тогда писали в книгах, освещающих клинический аспект медицины, было теоретической чепухой, которая не стоила даже цены свечи, сгоревшей при ее прочтении.
Больница Шарите, расположенная на улице Сен-Перес, была основана в 1607 году братьями милосердия из религиозного ордена Святого Жана де Дье по инициативе Марии Медичи, женщины, прославившейся добрыми делами. Двести лет спустя не было в мире больницы, студенты которой были лучше обучены в области заболеваний сердца и легких, а возможно, и болезней других органов. В книге под названием «Больницы и хирурги Парижа» американский врач Ф. Кэмпбелл Стюарт перечислил следующие наиболее часто встречавшиеся диагнозы во французских больницах в начале века: чахотка, пневмония, тиф, рак, пятнистая лихорадка (особенно оспа), послеродовой сепсис, болезни сердца и мочевыводящих путей.
Прогрессивные, почти футуристические, медицинские исследования, проведенные в больнице, опровергли устаревшую доктрину, в рамках которой они были сделаны. Практически никакого прогресса в заботе о больных не было достигнуто с тех пор, как братство впервые приехало из Италии, поскольку не было необходимости, а потом и денег для модернизации уже имеющейся материально-технической базы. Больница представляла собой ряд беспорядочно расположенных зданий разного размера и стиля, разделенных несколькими дворами и садами, где выздоравливающим пациентам было разрешено заниматься физическими упражнениями. Построенные на небольшом холме сооружения были снабжены хорошо работающей системой стока воды и даже закрытой дреной[13], что было нехарактерно для больниц тех дней. Необычным также было то, что палаты были светлыми и просторными: в мужском отделении расстояние между кроватями составляло девяносто сантиметров и один метр восемьдесят сантиметров – в женском. Пятеро из шести пациентов, вошедших в Шарите, могли рассчитывать, что покинут больницу живыми. Такая статистика, превосходная для начала девятнадцатого века, по мнению одного английского медика, посетившего тогда Шарите, во многом была обусловлена «большими, хорошо проветриваемыми палатами и правилу класть по одному пациенту на кровать».
Последнее из указанных обстоятельств было новым словом в медицине. До создания республики нередко по четыре, пять или даже шесть человек с тяжелыми заболеваниями, невзирая на пол, размещались на одной кровати, разделенные лишь простынями. Таким образом, во время эпидемии недавно прибывший пациент имел серьезный шанс проснуться однажды в холодный предрассветный час, тесно зажатым застывшими трупами. Вероятно, это ужасная некрофильская идея небес, вроде репетиции ада на Земле.
К моменту поступления молодого Лаэннека в Шарите на смену террору, царившему в больницах всего два десятилетия назад, пришел осторожный оптимизм. Хотя методы терапии, имевшиеся в распоряжении врачей, оставались такими же умозрительными, как и прежде, больничные палаты оставались для людей оазисом заботы и передышки от повседневных дел. Почти триста коек Шарите были заполнены мужчинами и женщинами, полными надежды, что доброта и внимание сестер ордена Св. Винсента и Павла помогут им вернуть здоровье. Восемь тысяч страждущих ежегодно прибегали к деликатному попечительству монахинь. Теперь появился некоторый шанс на реальную помощь врачей. В соответствии с научной концепцией Морганьи и Корвизара каждый пациент подвергался тщательному освидетельствованию, а профессора и студенты всегда были в поиске все новых проявлений болезней, которые могли привести к определению диагноза. Обходы проводились не реже одного раза в день старшими профессорами в сопровождении свиты студентов и врачей, количество которых постоянно увеличивалось за счет медиков, прибывавших из Америки и многих стран Европы. Больничные палаты стали лабораторией, где развивалась новая диагностическая медицина, которая спустя почти столетие приведет к современным успешным методам терапии.
Как будто зная, что скоро ему придется участвовать в гонке с собственной преждевременной смертью, Рене Лаэннек с маниакальной решимостью с головой погрузился в изучение медицины. Он не пропускал ни одной лекции или аутопсии; когда Корвизар делал обход больных, он был рядом; если проводились специальные курсы, он не пропускал и их. Лаэннек всегда оказывался там, где можно было почерпнуть новые знания. Он посещал занятия по анатомии, физиологии, химии, фармации, materia medica (сегодня называемой фармакологией), ботанике, юридической медицине и истории медицины. Одновременно, в Центральной школе он работал над совершенствованием своего греческого в те моменты, которые удавалось выкроить от посещения основных занятий – он мечтал прочитать Гиппократов корпус в оригинале. К тому же он возобновил обучение игре на флейте, хотя невольно задаешься вопросом, оставалось ли у него время, чтобы дышать.
Лучше всего внешность Лаэннека можно описать следующим образом: невысокий, всего метр шестьдесят ростом, худой, настолько, что кости, казалось, могут проткнуть его бледную кожу. Рене выглядел слабым, но был быстрым, как вихрь; по словам одного из его биографов, «он был глотком свежего воздуха, и считал себя Геркулесом». У него были голубые глаза и каштановые волосы, как у многих его коллег-бретонцев, унаследовавших эти черты от дальних кельтских предков. Если субтильное строение тела не производило особого впечатления, то, увидев однажды его лицо с выдающимся лбом и высокими скулами, забыть его было непросто. Он был одним из самых необычных людей, и этого невозможно было не заметить.
Студент-медик, проходивший обучение в Париже, мог быть отмечен за успехи двумя способами: по приглашению своего педагога стать членом Общества медицинского образования, в котором учащиеся встречались, чтобы критиковать друг друга за недостатки, допущенные в клинической работе и аутопсии, или пройти конкурсный экзамен, позволяющий быть зачисленным в Школу практики, созданную для специальной группы учеников, которые в течение трех лет дополнительно изучали химию, искусство вскрытия и оперативную хирургию. Лаэннек был удостоен обеих привилегий.
В начале 1802 года он опубликовал свою первую научную работу, посвященную исследованию сужения одного из сердечных клапанов, так называемого митрального стеноза, причиной которого, возможно, являлась ревматическая лихорадка. Несколько месяцев спустя он издал труд о венерических болезнях, а позже в том же году – статью о перитоните. Последняя работа, сделанная студентом, которому едва исполнился двадцать один год, имела огромное значение. Совсем незадолго до этого была признана важная роль внутренних оболочек тела в возникновении и течении заболеваний. Открытие было сделано в Шарите глубоко уважаемым молодым учителем и другом Лаэннека Мари Франсуа Ксавье Биша, который умер в июле 1802 года в возрасте тридцати лет от туберкулезного менингита, но своей работой побудил Лаэннека к изучению функции брюшины – серозной оболочки, выстилающей брюшную полость и покрывающей расположенные в ней органы, – и серозной оболочки грудной клетки, называемой плеврой, а также синовиальных оболочек суставов и выстилок внутренних органов. Первоначальным результатом стала статья о перитоните, где впервые была изложена ключевая дифференциация заболеваний органов брюшной полости от заболеваний тканей, покрывающих эти органы и выстилающих полость, в которой они находятся. Лаэннек был первым исследователем, давшим в своей работе о различных формах перитонита описание спаек, ложных мембран и излияния внутрибрюшной жидкости, вызванного воспалением.
В своем первоначальном виде работа Биша и Лаэннека по величине своей значимости выходила за рамки непосредственной полезности. Она ознаменовала вступление в новую фазу понимания процессов заболевания, на более глубокий уровень, если можно так выразиться. Морганьи продемонстрировал, как по проявленным симптомам определять больные органы; Биша представил анатомическую концепцию, суть которой заключалась в том, что органы и системы органов состоят из листов протоплазмы, называемой тканями; и, наконец, Биша и Лаэннек вместе показали, что понятие болезни должно включать не только органы, но и ткани, из которых они состоят. Позже, в девятнадцатом веке, разработка принципов микроскопических методов исследования позволит увеличить угол зрения на эту проблему в буквальном и фигуральном смысле этого слова, что даст возможность берлинскому патологу Рудольфу Вирхову доказать, что в самих отдельных клетках, составляющих ткани и органы, необходимо искать причины болезни. (Эта было не только изменение фокуса, но и расширение географии, поскольку научные идеи в области медицины последовательно распространялись из Италии сначала во Францию, затем в немецкоязычные страны и, наконец, в Соединенные Штаты.)
Работа по перитониту и другие труды Лаэннека, написанные в студенческие годы, привели его к серии важных исследований в сфере нормальной и патологической анатомии. Именно в это время он описал волокнистые оболочки, покрывающие многие органы брюшной полости. Исследуя рубцовую печень алкоголиков, он обратил внимание на приобретаемый ими характерный тускло-коричневый цвет. От греческого слова kirrhos или tawny, которое Лаэннек использовал для описания этого оттенка, произошло эпонимическое название болезни «цирроза Лаэннека». Спросите любого современного врача, что для него значит имя Лаэннека, и он обязательно скажет о циррозе, а не о стетоскопе, поскольку мало кто помнит в наши дни, что это более важное открытие также принадлежит ему.
Рене намеревался получить знания, которых было бы достаточно, чтобы вернуться в Бретань и работать вместе со своим дядей Гийомом. Но в нем уже зародилась страсть научного исследователя. Его увлекали не только изыскания в области патологии, он жаждал добиться признания. Молодому человеку из провинции было трудно противостоять своим амбициям. Его попросили остаться в Париже сначала Биша, а затем и Гийом, понимавший, что, отправив своего племянника изучать медицину, он положил начало успешной карьере, которая не должна ограничиться Нантом. Теофиль писал Рене о его дяде: «Он как Пигмалион в экстазе перед своим шедевром».
Молодой Лаэннек был успешным не только как исследователь, но и прекрасно справлялся со своей основной обязанностью хорошо учиться. Когда в 1803 году правительство учредило награды студентам всех специализированных школ в Париже, он принял участие в конкурсе, выиграв первый приз по медицине и единственный приз по хирургии. Вместе награды составляли денежную сумму в шестьсот франков, которые несколько улучшили его трудное финансовое положение. Тем не менее ему пришлось взять в долг у отца, чтобы приобрести достаточно приличный костюм и достойно выглядеть на церемонии вручения призов, состоявшейся в Лувре.
Была ли тому причиной его бесконечная упорная работа, нищета или слабое от природы здоровье, в это время у Лаэннека начались приступы затрудненного дыхания, которые он называл астмой, но которые в действительности были, вероятно, проявлениями коварно прогрессирующего туберкулеза. Однако он игнорировал собственные легкие, концентрируясь более чем когда-либо на изучении легких других. Он взял на себя новые обязательства. В ноябре 1803 года он начал давать частные уроки по патологической анатомии, значительная часть учебного материала которых состояла из результатов исследований, сделанных им самим и одним из его коллег Гаспаром Лораном Бейлем. Именно в презентациях для занятий он определил понятие основного патологического признака при туберкулезе – туберкулезного бугорка.
Слово «бугорок» происходит от латинского tuberculum, что означает «небольшая неровность» или «комок». Болезнь получила свое название из-за крошечных, похожих на зернышко сгустков, образуя которые тело пытается защитить себя с помощью процесса воспаления от вторжения организма, вызывающего болезнь Mycobactérium tuberculósis. Белые клетки крови направляются в область микробного вторжения с целью уничтожить опасные бактерии, и сами, в свою очередь, поглощаются более крупными клетками.
Эти более крупные клетки меняют форму и свойства, потом начинают собираться вместе, формируя скопление, которое называется «бугорок» или гранулема. Поначалу микроскопические, постепенно бугорки достигают достаточно больших размеров и становятся видимыми невооруженным глазом. Лаэннек не пользовался примитивными микроскопами того времени и делал все свои наблюдения либо невооруженным глазом, либо с помощью маленькой увеличительной линзы. Поэтому то, что он видел, могло быть обнаружено любым врачом, который взял бы на себя труд провести такое исследование, особенно если учесть, что бугорки имеют тенденцию увеличиваться и объединяться, приобретая значительные размеры, после чего нередко происходит казеозный некроз центра бугорка, в результате которой образуются хорошо известные полости, часто наблюдаемые на поздних стадиях заболевания. Хотя о существовании видимых бугорков было известно уже более ста лет, считалось, что они образуются только в легких. Лаэннек показал, что они могут поражать любой орган тела вплоть до костей. В результате его работы от старого, времен Гиппократа названия диагноза «чахотка» постепенно отказались, заменив его на анатомически точный «туберкулез». Такое преобразование само по себе являлось констатацией прогресса медицинской науки. Терминология, которая берет свое начало в работах Корвизара, Бейля и Лаэннека, является отражением того факта, что болезнь с тех пор рассматривалась как результат анатомо-патологических трансформаций. Избавившись от «чахотки», греческого слова, означающего истощение или разложение, мир медицины начал отказываться и от греческого способа классификации болезней с использованием единственного известного им метода анализа основных симптомов, которые могут быть визуально определены или описаны живым пациентом. Использование термина «туберкулез» стало признанием того, что терминология, связанная с болезнями, в том числе название диагноза, должны опираться на патологические изменения в тканях и органах.
Даже самые величайшие из исследователей, заканчивая обучение, должны пройти строгое заключительное тестирование, чтобы получить степень доктора. Названия курсов, по которым Лаэннек сдавал квалификационные экзамены в конце зимы и весной 1804 года, дают некоторое представление об учебной программе лучших медицинских школ того времени, включающей анатомию, физиологию, внутреннюю патологию и нозологию (формально закрепившую классификацию, основанную на органических нарушениях), фармакологию и фармацию, гигиену и судебную медицину и, наконец, терапию.
После успешной сдачи экзаменов Лаэннек переехал в новую квартиру, располагавшуюся на месте нынешнего бульвара Жермен. Возможно, преподавание патологии обеспечивало ему достаточный доход, чтобы он мог позволить себе арендовать более презентабельные апартаменты, но, скорее всего, он рассчитывал, что вскоре сможет получать достойный доход от частной практики. Мишо покинул Париж, чтобы занять место атташе при префекте Уаза, и вместо него соседом Рене по комнате стал старший сын дяди Гийома Кристоф.
Лаэннек начал работу над докторской диссертацией, темой которой была доктрина Гиппократа применительно к практической медицине. 11 июня 1804 года он успешно защитил ее перед жюри, состоящем из трех профессоров, одним из которых был Корвизар. Теофиль, никогда не упускавший перспективных возможностей, советовал сыну посвятить работу одному влиятельному министру правительства. Но Рене, не сомневаясь ни одной секунды, посвятил ее своему горячо любимому Пигмалиону – дяде Гийому.
Молодой выпускник добился наивысшего успеха, достижимого для французского студента-медика. Его избрали членом Общества медицинского образования – организации, которая в дореволюционные дни называлась Королевским медицинским обществом. Мало того, что он платил взносы за участие в собраниях его участников, он также автоматически становился официальным спонсором престижного журнала, посвященного вопросам медицины, хирургии и фармации (Journal of Medicine, Surgery, and Pharmacy). Хотя он опубликовал в нем ряд статей еще в студенческие дни, регулярное появление в печати его работ после окончания медицинской школы все больше способствовало его известности в научных кругах.
Среди своих многочисленных занятий Лаэннек каким-то образом находил время для изучения заинтересовавшей его культуры Бретани. Тогда в Париже вошло в моду все бретонское, и Рене также не избежал влияния этого своеобразного Ренессанса. Его отец прислал ему бретонскую грамматику, словарь и несколько книг, и Рене начал изучать язык с таким упорством, как будто от него зависело его сохранение для будущих поколений. Не прошло и года, как он смог продемонстрировать приобретенное мастерство в письмах домой; кроме того, в больницах Парижа он имел возможность разговаривать с многочисленными ранеными бретонцами, которые были счастливы общаться на кельтском диалекте с молодым врачом, чья забота казалась особенно целебной благодаря звучанию родного языка.
В этот же период Лаэннек обратился к католической вере своих предков. В детстве Рене религия не занимала большого места, поскольку его отец не был преданным адептом церкви. Повзрослев, Лаэннек изменил свое отношение к католицизму, очевидно, находя в прочной связи с религией и бретонской культурой внутреннюю опору, которая поддерживала его вдали от родины. Его явные роялистские политические наклонности, возможно, были неочевидным, на первый взгляд, проявлением потребности иметь в своей жизни источник авторитета и признания.
Наконец настал момент для только что получившего профессиональную квалификацию молодого врача начать свою практику. Он уже был известен как отличный врач, искусный хирург и преподаватель, а его больничные обходы и лекции привлекали все большее число студентов. Он был постоянным спонсором, а теперь стал и редактором крупного медицинского журнала. Лаэннек написал почти тысячу страниц чернового варианта работы по патологической анатомии, впрочем, так никогда и не опубликованной. Он не просто описал перитонит, правильнее сказать – он его исследовал. Он первым выяснил, что органы брюшной полости покрывают фиброзные капсулы, а также описал пигментные опухоли, в наши дни называемые меланомами. Лаэннек провел более двухсот вскрытий, чтобы доказать, что туберкулезная гранулема является основным элементом воспаления, так называемым патогномоничным признаком туберкулеза. Благодаря его работе наконец было установлено, что известная с древних времен чахотка является просто туберкулезом легких, то есть ответной реакцией одного органа на заболевание, способное поражать любую часть тела.
Всех вышеперечисленных успехов молодой Лаэннек достиг к возрасту, в котором современные студенты-медики только начинают знакомиться с первыми живыми пациентами. Его будущее казалось радужным, хотя он не получил назначения ни в одну из парижских больниц. Он продолжал ждать, а тем временем направил всю свою кипучую энергию на быстро расширявшуюся частную практику. Стареющие врачи время от времени оставляли различные преподавательские должности, но Лаэннеку никогда не удавалось успешно пройти конкурс и получить назначение или приглашение на освободившееся место, возможно, потому, что эгалитарный принцип системы на практике часто нарушался, а Лаэннек не имел влиятельных спонсоров. Он писал свои работы и продолжал регистрировать свои практические наблюдения, но почти все его время занимал уход за пациентами. В 1810 году его брат Мишо умер от туберкулеза, как и мать, но когда эпизодические боли в груди Рене начали усложнять его проблемы с дыханием, он называл их приступами стенокардии и упорно диагностировал свою часто возникающую одышку как астму.
В первые месяцы 1814 года удача изменила Наполеону и его войскам, в результате чего больницы Парижа заполнились ранеными, которые принесли с собой неизменно сопровождающую побежденные армии эпидемию тифа. Поскольку Лаэннек к тому времени был известным практикующим врачом, хотя и без преподавательской должности, он обратился к властям с просьбой позволить ему лечить солдат из Бретани в отдельном госпитале. Получив несколько палат в больнице Салпетриер, он взял себе в помощь трех молодых бретонских врачей, чтобы обеспечить своим соотечественникам то, в чем, по его мнению, они нуждались больше, чем в фармакологии и фармации. В заключение письма своему двоюродному брату Кристофу он описал лечение, которое считал наиболее эффективным: «Я должен ходить по палатам и разговаривать с больными, больше всех нуждающимися в утешении. Поскольку это самое лучшее лекарство, на которое я могу рассчитывать в заботе о моих бретонцах».
На протяжении большей части первой половины года Лаэннек проводил часы, а иногда и целые дни в палатах Салпетриера, создавая у солдат, находившихся под его опекой, ощущение прикосновения к дому и христианской благодати. Дьякон, посланный епископом Ренна, совершал последнее таинство для тех, кто не мог говорить по-французски, а местному священнику, вызвавшемуся помогать добровольно, Лаэннек дал собственный перевод на бретонский увещевания, с помощью которого тот мог бы утешать тех, чей мучительный переход в вечность он пытался облегчить.
Когда в июне 1814 года последний солдат наконец покинул Салпетриер, Лаэннек вновь посвятил все время своей практике. Повышенная утомляемость и проблемы с дыханием ослабляли его физически, но в течение следующих двух лет он сделал большие успехи в клинических исследованиях, как будто слабое здоровье никак не влияло на его работоспособность. Академическая карьера, которая казалась такой предопределенной, теперь была за пределами досягаемости. В 1816 году в возрасте тридцати пяти лет спустя десять лет после окончания университета он начал строить планы по возвращению домой в Бретань. И тогда, по иронии капризной судьбы, направление его жизни внезапно изменилось, а вместе с ним и ход истории медицины. Его пригласили работать терапевтом в больницу Неккер. Ирония назначения заключалась в том, что самый блестящий исследователь в области медицины получил долгожданную работу не благодаря своим непревзойденным способностям в надежде на будущие достижения, а исключительно при помощи личных связей. Случилось так, что друг Лаэннека, некий Бикке, стал заместителем государственного секретаря министра внутренних дел; а его полномочия позволяли ему определить, кто из двадцати кандидатов займет новую должность в больнице Неккер. Он предложил своему другу Лаэннеку подать заявку.
Сначала он сопротивлялся. Расположенная на краю Парижа вдали от университетского квартала, имевшая всего сто коек и не отмеченная никакими заслугами, Неккер не считалась сколько-нибудь масштабным или просто хорошим учреждением. Но либо от отчаяния, либо из-за нежелания обидеть Бикке или, как предположил один историк, потому что вокруг больницы был чудесный сад, где он мог бы заниматься спортом, Лаэннек наконец решил воспользоваться этим предложением. Его официальное назначение состоялось 4 сентября 1816 года.
Главного исторического события оставалось ждать недолго. В пределах совсем небольшого периода после вступления в должность во время обычного ежедневного обхода Лаэннека произошло самое важное событие в области медицины начала девятнадцатого века. Г. Б. Гранвиль, один из английских студентов, ставший свидетелем знаменательного момента, называет дату 13 сентября. Лучше всего этот эпизод описан самим Лаэннеком в книге, изданной им три года спустя:
В 1816 году я консультировал молодую женщину, имевшую общие симптомы заболевания сердца, при этом перкуссия и прикладывание руки не имели большого смысла по причине значительной степени упитанности пациентки. Другой из вышеупомянутых методов [прикладывание уха к передней части грудной клетки] был также неприемлем в силу ее возраста и пола. Мне пришел в голову простой, общеизвестный и в то же время обнадеживающий факт из акустики, который мог оказаться некоторым образом полезным в данном случае. Я имею в виду явление усиления звука при его прохождении через твердые тела, подобно тому, как мы слышим скрежет гвоздя на одном конце куска дерева, приложив ухо к другому. Подумав об этом, я тут же свернул из листа бумаги некое подобие цилиндра и приставил один его конец к области сердца, а другой к своему уху, и был немало изумлен и обрадован, обнаружив, что таким образом я мог слышать биение сердца гораздо яснее и отчетливее, чем когда-либо, прикладывая ухо непосредственно к груди. С этого момента я задумался о том, что данное обстоятельство может послужить средством, позволяющим не только определять характер сердцебиения, но и более эффективно оценивать любые звуки, производимые движением внутренних органов груди. Для подтверждения своего предположения я сразу же начал проводить в больнице Неккер серию наблюдений, которые продолжаются по сегодняшний день. В результате я обнаружил ряд новых признаков заболеваний органов грудной клетки, по большей части вполне определенных, простых и ярко выраженных, возможно, полезных при диагностике заболеваний легких, сердца и плевры, как в качестве прямых и косвенных свидетельств, так и в виде индикатора для хирурга, получить которые можно с помощью пальцев и звука в случае соответствующих жалоб.
Таким образом, в мгновение ока благодаря свернутому листку бумаги мир клинической медицины претерпел еще одну из своих величайших трансформаций. Изобретение Лаэннека было не просто устройством, с помощью которого звуки тела могли передаваться в ухо слушателя. Это был инструмент, который показал врачам разницу между объективными доказательствами и свидетельствами, зависящими от субъективного мнения пациента или выполняющего осмотр специалиста. До изобретения стетоскопа диагностика почти полностью опиралась на рассказ пациента о его ощущениях и симптомах, несмотря на всю их очевидную ненадежность. Изучив принципы недавно исследованной патологической анатомии, врачи начали понимать, насколько важен поиск более надежных подсказок, свидетельствующих об органических расстройствах. Но особого прогресса в этом направлении еще не был достигнуто.
Правда, в распоряжении врачей оставались прежние методы освидетельствования больного: более внимательное и продуманное приложение руки для изучения глубоко залегающих структур и, конечно, более тщательный поиск видимых глазу признаков заболевания, но по-прежнему оставалась некая несогласованность между тем, что было предсказано в результате начального физического осмотра и теми данными, которые позже были обнаружены при вскрытии. По-прежнему приходилось в основном полагаться на рассказ пациента своей истории и, в меньшей степени, на его внешний вид.
Слова больного, как правило, принимали за чистую монету, поскольку у большинства диагностов тех дней не было причин сомневаться в том, например, что боль означала боль, а слабостью называли слабость. Считалось, что дела обстоят так, как их оценивает пациент. Тогда еще не знали, что на описание человеком его болезни влияет множество факторов, лежащих как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Хорошо известно, что детали повествования могут отличаться в зависимости от того, кому о них рассказывает больной; значение этого явления сводилось к минимуму, если перед пациентом находился врач преклонного возраста. Возможность того, что некоторые подробности могут быть упущены по забывчивости или описаны недостаточно точно, учитывалась только в самых очевидных случаях или когда возникали подозрения в намеренной попытке ввести врача в заблуждение. Некоторые наиболее прозорливые медики, среди которых был и Лаэннек, по-прежнему полагали, что необходимо искать более точный метод диагностики, исключающий влияние неточной информации.
И тогда был изобретен стетоскоп: инструмент, который гарантировал звуковые подсказки, почти такие же надежные, как те, что обнаруживались при вскрытии. С его помощью врачи могли оценить точно и многократно особенности функционирования организма, при этом результаты обследования не зависели от личности, проводящей обследование. Таким образом, этот инструмент позволял целителю отделить объективные свидетельства своих пяти чувств от субъективных описаний симптомов больного еще при жизни пациента. Безусловно, это был метод наблюдения Гиппократа, перенесенный в современную эпоху.
Рене Лаэннек в больнице Неккер, картина Чартрана. Лаэннек готовится использовать стетоскоп, который он держит в левой руке. (Архив Беттманн.)
Со дня открытия Лаэннека критерием объективности диагностических данных стал символ клинического обследования – стетоскоп. Поиски методов осмотра пациентов и конкретных видимых, слышимых или определяемых посредством пальпации физических свидетельств были одним из главных стимулов для клинических медицинских исследований на протяжении большей части девятнадцатого века. Перкуссия, которой зачастую пренебрегали даже после того, как Корвизар возродил открытие Ауэнбруггера, стала приобретать большее значение, поскольку эксперты пытались определить твердые и заполненные газом или жидкостью участки тела, чтобы точнее оценить состояние невидимых глазами больных внутренних органов. Пальпация становилась решительнее и глубже, и в то же время нежнее и более поверхностно ориентированной. Этот кажущийся парадокс был результатом дальнейшего изучения и осмысления патологических изменений, вызываемых болезнью: врачи, с одной стороны, пытались прощупать форму органов на максимально доступной глубине, а с другой (часто довольно буквально – с другой) стороны, оценить вибрации, увеличение или уменьшение размеров внутренних органов, а также тончайшие изменения текстуры тканей.
Парадигма для выполнения этих задач заключалась в получении акустических показаний с помощью стетоскопа. Благодаря длине инструмента врач находился на определенном расстоянии от пациента. Он даже мог закрыть глаза, если хотел максимально сосредоточиться на восприятии звуков, передаваемых стетоскопом в ухо из каждой невидимой глазу внутренней полости тела. Любой, кто когда-либо сидел в мягком кресле, откинувшись на спинку головой с гарнитурой аудиоплеера, плотно прилегающей к ушам, наверняка оценит чувство, возникающее, когда теряешься в мире звуков, где каждая нота несет собственное уникальное сообщение.
Новый инструмент стал оборудованием для новой игры. В руках своего изобретателя эта игра была серьезной до смерти, поскольку он неустанно наблюдал за пациентом на пути от его больничной палаты до стола, где врач проводил аутопсию трупа, сопоставляя то, что он слышал при жизни больного, с тем, что видел позже на вскрытии. Он выяснил, что суженный бронхиальный проход производит определенный вид звука, когда воздух проходит через него, а расширенный – совсем другой. Звук, образованный в больших полостях, появившихся в результате разрушительного действия туберкулеза, отличается от того, что возникает в отвердевших при пневмонии зонах. Что бы ни говорили пациенты Лаэннеку, описывая симптомы своих болезней, он слушал без скептицизма только то, о чем ему рассказывал его стетоскоп, и он редко вводил врача в заблуждение.
Лаэннек дал названия различным видам сообщений, которые получал от легких: хрипы, шумы, вибрация, эгофония, пекторилоквия, бронхофония и тому подобное. Каждое из посланий, отличное от других, несло информацию о процессе, который их вызвал. Интерпретировать полученную информацию сложности не представляло. Во многих случаях ему нужно было просто подождать несколько недель, чтобы в комнате для аутопсии увидеть своими глазами аномалию, послужившую причиной определенного звука. В следующий раз, услышав такой шум в груди живого пациента, он мог сказать, какое зло лежит под открытым концом его стетоскопа. Таким образом, Лаэннек идентифицировал не только физические изменения, произошедшие в прослушиваемом сердце и легких, но и болезни, вызвавшие их. В результате он стал первым врачом, который мог различить бронхоэктатические болезни, пневмоторакс, геморрагический плеврит, эмфизему, абсцесс легкого и инфаркт легкого.
Это было огромное достижение. Благодаря использованию одного нового инструмента, который был сама простота, разнообразные заболевания грудной клетки, входящие в большую единую группу, были отделены друг от друга; определены, описаны и сформулированы критерии, позволявшие облегчить их диагностику. Теперь, когда пациент кашлял кровью, врач, умевший обращаться со стетоскопом, уже через мгновение мог сказать, с чем он, скорее всего, имеет дело, например с пневмонией, кавернозным туберкулезом или тромбом в легком. Значительный прогресс был достигнут в диагностике, классификации и составлении прогноза, что так высоко ценилось врачами-гиппократиками и любым другим целителем. Лаэннек положил начало современной эпохе научного метода постановки диагноза.
Может показаться, что все произошло в одно мгновение, к тому же Лаэннек представил историю своего открытия именно так; на самом же деле изобретение стетоскопа произошло не в одночасье. Как ученый Лаэннек, безусловно, был хорошо знаком с тезисом Гиппократа о кипящем уксусе, хотя позже писал, что считал это наблюдение необоснованным и никогда не вспоминал о нем. Вероятно, он также забыл, что его соотечественник Амбруаз Паре полагал, что «если в грудной клетке есть какое-то вещество или другой гумор, мы услышим шум, подобный тому, что производит наполовину заполненная жидкостью булькающая бутылка». Но даже если Лаэннек сознательно игнорировал такие утверждения, он не мог не знать из своего клинического опыта и научных работ других врачей, что некоторые шумы в грудной клетке, особенно связанные с некоторыми заболеваниями сердца, слышны, даже если специально не напрягать слух. Его учитель Корвизар считал подобные свидетельства бесполезными, изложив свою точку зрения в кратком комментарии в своей книге о болезнях сердца, но друг Лаэннека Бейль относился к ним более серьезно, часто прикладывая ухо к груди пациентов и заявляя, что эта практика позволяет многое узнать о состоянии больного. До смерти от туберкулеза в 1816 году Бейль тесно сотрудничал с Лаэннеком в области исследований туберкулезной гранулемы. Известно, что время от времени Лаэннек применял метод прослушивания, хотя и весьма неохотно, не только из-за того, что процедура была неудобной и неловкой, но и потому, что кожа пациентов в больницах Шарли и Неккер была не так хорошо вымыта, как его ухо. Однако, учитывая его огромное уважение к достижениям Бейля, не будет ошибкой предположить, что он иногда размышлял о том, как сделать метод прослушивания менее неприятным и менее тактильным. Легко представить, как, брея перед зеркалом свое бледное осунувшееся лицо, он обдумывал эту проблему не одно влажное августовское утро в 1816 году.
Существует очаровательная короткая история об изобретении стетоскопа, которую принято рассказывать студентам-медикам, и, есть вероятность, что все так и было на самом деле. Согласно этой легенде, однажды Лаэннек бродил в одиночестве, пытаясь разрешить задачу, и случайно забрел во двор Лувра, где мальчишки играли в хорошо знакомую ему с детских лет в Бретани игру. Один парнишка, приложив ухо к концу длинного куска дерева, прислушивался к закодированным звукам, которые приятель передавал ему, царапая гвоздем по противоположному концу бруска. Увидев эту картину, врач тут же радостно понял, что он нашел ответ на свой вопрос. Он остановил проезжающий мимо кабриолет и бросился обратно в Неккер, свернул блокнот настолько плотно, насколько мог, и плотно прижал его к области под левой грудью полной, поразительно привлекательной девушки, диагноз которой ему никак не удавалось установить. Непонятный клинический случай тут же прояснился, и стетоскоп был изобретен. История кажется абсолютно театральной, учитывая тот факт, что некоторые детали соответствуют описанию, возможно, несколько сокращенному, самого Лаэннека. Мне нравится думать, что именно так все и случилось.
Изобретение стетоскопа также могло быть результатом других талантов Лаэннека. Не следует забывать, что он был музыкантом. Обладающий тонким слухом, способный оценить малейшие нюансы звука он, как будто специально был послан Асклепием на Землю, чтобы развить искусство аускультации. Даже избранный им инструмент, флейта, не мог не сыграть свою роль в его открытии, поскольку стетоскоп тоже является духовым инструментом, усиливающим грустные мелодии, которые издают грудные клетки его пациентов. Он учил своих коллег-медиков слушать скорбную музыку болезней и смерти, чтобы не пропустить крик страдающих, нуждающихся в помощи органов. С тех пор поиски в этом направлении не прекращались: всеми доступными им средствами врачи-исследователи будут искать методы определения признаков различных заболеваний, которые не зависели бы ни от сознательного, ни от бессознательного влияния пациента или целителя.
Первым плодом их усилий стало развитие принципов физической экспертизы; к концу столетия появится возможность изучать химические изменения, которые болезнь вызывает в жидкостях и тканях тела; и, наконец, в 1895 году появится метод, который станет апофеозом беспристрастного взгляда на ситуацию: рентгеновские лучи Вильгельма Конрада Рентгена. Именно изобретенный Лаэннеком стетоскоп продемонстрировал врачам не только по-настоящему научный подход в диагностике, но и необходимость применения новых достижений технологии для выполнения этой задачи.
Вновь изобретенный инструмент нуждался в имени. Дядя Гийом предложил название «торасископ», но оно показалось слишком громоздким и ограничивающим. Рассмотрев несколько других вариантов, Лаэннек наконец остановился на «стетоскопе», составленном из двух греческих слов «стетос», или «грудь», и «скопео», что означает «наблюдать». Сам он обычно называл это просто цилиндром, а среди других врачей прибор стал известен как дубинка, солометр, пекторилоквия или медик-корнет. Как бы его ни называли, носить его всюду с собой было не очень удобно. Лаэннек сделал для себя собственный инструмент, состоящий из двух разъемных сегментов. Его можно было положить в карман пальто или носить внутри верхней части шляпы, закрепив фиксатором, чтобы он не выпадал при ходьбе.
Бо́льшую часть девятнадцатого века французы оставались верными цилиндрической форме le baton, но британские и другие европейские медики разработали сгибающиеся стетоскопы, которыми пользоваться было удобнее, чем короткой прямой трубкой. В 1829 году лондонский врач Николай Коминс предложил использовать оба уха для аускультации. В конце концов, в 1855 году доктор Джордж Филипп Камман из Нью-Йорка сделал такой бинауральный стетоскоп, состоящий из эбонитовой пластины и двух отдельных слуховых устройств с наконечниками из слоновой кости, которые вставлялись в уши врача. Трубки изготавливались из спирального провода и покрывались эластичной резиной и тканью. Это был прототип современного стетоскопа.
15 августа 1819 года французские продавцы медицинской книги выставили на продажу двухтомник, в котором Лаэннек представил миру результаты исследований, произведенных с помощью своего нового инструмента. Работа была опубликована под названием De l’Auscultation Mediate, ou Traite du Diagnostic des Poumons et du Coeur, Fonde Principalement sur ce Nouveau Moyen d’Exploration («О посреднике аускультации, или Трактат о диагностике заболеваний легких и сердца, основанной на принципиально новом методе исследования»). Перед изданием De l’Auscultation Mediate Лаэннек прочитал серию лекций, в которых рассказывал о стетоскопе и его использовании. Свои выступления он начал с Французской академии наук в феврале 1818 года и еще четыре лекции прочитал весной того же года для факультета медицины.
Термин «аускультация» был придуман самим Лаэннеком от латинского auscultare, что означает не просто слушать, а слушать очень внимательно. Это был идеальный выбор. Использование слова mediate подразумевало, что аускультация проводилась не прямо, как это было бы, если бы Лаэннек применил слово immediate, а опосредованно, через трубку. Итак, новая книга, новый инструмент, новая терминология, новая нозология и новая философия диагностики были представлены в двух томах, которые можно было приобрести за тринадцать франков. За дополнительные три франка издатель добавлял стетоскоп, скорее всего, изготовленный самим автором на домашнем токарном станке.
Как и следовало ожидать, и книга, и стетоскоп получили противоречивые отзывы. Некоторые сочли инструмент слишком коротким, другим он показался слишком длинным, а критики из третьей группы утверждали, что использование стетоскопа – лишь глупый способ произвести впечатление на больного. Были и те, кто опасался, что он будет отпугивать пациентов. Некоторые врачи жаловались, что могут слышать только несколько из описанных Лаэннеком звуков, а другие слышали столько шумов, что не могли отличить один от другого.
Их претензии имели смысл. Со временем Лаэннек и его восторженные последователи стали описывать всевозможные удивительные звуки и диагнозы, которые, по их утверждению, они смогли установить путем аускультации. Для тончайших оттенков высоты и тона, которые мог оценить только человек, обладающий очень чутким музыкальным слухом, вскоре были придуманы термины, соответствующие характеристикам шумов или самому заболеванию. На базе вздоха, который вибрировал в барабанной перепонке бретонского профессора и никого другого, были сформулированы основные диагностические заключения и созданы нозологические категории. К чести Лаэннека, вся эта шумиха вокруг аускультации не оказывала на него никакого влияния, но тем не менее затрудняла распространение и признание в научных кругах его работы. Потребовалось более двадцати лет для того, чтобы различные аускультативные признаки получили абсолютно беспристрастную оценку, которая была сделана венским врачом Йозефом Шкодой.
Однако большинство образованных врачей были достаточно мудрыми, чтобы не позволить некоторым чрезмерно категоричным отзывам помешать оценить достоинства аускультации. Врачам, разочарованным тем фактом, что не смогли услышать все, на что рассчитывали, П.-А. Пьерри в Dictionnaire des Sciences Medicates («Медицинский словарь») за 1820 год ответил: «Если польза от этого метода составляет хотя бы четверть той, что приписывается ему его изобретателем, он и тогда будет одним из самых ценных открытий в области медицины». В одном этом предложении он засвидетельствовал фундаментальную истину о стетоскопе, раз и навсегда.
В июне 1820 года Лежамо де Кергарадек решил написать серию статей с обзором книги Лаэннека. Хотя он собирался сделать заключительное эссе ответом всем недоброжелателям стетоскопа, количество поклонников Лаэннека росло так быстро, что Кергарадек счел, что в этом больше нет необходимости. В своей пятой и последней статье, написанной в августе 1821 года, он заявил, что результаты, полученные к тому моменту от использования инструмента, не оставляют места для сомнений в его полезности и он считает излишним пытаться его защитить.
В 1821 году книгу Лаэннека перевели на английский язык и в 1822 году на немецкий. Разрекламированная обзорами и рецензиями, напечатанными в американских, голландских, итальянских, русских, испанских, польских и скандинавских медицинских журналах, а также учениками, обращенными Лаэннеком в свою веру, его концепция стала широко известной и, в конечном итоге, была признана во всем западном мире. Положение дел, возможно, лучше всех описал в 1828 году автор рецензии для журнала Glasgow Medical Journal («Медицинский журнал Глазго»): «В 1821 году новый вид обследования стал привлекать внимание медиков этого города. Хотя поначалу он вызывал подозрения и насмешки, а иногда подвергался обвинениям в помпезном шарлатанстве, постепенно новый метод завоевал доверие врачей… Те, кто раньше насмехался, теперь со стыдом вынуждены признать свое невежество, которое теперь стало для всех очевидным». Место Лаэннека в истории не вызывало сомнения у рецензента: «Никто не посмеет отрицать, что он написал самый полный трактат о заболеваниях грудной клетки, который сегодня переведен на все языки мира».
Работа над De l’Auscultation Mediate была изнурительной для ее болезненного автора. Вместе с неослабевающим потоком больных неотложное обязательство по завершению рукописи легло на его узкие плечи невыносимым бременем, с которым он не мог справиться без потерь. В течение последних трех недель лихорадочного письма он отказывался от всех новых пациентов, а старых передал одному из коллег. Он не появлялся в Неккер в течение последних семи безумных дней. Написав последнюю строку своей книги 6 августа 1818 года, он рухнул без сил.
Лаэннек мог бы подумать, что причина – в нервном истощении, но он не мог игнорировать обострение старой «астмы», которая терзала его последние несколько месяцев. Впервые он начал допускать возможность, что может стать жертвой болезни, которая забрала жизни многих его коллег, а также его матери и брата. Тем не менее он, кто знал о симптомах и патологии этого заболевания больше, чем кто-либо другой среди живущих, продолжал отрицать, по крайней мере перед другими, что он, возможно, страдает от туберкулеза. Он предпочитал диагностировать у себя случай депрессии, современного эквивалента сегодняшнего нервного срыва.
Поскольку Лаэннек не мог возобновить практику и работу в больнице, он взял продолжительный отпуск и отправился в свою любимую Бретань. От семьи отца ему достался в наследство старый загородный дом под названием Керлуарнек, что в переводе с его родного бретонского диалекта означает «лисья нора». Именно в это маленькое поместье он теперь приехал, чтобы восстановиться после своих нелегких трудов и оправиться от одышки. Через несколько месяцев состояние его легких улучшилось, настроение стало менее подавленным, и он почувствовал готовность вернуться к работе. Навестив сначала отца, а затем дядю Гийома, в ноябре он вернулся в Париж.
По мнению коллег, он выглядел не намного лучше, чем в тот день, когда их покинул. Он оставался худым до измождения, и часто казалось, что он на грани обморока. Более того, заботы, к которым он вернулся, были не менее изнуряющими, чем те, что он оставил три месяца назад. Больных, как всегда, было много, а учебная нагрузка только возросла. Хотя ему больше не приходилось терзаться муками творчества, но теперь он должен был редактировать и корректировать свою рукопись. Каким-то образом ему удалось довести книгу до печати, но к нему вернулись проблемы с дыханием и общее состояние депрессии.
Наконец, тянуть дольше было нельзя: ему нужно было проститься либо со своей карьерой, либо с жизнью. Примерно за месяц до публикации книги он писал Гийому:
Я надеюсь попрощаться с Парижем самое позднее в конце августа. Многие люди на моем месте были бы в отчаянии… но я не способен продолжать, не подвергая опасности свою жизнь, поскольку степень напряжения умственной концентрации, необходимой для подготовки занятий, и мои нервы заставили бы меня отказаться от них или сделать работу плохо в двадцати случаях из сорока… Я никогда не взял бы на себя такую задачу, если бы не мог выполнить ее с честью. Я предпочитаю уехать и делать ровно столько, сколько смогу в Керлуарнеке. В конце концов, пока мне удастся сводить концы с концами, я буду там счастлив.
Он оставил свой больничный пост, подарив свои патологические образцы и несколько своих книг библиотеке. Распродав остальные и избавившись от домашнего скарба, 8 октября 1819 года он покинул Париж в черном кабриолете, в котором так часто ездил навещать своих пациентов.
В течение двух лет Лаэннек жил жизнью добропорядочного фермера, пытаясь восстановить свое здоровье. В те дни, когда он не занимался делами в Керлуарнеке, он неторопливо гулял по лесу со своими собаками или отправлялся верхом в продолжительную спокойную поездку. Он занимался лечением фермера, арендующего у него жилье, и всех, кто нуждался в его услугах, что давало ему возможность продемонстрировать местным врачам стетоскопы, которые он изготавливал на своем токарном станке как никогда искусно. Лаэннек проводил бесчисленные часы, совершенствуя свою бретонскую речь. Каждое воскресенье с четками в руке он присоединялся к торжественному шествию крестьянок и рыбаков, снявших головные уборы, к местной деревенской церкви. Он стал во всех отношениях бретонским деревенским сквайром.
Несмотря на неторопливый ритм жизни, силы Лаэннека возвращались очень медленно. Когда его кузен Кристоф написал в январе 1821 года, что может предложить ему место на факультете медицины, он не поддался искушению. Дядя Гийом, который не понимал, насколько далеко зашла болезнь у его племянника, написал ему, что только психопат не воспользовался бы такой возможностью. Одной строкой ответного письма молодой человек описал, как тяжело ему справляться с ежедневными заботами. «Я похож на Аякса, – писал он. – Все, что мне остается, – это доблестно сражаться каждый день».
Однако со временем Лаэннек начал задумываться о своем возвращении. Окончательное решение он принял в конце лета 1821 года. В начале октября в сопровождении своего племянника Мерьедека Лаэннека который тоже был врачом, с многочисленными остановками он отправился в Париж. Вскоре после прибытия, 15 ноября, он возобновил практику и вновь начал читать лекции по клинической медицине. Лаэннек не посещал больных на дому, но консультировал много пациентов, среди которых было значительное число состоятельных людей, так что его доход вскоре снова стал весьма существенным. Еще раз благодаря влиянию и связям, при всей недостойности подобных методов, один из самых уважаемых врачей Франции получил вполне заслуженную высокую должность. По королевскому указу Людовика XVIII в феврале 1816 года конкурсы были отменены, и профессора стали назначаться правительством. Приятель Лаэннека, бретонец, министр Корбьер, позаботился о том, чтобы 31 июля 1822 года профессором и королевским преподавателем Французского колледжа стал его друг. В начале следующего учебного года назначение королем своего казначея главой университета вызвало ряд незначительных студенческих выступлений в знак протеста против этого решения. Правительство воспользовалось возможностью обвинить в беспорядках профессоров, чьи либеральные наклонности его давно не устраивали. Королевским указом от 21 ноября 1822 года профессорско-преподавательский состав факультета был распущен. С помощью этой очевидной уловки министры избавились от нежелательных для них людей и заменили их другими, чьи политические и религиозные взгляды были более приемлемыми. Лаэннек, который придерживался надлежащих ортодоксальных религиозных убеждений и был хорошо известен как роялист, был одним из немногих, кто выиграл от студенческих волнений. Он стал членом небольшого комитета, учрежденного для реорганизации факультета, в результате которой он стал единственным профессором медицины во Французском колледже. Вскоре последовали и другие отличия. В январе 1823 года он был избран действительным членом медицинской академии, а в августе 1824 года он получил звание рыцаря ордена Почетного легиона.
Больница Шарите была подходящим местом для профессора медицины Французского колледжа. Теперь Лаэннек занимался клинической работой там, где он провел свои студенческие дни, в старых зданиях на улице Сен-Перес. Здесь начались дни его истинного триумфа как преподавателя. Он учил других так же, как постигал медицину сам, сопоставляя симптомы и результаты физикального обследования пациентов с данными, полученными при вскрытии. В наше время патология – это отдельная специализация, а в те дни она была продолжением клинической медицины. В преподавательской и исследовательской деятельности патология была самой важной и полезной частью. В пять больничных палат, находившихся под руководством Лаэннека, сотнями стекались иностранные студенты, привлеченные не столько его высокой квалификацией клинициста, сколько чтением его книг, переведенных на многие языки. Даже в большей степени, чем прежде, Париж стал главным мировым центром изучения медицины, и его ядром был Рене Лаэннек.
За исключением того, что свои показательные обходы в клинике он начинал позже шести утра, как было принято в те дни, в остальном Лаэннек действовал так же, как другие ведущие врачи и хирурги Парижа. В десять часов, сопровождаемый кортежем из молодых врачей, студентов и иностранных гостей, он отправлялся на осмотр больных в палатах Шарите. Весь обход, за исключением опроса пациентов, проводился на латыни для удобства иностранцев, не знающих французского языка. Лаэннек останавливался у постели каждого нового больного, выслушивал его жалобы, а затем демонстрировал надлежащий порядок выполнения соответствующих этапов физикального осмотра. Некоторым из студентов, французам и иностранцам, позволялось провести освидетельствование того же пациента самостоятельно и обсудить полученные результаты с профессором. После окончания процедуры вся группа удалялась в амфитеатр, где Лаэннек читал лекцию на тему, связанную с заболеваниями, которые они только что диагностировали.
После лекции следовала самая важная часть клинической работы – аутопсия умерших пациентов, которых студенты видели на осмотрах. Это своеобразное «подведение итогов» делало парижский метод обучения исключительно эффективным. Под впечатлением от этой системы преподавания вдохновленные иностранные студенты возвращались домой и воссоздавали аналогичный порядок подготовки начинающих врачей в своих странах. В частности, в Лондоне, Дублине и Вене больницы и кабинеты аутопсии становились ареной, где происходил обмен медицинскими знаниями, своего рода научное перекрестное опыление. В результате такого метода обучения, называемого историками больничной медициной, место учебы с университетских лекционных залов сменилось на больничные палаты.
Именно в этот исторический период основной фокус медицинских исследований сменил свою направленность с пациента на его болезнь. Врачи прошлых времен не понимали, что в целом заболевание организма происходит не столько из-за общего дисбаланса, сколько из-за весьма специфических патологических изменений отдельных органов. Сначала Морганьи, а теперь и представители Парижской медицинской школы провозгласили тезис о том, что невозможно достигнуть прогресса в лечении людей до тех пор, пока конкретика не займет место общих положений и неопределенности, пока истинный источник каждого симптома не будет найден и пока диагностическое видение целителей не сузится до точечного и поэтому значительно ярче освещенного фокуса. Необходимо было позволить книдской философии преодолеть воззрения школы Коэна.
Здесь речь идет не о том, что акцент книдийцев на конкретике в долгосрочной перспективе окажется правильным. Когда однажды в будущем мы узнаем о таких вещах гораздо больше, чем нам известно сейчас, вполне возможно, что наш взгляд на причину заболеваний в конечном итоге вновь вернется к точке зрения, близкой представлениям Гиппократа или абсолютно другой модели взаимосвязей. Уже сегодня имеется большое количество медицинских свидетельств, подтверждающих, что для возникновения любого болезнетворного процесса существует множество причин, в том числе генетических, иммунологических, экологических, психологических, гормональных и т. д., и их общее воздействие приводит к конкретному результату, который может быть различным у каждого индивидуума, в зависимости от его конституциональных факторов, зависящих, в свою очередь, от генетики, иммунологии и всего остального. Другими словами, в двадцать первом веке мы можем оказаться в новой эпохе гиппократизма, основанного на научных знаниях.
Однако, учитывая положение дел в начале девятнадцатого века, ни одно из вышеперечисленных соображений не умаляет заслуг Лаэннека и других исследователей, которые искали прямую связь между симптомами и идентифицируемыми физическими изменениями в органах. Только когда эта точка зрения стала доминирующей, и механизмы заболевания начали изучаться таким образом, произошло лавинообразное увеличение информации, позволившее медицинской науке подняться на следующий, более высокий уровень. Концепция, основной тезис которой состоял в том, что патология органов является главной причиной всех болезней, была принята не без колебаний, по большей части – из гуманитарных соображений. В сохранившихся письмах иностранных посетителей французских больниц того периода можно обнаружить множество негативных комментариев относительно того, что врачи склонны воспринимать пациентов практически как материал для изучения и преподавания. С точки зрения пациентов, лечившие их парижские клиницисты решали проблемы, связанные с патологией, не принимая в расчет самого человека. С тех пор представители медицинской профессии постоянно слышат это обвинение. Подобный упрек вызван не научными технологиями конца двадцатого века, как многим могло бы показаться, а скорее является следствием анатомической концепции возникновения болезни. Без нее научная медицина почти наверняка никогда не вышла бы за пределы гуморов и надежды. Она даже не стала бы научной. Но потери в гуманности и доброте были велики, намного больше, чем считали представители профессии до недавнего времени.
Пьер Луис, превосходный парижский врач следующего поколения клиницистов после Лаэннека, начал одну из своих книг цитатой из Жан-Жака Руссо, которая может, по крайней мере частично, объяснить необходимость научного подхода и эмоциональной дистанции между врачом и пациентом: «Я понимаю, что истина в фактах, а не в моем разуме, который лишь судит о них. Чем меньше личного я привношу в эти суждения, тем скорее я постигну истину». Это декларация объективности: в диагностике разум клинициста должен быть закрыт для всего, кроме воспроизводимых доказательств пяти его чувств. С этой точки зрения все, что мешает научной отстраненности, мешает и поиску истины. Субъективизм, который находит выражение в эмоциях и личных переживаниях, полезен ровно настолько, насколько это вообще возможно в заботе о пациентах, но слишком часто тенденциозность стоит на пути точной диагностики патологических процессов и корректных методов лечения. Беспристрастность была кредо французских клиницистов-исследователей начала девятнадцатого века и по-прежнему остается научным принципом их профессии. Конечно, исцеление – это нечто большее, чем просто наука, и каждый врач знает об этом. Но наиболее точно книдский подход к подавлению болезни в рамках ее воздействия на ткани и органы выражен словами врачей-гиппократиков: лечить человека, который заболел, а не болезни, которые возникают у людей.
Из всех групп студентов, выражающих отрицательное отношение к кажущейся холодной отстраненности парижских профессоров, американцы, с их обостренным чувством человеческого достоинства и равноправия, в том числе в отношении бедных, были самыми откровенными. Но даже они признавали, насколько важна госпитализация, поскольку она позволяет не только оказывать помощь большому количеству людей одновременно, но и внимательно наблюдать за развитием болезней. Через двадцать лет после изобретения стетоскопа Лаэннеком многие американцы, имеющие достаточные средства, отправлялись в Париж сразу после получения медицинского диплома. (Что стало намного проще благодаря введению в 1817 году регулярных рейсов трансатлантических пакетированных судов из Нью-Йорка, что означало, что желающим попасть в Европу больше не нужно было ждать недели или месяцы, пока капитан не решит, что у него достаточно груза и подул попутный ветер.) Одним из таких визитеров в Шарите был Оливер Уэнделл Холмс, который описал преимущества французской системы в письме, которое он написал домой в июне 1835 года:
Если бы меня спросили, почему вы предпочитаете умного молодого человека, который добросовестно учился в Париже этому почтенному практику, который прожил вдвое дольше, я бы сказал: потому что у молодого человека есть опыт. Он видел больше случаев почти любого заболевания; он наблюдал их сконцентрированными, так что они способствовали пониманию проблемы; его учили проводить гораздо более сложные исследования; ему ежедневно давали наставления люди, для которых нет авторитетов, и преподавали они не какую-то доктрину, а объясняли законы природы, демонстрировали их у кровати больного, при этом самый никчемный ученик мог выражать сомнения и спорить, если не видел свидетельств, подтверждающих слова преподавателя; он в течение года проводил вскрытие трупов чаще и тщательнее, чем подавляющее большинство наших практиков в течение десяти лет жизни. Истинный опыт приходит с возможностью умножаться с годами.
Вернувшись в Соединенные Штаты, Холмс и его товарищи по путешествию не нашли ничего, что могло бы сравниться с преимуществами преподавания во французской системе обучения, к тому же они осознали, что американский темперамент не позволит воссоздать атмосферу научной отстраненности. Во-первых, более сильный акцент на отсутствии классов в американском обществе (несмотря на равенство между представителями различных профессий во Франции) требовал более деликатного отношения к госпитализированным пациентам, чем к простому «учебному материалу» в руках профессоров. Во-вторых, Холмс и другие врачи признали силу течения антиинтеллектуализма, существовавшего в популистской молодой стране, где в то время в умах господствовала джексоновская демократия[14]. На протяжении девятнадцатого века и в течение первых нескольких десятилетий двадцатого преподавание в американских медицинских школах, квалификация американских врачей и их научные исследования оставались далеко позади европейских. «Больничная система» в этой стране не будет практиковаться до основания в 1893 году медицинской школы в Университете Джонса Хопкинса и учреждения через несколько лет собственной университетской больницы. Даже после этого потребовалось более тридцати лет для укоренения новых принципов преподавания в Соединенных Штатах. Еще в Первую мировую войну эта американская школа, ученики которой имели доступ к госпитализированным пациентам, была исключением из правил. История развития системы, в которой медицинские школы создавали объединения с крупными больницами, – это история перехода американского медицинского образования на его современный, самый высокий в мире уровень.
Непревзойденное мастерство Лаэннека как преподавателя и диагноста не означает, что он мог гораздо больше сделать для своих пациентов, чем его герой Гиппократ две тысячи триста лет назад. Справедливости ради следует отметить, что его коллеги хирурги добились определенного прогресса в лечении большого числа внешне очевидных недугов и даже усовершенствовали некоторые инструменты и разработали новые операционные техники. С другой стороны, врачи все еще пытались повлиять на нарушенный гуморальный баланс своих пациентов. Они по-прежнему практиковали очищение и рвоту, хотя теперь для применения этих методов у них были несколько более сложные обоснования. Такое лечение, называемое эмпирическим в силу того, что медики оценивали его полезность, опираясь исключительно на личный опыт, иногда имело устойчивый физиологический эффект, который будет открыт позже совершенно случайно. Например, кровопускание при остановке сердца из-за скопления жидкости в легких. Поскольку подобная терапия во многих случаях признавалась эффективной, она рекомендовалась для лечения болезней, которые казались связанными с теми, где ее применение было успешным, но на самом деле не имели с ними ничего общего. Распространение такого рода мышления во всех направлениях привело к созданию большого числа терапевтических методов, не имеющих научного обоснования, особенно когда они опирались на теорию причинно-следственной связи, выдвинутую Гиппократом. Например, Фуке, который был одним из преемников Лаэннека в Шарите, лечил лихорадку седативными препаратами, а при тяжелой диарее прикладывал пиявок к анусу.
Как профессор медицины Французского колледжа, Лаэннек читал курс лекций и проводил регулярные учебные обходы в больнице Шарите. По мере увеличения его известности расширялась и его частная практика. К тому же наступил момент для публикации второго издания De l’Auscultation Mediate. Кроме того, он по мере необходимости продолжал писать статьи для медицинских журналов, из чего нетрудно понять, что после назначения в 1822 году на должность профессора ему приходилось трудиться больше, чем когда-либо. И это в то время, когда его хронически ухудшающееся здоровье привело к такому истощению сил, что непонятно, как он вообще мог работать.
В октябре 1822 года Лаэннек пригласил свою дальнюю родственницу, вдову Жаклин Аргу переехать в квартиру, где он жил вместе с племянником Мерьедеком, чтобы она помогала вести хозяйство, освободив его от некоторых утомительных повседневных забот. Женщина была благочестивой католичкой, что означало, как он писал в письме к Кристофу, что «благодаря ее религиозности и возрасту (сорок два или сорок три года) никому не придет в голову ничего дурного». Кроме того, кто бы мог проявить такую неучтивость и предположить, что у изможденного туберкулезом профессора возникнет непристойное желание, которое скорее может овладеть более здоровым телом?
Оказалось, было немало злобных и грубых людей. В течение двух лет личная жизнь Лаэннека стала предметом разнообразных глупых сплетен в медицинских и общественных кругах Парижа. То, что мадам Аргу была образцом добродетели и благочестия, а также прекрасно справлялась с домашним хозяйством как-то упускалось из виду. Что имело значение, так это шанс ради забавы уязвить знаменитого профессора и его благочестивую родственницу. В итоге 16 декабря 1824 года г-жа Аргу из вдовы была произведена в жену, вероятнее всего, с целью заткнуть рты клеветникам, а не по причине возникших романтических чувств. Но она и ее новый супруг зашли еще дальше, и весной 1825 года Жаклин Лаэннек, едва расставшись с титулом невесты, забеременела. Новость, что он наконец станет отцом, вдохнула в ее мужа новые силы и энтузиазм. Он начал строить планы, а значит, он надеялся, что его жизнь будет долгой и он увидит, как растет его дитя. К сожалению, несколько месяцев спустя мать подцепила какую-то инфекцию и во время тяжелой неизвестной болезни потеряла ребенка.
К тому моменту, когда в апреле 1826 года второе издание его выдающейся книги вышло в свет, горечь из-за выкидыша у жены, неотложная тяжелая работа и постоянное обострение проблем с дыханием привели к окончательному истощению сил Лаэннека. Он больше не мог отрицать, что смертельно болен. Лихорадка и боли в груди начали быстро обостряться. Он кашлял густой, дурно пахнущей субстанцией, состоявшей из разрушенных тканей его легких. Впервые Мерьедек с помощью стетоскопа услышал пугающие звуки, указывающие на наличие туберкулезной полости в верхней левой части груди своего дяди. 20 апреля Лаэннек составил завещание.
Пришло время вернуться домой в свою любимую Бретань. Возможно, там он мог бы немного восстановить свои силы, но независимо от результата Лаэннек решил больше никогда не возвращаться в Париж. 30 мая крайне изможденный и смертельно бледный он с большим трудом в последний раз сошел вниз по лестнице своего дома в Париже. Одетый в свой обычный черный костюм, опирающийся всем невесомым дрожащим телом на руку своей жены, он был похож на человека, спускающегося шаг за шагом в свою могилу.
Дорога домой была мучительной. Наконец, после десяти тягостных дождливых дней, на горизонте показались холмы, окружающие Керлуарнек. Дождь милосердно остановился, и солнце сверкало во всем великолепии раннего июньского утра, когда Лаэннек ступил на землю из своего экипажа навстречу приветствующей его толпе местных фермеров и крестьян из его поместья. Он вернулся домой, но слишком поздно.
Умирающему оставалось шесть коротких недель. Время от времени сосед вывозил его на прогулку по окрестностям в маленькой коляске. Лаэннек часто посещал местную часовню Сент-Круа и в ответ на его молитвы вскоре наступил короткий период улучшения, во время которого он смог обойти свои владения в сопровождении друзей и двоюродных братьев, которые приехали в последний раз увидеться и попрощаться с Рене. В середине второй недели августа лихорадка вернулась с новой силой и погрузила свою жертву в состояние бреда.
В полдень 13 августа сознание Лаэннека ненадолго прояснилось. Он взглянул на жену, не отходившую от его постели, из последних сил приподнялся, пытаясь принять вертикальное положение, медленно снял с пальцев кольца и положил их на прикроватную тумбочку. «Я делаю это, – едва слышно произнес Лаэннек, – потому что в любом случае кому-то вскоре пришлось бы оказать мне эту услугу. Мне хочется избавить их от этой неприятной обязанности». Это были его последние слова. Двумя часами позже Рене Лаэннек, известный на весь мир врач, изобретатель первого диагностического медицинского инструмента, стал еще одной жертвой туберкулеза, того самого бедствия, истинную природу которого он разоблачил.
После похорон Лаэннека на местном кладбище семья собралась для оглашения его воли. В последние дни в Керлуарнеке он сделал дополнение к завещанию, оставив все свои медицинские книги и записи Мерьедеку. Он написал: «Я передаю ему свои часы, мое кольцо и прежде всего лучшую часть моего наследия – мой стетоскоп».
9. Возникновение микробной теории до открытия самих микроорганизмов. Загадка Игнаца Земмельвейса
Гений был бесценным, благотворным, божественным, а также временами капризным, зловещим, жестоким; и натуры, оседлавшие его, были, соответственно, то превосходными, то совсем беспомощными.
Генри Джеймс, Родерик Хадсон
Стараниями многих биографов Игнаца Земмельвейса был создан миф, благодаря которому события его жизни становятся похожими на греческую трагедию. Однако биографы хотели убедить нас в том, что это настоящая поэма в духе Эсхила, в которой героя уничтожают злобные боги – силы, не зависящие от него. Хотя нет никаких сомнений в том, что в жизни этого гения, открывшего метод предотвращения смертельной болезни, так называемой послеродовой лихорадки, случилась реальная трагедия, факты говорят о том, что она больше напоминала сочинения Софокла, а не Эсхила. Основными элементами драмы Софокла являются герой, истина, высокая миссия и, наконец, всплеск пламенной самонадеянности, приводящей к поражению. Эсхил писал не об этом; судьба софокловского героя определяется не действиями богов, а фундаментальными недостатками его характера. Драма Игнаца Земмельвейса развивалась по классическим канонам: открыв свою истину и собственную миссию, он сам сотворил свою трагическую судьбу и неумолимо шел ей навстречу. Гений может, как говорит нам Генри Джеймс, быть жестоким, и те, кто обладает этим качеством, или позволяет ему управлять собой, могут оказаться совершенно беспомощными.
Беспомощность Игнаца Земмельвейса была следствием саморазрушающейся психики, не выпускавшей его из своих цепких объятий. Причиной его трагической судьбы был ужасный характер, а не непреодолимая воля богов, о которой десятилетиями твердят популярные историки и отсталый медицинский истеблишмент.
В каком-то смысле, однако, звезды не были благосклонны к Земмельвейсу: благодаря своему таланту он сделал открытие, к которому мир еще не был готов. Он нарушил основополагающие принципы, определяющие правила тех, кто самоотверженно трудится над познанием тайн природы: идея никогда не должна быть представлена раньше того момента, когда наступает ее время. Если в науке случается кажущийся революционным скачок, он почти всегда оказывается всего лишь очень широким шагом вперед особенно смелого исследователя в процессе, почва для которого была подготовлена работой его предшественников. Когда культурная среда благоприятствует, необходимые инструменты уже изобретены и множество беспокойных умов начинают беспокоиться о своем статус-кво, на сцену выходит какой-нибудь отчаянный храбрец, чтобы принести миру новые плоды просвещения. Хотя лишь небольшое число пытливых умов способны поначалу оценить масштаб его идеи, признание на самом деле неизбежно, поскольку вновь предъявленная концепция является результатом логического процесса научного прогресса. Даже если ученые мужи еще не знают, что делать с каким-то особенно смелым суждением, всегда найдутся те, кто решит, что идея имеет право на существование, а поэтому следует иметь ее в виду до того дня, когда ее целесообразность станет очевидной. Такая ситуация сложилась и с открытием кровообращения Уильяма Гарвея, и с анатомической концепцией Везалия, хотя и в меньшей степени, и с исследованиями Джона Хантера в области хирургии. Что касается более удачливых ученых, таких как Морганьи и Лаэннек, отклик на их научные находки был быстрым и энергичным. Нашлось немало достаточно мудрых людей, по достоинству оценивших их работу, а также способы немедленного практического применения их открытий. А вот Игнацу Земмельвейсу не повезло. Он представил миру концепцию возникновения заболевания из-за бактериального загрязнения, но произошло это за девять лет до того, как Луи Пастер доказал, что гниение вызывается особыми бактериями. Он идентифицировал способ, с помощью которого смертельная инфекция, послеродовая лихорадка, может передаваться от одной пациентки к другой теми самыми врачами, которые пытаются их вылечить. Но прогресс в этом вопросе был достигнут только за двадцать лет до одного еще более важного открытия, сделанного Джозефом Листером, в 1867 году подтвердившим, что раневые инфекции вызываются бактериями, которые могут передаваться руками врачей.
Тем не менее не стоит смотреть на Земмельвейса как на несчастную жертву судьбы, сожалея, что он родился раньше своего времени. Его открытие, как скоро станет очевидно, было сделано на основе работ его предшественников и появилось в обстановке, которая позволила прорасти этому хрупкому семени, несмотря на то, что оно слишком рано было брошено в землю. То, что этого не случилось, не столько результат того, что Земмельвейс проснулся, как и Леонардо, «слишком рано в темноте», сколько его собственного упорного нежелания признать, что медицина, хотя и не совсем зрелая, была почти готова оценить его теорию по достоинству, чего он так жаждал, и спасти много жизней, которые были трагически потеряны из-за его своенравия.
Игнац Земмельвейс, в конечном счете, потерпел поражение не только потому, что родился слишком рано, но и из-за своего невероятного упрямства. Он настолько увяз в трясине самодовольства и ханжества, что никогда не пытался провести эксперименты, которые могли бы подтвердить справедливость его концепции, и не убедил ни одного из квалифицированных научных специалистов, которых в то время становилось все больше, в необходимости лабораторных исследований для изучения его теории. Он должен был стать тем человеком, который первым оценит открытие Пастера и сделает его фундаментальной основой медицины. Вместо этого он стал пациентом, а решающий шаг на пути к признанию микробной гипотезы происхождения инфекционных болезней сделает самоотверженный Листер.
Таким образом, история жизни Игнаца Земмельвейса становится мрачным предостережением для желающих трудиться на медицинском поприще. Рассматривая калейдоскоп биографий успешных людей в этой книге, нам следует сделать паузу и обратить свое внимание на историю иного рода. Часто тернистый путь медицинских исследований заканчивается тупиком, и гораздо больше потенциальных героев рухнули без сил на обочине, чем тех, кто смог пройти весь путь до победного конца. В «галерее человеческих глупостей», описанной Филдингом Гаррисоном, сага о Земмельвейсе звучит особенно остро, потому что глупость его главного героя относится не к его таланту, а к характеру. Действуя лишь в течение недолгого периода правильно, хотя и немного преждевременно, весь остаток своей жизни он делал ошибку за ошибкой. Его книга не стала одним из величайших поворотных моментов в истории медицины, а ознаменовала собой тот несчастливый момент, когда в поведении Земмельвейса появились странности, в результате чего о нем уже не вспоминали до начала двадцатого века.
Для Венской медицинской школы 1847 год был временем экстремального консерватизма, как в национальной политике, так и в медицине. Венгрия и Австрия были частями великой империи Габсбургов, но Вена была блестящей столицей, а Венгрия оставалась подчиненной провинцией, где доминировала находившаяся тогда на подъеме германская культура. Князь Меттерних, первый министр империи, проводил политику репрессий и жестокости, цель которой состояла в противопоставлении друг другу разных национальных групп государства. Это был канун ряда неудачных революций 1848 года, которые не привели к реальному улучшению обстановки на политической арене, но открыли путь к увеличению свобод в академических институтах.
Венский университет и особенно его медицинская школа стали очагом бурной революционной деятельности. В восстаниях 1848 года активное участие принимал весь младший преподавательский состав, во многом потому, что университет находился под удушающим контролем правительственных министерств. Некоторые из руководящих постов школы занимали пожилые профессора, обязанные своим положением личным связям все с теми же государственными управленцами. Они выступили против молодых преподавателей, поскольку не разделяли ни их либеральной политики, ни новых идей в отношении исследований вопросов причинности заболеваний. В момент противостояния нового старому, интеллектуальных либералов – консерваторам, истинного научного понимания болезни – туманным теориям старой медицины, теория Земмельвейса, образно выражаясь, взорвалась подобно бомбе. Поскольку его доктрина была результатом аналитического и эмпирического методов, за утверждение которых ратовали «младотурки», а также из-за стихийного распространения идей трех их великих лидеров, новая концепция стала полем битвы, где четко прослеживались три линии обороны.
Основные баталии восемнадцатого и девятнадцатого веков нередко начинались на рассвете. Так что есть некоторая поэтическая правда в том, что в этот период, который Игнац Земмельвейс спустя годы назвал «восхождением послеродового солнца над Веной», представление его теории стало призывом к оружию для сражения в этой важнейшей битве в истории Венской медицинской школы.
По счастливому совпадению, именно в то время, когда наступил самый славный период в истории школы, произошла встреча трех гениальных дальновидных молодых людей. Первым и самым выдающимся был Карл фон Рокитанский, профессор патологической анатомии, который утверждал, что клинические симптомы – это внешние проявления патологических изменений в органах и тканях. Хотя доктрина Морганьи появилась раньше, чем Рокитанский начал обучение в Парижской школе, по-прежнему считавшаяся новой концепция еще не получила всеобщего признания, когда он получил свою должность в 1844 году. По его мнению, патологоанатом должен не только выявлять нарушения органов, но и рассматривать их как одну из фаз эволюции, одного мгновения в продолжительном динамическом процессе развития заболевания. Вдохновленный работами французских ученых и исследованиями Джона Хантера в области физиологии, он стремился описать процесс развития болезни до того момента, когда лечащий врач встречается с ней на приеме в клинике или у стола для вскрытия. Было уже недостаточно просто по типу крика определить страдающий орган; требовалось по его состоянию воссоздать картину до начала заболевания, чтобы можно было реконструировать и понять весь процесс.
Рокитанский хотел узнать не только ход развития анатомических изменений, но и сопровождающие их нарушения функций. Для подобного рода детального изучения процесса развития заболеваний необходимо было, чтобы наблюдатель был специалистом в такой работе. Рокитанский сделал исследование патологии самостоятельной областью медицины. В Вене врач-клиницист сам не проводил посмертных вскрытий, он заходил в кабинет для аутопсии, и патологоанатом показывал ему то, что обнаружил при вскрытии. Так же поступают современные клиницисты. Институт патологии Венского университета был похож на концертный зал медицины, в котором артисты одного направления играли, если так можно сказать, «о́рганный» концерт для исполнителей другого. Рокитанский давал примерно тысячу восемьсот таких выступлений ежегодно, около тридцати тысяч – за всю жизнь. Тела всех умерших пациентов центральной венской больницы на две тысячи коек доставляли в его отделение. За все время своей профессиональной деятельности он разработал стройную систему классификации болезней; Рудольф Вирхов называл Рокитанского «Линнеем патологической анатомии». Он был на переднем крае исторического процесса, в результате которого лидирующая роль западной медицины перешла к немецкоязычным школам и больницам Центральной Европы и оставалась за ними вплоть до середины следующего века.
Патологоанатом Эдвин Клебс, сделавший огромный вклад в развитие теории бактериальной этиологии заболеваний (и, кстати, отец одного из основателей моей библиотеки), писал, что Рокитанский «научил нас мыслить у постели больного анатомическими категориями и составлять единую клиническую картину из отдельных элементов патологического процесса у стола для аутопсии». Именно от этого великолепного специалиста Игнац Земмельвейс почерпнул искусство пристального наблюдения, научился отличать существенные детали от тривиальных и тому, как из совокупности данных своих наблюдений сформулировать окончательный диагноз, в котором клинические симптомы коррелировали бы с патологическими.
Вторым членом триумвирата был Йозеф Шкода, ведущий врач Венской медицинской школы. Он известен исследованиями перкуссии и аускультации, в которых, как и Рокитанский, он сопоставлял клинические проявления болезней с патологическими изменениями внутренних органов, вызвавших их. Его подход несколько отличался от методов Лаэннека и его последователей, поскольку он концентрировался не столько на физических свойствах прослушиваемых структур, сколько на их биологических характеристиках. Это делало его систему менее подверженной обобщениям, в отличие от французской, вследствие чего она стала более популярной среди новичков. Рокитанский был добрым, щедрым человеком, в то время как Шкода был холодным, резким и мало озабоченным личными дружескими отношениями с коллегами. Все, что его интересовало, было связано с клинической наукой, суть которой для Йозефа Шкоды состояла, прежде всего, в диагностике, а не в терапии. Он считал, что абсолютно неважно, какое из малоэффективных лечебных средств того времени будет выбрано для использования в том или иной случае, охарактеризовав их в присущей ему резкой манере, как das ist ja alles eins (суть одно и то же), – они и в самом деле были все одинаковы. Он был сторонником профилактики, полагая, что надлежащий подход к заболеванию должен остановить его развитие прежде, чем оно начнет свое разрушительное воздействие. С этой целью он настойчиво изучал такие эпидемические заболевания, как брюшной тиф и холера. Он был одним из тех врачей, кто увлекался теориями, подобными той, что предложил Земмельвейс.
Хотя Шкода был поборником обеспечения мер гигиены и общественного здравоохранения, успехов, увековечивших его имя в истории медицины, он достиг в области индивидуальной диагностики. Работая в кабинете аутопсии бок о бок с Рокитанским и используя полученные знания в работе с госпитализированными пациентами в больнице, он выстроил логическую схему рассуждений, которая завладела воображением молодого Земмельвейса. Шкода и Рокитанский утверждали, что именно разработанные ими в рамках новых приемов научной логики концепции привели к обнаружению причины послеродовой лихорадки. Эрна Лески в своем энциклопедическом исследовании Венской медицинской школы утверждает, что эти два гиганта мысли были не только единомышленниками Земмельвейса, но и «интеллектуальными вдохновителями его открытия».
Самым младшим из трех упомянутых лидеров медицины был Фердинанд фон Гебра. Лишь двумя годами старше Игнаца Земмельвейса, Гебра, также ученик Рокитанского и Шкоды, применил основополагающие принципы их концепций в процессе разработки методов диагностики и классификации кожных заболеваний. По поручению Шкоды, он изучал некоторые формы дерматита и основал новую школу дерматологии на базе патологической анатомии. Гебра и Земмельвейс стали близкими друзьями. Веря в справедливость догадки своего товарища, деликатный и доброжелательный Гебра первым описал теорию развития послеродовой лихорадки, выдвинутую его скромным приятелем. По мнению Гебры, это открытие было достойно находиться в одном ряду с вакцинацией против оспы, предложенной Эдвардом Дженнером.
Считается, что герои часто происходят из сословий социальной и интеллектуальной аристократии, с одной стороны, или нищих крестьян и рабочего класса – с другой. Герой нашей трагедии довольно необычен: его отец был бакалейщиком, членом традиционно негероического класса буржуазии.
На самом деле, Игнац Земмельвейс был исключительной личностью во многих отношениях. Во-первых, этот выдающийся венгр имел совсем не венгерское имя. Дьёрдь Гортвей и Имре Золтан проделали огромную работу по сбору материала для его биографии, вышедшей в 1968 году, изучив приходские реестры и проследив историю семьи Земмельвейса вплоть до 1570 года, когда она жила в маленькой деревне Марсцальва. Весьма вероятно, что род Земмельвейсов ведет свое происхождение от дунайских швабов, и, как большая часть торгового сословия Буды и Пешта, члены его семьи говорили на немецком диалекте, называемом буда швабиан. Игнац Филипп, известный среди своих родственников под именем Наси, не занимался серьезным изучением венгерского языка до зачисления в среднюю школу. Поэтому при поступлении в 1837 году в Венский университет оказалось, что немецким он владеет на уровне не понятного венцам диалекта, а только-только освоенный венгерский также вызывает большие затруднения. Общение с коллегами, владеющими рафинированным венским немецким языком, было для него весьма проблематичным. В Вене он поступил в юридическую школу, но проучившись один год, перешел в медицинскую; это было первое, но далеко не последнее изменение сферы деятельности в его жизни. Порой причиной трансформации его судьбы были обстоятельства, а иногда – он сам. Незадолго до окончания Венской медицинской школы в 1844 году Земмельвейс указал в реестре факультета о своем намерении вернуться на родину. Но за неделю до получения степени, по невыясненным причинам, одной из которых, возможно, была смерть матери, он решил остаться в Вене.
Когда новоиспеченный доктор заинтересовался исследованиями боготворимого им Рокитанского, он обратил внимание на работу по судебной патологии его ученика Якоба Кольлецки. Однако, когда он подал заявку на должность ассистента Кольлецки, его просьба была по непонятным причинам отклонена. Он, должно быть, был очень разочарован. Но имея и другие интересы, Земмельвейс попытался получить место помощника Шкоды и снова получил отказ, поскольку Шкода обещал эту работу другому человеку.
В июле 1844 года он начал изучать акушерство и в то же время получил разрешение Карла фон Рокитанского на исследование женских трупов. Вскоре после этого он стал ассистентом профессора акушерства Иоганна Клейна и занимал эту должность до 1847 года. Тот факт, что Клейн был одним из самых ярых представителей старой научной гвардии и имел близких друзей среди политиков министерства, похоже, не уменьшал энтузиазм, с которым Земмельвейс выполнял свои обязанности.
По мере того как молодой акушер проводил все больше и больше вскрытий тел женщин, умерших от детской или послеродовой, как ее обычно называли, лихорадки, у него начала формироваться теория патофизиологии этого заболевания, то есть концепция о причинах и путях его развития. В то время различные авторитеты в области медицины высказывали разнообразные мнения о том, почему у многих женщин в течение нескольких дней после родов начинался патологический процесс, приводящий к летальному исходу. В некоторых больницах в определенное время года количество умерших матерей достигало двадцати пяти процентов. Большинство врачей склонялись к мнению, что это заболевание вызывает эпидемический процесс, а этиология кроется в специфике болезни, сходной по природе с такими недугами, как, например, оспа. Были и такие, кто считал, что виной всему является некий миазм, представляющий собой одно из тех вредных «заразительных начал», в существовании которых греки видели причину всех нарушений здоровья. Теория Игнаца Земмельвейса должна была все изменить. Серия тщательных клинических наблюдений в сочетании с ясными и логичными рассуждениями, которые привели его к созданию своей концепции этой болезни, были описаны в его первой статье, опубликованной лишь одиннадцать лет спустя:
Наблюдение 1. В центральной больнице при Венском университете было два акушерских подразделения, абсолютно одинаковых во всех отношениях, в которых появлялось на свет около трех с половиной тысяч младенцев ежегодно. Между ними существовало только одно различие: в первом подразделении все роды принимали акушеры и студенты, а во втором – только акушерки. В первом подразделении в среднем от шестисот до восьмисот матерей каждый год умирали от детской лихорадки; во втором подразделении эта величина достигала шестидесяти, то есть была в десять раз меньше.
Эти данные было нелегко получить, поскольку женщин, страдающих от послеродовой лихорадки, было принято переводить в общие палаты больницы, и после смерти их не включали в показатели смертности в акушерских подразделениях. Это приводило к искажению картины, отражающей истинную разницу в смертности, которую Земмельвейс смог прояснить только путем тщательного расследования.
Наблюдение 2. В то время как послеродовая лихорадка неистово бушевала в больнице, в Вене подобной эпидемии не наблюдалось. Среди матерей, рожавших дома, смертность была на очень низком уровне; и даже женщины, разрешившиеся от бремени самостоятельно в переулках и на улице, практически все оставались живы.
Наблюдение 3. Годовая статистика показала, что нет никакой прогнозируемой связи между смертностью, погодой или временем года.
Наблюдение 4. Чем тяжелее травма шейки матки и самой матки во время родов, тем больше вероятность развития послеродовой лихорадки.
Наблюдение 5. После открытия палаты, которая некоторое время пустовала, всегда следует период времени, в течение которого не бывает смертельных случаев.
Из описанных наблюдений Земмельвейсу стало ясно, что причиной лихорадки не являются ни эпидемия, ни миазм. Объяснение было найдено благодаря одному непонятному факту, имевшему отношение к обоим подразделениям.
Пока Земмельвейс размышлял над полученными данными, пытаясь определить решающий фактор, в Венской медицинской школе произошла ужасная трагедия. Кольлецки, любимый всеми студентами преподаватель судебной патологии, случайно порезался во время вскрытия и вскоре умер от раневой инфекции. Земмельвейс, лишь девять месяцев назад потерявший отца, обезумел от горя. Последующие события лучше всего описывают слова, написанные им четырнадцать лет спустя:
Абсолютно разбитый, я напряженно размышлял о проблеме, пока внезапно мне в голову не пришла мысль, которая сразу все прояснила: послеродовая лихорадка и смерть профессора Кольлецки были результатом одних и тех же патологических анатомических изменений. Если в случае профессора Кольлецки… септические изменения… возникли из-за загрязнения раны частицами трупа, то и послеродовая лихорадка должна происходить из того же источника… В реальности же частицы трупа были обнаружены на руках студентов и лечащих врачей.
В центральной больнице каждый студент и каждый преподаватель вскрывали по несколько трупов ежедневно в соответствии с составленной Рокитанским весьма насыщенной учебной программой. После вскрытия руки просто споласкивали, тщательно не мыли. Земмельвейс нашел объяснение: передача, выражаясь его словами, «невидимых трупных частиц, узнаваемых только по запаху» являлась причиной послеродовой лихорадки.
По теории Земмельвейса получалось, что послеродовая лихорадка не относилась к специфическим заболеваниям, подобно оспе; она представляла собой ряд патологических изменений в органах и тканях, вызванных гнойным материалом, перенесенным руками медицинского персонала. В отличие от оспы, которая могла развиваться только при наличии другого больного с этим заболеванием, патологические изменения вследствие послеродовой лихорадки могли быть результатом контакта с любым источником гноя: будь то больная роженица, гнойный труп, вскрытый фурункул или инфицированная простыня. При этом речь идет только о гнойном материале животного происхождения (бактериальном гное), из какого бы источника ни исходило заражение.
В то же время американец Оливер Уэнделл Холмс, а также несколько английских врачей описывали эту проблему как специфическое заразное заболевание, которое может передаваться по воздуху, или, иначе говоря, без обязательного присутствия того, что Земмельвейс называл «гнойным материалом животного происхождения». Действительно, в 1843 году Холмс (с работой которого Земмельвейс не был знаком) подошел довольно близко к определению причины развития послеродовой лихорадки и даже размышлял о том, что он назвал вирусом. Но только Земмельвейс действительно понимал, что для заражения необходимы три фактора: источник гнойного материала, средство его физического переноса от источника и непосредственный контакт с жертвой и травмированной поверхностью, например, слизистая внутренней поверхности послеродовой матки или порезанный палец. Как говорил Земмельвейс, «послеродовая лихорадка является переносимой, а не заразной болезнью». Возвращаясь к очень наглядной аналогии с оспой, только оспа может вызвать другой случай оспы, и это то, что подразумевается под инфекцией. Абсцесс зуба или инфицированный рак матки не может вызвать оспу. Но гной от них может вызвать послеродовую лихорадку.
Используя свои полномочия помощника Клейна, Земмельвейс ввел для персонала простое правило: обязательное мытье рук в растворе хлора до такого состояния, когда кожа становилась скользкой и трупный запах полностью исчезал. За 1848 год – первый целый год проводимой Земмельвейсом профилактики – уровень смертности в первом подразделении составил 1,2 процента и 1,3 процента во втором подразделении, то есть были достигнуты вполне сопоставимые беспрецедентные результаты. В апреле 1847 года, последнем месяце до введения новых правил, процент умерших после родов матерей на руках (вполне буквально) у их врачей был 18,3! Таким образом была установлена причина и способ профилактики послеродовой лихорадки. Доктрина была простой, логичной и согласовывалась с каждым выводом, сделанным Земмельвейсом. Она была идеальным воплощением исследовательских приемов, которым он научился у Рокитанского, и методов рассуждения, которым его обучил Шкода. В целом его концепция олицетворяла триумфальную мощь эмпирического подхода в клинической медицине, представленного врачами-гиппократиками, и получившего новую жизнь благодаря французским медикам.
Недальновидные акушеры больше не могли сознательно игнорировать разницу в показателях смертности двух подразделений или вносить путаницу в статистику, переводя пациенток из гинекологических подразделений умирать в палаты общего отделения больницы. Объяснение было найдено, но оно предполагало тяжкое обвинение и необходимость замены старых методов новыми. Для многих акушеров, в течение долгих лет испытывавших угрызения совести перед лицом мучительной беспомощности сократить послеродовую смертность, эта теория была приговором к невыносимому чувству вины.
Однако как воплощение философии молодых профессоров Венской медицинской школы теория Земмельвейса была знаменем, вокруг которого они могли сплотиться в борьбе за свержение старого руководства факультета и поддерживающих его министров правительства. Знаменитый венский хирург Теодор Бильрот спустя тридцать лет после этих событий писал, что термин «академическая свобода», который так часто используется в наши дни, впервые вошел в употребление в 1848 году. Бильрот писал о старшем консервативном профессорско-преподавательском составе Венского университета как о
поколении, воспитанном в интеллектуальной смирительной рубашке с темными очками на глазах и ватой в ушах. Молодые люди, с головокружительной быстротой менявшие основы мировоззрения, и старики, формирование убеждений которых под гнетом постоянного правительственного надзора мешало принять им новые теории, чувствовали, как привычный мир вокруг них становится иным, и ждали скорого конца света.
Исторический момент, описанный Бильротом, был переходным периодом, когда новая медицина, основанная на патологической анатомии, прокладывала себе путь, чтобы завоевать всеобщее признание. Пожилые профессора сопротивлялись переменам, и больше всех Иоганн Клейн, глава акушерского отделения Земмельвейса.
Должно быть, стареющему Клейну было трудно осознать собственную роль в многолетнем побоище. Принятие доктрины Земмельвейса вынудило бы его не только признать справедливость логического метода объективной аргументации, которым пользовались его оппоненты, но и согласиться с тем, что он, как учитель акушеров, являлся невидимым соучастником преступления, виновным в смерти десятков тысяч молодых женщин. То, что мыть руки предложил конфликтный выскочка, опиравшийся на серию перспективных клинических наблюдений, которым он старался воспрепятствовать, вероятно, было болезненным ударом, слишком мучительным, чтобы смириться с ним. Он предпочитал упорно верить в то, что послеродовая лихорадка была неразрешимой проблемой, настаивая на невозможности обмануть судьбу огромного количества попадавших в больницы матерей.
Пришло время публиковать данные исследований, но Земмельвейс не стал письменно излагать свою теорию. Вместо него в декабре 1847 года Гебра рассказал миру об открытии своего друга в местном венском медицинском журнале. Рокитанский решительно выразил поддержку теории Земмельвейса. В апреле 1848 года Гебра вновь написал статью в тот же журнал, хотя, как и первая, она носила редакционный характер и содержала очень мало деталей.
Кроме того, Шкода, неоднократно выступая с устными заявлениями и публикуя свои комментарии в печати, публично высказывался в пользу теории Земмельвейса, а также обращался в академию наук – самую важную научную организацию Австрии.
Биографы Игнаца Земмельвейса описывали одинокого и непонятого человека, который боролся практически со всеобщим противодействием, но был побежден числом и влиянием оппонентов и в результате был уничтожен. На самом деле все было несколько иначе. Все молодые талантливые врачи, в течение нескольких лет занимавшие все более уверенное положение в медицинском сообществе Вены, были на стороне Земмельвейса. На сделанном в 1853 году портрете коллегии медицинского факультета девять из пятнадцати изображенных на картине профессоров активно поддерживали учение Земмельвейса устными выступлениями, статьями и применением его рекомендаций на практике. За год до этого за талант и влияние среди коллег Рокитанского избрали ректором Венского университета. Среди тех, кого можно увидеть на портрете, только Энтон фон Росас, близкий друг Иоганна Клейна, все еще оставался на стороне противников Земмельвейса. (Остальные пять человек не выступали против новой доктрины.)
В печати появились три отдельных заявления по этому поводу. Ряд выдающихся акушеров из разных европейских университетов познакомились с теорией Земмельвейса, и некоторые из них были не согласны с его выводами. Сам же Игнац Земмельвейс, несмотря на уговоры его могущественных друзей, не сделал ничего, чтобы поддержать в общественном обсуждении собственную доктрину. Историки предполагали и, без сомнения, были правы, что от создания литературных шедевров его сдерживало недостаточное владение немецким языком. Другой фактор, вытекающий из первого, возможно, был более значительным. Вероятно, Земмельвейс считал себя аутсайдером, неуклюжим сыном бакалейщика, который общался на нелепом провинциальном немецком диалекте с университетским сообществом, которое, несмотря на свой в целом космополитический характер, с враждебностью встречало чужаков определенного типа. Например, за внешней доброжелательностью хирурга Теодора Бильрота скрывалась глубоко укоренившаяся нетерпимость к некоторым национальным меньшинствам; в бестактной речи, написанной через тридцать лет после событий, о которых мы говорим, он обращался к венграм, называя их чистыми мадьярами. Венгры, которые не были мадьярами, очевидно, стояли лишь на одну ступеньку выше венгерских евреев, у которых была, выражаясь категоричными словами тенденциозного Бильрота, «худшая репутация среди других членов студенческого сообщества Вены». Бедный Земмельвейс был евреем с немецким именем, что не способствовало реализации талантов, которые он, возможно, ощущал в себе. То, что его друг Гебра был евреем (к тому же моравским), но тем не менее был уважаем коллегами, видимо, не производило на Земмельвейса никакого впечатления, который был в своем коллективе практически изгоем.
Еще одной причиной для низкой самооценки Земмельвейса возможно, было положение акушерства в академической иерархии в Европе в середине девятнадцатого века. Хотя кафедры акушерства были во всех крупных университетах, предмет оставался факультативным для студентов. Подавляющее большинство женщин рожали за стенами больниц с помощью повитух. Не стоит забывать, что и сам Земмельвейс стал акушером только после того, как ему не удалось получить другую, более предпочтительную для него работу: сначала в патологии, а потом в фармакологии.
Изучая образ жизни Игнаца Земмельвейса спустя несколько лет после сделанного им открытия, трудно не прийти к заключению, что он жил в плену самоисполняющегося пророчества. Он, похоже, считал себя неловким, непривлекательным чужаком, явившимся из неправильного места и неправильного социального круга, говорящего на неправильном диалекте и не получившего желаемую работу в университете; короче говоря, вечным аутсайдером, стучавшимся в ворота академического Пантеона, которого сам себя считал недостойным. Ни его гений, ни влиятельные друзья, ни величайшее научное открытие не помогли ему преодолеть острое чувство неполноценности, связанное с его, по сути, плебейским происхождением. Эта самооценка уживалась в нем с такими, кажущимися несовместимыми качествами, как тщеславие, злобность и, наконец, всепоглощающее чувство собственного величия, которое, в конце концов, уничтожило его.
В разгар шумихи вокруг его теории контракт Земмельвейса как ассистента акушера 20 марта 1849 года подошел к концу. Клейн, при поддержке друзей из министерства, отказался возобновить его, несмотря на уговоры Рокитанского, Шкоды и Гебры. Земмельвейс раздражал его не только тем, что продвигал свои идеи, но и своей постоянной готовностью разъяснять всем, кто обращался к нему с вопросами, что они становятся убийцами, если не моют руки в растворе хлора перед осмотром роженицы. Он был извергающим адское пламя проповедником и одновременно голосом совести, своего рода мессией, с которым никто не хотел оказаться рядом. Многих акушеров, которые вообще-то склонялись дать шанс его технике, оттолкнула грубость методов, которыми он пытался заставить их испить из своего антисептического корыта истины.
Клейн не внимал никаким увещеваниям, а время шло. Продолжительные уговоры гениального триумвирата вынудили его предпринять некоторые действия, и через три года после выявления причины послеродовой лихорадки, 15 мая 1850 года, безработному Земмельвейсу наконец-то позволили выступить с сообщением перед коллегами на форуме Венского медицинского общества. В июле 1849 года, через четыре месяца после его увольнения Клейном, благодаря поручительству и финансовой поддержке трех своих друзей Земмельвейс был избран членом этого общества. Похоже, к тому моменту он чувствовал себя более уверенно, поскольку Рокитанский тогда уже получил пост президента этой организации. Но, как бы то ни было, имеются свидетельства, что он и сам прекрасно справлялся. По окончании последовавшей за его выступлением дискуссии, которая продолжилась на июньском и июльском заседаниях, ректор объявил, что диссертация Земмельвейса одержала громкую победу.
На тот момент теория Земмельвейса о причинах возникновения послеродовой лихорадки была на грани признания, несмотря на то, что ее автор использовал иногда контрпродуктивные способы ее продвижения. Она получила поддержку новых руководителей медицинского общества Вены, а также благодаря открытому обсуждению прошла клинические и лабораторные испытания, которые только упрочили ее успех. Но в то же самое время, практически мгновенно, Земмельвейс сделал две серьезные самоубийственные ошибки. Во-первых, он не опубликовал свою презентацию и материалы, подготовленные для дебатов в Венском медицинском обществе; поскольку он не представил их в письменном виде, его лекции и комментарии публиковались только в виде кратко сформулированных тезисов, в отличие от возражений его оппонента Эдуарда Люмпа, напечатанных полностью. (Аргументы Люмпа опирались на старый тезис о том, что большие сезонные колебания в заболеваемости послеродовой лихорадкой доказывали, что причиной не могла быть так называемая «трупная инфекция». Так как Земмельвейс еще не опубликовал свою работу, а труды его друзей были фрагментарными, Люмп не верил, что сезонный характер заболевания был менее очевидным, чем подлинная причина инфицирования.) Во-вторых, когда Земмельвейсу предложили невысокую клиническую должность, некоторым образом ограничивающую его преподавательские прерогативы, для его уязвленного эго это стало последним оскорблением. Пять дней спустя, даже не попрощавшись со своими друзьями и сторонниками, не поделившись ни с кем своими планами на будущее, он сбежал из Вены.
Рокитанский, Шкода, Гебра и другие были шокированы. Они дарили ему воодушевление, поддержку и дружбу, с нетерпением ожидая, что он достигнет высокого положения в медицинской школе. Лишь спустя годы Рокитанский простил его, а Шкода никогда не писал ему и, говорят, больше никогда не произносил имя Земмельвейса. Такой поступок был сродни дезертирству верного воина посреди решающего боя.
Велик соблазн назвать побег Игнаца Земмельвейса иронией; сказать, как многие биографы, что, когда победа оказалась на расстоянии вытянутой руки, он струсил. Вместо этого можно предположить, что не было никакой иронии, а был почти обдуманный шаг на жестоком пути самоуничтожения, выбранном Земмельвейсом. Кроме того, победа и назначение профессором в священной Венской медицинской школе были несовместимы с судьбой, которую он себе бессознательно пророчил. А его представление о самом себе как о жалком, неуклюжем аутсайдере не могло сосуществовать с приближающимися продолжительными открытыми прениями, на которых неизбежно пришлось бы выступать против некоторых выдающиеся современных акушеров из других городов. По всей вероятности, он не мог заставить себя писать на своем провинциальном немецком из-за страха сравнения с элегантным стилем своих соперников. Поэтому он сбежал назад в Венгрию, как возвращаются к матери, потому что с ней безопасно, и верил фантазии о своей непризнанности, потому что она рационализировала его стремление в надежные материнские объятия.
Пешт был не похож на Вену. В 1850 году до этого города все еще не долетели ветры, несущие перемены в интеллектуальную жизнь его горожан. В то время как революции 1848 года принесли в Вену некоторые академические свободы, для руководства университета Пешта они послужили лишь основанием усилить репрессии. Земмельвейс подал заявку и получил неоплачиваемую должность директора акушерского отделения в больнице Рохус, где он добился впечатляющего снижения показателей материнской смертности до 0,85 процента. В 1855 году он был избран профессором кафедры акушерства в университете, администрация которого руководствовалась практически исключительно политическими соображениями, а академические стандарты обучения были в лучшем случае посредственными.
Тем, кто считает, что Игнац Земмельвейс был одиноким исследователем, сделавшим великое открытие, которое замалчивали и скрывали обиженные коллеги, имеет смысл прочитать описание, представленное факультету в день его избрания в проспекте к голосованию: «Игнац Земмельвейс, 36 лет… Его широко известное открытие получило признание академии наук в Вене, и он считается перспективным исследователем».
В качестве профессора Земмельвейс внезапно приобрел большое влияние. Он развил бурную деятельность, став членом комитетов многочисленных факультетов и участником большого числа проектов, вступая при этом в бесконечные конфликты с коллегами. Импульсивный и бестактный, он обладал талантом вызывать неприязнь высокопоставленных людей. Хотя в Венгрии его теория никогда не встречала активного сопротивления, внимание к ней повсюду стало ослабевать, частично из-за незнания истинной основы его работы и отчасти из-за большого числа ее противников за пределами Вены.
Легенды и мифы об Игнаце Земмельвейсе гласят, что его недоброжелателями были отсталые глупцы. В этом утверждении не больше правды, чем в других выдумках о нем. Хотя, возможно, среди оппонентов Земмельвейса было несколько дураков, но ряды несогласных с его теорией включали и наиболее уважаемых врачей Европы. Даже такой решительный и, как правило, придерживавшийся прогрессивных взглядов представитель европейской медицины как берлинский патологоанатом Рудольф Вирхов годами занимал сторону оппозиции. То же самое происходит сегодня с новой, неадекватно описанной теорией профилактики заболеваний сердца, обнародованной, но все еще не опубликованной преподавателем небольшого государственного университета, противниками которого выступили Майкл де Бейки, главный хирург Эверетт Куп и директор Национального института кардиологии.
Существовали веские причины, по которым теория Земмельвейса не вызвала энтузиазма и не получила широкого распространения. Статистический анализ и клинико-патологические исследования в Вене носили уникальный характер в 1850-х годах. Поскольку Земмельвейс не опубликовал детали своих наблюдений и выводов, только те, кто был непосредственным свидетелем развития событий, имел веские причины признать правомерность новой концепции. Для доказательства своей теории Земмельвейс провел ряд экспериментов на кроликах, но очень немногим врачам было о них известно. Более того, его друзья, действуя из лучших побуждений, внесли некоторую путаницу, описывая трупную инфекцию как основу его доктрины; их заявления были слишком поверхностными и не отражали всех аргументов Земмельвейса. В отсутствие письменной работы самого автора концепции, его единомышленники могли бы разъяснить его идею, но венские ученые были обижены его дезертирством и в свою очередь бросили его. Таким образом, в целом оппоненты Земмельвейса не имели информации обо всех фактах и поэтому не могли в полной мере понять его теорию или осознать главную идею, на которой она была построена.
Оппозиция выдвигала два основных аргумента против доктрины Земмельвейса. Во-первых, многие из тех, кто попытался применить ее в работе, не смогли продублировать его результаты. Причина была в том, что в большинстве больниц, которые ввели мытье рук в воде с хлором, это правило соблюдалось далеко не всегда и плохо контролировалось, поэтому и результаты были предсказуемо плохими. Поколение спустя такого рода половинчатая гигиена будет мешать попыткам Джозефа Листера ввести антисептики в больницах Британии, вызывая недовольство многих потенциальных новообращенных.
Вторым аргументом против Земмельвейса был тот же, что использовал Лампе, обращая внимание на явно выраженный сезонный характер заболевания. Земмельвейсу удалось объяснить, просто сопоставив периоды увеличения и уменьшения заболеваемости, приписываемых смене сезонов, и обнаружив, что моменты распространения и отступления «эпидемий» послеродовой лихорадки полностью совпадали с теми, когда, по разным причинам, менялось в ту или иную сторону количество трупов, препарируемых студентами. Прибытие каждой новой группы учащихся, полных энтузиазма, повышала уровень смертности, который позже несколько снижался по мере уменьшения их интереса к обязанностям по вскрытию. Однако, поскольку он никогда не публиковал результатов своих наблюдений до 1860 года, они были неизвестны его критикам.
Даже если бы Земмельвейс написал свое объяснение сезонных изменений, весьма сомнительно, что оно было бы принято. Независимо от прогресса, достигнутого к тому времени в патологической анатомии и физической диагностике, западная медицина все еще существовала в рамках жалких обрывков различных древних теорий этиологии болезней, таких как концепции миазмов и туманного конституционного дисбаланса. Тезис об одиночных возбудителях заболеваний, которые выйдут на арену с появлением микробной теории менее чем два десятилетия спустя, только начинал рассматриваться, если вообще существовал. Было собрано недостаточно данных для формирования доктрины, описывающей действие незримых частиц гнойного органического материала. От критиков требовалось просто поверить в эту идею, на что они были неспособны или просто не желали этого делать.
Таким образом, ко всем перечисленным причинам неудачи Земмельвейса следует добавить фактор преждевременности. Еще никто не знал о роли бактерий в процессе инфицирования. Для врачей это означало, что для признания теории Земмельвейса необходимо поверить во вредоносность частиц, которых они не могли ни видеть, ни ощущать, а только чувствовать их запах. Тем не менее это не могло быть непреодолимым препятствием. За всю историю клинической медицины врачи продемонстрировали не раз, что они охотно берут на вооружение методы лечения, еще не получившие научного обоснования, но дающие предсказуемо благоприятный результат в больничной палате. При условии, что запрет Гиппократа на причинение вреда не нарушается, много хорошего можно успеть сделать за период между введением новых видов терапии и их научным доказательством. Если бы Земмельвейс не был настолько неэффективен в своей презентации, многие врачи, не разделяющие его точку зрения, безусловно, изменили бы мнение и охотно присоединились бы к его кампании. Возможно, кое-кто мог бы предоставить Земмельвейсу хорошо укомплектованную лабораторию, чтобы он попытался продемонстрировать передачу послеродовой лихорадки от животного к животному. Если бы это произошло, было бы доказано, даже без знаний о бактериях, что перенос болезни реально возможен. Но единственным усилием в этом направлении стали несколько неудачных экспериментов самого Земмельвейса.
Вскоре об Игнаце Земмельвейсе в Вене вспоминали только с осуждением. Большой ошибкой со стороны Рокитанского, Шкоды и Гебры было то, что они не попытались добиться торжества истины, открытой им их сбежавшим вздорным коллегой. Хотя, что они могли сделать? Каждый из них был занят собственными исследованиями, которые, без сомнения, казались им намного более важными, чем доказательство доктрины Земмельвейса, особенно если учесть, что никто из них еще не понимал, где она может быть применена, кроме акушерского отделения, которым тогда руководил Карл Браун, заменивший Земмельвейса на должности помощника Клейна и занявший в 1856 году место последнего после его смерти. В 1855 году Браун написал книгу, где перечислил тридцать возможных причин возникновения послеродовой лихорадки, из которых двадцать восемь не были связаны с «трупной инфекцией», что указывало на то, что, как и многие другие, он абсолютно неверно понял своего оппонента.
Браун не только не воспринял идею Земмельвейса, он испытывал к нему глубокую неприязнь и использовал для нападения на него каждый удобный случай. Когда один из будапештских ассистентов Земмельвейса опубликовал статью о послеродовой лихорадке в венском медицинском еженедельнике в 1856 году, вероятно, именно Браун написал комментарий от редакции:
Мы полагали, что теория обеззараживания хлором давным-давно умерла; опыт и статистические данные по большинству лежащих в больницах пациенток свидетельствуют против изложенного в этой статье мнения: в настоящее время наши читатели не должны позволить ввести себя в заблуждение этой теорией.
После отъезда Земмельвейса в первом подразделении восстановились высокие показатели смертности. Браун, возможно, был упрямым ослом, но он не был убийцей. Став руководителем акушерского отделения, он действовал, придерживаясь сформулированного в своей книге принципа: хотя трупные частицы не являются причиной послеродовой лихорадки, ни один студент, чьи руки пахли трупом, не допускался к осмотру рожениц. Таким образом он игнорировал справедливость доктрины Земмельвейса, отказываясь признавать истинную основу улучшения собственных результатов.
Трудно сказать, что заставило Игнаца Земмельвейса начать, наконец, публично высказываться и писать о своей работе. Возможно, он осознал, что если он четко не изложит свои наблюдения и выводы, его теория никогда не достигнет широкого понимания и распространения. В любом случае, спустя почти восемь лет после возвращения в Венгрию он обратился к медицинскому обществу Будапешта с обращением под названием «Этиология послеродовой лихорадки» и опубликовал свою лекцию на венгерском языке в медицинском журнале Orvosi Hetilap («Медицинский еженедельник»). Это было его первое сочинение, посвященное своему открытию.
В течение следующих двух лет Земмельвейс писал письма известным европейским акушерам, интересуясь их мнением о представленной им теории. Их ответы редко удовлетворяли его, задевая его самолюбие, и так сильно пострадавшее в Вене. Одобрение или неприятие его идеи всегда были неразрывно связаны в его сознании с восприятием себя как принятого или отвергнутого, и к 1860 году его самооценка, по-видимому, стала полностью зависеть от отношения других к его работе. Свое разочарование Земмельвейс выразил в книге, которую он опубликовал в августе того же года, «Этиология, понятие и профилактика послеродовой лихорадки», его Hauptwerk, его magnum opus, главный труд, которым он намеревался уничтожить свою оппозицию. Следующая цитата из краткого введения явно свидетельствует о его смирении с обстоятельствами и экзальтированном состоянии ума, что предполагает опасный шаг в сторону безумия.
Судьба уполномочила меня раскрыть истину, которая содержится в этой книге… Я больше не должен думать о собственном покое, помня о жизнях, которые могут быть спасены, в зависимости от того, выиграю я или мои противники… Многие часы, проведенные в горьких размышлениях, не послужили предостережением; я выжил; моя совесть поможет мне перенести все страдания, уготованные мне в будущем.
В первой части книги он в бессвязной манере, с частыми повторениями излагает суть своей теории. Во второй части, несмотря на заявления о предрасположенности к миру и покою, Земмельвейс разворачивает продолжительную полемику, не только отвечая на возражения всем своим главным недоброжелателям, но и яростно атакуя их позицию. Его аргументы часто сопровождаются всплесками брани и оскорблений. Некоторое представление о стиле письма Земмельвейса дают слова Фрэнка П. Мерфи, который в 1941 году взялся выполнить первый английский перевод его противоречивой книги:
Из перевода несложно понять, почему работа никогда не была раньше опубликована на английском языке. Стиль изложения отличается многословностью и частыми повторениями; аргументы излагаются бессистемно, не выстраиваясь в логическую цепь, которая приводила бы к определенному выводу: автор эгоистичен и агрессивен. Очевидны признаки умственной аберрации Земмельвейса и мания преследования. Многие считают, что мания преследования возникла из-за враждебного приема книги автора, но сама книга является свидетельством паранойи. Если бы Земмельвейс посвятил больше времени четкому изложению своих взглядов и меньше их доказательствам, его книга была бы вдвое лучше и вдвое короче! Но это был бы уже другой Земмельвейс.
Медицинский мир либо игнорировал «Этиологию», либо яростно критиковал. Некоторые не реагировали на его работу потому, что научное обоснование было настолько многословным и непоследовательным, что они просто не смогли уловить его суть. Те, кто нападал на нее, возмущались оскорблениями автора. Но больше всех был взбешен сам Игнац Земмельвейс. Ярость и отчаяние заставили его опубликовать серию открытых писем в адрес некоторых лидеров оппозиции. Ураган его негодования стал неуправляемым.
Несколько лет назад Ференц Георги и я сделали перевод и подготовили к публикации открытые письма Земмельвейса для библиотеки классиков медицины. Перед нами стояла та же дилемма, что и перед Фрэнком Мерфи. Должны ли мы преобразовывать запутанные фразы Земмельвейса в четкие утверждения, которые были бы понятны американским читателям, или нам следовало оставить их в том виде, каком они были написаны, с многословными формулировками и сложной риторикой, так чтобы в них сохранились очевидные признаки психического расстройства автора? Однажды мы решили обсудить нашу проблему на вечерней встрече с коллегами по бомонтскому медицинскому клубу, в котором состояли как любители, так и профессиональные историки медицины, доброжелательное разбирательство которых своего предмета напоминало дружеские посиделки старых бейсбольных полупрофессиональных команд на спортивной площадке. К концу дискуссии вердикт был ясен: только благодаря абсолютной точности воспроизведения каждого нюанса выражения, каждого повторения, каждого многословного рассуждения и каждого туманного отступления от логики аргументации наша работа будет иметь реальную ценность для специалистов, которые пожелают воспользоваться нашей работой в своих научных исследованиях. В предисловии к работе мы процитировали слова Джона Миллингтона Синга, ирландского драматурга, автора пьес для национального ирландского театра в Дублине: «Перевод – не перевод, если он вместе со смыслом слов не передает манеру и тон автора исходного текста». Ниже приведены некоторые примеры несдержанных оскорблений, взятых из открытых писем Земмельвейса, которые он написал в 1861 году нескольким наиболее уважаемым акушерам из немецкоязычных стран, которые публиковали статьи, направленные против его теории. Джозефу Спаету, профессору кафедры акушерства в Венском университете Джозефс-Акэдеми, он написал:
Господин профессор, вы убедили меня, что послеродовое солнце, взошедшее над Веной в 1847 году, не просветило вашего ума, хотя сияло так близко от вас… Высокомерное игнорирование моего учения и надменные насмешки над ошибками вынуждают меня сделать следующее заявление: в душе я уверен, что с 1847 года тысячи и тысячи умерших после родов женщин и младенцев остались бы живы, если бы я не молчал, а вместо этого исправил бы все неточности, закравшиеся в теорию о послеродовой лихорадке… А вы, господин профессор, были партнером в этой бойне. Эти убийства должны прекратиться, и для того, чтобы убийства прекратились, я буду на страже, и тот, кто посмеет распространять опасные заблуждения относительно послеродовой лихорадки, найдет в моем лице непримиримого противника. Чтобы положить конец этим убийствам, у меня нет других средств, кроме как безжалостно разоблачать своих противников.
Как и Фридрих Сканцони, профессор кафедры акушерства в Вюрцбурге, один из самых влиятельных врачей своего времени, Спает оставил это категоричное письмо без ответа. Некоторые из биографов Земмельвейса считают Сканцони злым гением в жизни их героя из-за его особенно откровенного противостояния его теории. Но он не был ни злым, ни глупым, он искренне заблуждался. Несмотря на значительный вклад, сделанный им в медицину в своей области, в историю этой науки он вошел благодаря одной серьезной ошибке – его противостоянию доктрине чистых рук.
Интересно, что в четвертом издании его учебника, написанном спустя много лет после смерти его соперника, он сдержанно похвалил Земмельвейса и даже признал обоснованность основных принципов его теории. Земмельвейс писал Сканцони:
Чтобы положить конец убийствам, я принял непреклонное решение неустанно противостоять всем, кто распространяет ошибочные суждения о послеродовой лихорадке… Ваше учение клеймит врача как турка, который в фатальном, пассивном смирении допускает этой трагедии поглощать женщин после родов… Я посвятил сто три страницы моей публикации о послеродовой лихорадке исключительно для опровержения всех ошибок и заблуждений, которые как заклятье мешают вам изменить свое отношение к этому заболеванию… Я публично сообщу вам необходимые инструкции… Но если вы, господин профессор, не опровергнув моей концепции, продолжаете рассказывать своим ученикам об эпидемической природе послеродовой лихорадки, я провозглашаю перед Богом и миром, что вы убийца и что «История послеродовой лихорадки» не будет несправедлива к вам, если увековечит память о вас как о Нероне в медицине в качестве расплаты за то, что вы первым выступили против моей спасающей жизни теории.
Во втором письме к Сканцони Земмельвейс добавил:
Господин профессор был прав на протяжении тринадцати лет, потому что я все эти годы хранил молчание; теперь я решил говорить, и я буду, без сомнения, прав до тех пор, пока женщины рожают детей. Все, что вы можете сделать для спасения своей репутации, господин профессор, это принять мою теорию, если, конечно, еще осталось, что спасать. Если же вы продолжите придерживаться доктрины эпидемической природы послеродовой лихорадки, когда-нибудь наступившее просветление вызовет псевдо-эпидемическую послеродовую лихорадку и ваша репутация исчезнет с лица земли… Господин профессор доказал, что несмотря на то, что послеродовый период пациенток теперь протекает в больнице, оснащенной лучшим оборудованием, может быть совершена масса убийств, если хоть один врач обладает необходимыми талантами.
Затем в 1862 году Земмельвейс опубликовал последнее открытое письмо, в котором содержались такого же рода заявления, на этот раз адресованные всем профессорам акушерства. Теперь он бросал вызов каждому.
Во время этого литературного шторма окружающим становилось все очевиднее, что здоровье Земмельвейса, по крайней мере физическое, ухудшается. Иллюстрация позволяет сравнить его внешний вид в 1857 году в возрасте тридцати девяти лет и четыре года спустя, вскоре после того, как он опубликовал «Этиологию». К 1862 году, когда он написал последнее открытое письмо, изменилось его психическое состояние: приступы мрачной депрессии сменялись периодами приподнятого настроения. Хотя он еще справлялся со своими профессиональными обязанностями, начали проявляться проблемы с памятью и приступы странного поведения. В итоге в середине июля 1865 года отрицать очевидное было уже невозможно: профессор кафедры акушерства университета Пешта был подвержен вспышкам неконтролируемого психоза.
Мария Земмельвейс в течение двух недель пыталась ухаживать за мужем дома, но, в конечном счете, сдалась. 31 июля она с помощью нескольких друзей перевезла его на поезде в Вену. На вокзале своего давнего потерянного товарища встретил добросердечный Гебра. Сразу по прибытии Земмельвейса поместили в частную психиатрическую лечебницу. На следующий день, когда фрау Земмельвейс пришла навестить мужа, ей было отказано в свидании. Две недели спустя он умер. В течение сорока восьми часов было сделано вскрытие, и труп из лечебницы был доставлен в морг центральной венской больницы, а затем прямо на местное кладбище Шмельц. Следующие двадцать пять лет тело Игнаца Земмельвейса тлело в земле нелюбимой им Вены. Он остался чужеземцем даже после смерти.
Ухудшение внешнего вида Игнаца Земмельвейса. Фотография слева была сделана в 1857 году, а правая – в 1861-м, вскоре после публикации «Этиологии». Ему было сорок два или сорок три года. (Любезно предоставлено доктором Джозефом Анталлом из медицинского исторического музея Земмельвейса, Будапешт.)
Существует общепринятое мнение, и во всех без исключения биографиях говорится, что причиной смерти Земмельвейса, обнаруженной при вскрытии, была та же болезнь, с которой он боролся всю свою профессиональную жизнь. В результате пореза, полученного при выполнении аутопсии своего последнего пациента, у него развилась гангрена. Патологические изменения в его теле полностью совпали с теми, что наблюдались у бесчисленных умерших матерей и точно такими же, как у погибшего мученической смертью Кольлецки. Эта в целом трагическая история гения послеродовой лихорадки, таким образом, приобретает иронично-поэтический оттенок. К сожалению, легенда о ранении, как и многие другие важные элементы мифологии, на самом деле не имеют фактического подтверждения. Сегодня доступны для изучения как первоначально представленные австрийцами результаты вскрытия в сочетании с данными экспертизы, фотографиями и рентгеновскими снимками останков, полученными столетие спустя после эксгумации, так и более поздние исследования. Я внимательно проверил все имеющиеся материалы и показал их нескольким патологоанатомам. Мы обнаружили убедительные доказательства того, что Игнац Земмельвейс, как и многие пациенты психиатрических лечебниц в то время, подвергался избиениям со стороны персонала заведения, пытавшихся усмирить его вскоре после поступления, и именно от полученных таким образом травм он скончался спустя две недели.
Очевидно, что в последние годы жизни Земмельвейс страдал от острого органического церебрального синдрома. Из имеющихся опубликованных материалов доктор Элиаса Э. Мануэлидис, директор факультета невропатологии Йельской медицинской школы, сделал однозначный вывод, что нет достаточных оснований диагностировать у Земмельвейса сифилис – болезнь, которую ему всегда приписывали биографы. Он предполагает, что органические изменения могли быть результатом неизвестной в 1865 году пресенильной деменции Альцгеймера, клинико-патологическая картина которой гораздо больше согласуется с опубликованными описаниями симптомов, результатов вскрытия и фотографиями Земмельвейса, чем сифилис.
С 1978 года, когда доктор Мануэлидис поставил свой диагноз, выяснилось, что болезнь Альцгеймера встречается довольно часто среди пациентов старшей возрастной группы. В действительности это заболевание поражает в большинстве случаев пожилых людей. Но синдром, описанный Алоисом Альцгеймером в 1907 году, был выявлен и у больных среднего возраста, и именно поэтому он получил название «пресенильный». Клиническими признаками такого типа заболеваний являются ухудшение умственных способностей, памяти и поразительно быстрое старение пациентов среднего возраста, при этом симптомы становятся все более выраженными в течение нескольких лет и, в конце концов, приводят к смерти. Среди характерных особенностей синдрома – тревожность, гиперактивность и практически полная утрата способности к суждениям и умозаключениям. Все вышеперечисленные симптомы часто упоминались в описаниях наблюдений, сделанных в период ухудшения состояния Земмельвейса. Поскольку некоторые из них встречаются также в определенных случаях нейросифилиса, в частности потеря памяти, гиперактивность и заметное изменение внешнего вида, которые имели место в истории с Земмельвейсом, типичном случае характерного проявления болезни Альцгеймера, они не без оснований склонялись к этому диагнозу. Фотографии являются убедительным доказательством быстрого процесса старения между 1857 и 1861 годами.
Патологические изменения мозга Земмельвейса также подтверждают старческую деменцию, так как они чаще всего предполагают выраженную церебральную атрофию и компенсаторную гидроцефалию, которую нетрудно увидеть невооруженным глазом. Хотя подобные изменения происходят и во многих случаях сифилиса, они проявляются не так явно, как при болезни Альцгеймера.
Я не психоаналитик. В критические периоды личной и семейной жизни Земмельвейса произошел ряд значительных, нарушающих эмоциональное равновесие событий, и многие из них, несомненно, оказали свое деструктивное влияние. О некоторых было упомянуто намеренно очень кратко в этой главе. Другие детали и обстоятельства ждут изучения другими авторами. Мой резюмирующий тезис можно сформулировать в нескольких абзацах: всю свою жизнь Игнац Земмельвейс с тоской смотрел на себя как на неудачника и аутсайдера; сын бакалейщика из захолустья, приехавший со своим неуклюжим немецким диалектом в великолепную столицу великой Австрийской империи, столицу, где, как ему казалось, на людей с его происхождением смотрели свысока и в профессиональной, и в социальной сферах жизни. Благодаря напряженной работе и гениальности ума он совершил монументальное открытие, озаренный ярким светом восходящей звезды новой австрийской медицины. Но среди избранных специалистов, прекрасно владевших литературным немецким языком, он никогда не считал себя достойным членом команды; он стеснялся писать и выступать на общественных форумах. Тогда как более уверенные в себе люди могли спокойно воспринимать критику, Земмельвейс в каждом замечании видел еще один факт остракизма и личного неприятия. Вскоре его теория и его самооценка слились в его сознании воедино. Даже когда до победы оставался один шаг, его представление о себе как о неудачнике и неуклюжем аутсайдере не изменилось. Сосредоточившись на небольшом промахе, он сбежал с освещенной солнцем арены, где лишь еще немного времени и несколько дополнительных выступлений принесли бы ему признание как одному из выдающихся европейских клинических исследователей. Друзей и сторонников Земмельвейса ошеломил его поступок. Но то, что они восприняли как предательство, было просто смятением жалкого маленького Наси, страдающего от чувства уязвленной гордости, вздорного бедолаги, который не мог представить себя профессором, одержавшим победу над венским мракобесием.
Но побег в Пешт не решил его проблем. На волне мадьяризации[15] он носил венгерский национальный костюм и читал лекции на венгерском языке, но все еще оставался аутсайдером, возможно, считая, что мадьяры смотрели на него как на немца, а немцы – как на второсортного венгра. Несмотря на большой успех, достигнутый воплощением его идеи в Пеште, любая критика стала для него непереносимой, так как воспринималась им как очередное подтверждение невозможности добиться признания и неизбежности неудачи. И, наконец, в приступе безумия, которое было отчасти органическим, а отчасти неотвратимым результатом его почти сознательного самопророчества, он стал Самсоном Агонистом, слепым и яростным, пытавшимся снести столпы храма сопротивления его теории в надежде уничтожить тех, кого считал своими врагами, даже если это означало его самоуничтожение. Когда его битва была окончена, только Земмельвейс был мертв, а храм сопротивления остался стоять на месте.
Софокл мог бы написать греческий хор матерей, оплакивающих павших, – великий герой, великая истина, великая миссия и, наконец, безумный полет страстного высокомерия – все погибло. В этом не было вины богов, роль которых исполнили профессора акушерства; дело было не в состоянии науки середины девятнадцатого века; сам герой стал причиной своих несчастий.
10. Хирургия без боли. Происхождение общего наркоза
На первый взгляд совершенно не кажется, что для открытия или, как некоторые предпочитают выражаться, изобретения общего наркоза понадобился какой-то особый интеллектуальный потенциал или серьезная научная подготовка. Нельзя также сказать, что Лонг, Уэллс или Мортон были одержимы этой идеей. Появление анестезии стало результатом многочисленных исследований, требующих скрупулезных наблюдений, смелости, настойчивости, находчивости и поиска средств усовершенствования своего ремесла, представляющего скорее практический, чем теоретический интерес, – всех качеств более или менее присущих американскому уму, и я думаю то, что искусство безболезненной хирургии родилось именно в нашей стране абсолютно не случайно. Доказательство этой точки зрения я нахожу в том, что не один, а несколько американцев работали над этой проблемой независимо друг от друга и что найденное решение является уникальным достижением наших соотечественников.
Уильям Генри Уэлш, Медицинская школа Джонса Хопкинса
Изобретение общего наркоза стало первым крупным открытием, подаренным миру американской медициной почти полтора столетия назад. По сей день оно остается нашим величайшим вкладом в искусство исцеления. Ни одно из блестящих достижений, совершенных в двадцатом веке, ни одна из наших многочисленных научных побед, удостоенных Нобелевской премии, не затмевает успеха небольшой группы американских ученых. «Группа» в данном случае не совсем подходящее слово, поскольку оно подразумевает определенную слаженность усилий, некое партнерство и консолидацию единомышленников. На самом деле не было не только никакого рода сотрудничества, но все происходило прямо противоположным образом. Единственное, чем были связаны между собой американцы, принимавшие участие в процессе зарождения методов обезболивания, это длительная ожесточенная битва за престиж и монеты, звон которых все еще эхом раздается в лабиринтах времени, несмотря на минувшие сто пятьдесят лет.
Изучение процесса решения этой проблемы, с учетом важности разработки ингаляционной общей анестезии, может вызвать смятение ума и чувств; при этом результатом, скорее всего, будет калейдоскоп имен, дат, претензий и официальных заявлений, а также еще один литературный памятник, подтверждающий предрасположенность человечества к соперничеству и злобе. Стремясь избежать этого, я выбрал путеводную звезду, которой буду придерживаться в своем рассказе: почти никто не станет отрицать, что решающее событие в истории анестезии произошло в центральной больнице Массачусетса 16 октября 1846 года, когда Уильям Томас Грин Мортон продемонстрировал эффективность действия эфира. Именно с этого момента общая анестезия начала свое существование; все, что происходило до этого дня, было лишь прологом, все, что имело отношение к этому открытию, было лишь интерлюдией, и все, что последовало за ним, дальнейшим логическим развитием. Цель этой главы – показать взаимосвязь между событиями тех дней: прологом, интерлюдией и заключительным моментом драмы, а также рассказать о последствиях, оказавших влияние на всех, кто работал над этой проблемой. С того момента началось реальное формирование хирургии как искусства, взял старт значительный прогресс в процессе физиологических наблюдений и открытий в области фармакологии, развитии технологий и последовательном создании инструментальной базы.
Концепция хирургии как специальности, по сути, являлась ключевым фактором, который стал основой для медицинских достижений второй половины девятнадцатого века. С развитием обезболивания, появлением микробной теории, признанием клеточного строения тканей и внедрением современной фармакологии древнее искусство целительства трансформировалось в нечто совершенно новое. Каждая из перечисленных отраслей медицины предъявляла настолько высокие требования к компетентности исследователей, что для большей эффективности потребовалось объединение их усилий. С годами все больше и больше выдающихся врачей того периода начали проводить свои изыскания в специализированных лабораториях и клиниках, фокусируясь на все более узких задачах. Самыми великими клиницистами становились те, кто лучше всех умел пользоваться инструментами, созданными учеными в лабораториях для разрешения проблем их пациентов, а самыми успешными исследователями – те, кто хорошо разбирался в болезнях, которые вызывали особые трудности у их коллег.
Открытие (точнее, изобретение) общего наркоза для использования его в хирургии было первым из четырех великих достижений в процессе трансформации. В отличие от остальных трех, для понимания ее сути не требовалось никакого нового видения, а для широкого ее использования не возникало необходимости в дополнительных помещениях и оборудовании. Человечество веками нуждалось в обезболивании, так что встретило решение этой проблемы с предсказуемым восторгом. Появление анестезии стало шагом вперед, который давно назрел. Фундамент был заложен несколькими десятилетиями ранее, и если открытие и вызвало какое-либо удивление, оно скорее было связано с рядом интуитивных прозрений, торговых сделок и хитросплетением интриг, чем с кропотливыми усилиями ученых.
Открытие наркоза было результатом аберрации в истории врачевания. В начале девятнадцатого века доктора были в отчаянии, не имея способов предотвратить смерть пациентов от болевого шока во время хирургического вмешательства, но они каким-то образом не замечали, точнее, не ощущали запаха погружающего в сон вещества, которое находилось под самым их носом. Вплоть до середины столетия ни один из прошедших достойную подготовку врачей не предпринял ни одного серьезного шага в направлении безболезненной хирургии. Самые квалифицированные специалисты не видели способов решения этой проблемы. В конечном счете, чтобы добыть сокровище, пролежавшее так долго под ногами медиков, потребовались скорее находчивость и интуиция, чем исследования и гипотезы. Обычная эволюционная машина открытий сломалась, и ее пришлось отремонтировать горстке профессиональных ремесленников, причем почти всех из них можно назвать предприимчивыми мастеровыми, но никак не учеными.
Еще вчера общего наркоза не существовало, и уже на следующее утро она обещала спасение всему цивилизованному миру. Ее появление было похоже на божий промысел, но его мессия Мортон не был святым. Как только новость о безболезненной операции распространилась среди нетерпеливых страждущих, он начал работать над закреплением своего приоритета и права считаться своего рода созидающим архангелом. Но стоило подняться шуму вокруг анестезии, появились, по крайней мере, еще четыре претендента на пальму первенства или, как минимум, на часть награды.
Отдельные историки расходятся в своих оценках заслуг различных участников этой саги. Но ни один из тех, кому вообще известен этот самый драматичный эпизод повести медицинского прогресса, не может осознать неоспоримую истину, которая обрела особую ясность в то октябрьское утро 1846 года. Ни одно научное событие не приводило к такому ускорению дальнейшего развития искусства врачевания. Открытие метода обезболивания не встретило никакого скептицизма, в отличие от работ Везалия, Гарвея или Лаэннека. Его сопровождало только счастливое облегчение, что муки прошлых лет остались навсегда позади.
Но задолго до Мортона и связанных с рождением анестезии событий, которые в конечном итоге окажутся весьма трагическими, были тайна, романтика и завораживающая прелесть литературы. С тех пор как осознание впервые вспыхнуло в медленно пробуждающемся разуме человека, он, похоже, всегда искал пути побега от него в состояние первобытной безболезненной бессознательности или в мир фантазии, более приветливой, чем зачастую мрачные реалии повседневной жизни. Шла ли речь о себе или о других, человечество всегда было очаровано ощущением забытья.
Чтобы рассказать о самых ранних из известных нам попыток погружения в сон, я опишу события, которые могут показаться замысловатой смесью фантастики и реальности, вымысла и фактов. Тем не менее основная нить истории и большинство деталей имеют прочную основу: существовали снадобья с особыми свойствами; и если даже они не вполне отвечали предъявляемым к ним требованиям, они и их апологеты оставили нам множество бесценных зарисовок заигрывания с бесчувственностью и миром видений, где историограф и поэт танцуют друг с другом под очаровывающие звуки волшебной музыки.
Начнем мы с поэта, на самом деле с Поэта с большой буквы:
Состояние полного отсутствия сознания, имевшее практическое значение во все времена, достигалось до относительно недавнего времени либо с помощью разнообразных зелий из растительного сырья, либо психологическими методами, а иногда их комбинацией. Врачи-ботаники семнадцатого и восемнадцатого веков были наследниками традиции древней, как само человечество, позволявшей им найти тот, так сказать, цветок, который может повлиять на состояние сознания. Хотя природу веществ, вызывающих желаемый эффект, стало возможным выяснить только с развитием лабораторной науки, некоторые из современных, наиболее часто используемых обезболивающих препаратов были хорошо известны еще греческим и римским целителям. Древние болеутоляющие средства в основном получали из мака, белены, мандрагоры и, разумеется, получая алкоголь путем брожения. (Слово narcotic само по себе происходит от narke, греческого слова, обозначающего «помрачение сознания», а слово anodyne (снотворное) образовано соединением a(n), что означает «без», и odyne, что переводится как «боль».)
Опиум, называемый слезами мака, производился из сока, полученного из надреза незрелого семенного стручка растения. Капли молочного сока собирали в какую-нибудь емкость и оставляли высыхать на солнце. Полученное вещество было хорошо известно в античные времена и веками использовалось многими выдающимися врачами вплоть до двадцатого столетия. Писатели древности, говоря о вызванном маком сне, обычно использовали популяризированное Вергилием слово «летеон». Два тысячелетия спустя оно снова возникло как название, которое эфиру дал Уильям Мортон, пытаясь сохранить в тайне его истинную химическую формулу.
Благодаря Авлу Корнелию Цельсу у нас есть четкое описание методов использования слез мака и одного способа их приготовления. Сочинение Цельса, которое датируется первым веком нашей эры, является самым древним из сохранившихся медицинских документов после корпуса Гиппократа; оно представляет собой сборник написанных для аристократии того времени трактатов по медицине и другим предметам. Из-за превосходного литературного стиля Цельса его восьмитомник «О медицине», написанный на латыни, стал одной из самых читаемых научных работ эпохи Возрождения, и он до сих пор остается прекрасным источником знаний о греческой медицине, поскольку содержит большое количество информации о целительстве времен Гиппократа и постгиппократовского периода. Цельс писал:
Таблетки, которые облегчают боль, вызывая сон, по-гречески называются anodynes. Не стоит их использовать без острой необходимости, поскольку они содержат мощные наркотики и вредны для желудка. Однако можно применять средство, которое содержит по одной части слез мака и гальбанума, по две части мирры, кастореума[16] и перца. Достаточно проглотить порцию смеси размером с боб.
Цельс также описал метод приготовления пилюль и несколько способов их применения:
Возьмите горсть мака, когда он достиг состояния зрелости, достаточной, чтобы собрать его слезы, положите в сосуд, добавьте столько воды, чтобы она покрывала его полностью и отварите. Выжмите хорошо проваренную массу в сосуд, отбросьте отжатую массу, а в полученную жидкость влейте равное количество виноградного вина. Варите смесь до загустения, затем охладите ее и приготовьте таблетки размером с домашнюю фасоль.
Их можно использовать во множестве случаев. При принятии отдельно или в растворенном в воде виде они вызывают сон. При добавлении в малых количествах к соку руты душистой или виноградному вину они облегчают ушную боль. Растворенные в вине, они останавливают колики. Смешанные с пчелиным воском и эфирным розовым маслом с добавлением небольшого количества шафрана они лечат воспаление вульвы; а растворенные в воде и нанесенные на лоб они останавливают слезоточивость глаз.
В случае, если болезненные ощущения в вульве мешают спать, взять две части шафрана, по одной аниса и миры, четыре части маковых слез, восемь семян болиголова и смешать их в пасту с добавлением старого вина. Дозу размером с лепесток люпина (волчий боб) растворить в трех стаканах воды. Но во время лихорадки применять с осторожностью.
Существует предположение, что «препарат, утоляющий боль, гнев и приносящий облегчение при любой болезни», приготовленный в Одиссее Еленой, дочерью Зевса, был ни чем иным, как опиумом. Независимо от того, шла ли речь об опиуме или о каком-то другом обезболивающем, вполне вероятно, что описанные Гомером «такие хитроумные средства… средства исцеления» не были просто выдумкой, и весьма вероятно, что даже в те далекие времена мак использовался как лекарство для облегчения физической и душевной боли.
Существуют письменные свидетельства использования мандрагоры (точнее, корня мандрагоры), появившиеся раньше сочинений Гомера. Лия, жена библейского патриарха Иакова, как говорит легенда, дала своей сестре Рахель мандрагору, найденную сыном Лии Рувимом, в обмен на ночь блаженства с их общим мужем, во время которой был зачат Иссахар. Поскольку растение с давних времен считалось афродизиаком, способствующим плодовитости, знатоки Ветхого Завета полагали, что Лия использовала его именно с этой целью. Возможно, истина открывается в совсем другом объяснении, основанном на реальных фармакологических качествах препарата, в отличие от ложно приписываемых ему свойств увеличивать мужскую силу. Нет ничего невозможного в том, чтобы услуги Иакова были оплачены наркотиками: подобная ситуация встречается в современной жизни каждый день. В 16-м стихе 30-й главы книги «Бытие» говорится, что Лия сказала своему мужу: «Ты должен войти ко мне; ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего».
Корень мандрагоры, или мандрагора, является членом семейства обычного картофеля. У растения короткий стебель, часто разветвляющийся корень и ягоды, напоминающие плоды померанца, которые иногда называют яблоками. Наркотический эффект возникает из-за химического соединения, алкалоида белладонна, который содержится в корне и в меньшем количестве в яблоках и листьях. Вероятно, разветвленный корень при наличии некоторого воображения можно сравнить с соблазнительными округлостями нижней половины человеческого тела, и по этой причине растение считалось любовным зельем и стимулятором мужской силы. Джон Донн намекает на наркотические свойства препарата и якобы антропоморфную форму растения в горькой жалобе на тщетность поисков верной любви и невозможности исполнить другие свои желания:
В переводе Филимона Холланда «Естественной истории» (Historia Naturalis), написанной Плинием Старшим примерно в 77 году, есть такая фраза: «Обычное дело – пить его [сок мандрагоры]… перед операцией по вырезанию, прижиганию, прокалыванию или выскабливанию любой части тела, для того чтобы притупить беспокойство и ощущения, сопровождающие такое экстремальное лечение. Некоторым пациентам достаточно запаха мандрагоры для погружения в сон, что сокращает время процедуры».
Еще в сочинениях Педания Диоскорида можно найти следующее описание применения мандрагоры:
У мужских белых цветов [мандрагоры], которые иногда называют норион, листья крупнее, они широкие, гладкие, как у свеклы, а яблоки в два раза больше, цветом ближе к шафрану, с крепким сладким запахом. Их обычно едят пастухи, чтобы уснуть… Используются в случаях бессонницы, сильных болей и при выполнении операций, включающих разрезы или прижигание, когда хотят, чтобы пациент не чувствовал боль… Для того чтобы они погрузились в глубокий сон и не ощущали боли, следует вдыхать запах яблок, есть их или выпить их сок, обладающий снотворными свойствами.
Диоскорид был греческим хирургом в армии Нерона. Его труды по медицинской ботанике являются авторитетным источником с первого века н. э. В действительности до медицинских достижений шестнадцатого и семнадцатого веков работы Диоскорида были фундаментом, на котором строились фармакология и медицинская фармация западных стран. Его книга «О лекарственных веществах» содержит почти все знания в области ботаники, собранные за полтора тысячелетия, и является одним из классических произведений медицинской литературы. Благодаря красоте изданий переводов рукописи на различные языки они также относятся к классике истории искусства. Хотя авторство слова «наркоз» традиционно приписывается Оливеру Уэнделлу Холмсу, первым его использовал Диоскорид. Снова ввел это слово в обращение Куисторп в 1719 году; практиками гипноза оно употреблялось в девятнадцатом веке, до того, как Холмс предложил его Уильяму Мортону в качестве подходящего термина для его нового изобретения. Белена черная (Hyoscyamus niger) – другое растение, обладающее успокоительным или анестезирующим действием, которое обусловлено наличием в его составе алкалоида белладонна. Из-за опасных свойств препарата его часто использовали, чтобы травить мышей. Диоскорид описал метод окуривания дерева жженой беленой: под действием наркотика птицы, еще живые, падали на землю, их легко ловили и приводили в чувство, поднося к их ноздрям дистиллированный уксус.
Диоскорид также писал об употреблении различных спиртосодержащих микстур для анестезии. Он рекомендовал, например, давать пациентам 60 мл крепкого вина перед операцией по удалению камней или прижиганию. В шестнадцатом и семнадцатом веках при выполнении получивших большее распространение ампутаций и других хирургических процедур для снижения чувствительности и осознанности больного часто полагались на опьянение. Среди других, реже применяемых средств были соки шелковицы и дикого салата, а также смолистые и ароматические компоненты хмеля, даже в неферментированном состоянии. Так в народном фольклоре хмель стал тесно ассоциироваться с сонливостью, и целители рекомендовали пациентам, страдающим бессонницей, спать на набитых этим растением подушках.
В Средние века самым популярным методом введения человека в состояние наркоза были так называемые снотворные губки Spongia somnifera. Историки обнаружили их описание в рукописях, датируемых девятым веком. В двенадцатом веке Николай Салернский описал ингредиенты, входящие в состав зелья: опиум, белена, сок шелковицы, семена салата, болиголов, мандрагора и плющ. Свежую морскую губку пропитывали этой смесью и оставляли «в жаркий день на солнце до полного испарения жидкости». Когда требовалось ее использовать, губку окунали в воду. В средневековых рукописях рекомендовалось подносить ее к ноздрям пациента, поэтому предполагалось, что речь шла о некой форме ингаляционного наркоза, но существуют также убедительные доказательства употребления во многих случаях зелья внутрь. Для вывода из такого наркоза использовали сок корня фенхеля или уксус.
В литературе того периода немало сюжетов со снотворными средствами. Например, в одной из историй, рассказанных в «Декамероне» Боккаччо, пораженную гангреной ногу оперируют, усыпив больного таким зельем. В «Трагической истории о Ромео и Джульетте», написанной в 1562 году Артуром Бруком, есть эпизод, где монах Лоуренс описывает Джульетте некую сильнодействующую жидкость:
Безусловно, эта поэма послужила источником для создания Шекспиром трагедии «Ромео и Джульетта». В первой сцене четвертого акта поэт настолько точно описывает результат воздействия «этого дистиллированного напитка», что невольно приходит в голову, что он либо лично был свидетелем его употребления, либо узнал об этом, как говорится, из первых рук. Описание использования опиатов можно найти в произведениях Марлоу, Мидлтона, Донна и других английских писателей того времени.
Величайшие достижения в фармакологии анестезии были сделаны в темные века Средневековья, в период тотального застоя научной мысли. Вдобавок ко всем хорошо известным причинам интеллектуальной стагнации того периода еще два конкретных фактора препятствовали совершенствованию методов наркоза: богословское учение о том, что боль служит Божьим целям и поэтому ее нельзя облегчать, – эту концепцию особенно важно было опровергнуть во время кампании Джеймса Симпсона по организации акушерской анестезии несколько веков спустя; а также обычная неопределенность в дозировке, силе воздействия и даже свойствах активных ингредиентов в растительных компонентах, что не позволяло стандартизировать результат. К наркотическим средствам относились – и совершенно справедливо, – как к весьма опасным препаратам. После того как эпоха Ренессанса миновала, снотворные губки и подобные им опасные средства стали использоваться все реже и реже; к началу семнадцатого века они по большому счету остались в прошлом, хотя спиртосодержащие микстуры были по-прежнему популярны. Одно из последних упоминаний о наркотических смесях в английской литературе можно найти в IV акте трагедии Томаса Мидлтона «Женщины, остерегайтесь женщин» (1657):
Для дальнейшего развития методологии общего наркоза требовалось внедрение новых средств и подходов, основанных на реальных научных данных. Однако незадолго до того, как эти шаги были предприняты, на сцену вышел лжемессия, который предложил лечить болезни и усмирять жестокость нравов некой космической энергией, которую он называл животным магнетизмом.
Звали авантюриста Антон Месмер. Его прием, известный под названием месмеризм, представлял собой форму гипноза, посредством которого медицина обращалась к иррациональной части человеческого сознания. Его методы, паранаучные в лучшем случае и безумные – в худшем, похоже, заворожили не только множество доверчивых пациентов, но также некоторых здравомыслящих исследователей, работавших в больнице при колледже Лондонского университета. Под руководством Джона Эллиотсона, профессора практической медицины, была предпринята попытка подвести принципиальную основу для экспериментов, в которых с помощью гипноза индуцировалось обезболивание во время хирургической операции. С разной степенью успеха методика применялась практикующими врачами, но, в конце концов, была окончательно отвергнута по причине ее неэффективности, когда Уильям Мортон открыл снотворные свойства эфира. Интересно, что некоторые авторы, писавшие о медицинском гипнозе, использовали слово «анестезия» для обозначения его воздействия.
(Из вышесказанного не следует делать вывод, что я пренебрежительно отношусь к возможностям гипноза в медицине. Хотя в истоках гипноза можно обнаружить немало забавного, к этому явлению следует относиться очень серьезно: из безумных идей могут родиться ценные теории и полезные методики. Именно так случилось с гипнозом.)
Научные изыскания, которые приведут к рождению общего наркоза, включали два параллельных, иногда пересекающихся направления исследований, а именно: область химии и физики газов, с одной стороны, и физиологию дыхания – с другой. Список ученых, внесших значительный вклад в изучение необходимых дисциплин, включает имена, хорошо известные благодаря достижениям их обладателей в других областях науки, как правило, не имеющих отношения к клинической медицине; среди них Джон Дальтон, Джозеф Пристли, Антуан Лавуазье, Джеймс Уатт, Хамфри Дэви и Майкл Фарадей.
Изучением химических и физических свойств газов занимался Джозеф Пристли (1733–1804), министр-нонконформист с острыми политическими взглядами, чьи заслуги особенно примечательны тем фактом, что он не получил даже элементарного научного образования, хотя говорить о каком-то серьезном обучении фундаментальным дисциплинам в Англии восемнадцатого века вообще вряд ли приходится. Хотя самостоятельное изучение предметов вызывало впоследствии некоторые трудности с созданием теоретических концепций, это не помешало ему описать окись азота в 1772 году, выделить кислород в 1774-м и преподнести миру несравненный дар – рецепт изготовления содовой воды.
Когда стала широко известна работа Пристли о газах и Лавуазье сделал свое единственное открытие, изучив природу кислорода и его роль в процессе дыхания, воодушевленные открывшимися перспективами врачи начали искать способы применения новых знаний для лечения различных заболеваний, особенно туберкулеза легких. Они не догадывались, что недостаточное развитие науки того времени не позволит им воплотить в жизнь свои надежды. Важную роль в создании этого движения сыграл Томас Беддоус: результатом его интереса к терапевтическим ингаляциям стало основание Бристольского медицинского Пневматического института в Англии в 1798 году. Великий Джеймс Уатт разработал большую часть приборов для этого учреждения. Для него, безусловно, значительным стимулом была личная трагедия – его сын был на пороге смерти от туберкулеза. Первым руководителем экспериментальной части исследований был назначен двадцатилетний Хамфри Дэви. Говорят, что новый работодатель Беддоус выкупил Дэви, служившего по контракту у хирурга-аптекаря в Пензансе, что стало его величайшей заслугой перед наукой. В течение года после вступления в должность в институте Дэви описал опьяняющий эффект от вдыхания окиси азота. Экспериментировать с этим газом он начал самостоятельно еще в 1795 году, когда ему было всего семнадцать лет.
Не ограничившись изучением воздействия окиси азота на себе и на животных, Дэви расширил свои исследования на самую необычную из известных когда-либо группу подопытных, состоящую из лидеров интеллектуальной элиты Бристоля, куда вошли Сэмюэл Тейлор Кольридж, Роберт Саути и Питер Роджет. Проведя ряд четких экспериментов, а также использовав данные наблюдений над собой, Дэви написал книгу, которая стала классикой в истории науки, – «Исследования химические и философские; прежде всего, окиси азота, или связанного воздуха и его вдыхания». Автору было двадцать два года, и публикация этой работы в 1800 году ознаменовала его первый серьезный вклад в науку и положила начало необыкновенно плодотворной карьере. У Дэви был талант излагать свои мысли ясно и образно, что делало его популярным лектором и утонченным поэтом-любителем; Кольридж говорил, что если бы «он не был лучшим химиком, то стал бы первым поэтом своего века». Возможно, это был лишь великодушный комплимент хорошего друга, но описание его исследований не только проливает свет на предмет его наблюдений, но и обнаруживает его выдающийся литературной дар. Так он рассказывает об обезболивании, которое испытал на себе, вдыхая окись азота:
Однажды, когда у меня болела голова от расстройства желудка, я мгновенно избавился от нее с помощью внушительной дозы газа; хотя она вернулась позже, значительно слабее. В другом случае не такая сильная головная боль полностью прошла после употребления двойной дозы газа.
Сразу после вдыхания газа уходит сильная физическая боль, и у меня было немало возможностей удостовериться в этом.
После удаления больного зуба, который называется зубом мудрости, у меня началось обширное воспаление десны, сопровождающееся сильной болью, которая в равной степени мешала и отдыху, и работе.
В тот день, когда боль была особенно невыносимой, я вдохнул три большие дозы окиси азота. Боль всегда утихала после первых четырех или пяти вдохов; я, как обычно, с удовольствием и нетерпением предвкушал облегчение, которое не наступало несколько минут. После того как я очнулся, вернулись прежние ощущения, и мне показалось, что боль стала после эксперимента еще сильнее.
Бывший помощник хирурга не мог не оценить возможность использования такого обезболивающего эффекта в хирургии. В разделе книги под названием «Выводы» Дэви позволил себе следующее предположение:
Поскольку окись азота среди разнообразных свойств обладает способностью облегчать физическую боль, ее, вероятно, можно успешно использовать во время хирургических операций, не связанных с большим кровотечением.
Мысль, выраженная в заключительной части цитаты, демонстрирует, что Дэви считал, хотя и не получил подтверждения этому факту в своих экспериментах, что окись азота усиливает скорость циркуляции крови. Справедливость его интуитивной догадки была доказана практически сразу после того, как использование наркоза получило широкое распространение; и в наши дни, в тех редких случаях, когда применяется окись азота, хирурги сетуют на увеличение кровотечения в области оперируемого участка. Похоже, что газ вызывает этот эффект за счет повышения давления в периферических венах. Я знаю много опытных анестезиологов, которые пациентам с тонкими сосудами дают вдохнуть порцию окиси азота перед введением иглы в вену, вследствие чего она наполняется кровью и становится более выпуклой.
Хотя Дэви, бесспорно, был первым, кто указал на возможность применения окиси азота для ингаляционной анестезии, ни он, ни современное научное сообщество не осознали значения этой идеи. Сам он вскоре перестал заниматься пневматическими исследованиями, оставил в 1801 году свою должность в медицинском Пневматическом институте и стал директором химической лаборатории в недавно созданном Королевском институте в Лондоне. С этого момента он вел разработки только в далеких от медицины областях химии и физики. Если бы он не направил свою энергию в другое русло, возможно, он сделал бы следующий решающий шаг и стал первооткрывателем ингаляционной анестезии. Обычный эволюционный процесс развития медицинской науки пошел бы, таким образом, своим чередом и эта глава была бы намного короче, но гораздо менее интересной.
Что касается Беддоуса и его искренней попытки совершить революцию в терапевтических методах лечения, увы, из этого ничего не вышло. Несмотря на выдающиеся способности Уатта и Дэви, бристольская лаборатория не предложила ни одного нового терапевтического метода. В 1952 году в своей бэмптонской лекции в Колумбийском университете Джеймс Б. Конант привел историю короткого существования медицинского Пневматического института в качестве иллюстрации того, как личный опыт и здравый смысл благонамеренных наивных исследователей может завести их в тупик, если они оказываются не в состоянии облачить свои невнятные идеи в термины, которыми оперирует современная наука. По словам Конанта, «хорошо, что никто не пострадал; хотя, очевидно, никто и не вылечился. Но доктор Беддоус не был шарлатаном. Его даже можно назвать, с некоторой долей снисходительности, химиотерапевтом, опередившим свое время на сто пятьдесят лет и взявшим на вооружение неподходящее химическое вещество».
Тем не менее результаты экспериментов Дэви с окисью азота имели большое, хотя и косвенное, влияние на историю анестезии. Ибо именно благодаря разработкам Пневматического института слово «газ» вошло в научный сленг. Саути описал свои ощущения от применения окиси азота как «совершенно новые и восхитительные». Обладающий ярким воображением Кольридж, еще не испорченный опиумом, рассказывал, что, вдохнув газ, почувствовал «невероятно приятное тепло во всем теле» и желание «смеяться над теми, кто находился рядом». Другим посетителям института Беддоус и Дэви предлагали испробовать воздействие пара, чтобы получить новые данные. Вскоре об окиси азота, или веселящем газе, как его впоследствии назвали, сложилось мнение как об абсолютно безвредном и весьма забавном развлечении, и вечеринки с веселящим газом стали обычным явлением среди студентов вузов и некоторых «свободомыслящих» кругов общества.
В это же самое время были получены некоторые данные об эфире. Принято считать, что лабораторная химия получила развитие только в последние два столетия, и тот факт, что эфир был впервые синтезирован в 1540 году, может показаться неожиданностью. Открытие принадлежит двадцатипятилетнему прусскому ботанику Валериусу Кордусу (1515–1544), умершему через четыре года после своего изобретения. Посредством дистилляции из так называемого «купоросного масла» (серной кислоты) и «винного спирта» (этилового спирта) Кордус получил «сладкий купорос» (серный эфир, фактически диэтиловый эфир), изменивший историю медицины.
Реклама разъездной демонстрации воздействия веселящего газа: «Большая демонстрация эффекта воздействия, производимого вдыханием окиси азота или веселящего газа, состоится в субботу вечером 15 октября 1845 года. Подготовлено тридцать галлонов (около 136 литров) газа, и каждый, кто пожелает из зрителей, сможет испытать его на себе. И т. д.
В течение следующих трех столетий ряд других химиков синтезировали сладкий купорос, в их числе был Роберт Бойль в 1680 году и даже Исаак Ньютон в 1717 году. Немецкий химик Иоганн Август Зигмунд Фробен, который, судя по всему, работал в лаборатории Бойля, назвал жидкость серным эфиром, вероятно, из-за чрезвычайной неустойчивости, вследствие которой она испаряется в течение нескольких мгновений контакта с воздухом. Наконец, в 1819 году Джон Далтон опубликовал финальную работу с описанием физических и химических свойств вещества под названием «Мемуары о серном эфире».
По-видимому, наблюдатели и до начала девятнадцатого века замечали, что эфир вызывает вялость и сонливость. Уже в 1818 году в ежеквартальном журнале «Наука и искусство» появилось описание эффекта, которого можно добиться, вдыхая его пары; при этом особенно подчеркивалось, что «производимое им воздействие подобно влиянию на организм окиси азота». Хотя эта статья публиковалась анонимно, обычно ее авторство приписывается Майклу Фарадею, которому в то время было двадцать шесть лет. Последствия вдыхания эфира были также хорошо известны Томасу Беддоусу и Хамфри Дэви, испытавшим на себе эффект его воздействия.
Не только серьезные исследователи знали о характере влияния паров эфира, и подобно тому, как события развивались с окисью азота, вечеринки с веселящим газом вскоре стали весьма популярной формой социального эскапизма. Странствующие «профессора» в конных повозках доставляли радость газового опьянения в небольшие города Европы и Америки в виде передвижных демонстраций, на которых жаждущие местные жители платили деньги за различное количество вдохов веселящего вещества или эфира к удовольствию наблюдающих за ними друзей. Доллары, фунты и франки, потраченные на покупку нескольких бутылок окиси азота, приносили хорошую прибыль бродячим «химикам», которые представляли достижения «эфемерной» науки для просветления их восторженной аудитории.
В конце концов, кто-то из медиков должен был понять, какие бонусы можно извлечь из такого воздействия газа на организм человека. Трудно поверить, что очевидное снижение чувствительности, которое они имели возможность наблюдать на таких представлениях, не наводило на мысль, по крайней мере, хоть кого-то из сельских врачей, об использовании оксида азота в качестве наркоза при хирургическом вмешательстве. И все же нет никаких серьезных доказательств, что кто-нибудь еще, кроме одного хирурга, хотя бы попытался испытать один из двух газов в своей работе. Этот человек получил настолько фундаментальную медицинскую подготовку, что она позволяла ему встать на одну ступень с самыми квалифицированными специалистами-практиками в Соединенных Штатах, исключая тех, кто имел возможность учиться в Европе. Он увидел возможность попробовать что-то новое, и он сделал это.
Существует определенная целесообразность в том, что профессиональное обучение Кроуфорда Уильямсона Лонга (1815–1878) включало в себя весь спектр медицинских знаний, доступных в южных и западных штатах США в средней трети девятнадцатого века. Хотя каждый, кто называл себя врачом, должен был получать лицензию того штата, в котором он практиковал, от кандидата на приобретение разрешения не требовалось иметь степень доктора медицины. На самом деле, у большинства из них ее не было. Подавляющая часть претендующих на прохождение устных квалификационных экзаменов, организуемых уездными медицинскими обществами, обучались по так называемой системе наставничества, в основном предполагавшей четырехлетнюю стажировку в качестве помощника старшего врача. Если студент посещал лекции в одном из медицинских колледжей страны, ему разрешалось сократить стажировку на один год; и лишь те немногие, кто обладал официальной степенью американской или европейской медицинской школы, имели привилегию сразу приступать к практике.
Система наставничества опиралась на многовековые принципы, руководствуясь которыми ремесленники овладевали своими профессиями во всех западных странах. При стоимости обучения около ста долларов в год студент, как правило, жил вместе с семьей своего учителя, выполняя не только рутинные профессиональные обязанности ассистента врача, но и помогал по хозяйству. За оговоренный период преподаватель передавал ему все свои, как правило, не очень обширные знания, принимая во внимание тот факт, что типичный наставник и сам не имел нормального образования, к тому же в то время в Америке медицина в целом находилась на относительно примитивном уровне. По сути, называть тех лекарей громким словом «профессионал» вообще было большим преувеличением. По правде говоря, специальность лекаря была ненамного более уважаема обществом, чем, к примеру, занятие фермерством, не говоря уже об отсутствии возможности заметного улучшения финансовых перспектив. Лестер Кинг, историк Американской медицинской ассоциации (АМА), считал, что практическая медицина того времени представляла собой не более чем «превосходное ремесло». Именно для того, чтобы поднять этот промысел до статуса профессии, повысив уровень стандартов образования и этических принципов, в 1846 году был основана АМА.
В 1835 году Кроуфорд Лонг окончил колледж Франклина, получивший в Афинах разрешение на учреждение за пятьдесят лет до этого. В настоящее время это Университет Джорджии. В течение года он преподавал в школе своего родного города Даниэльсвилля, а затем несколько месяцев проходил обучение у доктора Джорджа Р. Гранта в Джефферсоне. Несмотря на то, что короткий период стажировки, возможно, имел свои преимущества, скорее всего, такая система подготовки соответствовала мнению, выраженному в 1832 году Даниэлем Дрейком, великим врачом и педагогом, трудившимся в долине Миссисипи: «Врачи Соединенных Штатов преступно невнимательны к обучению своих учеников, и… это одна из причин, замедляющих развитие профессии и ограничивающих повышение ее статуса. Исключения… встречаются довольно часто, особенно в крупных городах; но они по-прежнему остаются лишь исключениями».
Каким бы ни было качество кратковременного обучения у доктора Гранта, Лонг скоро осознал, что нуждается в более универсальном медицинском образовании, и, вскочив в седло, отправился туда, где мог его получить. Его путь пролегал через горы на западе Северной Каролины и Восточного Теннесси, сквозь лесные угодья, скрывающие не только уединенные общины в глухих поселениях, но и враждебные индейские племена, которые по-прежнему обитали в тех районах. Наконец через несколько недель он прибыл в Лексингтон в штате Кентукки, где поступил на медицинский факультет Университета Трансильвании, отметивший к тому моменту тридцать шестую годовщину своего основания и процветания, в списке которого тогда числилось двести шестьдесят два студента. Но даже эта самая передовая на юге страны медицинская школа не отвечала требованиям Лонга в отношении качества научной подготовки, и в 1838 году он отправился на север, чтобы поступить в Университет Пенсильвании, старейшую медицинскую школу Америки, где работали лучшие преподаватели страны.
Как говорится в биографии, написанной в 1928 году дочерью Лонга Френсис Лонг Тейлор, именно в студенческие годы в Филадельфии ее отец впервые побывал на вечерах с презентацией эфира и веселящего газа, узнав об одурманивающем влиянии этих веществ не от профессора в классе, а от странствующих шоуменов, дающих публичные лекции по химии. Однако, написав об этом, она недооценила глубину знаний своего отца в области современной науки. Под влиянием выдающегося специалиста и политического деятеля Бенджамина Раша, несколько членов медицинского факультета школы провели исследования в области пневматической медицины, прочитали ряд лекций и написали работы о свойствах окиси азота и эфира. Натаниэль Чапман, профессор, преподававший Лонгу теоретическую и практическую физику, в 1831 году опубликовал в своей книге «Элементы терапии и фармакологии», наверное, лучшее из дошедших до нас описаний клинического использования эфира, сделанных до открытия общего наркоза.
Получив медицинскую степень в 1839 году, молодой врач восемнадцать месяцев «слонялся по больничным палатам» в Нью-Йорке, как и многие из его северных коллег, продолжавших обучение в крупных больницах Франции и Англии. Было несколько врачей-южан, так же, как Кроуфорд Лонг, получивших подготовку для самой высокопрофессиональной клинической работы и страстно желавших вернуться в Филадельфию на практику. Но привязанность к отцу привела его назад в Джефферсон, в Джорджию, где он в 1841 году купил практику своего бывшего наставника Джорджа Гранта. На тот момент ему было двадцать пять лет.
Курс обучения медицине Кроуфорда Лонга описан здесь не только потому, что он характеризует типичный способ получения образования, которому следовали американские врачи того времени; важно также подчеркнуть, что подавляющее большинство практикующих врачей на своем профессиональном пути не ограничивались успешным прохождением общепринятой системы наставничества. В отношении образования Лонг получил лучшее, что могла предложить молодая страна. О нем часто говорят, как о заурядном сельском враче, которому однажды случайно посчастливилось применить в своей работе эфир. На самом деле он был высококвалифицированным специалистом с отличным знанием клинической медицины и экспериментальных научных методов, получившим прекрасное образование и склонным собственными практическими исследованиями проверять свои идеи и догадки. Как видно из цитаты, которая открывает эту главу, даже обладающий недюжинным интеллектом Уильям Генри Уэлч, похоже, не смог по достоинству оценить заслуги Лонга перед современной наукой.
Знающий свое дело и представительный молодой врач скоро стал популярным в окрестностях Джефферсона и приобрел много друзей, готовых к смелым интеллектуальным экспериментам и рискованному новаторству. Неудивительно, что они сначала заинтересовались веселящим газом, а затем и эфиром. Несколько раз Лонг и его друзья использовали эфир и имели возможность наблюдать тот же эффект, что Фарадей и Дэви, а именно: те, кто вдохнул достаточное количество паров, «не чувствовали боли» от удара или при падении. Не найти лучшего примера для применения максимы Пастера, в которой он утверждает, что «в области наблюдений случай благоволит только подготовленному уму», чем к случаю с высококвалифицированным образованным врачом и его экспериментальной работой.
Ранней весной 1842 года Лонг сделал одному из своих пациентов весьма привлекательное предложение. Молодой человек по имени Джеймс Венебл в течение некоторого времени пытался набраться смелости для удаления двух кист с задней части шеи, но продолжал медлить из-за страха перед болью. Зная, что Венебл имел опыт вдыхания эфира, его врач предложил ему с целью обезболивания дышать через смоченное летучей жидкостью полотенце во время операции. Пугливый пациент отнесся к затее скептически, но согласился пойти на этот эксперимент при условии, что будет удалена только одна киста. Не оставив ему времени на изменение решения, Лонг прооперировал больного в тот же вечер, 30 марта 1842 года. Венебл был настолько впечатлен легкостью, с которой все произошло, что через два месяца избавился и от второй кисты.
Воодушевленный этим успехом, в июле Лонг применил эфир при ампутации больного пальца ноги у парнишки, бывшем у него в услужении. Семь лет спустя он написал о том, что со времени первой процедуры он ежегодно оперировал одного-двух пациентов, используя обезболивание парами эфира. Лонг сообщал об этих случаях в качестве аргумента в споре, который к тому времени превратился в бурю оскорбительной полемики, связанной с вопросом, кто и когда изобрел анестезию. К сожалению, он решил претендовать на авторство спустя три года после триумфа Уильяма Мортона в Бостоне. Даже тогда он оставался слишком сдержанным в своей самопрезентации, написанной им только благодаря непрекращающимся увещеваниям друзей, которые не могли спокойно наблюдать, как он молчаливо страдает от того, что истинного первооткрывателя анестезии в хирургии несправедливо игнорируют. Он не поддавался на уговоры опубликовать свою работу до тех пор, пока впервые не отправился в медицинский колледж Джорджии в Огасте, чтобы выступить перед факультетом с рассказом о своем опыте работы с эфиром в течение семи лет. Кроуфорд Лонг не любил споры. В последующие годы непрекращающихся обвинений и оскорблений его образцовое поведение будет единственным примером благородства на грязном поле боя.
Далее роль Лонга в конфликте из-за авторства общего наркоза будет описана более подробно. На данный момент достаточно отметить, что несомненный факт его приоритета не означает, что ему принадлежит заслуга открытия безболезненной хирургии. Рассказ о нем уводит нас от основной линии повествования. Поскольку, несмотря на авторитет, которым обладал Мортон, никто никогда не осмеливался применить анестезию в процессе хирургического вмешательства, как это сделал Лонг; но медики не воспользовались его опытом, не веря в подобное чудо. Все изменил Уильям Томас Грин Мортон в одно знаменательное осеннее утро в Бостоне.
Получив прекрасное медицинское образование, обладавший изощренным умом и мощной интуицией, Лонг был идеальной кандидатурой, хоть и не в лучшем месте, для преодоления недальновидности своих собратьев и открытия новой эры безболезненной хирургии. К сожалению, он пропустил подачу. Если бы он продолжил использовать эфир в своей клинической работе и опубликовал свои данные раньше, рассказ о рождении общей анестезии достиг бы кульминационной точки в этом месте. Причины, по которым Лонг не проявил необходимой настойчивости, не ясны, но в чем бы ни было дело, возникла ситуация, подобная случаям ренегатства Дэви в отношении других проектов, когда благоприятная возможность была им упущена.
Лонг, без сомнения, был единственным из врачей, осознавшим обезболивающий эффект воздействия обоих газов, и одним из многих клиентов поставщиков веселящих паров. Среди наиболее успешных и предприимчивых торговых агентов был некто Гарднер Куинси Колтон, гастролирующий лектор, имевший какое-то медицинское образование и путешествовавший по Новой Англии, демонстрируя чудеса электричества и влияние газа окиси азота в тот момент, когда Лонг начал использовать эфир в хирургии. Он прибыл в Хартфорд, штат Коннектикут, 10 декабря 1844 года и тут же поместил рекламу в местной газете The Courant.
В тот же вечер преуспевающий молодой стоматолог Гораций Уэллс привел свою жену Элизабет на шоу с демонстрацией веселящего газа. Во время представления один из добровольцев ударился ногой о деревянный диван, находясь при этом под воздействием вещества. Хотя ранение было достаточно сильным и сопровождалось кровотечением, он не чувствовал никакой боли, пока воздействие окиси азота не прошло. Этот факт не ускользнул от внимания Уэллса, и сразу же после окончания спектакля он обратился к Колтону с просьбой принять участие в эксперименте, чтобы проверить, можно ли безболезненно удалить зуб, если субъект будет находиться под успокаивающим влиянием газа. Они отправились в кабинет стоматолога, где его коллега по имени Риггз избавил Уэллса от одного из моляров, предварительно погрузив его в сон с помощью нескольких вдохов паров газа. Очнувшись от безболезненного забытья, целеустремленный Уэллс не мог думать ни о чем, кроме преимуществ, которые получат его пациенты с воспаленными деснами, и ликующе воскликнул: «Да, это новая эра в удалении зубов!» Находился ли он по-прежнему под парами веселящего газа или просто был не способен видеть будущее дальше собственных челюстей, но он, похоже, не осознал значение произошедших в тот вечер событий.
Ограниченность такого восприятия продлилась недолго. Он узнал у Колтона, как готовить окись азота, после чего начал вместе с Риггзом применять его в своей работе. В течение месяца он успешно извлек без боли пятнадцать зубов и почувствовал, что готов представить свой метод «соответствующим лицам», которые знают, как надлежащим образом провести эксперимент и использовать новое открытие.
В феврале 1845 года Уэллс отправился в Бостон, который уже тогда был одним из центров передовой научной мысли в Америке. Чтобы получить возможность представить свое открытие ведущим хирургам этого города, он обратился за помощью к своему бывшему ученику Уильяму Томасу Грину Мортону, с которым они раньше вместе работали. Мортон познакомил Уэллса с докторами Джорджем Хейвордом и Джоном Коллинзом Уорреном. Последний, служивший главным хирургом в центральной больнице Массачусетса, пригласил Уэллса в Гарвардский студенческий медицинский класс на лекцию, посвященную возможностям окиси азота в хирургии, чтобы продемонстрировать его практическое применение на случае ампутации ноги. Но пациент отказался от такой операции, вероятно, предпочитая пережить несколько минут боли и не рискуя вручить свою жизнь в руки неизвестного дантиста с мешком загадочных газов. После нескольких дней ожидания было решено собрать учащихся-медиков и предложить удалить зуб кому-нибудь из студентов-добровольцев. О том, что произошло дальше, Уэллс писал почти два года спустя, 9 декабря 1846 года, в письме редактору журнала The Hartford Courant, которое стало его первым залпом в битве за приоритет:
Большое количество студентов и несколько врачей пришли, чтобы наблюдать за операцией – один из них был пациентом. К сожалению для эксперимента, газовый баллон по ошибке убрали слишком рано, и объект был лишь частично под влиянием газа при извлечении зуба. Он засвидетельствовал, что испытывал некоторую боль, но не такую сильную, как обычно при подобной операции. Поскольку другого пациента для повторения эксперимента не было, некоторые выразили мнение, что все это было надувательством (это была вся благодарность, которую я получил за безвозмездно оказанную услугу), и я соответственно уехал на следующее утро домой.
Фраза «Некоторые выразили мнение, что все это было надувательством» была явным преуменьшением. На самом деле, произошедшее было первым в череде бедствий, которые в конечном итоге привели Горация Уэллса к разорению. В тот самый момент, когда он вытащил зуб у своего добровольца, молодой человек отдернул голову назад и закричал от боли. Скорее всего, нетерпеливый дантист дал пациенту вдохнуть недостаточное количество газа, чувствуя слишком сильное нервное напряжение, находясь в центре незнакомого амфитеатра и выступая перед скептически настроенными зрителями, среди которых были самые выдающиеся врачи Бостона. И хотя после того, как действие газа полностью прошло, пациент говорил, что ощущал лишь небольшую боль, ущерб был нанесен. Бедный Уэллс вышел из зала под насмешливое уханье и свист собравшихся зевак. Среди эпитетов, раздававшихся в его ушах, слово «надувательство» было одним из наименее неделикатных. Он покинул Бостон, потерпев поражение, чувствуя себя униженным и опозоренным. Процитированное выше письмо было написано человеком, глубоко раненным психологически. Неудачное выступление в Массачусетской центральной больнице оказало негативное влияние на состояние духа Горация Уэллса. Сразу же по возвращении из Бостона он выставил свой дом на продажу, а через несколько месяцев уступил свою практику доктору Риггзу.
После испытанного унижения и разочарования Уэллс не мог дальше практиковать как стоматолог и направил всю свою энергию и нервное возбуждение на прибыльные проекты другого рода, хотя и со скромным успехом. Шли месяцы, но горечь из-за разрушенных перспектив не покидала его. Но, несмотря на это, в нем оставалась капля надежды на то, что его эксперименты с окисью азота еще могут привести к каким-то положительным результатам; например, какой-нибудь хирург из другого города может оценить по достоинству идею Горация Уэллса и осознать, что он заслуживает еще одного шанса. И вот поздним октябрьским утром 1846 года до него дошла сокрушительная новость о том, что его мечте не суждено сбыться. Сообщение пришло в форме письма от Уильяма Мортона:
Друг мой, Уэллс. Уважаемый сэр, я пишу, чтобы информировать вас о том, что обнаружил препарат, при вдыхании которого человек погружается в крепкий сон. При этом процесс засыпания занимает всего несколько мгновений, а продолжительность сна может регулироваться по желанию. Пока пациент находится в таком состоянии, можно выполнить сложнейшие хирургические или зубоврачебные манипуляции, и он не почувствует никакой боли. Я усовершенствовал методологию и теперь собираюсь разослать препарат и предоставить права на его использование другими врачами в их практике, в городе, округе или штате. Я пишу Вам с целью узнать, не хотите ли Вы посетить Нью-Йорк и другие города, чтобы принять участие в акции. Я использовал состав более чем в ста шестидесяти случаях удаления зубов, а также по приглашению ассистировал на операциях в Массачусетской центральной больнице, и всегда успешно.
Письмо было датировано 19 октября 1846 года. Тремя днями позже Мортон открыл эру общего наркоза, успешно применив эфир во время операции, которую делал Джон Коллинз Уоррен. В один момент у Уэллса украл награду и тут же предложил ему жалкую второстепенную роль в этой истории неблагодарный протеже, которому он сам изложил свою концепцию безболезненной хирургии. Его отчаяние усугублялось тем, что Мортон увел у него из-под носа не только славу, но и золото, поскольку, как следовало из письма, он уже начал активную маркетинговую кампанию по продаже прав на свое изобретение.
Уэллсу нечего было ответить на уничижительное письмо Мортона, о триумфе которого уже 18 ноября в Бостонском журнале о медицине и хирургии вышла статья одного из коллег Уоррена. Наконец, 7 декабря The Hartford Courant опубликовала новость о признании изобретения Мортона. Уэллс, возмущенный тем, что его бывший ассистент повторил публичную апробацию, 9 декабря начал отчаянную битву за признание своего авторства письмом в редакцию, которое заканчивалось его жалобным заявлением: «Я оставляю общественности решать, кому принадлежит честь этого открытия».
На этом пролог завершен. Все, что было описано до этого момента, служит лишь декорацией для финального драматического акта истории наркоза – успешно проведенной Джоном Коллинзом Уорреном операции с обезболиванием пациента эфиром, выполненным Уильямом Мортоном 16 октября 1846 года.
Трудно оценить всеобщее замешательство, последовавшее за этим событием. Из всех описаний, оставленных нам теми, кто знал Уильяма Мортона, возможно, лучшей его характеристикой является фраза, написанная в двадцатом веке: это был весьма ловкий молодой человек. Трудолюбивый, амбициозный, как в лучшем, так и в худшем смысле этого слова, он не упускал благоприятных возможностей и прекрасно понимал, какие финансовые выгоды может принести открытие. Какое бы благо он ни надеялся принести человечеству, похоже, что им двигали скорее корыстные мотивы, чем любовь к науке. На самом деле, он не был ученым в общепринятом смысле этого слова; он был обыкновенным охотником за сокровищами.
Мортон практиковал в качестве стоматолога в Бостоне, хотя обучение, начатого в 1840 году в балтиморском колледже на факультете стоматологической хирургии, так и не закончил. Но он имел огромное желание расширить свои знания в технических вопросах и прослушал два курса лекций в Массачусетском медицинском колледже, где завел полезные знакомства с несколькими сотрудниками центральной больницы Массачусетса. В частном порядке он брал уроки химии у Чарльза Т. Джексона, в доме которого недолго жил на полном обеспечении. Джексон, уважаемый геолог, был руководителем лаборатории по исследованиям в области аналитической химии.
Мы начинаем следить за событиями жизни Мортона в тот момент, когда он начал свою стоматологическую практику в Бостоне после неудачного сотрудничества с Горацием Уэллсом в Хартфорде в 1842–1843 годах. Именно Мортон помогал в организации провальной демонстрации свойств окиси азота, которую проводил Уэллс с Джоном Коллинзом Уорреном, и был свидетелем не только их неудачи, но и других экспериментов своего партнера. Проводил ли Уэллс, как он позже утверждал, эксперименты с эфиром в присутствии Мортона, точно не установлено.
До 1844 года Мортон активно искал метод облегчить боль при удалении зубов. Он разработал точно подгоняемую по десне пластину, на которой держался искусственный зуб. В долгосрочной перспективе такая конструкция несла в себе преимущества значительного уменьшения зазора между десной и зубным протезом, но для достижения плотной посадки требовалось удаление старых корней и обломков зубов. Этот процесс был настолько болезненным, что пациенты уходили от Мортона к другим стоматологам. Тогда привлеченный к делу об авторстве методики адвокат, решительный и к тому времени знаменитый Ричард Генри Дана – младший заявил несколько лет спустя: «Доктор Мортон по характеру своей ежедневной деятельности имел прямую финансовую заинтересованность в облегчении боли при выполнении операций». По-видимому, Мортон стремился получить права на открытие анестезии как можно скорее и стать единственным бенефициаром всех видов финансового вознаграждения, которые вслед за этим могли последовать. Химик Джексон рассказал Мортону об эфире два важных факта: во-первых, он описал влияние, которое его пары оказывали на веселящихся студентов, а во-вторых, он предположил, что если жидкость нанести непосредственно на десну пациента, то область вокруг зуба, который подлежит удалению, должна потерять чувствительность. Полагаясь на советы Джексона, молодой стоматолог впервые применил этот метод в июле 1844 года и начал обдумывать возможность использования смеси или ее паров для более общего снижения осознанности пациента. Из книги Джонатана Перейры «Элементы фармакологии», написанной в 1839 году, он знал, что вдыхание паров серного эфира вызывает снижение общей чувствительности к боли, похожее на то, что он наблюдал в опытах Уэллса с окисью азота, и он, не известив Джексона, начал выискивать безопасный метод его использования.
Бо́льшую часть лета 1846 года он проводит за экспериментами с золотыми рыбками, гусеницами, насекомыми, червями и даже щенком спаниеля. В конце концов Мортон испытал воздействие паров на двух своих помощниках, но результаты не показались ему ни предсказуемыми, ни удовлетворительными. Всю работу он вел в строжайшей секретности, опасаясь, что его идеей воспользуется кто-то другой. Но скрытность мешала его прогрессу, поскольку он не мог посоветоваться со специалистами. Несмотря на свою дерзость (или, как считали некоторые, безрассудство), сам он был не уверен в собственных научных познаниях и, в конце концов, решил посоветоваться со своим бывшим наставником в химии Джексоном.
Опытный ученый рекомендовал Мортону не использовать коммерческий продукт и ограничиться чистым серным эфиром, чтобы исключить погрешности в результатах. Вероятно, именно Джексон предложил ему попробовать технику ингаляции на пациенте по имени Эбен Фрост, обратившемся в офис Мортона вечером 30 сентября 1846 года. У спящего, не ощущающего боли Фроста успешно удалили зуб, и Мортон немедленно приступил к планированию публичной демонстрации. Поскольку он стремился, чтобы весь мир узнал, что именно ему принадлежит открытие способа обезболивания в хирургии, прагматичный Мортон сначала принял меры предосторожности, проконсультировавшись с руководителем патентного бюро.
Но прежде, чем обсуждать вопросы права, он подстраховался, связавшись с газетой. Хотя Мортон отрицал, что он сам был источником информации, но сложно поверить, что кому-то еще понадобилось публиковать уведомление, появившееся в Бостонском еженедельнике 1 октября 1846 года, на следующий день после операции, сделанной Фросту:
Вчера вечером, как нам сообщил один джентльмен, он был свидетелем операции по удалению больного зуба, при этом пациент не почувствовал ни малейшей боли. Вдохнув препарат, он погрузился в некий вид забытья приблизительно на три четверти минуты, которых оказалось достаточно, чтобы извлечь зуб.
После такой подготовки следующим шагом Мортона было посещение Джона Коллинза Уоррена. В свете неудачного опыта Уоррена с окисью азота дерзкий дантист этим поступком проявлял либо огромную самоуверенность, либо немалое безрассудство, а возможно, и то и другое. Такое поведение, конечно, было вызовом принципам научного подхода, учитывая то, что опыт двадцатисемилетнего стоматолога, удалявшего зубы с использованием эфира в качестве обезболивающего средства, был минимальным, его представления о факторах риска были нулевыми и ему даже не пришло в голову сконструировать аппарат, с помощью которого газ можно было бы подавать реальному пациенту (что касается Фроста, сорокапятисекундная процедура проводилась с помощью пропитанного эфиром носового платка). У Уоррена были все основания отказаться от предложения Мортона использовать эфир во время хирургической операции. Но здесь сыграл свою роль характер Джона Коллинза Уоррена. Педантичный, высококвалифицированный врач с большими амбициями, он научился оперативным техникам у сэра Эшли Купера и барона Гийома Дюпюитрена, величайших европейских хирургов тех дней. Несмотря на свою осторожность и благоразумие, он был также известен своей готовностью пробовать новые методы и первым стал проводить некоторые ортопедические процедуры, в том числе операции защемленной грыжи. Он был вторым профессором хирургии в Гарварде, сменив на этой должности своего отца в 1815 году. Как основатель центральной массачусетской больницы и Американской медицинской ассоциации он был одним из самых уважаемых главных врачей страны в тот момент, когда Мортон обратился к нему.
В течение нескольких месяцев после демонстрации анестезии Уильямом Мортоном хирурги из центральной больницы Массачусетса несколько раз позировали для фотографий, на которых они были запечатлены во время проведения хирургических процедур с использованием эфира для усыпления пациентов. Здесь представлен дагерротип[17], сделанный в декабре 1846 года, с изображением Джона Коллинза Уоррена (рука на ноге пациента), готовящегося к ампутации. (Любезно предоставлено Гарвардской медицинской школой и библиотекой Каунтвей, Бостон.)
В 1846 году Уоррену исполнилось шестьдесят восемь лет, и не прошло и года, как он отказался от должности профессора. Седой, с непроницаемым выражением лица, он был не похож на человека, который, несмотря на долгие годы работы хирургом, так и не привык к ужасам оперативного вмешательства, и даже его благочестивая христианская вера не примирила его с собственной совестью, терзавшей его за мучения, которым он подвергал тех, кого он пытался исцелять. Возможно, именно ему было уготовано стать тем, кто, выражаясь словами его друга Оливера Уэнделла Холмса, положит «конец страданиям, которые канут в водах забвения, и навсегда избавит от кошмара агонии». Он принял предложение Мортона. Дантист получил короткое письмо с приглашением приехать в больницу в течение сорока восьми часов, чтобы «дать пациенту, которому будет сделана операция, открытый вами препарат для уменьшения чувствительности к боли». Мортон был настолько скрытным, что даже проводивший операцию хирург не знал состава препарата.
Получив уведомление за два дня до демонстрации, Мортон вместе с изготовителем инструментов лихорадочно трудился над созданием функционального ингаляционного аппарата, который был завершен в самый последний момент, и явился в назначенное утро в операционный театр с опозданием на пятнадцать минут, когда Уоррен, отчаявшись его дождаться, был готов начать операцию без него. Все места в амфитеатре были заняты медиками и студентами, многие из которых готовились насладиться унижением еще одного стоматолога с его никчемным средством от боли во время хирургического вмешательства. Пациентом был худой туберкулезный молодой человек по имени Гилберт Эббот с ангиомой в верхней точке левой челюсти. Сказав ему несколько ободряющих слов, Мортон приложил маску к лицу больного и велел ему вдыхать.
В течение нескольких минут Гилберт Эббот погрузился в сон. Мортон взглянул на Уоррена и тихо сказал: «Сэр, ваш пациент готов». Операция началась. Следующие события лучше всего описал сам Уоррен в статье для Бостонского журнала по медицине и хирургии два месяца спустя:
Я сразу же сделал разрез длиной около трех дюймов (около восьми сантиметров) на поверхности шеи, и начал иссечение между крупными нервными и кровеносными сосудами, без признаков боли со стороны пациента. Вскоре после этого он начал бессвязно бормотать и оставался во взволнованном состоянии на протяжении всей оставшейся части операции. На вопрос о том, было ли ему больно, он ответил, что у него было ощущение, как будто его шею царапали.
Практически безболезненная операция продлилась двадцать пять минут. Когда она закончилась, Джон Коллинз Уоррен посмотрел вверх на буквально за мгновение до этого скептически настроенную и даже непристойно ведущую себя аудиторию, теперь испуганно застывшую в благоговейной тишине, которая, должно быть, осознала, что всем присутствующим довелось стать свидетелями одного из знаменательных моментов в истории медицины. Им не пригодились те насмешливые слова, которые многие из них собирались бросить самонадеянному дантисту, стоявшему теперь перед ними героем. Уоррен мгновение задумчиво смотрел на собрание, все еще потрясенное увиденным, и тихо объявил о рождении анестезии простым красноречивым заявлением: «Господа, это не шарлатанство».
Несколько лет спустя, когда было произведено еще много операций под наркозом, уже ушедший в отставку пожилой хирург собрался с мыслями и задумал осуществить мечту своей жизни – операцию без боли. Вновь собравшейся аудитории в освещенном амфитеатре, который стал называться эфирным куполом, он сказал:
Для оперативной хирургии началась новая эра. Хирургическое вмешательство на самых чувствительных участках тела теперь выполняется не только без привычных мучительных криков, но иногда в совершенного бесчувственном состоянии, а бывают случаи – и с выражением удовольствия со стороны пациента.
Кто мог бы вообразить, что нож, разрезающий нежную кожу лица, может вызвать ощущение неподдельного восторга? Что движение инструмента в наиболее деликатном месте организма – в мочевом пузыре – может сопровождаться приятным сном, а разгибание потерявших подвижность суставов – райскими видениями?
Если бы Амбруаз Паре, и Луи, и Дессо, и Чеселден, и Хантер, и Купер могли видеть то, чему мы ежедневно являемся свидетелями, они бы еще долго оставались среди нас и вновь совершали бы свои подвиги.
И с каким бы усердием современный хирург, готовый отказаться от своего скальпеля, снова вооружился бы им, чтобы еще раз пройти свой профессиональный путь под новым покровительством.
Как филантропы, мы можем радоваться тому, что у нас есть посредник, хотя и невесомый, который является столь драгоценным подарком для бедного страдающего человечества.
Неудержимый и свободный, как божественный солнечный свет, он явился, чтобы подбодрить и порадовать землю; ему будут благодарны и сегодняшнее, и все грядущие поколения. Во все времена студент из любой далекой страны, явившись сюда, будет с особым интересом разглядывать это место, вспоминая о том, что именно здесь была впервые открыта одна из самых блистательных истин науки.
В течение нескольких недель после успешно проведенной демонстрации Мортон продолжал скрывать природу своего изобретения. Исполнившись энтузиазма на волне признания со стороны корифеев больницы, он по-прежнему фокусировался на получении патентов, увеличении прибыли и выходе на мировой рынок. По оценкам его биографа Натана П. Райса, доля Мортона от продажи исключительных прав на использование газа только в Америке составила более трехсот пятидесяти тысяч долларов за четырнадцать лет действия патента. Письмо, написанное Уэллсом 19 октября, описывает его плановый подход (и является наглядным доказательством склонности молодого предпринимателя придумывать фиктивные факты и искажать события).
Но тут возникли две проблемы. Первая – вмешательство в спор Чарльза Т. Джексона, чей визит к Мортону 23 октября ознаменовал начало конфликта, который станет настолько ожесточенным и, в конце концов, таким грязным, что не закончится еще много лет после того, как оба конкурента будут уничтожены своей неослабевающей злобой. Суть дела состояла в том, что Джексон хотел получить свою часть успеха. Перед показательной операцией Гилберта Эббота Мортон обратился за консультацией к руководителю патентного бюро Р. Х. Эдди, который, как оказалось, был одним из самых преданных поклонников Джексона. Придя к выводу, что существует вероятность получить патент на эфир, Эдди начал убеждать Мортона выделить химику процент из будущей прибыли. Они пришли к соглашению, и 12 ноября патент за номером 4848 был выдан на двоих – Мортону и Джексону, при этом последний соглашался переуступить свои права в обмен на 10 процентов от прибыли, полученной в Америке; позже такой же патент они получили на продажи за рубежом.
Хотя Чарльз Томас Джексон к тому времени зарекомендовал себя как опытный и весьма уважаемый ученый, необходимо отметить и другую черту его характера, не зная о которой трудно понять вышеупомянутые и произошедшие в дальнейшем события. Джексон был эксцентричным чудаком, внутри которого зрело семя безумия, а к тому моменту оно начало расцветать пышным цветом. Окончив медицинский факультет Гарварда в 1829 году, он в течение двух лет стажировался в парижских больницах, одновременно занимаясь геологией и аналитической химией. На обратном пути из Франции он познакомился с Сэмюелем Ф. Б. Морсом и продемонстрировал ему электромагнит, который он вез с собой в Бостон. После внимательного изучения прибора Морсу пришла в голову идея, что посредством электричества можно передавать информацию на большие расстояния. Вернувшись домой, он начал серию экспериментов, кульминацией которых стало изобретение телеграфа. Чарльз Джексон не постеснялся присвоить часть славы себе.
И это не единственный пример его специфической склонности трансформировать простое предложение или случайное содействие в требование признать его автором какого-то научного достижения. Когда армейский хирург капитан Уильям Бомонт применил экспериментальный метод лечения огнестрельного ранения в живот минера-канадца французского происхождения, в результате которого у пациента образовался желудочный свищ, он посоветовал Джексону сделать химический анализ жидкости, вытекающей из пищеварительного тракта. Бомонт и его подопытный Алексис Св. Мартин находились в то время в Бостоне, и когда одаренный капитан должен был вместе с армией отправиться на запад, Джексон пытался предотвратить вынужденный отъезд Бомонта, чтобы у него была возможность провести собственные исследования. С целью придать своему обману флер научного проекта, он ловко заручился подписями двухсот конгрессменов под петицией, описывающей важность его экспериментов для Америки и человечества. Если бы военный секретарь не отклонил это ходатайство, Джексон мог бы претендовать на звание первого физиолога страны, которое сегодня принадлежит Уильяму Бомонту.
Совсем незадолго до этого, в том же самом 1846 году, Чарльз Джексон был участником конфликта с немецким химиком Кристианом Шенбейном по поводу изобретения пироксилина. Этот спор ему суждено было проиграть. Таким образом, Джексон выехал на арену сражения за авторство изобретения общего наркоза на видавшем виды боевом коне с уже испытанной в бою пикой наперевес. Тот факт, что его вышибли из седла во всех предыдущих турнирах, только увеличивал его страстную решимость победить на этот раз.
Вторая проблема Мортона была действительно серьезной: он не имел возможности сохранить в секрете состав своего газа. Добавление ароматических соединений к смеси не могло скрыть от врачей характерный запах, и хотя Мортон отрицал то, что активным ингредиентом был эфир, это задержало открытие истины лишь на короткое время. Кроме того, в приобретении патента Мортон рассчитывал на безоговорочную поддержку врачей центральной больницы Массачусетса и представителей стоматологического профессионального сообщества. Уоррен, по его словам, «узнав, что был выдан эксклюзивный патент, не мог обратиться с заявкой без разрешения собственника» и не имел права на дальнейшее использование агента до тех пор, пока патентные ограничения не будут сняты. После трехнедельного моратория Мортон неохотно согласился поделиться своим секретом с коллегами из больницы, при условии, что вся информация будет строго конфиденциальной. С первой ампутацией с использованием анестезии 7 ноября возобновилось применение эфира. Две недели спустя изобретатель встретился с двумя представителями больницы, Генри Джейкобом Бигелоу и Оливером Венделлом Холмсом, и присвоил серному эфиру название «Летеон», пытаясь сохранить некое подобие тайны. Слово было заимствовано по предложению Холмса из сочинения Вергилия, который, как отмечалось ранее, применил его в описании глубокого сна, вызванного слезами мака.
Таким образом, одобрение новой техники бостонскими культурными кругами было оглашено не кем иным, как самим Холмсом, который в тридцать семь лет был близок к получению звания профессора анатомии и физиологии в Гарвардской медицинской школе. Открытие нуждалось в названии, даже если его основной ингредиент должен был оставаться тайной. Холмс предложил термин «анестезия» и определение от него «анестезирующий». Он заметил в письме Мортону, особо подчеркнув эту фразу, что, независимо от того, какое название он бы не выбрал, его «будут повторять на языках всех цивилизованных рас человечества».
(Как отмечалось ранее, слова «наркоз» и «анестезия» первоначально использовал Диоскорид в первом столетии, а вслед за ним их стали применять некоторые адепты гипноза. Хотя его нет в словаре Сэмюеля Джонсона, оно определенно присутствовало в лексиконе в 1721 году и может быть обнаружено в медицинском словаре Пана 1819 года. Знающим сборник эссе Холмса «Самодержец за завтраком» покажется, что термин берет свое начало в сочинениях того времени; возможно, он нашел его в книге Джона Мейсона Гуда «Физиология системы нозологии», опубликованной в 1823 году. Хотя доктору Холмсу часто приписывают авторство этого слова, он был бы первым, кто подтвердил древность его родословной.) Несмотря на достигнутую договоренность о правах и конфиденциальности, гарвардские врачи готовились сообщить о новом открытии американскому научному сообществу. Краткий реферат событий был зачитан перед Американской академией искусств и науки 3 ноября, а уже 9 ноября Генри Джейкоб Бигелоу представил полный документ собранию Бостонского общества совершенствования медиков. Документ был опубликован 18 ноября в одном из номеров Бостонского журнала о медицине и хирургии – сегодня это дорогостоящий коллекционный экземпляр, поскольку он содержит первое официальное сообщение об открытии общего наркоза. К тому времени Бигелоу, который должен был вскоре прийти на смену Джону Коллинзу Уоррену в качестве ведущего хирурга Новой Англии, провел ряд экспериментов и применил обезболивание с помощью паров газа в нескольких клинических случаях.
Известие о великом открытии быстро распространилось по всей Европе точно так же, как подобные вещи происходят в наши дни. Джейкоб, гордый отец Генри Бигелоу, отправил в Лондон письмо своему другу Френсису Бутту, вложив в него газетную вырезку о своем сыне. Не теряя ни минуты после получения сообщения, Бутт пригласил дантиста по имени Робинсон удалить зуб некой мисс Лонсдейл в своем домашнем кабинете. В течение нескольких минут после того, как леди пришла в себя, Бутт отправил с посланником сообщение своему коллеге Роберту Листону, талантливому и решительному профессору хирургии, работавшему в колледже Лондонского университета. Начиная с субботы, Листон с нетерпением ждал, когда закончатся выходные и наступит понедельник 19 декабря, когда состоится первая в Европе хирургическая операция под общим наркозом. Известно, что перед тем, как начать процедуру ампутации, он сказал собравшимся студентам и помощникам: «Сейчас мы воспользуемся американской уловкой, джентльмены, чтобы погрузить пациента в состояние забытья». Завершив наложение бинтов, великий британский хирург, представитель того же медицинского факультета, который смеялся над Джоном Эллиотсоном и гипнотизерами всего восемь лет назад, громко провозгласил перед всеми, кто мог слышать его звучный голос: «Эта американская уловка, джентльмены, превосходит бестолковый гипноз». Среди притихших зрителей находился девятнадцатилетний студент, стремившийся получить степень бакалавра, Джозеф Листер, о котором еще будет сказано позже.
Карикатурист предлагает несколько инновационных способов применения эфирной анестезии. Из парижского журнала Le Charivari, 1846 г. (Любезно предоставлено Йельской библиотекой истории медицины.)
Чтобы окончательно убедиться в эффективности эфира, в следующий раз Листон применил его, когда удалял ноготь с большого пальца пациента, что, по его словам, является «одной из самых болезненных операций в хирургии». Затем он написал Бутту, поблагодарив его за предложение и описав «самые превосходные и убедительные результаты», полученные им в двух случаях. Бутт направил письмо и копию статьи о Бигелоу в «Ланцет», уже в те далекие времена один из самых авторитетных медицинских журналов, который опубликовал оба его послания 2 января 1847 года. В течение трех недель эфир был испытан в клинической больнице в Вене и в университетской хирургической больнице в немецком городе Эрлангене. 1 февраля выдающийся парижский хирург Альфред Вельпо, работавший в Шарите, доложил французской академии наук, что его экспериментальная работа с газом доказала несомненную продуктивность эфира. Летом 1847 года Питер Паркер, окончивший Йельский университет врач-миссионер, начал работать с эфиром на другом конце света, в Китае, в маленьком здании, которое он называл Кантонской больницей.
В то время когда весь мир превозносил Мортона и аплодировал его изобретению, ушлый Джексон не сидел сложа руки, довольствуясь лишь десятью процентами грядущей прибыли и совсем скромной известностью. Он сыграл роль, исполненную тринадцать лет назад Уильямом Бомонтом в истории с петицией Конгрессу по поводу Святого Мартина: он планировал представить Мортона, как простого исполнителя, отвечавшего за технические аспекты его великого изобретения. Так 13 ноября и еще раз 1 декабря 1846 года он написал высокопоставленному другу, живущему в Париже, что именно он является первооткрывателем общего наркоза, эффективность которого была исчерпывающе продемонстрирована в центральной массачусетской больнице после его обращения к «дантисту, работавшему в этом городе», который, таким образом, лишь выполнял его, Джексона, инструкции. Эти письма были зачитаны во Французской академии наук 18 января 1847 года, и этот факт вскоре стал известен Мортону. Встревоженный дантист, узнав о коварстве своего оппонента, тут же приступил к сбору показаний свидетелей.
Между тем Гораций Уэллс также решил искать сторонников в Париже и отправился туда, чтобы обратиться с ходатайством в Академию медицины и Академию наук. Неясно, насколько обстоятельно академии расследовали его претензии, но обе поместили выдержки из его петиций в своих исках. Злополучному Уэллсу так и не удалось добыть однозначные доказательства в виде свидетельских показаний, в результате чего в марте 1847 года он вернулся домой с весьма безрадостными перспективами в отношении признания своих заслуг. Как только его корабль прибыл в Бостон, он начал собирать необходимые ему подтверждения и через несколько дней вернулся в Хартфорд в надежде увеличить количество полученных заявлений.
Узнав о поездке Уэллса в Париж и, очевидно, об успешном приеме Джексона в Академии наук, Мортон почувствовал, что возникла серьезная угроза потери его кажущегося преимущества. Он не мог предвидеть, что опытный, как он предполагал, Джексон не будет отстаивать свою позицию, а себе в ущерб поддержит своего соперника.
Произошло это следующим образом. И Эдвард Эверетт, президент Гарвардского колледжа, и Джон Коллинз Уоррен хотели создать убедительное научное обоснование нового открытия и обеспечить его историческое развитие на фундаментальной основе. Они предложили своему коллеге с химической кафедры академии подготовить презентацию для Американской академии наук, в которой Эверетт тогда был вице-президентом. Джексон увидел в этой ситуации возможность узаконить свои претензии, поскольку уже тогда это учреждение считалось выдающимся научным учреждением Америки. Он написал свою презентацию таким образом, что в ней он не только объявлялся изобретателем анестезии, но подразумевалось, что это заявление делается при поддержке Эверетта и Уоррена с официального разрешения академии. Он отправил копии на континент в Париж, а также в широко известный Boston Daily Advertiser («Бостонский рекламный ежедневник»), который опубликовал текст его письма 1 марта. Хотя все происходящее заставило его сосредоточить свое внимание на развитии событий за рубежом, ситуация взорвалась именно у него дома. Оскорбившись тем, как используют их влияние, члены Академии наук приняли решение отмежеваться от этого дела и не оглашали его заявление на своих совещаниях. Неожиданно для себя Джексон вызвал недоверие у представителей того самого американского научного сообщества, на поддержку которого он больше всего рассчитывал. В частности, Эверетт был тем конгрессменом, который тринадцать лет назад позволил убедить себя представить военному секретарю петицию Джексона о Св. Мартине, что усиливало его настороженность.
Теперь пришла пора серьезных военных действий. Весь остаток жизни Мортона и большая часть дней Джексона были посвящены бесконечному ряду претензий и разбирательств в Конгрессе, которые, доведя их до высшего пика страданий, наконец, закончились смертью обоих при трагических обстоятельствах. Но в этот момент в эпицентре пустыни споров, где испарились последние капли здравомыслия, возник каким-то образом оазис благоразумия. Мортон, находившийся, возможно, в более безопасном положении благодаря просчетам своего соперника, написал краткую и внятную инструкцию по применению эфира, опубликованную в сентябре 1847 года. В дополнение к этому он подготовил мемуары и 2 ноября представил книгу Французской академии наук. Таким образом, в тот момент симпатии его соотечественников были в значительной степени на его стороне.
В то же время в волне удачи, подхватившей Уильяма Мортона, тонул Гораций Уэллс. Уже через неделю после возвращения из Франции он опубликовал свою единственную самостоятельную работу по анестезии под названием «История применения окиси азота, эфира и паров других газов», которая содержала собранные им свидетельства. Оригиналы подтверждающих писем он отправил в Париж на рассмотрение академии. Но ни письма, ни поездка в Париж, ни его сочинение не изменили ситуацию к лучшему. В январе 1848 года, оставив в Хартфорде свою жену и ребенка без средств к существованию, Уэллс, к тому моменту обезумевший от несправедливости, с которой обошлась с ним судьба, переехал в Нью-Йорк, решив продолжить свои эксперименты с окисью азота, эфиром и хлороформом. Анестетические свойства последнего открыл в ноябре 1847 года Джеймс Янг Симпсон. В издании New York Evening Post 17 января 1848 года появилось рекламное объявление, в котором говорилось, что «Г. Уэллс, хирург-стоматолог, первооткрыватель летеона, переехавший в Нью-Йорк, безвозмездно даст рекомендации по использованию хлороформа, окиси азота и летеона при удалении зубов в период с 10 часов утра до 3 часов дня в доме 120 на улице Чэмберс в западном Бродвее».
Не прошло и четырех дней, как человек, который изобрел анестезию окисью азота, в свой тридцать третий день рождения был брошен в городскую тюрьму Томбс за то, что облил серной кислотой нескольких дам легкого поведения, работавших на Бродвее. Похоже, он достиг крайней степени деградации.
Но был еще один последний трагический акт драмы; эпилог, ирония которого только подчеркивает всю гнусность этой истории. 22 января 1848 года Гораций Уэллс, который в результате экспериментов с хлороформом стал наркоманом, надышался этой смеси из полученной контрабандой бутылки почти до состояния бесчувствия и покончил с жизнью, перерезав бритвой большую артерию в левом паху. В камере он оставил письмо:
Я снова беру перо, чтобы выразить то, что я должен сказать. Великий Бог! Как такое могло случиться? Неужели все это не сон? Сегодня к 12 часам меня не станет. Да, даже если бы меня завтра освободили, я не смог бы жить, когда все считают меня злодеем. Видит Бог, это не так… О, дорогие мои жена и дитя, которых я оставляю в нужде без средств к существованию, – я бы жил и работал для вас, но это невозможно, потому что, если я не умру, я превращусь в маньяка. Я чувствую, что уже стал им.
И вот эпилог. Во время своего бесполезного визита в Париж Уэллс подружился с американским дантистом К. Старром Брюстером, который помог ему представить его дело двум академиям и Парижскому медицинскому обществу. Спустя двенадцать дней после самоубийства Уэллсу пришло от Брюстера письмо, которое прочла его безутешная вдова:
Мой дорогой Уэллс: только что я вернулся с заседания Парижского медицинского общества, где его члены проголосовали за то, что Горацию Уэллсу, проживающему в Хартфорде, Коннектикут, Соединенные Штаты Америки, принадлежит честь успешного открытия и первого благополучного применения паров или газов, посредством которых хирургические операции могут выполняться без боли…
Итак, великомученик за открытие анестезии Гораций Уэллс получил признание, которое пришло слишком поздно, чтобы спасти ему жизнь или пролить бальзам на его измученную душу.
Возможно, из-за смерти Уэллса руководство центральной массачусетской больницы приняло решение развеять мрачный туман вокруг этого дела, подготовив официальную историю полемики, в которой претензии всех участников были рассмотрены и проанализированы. Доклад написал Ричард Генри Дана – младший, сделав однозначное заключение: совет попечителей больницы считает, что первооткрывателем эфирной анестезии является Уильям Мортон. Статья и мемуары Мортона, написанные для Французской академии наук, были напечатаны в периодическом издании Litter’s Living Age 18 марта 1848 года.
Совет пошел еще дальше. Его участники выделили тысячу долларов в качестве гонорара молодому человеку, которого они признали одним из величайших благодетелей человечества. Приветственный адрес заканчивался следующими словами:
К этой записке мы также прилагаем подписную книжку в шкатулке. Среди подписей вы найдете немало имен самых известных своими достоинствами и талантами сотрудников; в ней также расписались на память все члены попечительского совета. Мы уверены, что вы высоко оцените эту первую награду, хотя и незначительную, в качестве благодарности от ваших сограждан. Ваши покорные слуги искренне желают вам впоследствии получить адекватное вознаграждение от соотечественников.
Это искреннее желание, естественно, разделял с ними и Уильям Мортон. Руководители больницы были убеждены в его авторстве, другие заинтересованные стороны по-прежнему сомневались. На кону стояло нечто большее, чем честь открытия, поскольку Конгресс прорабатывал решение о выплате награды в размере 100 000 долларов тому, кто будет признан первооткрывателем общего наркоза. Возможно, исполненные благих намерений учредители не стали бы торопиться с этим проектом, если бы могли предвидеть разногласия и претензии, которые затянут процесс принятия решения на годы.
В ответ на решение Конгресса на этот раз Кроуфорд Лонг опубликовал в декабре 1849 года свой доклад в «Южном журнале о медицине и хирургии». По настоянию друзей он также написал письма сенатору Уильяму Кросби Доусону и своему конгрессмену Юниусу Хилльеру с описанием выполненной им работы. Доусон решил расследовать претензию своего земляка из Джорджии, и, как это ни невероятно, выбрал в качестве консультанта известного бостонского химика Чарльза Т. Джексона.
8 марта 1854 года Джексон прибыл в Афины штата Джорджия. За три года до этого он написал книгу «Эфиризация животных и человека», в которой изложил собственную версию открытия общей анестезии. И все же, изучив документы Лонга, он убедился в том, что тот с успехом прооперировал Джеймса Венебла и ряд других пациентов. Он предложил Лонгу подготовить совместную претензию в Конгресс с требованием признать Джексона изобретателем анестезии, а Лонга – первым испытателем метода в клинических условиях, таким образом эффективно устранив наследников Горация Уэллса, а также bete noire (фр. предмет особой ненависти) Джексона – Уильяма Мортона. Лонг не видел причин делить свой успех с кем бы то ни было не потому, что был упрям или жаден, а потому, что он был уверен в своей правоте.
Можно по-разному относиться к Джексону, но он, без всякого сомнения, был слишком честным человеком, по крайней мере, в этом деле, чтобы фальсифицировать свой отчет Доусону. Естественно, нет необходимости подчеркивать, что его благородство вдохновлялось его ненавистью к Мортону. 5 апреля 1854 года, когда Сенат принял окончательное решение по законопроекту, сенатор Доусон объявил, что у него есть письмо от доктора Джексона, подтверждающего, что первым, кто использовал эфир, был, на самом деле, неизвестный доктор Кроуфорд Уильямсон Лонг. Призовой вексель должен был быть вручен либо Мортону, либо Джексону, либо кому-то из представителей Уэллса в зависимости от точки зрения секретаря казны; появление же нового имени Лонга спутало все парламентские карты, и с этих пор надежда на разрешение этого спора была бесповоротно потеряна. Окончательный вариант законопроекта, хотя и утвержденный Сенатом, был отправлен на рассмотрение в Палату представителей, где и нашел свой конец. Разбирательства в Конгрессе закончились, и о заслугах Кроуфорда Лонга было забыто.
Уильям Мортон, чья победа, казалось, в какой-то момент была уже в руках, теперь обратился в гражданский суд, чтобы доказать свое право на получение действующего патента. Но поскольку он по настоянию врачей больницы открыл им состав летеона, анестетик мог свободно использоваться в этом учреждении и другими благотворительными организациями, а правительство Соединенных Штатов само нарушило собственный патент, бесплатно применив эфир во время мексиканской войны (1846–1848), законные права Мортона стали неисполнимыми. Поскольку монополия была уничтожена, некоторые из лицензиатов, подписавших с ним эксклюзивные контракты на продажу, подали судебные иски. Все эти разбирательства не имели смысла по многим причинам, не последней из которых было то, что Мортон забросил свою стоматологическую практику, чтобы направить всю энергию, а также все деньги на тяжбы. В результате судебные издержки на рассмотрение взаимных претензий вскоре окончательно разорили его, и он обратился с ходатайством о возмещении ущерба в Конгресс. Разочарованный итогами своих обращений к правительству, он подал иск против благотворительной глазной больницы Нью-Йорка. Вынесенный в 1863 году вердикт, впоследствии поддержанный Верховным судом Соединенных Штатов, был не в его пользу. Самый тяжелый удар по его самолюбию был нанесен в следующем году, когда медицинская организация, которая первоначально оказывала ему поддержку, объявила, что не желает больше участвовать в его распрях, и 24 июня 1864 года Американская медицинская ассоциация, подстрекаемая персоналом глазной больницы, осудила его в оскорбительных язвительных выражениях:
Принимая во внимание, что упомянутый доктор Мортон, по искам, выдвинутым им против благотворительных медицинских учреждений за нарушение прав, определенных заявленным патентом на все анестетики, не имеет притязаний только на серный эфир, и то, что общая анестезия, как его изобретение, в результате этого акта вышла за пределы многоуважаемой профессии и ревностных трудов на благо науки и человечества.
Принято решение о том, что Американская медицинская ассоциация протестует против любых ассигнований доктору Мортону по причине его недостойного поведения…
Могучая волна, не так давно поднявшая его на гребень славы, превратилась в водоворот, угрожавший утащить Мортона на дно. В 1868 году в июньском номере журнала Atlantic Monthly появилась статья в поддержку Джексона, вызвавшая неописуемое негодование Мортона. В июле он предпринял еще одно бесплодное путешествие в Вашингтон, но разочарование от полученного результата оказалось для него невыносимым. Он вернулся во влажную духоту Нью-Йорка больным и подавленным. Поддавшись настроению, он отправился вместе с женой Элизабет покататься по Центральному парку на бричке. Их маленькая повозка быстро двигалась вдоль берега озера, когда Мортон неожиданно, без видимых причин мощным рывком остановил лошадь, бросился к прохладной воде и опустил в нее голову. Испуганная его взволнованным состоянием жена Элизабет с трудом убедила мужа вернуться в бричку. Они проехали совсем недалеко, когда он вновь стремительно выпрыгнул из повозки, перевалился через расположенный вдоль дороги забор и упал на землю без сознания. Несколькими часами позже измученный дантист, которого Уильям Генри Уэлч справедливо назвал «наименее мужественным среди великих первооткрывателей», умер от кровоизлияния в мозг.
Положение Чарльза Джексона было ничем не лучше. Один из самых стойких людей с годами утратил свою невозмутимость. Однажды в 1873 году, спустя пять лет после смерти Уильяма Мортона, на бостонском горном кладбище Оберн стареющий провокатор наткнулся на могилу своего покойного соперника с эпитафией:
Уильям Т. Г. Мортон.
Изобретатель ингаляционного общего наркоза.
Он уничтожил боль, сопровождавшую хирургию.
До него во время хирургического вмешательства всегда возникала агония.
Благодаря ему наука получила контроль над болью.
Прочитанные на камне слова окончательно надломили хрупкие остатки здравого смысла Джексона. Он был госпитализирован в приют McLean в Белмонте штата Массачусетс, где и провел последние семь лет своей жизни в полной невменяемости. Он умер 28 августа 1880 года в возрасте семидесяти пяти лет, одержав единственную победу над своими соперниками, дожив до преклонных лет.
У всех четырех претендентов на корону открытия жизнь после начала полемики была весьма нелегкой, но судьба Кроуфорда Лонга, хотя тягостная и горькая, по крайней мере, не закончилась трагедией. Он был особенным среди конкурентов не только потому, что спор из-за авторства общего наркоза не уничтожил его, но он также был единственным, кто вышел из этой ситуации с честью. О его заслугах, забытых в информационном шуме, созданном остальными участниками конфликта, вновь напомнил в 1877 году гинеколог Дж. Мэрион Симс из Южной Каролины, опубликовав подробный анализ его самобытных идей в медицинском ежемесячнике Вирджинии. Появление этой статьи оказало значительную эмоциональную поддержку стареющему Лонгу, к тому времени сильно утомленному заботами о толпе пациентов, обнищавших в результате Гражданской войны и долгой оккупации янки.
Даже смерть Кроуфорда Лонга стала свидетельством его самоотречения и также была тесно связана с анестезией. 16 июня 1878 года шестидесятидвухлетний практикующий врач, только что принявший ребенка у роженицы под действием наркоза, почувствовал приближение обморока. Прежде чем погрузиться во тьму, он успел передать младенца в руки ассистента с предупреждением: «Сначала позаботьтесь о матери и ребенке». Он рухнул поперек кровати своей пациентки и несколько часов спустя скончался от обширного инфаркта.
Через несколько десятилетий память о Лонге обрела форму памятников, мемориальных досок, портретов и восхваляющих речей. Самый узнаваемый и широко известный монумент находится в скульптурном зале Капитолия Соединенных Штатов. Лонг и его сокурсник из колледжа Франклина Александр Стивенс (который впоследствии стал одним из наиболее важных политических деятелей Юга), были выбраны легислатурой почетными сынами штата, чьи скульптуры должны представлять самые выдающиеся достижения обитателей Джорджии. Это был достойный выбор.
В ходе этого повествования было рассказано о людях, сделавших самый значительный вклад в развитие ингаляционной анестезии. Такого рода история – далеко не единственная в анналах научных открытий, подобное происходит чаще, чем может показаться на первый взгляд. Андреас Везалий стал профессором анатомии в Падуе на следующий день после окончания медицинской школы в 1537 году; в возрасте двадцати восьми лет он создал свою монументальную работу De Humani Corporis Fabrica («О строении человеческого тела») и навсегда изменил методы научной оценки признаков заболеваний. Триста лет спустя знаменательные открытия в области анестезии были сделаны группой людей настолько молодых, что бо́льшая часть из них едва успели определиться с направлением своей будущей деятельности. В наши дни при сегодняшних технологиях для подготовки современного исследователя требуется настолько более долгий строк, что вряд ли люди в возрасте двадцати лет когда-нибудь снова станут ведущими деятелями науки. Время от времени то тут, то там великие открытия будут совершаться мужчинами или женщинами, чье обучение еще не завершено, но это будут особые случаи и необычные люди.
Однако, несмотря на длительный период подготовки, тот факт, что кипучие молодые умы подвержены жгучему любопытству и страстным устремлениям, неизменно приводит к тому, что научный прогресс в значительной степени неизбежно будет развиваться благодаря открытиям молодых сотрудников, сделанным в первом десятилетии после окончания их обучения. Нашим нынешним Мортонам и Дэви за тридцать, и их можно поставить в один ряд с двадцатилетними учеными девятнадцатого века. Хотя не вполне серьезное предложение Уильяма Ослера отправлять людей старше сорока на пенсию было скорректировано временем и здравым смыслом, мир открытий по-прежнему принадлежит молодым, и так будет всегда.
Тем не менее мы не должны недооценивать пользу размышлений, занимающих умы многих исследователей, когда они достигают самого плодотворного периода своей жизни. Опыт, мудрость и тщательно отшлифованная способность оценивать эволюцию идей позволяют обрести перспективу и философский взгляд на вещи, в результате чего иногда рождаются концепции, потрясающие храм науки. В том же году, когда Везалий изменил ход медицинского прогресса, семидесятилетний Николай Коперник опубликовал De Revolutionibus Orbium Coelestium («О вращении (или вращениях) небесных сфер»), и мир изменился навсегда. Когда мы интересуемся судьбой наших уважаемых профессоров или с сожалением оглядываемся на стремительно промчавшиеся, полные трудностей, но самые яркие годы нашей профессиональной деятельности, нам легко увидеть внутренним взором далекий образ престарелого Коперника, получившего на смертном одре первую печатную копию одной из самых знаковых книг, когда-либо созданных интеллектом человека. Наука вечна, а вечность принадлежит всем нам.
11. Основополагающая единица жизни. Болезни клетки, микроскопы и Рудольф Вирхов
Как только мы узнали, что болезнь – это не что иное, как жизненный процесс в измененных условиях, концепция исцеления трансформировалась в проблему сохранения или восстановления нормальных условий существования.
Рудольф Вирхов
Метафизики, идеалисты, биомеханики, биохимики, физиологи-экспериментаторы, философы-натуралисты, мистики, гипнотизеры, экзорцисты, галенисты, современные последователи теории гомункула Парацельса, шталианцы, гуморальные патологоанатомы, гастристы, инфарктисты, бруссеанцы, контрастимулисты, естественные историки, физиотерапевты, идеалисты-патологоанатомы, немецкие христианские теософы, шенлеанские эпигонисты, псевдошенлейнцы, гомеопаты, гомеобиотики, изопаты, гомеопаты-аллопатисты, псористы и скористы, гидропаты, электрики, последователи физиологии Хамбергера, гейнротианцы, саксианцы, кайзерианцы, хегелианцы, морисонианцы, френологи, биостатистики.
Только что вы прочитали составленный в 1840 году список различных научных направлений, на которые в то время была разделена теоретическая медицина. Каждая школа по-своему объясняла до сих пор неразрешенную загадку, почему болезнь возникает в организме человека и каковы наилучшие методы лечения. В работах Морганьи, Биша, Лаэннека и других ученых были идентифицированы и даже классифицированы многие из видимых изменений, вызываемых болезнями в тканях и органах, но по-прежнему никто не знал, как появляется патология. Каждая философская школа имела свою систему, основанную на конкретной оригинальной теории. Несмотря на их изобилие, причины нарушений природных физиологических процессов в организме оставались тайной.
Некоторые из создателей систем, например экзорцисты и мистики, явно выходили за границы рациональных доводов, а другие, такие как философы-натуралисты и гуморальные патологоанатомы, строили свои концепции на поддающихся объективным доказательствам свидетельствах, которые врачи наблюдали и изучали тысячелетиями. Адепты последней группы, являясь, по сути, наследниками теории о четырех гуморах, облачившими древние понятия в квазинаучные формулировки, искали ключ к болезни, принимая за аксиому существование неких гипотетических жидкостей, влияющих на состояние организма. Несмотря на то что гуморолисты девятнадцатого века имели в своем распоряжении гораздо больше данных о человеческом теле, чем длинная череда их предшественников, они по-прежнему продолжали использовать старые ошибочные методы интерполяции, экстраполяции и домыслы для интерпретации различных явлений. Возможно, они были просто слишком нетерпеливы: не имея информации для заполнения пробелов в своих знаниях, они стремились разобраться в сути вещей раньше, чем наука вырвала у Природы ее секреты. Апологетами систем естественной философии, гуморальной патологии и некоторых других течений были весьма многообещающие студенты, изучающие биологию и медицину. Они были одаренными, наблюдательными и искренними в своих намерениях, но их ошибка состояла в том, что они переходили от одного проверенного фактора к следующему, не проводя достаточно глубоких исследований.
Основную путаницу вызывали попытки каждого упорядочить нарастающее число беспорядочных научных наблюдений, пополняющих хранилище человеческих знаний, согласно собственным представлениям. Проблема решалась путем построения перечисленных выше разнообразных систем взглядов, которые на самом деле представляли собой не более чем различные взгляды на болезнь, позволявшие вписать новые факты в уже существующую теорию. Сторонники каждой системы полагали, что именно их концепция является той системой взглядов, благодаря которой накопленные знания станут фундаментом величественного храма для обитания медицинской науки.
До настоящего момента в повествовании этой книги рассматривались только локализация и диагностика очагов заболевания, а также последовательность развития патологических процессов. О лечении говорилось немного. Несмотря на достоинства метода физического обследования Лаэннека и глубину понимания Хантером процесса воспаления, ни один из них не мог предложить обращавшимся к ним больным людям эффективных методов лечения. Когда они выбирали оружие из своего терапевтического арсенала, им вновь приходилось прибегать к туманным представлениям о гуморах, потоках и изменчивых состояниях разбалансированности. Бо́льшая часть их методов, согласно ошибочным представлениям того времени, была направлена на восстановление нарушенного баланса. Они пускали своим пациентам кровь, давали им рвотное, предписывали слабительное и прикладывали компрессы, как делали их предшественники; они усугубляли состояние больного применением лекарственных средств, составленных из немыслимых сочетаний растительных ингредиентов, реальные свойства которых были известны лишь частично или не изучены вовсе. Они прибегали к стимуляторам в случаях, когда пациент казался недостаточно энергичным, и к успокаивающим средствам – в противоположных ситуациях. Короче говоря, если речь не шла о таких очевидных манипуляциях, как ампутация или вскрытие абсцесса, лекари вообще не понимали, что именно они делают.
Причина их невежества была проста: несмотря на разнообразие созданных человечеством философских систем, ни одна из них не объясняла тайну возникновения болезней. Согласно учению древних греков, человек заболевает из-за наложившихся друг на друга негативных факторов, вступающих во взаимодействие с физиологией пациента, окружающей средой и внешними раздражителями. Поэтому эффективное лечение должно заключаться в устранении вредного влияния и восстановлении внутреннего баланса в организме. По логике этой системы, заболевает весь человек, а не какая-то его часть или отдельные органы. Затем, вследствие исследований Морганьи, у больного стали идентифицировать именно больные органы; а после Биша – больные ткани. Хотя создатели теорий возникновения болезни стремились все глубже и глубже в скрытые недра пациента (и, как это ни парадоксально, уходили дальше и дальше от самого человека), это тем не менее никак не приближало их к определению настоящих причин заболевания.
Но несмотря на то, что окружающие условия, индивидуальные привычки и жизненная ситуация в целом по-прежнему считались первичными причинами болезни, врачи все же могли кое-что предложить для излечения появившихся в организме нарушений. После Морганьи внимание стало смещаться на менее доступные внутренние объекты, но вместе с тем цель также становилась все более недоступной для терапии. Прежде чем лечить человека, необходимо обнаружить источник патологии. Но такой возможности еще не существовало, и поэтому идея о специализированном лечении с конкретной и очевидной целью все еще оставалась фантазией. В этом и состояла основная проблема врачей середины девятнадцатого столетия. Еще не были открыты методы локализации первичных очагов болезней и способы анализа элементов структур, твердых или жидких, которые изначально послужили причиной возникновения патологии, и как они, в конечном счете, приводят к видимым отклонениям, которые новое поколение патологоанатомов описывало в процессе все нарастающего числа вскрытий. Только при условии правильной идентификации очага заболевания исследователи могли перестать строить гипотезы и направить свое внимание на решение проблем, связанных с терапией конкретных процессов.
Заслуга открытия основополагающей причины развития различных нарушений в работе человеческого организма принадлежит одному ученому. Речь идет, конечно, о немецком патологоанатоме Рудольфе Вирхове, высшим достижением которого стало обнаружение клетки, являющейся как главной виновницей болезней, так и фундаментом здоровья и самой жизни.
Как только клеточная теория получила достаточно широкое распространение, исчезла необходимость размышлять об изменениях в состоянии жидкостей организма, о чрезмерной или недостаточной нервной возбудимости и о влиянии неопределенных внешних факторов. После успешных научных изысканий Вирхова наступило время для анализа протекающих внутри клетки процессов, с помощью которых она поддерживает здоровье организма – то, что называется нормальной физиологией. Осознав, что именно изменения в клетках организма приводят к его заболеванию, ученые начали изучать патологическую физиологию, или патофизиологию клеток. Патологическая физиология, а следовательно, и болезнь, сводится, таким образом, к набору аномальных биохимических феноменов, поддающихся коррекции специфическими терапевтическими средствами или путем удаления групп клеток, тканей или органов, в которых наблюдаются патологические изменения. Именно в этом состояло научное наследие Рудольфа Вирхова, на базе которого была создана фундаментальная основа медицины двадцатого века.
В этой истории немало парадоксального. С помощью микроскопа Вирхов выявил очаг заболевания, при этом сам он был наглядным примером популярного в то время тезиса, утверждавшего, что человек формируется под влиянием условий своей жизни. Воздействие окружающей среды, род занятий, наследственность, даже принадлежность к определенному социальному классу играли такую же важную роль в понимании заболевания пациента, как и патологические изменения, которые ученый видел сквозь свои мощные линзы. Он был выразителем философии как древних книдских докторов, так и гиппократиков-косийцев. Как и многие его современники, он осознавал, что необходимо в первую очередь понимать суть патофизиологических процессов для успешного их излечения и принимать во внимание все аспекты жизни пациента для предотвращения развития заболеваний. Наилучший подход в медицине объединяет обе концепции: и профилактику, и лечение. Вирхов заслужил звание героя как среди сегодняшних прогрессивных мыслителей, признающих значение науки для человечества, так и среди студентов-патофизиологов, движимых состраданием к больным людям. Рудольф Людвиг Карл Вирхов родился 13 октября 1821 года в Померании, самой северо-восточной провинции Пруссии. Его родной город, лежащий приблизительно в ста двадцати километрах от современной границы Польши вглубь страны, сегодня называется Свидвин. Но в 1821 году этот маленький городок Шифильбайн был одной из самых влиятельных помещичьих общин Германии, несмотря на несомненные польские корни некоторых семей, в том числе рода Вирховых. Отец Рудольфа был фермером и одновременно выполнял обязанности казначея Шифильбайна. Остается только надеяться, что он обходился с деньгами муниципалитета лучше, чем со своими собственными, поскольку он часто оказывался в стесненных финансовых обстоятельствах, вкладывая капитал в неудачные коммерческие предприятия.
До тринадцати лет Рудольф учился в общинной школе и брал частные уроки, готовясь к поступлению в гимназию или лицей в Каслине, крупнейшем городе округа. Освоив к тому времени латынь, в Каслине он стал лучшим учеником класса и окончил среднюю школу в 1839 году. Название его дипломной работы, похоже, стало предзнаменованием не только его карьеры, но и преддверием зарождения в обществе осознания важности труда, возвышающего человека: «Жизнь, наполненная благородным упорным трудом, – не бремя, но благословение».
Осенью 1839 года Рудольф поступил в институт Фридриха-Вильгельма – учреждение, целью которого как подразделения Берлинского университета было обучение медицинских работников для прусской армии. Провинциальных юношей из малоимущих семей привлекало бесплатное обучение, а также тот факт, что в момент начала бурного развития немецкой медицины, которая в скором будущем достигнет выдающихся высот, на факультете института работали прекрасные преподаватели, и среди них знаменитый в Европе физиолог Иоганн Мюллер. Известному биологу в то время было тридцать восемь лет, и он уже написал большую часть работ, принесших ему признание как основателя научных медицинских исследований в Германии. Если и есть в Европе человек, чьи ученики прославили девятнадцатый век своими достижениями в области медицины, то это Иоганн Мюллер, сравнительный анатом, биохимик, патологоанатом, психолог и талантливый преподаватель. Его многочисленные воспитанники стали лидерами следующего поколения врачей, значительно ускоривших научный прогресс, самым выдающимся из которых был Рудольф Вирхов.
Институт Фридриха-Вильгельма был по существу военной академией, в которой готовили военных медиков. Жизнь в школе отличалась спартанским характером. Учебная программа, накрахмаленная до жесткости с характерной для немцев строгостью, оставляла мало времени для самостоятельного обучения. Подкрепившись входившими в обычный ежедневный рацион квашеной капустой, колбасой и пивом, студенты отправлялись на занятия: шестьдесят часов каждую неделю, из которых сорок восемь проходили в лекционном зале. В письме к отцу Рудольф писал: «Итак, ежедневно занятия длятся непрерывно с шести утра до одиннадцати ночи, за исключением воскресенья, и ты сам можешь представить, как быстро пролетают дни и недели. К вечеру так устаешь, что смотришь на кровать с вожделением, а утром поднимаешься таким изможденным, как будто и не спал вовсе».
Однако, несмотря на переутомление, студент-медик находил время для занятий на собственный выбор. Он посещал лекции по логике, истории и арабской поэзии. К тому времени он мог читать на греческом, латыни и иврите, а также свободно говорил на нескольких европейских языках, в том числе итальянском, который выучил самостоятельно за лето между окончанием средней школы и началом занятий в институте. Кроме этого, он интересовался археологией и имел намерение расширить свои знания о политике. После двухлетнего пребывания в Берлине он написал отцу, что собирается познать как минимум «все универсальные законы природы, начиная с божественных высот и заканчивая камнем на дороге».
Его отец Карл Кристиан Людвиг Вирхов не одобрял увлечение сына таким широким набором предметов для изучения. Неудачливый предприниматель, чье состояние целиком зависело от годового урожая картофеля, больше всего на свете хотел, чтобы его сын стал хорошим специалистом, удачно женился и завел процветающую буржуазную медицинскую практику. По мнению Карла, Рудольф заслуживал обеспеченное будущее, комфорт и другие атрибуты респектабельной жизни высшего слоя среднего класса в награду за все трудности, которые ему пришлось пережить в прокрустовой атмосфере института Фридриха-Вильгельма. Он не мог представить себе, насколько скучной и бездушной была обстановка в этом заведении и какой удушливой и единообразной была повседневность студентов. Даже если бы он услышал что-нибудь об этом, он бы не смог понять, что бо́льшая часть лекций строилась без всякой логики, и несчастные студенты просто учили их наизусть, не вникая в смысл и не размышляя о предмете. Такой человек, как Карл, не мог оценить драгоценные мгновения, проведенные в кругу людей, подобных Иоганну Мюллеру, учившему своих воспитанников не навыкам построения успешной прибыльной практики, а методам волнующих исследований основ человеческой биологии. Карл Кристиан Людвиг Вирхов не понимал своего сына. Он обвинял его в чрезмерном самомнении и неуважении к своим учителям. В феврале 1842 года Рудольф написал отцу следующее письмо:
Мой дорогой отец,
Вы утверждаете, что я эгоист; возможно, это правда. Но вы обвиняете меня в чрезмерной самоуверенности, а это далеко не так. Подлинное знание не заблуждается насчет собственного невежества; я, как никто, осознаю пробелы в своей компетенции. Именно по этой причине я до сих пор не занимаюсь научными исследованиями. Я учусь с удовольствием, но отстаиваю свое мнение только когда считаю, что оно правильное…
Я чувствую тревогу и неуверенность… Мое будущее слишком неопределенно. На данный момент обстоятельства не благоволят мне, однако, кажется, удача еще не совсем покинула меня. Поэтому мне приходится заниматься тем, что мне не нравится, и я не надеюсь достичь того, к чему стремлюсь. Вот так обстоят дела. Вы хотели бы видеть меня уважаемым светским человеком, но даже сейчас меня это не сильно беспокоит. Каждый раз, приезжая домой на каникулы, я слышал от вас, что без положения в обществе мои знания бесполезны… Все свое время я полностью посвящаю лекциям, изучению и повторению довольно скучного материала; для того, что меня действительно интересует, я могу найти время практически только за счет своего здоровья. Тем не менее я усердно занимаюсь тем, что нахожу неинтересным и неприятным, потому что, вполне вероятно, когда-нибудь это может стать для меня единственным средством заработка. Я примирюсь с этим и даже смогу отказаться от любимого дела…
Я хочу сказать только одно: во мне, безусловно, много гордости и эгоизма, больше, чем необходимо; а также я люблю предаваться фантазиям и мечтам, от которых, вероятно, немного пользы. Но вы напрасно считаете, что я горжусь своими знаниями, недостаточность которых для меня абсолютно очевидна; моя гордость опирается на сознание, что я хочу чего-то лучшего и большего, а также искренне стремлюсь к интеллектуальному развитию в отличие от большинства людей.
Получив в 1843 году степень магистра, Вирхов был направлен в берлинскую больницу Шарите на стажировку, по сути эквивалентную сегодняшней интернатуре. Несмотря на то, что невысокому, худому, белокурому врачу нравилась работа с лежащими в палатах пациентами, его все больше привлекали исследования патологоанатома Роберта Фрорипа, в лаборатории которого он научился пользоваться микроскопом. Поскольку Фрорип был соредактором журнала, публиковавшего обзоры зарубежных медицинских исследований, Вирхов вскоре был в курсе всех последних работ, проводимых во Франции и в Англии, где научные разработки велись на более высоком уровне.
В течение первых трех лет после окончания медицинской школы восторженный молодой ученый совершил два из трех главных открытий, которые современные медики ассоциируют с его именем. Первым было обнаружение лейкемии в 1845 году, а вторым – демонстрация в начале 1846 года истинной природы процесса формирования из сгустков крови тромбоза и эмболии – оба термина были введены Вирховом. Одновременно с ним лейкемию открыл шотландский физиолог Джон Хьюз Беннетт, который думал, что то, что он наблюдал с помощью своего микроскопа, было формой пиемии или инфекцией крови. Вирхов, однако, с самого начала понял истинную природу явления, назвав его белой кровью, а позже придумал название «лейкемия».
Исследования Вирхова тромбоза-эмболии опровергли излюбленную теорию врачей старшего поколения. Поскольку сгустки крови очень часто обнаруживаются в кровеносных сосудах при вскрытии, французский патологоанатом Жан Крювелье популяризировал ошибочную концепцию о том, что флебит (воспаление вен) является общим явлением при всех заболеваниях. Он придерживался мнения, что La phlebite domine toute la pathologie («Флебит господствует над всей патологией»). Когда Вирхов начал свое сотрудничество с Фрорипом, ему был поручен проект по изучению этой французской теории. В первую очередь он решил установить критерии, с помощью которых сгустки, образующиеся после смерти, можно было бы отличить от тех, что являются частью процесса развития заболевания в теле живого пациента. В результате своих химических и экспериментальных исследований на животных он определил два типа сгустков, блокирующих сосуды: тромб, образующийся в кровеносном сосуде и расположенный на месте возникновения, и эмбол – тромб, отделившийся от места происхождения, переместившийся с потоком крови и закупоривший какой-нибудь отдаленный сосуд. Он ответил на вопрос, который ставил в тупик патологов со времен Морганьи: каково происхождение больших, часто обнаруживаемых сгустков, перекрывающих главную легочную артерию у внезапно умерших пациентов? В статье «Окклюзия легочных артерий», опубликованной им в январе 1846 года, он написал, что именно такой эмбол, образующийся обычно в венах ног или таза, и является причиной смерти у этих пациентов. Теория эмболии, утверждавшая, что сгусток крови может передвигаться на большие расстояния и блокировать сосуд в другой части тела, была совершенно новой, оригинальной идеей 24-летнего патологоанатома. Такой вариант никогда не рассматривался его предшественниками.
Крювелье был первым медицинским светилом, который направил в нужное русло научные изыскания проницательного Рудольфа Вирхова. В следующей серии развенчания идолов его чрезмерная импульсивность в сочетании с юношеской самоуверенностью заставляли современников обвинять молодого ученого в излишней жестокости. В процессе доказательства своей правоты он приводил такие сокрушительные и выверенные аргументы, что не оставил от умозрительной теории возникновения заболеваний самого уважаемого в Европе патологоанатома Карла фон Рокитанского из Вены камня на камне. Ошибочная доктрина Рокитанского возникла на базе неточных наблюдений, для обоснования которых он использовал ложные рассуждения. И хотя она заслуживала того, чтобы ее низвергли с пьедестала, Вирхов так рьяно бросился в атаку, что его нападение было больше похоже на шквал насмешек над лидером сторонников этой теории, поэтому его коллеги открыто выразили ему свое неодобрение. На какое-то время уважение, которым заслуженный врач пользовался в медицинском сообществе Европы, было подорвано. Свидетельством научной честности Рокитанского стало признание ошибочности своей теории; его позиция в данной ситуации позволила не только сохранить ему собственную репутацию, но и помогла его противнику с честью выйти из сложившегося затруднительного положения. Несколько лет спустя более зрелый Вирхов станет в значительной степени сдержаннее в своих высказываниях.
Позже, в 1846, году Вирхов сменил Фрорипа на должности прозектора в отделении патологии Шарите. В следующем году в содружестве с Бенно Рейнхардтом он опубликовал первый выпуск журнала, который до сих пор существует под названием «Архив Вирхова». Его официальное название – это утверждение взаимосвязи тех аспектов человеческой биологии, которые редактор издания до конца жизни провозглашал триадой научной медицины: The Archive of Pathological Anatomy and Physiology, and Clinical Medicine («Архив патологической анатомии, физиологии и клинической медицины»). В основе взглядов Вирхова на процесс возникновения заболевания лежало изучение нарушений не только нормальной структуры, но и естественных функций организма.
Самая первая статья в Archive вызвала волну возмущения врачей Германии. В ней Вирхов изложил свою точку зрения на болезнь не как на некое отклонение, внедрившееся в здоровое тело, а просто как на расстройство нормального функционирования организма. Признанные теоретики того времени рассматривали болезнь как состояние, совершенно отличное от здорового, развивающееся в теле или вызываемое внешними причинами, существующее внутри своего невольного хозяина, высасывающее и истощающее его силы, подобно какому-то чужеродному паразиту. По их мнению, патологические ткани образуются de novo из абстрактного исходного вещества или даже крови, когда что-то в организме пошло не так. Согласно этим представлениям, больные структуры настолько отличаются от здоровых, что узнать что-либо о первых, изучая вторые, совершенно невозможно, и именно эту концепцию Вирхов оспаривал в своем первом эссе «Точка зрения в научной медицине», подчеркивая свое понимание термина «научная медицина»:
Научная медицина призвана изучать изменения условий, под влиянием которых находится больной организм или отдельные нездоровые органы, и идентифицировать отклонения в проявлениях нормальной жизнедеятельности, возникающие в особых измененных условиях, а также искать средства для нормализации аномальных состояний. А это предполагает знание нормально протекающих жизненных процессов и условий, которые их обеспечивают. Следовательно, основой научной медицины является физиология. При этом научная медицина включает две составляющих: патологию, которая должна предоставлять информацию об изменениях условий и изменениях физиологии, и терапию, которая находит средства восстановления и поддержания нормальных условий. По существу, клиническая медицина – это не научная медицина, даже если практикуется величайшим мастером своего дела; клиническая медицина – это прикладная научная медицина.
Следует признать, что сейчас не время для создания систем, а время для подробных исследований… Окончательное решение этих вопросов связано с наукой, которая находится в самом начале своего развития и когда-нибудь в отдаленном будущем заменит общую патологию. Я имею в виду патологическую физиологию… Патологическая анатомия – доктрина о нарушенных структурах; патологическая физиология – доктрина об аномальном функционировании. Необходима наука о патологической физиологии… Патологическая физиология происходит отчасти от патологической анатомии, отчасти от клинической медицины; ответы на свои вопросы она получает отчасти из наблюдений за больными… а отчасти от экспериментов над животными. Эксперимент – это высшая инстанция патологической физиологии…
Не будем обманываться насчет состояния современной медицины. Нельзя отрицать, что наша решимость скована бесчисленными гипотетическими системами, которые постоянно опровергаются и заменяются новыми. Однако еще несколько неудачных теорий, это смутное время пройдет и станет очевидно, что только беспристрастная, добросовестная, кропотливая работа, объективные наблюдения и эксперименты имеют непреходящую ценность. Тогда патологическая физиология постепенно выполнит свое предназначение, но не как творение нескольких отчаянных голов, а как результат сотрудничества многих самоотверженных исследователей – патологическая физиология, которая станет оплотом научной медицины.
В этом заявлении двадцатишестилетний ученый сформулировал кредо для всего профессионального медицинского сообщества, а также наметил программу своей жизни: изменения в структуре вызывают изменения в функционировании; ключом к пониманию и лечению болезней является знание того, каким образом нормальные процессы жизнедеятельности становятся аномальными. Поэтому изучение патофизиологии позволит одержать победу над заболеванием. Наблюдение, эксперимент, упорная работа и непоколебимый отказ от неоправданных спекуляций послужили в этой битве интеллектуальным оружием, унаследованным Рудольфом Вирховом от Везалия, Гарвея, Хантера и Лаэннека. Неустанно изучавший историю медицины, он понимал, насколько значителен был их вклад в науку.
Ведущим врачам Германии не нравилось, что какой-то юнец укоряет их в приверженности различным системам, основанным на неправильных представлениях о природе. Тем не менее непоколебимая уверенность Вирхова заставляла их прислушиваться к его словам. Он сам написал об этом в своем письме отцу:
Я не обманываюсь на свой счет. Сегодня реальные знания и сила убеждения могут произвести впечатление на любого, невзирая на самый высокий ранг и звание, потому что все прогнило снизу доверху. …Повсюду нужно начинать с нуля, при этом необходимо сделать так много, что иногда чувствуешь настоящее отчаяние. Если бы я не был уверен, что в Шарите меня воспринимают как эксперта в научных вопросах и с уважением относятся к моему мнению, я бы наверняка уже сдался. Я, кто работает совсем недавно и знает так мало, я – авторитет? Это смешно! Но если я невежда, то те, кто задает мне вопросы, должно быть, еще большие неучи.
Это довольно точное описание ситуации. Некоторые из приверженцев различных систем осознавали, что блуждают на ощупь в темноте, но они были еще не готовы внимать новому оракулу, несмотря на всю его кажущуюся уверенность. Тем более что наставляющий на путь истины голос принадлежал молодому человеку, всего несколько лет назад закончившему медицинскую школу, но уже сделавшему два важных открытия, вызвавших большой интерес медицинского сообщества. К тому же непогрешимая логика, с которой Вирхов изобличал ошибки Рокитанского, и рвение, с которым он его преследовал, создали ему такой имидж, что робкие коллеги по цеху не решались оспаривать его точку зрения. Он был молодым рыцарем Лохинваром[18], прискакавшим верхом на коне, чтобы увести невесту от недостойных претендентов на ее руку. Однако в данном случае награда была намного больше, чем прекрасная Эллен* на брачном ложе, поскольку он искал способы, которые позволили бы ему открыть сокровенные тайны природы.
Вирхов также хотел раскрыть связь между болезнью и окружающей средой, в которой она возникала, и он, не колеблясь, обвинял современный социальный строй в тех проблемах, которые видел вокруг себя. В начале 1848 года до столицы дошла весть о начавшейся среди ткачей Верхней Силезии эпидемии тифа. Ситуация усугублялась голодом и неспособностью местных властей исправить положение. Все это стоило жизни многим обнищавшим крестьянам, проживавшим в этом регионе. В одном из писем к отцу Вирхов писал: «Это бедствие в Силезии – просто позор для правительства, и все их оправдания ничего не стоят. Невозможно замять скандал, связанный с тысячами смертей. С медицинской точки зрения, эпидемия представляет большой интерес, и я очень хотел бы увидеть все своими глазами».
Берлинская пресса пыталась добиться от прусского короля Фридриха Уильяма IV каких-то действий по исправлению сложившейся ситуации. Наконец под давлением общественного мнения правительство сформировало комиссию по расследованию под управлением тайного советника по вопросам здравоохранения. Желание Рудольфа Вирхова исполнилось, когда он был назначен одним из ее членов в качестве офицера-медика. Он прибыл в Силезию 20 февраля 1848 года и провел почти три недели, изучая не только медицинские аспекты эпидемии, но и внешние условия, под влиянием которых она возникла. Он выступил с докладом, гневно осуждая власти за их пренебрежительное отношение к беднейшим слоям населения. Тот факт, что он опубликовал свое сообщение в «Архиве», не принес ему симпатии в высших кругах.
Вирхов писал свой доклад с чувством неукротимой ярости и негодования. После подробного описания результатов вскрытия жертв тифа, применяемых методов лечения и аспектов, касающихся вспышки эпидемии, он не стал пускаться в научные рассуждения, а вместо этого изложил свой главный тезис: основной причиной охватившего Силезию бедствия было преступное правление прусского самодержавия.
Власти оказались неспособны обеспечить автономное самоуправление, строительство дорог, развитие сельского хозяйства и поддержку промышленности, что и привело к катастрофе. Но корнем зла был отказ Берлина от полноценной демократии и всеобщего образования, вследствие чего крестьяне Силезии находились в состоянии нравственной деградации, личной антисанитарии и апатии. Как врач, он болезненно ощущал собственную ответственность за происходящее: «Медицина – это социальная наука, и как наука о человеке она должна воспринимать эти проблемы, как собственные, и предлагать средства, с помощью которых они могут быть разрешены». Он имел ряд идей и был готов посвятить все свои силы и время на их реализацию:
Существует простой и прямой ответ на вопрос о том, каким образом можно предотвратить подобные эпидемии в будущем: развитие Культуры и, как следствие, Свободы и Процветания. Не так легко, однако, найти практическое решение огромных социальных проблем. Мы не отдаем себе отчета в том, что современная медицина вторгается в социальную сферу, где встречается с большими трудностями. Следует понимать, что здесь мы сталкиваемся не с лечением пациента с помощью лекарственных средств и изменения его домашней обстановки. Нет, мы имеем дело с культурой полутора миллионов наших сограждан, деградировавших физически и морально.
Французский философ-медик конца восемнадцатого века Пьер Кабанис писал: «Болезнь – это следствие просчетов общества». Теперь Вирхов стал ведущим выразителем этого тезиса среди ученых Европы. За годы своей профессиональной деятельности он неоднократно демонстрировал взаимосвязь между широко распространенными заболеваниями и социальным неравенством. Не только сыпной тиф, но и холера, туберкулез, цинга, некоторые психические заболевания и даже кретинизм он включил в длинный список тех болезней, которые являлись результатом неравного распределения благ цивилизации. Он снова и снова подчеркивал свое убеждение в том, что профессия медика обязывает прилагать все свои способности для упразднения социальных условий, способствующих возникновению заболеваний: «Врач – естественный и закономерный адвокат бедных».
Однако вся власть находится в руках правителей. Его соотечественники-эмигранты Карл Маркс и Фридрих Энгельс могли бы («Коммунистический манифест» был также опубликован в 1848 году) подписаться под словами, написанными Вирховом в заключение своего доклада о Силезии: «Каждый человек имеет право на жизнь и здоровье, и государство несет ответственность за обеспечение гарантий его реализации». Он составил внушительную программу для своих коллег врачей и подробный список требований к деятельности правительства. Уже будучи одним из перспективных молодых генералов, ведущих битву за победу науки над болезнью, теперь он начал быстрое продвижение в ряды бойцов социальной политики, имевших в своих руках самое мощное оружие – право создавать законы. Позже он напишет, что вышел на поле политических сражений, поскольку: «Развитие медицины в конечном итоге увеличит продолжительность человеческой жизни, но улучшение социальных условий могло бы приблизить достижение этого результата быстрее и более эффективно».
Не прошло недели после возвращения Вирхова из Силезии, как на бульварах Берлина начались демонстрации, вылившиеся в народное восстание, которое вошло в историю, как революция 1848 года. Он и тысячи его соратников-либералов бросились на уличные баррикады против правительственных войск, подобно тому, как это происходило в других столицах Европы. Пользуясь кратковременной победой демократических сил, молодой бунтарь выступал с мятежными речами перед толпами страстных революционеров, в результате чего был избран в новое Прусское собрание. Поскольку он был слишком молод, чтобы стать членом парламента, он сам создал для себя трибуну, почти такую же превосходную, как та, от которой ему пришлось отказаться из-за своего слишком юного возраста: он основал журнал «Медицинская реформа», на страницах которого делился с читателями своими научными и политическими взглядами.
В этот бурный период своей жизни Рудольф Вирхов вел себя весьма неосмотрительно, ставя под угрозу дальнейшую профессиональную карьеру. Мало того, что многие его политические речи были откровенно провокационными, время от времени он позволял себе отстаивать свою точку зрения в довольно оскорбительной манере по отношению к консервативным властям. В религиозном ортодоксальном обществе, где лояльность к церкви считалась эквивалентом лояльности к короне, он открыто провозглашал свой агностицизм. Его язвительные остроумные шутки над Гогенцоллернами с удовольствием повторяли его сторонники, вызывая ярость и гнев прусских роялистов.
На самом деле, откровенно дразня правительство своими статьями и очень популярными у народных масс речами, Вирхов рисковал своим местом в Шарите. И ему не простили такого эпатажного поведения. Даже его блестящие исследования лейкемии, эмболии и тромбоза не помогли ему сохранить работу. Он получил отставку.
Увольнение продлилось одну неделю. Осознав, что силы реакции вновь одержали победу и что радикализм может положить конец его важнейшим исследованиям, Вирхов выбрал прагматичный подход. Когда ему предложили вернуться на свою должность в обмен на подпись под обещанием отказаться от открытого выражения своих политических убеждений, он не стал возражать.
Однако власти не доверяли ему и искали предлог, чтобы выслать его из Берлина, при этом сохранив для него возможность работать на благо немецкой медицины. Идеальный случай представился в виде специально созданной кафедры патологии в Вюрцбургском университете. Живший в этом городе профессор акушерства Фридрих Сканцони, современник и давний друг Вирхова, заступился за него перед министрами правительства, предложив учредить специальную должность, чтобы обеспечить комфортную и гостеприимную обстановку для его изгнания.
Оставалось одно очень важное дело, о котором только что назначенный профессор должен был позаботиться перед тем, как покинуть Берлин. Все свою жизнь он был известен отсутствием пунктуальности и привычкой появляться в самый последний момент. Сердечные дела не были исключением. В день своего отъезда в Вюрцбург он обручился с Роуз, семнадцатилетней дочерью своего друга Карла Майера. Хотя Майер был самым успешным практикующим акушером Берлина, он имел весьма прогрессивные политические взгляды. Он превратил свой дом в салон, где несколько раз в неделю собирались его либерально мыслящие товарищи, чтобы обменяться мнениями и оказать друг другу взаимную поддержку. Для самоотверженной восторженной Роуз прямолинейный молодой врач был героем, которого заставляли страдать за его преданность делу демократии. В кульминационный момент их романа ее жених писал с нехарактерной для него нежностью:
Она слушала меня и постигала все мои идеи, в некотором смысле, она училась у меня, так что я не знаю никого, кто мог бы понять меня лучше. И я, я полюбил ее, не могу сказать, почему и когда; но в один прекрасный день я неожиданно осознал, что она овладела моим сердцем. Это произошло в очень грустное время. В тот самый день на исходе марта, когда моей маленькой Роуз сообщили, что я получил официальное уведомление об увольнении.
В тот момент я счел более достойным скрыть свои чувства к Роуз… Поэтому я молчал даже после моего назначения в Вюрцбург, поскольку все еще не имел возможности покинуть Берлин. И только когда я наконец увидел, как день ото дня Роуз становится все печальнее, когда я понял, что она страдает, и совершенно очевидно из-за меня, я больше не мог сдерживаться. В понедельник я пришел, чтобы попрощаться, но полдень уже застал нас в объятиях друг друга. Так получилось.
Как видно из приведенной цитаты, Роуз видела свою миссию в том, чтобы всемерно помогать своему великому спутнику жизни. Она не питала никаких личных амбиций и все свои силы посвятила тому, чтобы облегчить жизнь своего избранника. Краткий рассказ Вирхова наводит на мысль, что фактически именно под его влиянием у нее сформировались подобные представления об эталоне семьи. О жене ученого написано очень мало. По-видимому, отношения между супругами были хорошими и ничто не нарушало безмятежного течения жизни в их доме, где росли шестеро детей: трое сыновей и три дочери.
Прибывший в Вюрцбург новый профессор патологии оказался в благоприятной атмосфере, абсолютно непохожей на столичную суету Берлина. Расположенный на берегах реки Майн среди виноградников на склонах Баварских холмов, с пятидесятитысячным населением, этот город был одной из тех небольших жемчужин в ожерелье университетских городов, которыми знаменита Германия. В девятнадцатом веке здесь жили и работали ведущие светила медицины того времени, например эмбриолог и гистолог Альберт фон Келликер, не говоря уже о Вирхове и Сканцони. Именно в этом почтенном учреждении в 1895 году профессор физики Вильгельм Рентген обнаружит рентгеновские лучи.
Приезд Вирхова в университет должен был насторожить некоторых его сослуживцев-преподавателей. Благодаря раскрытию фундаментальной основы тромбоза и эмболии, открытию сущности лейкемии и резким нападкам на всеми почитаемого Рокитанского Вирхов завоевал в академических кругах авторитет, каким не мог похвастаться никто из его новых коллег, а также репутацию человека, непреклонно отстаивающего свою точку зрения. Он самостоятельно изучил английский: вместе с французским, итальянским и голландским у него в распоряжении были пять языков, на которых было написано все сколько-нибудь важное в современной науке; достаточно хорошее знание греческого, латинского, иврита и арабского обеспечивало ему доступ к древним источникам медицинских знаний. Кроме того, еще до приезда профессора в Вюрцбург стало известно о его политических взглядах. Недаром министерство Баварии сопротивлялось назначению Вирхова, и только непрекращающийся натиск со стороны Сканцони и берлинских чиновников заставил их согласиться.
Но у них не было причин для волнений. Хотя, работая в Вюрцбурге, Вирхов продолжал свою общественную реформаторскую деятельность, он не был ни революционером, ни бунтарем-одиночкой. В Берлине он оказался слишком близок к полному уничтожению своей карьеры, поэтому на новом месте вел себя более чем осмотрительно. Вирхов осознал, что, если он хочет добиться прогрессивных преобразований в научных и социальных аспектах медицины, ему не следует идти по пути провокации. Он начал собственную трансформацию, позволив медицинской реформе погибнуть в безмолвии. Следующие семь лет он целиком посвятил науке.
Рудольф Вирхов был лишь одним из многочисленных потерпевших фиаско революционеров, боевой пыл которых остыл с окончательным провалом революции 1848 года. По всей Европе молодые идеалисты либо чувствовали разочарование, либо из соображений целесообразности погружались в работу, не имевшую отношения к политике. Двадцатилетний немец Фердинанд Кон, впоследствии ставший первым бактериологом, выразил свой пессимизм в отношении к либералам в записи дневника от 25 сентября 1849 года: «Германия мертва, Франция мертва, Италия мертва, Венгрия мертва, только холера и трибунал бессмертны. Я оставил этот недружелюбный мир, похоронив себя в своих книгах и исследованиях; общаясь с немногими людьми, много изучая, вдохновляясь только природой».
Время пребывания в Вюрцбурге стало самым продуктивным периодом жизни Вирхова. Он работал с небольшой группой талантливых исследователей, быстро доказав, что способен мирно сотрудничать с людьми, которых критиковал до того, как присоединился к их компании. Он руководил первой кафедрой патологической анатомии в Германии; большое количество студентов хотели учиться у него и у Кёлликера, который приехал в университет лишь на год раньше Вирхова. На самом деле, некоторые его биографы полагают, что если бы кроме целой галактики звезд, которых он обучил в то время, он не оставил никакого другого наследия, этого было бы достаточно, чтобы признать его одним из величайших преподавателей в истории медицины.
Ученики собирались вокруг профессора не просто так. Кроме того, что он был ученым высокого уровня, он занимался разработкой проектов, которые увлекали и восхищали молодых врачей, изучавших новую научную медицину. За неполные пять лет, прошедшие с того времени, когда Вирхов окончил университет, он внес значительные изменения в учебную программу, по крайней мере, в Вюрцбурге. То, чему он учил своих студентов, было новой эпохой медицины по сравнению с тем, что ему доводилось слышать в лекционных залах института Фридриха-Вильгельма. В круг его интересов входило изучение воспалительных процессов, рака, туберкулеза, брюшного тифа, кисты печени, заболеваний почек, холеры, кретинизма, амилоидоза, а также исследование анатомии кожи, ногтей, костей, хрящей и соединительной ткани. Вместе с другими учеными он опубликовал шеститомный «Справочник по специальной патологии и терапии», а также принимал участие в работе над руководством по общей патологии. В 1851 году он и двое его коллег начали выпускать «Ежегодник достижений и прогресса в медицине», который продолжал редактировать до самой смерти, к тому времени уже давно известный как «Ежегодник Вирхова».
Именно во время работы в Вюрцбургском университете Вирхов разработал ряд педагогических методик, которые будет использовать на протяжении всей своей преподавательской карьеры. Самой запоминающейся среди них была так называемая настольная железная дорога, которая представляла собой движущуюся дорожку, перемещавшую демонстрационные микроскопы от одного студента к другому, с тем чтобы каждый из них мог просмотреть слайды, подготовленные их учителем. Грохот установленных на транспортную систему инструментов во время их путешествия по аудитории часто сопровождался указанием Вирхова: «Учитесь видеть самые мелкие детали».
Чтобы выполнить его рекомендацию, необходимо было в совершенстве освоить инструмент, благодаря которому медицина значительно расширила свои возможности не только в наблюдении бесконечно малых составляющих заболевания, но и в их коррекции. Достигнутый в недавнем времени прогресс в технологии изготовления оптических систем, можно сказать, подготовил почву для гигантского прорыва в медицине, который не заставит себя долго ждать. В следующей главе еще много будет сказано о решающем значении улучшения качества микроскопов для эволюции в медицинской науке, но на данный момент достаточно отметить, что за предыдущие полтора века особых достижений в этой области достигнуто не было.
Большая часть образцов материалов, которые Вирхов устанавливал в студенческие микроскопы, предназначалась для демонстрации его быстро развивающихся идей относительно структуры человеческих тканей. Именно в Вюрцбурге он сформулировал свой тезис о том, что фундаментальной единицей жизни является клетка. Слово «клетка» было введено в научный лексикон эрудитом Робертом Гуком, впервые использовавшим его в своей книге «Микрография», написанной на английском языке в 1665 году в тот краткий период времени, когда начали проводиться многочисленные исследования с помощью примитивных микроскопов. Он писал: «Я взял хорошую чистую пробку и перочинным ножом, заостренным и наточенным как бритва, аккуратно отрезал кусочек так, чтобы его поверхность была гладкой, а затем тщательно изучил его с помощью микроскопа, предполагая, что он должен быть довольно пористым по структуре. Эти поры или клетки были не очень глубокими и состояли из множества маленьких ячеек». Почти двести лет спустя ученые докажут, что это «множество маленьких ячеек» является строительным блоком всех живых организмов. Время от времени после описания, приведенного Гуком, некоторые исследователи упоминали клетки в своих работах, называя их то глобулами, то везикулами, то пузырями, но их назначение оставалось непонятным в течение полутора веков, пока исследования Джованни Баттиста Амичи и Джозефа Джексона Листера не привели к созданию новых оптических систем, позволивших провести множество наблюдений после 1830 года. Первое важное открытие в этом направлении сделал английский ботаник Роберт Браун, в 1831 году обнаруживший, что каждая растительная клетка содержит в себе центральную структуру, которую он назвал ядром.
Браун сообщил о своих исследованиях в том же году, когда двадцатисемилетний немецкий адвокат по имени Маттиас Шлейден впал из-за своих профессиональных неудач в такую глубокую депрессию, что однажды выстрелил себе в голову. К счастью для науки, он либо промахнулся, либо его подвели знания анатомии, и он не задел жизненно важных частей мозга. После выздоровления он занялся изучением ботаники, что было хорошей идеей, поскольку в обращении с растениями он оказался гораздо более искусным, чем со своими клиентами или с пистолетами. В 1838 году вышла в свет его публикация, ставшая важным научным событием, с описанием экспериментов, доказывающих теорию о том, что все растительные ткани состоят из клеток. Хотя он ошибался, заявляя, что каждая клетка спонтанно развивается из вещества, составляющего ее ядро, он сделал решающий шаг вперед, положив начало клеточной теории жизни, а вместе с тем и формированию основ современной ботаники.
Дальнейшие успехи в этой области были связаны с кофе и сигарами. В один из долгих вечеров после обильной трапезы со своим другом Теодором Шванном Шлейден подробно рассказывал о своих наблюдениях. Шванн, который был одним из любимых учеников Иоганна Мюллера, тоже видел в тканях животных содержащие ядра клетки. После этой беседы с Шлейденом он решил подтвердить в зоологии факт, уже установленный в ботанике. В 1839 году он опубликовал книгу, название которой говорит само за себя: «Микроскопические исследования соответствий в структуре и развитии животных и растений». Шванн понимал, что касается темы, которая на протяжении веков была предметом серьезных дебатов не только среди ученых, но и среди философов и теологов; он исследовал фундаментальную основу самой жизни. В отличие от иудея Шлейдена и Вирхова, для которого не существовало авторитета выше собственного разума, благочестивый католик Шванн не был готов рисковать расположением церкви. Прежде чем опубликовать свою книгу, он хотел заручиться одобрением своего епископа. Шванн не был Галилеем, а его духовник не был папой Павлом V, так что книга была признана не нарушающей никаких догм.
Опираясь на открытие Шлейдена, Шванн объединил в своей работе все имеющие принципиальное значение выводы, полученные в процессе микроскопических исследований клеток, проведенных после 1830 года. В нарастающей лавине новых данных, поступающих от многочисленных ученых, было практически невозможно разобраться и отделить достоверные эксперименты от неверно истолкованных наблюдений. Благодаря находкам Шлейдена и Шванна были открыты основополагающие элементы клеточной теории. Имена этих двух ученых были прочно связаны между собой в умах их современников, и биологи редко вспоминали о них отдельно друг от друга; это было бы все равно, что говорить о Гилберте, забыв о Салливане[19] или сказать «хип», не добавив «хоп». Шлейден и Шванн – эта эвфония использовалась в качестве мнемонического имени для студентов-первокурсников факультета биологии на протяжении сотни лет.
В своей книге Шванн сформулировал фундаментальное положение своей теории: «Существует единый универсальный принцип развития элементарных частей организмов, хотя они и отличаются друг от друга. И этот принцип – формирование клеток». Следует понимать, что клетка представляет собой микроскопическую массу протоплазмы, заключенную внутри мембраны, обладающую собственным обменом веществ и способную существовать самостоятельно. Оставалось загадкой, откуда появляются клетки, и Шванн выдвинул собственную ошибочную гипотезу. Он считал, что они возникают не в ходе деления родительской клетки, а в результате протекающего внутри организма процесса, который напоминает кристаллизацию из гипотетического материнского раствора, названного им цитобластемой. С самого начала западной цивилизации горячо обсуждалась концепция самопроизвольного зарождения, в соответствии с которой каждый новый организм создается из элементарного вещества или даже из ничего. Не вникая в богословский смысл данной парадигмы, Луи Пастер раз и навсегда опровергнет ее несколько десятилетий спустя, но на тот момент она была основополагающей частью концепции развития клеток, предложенной Шванном.
Именно Рудольф Вирхов нашел ответ на этот вопрос. В тот год, когда в свет вышла книга Шванна, Вирхов только начал свое медицинское образование в институте Фридриха-Вильгельма. Перемещение фокуса внимания от тканей к клеткам и открытие универсального строения всех живых организмов стимулировало все более многочисленные и эффективные исследования. Практически каждый медицинский феномен, изученный Вирховом после того, как он начал свою научную деятельность, так или иначе был связан с клеточной теорией. В своей работе, опубликованной в 1852 году, он описал клетку как фундаментальный питательный элемент, при этом не только ни разу не упомянул о цитобластеме, но заявил, что эксперименты привели его к убеждению, что новая клетка может быть образована только в результате деления на две уже существующей клетки. Два года спустя он высказался вполне определенно: «Новая жизнь возникает только посредством прямого наследования». Наконец, в 1855 году он поместил в своем «Архиве» статью о патологии будущего – патологии, которая будет изучать процессы, протекающие внутри клеток: поддерживающие жизнь или вызывающие болезнь в зависимости от ситуации. Именно в этой публикации он впервые использовал тезис, ставший объединяющим девизом его учеников: Omnis cellula a cellula, что означает: «Клетка происходит только от ранее существовавшей клетки» и недвусмысленно провозгласил неизбежный вывод: «Как бы мы ни выкручивались и не изворачивались, в конце концов мы все равно вернемся к клетке».
Закономерным было и то, что благодаря достигнутому в европейской науке авторитету профессор Рудольф Вирхов получил приглашение вернуться обратно в Берлин. В своем штате его хотели видеть многие университеты, но он отказался от всех предложений, поскольку был вполне счастлив, работая в идиллической и воодушевляющей атмосфере академии Вюрцбурга. Доброжелательная коллегиальность сослуживцев-учителей и отстраненность от политических коллизий смягчили его природную воинственность. У него была преданная жена и трое детей. За годы, проведенные в Вюрцбурге, он успокоился и возмужал. Рудольф Вирхов, в 1856 году получивший приглашение на должность руководителя кафедры патологии в Берлине, был гораздо более мудрым и зрелым человеком, чем тот пылкий жених, которого полиция города постаралась поскорее выдворить, когда он приехал для заключения брака шесть лет назад.
Теперь же его так уговаривали вернуться, что он согласился принять пост, но на определенных условиях. Поскольку Берлинский университет настаивал на сотрудничестве с ним, он хотел извлечь для себя из этой ситуации некоторые преференции. Вирхов потребовал, чтобы для осуществления практических исследовательских и клинико-патологических работ был построен отдельный институт патологии. Здание возвели очень быстро, и Вирхов вернулся в Берлин с триумфом, как признанный и наиболее влиятельный авторитет среди представителей немецкой медицины. С этого времени тенденция, все более очевидно формировавшаяся в течение последнего десятилетия, стала фактом: благодаря Рудольфу Вирхову эстафета ведущей роли в развитии медицины перешла от Франции к немецкоязычным странам. Это положение вещей сохранялось до начала двадцатого века, когда война изменила расстановку сил и на сцену вышла американская наука.
Первое, что сделал Вирхов по возвращении в Берлин, – познакомил местных врачей с последними разработками в области патологии и рассказал им о собственных открытиях. Чтобы представить материал в доступной для обычных практикующих медицинских работников форме, он структурировал его в виде двадцати последовательных лекций, которые читал в новом институте патологии раз в две недели с февраля по апрель 1858 года. Он нанял некоего господина Лангенхауна, который сидел в аудитории и скорописью дословно конспектировал выступления Вирхова. В конце лета с «незначительными изменениями» он опубликовал их в книге под названием Cellular Pathology – «Целлюлярная патология». В предисловии он написал, что намерен «дать краткий, но всеобъемлющий обзор предмета». Оригинальность взгляда и важность поднятой темы вызвали огромный интерес медицинского сообщества, поэтому не прошло и года, как потребовалась публикация дополнительного издания. Первый абзац предисловия второго выпуска книги заслуживает того, чтобы воспроизвести его здесь, потому что из него можно многое понять о самом ученом, его работе и о том, насколько высоко был оценен его вклад в мировую науку:
Настоящая попытка сообщить в систематизированной форме о плодах проведенных мной исследований, которые противоречат тому, чему обычно обучают в институтах, прежде, чем уведомить о них всю медицинскую общественность, привела к неожиданному результату; оказалось, у меня есть множество как единомышленников, так и решительных оппонентов. И те и другие, безусловно, весьма необходимы, потому что мои друзья не найдут в этой книге никаких необоснованных заявлений, ничего системного или догматического, а моим противникам придется наконец отказаться от своих изобличающих фраз и начать самостоятельно изучать поставленные вопросы. И те и другие могут поспособствовать дальнейшему стимулированию развития медицинской науки.
Вклад самого Вирхова в «стимулирование развития медицинской науки» сложно переоценить. Почти столетие спустя профессор патологии из Университета штата Пенсильвания и выдающийся историк медицины Эдвард Крамбхаар написал: «Эта книга заслуживает того, чтобы стоять на одной полке с Fabrica Везалия, De Motu Гарвея и De Sedibus Морганьи… единой тетрадой величайших медицинских трудов со времен Гиппократа». В 1902 году Уильям Уэлч, который в то время считался старейшиной американской медицины, отметил, что создание Вирховом доктрины клеточной патологии ознаменовало «самый большой прогресс в научной медицине с момента ее возникновения».
Выдвинутые в «Целлюлярной патологии» тезисы стали принципами, на которых будут базироваться медицинские исследования в течение следующих ста лет и более. Одним смелым заявлением он очистил научную среду от всех остатков гуморов и прочей чепухи. Опора Везалия на свидетельства собственных ощущений, акцент Гарвея и Хантера на эксперимент, кропотливый поиск первичных источников симптомов Морганьи, тщательная корреляция между проявлениями болезни и ее анатомическими причинами, требуемая Лаэннеком, – все оказалось в центре внимания в работе Рудольфа Вирхова. В слегка экстравагантном сочинении один из его учеников врач-писатель Карл Людвиг Шлейх писал: «Его орлиный взгляд проник в самую глубь скрытой реакции больного организма и смог увидеть мрачную печать болезни и смерти на усыпанном цветами поле жизни… Он никогда не оставлял попыток проследить путь дракона болезни до самого дальнего его логова, и именно ему принадлежит незабываемый успех проникновения в мозаику пещер организма, в клетки».
Возможно, нетрадиционный язык Шлейха слишком затейлив, тем не менее в его описании научный вклад Вирхова явно недооценен. Он сделал гораздо больше, чем просто выследил дракона до мозаики его пещер; он обнаружил, что даже конечная больная анатомическая структура – это всего лишь ключ; настоящая причина болезни не в нарушении состояния, а в нарушении функций. Проблема не в том, как выглядит нездоровая клетка, а в том, как она функционирует; таким образом, ключ не в самой клетке, а в том, что происходит внутри нее; не патологическая анатомия, а патологическая физиология должна найти решение фундаментальных загадок болезни.
Итак, после публикации «Целлюлярной патологии» микроскопические исследования здоровых и больных тканей стали использоваться для изучения химических и физических процессов, протекающих внутри клеток. Физиология и биохимия развивались семимильными шагами. Фармакология тут же перестала восприниматься как своего рода медицинская ботаника и начала выполнять свою законную роль в восстановлении биохимического здоровья. Впервые за долгую историю наблюдений раковых больных целители поняли, что злокачественные новообразования возникают из здоровых структур: первая раковая клетка в организме пациента – это не инвазивный паразит или нуббин, образовавшийся в период эмбрионального развития, а потомство здорового родителя, в котором произошли некоторые изменения.
Согласно другому тезису Вирхова, у здорового родителя также был здоровый родитель. Каждая клетка имеет поколения предков и прослеживаемую прямую родословную, которая неминуемо берет начало от протерозойского ила, в котором много миллионов лет назад впервые зародилась жизнь. Клетка воспроизводит себя, делясь на две в результате процесса, называемого митозом; не существует никакого самозарождения, и из шляпы природы не выпрыгивают кролики. Существует только непрерывная связь между каждой клеткой и ее потомством. Все клетки, составляющие наши тела, – ближайшие родственники. Многие учителя биологии иллюстрируют непрерывность процесса регенерации, указывая классу на то, что каждый раз, когда мы моем руки, мы уничтожаем бесчисленное количество тысяч клеток кожи и тем самым прерываем линию, которая тянется в сумрачные глубины предыстории нашего вида. Сотни миллиардов раз в день источник возникновения жизни исчезает в канализационных стоках.
Но это еще не всё. Поскольку именно клетка является центром, передающим унаследованные феномены жизни, важно понимать ее взаимоотношения с окружающей средой, под которой подразумеваются не только окружающие ее родственные клетки, но и условия их совместного сосуществования – внеклеточная жидкость. Внеклеточная жидкость обеспечивает каждой клетке не только питание, но и транспортные средства для утилизации отходов, образующихся в результате ее функционирования. Через двадцать лет после публикации «Целлюлярной патологии» французский физиолог Клод Бернард разработал концепцию внутренней среды организма, омывающей клетки, из которой они берут необходимые для жизни вещества и возвращают в нее конечные продукты метаболизма.
Таким образом, пришло полное понимание того, в чем состоит смысл описанного Уильямом Гарвеем цикла: циркулирующая по замкнутому контуру кровь насыщает питательными веществами и одновременно очищает внеклеточную жидкость, которая, в сущности, является фильтратом самой себя. Вещества, поставляемые кровью во внеклеточную жидкость, занимают в клетке место выводимых конечных продуктов, в которых она больше не нуждается, или тех, которые она выработала для удовлетворения потребностей других клеток, например гормонов и пищеварительных ферментов. Этот процесс называется осмос. Когда философы предшествующих столетий опрометчиво рассуждали о балансе в природе, они не знали точного значения многих терминов, хотя широко их использовали. Работа Рудольфа Вирхова, в конечном счете, прояснила их смысл: оптимальный природный баланс обеспечивает взаимовыгодный обмен веществ, в котором участвует каждая клетка любого живого существа.
Таким образом, животное или растение следует рассматривать как сложный организм, состоящий из совокупности простых микроскопических организмов – клеток, находящихся в биохимическом балансе с окружающей их питательной жидкостью. Каждая из этих отдельных клеток вносит собственный специфический вклад в жизнь животного или растения. Однотипные клетки выполняют одинаковую функцию, и, как правило, группируются в тканях, составляющих определенные органы тела. Отдельный человеческий орган, такой как селезенка или почка, отвечает за множество функций, поскольку образован из нескольких видов тканей и нескольких видов клеток.
Рассмотрим короткий трубчатый отдел верхней кишки и различные ее слои. Наружное покрытие представляет собой глянцевую влажную защитную оболочку, приплюснутые клетки которой позволяют кишечнику безопасно скользить по соседним виткам во вместительных закоулках брюшной полости; внутри располагается слой различно ориентированных мышечных тканей, которые заставляют кишечник совершать волнообразные колебания и сжиматься таким образом, чтобы измельчить и смешать с кишечным соком пищу, которая должна перемещаться вперед; самый внутренний слой состоит из поглощающей ткани, чьи клетки не только выделяют слизь, но и позволяют переваренным питательным веществам поступать через крошечные капилляры в кровоток; капилляры соединены с более глубоко расположенными сосудами, которые проходят через еще один слой, который функционирует не только как подушка между абсорбирующей подкладкой и мышечной тканью, но также включает сгустки лимфатических клеток, фильтрующих грязь и принимающих участие в обеспечении функционирования пока еще неоткрытых механизмов иммунитета. И это еще не всё: по внутреннему слою рассыпаны крошечные гнезда клеток, продуцирующих гормоны, ферменты и кто знает, что еще. При этом кишечник – простой орган, чего не скажешь о печени.
Нетрудно понять, почему Рудольф Вирхов в силу своих политических взглядов проводил аналогию между организмом и государством. В конечном счете, последнее состоит из множества разного рода элементов, сгруппированных в экономические, социальные и политические организации, служащие общему благу различными средствами. Хотя весь организм может управляться из центрального пункта, его жизнь – это на самом деле совокупность жизней каждого отдельного компонента. Цитата из первой лекции «Целлюлярной патологии»:
Структурный состав тела значительного размера так называемого индивидуума всегда представляет собой своеобразную организацию частей, сообщество социального типа, в котором сосуществует ряд отдельных взаимозависимых составляющих, но так, что каждый элемент функционирует особым образом, и хотя он получает стимул к активности от других частей, он один определяет фактическое исполнение собственных обязанностей.
Основополагающие положения, изложенные в «Целлюлярной патологии», остаются основными принципами медицинской науки и сегодня. Конечно, в формулировках Вирхова были некоторые ошибки. Часть из них были неизбежны из-за недостаточного уровня развития знаний и технологий того времени, другие же возникли из-за некорректных рассуждений и позже были опровергнуты другими учеными. Но ему удалось развенчать создателей различных гипотетических систем и выстроить реальную стройную теорию, суть которой ускользала от всех его предшественников. Он разработал свою концепцию на надежной основе научного метода.
Два месяца спустя после рождения в Померании Рудольфа Вирхова в городе Руане появился на свет французский младенец, которому было суждено написать книгу, ставшую, подобно «Целлюлярной патологии», еще одной значительной вехой на пути современной медицинской мысли. За год до публикации работы Вирхова книга французского автора появилась на прилавках парижских торговцев. Речь идет о скандальном романе «Мадам Бовари». Его создателю Гюставу Флоберу, как и его издателю, было предъявлено официальное обвинение в безнравственности после выхода сочинения частями в журнале Revue de Paris. В то время удрученный, пессимистически настроенный Флобер писал своему другу: «Эта книга – гораздо более плод терпения, чем гения и труда, чем таланта». Если бы Рудольфу Вирхову задали подобного рода вопрос о его творении, он сказал бы то же, но по другой причине. Флобер написал эти слова, потому что действительно так считал. Вирхов к тому времени был достаточно умен, чтобы скрывать присущую ему нескромность, и поэтому он тоже стал бы отрицать то, что было очевидно для любого проницательного читателя: не только терпение и труд, но также гений и талант говорят сами за себя на каждой странице обоих шедевров.
У Вирхова эти качества имелись в изобилии, и он активно пользовался ими, не исключая области научных исследований. Его уверенность во взаимной зависимости между основными частями социальной организации распространялась и на политику. Вернувшись в Берлин, он также перестал игнорировать настойчивый голос своей либеральной совести. В последующие годы он был известен как «Папа немецкой медицины», но он был Папой, который верил в то, что, говоря словами немецкого поэта, «главным предметом изучения человечества является человек»[20].
Существует столько сбивающих с толку значений слова «гуманизм», особенно в Америке конца двадцатого века, что не помешает освежить в памяти определение, данное ученым Рудольфом Вирховом, поскольку он был свидетелем эволюции гуманизма от Ренессанса до эпохи блестящих открытий научной мысли: «Разнообразные научные знания отдельных вдумчивых людей, внимательно наблюдающих за постоянно меняющимся миром». Такое определение объединяло клетки, психику и состояние общества. Оно связывало здоровье каждого органа, здоровье человека и здоровье общества. Не только человек должен был тщательно изучаться с помощью микроскопа, необходимо было развитие глобального видения всеобщего гуманизма. И поэтому Вирхову пришлось вернуться в политику.
В 1859 году Вирхов был избран членом Берлинского городского совета. Эту должность он будет занимать в течение сорока двух лет. Позже, в 1862 году, он стал депутатом Прусского ландтага и одним из основателей радикальной немецкой прогрессистской партии. С 1880 по 1893 год он был членом рейхстага. Огромная часть его работы в городском совете была связана с вопросами общественного здравоохранения, в основном с решением чудовищных проблем в больничной и санитарной системе муниципалитета. В большинстве берлинских домов не было туалетов и центрального водоснабжения. Содержимое уличных туалетов стекало по глубоким желобам в каналы города, загрязняя воды неторопливой реки Шпрее. Некоторые называли Берлин середины девятнадцатого века городом, построенным на канализации. Многие иностранцы делились впечатлениями о постоянном зловонии человеческих отходов, витающем в воздухе. Чуткое обоняние молодого Генри Адамса, недавно прибывшего из нового района Бостона, доставляло ему большие проблемы, и в последующие годы он писал, что столица Германии была «грязным, нецивилизованным и во многих отношениях опасным местом… Состояние Германии вызывало возмущение и досаду у каждого честного немца, который не мог не направлять все свои силы на реформирование немецкого общества снизу доверху».
Среди самых честных и тем более самых энергичных реформаторов был городской советник Рудольф Вирхов. Увлеченные его энтузиазмом, гражданские власти приняли предложенные им программы по улучшению канализационной системы, реконструкции старой неэффективной организации больниц и разработке новых критериев гигиены для государственных школ. Благодаря его стараниям были введены более строгие методы контроля качества пищевых продуктов и повышены стандарты подготовки младшего медицинского персонала. За четыре десятилетия его службы на благо города во всех областях общественного здравоохранения произошли серьезные изменения. К концу столетия его сограждан берлинцев, являвших собой отдельные составляющие столичной жизни, окружала во всех отношениях гораздо более питательная и чистая среда, чем та, в которой они находились, когда ученый начал свою деятельность в 1859 году. Весь организм Берлина стал значительно здоровее. После смерти Вирхова в 1902 году Британский медицинский журнал совершенно справедливо отметил: «Не будет преувеличением сказать, что современный Берлин является великолепным памятником его самозабвенного служения своей стране». Вирхов сделал для физиологии своего города то же, что совершил Кристофер Рен для анатомии Лондона.
Однако в вопросах, имевших исключительно политическое значение, усилия Вирхова в значительной степени были напрасными. Под управлением юнкера Отто фон Бисмарка Германия после 1862 года неизменно продолжала курс на консерватизм, шовинизм и всестороннее превосходство над другими европейскими странами. По мнению Бисмарка, имперской Германией должны были управлять высокородная аристократия и прусские землевладельцы. Хотя, как это ни парадоксально, за время его пребывания в должности было совершено немало либеральных и демократических завоеваний, но они были направлены лишь на то, чтобы умерить требования прогрессистов и «потушить огонь социалистов», как формулировал сам Бисмарк. Суть созданного им режима была выражена одним предложением в первой официальной речи, произнесенной им после его назначения на пост премьер-министра: «Важнейшие вопросы нашего времени решаются не речами и постановлениями большинства – это было главной ошибкой 1848 и 1849 годов, а только кровью и железом».
В тот год, когда Бисмарк стал лидером Германии, Рудольф Вирхов был избран в Палату представителей, или, как ее еще называли, Палату депутатов – нижнюю палату Прусского сената; верхней палатой была Палата лордов. Возникшее на основе личной антипатии противостояние между двумя этими темпераментными волевыми людьми сохранялось до конца политической карьеры канцлера в 1890 году. Вирхов из примитивного провокатора, каким он был в 1848 году, вырос в зрелого общественного деятеля, аргументированно и последовательно выступавшего против существующего режима; он стал основателем немецкой Прогрессистской партии – постоянного антагониста махинаций Бисмарка, привлекая в нее новых членов силой своего авторитета.
Конфликт достиг своего апогея в 1865 году. Вирхов как председатель финансового комитета Палаты депутатов добивался отклонения требования Бисмарка увеличить ассигнования на расширение немецкого флота. Чтобы навсегда отделаться от своего назойливого противника, Бисмарк обвинил яростного лидера оппозиции в том, что во время дебатов он назвал его лжецом. То, что канцлер сам довольно часто прибегал к недостойным средствам борьбы, не вызывало сомнений у его современников, и Вирхов, конечно, не был первым соперником, бросившим ему вызов. Тем не менее мускулистый импозантный юнкер отправил худощавому близорукому профессору письмо с вызовом на дуэль, выбрав своим секундантом военного министра. Со стороны Бисмарка подобный поступок выглядел как проявление трусости: мастерски владеющий мечом и пистолетом, обладающий опытом и всеми навыками прусского дуэлянта, пользующийся сомнительной репутацией, он опустился до мести, вызвав насмешки своим неприглядным поступком. На самом деле Вирхов в ответ только расхохотался. Еще большее удовлетворение ему приносила возможность заставить и других хихикать над нелепостью ситуации, согласившись принять вызов только в том случае, если его противник не возражает против сражения на скальпелях. Своим полным сарказма ответом он намекал, что его жизнь слишком важна, чтобы бездумно приносить ее в жертву самолюбию канцлера. Дуэль так и не состоялась.
Но после того как Бисмарку удалось втянуть Пруссию в столь желанную для него войну против Австрии и остальной части Германии в 1866 году, при этом добиться успеха в этом рискованном предприятии, его влияние возросло, и среди оппозиционеров наметился серьезный раскол. В тот момент Германия значительно продвинулась на пути к объединению – результату, к которому стремились все ее граждане, поэтому даже большинство либералов встали на сторону премьер-министра. Авторитет Вирхова как сильного лидера оппозиции пострадал. Он больше не представлял точку зрения большинства, а был голосом лишь небольшой группы прогрессивно мыслящих немцев. И хотя в 1880 году его избрали депутатом рейхстага, он редко принимал участие в дискуссиях этого парламентского органа.
Если бы после неудавшегося поединка 1865 года политические враги Вирхова поставили под вопрос его храбрость, ответом можно было бы считать его службу во время Франко-прусской войны 1870–1871 годов. Взяв с собой двух своих старших сыновей в качестве санитаров, он отправился на фронт во главе первого больничного поезда. Вирхов кропотливо заботился о раненых, большинство из которых пострадали во время сражения за Мец. Несмотря на то что оба его мальчика заболели тифом – к счастью, оба они выздоровели, – он не оставил свою работу по обеспечению надлежащего ухода и транспортировки военнослужащих. Во время Гражданской войны Вирхов высоко оценил работу американских врачей и использовал некоторые из заимствованных у них конструктивных методов при возведении военных госпиталей.
Красный Крест, лишь четыре года назад официально принятый символом медицинских работников на Женевской конференции 1866 года, представлялся Вирхову наилучшим выражением истинной, индифферентной к любой идеологии, гуманистической сущности искусства исцеления. Он считал, что:
Миссия медицины состоит, прежде всего, в приближении эпохи милосердия. Среди ужасов войны на поле битвы она и только она призвана официально представлять такие человеческие качества, как сочувствие и гуманизм. Не различая друзей и врагов, она каждого принимает в свои заботливые руки, чтобы уврачевать кровоточащую рану, исцелить сломанную конечность и увлажнить пересохшие губы. В пороховом дыме битвы она разворачивает знамя с красным крестом, которое все цивилизованные нации теперь считают эмблемой помощи и защиты. Она обеспечивает священное убежище для раненых, ограждая их от последующих атак и оказывая им квалифицированную помощь. Где бы ни возникала такая необходимость, повсюду возводятся ее незамысловатые палатки и казармы как приют человеческой любви и сострадания.
После окончания войны Вирхов вернулся к науке. И хотя он продолжал работу над трудами по патологии, он все чаще занимался не медициной, а антропологическими исследованиями, выпустив в общей сложности 1180 публикаций на эту тему, включая несколько книг. Интерес к этой области знаний появился у Вирхова в результате бесконечного поиска первопричины происхождения жизни. В попытках обнаружить источник зарождения человечества в протоплазме клеток и структуре черепа, он всегда возвращался к одним и тем же вопросам: что это за источник, откуда он возник впервые, как он попал туда, где находится сегодня и что можно сделать для сохранения его в гармонии со своими соседями и окружающей средой? Во все времена никто не сделал больше в поисках решения этой вечной задачи, чем Рудольф Вирхов.
Рудольф Вирхов среди своих «друзей». (Архив Беттмана.)
Поскольку Вирхов стремился понять природу и происхождение рас, культур и древних цивилизаций, изыскания в сфере антропологии неизбежно распространялись на области этнологии и археологии. Активный член многочисленных медицинских организаций на протяжении долгих лет, он внес значительный вклад в создание Немецкого антропологического общества и Берлинского общества антропологии, этнологии и примитивной истории. Он редактировал статьи по данной тематике для нескольких журналов и был основателем музея этнологии в Берлине. Среди помощников-кураторов, работавших там под его руководством с 1883 по 1886 год, был молодой человек по имени Франц Боас, который позже эмигрировал в Соединенные Штаты, где возглавил американскую антропологию. Многие знают Боаса как учителя Маргарет Мид.
Вирхов добился финансирования бесчисленного количества антропологических и археологических экспедиций и в нескольких из них принял личное участие, среди которых были знаменитые раскопки руин древней Трои под началом Генриха Шлимана. Несколько коллег, сопровождавших Вирхова в его троянском путешествии, оставили воспоминания о том, как он оказывал медицинскую помощь бедному населению района, в котором они работали. Благодаря его дружбе с перипатетиком Шлиманом, ставшим американским гражданином, последний пожертвовал обнаруженные сокровища Берлинскому музею этнологии.
Был он и на других раскопках: на Кавказе и в Египте. В каждом исследовании Вирхов использовал все новые научные технологии, способные помочь ему в решении задач, которые ставили перед ним его находки. Когда в 1895 году Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи, Вирхов, несмотря на свой почтенный возраст – тогда ему было семьдесят четыре года, – тут же применил их для анализа предметов, обнаруженных при раскопках. Ценность исследований, плодотворное управление обществами и журналами, а также неоценимый вклад в теорию развития черепа сделали Вирхова одним из лидеров немецкой антропологии. В действительности он является настолько выдающейся фигурой в истории этой дисциплины, что многие из его собратьев-ученых не догадываются, что его заслуги в области медицинской науки не менее значимы, или считают, что основатель целлюлярной патологии – другой человек с такими же именем и фамилией.
Так или иначе, благодаря популярной форме изложения истории, представлявшей события прошлого в виде серии анекдотов, многие помнят Рудольфа Вирхова как человека, развенчавшего один из самых опасных национальных мифов – теории чистоты немецкой расы. Пагубная фантазия о происхождении по прямой линии от какого-то могучего германского народа или биоэтнической нации использовалась для оправдания самых отвратительных преступлений в истории человечества. Из-за этой ложной идеи некоторые величайшие умы оказались исключенными из рядов полноправных членов научного сообщества немецкоязычных народов.
Часть мифологии, вытекающая из веры в безупречную нацию, – зловредное утверждение, что никто не может быть немцем в культурном смысле, если его биологическое происхождение не является незапятнанным. Логическим продолжением этой абсурдной теории было сомнение в патриотизме каждого, чьи физические характеристики выдавали, что его предки не были прямыми потомками воображаемого высокого, белокурого, голубоглазого воина давно минувших дней. Большое разнообразие в росте, форме и окраске их этнических соотечественников не мешала им быть самодовольными ханжами-расистами, независимо от их национальности.
Неудивительно, что имеющий славянские корни Вирхов, сделавший величайший вклад в культуру своей страны, осуждал это преступление как против гуманизма, так и против науки. Подробные исследования строения выкопанных по всей Северной и Центральной Европе черепов представителей различных племен убедили его в неправдоподобности существования архетипического германского прародителя. Чтобы доказать свою точку зрения, он предпринял в 1876 году обследование 6 760 000 немецких школьников с целью определить частоту различных комбинаций глаз, цвета кожи и волос. Ученые из Австрии, Голландии, Бельгии и Швейцарии вскоре начали аналогичные исследования.
Полученные результаты были именно такими, на которые рассчитывали все, кто не был слеп. Менее 32 процентов немецких детей имели ожидаемую окраску их предполагаемых предков-тевтонов, в то время как более 54 процентов оказались смесью различных цветовых типов и более 14 процентов – полностью «коричневыми»: карие глаза, темные волосы и смуглая кожа.
Перепись еврейских детей Германии проводилась отдельно, и ее практически предсказуемый результат обеспечил общественную поддержку Вирхову, неоднократно заявлявшему о своем отрицательном отношении к нарастающей волне немецкого антисемитизма. Хотя еврейская группа в целом имела значительно более высокую долю «коричневых», составлявшую 42 процента, более 11 процентов обладали совершенными светлыми волосами, голубыми глазами и светлой кожей идеализированных, но несуществующих, чистокровных тевтонов. Остальные 47 % продемонстрировали ту же самую смесь разнородных оттенков, как и большинство их немецких одноклассников. Окончательные результаты исследования были опубликованы в «Архиве патологии» в 1886 году, за три года до рождения Адольфа Гитлера. Диктатор критиковал Вирхова по многим причинам, среди которых этническая перепись занимала первое место в их списке.
Ничто не доставляло Вирхову такой радости, как такого рода исследования, потому что они доказывали ложь широко распространенного заблуждения, которое, казалось, имело авторитетный источник или считалось обоснованным. Для него, как для ученого и политика, главная задача заключалась в демонстрации хрупкости той ткани, из которой была соткана надуманная доктрина, а затем разобрать ее на нити и развеять их по ветру. Развенчав ошибочную теорию, он не оставлял попыток найти решение этой сложной проблемы, пока не заменил прежнее ошибочное суждение формулировкой, соответствующей окружающим реалиям и поддающейся проверке и доказательству путем эксперимента. Но даже этого ему казалось недостаточно. Разработав новую концепцию, он считал необходимым представить ее миру максимально убедительно и безапелляционно, чтобы не только его теорию сочли истиной в последней инстанции, но и самого автора воспринимали в качестве уникального представителя нового типа мышления.
Именно этот последний аспект научной деятельности Вирхова стал поводом для обвинения ученого в саморекламе. Сделав феноменальный по своей значимости вклад в сокровищницу человеческих знаний, он не хотел делить лавры с другими, чья работа могла бы каким-то образом затмить сияние его собственной исключительности. Абсолютно неважно, насколько независимы были его исследования и сделанные им выводы, но факт остается фактом: несколько исследователей одновременно вели свои изыскания в том же направлении. По совпадению во времени и характеру экспериментов, например, мы могли бы приписать бо́льшую часть разработок в области клеточной теории немецкому ученому Роберту Ремаку или англичанину Джону Гудсиру. Вирхов продвинулся в своей работе чуть дальше, чем они, и выдвинул ряд более убедительных научных аргументов. Один из его биографов Эрвин Аккеркнехт подчеркивал: «Мало того, что полученные Вирховом данные были более значимыми, он еще и популяризировал их с таким неустанным рвением и почти зловещим упорством, что никто никогда не мог превзойти его в этом отношении».
Несмотря на большую популярность Вирхова в Англии, некоторые ученые из этой страны до сих пор не простили ему того, что он не отдал должного научным достижениям Гудсира, который, по их мнению, безусловно заслуживал широкого общественного признания. В 1958 году профессор А. Робб-Смит из оксфордской больницы Рэдклиффа прислал в журнал «Ланцет» письмо, в котором отметил, что знаменитый афоризм Omnis cellula, a cellula на самом деле впервые использовал некто по имени Рэспайл в 1825 году. Статья Робба-Смита посвящалась столетнему юбилею публикации «Целлюлярной патологии», о которой он написал, что, хотя «неучтиво порочить память о заслугах великого человека… величайший вклад Вирхова в концепцию преемственности клеточной жизни не являлся результатом оригинальности его мышления… но его исключительной способности убеждать своих коллег в абсолютной правильности его точки зрения».
Конечно, обвиняемый в пропаганде своих взглядов ученый не был бы столь успешен в предпринимаемых им кампаниях, не будь он сам полностью уверен в своей «абсолютной правоте». Его убежденность росла с каждым документальным подтверждением его мнения. Он никогда не представлял идею, если у него оставались какие-либо сомнения в ее справедливости; хотя его теории, как и у всех ученых, не были ни совершенными, ни безупречными, им всегда не хватало доказательств. Стремление к превосходству не было главным мотивом Вирхова, если этот вопрос вообще его интересовал. Он хотел добиться признания именно научных теорий и, по общему признанию, с этой целью принял участие в избирательной кампании в члены парламента. Как ученый он проводил региональные собрания и часто присутствовал на встречах с такими же, как он сам, исследователями, писал много работ и статей для научных журналов, а также возглавлял несколько известных медицинских сообществ. В следующей главе будет рассказано о такого же рода научном рвении гораздо более самоотверженного врача Джозефа Листера, осознававшего, как и его немецкий коллега, прагматическую необходимость пропаганды истины.
Прилагательное «самоотверженность» никогда не использовалось по отношению к Рудольфу Вирхову. Дерзость молодого пропагандиста, каким он был в 1848 году, со временем превратилась в уверенность Папы немецкой медицины. В 1868 году он точно описал влияние, которое, по его убеждению, будет оказывать на грядущие поколения: «Когда они будут говорить о немецкой школе, они будут иметь в виду меня».
К своим ученикам Вирхов относился без излишней деликатности. Он был несколько придирчив и не мог не брызгать саркастической кислотой по поводу интеллектуальных способностей неуклюжих ассистентов. Тем не менее, хотя они иногда и трепетали в его присутствии, все, кто имел с ним дело, знали, что их профессор был, в сущности, добрым человеком, и душевная щедрость снискала ему лояльность нескольких поколений молодых ученых; успех многих из них был в немалой степени заслугой их учителя, который всемерно поощрял их исследования и служил для них образцом скрупулезного аналитического типа мышления.
Карл Шлейх в течение трех лет был помощником Вирхова в Шарите. В своей автобиографии «Это были хорошие дни» он дает яркое описание первой встречи со своим тогда шестидесятидвухлетним руководителем. Новый ассистент был одет в строгий костюм, который был обязателен в таких случаях:
Мы стояли перед дверью во фраках, белых галстуках, перчатках и шелковых шляпах… Дверь открылась; главный помощник Хьюбнер, всевластный мастер на все руки, выполнявший распоряжения Вирхова, проводил нас, «начинающих медиков», как он называл всех стажеров, в зал, и мы встали перед властелином с немного желтоватой кожей, с похожим на филина лицом и необычайно пронзительными, с легкой поволокой за стеклами очков глазами без ресниц. Веки были тонкими, как пергамент. Его точеный нос выдавал гордость своего владельца изящно изогнутыми ноздрями, несколько презрительно подрагивающими, когда он говорил. Редкая седая борода не скрывала бледные бескровные губы. Когда мы вошли, он ел булку с маслом, рядом с его тарелкой стояла чашка кофе. Это был его обед; единственный прием пищи между завтраком и ужином, хотя весь свой день он проводил за чтением лекций, приемом звонков, тестированием кандидатов, записями результатов вскрытий, антропологическими измерениями, заседаниями парламента и т. п. Всецело зачарованная его величием жена, подражавшая мужу стилем поведения и манерой разговора, сказала мне однажды, что Вирхов почти всегда возвращается домой к часу ночи, где продолжает работать, при этом он никогда не остается в постели позже шести утра. И действительно, в течение шести семестров, которые я провел в его институте, он не пропустил ни одного дня (не считая праздников и командировок).
Вирхов не был аскетом, но подобно рядовым гражданам он вел самую обычную жизнь, никоим образом не подчеркивая свои заслуги или особый социальный статус. Судьба отмерила ему в избытке и признания, и почестей, и восхищения, но они никак не повлияли на его самомнение и природную простоту. Несмотря на то, что его считали Папой национальной медицины, он оставался обыкновенным человеком, свободным от претензий и классовых предрассудков. После его смерти корреспондент газеты Times of London писал:
Пожимая руку представителя королевской семьи, принимая выражение уважения и почтения от делегаций влиятельных организаций, встречая гостей в собственном доме или читая лекции перед самыми представительными в мире собраниями, он никогда не менялся: обычный маленький седой человек, искренний, любезный, непритязательный, поглощенный своей работой, а не собой, обладающий огромными знаниями, проницательный и глубоко мыслящий, ясно излагающий свои суждения – воплощение эрудиции и здравого смысла, преданный слуга истины.
По словам одного из учеников Вирхова, его преподаватель ездил в свои частые командировки в вагоне второго класса только потому, что мест третьего класса просто не существовало. С друзьями он был доброжелательным и общительным, любившим время от времени поднять кубок пива и спеть песню в веселой компании. Дети обожали его, хотя он проводил с ними лишь считаные часы в выходные дни и во время каникул. Как уже отмечалось ранее, жена Вирхова заботливо создавала в доме идеальную обстановку для его плодотворной профессиональной работы.
Фотографический портрет Рудольфа Вирхова за несколько лет до его смерти. (Архив Беттмана.)
Типичный день Вирхова был подробно описан другим бывшим его помощником сэром Феликсом Семоном, обучавшимся в Берлине до эмиграции в Англию:
Он принимал экзамены с 8 до 10, затем руководил занятиями по микроскопическим исследованиям с 10 до 12, читал лекции с 12 до 13, заседал в рейхстаге с 14 до 17, после чего работал в городском совете с 17 до 18, принимал участие в собрании какого-нибудь комитета прусского парламента с 18 до 19, председательствовал на встрече Берлинского медицинского или антропологического общества, или произносил какую-то речь, или снова работал в одном из комитетов с 19 до 21. И если меня спросят: «А когда он ел? Когда он создавал свои труды и занимался редакционной литературной деятельностью, перепиской, личной жизнью, наконец?» Что ж, отвечу я, это интересовало всех, кто пользовался привилегией приблизиться к этому человеку.
Казалось, что плотное расписание Вирхова только подпитывало его энергию, а не истощало ее. Он написал за свою жизнь более двух тысяч книг и документов, редактировал огромное число работ, всегда тщательно изучая каждое слово каждой рукописи, чтобы ни одна ошибка не просочилась на страницы журналов, за содержанием которых он бдительно следил. В нарастающей волне интернационализма в медицине конца девятнадцатого века он был главной движущей силой, в буквальном смысле этого слова. Постоянно присутствуя на встречах международного медицинского конгресса, он зачастую становился участником программ различных европейских научных обществ. В возрасте восьмидесяти лет во время отпуска он отправился в тур по исследовательским центрам в Лондоне, Эдинбурге, Трансильвании, Бреслау и Швейцарии. На помпезное международное празднование его восьмидесятилетия прибыли многие именитые люди со всего мира, среди которых был лорд Листер, произнесший двухчасовую поздравительную речь. Не обращаясь к своим записям, по памяти, он сделал полный обзор истории медицины и роли Вирхова в ее недавнем развитии.
Не вызывает сомнения то, что именно благодаря своей неистощимой энергии Вирхов смог столь многого добиться в жизни. 4 января 1902 года, торопясь на встречу, он спрыгнул с электрического трамвая и, оступившись, упал на улице Лейпцигерштрассе, сломав шейку бедра. Медленный процесс выздоровления потребовал месяцы вынужденного физического бездействия, подорвавшего его силы. Наконец, он оправился настолько, что смог отправиться с Роуз на лето в горы Гарц, где снова неудачно упал и вновь сломал ногу. На этот раз возникли серьезные проблемы с сердцем, и его пришлось перевезти назад в Берлин, где он и умер 5 сентября.
Похороны Рудольфа Вирхова стали публичным триумфом его жизни. Толпы его сограждан выстроились на тротуарах, чтобы отдать ему последнюю дань уважения, когда процессия двигалась по улицам города, для которого он так много сделал. Вильгельм II отправил телеграмму с соболезнованиями Роуз Вирховой. Если бы умерший, бывший атеистом, мог склониться со своего небесного трона и взглянуть вниз на нашу планету сквозь свои очки в стальной оправе, он, несомненно, был бы удивлен, узнав, что правитель его страны молился о нем Богу ради членов его семьи, оставшихся на земле. Старый дерзкий скептик, говоривший о религиозных убеждениях кайзера так же много, как и о его политике, тем не менее поаплодировал бы проницательности сообщения, которое тот телеграфировал его вдове: «Пусть Господь Бог утешит вас в вашей великой скорби, и пусть вас утешит мысль, что великого исследователя, целителя и преподавателя, посвятившего всю жизнь работе, открывшей новые пути развития медицинской науки, оплакивают и благодарят его король и весь образованный мир».
В одном из панегириков, появившемся в прессе в последующие дни, отмечалось, что со смертью Вирхова народ Германии потерял не одного, а четырех великих людей – ведущего патологоанатома, антрополога, гигиениста и либерала. В трех из перечисленных областей он заложил фундамент, на основе которого его последователи добились огромных успехов. Только его политические усилия были напрасными перед лицом непреодолимой волны реакционного национализма, охватившего страну после ее объединения. Но идеи, которые он отстаивал – демократия, культура, свобода и процветание, – достигли окончательного триумфа в Западной Европе, и сегодня там торжествуют принципы, за которые он боролся всю жизнь.
Можно сказать, что самым важным вкладом Вирхова в сокровищницу медицинских знаний является создание клеточной теории болезни, настолько же философской, насколько и научной концепции, затрагивающей самую сущность существования каждого из нас и основу наших отношений к своим собратьям. Он расширил свой тезис о базовых жизненных элементах, включив в него социальную структуру человечества и утверждая, что хотя общее направление может определяться какой-то специально созданной частью общественного организма, вклад отдельной личности имеет не большее значение, чем заслуги других.
Наставляя своих преемников, Вирхов говорил, что активность внутри клетки – это те жизненно важные процессы, которые человек пытался понять со времен далекого туманного прошлого. В результате исследований Рудольфа Вирхова и Клода Бернарда была установлена взаимная зависимость между клетками и окружающей их средой. Вслед за немцем Вирховом и французом Бернардом современные ученые открывают все большее число важнейших факторов, определяющих фундаментальные процессы существования. Для сегодняшнего студента-медика уже недостаточно изучить анатомию, физиологию, биохимию и патологию. Список дисциплин современных медицинских институтов включает курсы биологии клетки, а также биологии молекул внутри клетки и вне ее. Мембрана, окружающая базовый элемент, силы, оказывающие на него воздействие, секреты его функционирования и питания изучаются самым скрупулезным образом. Будущее основных медицинских исследований находится в руках генетиков, иммунологов и, возможно, даже психобиологов. Среди математиков, физиков, химиков и инженеров есть такие, кто никогда не был в медицинской лаборатории, и тем не менее они работают над проблемами, решение которых приведет к большим успехам в исцелении болезней в следующем веке.
Современные студенты-медики должны изучать и другие предметы. Их включение в учебную программу согрело бы эктоплазму духа Вирхова, если бы он мог о них узнать: эпидемиология, биостатистика, здравоохранение и поведенческие науки. «Нормальные условия существования» интересовали Рудольфа Вирхова не меньше, чем аномальные. Он был уверен, и время подтвердило его правоту, что поддержание и восстановление здорового равновесия между базовыми жизненными элементами и их окружением должно быть самой главной задачей как для индивидуума, так и для всего общественного организма. Он был Гиппократом с микроскопом.
В девятнадцатом веке считалось, что когда-нибудь наука непременно найдет средства, с помощью которых человечество обретет, наконец, счастье. Сегодня стало очевидно, насколько наивной была эта вера: научные открытия могут быть столь же разрушительными, сколь и благотворными, принося людям как порабощение, так и освобождение. Определять будущее человеческой расы будет не наука, а непостоянство нашей амбивалентности в отношении ее щедрых даров. Рудольф Вирхов признавал эту неопределенность, но он никогда не терял надежды, что однажды она будет преодолена доброй волей отдельных людей и целых народов. Когда воцарился мир после Франко-прусской войны между страной Вирхова и родиной Клода Бернарда, он выразил свою веру в способность индивидуумов и наций исцелять болезненные состояния общества и возвращать здоровые условия существования. Хотя в данном случае история показала, что он заблуждался, возможно, дети наших детей или клетки наших клеток увидят исполнение его надежды:
Вновь наступило мирное время, и с нашей помощью, возможно, мир науки утвердит свое влияние и, примирив умы и сердца всех людей, распространит свои идеи в нашем обществе. Тогда все граждане обеих стран смогут понять, что истинные цели их жизни и работы могут быть реализованы только на основе развития их стран; по этой причине их земля должна быть освобождена от иностранных захватчиков. Развитие наций должно вести к наивысшей в гуманистическом понимании цели, достижение которой позволит человеку выйти за узкие границы национализма в неизмеримо более высокие сферы гуманизма… Возможно, именно науке предстоит пронести сквозь годы и воплотить в жизнь прекрасный девиз «Миру – мир».
12. Забота о телесном сосуде бессмертного духа. Антисептическая хирургия Джозефа Листера
Когда король Англии Георг IV в 1821 году решил, что хирург должен удалить неприглядную кисту на его черепе, тот факт, что даже простая операция – это большой риск, его не остановил. Во времена Георга процедура такого типа сопровождалась значительно более высокой смертностью, чем операция на открытом сердце в наши дни. Главным убийцей была послеоперационная инфекция. Ее призрачный образ преследовал всех хирургов во сне и наяву каждый раз, когда необходимо было взяться за скальпель в попытке исцелить больного. В те времена для хирургов были обычным делом не только отчаянная борьба с болезнью в операционной, но также тошнотворное зловоние гниющей плоти, висящее в воздухе послеоперационных палат.
Выбранный королем хирург Эстли Купер был в ужасе от перспективы выполнить разрез на голове государя. Из различных форм инфекции он больше всего опасался рожистого воспаления. «Я очень не хотел этого делать, – писал он позже. – Я всегда был успешным, и понимал, что, если после операции начнется рожа, она уничтожит все мое благополучие и от моей репутации не останется и следа… Я был потрясен и чувствовал головокружение при мысли о том, что моя судьба зависит от такого события».
Сегодня известно, что быстро развивающееся рожистое воспаление вызывается токсическим воздействием цепочек шаровидных бактерий, которых мы называем стрептококками. Во времена Купера об этой болезни врачи знали наверняка только одно: распространяющееся вокруг разрезанных тканей с огромной скоростью яростное покраснение чаще убивает свою жертву, чем оставляет ее в живых. И если воспалительный процесс начался, ничто за исключением непонятного изменения настроения самой Природы не могло остановить его развитие. Никто не знал, что вызывало воспаление в хирургических ранах, как его можно предотвратить и как установить эффективный барьер на пути его стремительного распространения.
Так или иначе, Купер собрался с мужеством, удалил кисту и наблюдал за протекающим без осложнений процессом выздоровления своего пациента. Георг выразил свою благодарность испытанным временем способом королевских особ – он посвятил своего избавителя в рыцари. Жировик по прихоти монарха был удален, фортуна проявила благосклонность, и солнце осветило своими лучами нового британского рыцаря.
Спустя годы, пожалуй, легко недооценить, насколько пугающей была эта проблема столетие назад. Послеоперационные инфекции беспокоили врачей с каждым десятилетием девятнадцатого века все больше. Как профессиональные, так и экономические возможности хирургов расширялись, многие из врачей проходили достойную подготовку, разрабатывались новые методики, и количество операций стало увеличиваться. Вместе с тем число осложнений также умножалось. Воспаление раны стало настолько распространенным обстоятельством, что пациенты и их врачи ожидали нагноения после каждой операции. Время от времени к удивлению наблюдателей рана заживала без малейших осложнений, но такие случаи казались необычными и были совершенно необъяснимыми. Если пациенту везло, инфекция возникала непосредственно в области разреза. В этих случаях в пределах пяти-шести дней появлялась густая кремового цвета жидкость без запаха: выделяясь из раны, она свободно вытекала через ее зияющие края, которые постепенно заполнялись новой здоровой рубцовой тканью. Появление этого элювия вызывало радость и считалось верным признаком того, что рана заживает. Столь желанные выделения по понятным причинам называли доброкачественным гноем.
Позже было обнаружено, что доброкачественный гной образуется под воздействием стафилококков – сферических бактерий, группирующихся скоплениями и имеющих тенденцию локализоваться в определенных местах. По сравнению с некоторыми другими микробными недругами, часто скрывающимися в глубине ран, стафилококки были друзьями хирургов девятнадцатого века. С другой стороны, стрептококк не ограничивался томлением в ограниченных бассейнах гноя; его никак не удавалось вычистить из организма. Этот зловредный микроб прожигал себе путь от центра к периферии как не поддающийся контролю пожар, посылающий впереди себя в кровоток токсические вещества. Подобно предвестнику смерти, яд давал о себе знать высокой температурой и ознобом, сопровождавшимся клацаньем зубов. Хотя синдром был известен докторам как рожа, у его жертв имелось для него лучшее название – огонь святого Антония.
Тем не менее, несмотря на ущерб, наносимый стрептококком, некоторая надежда на то, что пациент выживет, оставалась. Но существовала и другая, обрекавшая всех своих жертв на ужасную смерть форма инфекции под названием «госпитальная гангрена». Вызывающая образование омерзительно пахнущей отвратительной массы разлагающихся тканей, она возникает в результате действия смеси микробов, часть которых мы сегодня называем анаэробными, потому что лучше всего они развиваются в отсутствие кислорода и поэтому беспрепятственно проникают в глубокие слои тканей своего беспомощного хозяина. Тошнотворное распространение этой инфекции происходит гораздо медленнее горячего румянца рожи, но ее неотвратимое неторопливое течение способно переварить каждую частичку ткани в серую вязкую некрозную жижу. В неописуемом кошмаре влажного смрада, вызывающего головокружение и пропитывающего одежду европейских и американских хирургов из поколения в поколение, она убивала все на своем пути. В каждой послеоперационной палате стояла эта невыносимая вонь.
Осложняя состояние пациентов, группа любых перечисленных организмов или содержащие их сгустки в любое время могли попасть из зараженной раны в вену, что приводило к различным типам заражения крови: септицемии и септикопиемии. Когда случалось одно из этих ужасных осложнений, сосуды становились магистралями смерти, доставляющими мигрирующие бактерии к различным частям тела, где они могли поселяться, размножаться и разрушать органы, создавая абсцессы внутри них. Рожистое воспаление, септицемия и септикопиемия, поражавшие инфицированную после родов матку, носили эпидемиологический характер, когда пациентки становились жертвами родильной лихорадки в результате оказания им медицинской помощи акушерами с немытыми руками. И как будто всего этого было недостаточно, всегда существовала опасность заражения столбняком. Хотя эта инфекция чаще встречалась при ранениях на поле боя и травмах, полученных в результате несчастных случаев на ферме, она также возникала у многих пациентов, единственная рана которых была получена в стенах больницы большого города.
Любая бактерия может попасть в протоплазму рваной или резаной раны несколькими способами, и об одном из них уже догадались некоторые провидцы, чьи наставления остались без внимания. Земмельвейс, Холмс и другие весьма логично излагали результаты своих клинических наблюдений, но никто из них не указал на то, что микробы вызывают болезни. Их теории и соображения немногих других проницательных ученых, писавших свои труды в первой половине девятнадцатого века, были преждевременно вырваны из материнской матки научных исследований. Их концепции появились на свет до того, как созрели для рождения. Им не хватило времени, чтобы, подобно ребенку при нормально доношенной беременности, их идеи благодаря исследованиям достигли такого уровня развития, когда гостеприимный мир мог бы их принять. Чтобы их рождение произошло наверняка, должна была состояться беременность совсем иного рода, начавшаяся через год после операции короля Георга: 27 декабря 1822 года в маленьком восточном французском городке Доул появился на свет Луи Пастер.
Открытия Пастера изменили медицинскую науку во многих отношениях, но самое непосредственное воздействие они оказали на понимание процесса развития хирургических раневых инфекций. Первыми пациентами, ощутившими на себе преимущества нового подхода к этой проблеме, были те, кто подвергся ампутации – наиболее распространенной операции в то время. В 1867 году в статье под названием Hospitalism («Госпитализм») сэр Джеймс Симпсон из Эдинбурга, изобретатель анестезии хлороформом, привел вызывающие некоторое разочарование статистические данные относительно этих процедур. Он изучил результаты более двух тысяч ампутаций конечностей, проведенных в госпиталях Великобритании, и обнаружил, что сорок один процент пациентов умирали, если операцию им делали в больнице, где более трехсот кроватей; основной причиной смерти была инфекция. Из двухсот пациентов, ампутации которых проходили вне стационара в сельской местности, умерли только одиннадцать процентов. Показатели послеоперационной смертности были высокими во всех больницах Европы: в Париже – шестьдесят, в Цюрихе – сорок шесть и в Глазго – тридцать четыре процента, эквивалентными данные были в Берлине, Мюнхене, Копенгагене и других континентальных городах. В Америке дела обстояли не намного лучше. В центральной больнице Массачусетса летальные исходы от ампутаций составили двадцать шесть процентов, а госпиталь Пенсильвании сообщил о двадцати четырех процентах. Симпсон был прав, предупреждая: «Человек, лежащий на операционном столе в одном из наших хирургических отделений, подвергается большему риску умереть, чем английский солдат в битве при Ватерлоо». Одним из результатов септической бойни стало уничтожение имеющих самую плохую репутацию лечебных заведений в нескольких европейских городах, некоторые из них были снесены.
Опасность развития сепсиса не позволяла достичь желаемых результатов от операции, несмотря на открытие анестезии. Угроза заражения делала невозможной вмешательство в глубокие полости тела, исключая чрезвычайные ситуации. По этой причине операции ограничивались ампутацией конечностей и удалением опухолей грудной клетки и других частей тела. Из 1924 хирургических вмешательств, выполненных в центральной больнице Массачусетса между 1847 и 1870 годами, 1098 составляли ампутации, 237 были связаны с раком молочной железы и практически все остальные затрагивали относительно поверхностные структуры организма. Процент инфицирования был высоким во всех категориях, как и смертность.
Сэр Фредерик Тревес, один из ведущих хирургов Англии конца девятнадцатого – начала двадцатого веков, получил образование в Лондоне в начале 1870-х годов. В возрасте около пятидесяти пяти лет он оставил практику и посвятил все свое время делу, в котором проявил такой же талант и умение, как в своей операционной: он стал писать книги и очерки, многие из которых рассказывали о его профессиональной жизни хирурга, а также впечатлениях, полученных им в путешествиях по миру. Из-под его пера вышел такой шедевр, как «Человек-слон». Следующее эссе из серии классических рассказов, частью которой является это произведение, носит название «Старая приемная». В нем этот одаренный писатель описывает операционную Лондонской больницы, какой она была до того, как мир узнал учение Пастера:
Лечение было весьма примитивным. Хирург был суров. Такое отношение он сохранил с тех времен, когда операции проводились без анестетиков, и ему приходилось быть резким, сильным, быстрым и не обращать никакого внимания на ощущения пациента. Боль была его непременным спутником. Она была прискорбной составляющей самой болезни. Избежать ее было невозможно…
В печи операционной всегда горел огонь, невзирая на время года и суток, поскольку он должен был быть всегда под рукой для нагрева утюгов, которые хирурги использовали для прижигания ран и остановки кровотечения, как поступали врачи еще со времен Елизаветы. Антисептиков тогда не было. В палатах свирепствовал сепсис. Практически все крупные раны были инфицированы и гноились, что и являлось наиболее распространенным предметом разговора, так как это была самая очевидная особенность работы хирурга. Гной классифицировался по степени зловредности. «Доброкачественный» считался довольно хорошим признаком, им можно было почти гордиться. «Кровянисто-гнилостный» не только отличался отвратительным внешним видом, но являлся прискорбным знамением, в то время как «ихорозный» гной представлял собой наиболее злокачественную трансформацию тканей.
Не было ни одного пациента, не подвергшегося заражению. Действительно, чистота была недостижима. Она считалась противоестественной и необычной. Палач тоже может делать себе маникюр перед тем, как рубить головы. Хирург оперировал в одежде, напоминавшей сюртук из черной ткани. Он был жестким от крови и грязным от многолетнего использования. Множество омерзительных пятен на нем являлось убедительным доказательством мастерства хирурга. Конечно, я тоже начинал свою хирургическую карьеру в таком сюртуке и очень гордился этим. На раны накладывали повязки из корпии, пропитанные маслом. И масло, и материал были однозначно и откровенно септическими. Корпия – это нити, нащипанные из износившегося хлопкового постельного белья и прочей ветоши. Современный механик, вероятно, выбросил бы их, посчитав слишком грязными, чтобы протирать ими детали автомобиля.
Сопровождающее гнойные раны зловоние в палатах забыть было нелегко. Я до сих пор могу вспомнить его без малейшего труда. В каждой палате была одна общая губка. Этим пропитанным гноем предметом и когда-то чистой водой из тазика омывались по очереди все раны пациентов палаты два раза в день. Данный ритуал уничтожал все шансы больного на выздоровление. На моей памяти был случай, когда целая палата была уничтожена госпитальной гангреной. Сегодняшний студент ничего не знает об этом заболевании. Он никогда не сталкивался с ним и, слава богу, никогда уже не встретит его в своей практике. Люди часто говорят, как прекрасно, что благодаря хирургии пациенты могли выжить в те дни. На самом же деле, не умирали лишь немногие из них.
Отношение населения к больницам и их работе в те времена, о которых я пишу, можно проиллюстрировать таким случаем. Мой хирург поручил мне получить у женщины разрешение оперировать ее дочь. Операция предполагала разрез небольшой величины. Беседа с матерью проходила в приемной. Я очень подробно обсудил с ней процедуру, как мне казалось, в сочувствующей и внушающей надежду манере. После того как я закончил свою речь, я спросил, согласна ли она на операцию. Она ответила: «О! Конечно, можно сколько угодно рассуждать о согласии, но кто должен платить за похороны?»
От всего этого гнойного ужаса и брутального безразличия хирургов мир избавил Джозеф Листер, который перенес плоды исследований Пастера из области фундаментальной науки в операционные и хирургические отделения больниц Европы. Как и многим из ученых медиков, о которых уже было рассказано в этой книге, ему сначала поверили лишь немногие из его коллег, в то время как остальные высмеивали и отвергали его идеи. Потребовались десятилетия, чтобы его работу оценили, и наука, финальным аккордом трудов Джона Хантера, вошла в операционную полноценным партнером хирургии. Как ни странно, его правоту окончательно признали только после того, как необходимость в его методах предотвращения инфицирования при хирургическом вмешательстве отпала. К тому времени были найдены лучшие способы, и все они основывались на оригинальной идее Листера, что обнаруженные в продуктах брожения Луи Пастером микробы могут послужить ключом для определения причины возникновения инфекции в ранах.
Пастер обнаружил свои бактерии в ферментированном пиве и вине, а Листер – в гнойных ранах. Тридцать пять лет спустя американский посол в Англии, родина которого была в числе последних стран, применивших триумфальный метод Листера, оценив наконец по достоинству его вклад в медицину от имени всего человечества, приветствовал его словами: «Милорд, это не Коллеги, не Нация, это само Человечество с непокрытой головой приветствует Вас».
И вновь прибегнем к помощи литературного дара тонко чувствующего писателя и хирурга. Резюмируя все критические замечания, высказанные когда-либо в адрес Листера, благодаря которому наступила новая эра истории хирургии, Фредерик Тревес, бывший свидетелем его жизни и смерти, однажды написал:
Листер воссоздал древнее искусство врачевания; он воплотил в жизнь реальность, дающую надежду, которая во все времена поддерживала усилия хирургов; он убрал барьер, стоявший на протяжении веков между великими врачебными принципами и успешной практикой; он сделал возможным исцеление, о котором до него можно было только мечтать. Сущность его открытия – как часто случается с величайшими научными находками – прекрасна в своей простоте и величественна в своем ничтожном размере. По значимости и полезности ничто не может сравниться с его заслугами в области развития ремесла хирурга. Он приблизил наступление удивительного будущего медицины; без его открытия мы бы не избавились от безнадежности беспомощного прошлого.
Джованни Морганьи научил врачей находить очаг возникновения симптомов у их пациентов внутри их органов. Листер, используя микроскоп, направил их пытливый взор на первопричину многих внутренних расстройств организма – на «бесконечно миниатюрный мир» Пастера. Он был выдающимся ученым, апостолом англоязычного мира, чего нельзя сказать о франкоязычном.
Те, кто изучал жизнь Джозефа Листера, посвящали месяцы и годы исследованию всего, что написали о нем его коллеги, и не нашли ни единого дурного слова о его характере. Когда существует так много информации о человеке и все без исключения известные данные служат доказательством своего рода врожденного благочестия, биографы, особенно современные любители разоблачений кумиров, склонны предполагать, что многие факты остались незапечатленными. Они рассматривают имеющиеся свидетельства, как чей-то сознательный выбор, мотивы которого, возможно, порочны и, кажется, всегда могут обнаружить истории о каких-то как минимум эпатирующих, в чем-то сомнительных ситуациях или вызывающих вопросы поступках. Если же это им не удается, они всегда оставляют явственное ощущение самодовольства героя собственной непогрешимостью.
С Листером дело обстояло совсем иначе. Похоже, он обладал такими качествами, как сердечность, кротость и мягкость, так что уже использованные его современниками слова, такие как «достоинство», «снисходительность», «честность», «доброжелательность» и «честь», не оставляют биографам шансов найти более подходящие эпитеты для его описания. Его оппоненты восхищались им. Даже самые неумолимые антагонисты, метавшие стрелы в его научные теории, не могли сказать ни одного грубого слова о нем как о человеке. Его жизненный путь был озарен светом милосердия, которое он черпал из философского источника веры, питавшей последние триста лет дух многих духовных лидеров. Его вдохновляли этические принципы «Религиозного общества друзей».
Эта организация впервые возникла в пуританской Англии Оливера Кромвеля середины семнадцатого века; о ее членах говорили, что они охвачены страстью своей веры, настолько «друзья» были переполнены чувством духовной силы. Хотя слово «квакер» сначала звучало в их адрес как насмешка, но вскоре они сами начали использовать его, подчеркивая свою приверженность особой миссии, просто сформулированной их основателем Джорджем Фоксом: «Ждать Господа». Эта концепция проистекает из пророчества Исаии 4:31: «Но те, кто ожидает Господа, наполнятся новыми силами; они поднимутся на крыльях, как орлы; они будут бежать, не останавливаясь; и они будут идти, не зная усталости».
Если ожидание Господа было их миссией, то движущей силой, вдохновляющей квакеров на ее исполнение, был так называемый «Внутренний свет», «частица Бога в каждом». Эта божественная сущность внутри заставляет «друга» подняться, чтобы произнести речь на богослужении, и эта божественная сущность внутри заставляет его выполнять работу во имя Бога на земле. Ни один человек ничем не лучше любого другого, и ни один мужчина ничем не лучше любой женщины. Нет иерархии, нет обряда. Для «друзей» не существует гордости и роскоши, а есть только необходимость приумножать доброту. Работа Бога на земле должна быть сделана: мир не был создан, чтобы быть забытым, он был создан, чтобы в нем жить. Собственность и мирская власть не должны быть отринуты, потому что они являются средством служения. Во времена Листера «друзей» узнавали по простой квакерской одежде серого, почти черного цвета, искреннему смирению и филантропии, они с одинаковой кротостью жертвовали деньги и дарили любовь.
Чтобы что-то дать, сначала нужно это иметь. Квакеры девятнадцатого века были трудолюбивыми работниками и умелыми инвесторами, вследствие чего многие члены общества были богаты, как и предки Джозефа Листера. Его отец Джозеф Джексон Листер торговал вином; его бизнес процветал настолько, что он смог купить прекрасный дом королевы Анны в Аптоне, который тогда был деревней, расположенной к востоку от центра Лондона. Несмотря на простой уклад жизни его обитателей, окруженный садами и полями Аптон-хаус был настоящим дворцом. Именно здесь в апреле 1827 года родился Джозеф Листер, четвертый ребенок в семье и второй сын.
В те дни членство в «Обществе друзей» оказывало влияние на каждый аспект жизни его адептов. Так как квакеры не принимали присягу и не подписывали «Тридцать девять статей» англиканской епископальной веры, крупнейшие университеты были закрыты для них, как и многие из лучших средних школ. Они не могли танцевать, охотиться и слушать музыку в своих домах. Они не интересовались спортом и развлечениями. Их мирские заботы ограничивались бизнесом, образованием и размышлениями. Неудивительно, учитывая непосредственность и честность их мировоззрения, что ум квакера часто обращался к науке. Ученые-квакеры, получившие знания самостоятельно в часы, украденные у бизнеса, в ту эпоху просвещенных дилетантов внесли значительный практический вклад в копилку научных открытий. По словам Рикмана Годли, племянника Листера, «даже в самых заурядных обстоятельствах было обычным делом обнаружить в служащем за прилавком интеллектуала, достигшего серьезных научных высот».
Среди самых выдающихся интеллектуалов, достигших серьезных научных высот, был Листер-старший – Джозеф Джексон. Несмотря на то что он оставил школу в возрасте четырнадцати лет, чтобы работать на фирме отца, импортирующего вина, он сам изучил математику и оптику, чтобы квалифицированно заниматься микроскопическими исследованиями. Одним из его ближайших друзей был работавший в больнице Гая застенчивый молодой врач Томас Ходжкин, прославившийся после смерти тем, что описал болезнь, которая была названа его именем. «Друзья» проводили микроскопические исследования характеристик крови и в результате опубликовали данные своих наблюдений, доказывающие, что красные корпускулы имеют форму двояковогнутого диска. Кроме этого, они продемонстрировали, что при определенных обстоятельствах эти дискообразные структуры имеют тенденцию выстраиваться друг над другом, как стопки монет, образуя так называемые «монетные столбики из эритроцитов».
Открытие истинной формы красных телец и их склонности к образованию столбиков было важным достижением, но позже Джозеф Джексон Листер нашел ответ еще на один вопрос, имевший еще большее значение для науки, на этот раз в оптике. Он обнаружил явление, называемое физиками-оптиками законом апланатических точек, позволившее ему разработать комбинацию линз, с помощью которой он преодолел техническую проблему, неразрешимую микроскопистами в течение ста пятидесяти лет и известную как хроматическая аберрация. За это открытие он был избран членом Королевского общества.
До тех пор микроскоп никогда не был настолько полезен для науки, насколько этого можно было ожидать. В начале семнадцатого века Галилей использовал его, чтобы рассмотреть «мух, которые кажутся размером с ягненка, покрыты волосами и имеют очень острые когти». Это описание не произвело на его современников особого впечатления. Великий астроном был слишком занят, рассматривая небо, чтобы тратить время на изучение того, что находится под самым носом, и, похоже, считал микроскопы лишь средством развлечения. Во второй половине столетия Антони ван Левенгук изготовил превосходные линзы собственной конструкции и увидел бактерии, которые называл микроскопическими животными. За этим событием последовала кратковременная вспышка открытий, сделанных при помощи микроскопа, среди которых было описание капилляров Марчелло Мальпиги, представленное в 1660 году. Но исследователи восемнадцатого века, в их числе и Джон Хантер, считали, что картины, видимые под микроскопом, представляют собой лишь опасный обман зрения. Этот скептицизм вызывало искажение изображения, возникавшее из-за относительной примитивности систем увеличения того времени. Визуальные аберрации были обусловлены сферической формой линз и их предрасположенностью разделять обычный свет на различные цвета спектра. С увеличением мощности микроскопа заметно усиливались и аберрации. Практика проведения наблюдений с применением таких искажающих линз и использованием яркого солнечного света в качестве источника освещения приводила к тому, что в полученном изображении можно было увидеть всевозможные объекты, которых на самом деле не существовало. Когда сообразительные наблюдатели поняли это, они предпочли держаться подальше от новомодных устройств и использовали простые ручные линзы.
Однако после того, как Джованни Баттиста Морганьи и его последователи доказали необходимость изучения патологической анатомии для дальнейшего развития медицины, некоторые исследователи предприняли попытки найти способ уменьшения аберрации, чтобы сделать возможным применение систем с большим увеличением. В конце концов, после ста пятидесяти лет бездействия основные проблемы были решены за какие-то четыре года. Первым шагом стало изобретение в 1826 году итальянцем Джованни Баттиста Амичи водоиммерсионной линзы, созданной на базе принципа, согласно которому свет, проходя через среды с различными преломляющими способностями, уменьшает аберрацию так же, как это делает человеческий глаз. Второе открытие на основе остроумной находки Амичи сделал Джозеф Джексон Листер.
В 1900 году в своей лекции, посвященной Хаксли, Джозеф Листер сказал: «Мой отец создал сложный микроскоп, трансформировав устройство, бывшее немногим лучше, чем научная игрушка, в мощное орудие исследования». Один из современников старшего Листера назвал его «столпом и основоположником всей микроскопии столетия». Позже этот инструмент раскроет весь свой могучий потенциал в руках Луи Пастера. Его изыскания привели, в свою очередь, к открытиям сына Джозефа Джексона, молодого человека, чья страсть к науке выросла из интереса к микроскопам, которые делал его отец.
Таким образом, молодой Джозеф Листер вырос в доме, где царствовали Бог и наука. Его мать до замужества преподавала в аквортской «школе друзей» чтение и письмо девочкам, а позже стала любящим учителем для своих малышей. Молодой Джозеф с самого начала обучения был отличным учеником. Похоже, он с самого юного возраста был очарован природой и интересовался медициной. Еще ребенком он заявил о своем намерении стать хирургом. Это решение было встречено семьей с удивлением, поскольку никто из ее членов никогда не выбирал карьеру ученого.
Его отправили в школу квакеров, окончив которую с превосходными оценками, Джозеф в возрасте шестнадцати лет поступил в университетский колледж в Лондоне. Основанный восемнадцатью годами ранее, «безбожный колледж», как его называли и почитатели, и недоброжелатели, был Оксбриджем для всех, независимо от их социального статуса или религиозных убеждений. Джозеф Джексон порекомендовал сыну получить общее образование, прежде чем начать карьеру в медицине. Такой совет и в наши дни весьма разумен и полезен, не говоря уже о том времени. Юноша начал обучение по трехлетней программе подготовки бакалавров гуманитарных наук.
В 1847 году молодой Листер продолжил учебу на медицинском факультете университетского колледжа. После столь долгого ожидания первый год обучения стал для него серьезным разочарованием. Он допустил ошибку, поселившись у пожилого квакера, обстановка в доме которого была намного мрачнее, чем в его семье; при этом он так усердно занимался, что почти не оставлял себе времени на отдых и вскоре почувствовал, что утратил присущий ему энтузиазм. В этом же году он перенес легкую форму оспы и попытался вернуться к учебе, не успев полностью поправиться. В результате у него произошел, согласно диагнозу, нервный срыв.
После безуспешной попытки справиться с депрессией и состоянием неуправляемой рефлексии в течение нескольких месяцев в начале 1848 года он наконец надолго оставил занятия в колледже. После некоторого отдыха, за которым последовало непродолжительное путешествие по Ирландии, он был готов возобновить учебу. В то время отец написал ему письмо, к которому он, возможно, не раз обращался в трудные годы, когда пытался убедить свое хирургическое братство в справедливости теории бактериальной причины возникновения заболеваний:
Поверь, мой нежно любимый сын, что главное теперь для тебя – лелеять благочестивую бодрость духа, открыть свое сердце, чтобы видеть милость и красоту, окружающие нас, и наслаждаться ими: в данный момент не следует сосредоточивать свои мысли на себе или задерживать свое внимание надолго на каких-то серьезных вещах. Ты должен помнить, как строго доктор Ходжкин предостерегал тебя о серьезной опасности, в которой находится твое психическое и физическое здоровье.
Решив жить по совету своего отца и пересмотрев свои цели, в конце 1848 года Джозеф вернулся на медицинский факультет к зимнему семестру. Сила духа, приобретенная им когда-то благодаря квакерскому воспитанию, вернулась к нему. Он знал, что́ нужно делать.
Совет Джозефа Джексона и его пример были не единственными дарами отца своему сыну. Один из его лучших микроскопов отправился с юношей в медицинский колледж и был весьма полезен ему в учебе. К тому моменту уже искусно владея этим инструментом, Джозеф проводил много свободного времени за наблюдениями. Он представил медицинскому больничному обществу две свои работы, которые удивительным образом предвосхитили направление его профессиональной карьеры. Одна из них носила название «Гангрена», другая – «Применение микроскопа в медицине», тема которой представляла особый интерес для его сокурсников, поскольку в колледже не предусматривалось официального обучения данному предмету. Он также провел оригинальные исследования некоторых микроскопических мышц: тех, что расположены в радужной оболочке глаза и тех, что поднимают крошечные волосяные стержни в коже, образуя мурашки на ее поверхности. Несмотря на объем всей дополнительной работы, он находил время для учебы и в 1852 году получил степень с отличием.
Сначала Листер служил домашним врачом, а затем девять месяцев работал лечащим хирургом – форма практики, примерно эквивалентная современной американской интернатуре. К тому времени, когда он закончил свое официальное обучение, ему исполнилось двадцать семь лет. Благодаря благополучному финансовому состоянию его семьи у него не было необходимости торопиться с практикой. В школьные годы он был особенно близок с профессором физиологии Уильямом Шарпом, который теперь предложил ему посвятить некоторое время посещению различных клиник, чтобы расширить свои представления о хирургии. Шарп был другом Джеймса Сайма, профессора клинической хирургии в Эдинбурге, и именно в это учреждение физиолог порекомендовал отправиться своему молодому протеже перед туром по европейским больницам.
За несколько дней своего пребывания в Эдинбурге в сентябре 1853 года молодой хирург понял, что в своем новом наставнике он нашел второго отца, хотя их характеры и даже их внешность были абсолютно не похожи. Листер, чуть более шести футов в высоту, с мощной грудью и красивой головой, производил впечатление гораздо более крупного человека, чем был на самом деле. Он обладал дружелюбным взглядом и прекрасным чувством юмора, был сдержанным и скромным, казалось, в нем совершенно отсутствует дух соперничества. Несмотря на свои непритязательные манеры квакера, он был культурно развитым человеком и мог свободно говорить по-французски и по-немецки. В общей сложности он отличался любезностью, которой был полностью лишен откровенный, воинственный маленький профессор, к которому он пришел учиться. У Сайма было простое лицо: некоторые считали его грубоватым и даже немного угрюмым. В то время ему было пятьдесят четыре года, он являлся лучшим специалистом в хирургии на Британских островах, его острый ум, упрямство и самоуверенность делали его грозным противником в медицинском диспуте. Казалось, что каждый из них видел в другом скрытую часть собственной личности, и тайное восхищение своим бессознательным альтер-эго позволило им стать большими друзьями.
Сайм так увлек Листера своим энтузиазмом, что тот решил остаться в Эдинбурге, хотя запланированный для этого визита месяц подошел к концу. Лоусон Тейт, видный бирмингемский хирург следующего поколения, в то время был студентом. Он оставил яркое описание феерической операции, когда профессор взял в руки свой скальпель, чтобы провести одну из тех процедур, на которые редко кто осмеливался даже в 1850-е годы. Читая рассказ Тейта, несложно понять, почему юноша, не закончив обучения, без малейших колебаний отказался от своих планов ради того, чтобы развивать свои профессиональные навыки рядом с этим блистательным мастером:
Операционный театр старого лазарета был переполнен; даже все места верхней галереи были заняты. Около семисот – восьмисот зрителей собрались, чтобы наблюдать, как Сайм оперирует ягодичную аневризму. В те дни величайший хирург своего времени был в зените своей славы и в самом расцвете сил: его рука была тверда, а глаз верным, как никогда. Он вошел в театр в сопровождении свиты именитых врачей, хирургов и ассистентов под приглушенное бормотание и приветственные аплодисменты. Среди зрителей были люди всех возрастов и профессиональных рангов, очень многие из которых приехали издалека, чтобы своими глазами увидеть акт величайшего мастерства, подобно Бикерстету из Ливерпуля, прибывшему специально, чтобы ассистировать Сайму, если я ничего не путаю, и, конечно, толпа юношей вроде меня от пятнадцати лет и старше. Пациента усыпили, Сайм застегнул свой халат, подвернул рукава, я увидел струю крови, а через несколько минут пациента переложили на каталку и аплодисменты возвестили о конце операции.
Когда профессор предложил ему официальный пост лечащего хирурга, молодой Листер не задумываясь воспользовался этой возможностью. Если у него когда-либо и были сомнения относительно своих способностей для карьеры хирурга, за время, проведенное с Саймом, они, несомненно, рассеялись. Несмотря на ужасные сцены, которые он наблюдал в операционной, и страшные трагедии, каждый день разворачивавшиеся перед его глазами, Листер поддался чарам той необычной магии, которая покоряет всех сколько-нибудь талантливых хирургов. Она захватила меня, когда я был двадцатидвухлетним студентом в Нью-Хейвене, так же как и тысячи других молодых людей, а теперь и молодых женщин в разное время в различных университетах. Независимо от любых других соображений, которыми руководствуются врачи при выборе профессии, ими управляют ощущение своего предназначения, чувство долга и внутренняя потребность быть полезными для своих собратьев по разуму. Даже глубокое интеллектуальное удовлетворение от своей работы не имеет при этом никакого значения. Хотя каждый из этих факторов, безусловно, играет свою роль, я имею в виду, что лично я получаю исключительное удовольствие от своей профессии, но сознание того, что в этом есть нечто абсурдное, делает это наслаждение еще более обольстительным. В письме к отцу Листер писал об этом чувстве радостного возбуждения:
Если любовь к хирургии является доказательством того, что человек подходит для этой профессии, то я, несомненно, создан для того, чтобы быть хирургом: ты едва ли сможешь понять, какое огромное удовольствие я изо дня в день получаю от этой кроваво-мясной специальности целительского искусства. Я все больше и больше восхищаюсь своей профессией и иногда удивляюсь, как можно постоянно испытывать такое чувство наслаждения. Меня не перестает изумлять только одно, почему люди, которые действительно любят Хирургию как искусство, встречаются так редко.
Листер планировал вернуться в Лондон по окончании своей стажировки в феврале 1855 года, но за несколько месяцев до его отъезда пришло известие о гибели на Крымской войне одного из штатных эдинбургских хирургов. Он поспешил подать заявление на вакантную должность и к апрелю 1855 года был назначен помощником хирурга в Эдинбургский королевский лазарет и преподавателем хирургии в Эдинбургский королевский хирургический колледж.
В течение почти двух лет, проведенных в Шотландии, хирургия была не единственным предметом его увлечения. Довольно часто посещая гостеприимный дом Сайма, он почти сразу начал проводить много времени в компании старшей дочери своего руководителя Агнес. Сайм, несомненно, придерживался мнения, что его юный помощник будет хорошей партией для его дочери; Джозеф Листер – старший, хотя и был очень высокого мнения об Агнес, был менее оптимистичным, поскольку в те времена квакеры, связавшие свою судьбу с людьми, не разделявшими их веру, как правило, должны были либо добровольно выйти из «Общества друзей», либо изгонялись своими собратьями по религии. В конечном счете, он смирился с неизбежным решением своего сына. Возможно, он нашел утешение в отрывке из апостольского послания, опубликованном «Обществом друзей» за год до этих событий: «Истинная религия – не в ритуалах и не в их формальном исполнении». И хотя теперь молодой муж Агнес Сайм Листер стал членом англиканской церкви, его мировоззрение осталось прежним. Он не был лучше или хуже своих товарищей, просто он немного изменился; поведение Листера не стало отличаться ни отстраненностью, ни отчужденностью, он по-прежнему был таким же особенным, как и его вновь обретенная манера обращаться к людям на «вы». Хотя он перестал носить мрачные знаки отличия квакера, он навсегда сохранил прекрасные особенности своей натуры.
Молодожены решили совместить медовый месяц с работой. Проведя четыре недели в озерном крае на северо-западе Англии, они отправились в трехмесячный тур по континенту. За исключением Парижа, больницы которого Джозеф объезжал в прошлом году, они осмотрели клиники почти всех городов, куда они заезжали. Пара побывала в Падуе, Болонье, а затем и в общественных больницах Вены – самых важных пунктах их маршрута. Четырнадцать лет назад Карл фон Рокитанский был гостем на ужине в Аптон-хаусе, теперь же знаменитый патологоанатом проводил много времени, развлекая сына хозяина этого гостеприимного дома. По понятным причинам этот визит 1856 года вызвал среди ученых множество спекуляций относительно возможного общения Листера с Земмельвейсом. Существует как минимум две причины сомневаться в том, что они действительно встречались. Во-первых, Листер позже писал о том, что узнал о работе несчастного венгра много лет спустя после открытия бактериальной причины инфекционных заболеваний. Во-вторых, даже если бы существовали серьезные основания не доверять словам человека с безупречной репутацией, известно, что в Вене не часто вспоминали о специалисте по детской лихорадке после его отъезда в Будапешт в 1850 году. Нет никаких свидетельств, подтверждающих влияние Земмельвейса на работу Листера по разработке антисептиков.
Свадебный портрет Джозефа и Агнес Листер, 1856 год. (Любезно предоставлено миссис Дэвид Доурик и семьей Листер.)
После посещения больниц Праги, Берлина, Вюрцбурга и других городов Германии новобрачные вернулись домой через Париж и поселились в доме на Ратленд-стрит в нескольких метрах от кабинета Сайма и в пятнадцати минутах ходьбы от университета и эдинбургского Королевского лазарета. Устроившись весьма комфортно, Джозеф Листер целиком посвятил себя делу своей жизни.
У него началась беспокойная жизнь клинического хирурга и исследователя. Поскольку он был практикующим консультантом и первым помощником Сайма, в его обязанности входило посещение больных по срочным вызовам в любое время дня и ночи. Хотя пока у него было немного собственных пациентов, в клинике лазарета был напряженный график обходов и процедур, к тому же постоянно требовалось время для исполнения обязанностей преподавателя, включавших подготовку лекций. В те дни не существовало компаний по снабжению биологическим материалом; ему приходилось собирать органы на скотобойне и мелких животных в ручьях и полях. Он постоянно читал французскую и немецкую литературу по физиологии и хирургии.
С самого начала Агнес стала для Джозефа научным ассистентом, личным секретарем и самым строгим критиком его рукописей. Из кухни своего нового дома они сделали лабораторию, где Листер с помощью своей жены начал широкомасштабную серию экспериментов. Его мастерство в обращении с микроскопом позволило ему вскоре внести значительный вклад в понимание структуры и принципов функционирования нервных и мышечных волокон, свертывания крови, потока лимфы и самого увлекательного из всех предмета – процесса воспаления. В кухонной лаборатории они проводили один эксперимент за другим. Результаты всех испытаний, его лекционные заметки, а позже и манускрипты педантично записывались четким разборчивым почерком его верной сподвижницы Агнес.
Письмо, написанное Листером отцу еще до своей женитьбы, иллюстрирует страсть, с которой он относился к своей научной работе:
Я давно хотел проследить процесс воспаления на лапке лягушки, поскольку, как я раньше уже говорил тебе, мне кажется, что ранние его этапы изучены не так основательно, как могли бы… Таким образом… получив лягушку из озера Даддингтон… вчера вечером я приступил к опытам… это была самая чудесная ночь в моей жизни.
Из всех проведенных Листером в начале своей научной карьеры экспериментов наибольшее влияние на ход его мыслей оказали те, что были связаны с исследованием свертываемости крови и воспалением. В конце концов он пришел к выводу, что для начала коагуляции кровь должна войти в контакт с каким-то посторонним чужеродным веществом. Другими словами, для инициации процесса свертывания необходимо активизирующее это изменение условие. Сегодня ответ на вопрос, почему кровь в артериях и венах остается в жидком состоянии, принимается за аксиому, но именно благодаря наблюдениям Листера была разрешена одна из величайших загадок того времени. Здоровая кровь не свертывается, пока течет по неповрежденному сосуду. Если внутренняя поверхность артерии или вены повреждена или разрушена, или если кровь входит в контакт с чем-то, кроме внутреннего слоя сосудов, она быстро коагулирует. Этот факт подтолкнул Листера к мысли, что другие изменения физиологии также происходят из-за вмешательства извне. Он легко мог доказать справедливость этого довода в отношении случаев воспаления. Исследуя их, он также имел возможность изучить микроскопические изменения, проявляющиеся в разлагающихся инфицированных тканях.
Репутация Листера как исследователя и преподавателя быстро росла. Когда профессор хирургии Университета Глазго объявил об уходе в отставку в 1859 году, к Сайму обратились с просьбой, чтобы он использовал свое влияние и убедил своего зятя занять освободившееся руководящее кресло и принять назначение хирургом в больницу Глазго. Долго убеждать Листера не пришлось. К марту 1860 года Джозеф и Агнес поселились в этом городе с населением чуть менее четырехсот тысяч человек. Глазго был в два раза больше Эдинбурга.
За подготовительным летним семестром осенью начался новый учебный год. В те дни инаугурационная речь считалась весьма знаменательным событием; лекция Листера в Глазго определила не только характер его руководства университетом, но и направление всей его карьеры. Когда незадолго до полудня в назначенный день он отправился в лекционный зал в окружении своих новых коллег, его взволнованная молодая жена, делавшая так много для успешного продвижения своего мужа, пытаясь успокоиться, писала письмо свекрови в Аптон. Вначале она обрисовала внешний вид амфитеатра, ремонт которого перед новым семестром она контролировала вместе с Джозефом. По мере ожидания ее беспокойство нарастало, и с набирающим силу драматизмом она описала сцену, которую визуализировала в своем воображении:
Сейчас почти ровно двенадцать. О! Надеюсь, Господь поможет ему. Он впервые надел свою мантию, не считая момента, когда примерял ее дома. Прошло около пяти минут! Скоро он начнет выступление! Надеюсь, он в порядке?
Ей не следовало так волноваться. Господь всегда был на его стороне, и этот день не был исключением. Студенты сразу почувствовали его природную сердечность и доброжелательность, а его стиль изложения лекционного материала восприняли с таким воодушевлением, как будто ждали такого преподавателя всю свою жизнь. Вначале он сделал несколько остроумных замечаний, чтобы разрядить обстановку, а затем перешел к более серьезным вещам, которые, хотя и касались хирургии, прозвучали как декларация этических принципов его профессиональной жизни. Среди прочих заявлений он привел афоризм Амбруаза Паре: «Я перевязал его, а Бог его исцелил». Он поделился своими соображениями о том, какие два средства, имеющиеся в распоряжении целителя, являются самыми важными: «Во-первых, теплое, любящее сердце; и, во-вторых, истинность его искренних усилий». Не существует полной записи произнесенной им в тот памятный полдень речи, но он, вероятно, поделился своими соображениями о медицине в выражениях, аналогичных тем, что использовал в выпускном обращении почти два десятилетия спустя:
Если бы наша профессия не приносила нам ничего, кроме денежного вознаграждения и мирских почестей, вряд ли бы мы так стремились стать врачами. Но в своей практике вы обнаруживаете особые привилегии, среди которых несравнимые ни с чем непроходящий интерес и чистое наслаждение. Наше величайшее предназначение состоит в том, чтобы заботиться о телесном сосуде бессмертного духа, и на этом пути, если мы не хотим заблудиться, нам следует неизменно опираться на истину и руководствоваться неподдельной любовью. Я желаю вам всем удачи в выполнении этой благородной священной миссии.
Всю свою жизнь Джозеф Листер посвятил заботе о телесном сосуде бессмертного духа. Все, что он делал, так или иначе было связано с его профессией. Отказ от мирских удовольствий для него и его жены был не жертвоприношением, а скорее возвышенным стремлением положить все свои силы и талант на алтарь служения Господу, исполнив свое предназначение исцелять человечество. Разумеется, призвание быть врачом не является привилегией исключительно для квакеров или благочестивых представителей других религий. Многие атеисты с честью исполняли свой долг медика. С момента этой инаугурационной лекции Листер стал любимым преподавателем студентов. Они выбрали его почетным президентом своего медицинского общества, а в конце первого учебного года сто шестьдесят один человек из учащихся собрались вместе и вручили своему профессору петицию, в которой провозгласили его «выдающиеся способности учителя хирургии».
Подготовка врачей по специальности хирурга начала проводиться в Университете Глазго совсем недавно, так что с момента его основания в 1815 году Листер стал лишь третьим руководителем кафедры хирургии, и он был первым, кто посвящал весь рабочий день преподаванию, а не выполнял свои должностные обязанности в свободное от общей практики время. В первые годы в университете он продолжал начатые ранее исследования процессов воспаления и свертывания крови. Его достижения в их изучении были так значительны, что в 1863 году его пригласили прочитать Крунианскую лекцию[21] для Лондонского королевского общества. Темой своего выступления он выбрал «Коагуляцию крови». Как и все хирурги, Листер был обеспокоен тем фактом, что практически каждый разрез, сделанный врачом, инфицировался. До тех пор, пока гной был доброкачественным, необходимость проводить дренаж гнойных ран воспринималась большинством хирургов неизбежным и естественным ходом событий. Листер не желал принимать такую точку зрения. Исследования процесса воспаления убедили его в том, что нормальное заживление должно происходить без инфицирования и разрушения тканей, но хирургия по-прежнему тонула в море гноя. Это не значит, что никто не создавал гипотез, объясняющих причины нагноения. Самая популярная на тот момент теория была проста для понимания, а отсутствие технической возможности доказать или опровергнуть ее еще больше упрощало ситуацию. Считалось, что нагноение вызывает кислород, содержащийся в воздухе: соприкасаясь с хирургической раной, он окисляет или разрушает молекулы неустойчивого органического материала, поражая таким образом ткани и превращая их в гной. Поскольку нет способа предотвратить попадание кислорода в рану, то не существует никаких методов не допустить инфицирование. Подобное объяснение было вполне приемлемым, поскольку оправдывало всех врачей: если вездесущим злодеем был кислород, ни один хирург не мог винить себя за инфицирование и сепсис. Идея о том, что какие-то инфекционные агенты могут заноситься в рану врачами, похоже, никем не рассматривалась, не считая всеми презираемого и теперь позабытого Земмельвейса и немногих других, писавших о роли медиков в этиологии послеродовой лихорадки.
Однако концепция, в которой причиной нагноения считался кислород, не удовлетворяла Листера. Если бы в этом допущении не было ошибки, то здоровые ткани инфицировались бы спонтанно, так как нормальный кровоток постоянно поставляет в них кислород. Кроме того, в своей практике он редко встречался с заражением грудной клетки, в случаях, когда сломанное ребро прокалывало легкое, выпуская из него воздух непосредственно в рану. Нет, судя по всему, существовало какое-то другое объяснение, и, по мнению Листера, причиной воспаления должно быть какое-то постороннее вещество, попадающее в разрез.
Его предположение о том, что причиной нагноения является пока не известная чужеродная субстанция, основывалось на его исследованиях процессов коагуляции и воспаления. Для начала развития послеоперационного осложнения в каждом случае требовалось наличие какого-то раздражающего или повреждающего агента. Рассуждая таким образом, он пришел к тем же выводам – хотя узнал об этом лишь много лет спустя, – что и Земмельвейс: должно существовать нечто, что, попадая в рану, вызывает инфекцию. Земмельвейс предполагал, что этот опасный агент переносится руками врачей. Листер думал, что он проникает в рану из воздуха – среды его обитания. Оставалось только идентифицировать это невидимое нечто, а затем найти способ его уничтожить.
На этом этапе место действия перемещается к югу от французского города Лилль в лабораторию тридцатичетырехлетнего профессора химии и по совместительству декана факультета естественных наук Луи Пастера. Нам придется вернуться немного назад в 1856 год, когда местный производитель свекольного алкогольного напитка сообщил профессору о таинственном происшествии, уничтожившем его винодельческий и пивоваренный бизнес, а также предприятия его коллег в округе: без какой-либо видимой причины бо́льшая часть ферментирующихся запасов напитков неожиданно испортилась, превратившись в бесполезную кислую слизь. В те годы ферментацию все считали химическим процессом (именно поэтому обезумевший от горя предприниматель пришел со своей проблемой к химику). Пастер провел несколько экспериментов, и его микроскопические исследования показали, что сахар сбраживается в спирт благодаря не какому-то безжизненному веществу, а развивающимся в сладком растворе дрожжам. В испорченных образцах винодела он обнаружил не только дрожжи, но и большое количество микробов, имеющих форму палочек. В результате этой серии наблюдений он определил, что причиной нормального брожения является действие дрожжей, а причиной скисания – действие бактерий. Так он нашел то, что позднее стал называть «миром бесконечно малого».
Конечно, Пастер не был первым исследователем открывшейся ему вселенной. С давних времен появлялись работы случайных авторов, предполагавших, что когда-нибудь будет найден возбудитель инфекции, который объяснит возникновение болезней. Некий Джироламо Фракасторо уже в 1546 году предсказывал открытие семинарий, как он их называл, невидимых микробов, которые, по его мнению, были распространителями некоторых болезней. Позже, более столетия спустя, в серии писем, которые Антони ван Левенгук с 1676 года посылал Лондонскому королевскому обществу, ученый описал микроскопических «животных», которых он обнаружил в воде, пропитанных водой органических материалах и, наконец, в соскобах с задней поверхности его зубов, а также идентифицировал бактерии, которые сегодня известны нам как стрептококки, бациллы и спириллы. Однако за все прошедшие с тех пор годы никто не взял на себя труд поискать эти бактерии в выделениях больного организма; никто не связал животных Левенгука с семинариями Фракасторо.
Позже в течение нескольких лет Луи Пастер не только установил взаимосвязь между находками двух ученых, но и экспериментально доказал, что эти микробы не возникают сами по себе в результате спонтанного самозаражения, как многие считали, а воспроизводятся из микроорганизмов, которые вторглись в изучаемый материал. Кроме этого, он продемонстрировал, что жидкость, обеззараженная кипячением, не портилась до тех пор, пока новые микробы не могли попасть в емкость, в которой она хранилась.
На своей инаугурационной ассамблее 7 декабря 1854 года Пастер выступил с обращением к Лилльскому факультету естественных наук. Слова, произнесенные им в тот день, стали с тех пор широко известным среди ученых афоризмом: Dans les champs de l’obseruation, le hasard nefavorise que les esprits Prepares, что означает: «В области наблюдений счастливый случай благоприятствует только подготовленному уму». Лучшей иллюстрацией этого утверждения, абсолютно справедливого в отношении самого автора, является идея Джозефа Листера, объясняющая инфицирование ран попаданием в них бактерий, открытых Пастером.
В 1857 и 1859 годах во французском научном журнале Compte Rendu de I’Academie des Sciences Пастер опубликовал результаты своих экспериментов по ферментации, а позже и данные своих последующих исследований. В 1865 году они попались на глаза профессору химии из Глазго Томасу Андерсону, который знал о работе Листера над решением проблемы хирургического сепсиса и обратил на статьи Пастера внимание своего коллеги. «Подготовленному уму» Листера сразу открылось, что французский химик продемонстрировал именно то, что он искал: причину разложения органического вещества, которая была идеальным объяснением возникновения раневых инфекций.
Листер снова и снова перечитывал работы Пастера, повторяя все эксперименты с помощью Агнес в своей домашней лаборатории. Он пришел к тем же выводам, что и француз: ферментация и скисание предварительно стерилизованных растворов сахара или белка всегда вызываются микроорганизмами, попадающими в них извне. Как и Пастер, он считал, что основным источником заражения являются невидимые, несущие на себе болезнетворные бактерии частицы пыли, проникающие в рану из воздуха. Поскольку невозможно изолировать послеоперационный разрез от воздуха, чтобы предотвратить заражение, необходимо найти способ уничтожить бактерии, постоянно попадающие на поверхность раны. Листер полагал, что «если бы рану можно было обработать каким-то веществом, которое, не нанося серьезного вреда тканям человеческого организма, уничтожало бы уже имеющиеся в нем микробы и не позволяло проникать новым живым бактериям, инфицирование можно было бы предотвратить, несмотря на свободный доступ кислорода из воздуха к швам». Позже он сформулировал проблему еще более простыми словами: «Когда я прочитал статьи Пастера, я сказал себе: “Так же, как мы уничтожаем вшей у больного педикулезом ребенка с помощью ядовитых средств, не повреждающих кожу головы, мы, видимо, можем использовать лекарство для ран, которое позволит нам избавиться от микробов, не травмируя мягких тканей пациента“».
Очевидно, что следующим шагом был поиск правильного ядовитого, не причиняющего необратимого ущерба снадобья для дезинфекции ран. Выбор Листера пал на карболовую кислоту, опять же благодаря своему подготовленному уму. Старейшины медицинского сообщества соседнего Карлайла успешно применяли небольшие количества этого химиката для уничтожения зловония от мусоросборников, одновременно избавляясь от неприятных запахов, приносимых ветром с близлежащих пастбищ, орошаемых загрязненными сточными водами.
Вторым неожиданным бонусом применения карболки стало очищение местного скота от простейших паразитов, которыми животные заражались на местных пастбищах. Для Листера было очевидно, что это вещество убивает организмы, которые разлагают отходы, придавая им характерный гнилостный запах. Необходимый дезинфицирующий яд был прямо под руками.
Для начала Листер решил испытать обработку карболовой кислотой в лечении сложных переломов – травм, при которых острый край раздробленной кости выглядывал из рваной раны. В таких случаях уровень инфицирования был очень высок, в результате часто требовалась ампутация, которая, в свою очередь, также приводила к нагноению. 12 августа 1865 года, по иронии судьбы, на следующий день после странной смерти Игнаца Земмельвейса в венском сумасшедшем доме, одиннадцатилетний мальчик по имени Джеймс Гринлис попал под колесо конного экипажа. Ребенка доставили в Королевскую больницу в Глазго, где обнаружилось, что его сломанная большая берцовая кость торчит наружу из раны размером чуть меньше шести сантиметров. Это была идеальная травма – не слишком загрязненная и не слишком большая – для испытания новой техники. Листер наложил на поврежденную область льняную повязку, смоченную в карболовой кислоте. Затем на ногу наложили шину и оставили в покое на четыре дня. После этого повязку периодически меняли вплоть до полного заживления раны. Процесс занял шесть недель.
Первый клинический эксперимент Листера увенчался успехом.
В последующие месяцы практически так же лечили одного пациента за другим. Из десяти случаев со сложными переломами восемь человек восстановились без каких-либо осложнений. У одного из оставшихся двух развилась госпитальная гангрена и потребовалась ампутация, но тогда Листер несколько недель отсутствовал в больнице; другой умер от потери крови, когда острый фрагмент кости пронзил большую артерию, несмотря на успешное восстановление в течение нескольких недель. Очевидно, что карболовая кислота заслуживала дальнейшего изучения в качестве антисептического средства – новой концепции дезинфекции ран.
Затем Листер направил свое внимание на изучение состояния, называемого псоас-абсцессом. Это грозное осложнение спинного туберкулеза сопровождается образованием большого количества гноя в одной из длинных мышц заднего отдела брюшной полости. Такие абсцессы развиваются до весьма значительных размеров, образуя, в конечном итоге, опухоль в паху. После ее вскрытия для дренажа в открытую рану часто попадали микроорганизмы, вызывающие госпитальную гангрену, рожистое или другого вида воспаление, приводящие, как правило, к смертельному исходу. Листер разработал методику обеззараживания кожи вокруг разреза карболовой кислотой с последующей обработкой дренированной полости густой мазью, основным компонентом которой был дезинфицирующий раствор. По сравнению с тем, что было раньше, результаты вновь оказались превосходными.
Когда новый метод обработки псоас-абсцесса зарекомендовал себя как достаточно эффективный, Листер решился применить его при ампутации. Успех был настолько впечатляющим, что в 1867 году он объявил об изобретении антисептического средства в серии из пяти статей в журнале «Ланцет». Название их было довольно длинным, так как было призвано подчеркнуть важность сообщения: «Антисептическая система: новый метод лечения сложных переломов, абсцессов и т. д.; с обозрением различных случаев нагноения».
По мере дальнейшего приобретения опыта Листер модифицировал свои методы, используя весь спектр полученных знаний. Каждое новшество вводилось с чрезвычайной тщательностью; некоторым очевидцам казалось, что ритуал дезинфекции имел такое же значение, как объясняющая его теория. Во время операции карболовой кислотой обрабатывались не только раны, но и все инструменты, а также руки команды хирургов. Тем не менее одежда, в которой Листер входил в операционную, не отличалась от обычного наряда его коллег, работавших до изобретения антисептиков. Он редко переодевал свой халат, предпочитая закатывать рукава на современный манер и поднимая воротник своего сюртука, чтобы защитить накрахмаленный воротник белой рубашки, которую он постоянно носил, от облака разработанного им антисептического спрея. Он опускал руки в раствор карболовой кислоты, протирал пропитанными карболкой полотенцами кожу вокруг запланированного надреза и приступал к работе, часто останавливаясь, чтобы омыть рану, руки и инструменты дезинфицирующим средством.
Послеоперационная обработка включала в себя периодическую смену повязок, при этом все, что касалось разреза, тоже дезинфицировалось в тумане распыленного антисептика. К концу 1869 года Листер накопил достаточно опыта в лечении ампутаций, чтобы опубликовать полученные результаты в журнале «Ланцет». Листер понимал, что для полноценного статистического анализа данных по-прежнему слишком мало, но совершенно справедливо считал, что «рассматриваемые материалы очень ценны, учитывая важность изучаемого вопроса». Ниже приводятся итоговые данные в том же виде, в каком они были представлены в выпуске «Ланцета» от 8 января 1870 года. Они говорят сами за себя:
До использования антисептика 16 смертельных случаев из 35; или 1 смерть на 21/2 случая.
Во время применения антисептика 6 смертельных случаев из 40; или 1 смерть на 62/3 случая.
Листер не включил в статистику большое количество ран, обработанных антисептиком по новой методологии и в результате излеченных без применения ампутации. Многие из них могли бы воспалиться и привести к смерти пациента, если бы их не дезинфицировали карболовой кислотой. В своей работе он написал: «Если бы за последние три года были зарегистрированы все случаи исцеления ушибленных ран рук и ног, включая многие сложные переломы, которые не считаются таковыми согласно нашей классификации, а также несколько серьезных вывихов, этого было бы достаточно, чтобы убедить самых упрямых скептиков в преимуществах системы антисептической обработки».
Публикация результатов лечения ампутации стала кульминацией работы Листера в Глазго. Период пребывания на должности хирурга в больнице Глазго, ограниченный десятью годами и не подлежащий возобновлению, закончился в 1870 году. После окончания контракта в клинике Листер не захотел остаться в университете. Несколько лет он пытался устроиться на более продолжительный срок в другие места по мере появления вакансий по своей специализации. Попытка занять должность профессора в Эдинбурге в 1864 году не увенчалась успехом. Не получил он назначения и в свою альма-матер – университетский колледж – в 1866 году. Ангажемент Листера в Глазго подходил к концу, и он уже был близок к отчаянию, когда его тестя, страдавшего церебральным тромбозом, настиг удар, буквально перевернувший жизнь его зятя. Частично парализованный, Сайм подал прошение об отставке с поста заведующего кафедрой клинической хирургии, и группа из ста двадцати семи студентов из Эдинбурга направила Листеру письмо с просьбой стать кандидатом на освободившееся место. В своем обращении они, в частности, написали: «Мы уверены, что, если вас назначат на эту должность, доброжелательность вашего характера и любезность ваших манер быстро привлекут к вам большое количество искренних и преданных последователей». Он получил эту работу в августе 1869 года, а к октябрю они вместе с Агнес вновь обосновались в Эдинбурге. Тогда ему было сорок два года. Начинались самые счастливые годы его жизни.
Хотя о доброжелательности и любезности Листера студенческому сообществу Эдинбурга было хорошо известно, новости о его достижениях в области антисептической хирургии, похоже, до них пока не дошли. Его методы широко применялись в некоторых континентальных больницах, но ни один британский хирург за пределами Глазго еще не стал адептом применения антисептиков, поверив в теорию о том, что микробы могут быть причиной определенных заболеваний и разложения тканей. Уже на этом раннем этапе начались дебаты о значении обнаруженных бактерий в инфицированных ранах. Некоторые думали, что они вторгаются в организм после того, как началось нагноение, не являясь источником инфекции. Были и другие скептики, считавшие бактерии безобидной загрязняющей примесью: они отказывались верить в то, что микробы играют какую-то роль в процессе заражения, и их не убеждало улучшение результатов Листера в лечении сложных переломов, абсцессов и пока небольшого количества ампутаций. Кроме того, существовало несколько альтернативных теорий, которые претендовали на объяснение нагноения и заражения посредством других механизмов, исключающих мародерство микробов (окисление тканей, упомянутое выше, было наименее умозрительным среди прочих). Сегодня они рассматриваются только заумными исследователями медицинской истории.
Таково было положение дел, когда Листеры переехали в свой большой новый дом под номером девять на площади Шарлотты в Эдинбурге. В последующие восемь лет, когда во всех крупных медицинских сообществах не утихали горячие дискуссии по поводу концепции, получившей название бактериальной теории заболеваний, имя Листера стало одним из самых знаменитых, а его идея – самой обсуждаемой в мире. Количество пациентов его практики и клиники увеличилось настолько, что у него появилась возможность испытать свои методы при выполнении самых разных операций, а распространение известности Листера привлекало все большее число иностранных гостей, желающих изучить его методики. Вместе с женой они снова создали кухонную лабораторию и начали работать над серией исследований в области раневой инфекции.
Его студентам казалась странной заинтересованность хирурга такими вещами, как пробирки и микроскопы. Их подкупала его уравновешенность и доброта, а также привлекала возможность научиться избегать заражения; теория, стоящая за его методологией, интересовала их мало. Вот что написал один из них Дж. Р. Лисон, посетивший своего профессора дома вскоре после его прибытия в Эдинбург:
Я инстинктивно чувствовал, что передо мной весьма необычный человек: такое редкое сочетание утонченности, таланта, доброжелательности и мягкости характера, каких я никогда раньше не встречал; он казался воплощением высоких стремлений и просто излучал эманацию доброты…
Он проводил меня к стоящему у окна длинному столу с несколькими рядами наполовину заполненных различными жидкостями и заткнутых ватными тампонами пробирок под стеклянной крышкой.
Это был любопытный набор, какого я никогда не видел. У меня не было ни малейшего представления о том, что в них и почему они заткнуты ватой; по моему опыту, экспериментальные пробирки всегда оставляли открытыми.
С величайшей тщательностью и гордостью он выбирал то одну, то другую, при этом, поднимая их и рассматривая на свет, он казался по непонятным причинам удовлетворенным их состоянием: жидкость в первой была прозрачной, во второй – мутной, а в третьей – заплесневевшей. Я, естественно, пытался проявлять академический интерес, но не мог даже себе представить, что это такое, и задавался вопросом, какую связь они могли иметь с моим визитом или с какой-либо областью хирургии. Насколько я помню, меня очень удивляло то, что столь выдающийся хирург занимался столь необычными вещами и тратил время на изучение бесполезных и далеких от своей специальности предметов.
В Эдинбурге новый профессор клинической хирургии дважды в неделю читал лекции в том большом амфитеатре, который был описан Лоусоном Тейтом. Листер преподавал физиологию и бактериологию, на основе которых он строил практическое обучение, демонстрируя все более усложняющуюся методологию обработки карболовой кислотой. Он открыл природу сепсиса и видел свою миссию в том, чтобы объяснять способы предупреждения его развития. Он полагал, что воздух кишит микроскопическими организмами, и поэтому каждая рана по своей природе загрязняется немедленно в момент выполнения разреза. Его цель состояла в обеззараживании всего, что соприкасается с открытыми тканями. Для этого он использовал растворы карболовой кислоты разной концентрации. Он даже разработал машину, распыляющую мелкодисперсное облако, в котором он проводил операции, не обращая внимания на пагубное влияние ядовитой жидкости на собственные легкие и на легкие его ассистентов.
Листер постепенно снижал концентрацию карболовой кислоты, чтобы уменьшить раздражение кожи, при этом метод антисептики в целом становился все более сложным. В окончательном виде технология предполагала, что обработанная карболкой поверхность разреза должна была укрываться слоем водонепроницаемого шелка, поверх которого накладывались ровно восемь слоев пропитанного карболовой кислотой муслина, при этом между двумя верхними помещался лист гуттаперчи. Вся резко пахнущая масса пропитывалась жидкой смолой и парафином; затем все покрывалось вощеной тафтой, пропитанной в карболке большей концентрации. Листер считал, что любое изменение методологии может привести к инфицированию. И результаты педантичного соблюдения разработанных им правил были впечатляющими. За последние три года в Глазго изобретатель новой технологии только один раз столкнулся со случаем рожистого воспаления. В редких случаях развития больничной гангрены она протекала достаточно легко. Свои достижения он подтвердил и в Эдинбурге. Количество раневых инфекций было небольшим, а низкие показатели смертности позволили Листеру проводить более сложные операции, при этом период выздоровления его пациентов был значительно короче, чем у пациентов его коллег в той же больнице. Излишне говорить, что та же ситуация сложилась и со списком умерших пациентов.
Тем не менее среди местных хирургов у него было мало последователей. Не одна книга была написана на тему, почему хирургический мир не сразу принял учение Листера. Одна из причин очевидна: не верить в него было гораздо легче. Представьте себе пятидесятилетнего хирурга на пике своей карьеры, привыкшего входить в свою операционную, переодевшись в старый сюртук, покрытый пятнами засохшего гноя и крови многих больных, и начинающего действовать без таких обременительных неудобств, как предварительное мытье рук, торопливо выполняющего обычную десятиминутную операцию, пока его пациент поспешно усыплен эфиром, и тут же готовящегося к следующей. Он не смотрел в окуляр микроскопа с момента окончания медицинской школы, где ему доводилось воспользоваться этим прибором лишь несколько раз, хотя, возможно, не было и этого. Однажды он приходит на лекцию профессора, окруженного явно не имеющим к хирургии набором колб, линз и маленьких чаш под стеклянным колпаком, который говорит, что его настоящими врагами являются маленькие невидимые существа, и чтобы расправиться с ними, он должен пропитаться до запястий в едком растворе, делать операцию в облаке кислотных паров, многократно прерывать отработанную до мельчайших движений процедуру, чтобы орошать рану и все свои инструменты химическим дезинфицирующим средством, кропотливо накладывать резко пахнущие повязки в строго определенном порядке, а затем еще и следовать очень жестким правилам перевязки в послеоперационный период. А затем представьте себе того же самого хирурга в своем клубе вечером, подносящего бокал портвейна к губам красными опухшими руками, потрескавшимися от агрессивной жидкости, которой они пропитывались в течение дня.
И, наконец, вообразите себе самое худшее. Подумайте, что должен чувствовать такой хирург, если он согласится с теорией, которая делает неоспоримым вопиющий факт, что последние пятнадцать лет своей карьеры он убивал своих пациентов, позволяя проникать в их раны микробам, которые он обязан был уничтожить.
По этим причинам многие хирурги, имеющие хорошую репутацию, считали, что концепция Листера для них неприемлема. Небольшое количество энтузиастов пытались выполнять лишь некоторую часть процедуры, чтобы не слишком обременять себя, в результате чего метод не приводил к ожидаемым результатам – нарушение технологии сводило все старания на нет, и поэтому они весьма охотно отказывались от новой теории, сочтя ее бесполезной. Сам Листер не надеялся на быстрое всеобщее признание своих идей. Он предполагал, что должно смениться поколение врачей, прежде чем бактериальная теория станет частью медицинской практики. Есть богословы, которые верят, что древним израильтянам пришлось бродить сорок лет по пустыне, чтобы люди с рабским менталитетом вымерли и появилось новое свободомыслящее постъегипетское поколение. Возможно, рассуждая аналогичным образом, Листер пришел к выводу, что обетованная земля безопасной хирургии будет дарована только новорожденному племени его последователей.
В 1874 году Листер отправил первое, положившее начало его переписке с Луи Пастером письмо с благодарностью за открытие тайны развития раневого сепсиса. Именно опыт британского профессора в практическом применении этой теории позволил понять французскому химику, что его находка микроорганизмов, вызывающих ферментацию, может быть полезна в поиске причин заболевания. В последующие годы его исследования в указанном Листером направлении привели, как отмечалось ранее, к идентификации специфических бактериальных агентов определенных инфекций и использованию аттенуированного штамма сибирской палочки в качестве прививочного материала для создания иммунитета у пациентов. Таким образом, именно благодаря переходу исследовательского процесса от Пастера к Листеру и назад к Пастеру так называемая бактериальная теория была доказана на практике.
«Клиника Гросса». Написанная в 1875 году картина Томаса Икинса с изображением операции, выполняемой ведущим хирургом Америки, решительным противником Джозефа Листера и антисептической теории. (Любезно предоставлено медицинским колледжем Джефферсона Университета Томаса Джефферсона, Филадельфия.)
Но это произойдет позже. Даже в конце 1880-х годов на страницах американских медицинских изданий продолжались ожесточенные споры об обоснованности новой концепции. Дж. Коллинз Уоррен, внук первого американца, сделавшего операцию с использованием эфирной анестезии, в 1869 году ездил к Листеру в Глазго, чтобы перенять его опыт. Позже Уоррен писал, что, вернувшись в Бостон, он попытался ввести метод антисептики в центральной больнице Массачусетса, но ему «безапелляционно заявили, что лечение карболовой кислотой недопустимо». Несоблюдение разработанных Листером правил привело к неубедительным результатам, и дальнейшие попытки применения антисептического средства больше не предпринимались.
Статьи, посвященные бактериальной теории, в американских медицинских журналах того времени появлялись редко. По мнению врачей страны, вопрос о том, являются ли бактерии причиной развития заболеваний, все еще ждал окончательного ответа. На этой стороне Атлантического океана наука еще не стала решающим фактором в медицине: всем идеям, рождавшимся в лабораториях, предпочитали сомнительные иностранные новшества. Среди лидеров американской хирургии были и такие, кто выступал против антисептики и отказывался принять бактериальную теорию Листера. Доктор Самуэль Гросс из Филадельфии, учебник хирургии которого был самым популярным в стране, не верил в то, что метод антисептической обработки может принести какую-то пользу и не желал использовать его в своей практике. В 1876 году в рамках обзора развития медицины, приуроченного к сотой годовщине независимости Соединенных Штатов, он отмечал, что его соотечественники хирурги не верят в концепцию Листера. Томас Икинс увековечил образ этого врача в своей знаменитой картине «Клиника Гросса», на которой он представлен во время операции в традиционном сюртуке без малейших признаков применения каких-либо антисептиков. Испуганная мать пациента изображена позади его руки, сжимающей окровавленный скальпель. Картина была написана в 1875 году через девять лет после того, как Джозеф Листер впервые изложил свою доктрину в самом популярном медицинском журнале на английском языке.
В тот же год, когда Гросс опубликовал свою статью, филадельфийская Столетняя медицинская комиссия пригласила Джозефа Листера принять участие в конгрессе, созванном в честь празднования столетия Америки. Президентом комиссии был не веривший в бактериальную теорию профессор из Филадельфии. Тем не менее он любезно предложил своему английскому коллеге место председателя хирургической секции, и Листер с готовностью принял почетное приглашение, рассматривая его как возможность детально разъяснить доктрину антисептики все еще сомневающимся американцам.
Однако сам Листер был встречен со значительно большим энтузиазмом, чем его трехчасовое выступление, в котором он пытался перевербовать свою аудиторию. Несмотря на всю красноречивость его доводов, их оказалось недостаточно, чтобы всерьез изменить отношение слушателей к его идеям, особенно когда он продемонстрировал сложную систему подготовки перевязочного материала. Его личные качества и целеустремленность вызывали гораздо большее восхищение, чем его антимикробная концепция. Один из обозревателей Бостонского журнала, посвященного общей медицине и хирургии, так описывал впечатления американцев: «Несмотря на улыбчивое лицо, жесткая линия рта и сияющие глаза выдают решительность его характера. Каждое его движение и слово пронизаны сдержанностью, но нет ни малейшего сомнения, что он действительно верит в антисептическую хирургию».
Однако в Европе ситуация была совсем иной. По причинам, более подробному изложению которых будут посвящены несколько следующих страниц, проживавшие на континенте и особенно немецкоязычные хирурги были по сравнению с американцами гораздо лучше подготовлены к восприятию бактериальной теории. Как только они приняли эту концепцию, использование антисептиков или эквивалентных техник стало естественным следствием. Среди первых адептов метода был Риттер фон Нуссбаум из Мюнхена, который описал свой опыт в письме Листеру: «Нас ждал один сюрприз за другим… Больше не было ни одного случая госпитальной гангрены. …Наши результаты становились лучше и лучше, время заживления сокращалось, а септикопиемия и рожа исчезли полностью». Нуссбаум выразил чувства многих учеников Листера, добавив: «Я считаю ваше открытие величайшим и самым благословенным в нашей науке, достойным стоять в одном ряду с изобретением хлороформного наркоза. Бог вознаградит вас за это и дарует вам долгую и счастливую жизнь».
В истории науки часто случалось, что именно трагические обстоятельства войны способствовали возникновению и внедрению инноваций. В короткой, но кровопролитной Франко-прусской войне 1870–1871 годов немногие хирурги, использовавшие метод Листера, смогли продемонстрировать статистику смертности, показатели которой были намного лучше, чем у подавляющего большинства их коллег. Послеоперационная гибель среди пациентов Георга Фридриха Луи Штромейера, главного хирурга шлезвиг-голштейнской и ганноверской армий, составляла тридцать шесть смертей после тридцати шести ампутаций на уровне коленного сустава. Еще более удручающими эти данные делало то обстоятельство, что Штромейер не был некомпетентным в своем деле: Филдинг Гаррисон называл его отцом современной военной хирургии в Германии. Статистика французских врачей также не вызывала восторга: из 13 173 произведенных в военных госпиталях Франции ампутаций всех видов, включая пальцы рук и ног, 10 006 закончились смертью.
После войны немецкие хирурги, вдохновленные растущим среди соотечественников авторитетом науки, начали ездить в Эдинбург, чтобы изучить методы применения антисептических средств. Вслед за ними потянулись французы, а затем и представители других континентальных стран. К моменту созыва Немецкого хирургического конгресса в 1875 году концепция Листера завоевала множество восторженных последователей. Один из самых ревностных, Риттер фон Нуссбаум взывал к своей аудитории: «Загляните в мои больничные палаты, совсем недавно опустошенные смертью. Могу сказать, что мои помощники, медсестры и я сам просто счастливы. С величайшим рвением мы подвергаем себя всем дополнительным мучениям, необходимым для лечения». Нуссбаум также написал небольшую книгу об антисептике. Переведенная на французский, итальянский и греческий языки, она способствовала быстрому распространению бактериальной теории в Европе.
Штромейер как никто другой среди немецких врачей был признателен Листеру за его открытие и зашел так далеко, что написал хвалебную поэму, названную его именем. Он сам сделал перевод, поэтому, читая ее, следует проявлять снисходительность, поскольку его благие намерения несколько омрачены неважным качеством его германизированного английского. Вот первая строфа, звучащая так, как будто это пародия, сочиненная для выпускного шоу в какой-то современной американской школе медицины. Не следует придавать особого значения тому факту, что личное местоимение, относящееся к создателю антисептики, написано с большой буквы, как будто он был Создателем и всех нас. Хотя из-за этого стихотворение становится слегка похоже на оду Богу, следует помнить, что немцы рассматривают такое написание своих существительных и местоимений как само собой разумеющееся:
Спустя несколько недель после Немецкого хирургического конгресса Джозеф и Агнес Листер вместе с четырьмя членами семьи его брата отправились в тур по континенту, во время которого они планировали также посетить немецкие больницы, чтобы оценить эффект применения антисептической обработки. После путешествия по Франции и Италии они объехали Мюнхен, Лейпциг, Берлин, Галле и другие города. Нуссбаум встретил их в Мюнхене, а в Лейпциге в их честь был устроен банкет, на котором присутствовали около трехсот пятидесяти профессоров, врачей и студентов. Это был яркий незабываемый вечер. Почетного гостя развлекали шутливыми песнями, специально написанными для этого случая, среди которых была одна под названием «Неразбериха с карболкой». К сожалению для потомков, ее текст, похоже, не сохранился. Профессор Карл Тирш предложил тост за здоровье лауреата и отметил, что антисептике, как и многим другим великим изобретениям, предстоит пройти три этапа на пути своего развития: «Первый, когда все, с улыбкой покачивая головой, говорят: “Все это чепуха“, второй, когда пожимают плечами и бросают презрительно: “Это просто вздор“ и, наконец, “О, это старая история, нам давно об этом известно“».
Вызвав недоумение у все еще скептически настроенных хирургов англоязычных стран, 19 июня 1875 года в журнале «Ланцет» этот визит в Германию был описан следующим образом: «Путешествие профессора Листера по университетским городам Германии, которые, как нам кажется, он посещает в основном, чтобы посмотреть, как на континенте проводится антисептическое лечение, приобрело характер триумфального марша». Такой же прием ожидал его четыре года спустя, когда он присутствовал на Международном медицинском конгрессе в Амстердаме. Его приветствовали продолжительной овацией, стоя, по свидетельству Британского медицинского журнала, с «энтузиазмом, не знающим границ», а президент профессор Дондерс произнес в его честь панегирик: «Мы выражаем вам восхищение и благодарность от всех нас и от лица всего человечества».
Тем не менее соотечественники Листера, как и большинство американцев, по-прежнему не могли преодолеть второй этап, описанный Тиршем. Хотя все большее число молодых британских хирургов вставали на сторону антисептики, почти все более опытные профессора, преподававшие в крупных лондонских больницах, невозмутимо оставались в оппозиции. Поскольку дела обстояли таким образом, Листер понимал, что не смог убедить людей, чье одобрение ценил особенно высоко. Но в 1877 году произошло событие, полностью изменившее ситуацию. После смерти главного хирурга медицинской школы Королевского колледжа в Лондоне эту должность предложили Джозефу Листеру.
Сначала его коллегам казалось непостижимым, что он может оставить одну из самых престижных школ в мире, какой в то время был институт в Эдинбурге и перейти на службу в учебное заведение явно более низкого калибра. Мало того, что это был шаг назад с академической точки зрения, но ему пришлось бы отказаться от процветающей частной практики, обширных клинических возможностей для изучения пациентов в Королевском лазарете и своих многочисленных прилежных студентов. Вместо всего этого он получит враждебное его учению и недовольное постоянно растущей международной популярностью ученого окружение. Когда его студенты узнали, что их любимый преподаватель всерьез рассматривает полученное предложение, они вручили ему петицию с семью сотнями подписей, умоляя его остаться.
Куда бы ни отправился Джозеф Листер в Эдинбурге, его везде встречали с благодарностью и любовью. И со всем этим счастьем и благополучием ему предстояло распрощаться. Студент Джон Стюарт оставил нам одну из многих выразительных зарисовок, которые в последующие годы были созданы учениками, описывающими своего наставника таким, каким Листера видели они сами и его пациенты. Он использовал цитату из сочинения Уильяма Эрнеста Хенли, автора знаменитого стихотворения «Непокоренный», написанного в то время, когда он был пациентом Листера в эдинбургском Королевском лазарете:
Мои самые счастливые воспоминания о днях, проведенных в Эдинбурге, связаны с воскресными посещениями больницы. Для Листера это был способ отдохнуть. У кучера и лошадей был выходной, поэтому Листер приходил в лазарет пешком. Эта картина и сейчас стоит перед моими глазами… Кто-то говорит: «А вот и наш начальник идет!», и мы наблюдаем через окно, как наш герой минует маленькие боковые ворота, непринужденным быстрым шагом спускается по склону с легкой тростью в руке и счастливым созерцательным выражением на красивом лице. Дежурный хирург встречает его у главного входа, и через несколько минут они входят в палату. Студенты замолкают и сосредоточиваются, лица пациентов светлеют. Интересно, был ли где-нибудь еще в мире хирург, чьи ученики испытывали к нему такое же благоговейное восхищение, а пациенты – такое доверие, любовь и откровенное обожание. Он не мог не замечать этого, «лицо этого скромного и простодушного великого человека одновременно доброе, горделивое и застенчивое» озарялось искренним удовольствием, а «мягкое выражение спокойной задумчивости» становилось еще мягче, когда он начинал обход больничных палат.
Но его друзья и ученики забывали о глубоко укоренившемся в нем чувстве долга квакера. Фундаментальное направление концепции «Внутреннего света» «Общества друзей» было связано с мистикой и глубокой приверженностью евангелизму.
Для Листера переход в Королевский колледж был неизбежной частью его миссии, основной целью которой он видел убеждение в справедливости бактериальной теории каждого врача, все еще сомневающегося в этом. Он ни секунды не колебался в том, что должен принять предложение о переезде в Лондон. К октябрю 1877 года супруги перебрались в просторный дом номер двенадцать на улице Креснт-парк, недалеко от прекрасных садов на Риджентс-парк. Профессор взял с собой в Лондон четырех опытных ассистентов, чтобы они помогли ему в создании новой учебной программы и выполнении главной задачи его миссии. Для бездетных Листеров они были как приемные сыновья. Среди них был и Джон Стюарт.
Так же, как в Глазго, Листер выступил в Королевском колледже с инаугурационной лекцией. Его аудитория, ожидавшая услышать подробный рассказ о хирургических операциях, была разочарована докладом нового профессора о своих новых научных исследованиях. Стоя за лабораторным столом, уставленным пробирками, колбами и другими разнообразными аксессуарами бактериолога, он говорил о непонятных вещах, до которых им не было никакого дела. Услышав вежливые аплодисменты в конце лекции, Листер и его четверо учеников решили, что начало их деятельности было удачным. Но вскоре они осознали свою ошибку. Судя по рассказу Стюарта: «Следующие несколько недель нас преследовало гнетущее чувство изоляции. Казалось, что сотрудники охвачены чудовищной апатией, невероятной инертностью к новым идеям, немыслимым безразличием к свету, так ярко сияющему, на наш взгляд».
За первые несколько лет работы в Королевском колледже Листер не добился большого прогресса в своей агитационной кампании. Количество посещающих его лекции сократилось до десяти – двадцати не особенно заинтересованных студентов по сравнению с тремя – четырьмя сотнями энтузиастов, заполнявших аудиторию каждый раз, когда он выступал в Эдинбурге. Студенты быстро сообразили, что он не рассказывает им ничего, что могло быть полезным на экзаменах в Королевском хирургическом колледже, поскольку эту пытку проводили клиницисты, для которых бактериальная теория и все связанное с наукой было пустым звуком.
Хотя Листер чувствовал горечь и разочарование, он никогда не выражал ни малейшей враждебности или нетерпения тем, кто игнорировал его или порочил его доктрину. Его помощников не удивлял спокойный вздох смирения, которым профессор отвечал на критику его идей. И лишь мимолетная тень грусти, иногда появлявшаяся на его лице, выдавала его чувства. Давно привыкшие к тому, что их руководитель обходится лишь деликатным замечанием, когда они допускают какие-то ошибки, теперь его эдинбургские сотрудники как никогда отчетливо осознали величие, на которое может быть способен человек, даже когда окружающие насмехаются над делом всей его жизни. Чтобы поднять себе дух, они часто вспоминали слова из книги притчей Соломоновых, которые их профессор постоянно повторял в заключение своих лекций, как в Шотландии, так и здесь, в Англии: «Милость и истина да не оставят тебя: обвяжи ими шею твою».
Лишь немногие из английских врачей становились слушателями небольшой аудитории Листера, но, как и в Эдинбурге, все чаще появляться в больничных палатах и заполнять многочисленные свободные места лекционного зала начали постоянные визитеры из Европы. Ведущие хирурги с континента отправили своих протеже изучать его методы. В мемуарах сэра Сент-Клэра Томсона, занимавшего в то время должность главного хирурга, есть информация о том, что в больнице висели знаки запрета курения на французском и немецком языках для иностранных посетителей. В некоторые дни зрительный зал олицетворял собой все мировое медицинское сообщество: среди шестидесяти европейских хирургов, занимавших передние места, было не более десяти английских студентов. Нередко профессор читал бо́льшую часть своей лекции на одном из языков знака, запрещающего курение.
Таким образом, Листер был отчасти пророком и в своей стране, особенно среди соотечественников-хирургов. (Многие патологоанатомы, понимавшие значимость научных достижений, быстро приняли бактериальную теорию возникновения некоторых болезней и оценили по достоинству его методы, впрочем, как и другие врачи, обладавшие некоторым опытом исследований в области физиологии.) Листер по-прежнему верил, что так или иначе истина одержит победу. Томсон описывает случай, когда однажды он остановился рядом с шефом на ступеньках больничной лестницы, после особенно энергичной атаки, предпринятой одним упрямым коллегой против учения Листера. Это произошло в 1883 году. Пятидесятишестилетний профессор выслушал все аргументы, которые многократно приводили его противники. Утомленно и со спокойной уверенностью он пообещал своему юному ученику, что непременно наступит день, когда его методы будут использоваться повсюду. Затем, изменив своей обычно мягкой манере разговора и привычной невозмутимости, он немного повысил голос и с едва заметным налетом суровости заявил: «Если специалисты не осознают их справедливость, то о них узнает общественность, и юристы заставят следовать им».
Тому, что англичане так неохотно применяли или даже вовсе не воспринимали антисептику, было несколько причин. Среди них, конечно же, и тот факт, что методы Листера были настолько сложны, что многим, кто их пробовал, просто не хватало терпения соблюсти все правила. Но главная проблема была связана с наукой, точнее, с общим низким уровнем ее развития в Англии даже три четверти века спустя после смерти Джона Хантера. Научные наследия Хантера и Галена имеют нечто общее: их самые важные принципы особенно ярко проявляют свою значимость не столько при их соблюдении, сколько при их нарушении. Положение дел на тот момент прекрасно описал проницательный редактор в начале 1878 года в одном из выпусков «Ланцета»:
Истина заключается в том, что это скорее научный вопрос, чем проблема хирургии, вот почему с энтузиазмом встреченная немецкими учеными и с трудом принятая частично подготовленными шотландцами антисептическая доктрина никогда не была хоть в какой-то степени понята и оценена сдержанными и прагматичными английскими хирургами. К счастью для их пациентов, они в течение долгого времени практиковали значительную долю антисептической системы, полагаясь на свой чисто английский инстинкт; подобно тому, как прекрасная леди говорила прозой, не догадываясь об этом.
Ситуацию, описанную редактором «Ланцета», прекрасно иллюстрирует пример вышеупомянутого Лоусона Тайта, имевшего на зависть низкий уровень инфицирования в серии гинекологических операций, при выполнении ни одной из которых, как ему казалось, он не соблюдал правила, продиктованные бактериологической теорией. В 1887 году в своей программной речи, обращенной к филиалам Британской медицинской ассоциации Бирмингема и графства Мидленд, он отверг возможность обоснованности бактериальной теории возникновения заболеваний, произнеся знаменательные слова: «Применение выводов, полученных из лабораторных химических колб с мясным бульоном, к процессам, протекающим в живых тканях, – это сущий вздор» и «Мне нет никакого дела до микробов». Он насмехался над концепцией Листера и выражал презрение к его идее бактериального заражения, лежащей в основе разработанной им доктрины: «Когда Листер достигает успеха в хирургии своим простым способом и тем более, когда на сцене появляются его немецкие ученики, полные энтузиазма и совершенно свободные от предубеждений, я сомневаюсь и невольно испытываю опасения». Он неоднократно предлагал перевязать раны высохшими гнойными повязками, просто чтобы уличить Листера во лжи. Он приписывал высокий уровень исцелений в своей практике активному использованию дренажных трубок и абсорбирующим выделения повязкам, а также своему личному «чисто английскому инстинкту». Последнее обстоятельство на самом деле было гораздо важнее прочих. Известно, что Тайт тщательно мыл руки перед операцией и настаивал на очищении оборудования и инструмента в большом количестве горячей воды с мылом. Хотя он, возможно, и не верил, что бактерии вызывают нагноение, тем не менее он волей-неволей уничтожал их, прежде чем они могли попасть в хирургические раны. Он неосознанно проводил профилактику, позже известную как асептика. В один прекрасный день он сильно огорчился, обнаружив, что полученные им результаты стали убедительным доказательством той самой теории, которую он стремился высмеять.
Был еще один важный фактор, тормозивший распространение методов Листера среди английских и американских медиков: они оказывали упорное сопротивление мощному и, в конечном счете, всеобъемлющему движению, которое уже начало проникать в немецкую хирургию. Я имею в виду новые приоритеты: осторожно и скрупулезно выполненные операции с применением антисептиков и анестезии приходили на смену быстрым, до мельчайших движений отточенным манипуляциям. Оправданно трудоемкая оперативная техника самого Листера была примером грядущих перемен. Время впечатляющих спектаклей с демонстрацией мастерства приближалось к концу. Теперь не было необходимости ампутировать ногу за тридцать секунд, как это делал Роберт Листон, чтобы вызывающий воспаление кислород не успел попасть в рану, а больной пациент не успел высвободиться из железных тисков, удерживающих его мускулистых помощников. Профессия хирурга нуждалась в специалистах нового типа – осмотрительного научного технолога, который обращался бы с человеческими тканями деликатно и бережно, без применения грубой силы с ослепительной скоростью. Такими хирургами были Фредерик Тривз в Англии и Уильям Стюарт Холстед в Америке. Их концепция все больше становилась частью повседневной медицинской практики, так же, как бактериальная теория и научный подход в целом. Хирург старого образца был скорее театральным исполнителем, чем экспертом в нарушениях физиологии. И конечно, он не был ученым. С внедрением методов Листера многие опытные хирурги стали чувствовать себя отставшими от жизни стариками, на смену которым идет молодое поколение с талантами и навыками, не имеющими ничего общего с теми, что когда-то позволили их учителям добиться своего успеха. Эпоха отживших свой век хирургов заканчивалась, но они были полны решимости отложить свою отставку до тех пор, пока это возможно.
Тем не менее даже в госпитале Королевского колледжа к концу 1870-х годов появились некоторые признаки того, что по-прежнему яростное сопротивление антисептической доктрине начало ослабевать под напором неопровержимой научной правоты Листера. Старший профессор Джон Вуд посетил его больных и был настолько впечатлен увиденным, что в ноябре 1878 года обратился к Листеру с просьбой о помощи в применении антисептической технологии при выполнении двух операций – удалении зоба и опухоли яичников. Оба пациента выздоровели без каких-либо осложнений. Хотя Вуд был на три года старше Листера и слишком закостенел в своих профессиональных навыках, чтобы менять их, он поверил в справедливость бактериальной теории. Это было особенно замечательно потому, что именно его все прочили на место, которое занимал теперь его соперник, при этом он был одним из самых ярых противников Листера. В сложившихся обстоятельствах, возможно, можно извинить его довольно резкое утверждение, что в Германии антисептики нужны потому, что «немцы грязные люди… в Англии в них нет никакой необходимости».
Однако другие ведущие лондонские хирурги, подобно Вуду, начали признавать достоинства не только практического применения методов Листера, но и убедительность принципов, вытекающих из бактериальной теории. На встрече, состоявшейся в больнице Сент-Томаса в декабре 1879 года, Листера приветствовали те же люди, которые когда-то были его оппонентами. В 1883 году Александр Огстон, бывший ученик из Абердина, написал ему письмо, под которым вполне мог бы подписаться любой из постоянно возрастающего числа его последователей: «Вы изменили хирургию, особенно оперативную хирургию, превратив ее из рискованной лотереи в безопасную, основанную на науке область медицины; вы лидер современного поколения хирургов-ученых, и каждый рассудительный и достойный профессионал, особенно в Шотландии, относится к вам с нечасто встречающимся уважением и преклонением». Вскоре после этого королева Виктория посвятила Листера в рыцари. По иронии судьбы, это произошло в тот же год, когда он, стоя с Томсоном на лестнице Королевского колледжа, был на грани отчаянья из-за того, насколько медленно мир постигал его учение.
С этого момента фортуна решительно повернулась лицом к нему, скорее, даже лицом к науке. Призы и награды посыпались на только что посвященного сэра Джозефа со всех сторон. Теперь он стал рыцарем Прусского ордена и кавалером Датского ордена, получил медали и различные почетные звания, среди которых была докторская степень от Оксфорда и Кембриджа, институтов, в которые сорок лет назад Листер не мог поступить из-за своей принадлежности к религиозному обществу квакеров. Он был награжден премией Франции Будэ за применение открытий Пастера в медицине и орден Пруссии за заслуги. Медицинские общества по всему миру тут же сделали его своим почетным членом.
Постепенно методы Листера и бактериальная теория все в большей степени становились частью повседневной медицинской практики. Пастер продолжал свои исследования, получая все более убедительные доказательства того, что именно микробы провоцируют развитие инфекционных заболеваний. К тому же тридцатичетырехлетний немецкий бактериолог Роберт Кох в 1876 году впервые идентифицировал специфическую бактерию, вызывающую конкретную болезнь, продемонстрировав с помощью серии простых, понятных экспериментов, что бацилла, выделенная из крови страдающих сибирской язвой животных, является прямым агентом, вызывающим связанные с этим заболеванием патологические изменения при введении их в организм здоровых животных. Результаты исследований Коха вскоре были подтверждены Пастером, который, как отмечалось ранее, разработал метод вакцинации против сибирской язвы, используя бациллы с ослабленной патогенностью. В 1878 году Кох опубликовал свою монументальную работу «Исследования этиологии инфицирования ран», в которой связал шесть различных видов хирургических инфекций с шестью различными бактериями. Эта статья стала последним недостающим фрагментом доказательства идеи Листера, вдохновленного научными изысканиями Пастера. Последние сомнения в бактериальной теории были окончательно развеяны. Ее справедливость оставалась под вопросом только для не связанных с наукой людей и Лоусона Тайтса, по-прежнему относившегося к ней с недоверием.
Парадоксальность медицины в это время ощущалась как никогда. Некоторые ученые, и Листер в их числе, пришли к осознанию того, что в воздухе роится гораздо меньшее количество микробов, чем считалось ранее. В результате сэр Джозеф решил отказаться от применения едкого карболового спрея. Но некоторые более молодые медики зашли в интерпретации этого факта гораздо дальше. Они пришли к выводу, что организмы, вызывающие воспаление и нагноение хирургических ран, не попадают в них из атмосферы, а заносятся иным путем. В то же время они догадались, что тело обладает защитными свойствами, которые делают его невосприимчивым к малым дозам бактерий, обитающим в воздушном пространстве. Таким образом, очевидными источниками основного загрязнения ран были руки и инструменты медицинского персонала – врачей и медсестер. Раневая инфекция была одним из феноменов, существовавших на этой земле задолго до Уолта Келли и героя его комикса Пого, сказавшего бессмертные слова: «Мы встретили врага, и оказалось, что он – это мы сами».
Из вышеперечисленного следовало, что дезинфицировать необходимо не рану, как считал Листер, а скорее каждый посторонний загрязненный бактериями предмет, который соприкасается с тканями организма. Так родилось учение об асептике.
Антисептики предназначались для дезинфекции самой раны, поскольку считалось, что заражение возникает из-за контакта с воздухом. Асептика направлена на скрупулезную стерилизацию всего, что коснется области операции. Ее сторонники полагали, и были совершенно правы, что разрез, выполненный на неинфицированных тканях, остается неинфицированным, если в него не попадают загрязненные микроорганизмами предметы. Необходимо, чтобы руки хирурга были тщательно вымыты, его инструменты обеззаражены кипячением, а накладываемые на раны повязки стерилизованы. Стерильный разрез может быть сделан стерильным скальпелем, который держит стерильная рука, только после того, как кожа пациента стерилизована дезинфицирующим средством, будь то карболовая кислота или любой равнозначный по эффективности препарат. Пропитанному болезнетворными бактериями старому сюртуку пришлось уступить дорогу свежевыстиранному стерильному халату. Таким образом, прозорливость Игнаца Земмельвейса, урожденного венгра, исследования француза Пастера, работа англичанина Листера и немца Коха подготовили мир к встрече нового научного открытия.
Теперь настал момент, когда учение Джозефа Листера перестало быть инновационным. Бактериальная теория, на основе которой он разрабатывал свои антисептические методы, теперь требовала их замены на асептику. В сущности, асептика является профилактикой, а антисептика – терапией. Лучше предотвращать попадание инфекции в рану, чем лечить ее, когда уже начался воспалительный процесс. Исключая случаи с загрязненными до вмешательства хирурга ранами, антисептика стала менее полезной, поскольку лежащая в ее основе теория получила всеобщее признание, а ее первого апологета стали считали не иначе, как Мессией хирургии. В 1883 году Густав Нойбер из Киля построил частную больницу на основе главного принципа асептики, согласно которому микробы должны уничтожаться до, а не после того, как они вступят в контакт с пациентами. Он разработал пылеулавливающую систему вентиляции и первым начал оперировать в хирургической шапочке и халате. Уильям Стюарт Холстед из Балтимора положил начало использованию резиновых перчаток в 1889 году. Рожденный в России Эрнст фон Бергманн, работавший профессором хирургии в Берлине, в 1886 году ввел стерилизацию с помощью пара и заложил основы современного асептического ритуала для хирургов в 1891 году.
В конечном счете, антисептические методы Листера следует рассматривать как переходный этап. Превосходные результаты, полученные практикующими их специалистами, подтвердили практическую обоснованность бактериальной теории и доказали, что хирурги должны применять достижения науки в своей ежедневной работе в больницах. Но как только бактериальная основа инфекции была окончательно установлена в лабораториях Пастера и Коха, звездный час концепции Листера подошел к концу. В конечном счете, Джозеф Листер заслуживает хвалебной оды от благодарного человечества не за разработанные им методы, а за то, что он указал своим коллегам-хирургам истинную причину нагноения в ранах и продемонстрировал им научный образ мышления, который мог исправить существующее положение.
Однако одно из достижений Джозефа Листера, практически в своей первоначальной форме, живо и по сей день. Я имею в виду его совершенный кетгутовый шовный материал, безопасно использующийся в хирургических операциях и сегодня. Не желая отвлекать читателя от противомикробной борьбы чем-либо, что могло бы помешать пониманию ее напряженности, я до сих пор опускал одно из самых значительных практических нововведений, когда-либо сделанных в оперативную технологию.
Со времен классической Греции струны музыкальных инструментов делали из кишечной оболочки овец и других животных. Некоторые древние авторы описывали использование таких струн для соединения кровеносных сосудов; с этой же целью кетгут применял Гален, называя его graciliu chordaru. Его величайшим достоинством была способность рассасываться в заживающих тканях. Но техника сшивания кровеносных сосудов то использовалась, то забывалась; каждые несколько сотен лет ее открывали заново. Например, в свое время кетгут взял на вооружение Амбруаз Паре. В дни Джозефа Листера этот материал использовался только для струнных инструментов и, возможно, для спортивных ракеток разного рода. Вообще-то, его название было образовано от kit-gut (набор для кита). Кит – это маленький музыкальный инструмент типа скрипки, которым обычно в шестнадцатом – восемнадцатом веках владели учителя танцев. Похоже, что оба слова kit и gut происходят от греческого названия лиры, арфы и лютни kithara (китара).
Когда Листер начинал свою работу по антисептике, большие кровеносные сосуды соединяли с помощью нерассасывающихся нитей или металлических проводов, которые хирург вытягивал из связки, продернутой сквозь петлю для пуговицы своего грязного сюртука. Концы этих лигатур оставляли достаточно длинными, чтобы они выходили за пределы разреза. Таким образом, их могли удалять через мягкие разлагающиеся ткани после начала воспаления. Это действие иногда сопровождалось опасным кровотечением из поврежденных сосудов и часто приводило к смерти больного. В ранах, обработанных антисептическим методом, инфекции развивались гораздо реже, а это означало, что оставался единственный способ удаления инородного тела из организма: повторное открытие раны.
В поисках шовного материала, который мог бы рассасываться и поглощаться тканями Листер вспомнил про кетгут. В 1868 году он начал большую серию экспериментов и разработал идеальный способ его подготовки к операции – стерилизацию в карболовой кислоте. Он обнаружил, что кетгут растворяется в организме примерно через неделю, но этот процесс можно замедлить, пропитав его солями хромовой кислоты. Хотя в последнее десятилетие изобретено несколько разновидностей синтетических абсорбируемых шовных материалов, в мире нет ни одной операционной, где значительная часть хирургов не использует обыкновенный так называемый хромированный кетгут в качестве предпочтительных лигатур для определенных типов тканей.
В годы работы Листера в Королевском колледже у него было больше свободного времени, чем в Глазго и Эдинбурге. Поначалу небольшое количество пациентов вызывало у него досаду, но вскоре он оценил полученную возможность для неторопливой работы в лаборатории, а иногда и отдыха. Даже после расширения со временем его лондонской частной практики он оставался свободным от многих административных и преподавательских обязанностей, которые занимали слишком много времени в Шотландии. Его популярность как преподавателя в британских медицинских обществах значительно возросла, и он с тем же евангельским рвением, которое привело его в Королевский колледж, принимал каждое приглашение, которое мог втиснуть в свое расписание. На седьмом Международном медицинском конгрессе, состоявшемся в Лондоне в 1881 году, Луи Пастер представил его Роберту Коху, при этом оба ученых отзывались с братской похвалой о научной работе Листера.
И самое важное, что Джозеф и Агнес Листер стали все чаще проводить вместе выходные. Он научился ловить рыбу нахлыстом. Не то чтобы он был большим энтузиастом этого дела, просто такое хобби позволяло ему выезжать за город и отдыхать в тишине наедине с женой, которая присоединялась к нему в этих экспедициях. Вместе они наблюдали за птицами, отдаваясь этому увлечению с тем же воодушевлением, с которым годами проводили научные исследования. Племянник Листера Рикман Годли написал биографию сэра Джозефа, в которой воспроизвел одну из похожих друг на друга страниц дневника, где пара описывала свои птичьи исследования. Этот документ является ярким свидетельством всестороннего товарищеского партнерства супругов на протяжении всей совместной жизни. Речь в записях шла о 23 апреля 1891 года. Эскиз птицы и рассказ о проведенных наблюдениях сделал сам сэр Джозеф, а остальная часть текста на странице принадлежит леди Листер.
Хотя Листер присутствовал на многих медицинских конгрессах и собраниях, самым ярким и незабываемым для него стало грандиозное празднование семидесятилетия Луи Пастера, состоявшееся в Сорбонне 27 декабря 1892 года. За год до этого в июле сэр Джозеф ушел в отставку из Королевского колледжа, достигнув предельного возраста шестидесяти пяти лет. Теперь он приехал во Францию не только как представитель Лондонского и Эдинбургского королевских обществ, но и как самый активный распространитель учения Пастера. Он обратился к собранию с красноречивым адресом на французском языке, при этом последнюю часть он произносил, глядя прямо на великого ученого, гений которого он превозносил в своей речи. Когда он закончил, Пастер, еще не полностью оправившийся после перенесенного инсульта, медленно поднялся на ноги, с трудом пробился к трибуне и, обняв Листера обеими руками, поцеловал его в каждую щеку. Это был исторический момент, особенно трогательный своей неожиданностью.
В следующем марте Листеры покинули холодный Лондон, отправившись на курорт Рапалло Итальянской Ривьеры, чтобы насладиться самыми первыми лучами весеннего солнца. Там леди Листер заболела пневмонией. Не прошло и недели, как верная жена и соратница ученого умерла. В тот день Листер потерял часть своей души. Когда судьбы двух людей переплетаются настолько тесно и все жизненные достижения являются общими, вряд ли можно легко забыть о проведенных вместе тридцати семи годах и не почувствовать себя потерянным. Джозеф Листер никогда не переставал тосковать по своему лучшему другу. Хотя он проживет еще девятнадцать лет, он уже не будет испытывать те же чувства оптимизма и воодушевления, которые переполняли его рядом с Агнес. Он продолжал получать награды и почести, которые обычно ждут великих людей на склоне их дней, но без Агнес они не приносили ему былого удовлетворения. В 1895 году его избрали президентом Королевского общества; в 1897 году ему присвоили титул пэра. Джозеф барон Листер стал первым медиком, получившим столь высокую привилегию. В его восьмидесятый день рождения в 1907 году, торжественно отмечавшийся по всему миру, в Вене было проведено специальное «собрание в честь Листера», где все пятьсот присутствующих зрителей встали со своих мест и устроили громкую овацию, когда проекция портрета ученого появилась над трибуной. Он скромно принял благодарность мира в одиночестве.
Барон Листер продолжал писать и публиковать свои работы, пока недуги с годами не подточили его силы. В конце 1909 года в одном из выпусков «Ланцета» и в Британском медицинском журнале вышла его статья о кетгутовой лигатуре. Но со временем его зрение и слух начали подводить его. Рикман Годли рассказал о печальном визите к своему дяде в последние дни его жизни: «Он задумчиво посмотрел на нас и сказал, что ему многое нужно сказать. Но, увы, он не успел поделиться своими последними мыслями».
В течение нескольких часов создатель стерильной хирургии впал в беспамятство. Он умер утром 10 февраля 1912 года. Большая публичная прощальная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве, но барон Листер оставил конкретные указания, что не желает быть похороненным там. Он упокоился на кладбище в Западном Хэмпстеде, рядом со своей возлюбленной Агнес.
13. Развитие научной медицины в Америке. Уильям Стюарт Холстед из госпиталя Джонса Хопкинса
Поздно вечером в третью пятницу ноября 1983 года автобус мускулистых студентов старшего курса из Гарварда отправился в Нью-Хейвен штата Коннектикут, чтобы на следующий день принять участие в футбольном матче с командой йельских крепышей. Это было сотое состязание между двумя учебными заведениями, чье спортивное противостояние имело большое значение для развития спорта в американских университетах и часто сопровождалось оглушительным шумом в средствах массовой информации и шквалом публикаций в прессе. За несколько дней до этого имена легендарных звезд, капитанов и тренеров прошлых лет запестрели в спортивных колонках газет большинства городов на северо-востоке страны. Были напечатаны даже биографии всех воплощений бульдога по кличке Красавчик Дэн – талисмана йельских команд. Все тосты были сказаны, бокалы выпиты (на самом деле, воспитанники университетов могут переплюнуть любого заправского алкаша), и все новые события, связанные с соперничеством давних конкурентов, отмечались всеми принятыми в таких случаях способами. Но ни одно имя кого-либо из футбольных знаменитостей обоих заведений, независимо от величины их таланта, в печати не было названо.
За исключением одного. Шестого декабря 1873 года, за два года до этого многообещающего инаугурационного состязания, Йель вывел первую в истории страны футбольную команду против отборного состава англичан, называвших себя Итонским колледжем. Современные сражения на зеленом поле, захватывающие внимание миллионов американцев каждый осенний уикенд, проходят по правилам, которые берут свое начало с этой легендарной встречи. За чередой многих матчей, состоявшихся в следующем столетии, имя капитана победоносной йельской команды было забыто. Речь идет об Уильяме Стюарте Холстеде, двадцатиоднолетнем выпускнике из Нью-Йорка.
Крепко сбитый молодой атлет был безразличен к наукам; назвать его успехи в обучении средними было бы большим преувеличением. После долгих изысканий один из его биографов был вынужден заключить: «В Йельской библиотеке отсутствуют записи о том, что он брал какие-то книги». Обучаясь также беспечно в Андовере, Холстед, как и многие его друзья, интересовался только спортом, не уделяя внимания интеллектуальной деятельности, которой следовало быть основной в жизни студентов Лиги Плюща. Футбол был не единственным его увлечением. Он был игроком бейсбольных команд группы и курса; а также был достаточно хорошим гимнастом, чтобы принять участие в представлении, устроенном ради сбора средств для его клуба по гребле. На фотографиях, сделанных в то время, он предстает красивым денди в безупречно сшитом по фигуре костюме (хотя и слегка лопоухим), в котором каждая деталь выдает отпрыска богатой семьи.
Отец этой комбинации Бо Браммела[22] и Фрэнка Мерриуэла[23] был президентом Холстед, Хайнс и Ко., семейного предприятия по импорту текстиля, учрежденного в конце девятнадцатого века. Предки старейшины Холстедов поселились в Хемпстеде, Лонг-Айленд, в 1660 году. В невесты он выбрал девушку из очень хорошей семьи – свою двоюродную сестру Мари Луизу Хайнс. Холстеды жили в городском доме на пересечении Пятой авеню и 14-й улицы в Манхэттене и за городом в Ирвингтоне штата Нью-Йорк. Именно в этом созвездии квинтэссенции американской аристократии 23 сентября 1852 года впервые взошла новая звезда Уильяма Стюарта Холстеда.
Определенно кое-кто из колдунов-врачевателей отправился к огромным владениям Холстедов, чтобы доставить младенцу, рожденному с серебряной ложкой во рту, подарки, которые будут развернуты и станут приятным сюрпризом лишь в отдаленном будущем, после окончания бессмысленного пребывания в Йеле. Если существовало какое-то растение, которое слишком долго росло в корень и зацвело с опозданием, то это ниспадающий из чаши с белыми разводами на листьях цветок Лиги Плюща, о так и не открывшихся в университете талантах которого никто не подозревал до того момента, пока его срок был уже почти на исходе. Логически продолжая витиеватую ботаническую метафору до ее конечной точки, можно сказать, что когда лепестки его интеллекта наконец раскрылись, распространяемой ими пыльцы хватило на все невозделанное поле тогдашней американской хирургии. В результате появились ростки нового духа, продвинутой технологии и в подлинном смысле этого слова оригинального типа лидерства. Для их описания использовалось прилагательное «холстедианские».
Профессионализм Холстеда достиг зрелости в особенно благоприятное время для развивающейся американской медицины. Большинство доморощенных врачей получали образование в основном в рамках старой двухлетней системы обучения с дополнительной, ежегодной, длящейся обычно три-четыре месяца стажировкой в одной из медицинских школ, принадлежащей, как правило, врачу-преподавателю. Те немногие студенты, которые могли позволить себе более качественную подготовку, традиционно отправились в страны Европы. В дни юности Холстеда чаще всего это были Германия и Австрия. Большинство начинающих врачей, не имевших возможности перенять европейский опыт, не знали даже основ научной медицины. Исключение составляли только те, кто мог получить какую-то информацию из рук более квалифицированных коллег или из журналов.
Пока сохранялось такое положение дел, в американской медицине царило затишье. Наука была основой всех новшеств в древнем искусстве исцеления, а их источником служила лаборатория. В 1870-х годах в медицинских школах США практически отсутствовали такие исследовательские центры. Чтобы совершенствовать дальше свою профессию, новому поколению американских врачей следовало обучиться методам интерпретации современных знаний и технологий, количество которых нарастало лавинообразно. Для этого требовались доступные тогда только в Европе виды обучения, а также взаимодействие с учеными и оснащение оборудованием, которое редко встречалось в Америке. Для выполнения поставленных временем задач американское медицинское образование должно было сменить место обучения с принадлежащих врачам частных школ на академическую атмосферу университетов.
Ориентиром служила немецкая система, а ее прототипом в Соединенных Штатах – медицинская школа Джонса Хопкинса в Балтиморе. Велением судеб Уильям Холстед станет первым профессором хирургии в этом первом американском медицинском колледже, обучающем по полноценной университетской программе. Эта возможность была вспышкой молнии среди темных туч, следствием ряда событий, которые помогли пережить личную трагедию и воспарить в высь, доступную только вписавшим свои бессмертные имена в историю медицины. Уильям Стюарт Холстед, завернутый в роскошные пеленки в городском доме своей семьи в Манхэттене тем поздним сентябрьским утром 1852 года, к тридцати пяти годам был близок к катастрофе. Но он смог возродиться и стать человеком, которого по праву называют отцом американской хирургии.
Медицинская карьера Холстеда, в которой позже он достигнет неоспоримых успехов, во время его жизни в Йеле была лишь на уровне эскизного проекта, о чем сам он написал годы спустя: «В колледже все свои силы я посвящал исключительно атлетике. В последний год обучения я приобрел учебник анатомии Грея и книгу по физиологии Дальтона. Они показались мне весьма интересными. Тогда же я посетил несколько клиник Йельской медицинской школы». Вероятно, он имел в виду амбулатории штата Нью-Хейвен, учреждения, в которых работали преподаватели медицинской школы. Там выпускники набирались опыта, поскольку руководство больницы Нью-Хейвена не предоставляло преподавателям и учащимся института полномасштабного доступа к подопечным стационара. Клиника открылась в 1871 году. Вскоре одного здания стало недостаточно, и появились другие, более просторные корпуса, один из которых во время учебы Холстеда располагался на Краун-стрит, всего в нескольких кварталах от студенческого городка. Невольно задаешься вопросом, посещал бы равнодушный к наукам молодой спортсмен клинику, если бы она находилась на другом конце города, а не совсем рядом с его апартаментами? Поскольку, невзирая на то, что дядя Холстеда был врачом, нет никаких свидетельств его заинтересованности медициной в юные годы. Таким образом, география города, возможно, определила выбор его жизненного пути. Однако более вероятно, что именно его увлеченность книгой Дальтона сыграла решающую роль.
Независимо от того, что стало основополагающим стимулом, осенью 1874 года Уильям Холстед поступил в нью-йоркский медицинский колледж, где его влиятельный отец был членом попечительского совета. Хотя официально это учреждение считалось медицинским филиалом Колумбийского университета, на самом деле оно функционировало абсолютно независимо. Фактически оно принадлежало преподавателям факультета, как и все восемь медицинских школ Нью-Йорка в то время.
Согласно правилам колледжа, каждому учащемуся, которых в 1874 году насчитывалось пятьсот пятьдесят человек, назначался персональный наставник из штата педагогов. Ментором Холстеда был профессор анатомии Генри Б. Сэндс, который в 1879 году станет преподавателем практической хирургии. Холстеду повезло не только с выбранным мэтром. Он был настолько удачлив, что стал учеником ассистента автора его любимой книги по физиологии Джона К. Дальтона. Холстед не только прошел трехлетний курс обучения, но, по-видимому, испытал удивительную метаморфозу: он получил степень магистра с отличием. Он входил в десятку лучших студентов своей группы, особо отличившись на устных экзаменах, где представил работу под названием «Противопоказания к хирургическому вмешательству». Высокие оценки давали ему право принять участие в конкурсном письменном экзамене, победителю которого полагалась награда в сумме ста долларов. Холстед выиграл этот приз. К стажировке в те дни можно было приступить до официального присуждения докторской степени. Интернатура Холстеда началась в октябре 1876 года в больнице Бельвью и продлилась восемнадцать месяцев. Впоследствии он служил лечащим врачом в нью-йоркской больнице с июля по октябрь 1878 года.
Трансформация, начавшаяся в последний год его обучения в Йельском университете, теперь была завершена. Щеголь и спортсмен, который когда-то, беззаботно прогуливаясь, преодолевал несколько кварталов до амбулатории Нью-Хейвена, начал серьезно изучать медицину. Следующий шаг, особенно с учетом наличия финансовых возможностей, был неизбежен. По окончании службы в нью-йоркской больнице Холстед на два года отправился на пароходе в Европу для дальнейшего обучения. 4 ноября 1878 года молодой врач прибыл в Вену, где овладевал знаниями до следующей весны. Бо́льшую часть двухлетнего пребывания на континенте он работал в крупнейших немецкоязычных клиниках и ведущих мировых медицинских центрах.
Эти учреждения в период со второй половины девятнадцатого века до первой мировой войны служили фундаментом для развития медицинского образования и научного прогресса по ряду веских причин. Их превосходство основывалось, прежде всего, на специфике организации университетов. Большая часть студентов и младших преподавателей, стремящихся освободить высшее образование от мертвой хватки государственных министерств и синекур, предоставляемых в те дни более опытным консервативным профессорам, поддерживали революцию 1848 года. И хотя в политическом смысле она закончилась поражением, в академических кругах произошли серьезные изменения. Была провозглашена свобода в методах преподавания и обучения (Lehrfreiheit und Lernfreiheit), что привело к созданию более либеральной атмосферы в образовательных учреждениях. Вакантные должности на факультетах занимали утвержденные правительством высококвалифицированные специалисты, выбранные из нескольких выдвинутых коллегами кандидатур. Такая свободная и открытая конкуренция наряду со значительным количеством хорошо организованных государственных университетов побуждала молодых выпускников становиться высокопродуктивными уважаемыми преподавателями. Проводились исследования, служившие фундаментом для дальнейших разработок, и каждое новое открытие давало еще больше возможностей для новых достижений в лабораториях и клиниках. Поскольку медицина Франции и Англии утратила прежние лидерские позиции, а американская все еще находилась в относительном младенчестве, молодые врачи из всех западных стран и некоторых частей Азии приезжали учиться в Германию, Австрию, Швейцарию и Чехословакию.
С дореволюционных времен американцы отправлялись в Европу, чтобы учиться и набираться практического опыта в Англии и Франции; теперь каждый американский выпускник, который мог себе это позволить, приезжал в немецкий город, проживал в местной семье достаточно долго, чтобы овладеть языком, а затем отправлялся в путешествие, объезжая один медицинский центр за другим. Для врачей общей практики это было преимуществом; для любого юноши, желающего совершенствовать навыки в своей специальности, это была абсолютная необходимость.
Согласно данным, приведенным Томасом Боннером в подробном исследовании такого феномена, как массовое обучение американских медиков в немецких университетах; по крайней мере, от сорока до пятидесяти процентов ведущих врачей Соединенных Штатов, родившихся между 1850 и 1890 годами, проходили подготовку в Германии. В главе «Немецкий магнит» он утверждает, что «не менее десяти тысяч американцев в период с 1870 по 1914 год получили официальное медицинское образование в Вене». Имперский город Австро-Венгрии был, по словам Уильяма Генри Уэлша, «Меккой американских практиков». Ведь в Вене, кроме прочих привлекающих будущих докторов достопримечательностей, преподавал руководитель хирургической университетской клиники, самый известный тогда профессор Теодор Бильрот.
Холстед посещал его лекции и операции, а также работал в лаборатории с одним из его ассистентов Антоном Вельфлером, с которым они стали близкими друзьями. К тому же он уделял много внимания изучению анатомии, старательно овладевая искусством микроскопических исследований. За время, проведенное в Европе, он побывал в Вюрцбурге (где учился у Альберта Келликера), Лейпциге, Берлине, Киле, Галле, Гамбурге и вновь вернулся в Вену, где провел зиму 1879–1880 годов. К моменту возвращения домой он обладал ценным опытом работы с признанными в наши дни пионерами современной медицинской науки, внедрявшими новые методы лечения пациентов. Под их руководством он начал свои изыскания в области патологии, медицины, анатомии, эмбриологии и хирургии. Хотя он очень мало общался непосредственно с Рудольфом Вирховом, он получил знания теоретических основ учения, созданного «Папой немецкой медицины» от его верных последователей.
Масштабные лабораторные исследования, производимые немецкими учеными в области микроскопической анатомии, патологии, бактериологии, физиологии и химии, начали находить практическое применение в клинических новшествах, связанных с асептикой и хирургическими технологиями. Для экспериментаторов это было время открытий, а атмосфера немецких больниц была залогом неограниченных возможностей. Читая рассказ Холстеда о проведенных двух годах в Европе, понимаешь, что именно тогда в нем сформировался ученый, который всю жизнь будет применять взвешенный научный подход в своих клинических исследованиях. Хотя он создаст ставшую позже общеизвестной американскую школу хирургии, он до конца своих дней останется под влиянием немецкой научной мысли или, как выразился его коллега Уильям Ослер, «очень онемеченным».
Холстед вернулся в Нью-Йорк в сентябре 1880 года. Его богатый и разнообразный европейский опыт в сочетании с очевидным талантом делали его одним из самых уважаемых молодых хирургов в городе. Признание его способностей и энтузиазма, а также, надо признать, его связи открыли перед ним многочисленные возможности. Похоже, он не упустил ни одной. Анализируя следующие четыре года, трудно представить, как ему удалось так многого добиться за этот короткий период. За гиперактивность своей деятельности, поднявшей с реактивной скоростью его авторитет до небесных высот, ему пришлось заплатить чудовищную цену.
Способный молодой хирург стал демонстратором на кафедре анатомии медицинского колледжа. Доктор Сэндс предложил ему объединить их хирургические практики. Холстед согласился, и они начали прием в больнице Рузвельта, где позже Холстед открыл амбулаторное отделение. Возможно, он поступал таким образом, руководствуясь опытом, полученным за годы учебы в Йеле в клинике Нью-Хейвен, которая создавалась не только для ухода за пациентами, но и для обучения студентов-медиков. Много лет спустя в письме Уильяму Уэлшу Холстед писал, что в течение трех лет проводил в амбулатории каждое утро, не исключая воскресений, вплоть до весны 1884 года. Этот факт поражает, особенно если учесть объем и разнообразие работы, которую, как следует из его слов, он успевал выполнить во второй половине дня и вечером.
В 1881 году он получил назначение врача по вызову в благотворительную больницу – крупное государственное учреждение на острове Блэквелла. Хотя целью его визитов к пациентам было оказание им медицинской помощи, его профессионализм так впечатлял стажеров больницы, что, когда у них было время, в чрезвычайных ситуациях они с готовностью помогали ему проводить отдельные хирургические манипуляции в операционной во время его вечерних посещений. В 1883 году его обязанности расширились: он поступил на должность хирурга-консультанта в больницу для иммигрантов на острове Уорд штата Нью-Йорк. Эта работа занимала почти все его вечера. В том же году он стал хирургом по вызову в больнице Бельвью, где подружился с выпускником Йельского университета, также прошедшим обучение в Германии патологом Уильямом Уэлшем. Кроме этого, он служил хирургом в больнице «Чэмберс-стрит», где пациентам оказывали скорую помощь. К длинному списку забот к концу нью-йоркского периода прибавилась должность хирурга в пресвитерианской больнице. Он был все время занят, выглядел счастливым и быстро приобрел репутацию отличного, способного на риск хирурга, яркого лидера медицинского сообщества Нью-Йорка.
Те, кто работал с Уильямом Холстедом в Балтиморе, запомнили его как методичного, довольно высокооплачиваемого и самого востребованного профессора хирургии. Его бурная профессиональная деятельность в Нью-Йорке резко контрастировала со строгим имиджем, который Холстед приобрел позже, и еще больше с его поразительно сдержанной общественной жизнью в Балтиморе по сравнению с его неугомонностью в Нью-Йорке. Он арендовал жилье и офис вместе с Томасом Макбрайдом, успешным врачом на несколько лет старше Холстеда. Расположенная на 25-й улице, между Мэдисон и Четвертой авеню, холостяцкая берлога всегда была проходным двором, куда на обеды и музыкальные вечеринки собирались состоятельные молодые люди разных профессий и увлечений. Их дом располагался прямо за углом университетского клуба на перекрестке 26-й и Мэдисон-авеню, и веселые пирушки Холстеда-Макбрайда распространялись на оба здания. Многообещающий молодой хирург имел репутацию гостеприимного хозяина, хорошего компаньона и звезды университетского клуба боулинга.
Оживленная яркая жизнь в Нью-Йорке за несколько коротких лет сменилась периодом вялотекущего мучительного существования. Но прежде чем это произошло, он успел многого добиться, заложив основу важнейших достижений в области исследований и образования, которыми впоследствии Холстед будет знаменит. Известен один случай, красноречиво иллюстрирующий роль Холстеда в популяризации асептической хирургии среди своих упрямых коллег. Как и большинство американских врачей, хирурги Нью-Йорка скептически относились к теории бактериального инфицирования ран и принципам антисептики Листера. Вскоре после назначения Холстеда в больницу Бельвью для него стало очевидно, что надлежащий уровень стерилизации был недостижим в операционных этого учреждения. Благодаря своему европейскому опыту он был уверен в необходимости асептических мероприятий и отказывался делать операции в неудовлетворительных условиях. С помощью некоторых из его многочисленных друзей он собрал 10 000 долларов, чтобы возвести на территории больницы огромный навес, который мог бы служить его персональным операционным павильоном. Установленный на ровном полу из кленовых досок шатер снабжался газом и горячей водой. В тенте были сделаны окна для вентиляции и освещения. В таких контролируемых условиях Холстед имел возможность практиковать асептические методы, которые он освоил за границей. Почти через двадцать лет после первой публикации Джозефа Листера.
За период с 1883 по 1886 год, проведенный в Нью-Йорке, Холстед опубликовал и представил медицинскому сообществу в общей сложности двадцать одну научную работу на различные темы. Уже в первой статье он обнаружил дар предвидения. Ее название «Реинфузия крови при лечении отравления окисью углерода» также весьма знаменательно, поскольку эта работа, почти забытая среди более поздних трудов Холстеда, свидетельствует о том, что он был одним из первых хирургов, применивших прямое переливание крови. В статье он описывает спасение умирающего от отравления угарным газом человека, привезенного в больницу на Чэмберс-стрит. Он слил кровь из руки пациента, осторожно взбалтывая, очистил ее от фибриновых сгустков, одновременно обогащая ее кислородом из воздуха, а затем перелил обратно пациенту с добавлением небольшого количества донорской крови. В той же публикации он описал успешное переливание крови от донора («дородного немца-филантропа») пациенту с сепсисом и реанимацию одиннадцатилетнего мальчика после травматического шока. В последнем случае вместо крови он использовал солевой раствор. Техника аутотрансфузии и метод оказания эффективной экстренной помощи при кровоизлиянии путем внутривенного вливания солевого раствора были открыты заново через столетие после того, как Холстед рассказал о них в своих работах.
Факты, о которых сообщалось в этой публикации, не были первыми случаями переливания крови, сделанными Холстедом. Это событие произошло несколько лет назад в чрезвычайной ситуации. В 1881 году он отправился в Олбани штата Нью-Йорк, чтобы навестить свою сестру. До ее дома он добрался как раз в тот момент, когда она рожала. Вскоре его поспешно подвели к постели, где она лежала бледная, с едва уловимым пульсом из-за сильного послеродового кровотечения. Спустя несколько лет в своих заметках он написал: «Остановив кровотечение, я перелил моей сестре свою кровь, набрав ее шприцем из своей вены и сразу же впрыснув ей. Это было большим риском, но она была так близка к смерти, что я решился и добился быстрого результата». Это произошло за двадцать лет до того, как трансфузия стала совершенно безопасной благодаря открытию Карлом Ландштейнером групп крови в 1901 году в Вене.
А теперь о крушении, или выражаясь точнее, о фениксе. Легендарный египетский феникс – это самец птицы с исключительно красивым оперением, что как нельзя лучше соответствует предмету нашей истории. Говорят, что он сделал погребальный костер, на котором сгорел, а затем возродился из собственного пепла. Рассказ о фениксе – это один из классических мифов о воскрешении, которые без труда можно найти в литературе, Священном Писании, а также в биографиях некоторых мужчин и женщин. Он имеет множество вариаций, начиная возрождением целых наций и заканчивая модифицированной, популярной среди наших современников формой под названием «кризис среднего возраста». В случае с Уильямом Холстедом погребальный костер был посыпан кокаином.
О кокаине также сложено немало легенд. История первого его применения в искусстве исцеления, на самом деле, была приукрашена до такой степени, что точность описанных обстоятельств во все времена вызывала сомнения. Ниже следует краткое изложение версии, которую принято считать правдивой.
Несмотря на множество известных газетных заголовков, утверждавших обратное, в развитии медицинской науки насчитывается несколько неожиданных открытий, имевших прорывное значение. В реальности редко можно указать точную дату в качестве конкретного момента изобретения чего-либо. И все же, столь же необычными, сколь и знаковыми в истории анестезии можно назвать два дня. В первый из них – 16 октября 1846 года – Уильям Томас Грин Мортон впервые с помощью эфира погрузил в сон пациента перед хирургическим вмешательством в штате Массачусетс. Вторая дата – 15 сентября 1884 года. День, когда на собрании Немецкого офтальмологического общества в Гейдельберге доктор Йозеф Бреттауэр зачитал сообщение двадцатишестилетнего младшего преподавателя Венской медицинской школы, который не мог позволить себе расходы на поездку, чтобы представить свою работу лично. Небогатый исследователь, врач Карл Коллер описывал в своем ошеломляющем докладе короткую серию экспериментов, проведенных в течение нескольких недель прошедшего лета, доказывающих, что поверхность глаза может быть обезболена несколькими каплями кокаина – алкалоида, извлеченного из листьев американской коки erythroxylon coca. С 1862 года было известно, что этот препарат вызывает онемение слизистой оболочки полости рта (перуанские индейцы, разумеется, знали об этом многие века), но почти два десятилетия его анестетическое свойство никак не использовалось в практической медицине, пока двадцативосьмилетний невролог из Вены, некий Зигмунд Фрейд, не начал экспериментальные исследования по изучению его влияния на центральную нервную систему. Именно Фрейд предложил своему другу Коллеру начать собственные разработки в области возможного применения кокаина.
Новость об обнаружении местного анестетического действия этого вещества облетела хирургические сообщества по всему миру, и тут же начались опытные исследования в ряде крупнейших европейских центров. В собственной больнице Коллера старый друг Холстеда Антон Вольфлер изучал вопрос эффективности препарата в общей хирургии. Неизвестно, по личной инициативе или после знакомства с отчетом Гейдельбергского собрания, опубликованного 2 октября 1884 года в журнале «Медицинские записки», но Холстед начал собственную серию экспериментов. Он привлек небольшую группу своих коллег, а также ряд студентов-медиков к работе по изучению методов локальной инфильтрации и приемов блокировки основных нервных стволов. Участники экспериментальных групп проводили как самостоятельные, так и совместные исследования. В ходе работы молодые ученые познакомились с возбуждающим действием препарата. Не подозревая о том, что он способен вызывать привыкание, некоторые из них вдыхали измельченный в порошок кокаин, чтобы раздвинуть границы переживаемых ощущений. Небольшая порция вещества превращала самый скучный вечер в театре в феерию на грани истерики. На демонстрацию друзей приглашали домой, чтобы потенциальных участников исследования не могли увидеть посторонние.
Холстед и его соратники возлагали большие надежды на свои исследования, но цена, которую лично каждому из них пришлось заплатить за успех в решении этой задачи, была слишком велика. Некоторые из них стали наркоманами, включая их лидера. Несмотря на большое количество собранных данных, в сентябре 1885 года Холстед опубликовал свою единственную короткую статью о кокаине в Нью-Йоркском медицинском журнале. Написанное в момент, когда его зависимость достигла апогея, это исследование ужасающе выделяется среди других его работ, отличающихся точностью и ясностью изложения. Достаточно привести первое предложение, чтобы проиллюстрировать, до какой степени ухудшилось его состояние, и объяснить, почему не было дальнейших публикаций:
Не важно, сколько способов применения можно описать наилучшим образом, но невозможно понять, почему хирурги, имея при этом значительный интерес, который никак их не дискредитирует, едва уделяют внимание такому предмету, как местная анестезия, которая предположительно, если не наверняка, весьма полезна для большинства врачей, и особенно для них, все же я не думаю, что это обстоятельство или необходимость спасти хоть часть репутации хирургов, а не убеждение в том, что существует возможность в значительной степени помочь другим, заставило меня несколько месяцев назад взяться за написание более или менее внятной статьи на эту тему, которую плохое состояние здоровья мешало мне закончить.
Из небольшой группы молодых врачей, которые стали кокаинистами, у всех, кроме Холстеда, профессиональная и личная жизнь были в конечном итоге абсолютно разрушены. Даже его сосед по комнате Томас Макбрайд, который не принимал участия в исследованиях, похоже, стал наркоманом. Менее чем через год после публикации статьи он умер при подозрительных обстоятельствах на борту судна на обратном пути из Европы после путешествия, предпринятого для восстановления после какой-то неизвестной болезни. Корабельный доктор делал ему инъекции раствора то ли кокаина, то ли морфина из бутылки, которую пассажир сам принес на судно. Концентрация наркотика в растворе была известна только Макбрайду.
Что касается Холстеда, употребление кокаина положило начало его битве против отчаяния, угрозы физической гибели и уничтожения профессиональной карьеры длиною в жизнь. Все золотые кирпичи свершений, из которых выстроен памятник его славы, опираются на фундамент, заложенный им в состоянии нирваны, сначала вызываемом кокаином, а позже морфином.
Хотя он так и не смог избавиться от своей зависимости от наркотиков, Холстеду удалось ослабить их удушающую хватку. В конце концов, он очистился достаточно, чтобы вновь вернуться к работе, мыслить почти всегда ясно и казаться незнакомым коллегам скорее неординарно эксцентричным, чем вечно сражающимся с постоянной потребностью в морфине человеком. В этом смысле он победил свою зависимость. После его переезда в Балтимор даже те, кто знал о его нью-йоркской катастрофе, кажется, поверили, что последствия тех событий остались позади. Те, кто знал Холстеда лучше, хранили его тайну; они даже не обсуждали это между собой. Они лгали, объясняя причудами гениального интроверта его часто неадекватное поведение, ежегодные поездки в одиночестве в небольшие европейские отели и многочисленные эпизоды либо внезапного исчезновения из больницы, невзирая на срочные запланированные мероприятия, либо долгого отсутствия. То, о чем никто не говорил, было абсолютно очевидным: бесстрашный, даже дерзкий молодой хирург, чья карьера стремительно двигалась вперед к большому личному и профессиональному успеху в Нью-Йорке, прибыл в Балтимор, преобразившись в замкнутого, осмотрительного, маниакально увлеченного исследователя, находившего наибольшее удовлетворение, похоже, в неторопливом, тщательном сборе лабораторных данных, а вдохновляющие когда-то студентов лекции которого стали вялыми и скучными.
Даже после его смерти верные друзья, знавшие тайну Холстеда, преданно хранили его тайну. Однако, из благих намерений пытаясь спасти его репутацию, эти адвокаты на самом деле оказали ему медвежью услугу. После того, как почти полвека спустя после его смерти вся правда открылась, имя Холстеда засияло ярче, чем когда-либо, как пример несгибаемого мужества и силы, которыми иногда может быть исполнен человеческий дух. Большую часть информации о Холстеде, которая изложена в следующих параграфах, я узнал из превосходных исследований профессора Питера Олча из Университета Вооруженных сил и здравоохранения. Кое-что из того, о чем будет рассказано дальше, я позаимствовал из хранящейся в Йельском университете коллекции неопубликованных работ Харви Кушинга, основателя нейрохирургии и самого знаменитого ученика Холстеда. Остальное я взял из содержимого маленькой запирающейся черной книжечки, написанной первым профессором медицины Университета Джонса Хопкинса Уильямом Ослером, которая не открывалась до 1969 года. Ослер – не только лучший преподаватель медицины, который когда-либо рождался на этом континенте, но и один из самых талантливых летописцев. Одну из своих книг он назвал «Вся история больницы Джонса Хопкинса». В ней он рассказал об обнаруженных им свидетельствах того, что вскоре после назначения Холстеда на кафедру хирургии Университета Хопкинса его коллега принимал большие дозы морфина. Весьма вероятно, он начал использовать его, пытаясь избавиться от кокаиновой зависимости; по крайней мере, морфин оказывал на его жизнь менее разрушительное воздействие, чем кокаин. Вот что писал об этом Ослер:
Склонность к уединению, незначительное своеобразие, временами доходящее до эксцентричности (что его старым друзьям из Нью-Йорка казалось более странным, чем нам), были единственными внешними признаками ежедневного сражения, которое этот храбрый человек вел годами. Рекомендуя его в качестве заведующего отделением хирургии больницы в 1890 году, мы с Уэлшем считали, что он полностью избавился от наркотической зависимости. Холстед работал плодотворно и энергично. Казалось просто невероятным, что можно принимать морфин и делать так много.
Примерно через полгода после этого назначения я заметил у него сильный озноб и впервые заподозрил, что он все еще употребляет наркотик. Впоследствии мы не раз говорили об этом, и он полностью доверился мне. Ему так и не удалось снизить ежедневную дозу до двух гранул; но три позволяли ему спокойно выполнять свою работу и поддерживать отличную физическую форму (поскольку он был очень крепким мужчиной). Мне кажется, никто не догадывался об этом, даже Уэлш.
На самом деле, именно благодаря усилиям Уильяма Уэлша Холстед смог спасти остатки своей разрушенной карьеры. К моменту катастрофы, случившейся с Холстедом, патологоанатом перебрался из Бельвью в Балтимор, чтобы принять участие в открытии больницы Джонса Хопкинса, которое будет описано ниже. Осознав, в каком удручающем состоянии находится его друг, он вернулся в Нью-Йорк и убедил Холстеда отправиться в путешествие на Наветренные острова на парусной шхуне, которую нанял для этой цели лично в надежде на целительный эффект такого плавания. Состоявшийся в феврале – марте 1886 года круиз стал настоящим бедствием. Среди собранных Кушингом писем, хранящихся в Йельской библиотеке, есть краткая записка Джона Фултона, в которой он описывает разговор, состоявшийся 5 декабря 1930 года с тогда уже отставным нейрохирургом. Кушинг предупреждал его, что Холстед взял с собой «столько кокаина, что хватит почти на всю поездку, за исключением последних двух недель рейса». Фултон написал:
Смог ли он преодолеть свою зависимость? Нет. Он вломился в корабельную аптеку и продолжал употреблять наркотики до конца своих дней… Харви Кушинг тоже говорил мне сегодня об этом. Он сказал, что все пятнадцать лет знакомства с Холстедом (за это время он лишь дважды бывал в его доме!) не догадывался о его кокаиновой зависимости, и только многие годы спустя не без труда пришел к такой мысли.
По возвращении домой Холстеду пришлось признаться себе, что он никогда не справится со своей зависимостью самостоятельно, и тогда он обратился за помощью в частную психиатрическую лечебницу Батлера в Провиденсе. Он вышел из нее в ноябре 1886 года. По настоянию Уэлша, Холстед приехал в Балтимор, где оставался под наблюдением своего заботливого друга. В следующем месяце в больнице Хопкинса вместе с анатомом Франклином П. Моллом он начал лабораторные экспериментальные исследования методов наложения швов на кишечнике. Однако, несмотря на успехи в работе, к началу весны стало очевидно, что попытки Холстеда вернуться к полноценной профессиональной деятельности снова потерпели неудачу. В апреле 1887 года его опять положили в больницу Батлера, где он оставался до января 1888 года. Вполне вероятно, что именно во время своего пребывания в этом заведении он начал принимать морфий. Но можно только гадать, было это частью его лечения или он подкупал кого-то, чтобы получать наркотик тайно.
Таким образом, несмотря на то, что после переезда в Балтимор Холстед, видимо, уже не употреблял кокаин, он оставался зависимым от морфия всю оставшуюся жизнь. Он приехал в Хопкинс не столько для того, чтобы вернуться к обязанностям профессора хирургии, сколько для того, чтобы попытаться собрать воедино осколки своей разрушенной жизни. Повинуясь желанию Уэлша, он начал работу в больнице, при этом он никогда не пытался скрыться от бдительных глаз своего товарища. Для выздоравливающего Холстеда Уэлш арендовал апартаменты в пансионате и предоставил место в лаборатории, что согласно точной формулировке Питера Олча было скорее некой формой «трудовой терапии», чем академическим назначением.
А здесь нелишне напомнить о новом великолепном храме исцеления, в чертоги которого вступил в это время чудом спасшийся хирург. В 1874 году в Балтиморе умер торговец и банкир Джонс Хопкинс. Согласно его последней воле, в одной половине поместья стоимостью семь миллионов долларов следовало открыть университет, а в оставшейся части – больницу. В письме попечителям будущей лечебницы он в 1873 году сообщил, что собирал информацию о недостатках современного медицинского образования в Америке и способах их преодоления: «В отношении больницы вы должны иметь в виду, что я хочу, чтобы это учреждение стало частью медицинской школы при университете, который также будет учрежден согласно моему завещанию». Ни один из факторов не сыграл такую роль в быстром подъеме американской медицины до ее нынешнего положения в мире, как тот, что был сформулирован Хопкинсом: каждая медицинская школа должна быть не только частью системы обучения, но и иметь тесные связи с отлично оснащенной больницей, составляя во всех отношениях единое объединение – трехсторонний альянс усилий по исцелению, обучению и исследованиям.
Сначала основатель, а затем назначенные им попечители выбрали для работы в медицинской школе и больнице Джонса Хопкинса прекрасных консультантов и управленцев, что стало залогом их успеха. Все члены прекрасного (как в количественном, так и в морально-этическом смысле) сообщества попечителей, как и сам Хопкинс, были представителями религиозного «Общества друзей», чья преданность благородным принципам врачевания и образования была предметом их веры благодаря высочайшему уровню гражданской сознательности. Более того, подобно рачительному меценату, они знали цену каждому поступавшему в их распоряжение пени. Репутацию квакеров как щедрых филантропов можно сравнить лишь с их знаменитой бережливостью.
Для начала летом 1874 года в Балтимор были приглашены три ректора. Энджел из Мичигана, Элиот из Гарварда и Уайт из Корнелла. Когда они выполнили задачи, связанные с первичной организацией, и вернулись домой, каждый из них получил письмо с просьбой порекомендовать кого-нибудь на руководящие должности только что открывшегося института. Все трое, не сговариваясь, назвали одних и тех же людей: сорокалетнего президента Калифорнийского университета Даниэла Коита Гилмана и бывшего секретаря совета управляющих Йельской научной школы в Шеффилде Джона Шоу Биллингса. О выдающихся заслугах Гилмана в развитии Университета Джонса Хопкинса и американского медицинского образования в целом написано много, но самое главное можно выразить одним предложением: он оказался нужным человеком в нужном месте в нужное время.
Не менее выигрышным был выбор заведующего больницей доктора Джона Шоу Биллингса, знаменитого основателя библиотеки управления начальника медицинской службы Соединенных Штатов, которая в наши дни известна как Национальная медицинская библиотека. К его величайшим достижениям, прославившим его имя в последующие годы, относится учреждение и первоначальное планирование Нью-Йоркской публичной библиотеки, а также его самоотверженная служба в больнице Джонса Хопкинса.
Чтобы исполнить свою грандиозную миссию, Гилман и Биллингс консультировались с медицинскими и научными светилами по всему миру, а в 1876 году Биллингс отправился в Европу, чтобы посетить крупнейшие лечебные учреждения и собрать всю возможную информацию относительно проектирования и устройства больниц. Истеблишмент медицинского сообщества Америки был настолько заинтересован экспериментом Хопкинса, что вместе с Биллингсом в путешествие на континент поехал и доктор Э. М. Хант, президент отдела общественной гигиены Американской медицинской ассоциации. Шаг за шагом были разработаны планы организации и собран штат сотрудников факультета и больницы из лучших специалистов со всех концов страны и Европы. 7 апреля 1884 года Уильям Уэлш был назначен профессором патологии. По словам Алана М. Чесни, декана института в середине двадцатого века: «Это назначение, несомненно, стало одним из самых важных событий в истории как университета, так и больницы».
Как Гилман и Биллингс, Уэлш точно знал, что нужно делать. Эффективно используя собственный опыт обучения в научных лабораториях Германии и широкий круг знакомств среди самых именитых современных ученых-медиков Америки, он как никто другой был полезен в составлении учебной программы и подготовке планов. Перечень имен профессоров впервые открывшегося факультета медицинской школы им. Джонса Хопкинса звучит как почетный список основателей медицинской науки Соединенных Штатов: анатом Франклин П. Молл, фармаколог Джон Джейкоб Абель, физиолог Уильям Хауэлл, химик Айра Ремсен, патолог Уильям Уэлш, гинеколог Говард Келли и терапевт Уильям Ослер. Это было, говоря словами одного из авторов, освещавших историю Университета Джонса Хопкинса, «товарищество заразительного непревзойденного мастерства».
Стоит сказать отдельно несколько слов об Ослере. Он родился в небольшом городке Онтарио, а медицинское образование получил в Макгилле. В 1884 году в возрасте тридцати пяти лет он был приглашен в Университет Пенсильвании на должность профессора медицины. Несмотря на то что он учился в Берлине и Вене, он не был так «онемечен», как Уэлш и Холстед. Остроумный, учтивый, обладавший лингвистическим талантом, добросердечный почти до самоотречения, преданный делу подготовки молодых врачей даже больше Уэлша, если такое вообще можно себе представить, он стал звездой первой величины на факультете Хопкинса. Ослер был выдающимся преподавателем клинической медицины своего времени не только для своих студентов, но и для бесчисленных тысяч врачей, изучавших предмет по его книге «Медицинские принципы и практика», самому популярному учебнику в Америке, пережившему своего автора и выдержавшего шестнадцать переизданий, последнее из которых состоялось в 1947 году. Благодаря обаянию его незаурядной личности и широте знаний в медицине и других областях он со временем стал самым востребованным оратором и знаменитым врачом в мире. Именно его научные работы и выступления способствовали тому, что английский язык начал постепенно вытеснять немецкий и, в конечном итоге, занял место международного языка медицины. Среди прочих заслуг на посту профессора Университета Джонса Хопкинса Уильям Ослер блестяще справился с ролью вестника, возвестившего миру о рождении американской медицинской науки.
Торжественная церемония ввода в действие больницы состоялась 7 мая 1889 года. Однако открытие медицинского института было отложено по непредвиденным обстоятельствам, связанным с деньгами. Из полученных университетом по завещанию мистера Хопкинса трех с половиной миллионов долларов США полтора миллиона было инвестировано в обыкновенные акции железнодорожной компании B&O Railroad. Видимо, отчасти из-за контроля над железными дорогами, введенного Комиссией по торговле между штатами, учрежденной постановлением Конгресса в 1887 году, B&O столкнулась с большими финансовыми проблемами, в результате чего акционеры потерпели значительные убытки. Не только дата открытия, но и будущее университета в целом были под сомнением.
В конце концов, денежные трудности были даже полезны американскому медицинскому образованию. Ради их преодоления была исправлена величайшая историческая несправедливость и в университет смогли попасть студентки, на что раньше они рассчитывать не могли. За столь удачное решение проблемы потомки в долгу перед четверкой юных леди из Балтимора, дочерей попечителей института: мисс М. Кэри Томас, Мэри Элизабет Гаррет, Мэри Гвинн и Элизабет Кинг.
Балтиморский квартет руководствовался довольно простой и в высшей степени целесообразной идеей, особенно если учесть цели пожертвования, выраженные в завещании мистером Хопкинсом. Они потребовали, чтобы женщины также могли воспользоваться возможностью получить современное медицинское образование, которое обещало стать лучшим в Соединенных Штатах. Благодаря их усилиям был сформирован женский комитет, целью которого был сбор средств на открытие университета, при условии, что девушки смогут поступить в него на одинаковых условиях с юношами. Многочисленные отделения этой организации открылись в разных городах страны, при этом филиал в Вашингтоне возглавляла жена президента Бенджамина Харрисона. К осени 1890 года комитет собрал сто тысяч, которые были предложены попечителям в качестве первого взноса в счет общей недостающей суммы в пятьсот тысяч долларов. Попечители приняли дар и согласились на помощь женщин в обеспечении дальнейшего финансирования. Хотя комитет продолжал свою деятельность, результаты были неутешительными. В декабре 1892 года Мэри Гаррет, уже пожертвовавшая значительную сумму, решила внести всю оставшуюся часть, выдвинув ряд дополнительных условий: требования при приеме в университет должны быть такими, чтобы гарантировать уровень подготовки, соответствующий аспирантуре; программа колледжа должна включать курсы биологии, химии и физики, а абитуриенты должны свободно читать по-немецки и по-французски. Фактически только выпускники колледжей могли стать студентами медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса.
Подобно другим членам факультета, Гилман скептически отнесся к этим пожеланиям, опасаясь, что требованиям, значительно превосходящим условия поступления в любой другой университет страны, сможет соответствовать лишь небольшое число студентов. Он пытался переубедить мисс Гаррет, но она оставалась непреклонной. В конце концов они пришли к компромиссу, допустив возможность приема студентов, официально не имеющих степени бакалавра, но способных выдержать экзамен, доказывающий, что они прошли подготовку, соответствующую этой степени. Ослер выразил в письме Уэлшу сомнение в том, что их бы приняли, если бы им обоим пришлось продемонстрировать соответствие таким строгим стандартам.
На основе этого соглашения, ставшего реальной победой Мэри Гаррет, в октябре 1893 года открытие университета состоялось. Ее общий взнос составил более трехсот пятидесяти тысяч долларов, но это было еще не все. Она поручила Джону Сингеру Сардженту написать портреты самых известных американских врачей: Уэлша, Холстеда, Ослера и Келли. Эта картина, названная «Четыре доктора», теперь висит в Мемориальной библиотеке медицинского института Уэлша, как и портрет самой Мэри Гаррет, принадлежащий также кисти Сарджента. По словам Чесни: «Этой леди больше, чем кому-либо другому, исключая только самого Джонса Хопкинса, медицинский институт обязан своим существованием».
Пятнадцать юношей и три девушки, поступившие на первый курс медицинского факультета, соответствовали самым строгим требованиям, когда-либо предъявлявшимся к студентам-медикам в учебных заведениях страны. Их приняла только что открытая кафедра, с нетерпением ожидавшая своих учеников. Им предстояло пройти первые полномасштабные медицинские лабораторные курсы, и дух возбуждения и азарта пронизывал атмосферу университета, распространяясь на все сообщество преподавателей. Американская медицина была готова начать свое восхождение на вершину славы; начинался величайший эксперимент в мировой истории.
Книги, в которых фиксировались научные достижения, сделанные в медицинском центре Хопкинса в течение первых десятилетий, продолжают писаться и в наши дни. Даже немцы вскоре признали, что не в состоянии идти в ногу с блестящими американскими молодыми профессорами в области физиологии, биохимии, фармакологии, анатомии, эмбриологии, патологии, бактериологии и клинических наук. Наиболее примечательным было то, что в тот момент почти все они только вступали в наиболее продуктивный период своей жизни. В 1889 году, когда открылась больница Хопкинса, Уэлшу и Ослеру было по тридцать девять, Холстеду – тридцать шесть, Келли – тридцать один, Абелю – тридцать два, а Моллу – двадцать семь лет; Хауэллу, поступившему на службу в 1893 году, исполнилось тридцать три года.
Фрагмент картины Джона Сингера Сарджента «Четыре доктора: Уэлш, Холстед, Ослер и Келли». (Предоставлено медицинским архивом Алана Мейсона Чесни медицинских учреждений Джонса Хопкинса, Балтимор.)
Тридцатилетний период успешной работы центра Хопкинса в начале двадцатого века совпал со славными, несомненно, десятилетиями деятельности парижских и венских университетов в отношении темпов научного прогресса, которых еще никогда не наблюдалось в истории медицины. Но у центра Хопкинса было одно преимущество: речь идет о совершенно новой среде, предоставлявшей практически полную свободу для инноваций, и гигантском пустующем пространстве в области академической науки, требующем заполнения открытиями и достижениями. Поэтому объединение университета и больницы Хопкинса служило образцом, на который равнялись все остальные американские медицинские образовательные и лечебные учреждения.
Переехав в январе 1888 года в Балтимор, Холстед остался там навсегда. Здесь его дела шли довольно гладко. Он работал в лаборатории Уэлша и вскоре открыл частную практику. Для всех, кто знал его по работе в различных больницах Балтимора, было очевидно, что он является хирургом высочайшего класса. Поскольку Уильям Макьюэн из Глазго отказался от должности профессора, больница Хопкинса к моменту открытия оказалась без заведующего отделением хирургии. Благодаря такому стечению обстоятельств и, почти наверняка, содействию Уэлша и Молла, в феврале 1889 года попечители временно назначили Холстеда профессором хирургии университета и главным хирургом амбулаторной клиники. Вскоре после этого его перевели на должность младшего профессора медицинского института. В марте 1890 года Ослер писал Гилману (к этому времени добившемуся огромных успехов и получившему в Англии почетные степени от Оксфорда и Кембриджа): «Холстед проводит интереснейшие исследования в области хирургии, и мне кажется, что его назначение на работу в университет и больницу было правильным решением». Справедливость его оценки подтвердилась двумя годами позже, когда Холстед стал профессором хирургии и главным хирургом больницы Джонса Хопкинса на постоянной основе.
Все достижения Холстеда за тридцатилетний срок пребывания в должности были результатом его работы в трех направлениях. Первое – это новый научный метод подготовки хирургов, который он применил вместо использовавшегося долгие годы бессистемного старого, превратив его в многоступенчатую систему обучения, предполагавшую бо́льшую ответственность врача; второе – современный подход к хирургическим операциям, заменивший прежнюю технику, сходную с разбойничьим нападением, осторожной, деликатной и анатомически точной диссекцией; третье – разработка новых операций, которые из простого инвазивного удаления больных тканей трансформировались в процедуру, нацеленную на восстановление нормальной физиологии.
В современном обучении хирургов-аспирантов мы до сих пор используем метод преподавания Холстеда, основанный по большей части на немецкой системе. Короче говоря, Холстед отвечал за подготовку хирургов, являясь фактически единственным старшим штатным хирургом. За исключением редких частных пациентов и тех немногих, которых он оперировал лично, все кровати занимали больные, лечением которых занимался лечащий хирург, чьи функции соответствовали обязанностям современного ординатора. Ему подчинялась группа врачей, сегодня называемых молодыми специалистами, которые годами набирались опыта под его руководством. Не было никакой гарантии, что члены этой команды сохранят в будущем свои места, более того, все они понимали, что лишь один из них попадет на вершину карьерной пирамиды и станет со временем лечащим хирургом. В свою очередь, эти специалисты управляли группой интернов, проходивших стажировку в течение одного года. На каждом уровне молодые хирурги отвечали за обучение и контроль над теми, кто был младше. Лечащие хирурги занимали должность в среднем по два года, а весь процесс подготовки длился около восемь лет, хотя в любой момент администрация могла пригласить на работу специалистов из других мест.
Так родилась программа профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей этой страны. Изменения в американской хирургии были похожи на превращение шлака в золото в течение одного поколения. Из всех великих преподавателей искусства хирургии только один – Теодор Бильрот – основал еще более блистательную школу и оставил более достойных преемников своей профессии. Холстед подготовил семнадцать лечащих хирургов, одиннадцать из которых продолжили преподавание в других учреждениях по программе повышения квалификации, которую переняли у своих наставников; степень ординаторов получили сто шестьдесят шесть выпускников. Как указывалось ранее, Холстед открыл для Америки знания, в результате чего методы и техники, которые мы называем холстедианской хирургией, применяются в обучении большинства американских хирургов до настоящего времени. Деликатная, скрупулезная «безопасная хирургия», получившая распространение таким образом, стала ярко выраженным американским подходом в оперативном искусстве. Мы можем проследить профессиональную преемственность вплоть до источника нашего мастерства, и это является предметом гордости для тысяч специалистов в США. Даже после почти тридцати лет работы хирургом в минуты неуверенности в операционной я всегда успокаиваюсь, напоминая себе, что моим профессором был Густав Линдског, профессором которого был Сэмюэл Гарвей, чьим профессором был Харви Кушинг, а его профессором был Уильям Холстед. Цепочка имен моментально пролетает в голове, и дрожь исчезает в мгновение ока.
Говоря о том, до каких профессиональных высот поднялся Уильям Холстед на своем жизненном пути, У. Г. Маккаллум в написанной в 1930 году биографии ученого отмечает, что многие из нас, кто считает себя преемником научного наследия Холстеда, уверены в том, что «его величайшим достижением было то, что он разработал новый подход к оперативному вмешательству на человеческом теле, который навсегда должен стать единственно возможным для хирурга. Это осознание того, что существует нормальное физиологическое состояние тканей, которое врачу следует стремиться восстановить на основе глубокого изучения естественных способов защиты организма и причин его уязвимости». Вслед за Холстедом все хорошо образованные американские хирурги руководствуются принципами прикладной физиологии каждый раз, когда они входят в операционную. Бессознательное, часто бесполезное нанесение увечий прежних эпох осталось в прошлом, так как хирурги этой страны начали понимать, что ткани, обработанные деликатно, реагируют лучше тканей, обработанных быстро.
Рассуждая о философии Холстеда в отношении техники хирурга, нельзя не сказать о его работе над паховой грыжей. Он начал изучать тканевые слои паховой области еще в Нью-Йорке. Частота рецидивов была достаточно высокой, и немало людей умирало после операции. Приехав в Балтимор, он провел микроскопические исследования, чтобы собрать больше информации о том, как происходит заживление ран. Во многом опираясь на данные, полученные в ходе этих исследований и экспериментов с наложением швов на кишечник, он разработал фундаментальные концепции, послужившие основой для его новых оперативных методик. Речь идет об абсолютном контроле даже самого незначительного кровотечения, необходимости избегать незакрытых карманов в глубине ран, осторожной обработке тканей и их идеальной аппроксимации без чрезмерного натяжения или вмешательства в кровоснабжение. До введения его инноваций оперативные техники были грубыми, кровоостанавливающие зажимы использовались редко, контроль кровотечения был недостаточным, основное внимание уделялось скорости манипуляций, а осложнения при выздоровлении были многочисленными. Этот перечень факторов риска еще не включает в себя часто заканчивавшихся летальным исходом проблем, возникавших вследствие промедления с внедрением асептики в Америке.
Предполагая тщательное соблюдение своих концепций и учитывая знания как видимой, так и микроскопической анатомии, Холстед разработал операцию на грыже, основные принципы которой используются сегодня всеми хирургами. Восстанавливая нормальную анатомию в соответствии с физиологией пораженных тканей паха, он ввел первый надежный метод работы с грыжей. До этого появление нерассасывающейся выпуклости в паху сигнализировало о начале одного из самых смертельно опасных недугов. Неразрешимую ранее проблему он превратил в понятную, простую хирургическую процедуру, тем самым навсегда покончив с царством террора, которое эта болезнь несла человечеству с незапамятных времен. Так называемая II процедура Холстеда и сегодня остается золотым стандартом, поскольку она является не только самым распространенным методом лечения паховых грыж, но и точкой отсчета при подведении итогов. В первой серии операций на почти двух с половиной тысячах пациентов частота рецидивов составляла менее 7 %. Даже сегодня, с усовершенствованными асептическими, инструментальными и шовными материалами, сообщаемые по Соединенным Штатам данные не намного лучше.
Одним из дополнительных бонусов от чтения старых медицинских текстов является возможность получить некоторое представление о повседневной больничной жизни в прежние времена. В докладе, который Холстед сделал на ежегодном собрании медико-хирургического факультета штата Мэриленд 17 ноября 1892 года, он рассказал о двадцатилетнем пациенте, которого пришлось «выписать за неподчинение». Причиной послужило то, что, желая расшевелить свой кишечник, молодой человек нарушил предписанный ему строгий постельный режим и встал, чтобы принять без разрешения слабительное на седьмой день после операции. Похоже, нарушение правил больницы не прошли для него даром, поскольку имеется запись, что три года спустя он вновь обратился в больницу с рецидивом грыжи. Учитывая современный опыт, связанный с ограничением активности пациентов на раннем этапе послеоперационного периода в целях безопасности, можно с уверенностью сказать, что его новая грыжа, скорее всего, была случайностью, а не побочным эффектом описанного инцидента. Разумеется, это не исключает возможности непостижимого божественного наказания, которое настигало тех, кто не выполнял рекомендации ведущих хирургов тех дней.
Несколько последних десятилетий двадцатого века привели к пониманию, что операция по удалению паховой грыжи требует лишь нескольких дней госпитализации или вообще может быть выполнена в амбулаторных условиях. Как ни парадоксально, многим пациентам делают операции под местной анестезией, с применением методов, разработанных Холстедом еще во время пребывания в Нью-Йорке; хотя он больше никогда не экспериментировал с обезболиванием кокаином после своего едва не закончившегося трагедией опыта, другие продолжали заниматься этой проблемой, разрабатывая безопасные и эффективные методы.
Холстед добился больших успехов в хирургическом лечении щитовидной железы, желчных протоков, кишечника и аневризмы артерий. Как все хирурги того времени и все современные хирурги, он считал своим самым страшным врагом рак, и особенно рак молочной железы. Даже люди, которые очень мало знают о современной научной медицине, вероятно, слышали о радикальной мастэктомии по Холстеду.
Историческая ирония заключается в том, что величайший вклад Уильяма Холстеда в лечение, по существу, женского заболевания, стал поводом для жестокой критики, которую на него обрушили главные бенефициары его работы. Дважды ко мне обращались с просьбой редактировать присланные в медицинские журналы сердитые статьи с нападками на Холстеда, его подход к хирургическому вмешательству в целом и радикальной мастэктомии в частности. В каждом случае было сложно сказать, сознательно автор пожертвовал фактами в пользу собственной точки зрения или же невежество было основной питательной средой для этих обличительных пасквилей. Авторы обеих статей, как и нескольких других, которые каким-то образом избежали рецензирования и попали на страницы других прекрасных журналов, похоже, не слишком хорошо разбирались в клинической науке, чтобы достаточно профессионально интерпретировать медицинскую литературу, и в истории, чтобы правильно оценить ситуацию, в которой Холстеду приходилось работать.
На страницах этой книги я не собираюсь обсуждать современные представления о надлежащей терапии рака молочной железы. Достаточно отметить, что почти не осталось в Америке хирургов, по-прежнему выполняющих радикальную операцию по описанию Холстеда, отказавшись от нее в 1960-х годах в пользу модифицированной процедуры, в результате которой мышцы грудной клетки остаются неповрежденными. Более того, мы пришли к осознанию, что рак молочной железы является системным заболеванием с момента его возникновения, а это означает, что он может оказывать воздействие на отдаленные от места его локализации части тела на самых ранних этапах его развития. Поэтому хирургическое вмешательство является лишь одним из видов оружия, которое может быть использовано против него. Радиация, химиотерапия, гормональная коррекция и даже (по крайней мере, в ближайшем будущем) иммунотерапия могут играть важную роль в отдельных ситуациях. Сегодня лечение для каждого пациента подбирается индивидуально.
Кроме того, к удовлетворению почти всех врачей, занимающихся лечением этого заболевания, доказано, что рак молочной железы на ранних стадиях, а этот статус в настоящее время имеет примерно треть пациентов, эффективно лечится как местным иссечением и лучевой терапией, так и посредством других процедур. Современные исследования продвинулись далеко вперед в решении этой проблемы. Американские хирурги продемонстрировали свою готовность и даже энтузиазм к изменению методологии, когда актуальные исследования дают для этого основания. Все мы с надеждой смотрим в будущее.
Ничто из вышесказанного не умаляет успехов, достигнутых в лечении рака молочной железы благодаря разработанной Холстедом операции в последующие после ее введения десятилетия. Поскольку женщины вскоре узнали, что впервые появилась реальная возможность вылечиться, многие стали обращаться за помощью. Большинство жертв страшного заболевания раньше считали операцию бесполезной, как и многие врачи. Обреченная на язвы, гнойные выделения и отвратительные запахи, большая часть пациенток добровольно проводила свои последние месяцы в одиночестве, вдали от семьи и друзей.
Что касается показателей лечения, то ситуация в те дни лучше всего описана самим Холстедом в публикации 1894 года, посвященной мастэктомии:
Большинство из нас слышали от наших преподавателей хирургии признание в том, что им ни разу не удавалось вылечить больную от рака груди. Младший Гросс [умер в 1899] не спас ни одной из своей первой сотни. Хейс Агню [умер в 1892] заявил на лекции незадолго до смерти, что оперировал рак молочной железы исключительно ради эмоционального воздействия на пациентов, при этом он склонен считать, что операция скорее сокращает жизнь, чем продлевает ее… Я иногда интересовался у врачей, регулярно консультирующихся с нами, почему они никогда не направляют к нам пациенток с раком молочной железы. Они, как правило, отвечали, что диагностируют много таких случаев, но полагают, что они неизлечимы. Мы редко встречаем врача или хирурга, который может засвидетельствовать хоть один случай успешного лечения рака молочной железы.
Серьезной проблемой, связанной с хирургическим лечением до инноваций, введенных в практику Холстедом, было появление местного рецидива в течение нескольких месяцев после оперативного вмешательства. Широкие иссечения, которые обычно выполняли ведущие европейские хирурги, не гарантировали большинству пациенток, что вскоре вновь не начнется развитие опухоли в грудной стенке, хотя жизнь больной они продлевали. Согласно самым благоприятным статистическим данным, полученным в немецких клиниках, из 131 пациентки Ричарда Фолькмана в Лейпциге только сорок процентов избежали возврата заболевания в течение неполных четырех лет. Этот показатель у Бильрота составлял всего восемнадцать процентов.
Таким образом, для женщин с раком молочной железы прогноз был довольно мрачным, когда Холстед только начал изучать эту проблему в Нью-Йорке. Когда он посетил клиники Бильрота, Фолькмана и других хирургов в период с 1878 по 1880 год, у него появилась теория о том, что только увеличение площади иссечения может дать какую-то надежду на излечение или, по крайней мере, предотвратить быстрое появление местного рецидива.
Он заметил, что результаты Фолькмана улучшились после того, как он начал удалять волокнистую оболочку, лежащую на поверхности мышц грудной клетки. Несколько хирургов также утверждали, что удаление лимфатических узлов из рядом расположенной подмышечной области, которые, похоже, были связаны с опухолью, имело благоприятные последствия для их пациенток. Известен, по крайней мере, один прецедент иссечения всех лимфатических узлов.
В 1882 году Холстед проанализировал наиболее эффективные техники, применявшиеся ранее, и сделал следующий шаг. Оперируя, он удалял не только все содержимое из подмышки, но и мышцы грудной клетки, при этом он вырезал их одним большим блоком, чтобы избежать возможности повреждения даже микроскопической опухоли. В 1894 году на собрании Клинического общества штата Мэриленд он уже мог представить значительно улучшенные статистические данные. Его доклад стал триумфальным свидетельством его способности осмысливать опыт других врачей, обобщать лучшие из методик, разработанных его предшественниками, и синтезировать всю имеющуюся информацию в единый логический клинический подход. Успеху его метода способствовало скрупулезное изучение данных патологической анатомии и новые, тщательно продуманные оперативные техники.
На встрече Американской хирургической ассоциации в Новом Орлеане в 1898 году разработанные Холстедом операция на грыже и мастэктомия были объявлены стандартом, с которым следовало сравнивать эффективность других методов лечения. Он привел результаты лечения ста тридцать трех пациенток, из которых семьдесят шесть не имели рецидивов более трех лет после операции. Пятьдесят два процента из них были здоровы, что было поразительно, учитывая вполне удовлетворительное состояние, в котором большинство женщин находились в те дни. К тому же не менее важным был факт, отмеченный одним из участников дискуссии: «Холстед подарил надежду тем, кто прежде был в отчаянии». Далее он продолжил:
Я слышал, что известные представители этой ассоциации были уверены, что больные раком рано или поздно умрут от этой болезни, независимо от того, насколько удачно будет выполнена операция, если только им не посчастливится погибнуть раньше, от вызванного раком осложнения. Один уважаемый хирург настаивал на том, что попытки вылечить рак с помощью хирургической операции совершенно бессмысленны. Среди пациенток доктора Холстеда были случаи, считавшиеся в то время абсолютно неоперабельными, но благодаря хирургическому вмешательству продолжительность их жизней удалось увеличить и значительно облегчить их состояние. А самое замечательное состоит в том, что в некоторых очень серьезных случаях болезнь вовсе не вернулась по прошествии лет. Выдающийся автор доклада заслуживает огромной благодарности за тот свет, которым он озарил скрытые области хирургии.
Хотя совершенно справедливо, что бо́льшая часть внимания фокусировалась на оперативных методах борьбы с болезнью, нельзя забывать о вторичной функции хирургии, задача которой заключается в облегчении страданий, вызываемых недугом. Я имею в виду так называемый паллиативный эффект. Даже если вылечить больного невозможно, хирургическая процедура зачастую может уменьшить проявления симптомов, обеспечить физический комфорт и некоторую степень эмоционального равновесия, недостижимые без операции. На протяжении многих лет и критики, и сторонники сосредоточивали все внимание на результатах лечения, недостаточно акцентируясь непосредственно на паллиативном эффекте, который достигался радикальным оперативным вмешательством. Рак молочной железы всегда был и сегодня остается ужасным заболеванием. Но после разработок Холстеда женщинам, по крайней мере, больше не приходилось переносить нестерпимые душевные и физические страдания, существуя с опухолью, ткани которой разлагались, выделяя зловонный гной, притом что лечение было неадекватным или не проводилось вообще. Тот факт, что некоторые из предположений Холстеда были ошибочными, а его операция могла, в конечном итоге, оказаться бесполезной, не умаляют масштабы изменений, которые произошли после введения его методологии. (Разработки Холстеда, хотя и чрезвычайно тщательные и убедительные, были не единственным прорывом в лечении рака молочной железы в то время. Вилли Мейер в Нью-Йорке, Уильям Уотсон Чейн в Лондоне и некоторые другие хирурги делали подобные операции. Каждый шел собственным путем, пропагандируя эту процедуру, в результате чего в лечении этой болезни произошел огромный скачок вперед. Результаты, как отмечалось ранее, становились все более впечатляющими, если оценивать, насколько далеко продвинулись хирурги в борьбе с большинством опухолей.)
Принимая в расчет многочисленные преимущества, которые получают женщины при применении более щадящих процедур, естественно, что наличие такой альтернативы заставляет пациенток обращаться к врачам на ранних стадиях заболевания, что само по себе спасает много жизней. Не следует также забывать, что в то время, когда была разработана радикальная мастэктомия, одним из наиболее важных побочных результатов ее внедрения стало оказание медицинской помощи женщинам, ранее считавшимся безнадежными, так как стало достоверно известно, что излечение возможно, а благоприятный паллиативный эффект был практически очевидным.
Благодаря четкому и выразительному стилю повествования работы Холстеда читаются как литературные произведения. Вышедшая в 1920 году статья, в которой он подробно рассказывает историю операции на щитовидной железе, включая описание эволюции его оперативных методик, является шедевром медицинской публицистики. Монография «Оперативное лечение зоба» – это единственный известный мне образец научной литературы, который подходит для чтения у костра. Это захватывающая хроника, где рассказчик, начиная повествование с далекого 1920 года, переходит к более поздним периодам разработки операции на щитовидной железе и раскрывает собственную историю изучения этой проблемы. Он делает обзор историй болезни, сохранившихся с древних времен и Средневековья, и подробно описывает зачастую душераздирающий оперативный опыт хирургов начала девятнадцатого века, пытавшихся удалять щитовидную железу. Читатель проникается ощущением, словно сам стоит плечом к плечу с самыми отчаянными хирургами прежних лет в тот момент, когда они сражаются с внезапным обширным кровоизлиянием, асфиксией, попаданием пузырьков воздуха в крупные вены и невыразимым ужасом, который такие операции вызывали как у хирурга, так и у пациента в те дни, задолго до изобретения общего наркоза. Наконец, он знакомит своих читателей с собственными наблюдениями на операциях, свидетелем которых он стал лично во время своих поездок к Теодору Бильроту в Вену и Теодору Кохеру в Берн. Он абсолютно справедливо утверждает, что «в десятилетие с 1873 по 1883 год в оперативном лечении зоба был достигнут значительно больший прогресс, чем за все предыдущие годы». В 1909 году Кохер стал первым из немногих хирургов, получивших Нобелевскую премию за выдающийся вклад в изучение физиологии щитовидной железы и методов лечения ее болезней.
Кохер и Бильрот оказали большое влияние на Уильяма Холстеда в отношении принципов хирургии в целом, но особенно в области исследования физиологии и оперативного лечения щитовидной железы. Он начал изучать структуру железы в начале своей карьеры в Вене в 1879–1880 годах. Во время последующих визитов в немецкие клиники у него была возможность оценить прогресс, достигнутый в данном направлении там и в Берне. Пребывание в Швейцарии принесло ему особое удовольствие, так как он нашел в Кохере единомышленника, так же как и он сам ставившего во главу угла точные техники, обеспечивающие минимальные кровопотери и деликатное обращение с тканями, что полностью отличало их от Бильрота, быстрые, радикальные хирургические методы которого не позволяли уделять достаточного внимания мелким деталям.
Каждый из этих гигантов хирургии сталкивался с характерным для его операционной техники лечения щитовидной железы осложнением, которое удручало их и заставляло размышлять о причинах его развития, которые они не могли понять. Кохер боролся с микседемой. Это состояние физического и умственного оцепенения, которое возникает, когда у пациента вырабатывается мало или вообще нет гормона щитовидной железы. А Бильрот сражался с низким уровнем кальция в крови из-за нефункционирующих крошечных желез, называемых паращитовидными и расположенных в непосредственной близости к щитовидной железе. Со временем причина обеих проблем стала очевидной. Холстед позже писал:
Я много размышлял над данным вопросом и пришел к выводу, что объяснение, вероятно, заключается в особенностях оперативных методов этих выдающихся хирургов. Кохер, аккуратный и точный, скрупулезно, относительно бескровно удаляет всю щитовидную железу, нанося небольшие повреждения за пределами ее капсулы. Бильрот действует быстрее и, насколько я помню его манеру (1879 и 1880), уделяет меньше внимания окружающим тканям и кровотечению, вследствие чего он мог легко оставить часть щитовидной железы и удалить паращитовидные железы или, по крайней мере, нарушить их кровоснабжение.
Очевидно, Холстед в силу своих взглядов отдавал предпочтение хирургической технике Кохера, которая была почти идентична оперативным методикам швейцарских хирургов и могла даже показаться их копированием. Неудивительно, что среди предшественников Холстеда и Кохера был лишь один выдающийся адепт такого тщательного подхода. Речь идет о Листере, хотя даже он казался слишком стремительным по сравнению с этими двумя въедливыми представителями грядущих поколений медиков. Подчеркивая максимальную деликатность и аккуратность, которую Холстед и Кохер проповедовали среди своих учеников, один из ведущих хирургов, пришедших им на смену, Харви Кушинг сказал на собрании Международного медицинского конгресса в Лондоне в 1913 году:
Ясные и подробно проработанные методики, сторонниками которых так долго были блестящие мастера своего дела Кохер и Холстед, распространились по всем клиникам; по крайней мере, они применялись там, где вы или я решились бы сделать себе операцию. Наблюдатели больше не опасались испытать потрясение в операционной; эффектные публичные представления прошлого больше не приветствовались. Им на смену пришли тихие, довольно утомительные операции, на которых могли присутствовать немногие, кроме самого хирурга, его ассистентов и непосредственного наблюдателя, изучающего процесс. Пациент на столе, как и пассажир в автомобиле, подвергается большему риску, если его водитель болтлив, срезает углы, превышает скорость или стремится вызвать восхищение своей лихостью.
Хирургия шагнула далеко вперед от впечатляющих спектаклей знаменитых специалистов, таких как Джеймс Сайм и Роберт Листон (последний проводил ампутацию за тридцать секунд). Исповедуя принципы абсолютно свободного от крови оперативного поля, анатомически точного рассечения каждой структуры, жесткую стерильность и максимально близкое стягивание каждого слоя ткани посредством тонких стежков шелковой нитью, Холстед разработал технику тиреоидэктомии, которая была тогда и остается сегодня вершиной хирургического искусства. Описанные им шестьсот пятьдесят случаев лечения гипертиреоза положили начало эффективной терапии этого заболевания в Соединенных Штатах. А такие лидеры американской хирургии, как Чарльз Майо, Джордж Крил и Фрэнк Лейхи с успехом продолжили развитие прогрессивных клинических методов лечения.
В работах Холстеда редко, но встречаются краткие эпизоды, позволяющие получить некоторое представление о его личной жизни. В 1881 году, тогда двадцатидевятилетний хирург, проходивший второй курс практики в Нью-Йорке, он сделал операцию своей матери:
Однажды вечером меня вызвали в Олбани навестить мою мать, которая уже более двух лет страдала от неизвестной болезни… Я нашел ее в очень плохом состоянии, со слегка пожелтевшей кожей, опухолью и болями в области желчного пузыря. Итак, в два часа ночи я провел операцию по удалению наполненного гноем желчного пузыря и извлек семь камней. Думаю, это была одна из первых операций по удалению желчных камней в нашей стране. Моя мать умерла примерно два года спустя после этого.
Другую личную историю, оказавшую гораздо более продолжительное воздействие на мир хирургии, он рассказал в опубликованной в 1913 году статье, которую посвятил обзору одной хирургической техники. В следующем абзаце, где упоминается раздражающее влияние стерилизующих растворов, неожиданно звучит глубоко интимный мотив:
Зимой 1889–1890 годов, я не могу припомнить месяц, дежурившая в моей операционной медсестра пожаловалась на то, что раствор хлорида ртути вызвал дерматит у нее на руках. Поскольку она была чрезвычайно квалифицированной женщиной, я отнесся серьезно к этой проблеме и, оказавшись в Нью-Йорке, обратился в компанию Goodyear Rubber Company с просьбой изготовить в качестве эксперимента две пары тонких резиновых перчаток. Их использование принесло более чем удовлетворительные результаты, поэтому я сделал дополнительный заказ. Осенью, по возвращении в город, я снабдил перчатками ассистента, который передавал мне инструменты и иглы с нитками во время операции. Сначала он надевал их, только когда вместе со мной выполнял первые разрезы. Со временем помощники настолько привыкли работать в перчатках, что стали носить их постоянно, как хирурги, считая, что без них они выглядят менее солидно.
Это, весьма вероятно, самая известная цитата из вышедших когда-либо в свет работ по хирургии. Дело в том, что она содержит не только рассказ о событии, благодаря которому во время операций стали использоваться резиновые перчатки, но и лишь однажды опубликованный в медицинском журнале случай начала истории любви исследователя. Той «чрезвычайно квалифицированной женщиной», химическое раздражение на коже которой привело к использованию хирургических перчаток, была Кэролайн Хэмптон, которая 4 июня 1890 года стала миссис Уильям Стюарт Холстед. Это был крепкий счастливый брак двух любящих друг друга людей. Ослер с живостью, отличавшей многие его работы, позже описал, как впервые заметил, что между этими двумя проскользнула искра. Однажды он вошел в лабораторию патологической анатомии и стал свидетелем того, как обычно сдержанный хирург демонстрирует анатомию сухой малоберцовой кости старшей операционной сестре. Через неделю они объявили о помолвке. В книге «Вся история больницы Джонса Хопкинса» Ослер писал о браке своего коллеги: «Он женился, следуя велению собственного сердца на женщине такой же необычной, как и он сам. Им не было дела ни до кого, кроме своих собак и лошадей».
Странность Кэролайн и Уильяма Холстеда не сводилась к незначительному своеобразию: их бездетный брак был исключительным примером того, как два столь неординарных человека могут найти общие точки соприкосновения. Трудно найти пару, прочность союза которой полностью зависела бы от способности каждого из них отпускать партнера, куда бы он ни направлялся, одного, не ограничивая его физически и не досаждая эмоционально. Это была особая форма конгениальности и весьма удивительная форма любви. Тем не менее их обоих это устраивало. В переписке Харви Кушинга с Холстедом, хранящейся в Йеле, есть двадцать страниц с напечатанными на машинке воспоминаниями о человеке, которого он всегда называл профессором. Там же можно найти описание Кэролайн Холстед и их с мужем трехэтажного кирпичного дома под номером 1201 на улице Eutaw Place. У них были отдельные квартиры: его – на втором этаже, а ее – на третьем. Они часто обедали вместе, но никогда не завтракали в компании друг друга:
Дом, как я уже говорил, был холодным и мрачным – своего рода «Холодный дом»[24] с высокими потолками в старых кварталах Балтимора. Печью никогда не пользовались, но в его комнате был камин… Его библиотека и кабинет располагались на втором этаже. На третьем жила миссис Холстед со сворой такс. Это была странная женщина, не носившая никаких украшений, с зачесанными назад и собранными в пучок волосами, одетая в черную, похожую на обычную мужскую одежду и обутая в ботинки на плоской подошве. Какой контраст с мужем! Она была одной из первых медсестер в J.H.H…[25] Поскольку она управляла операционной, я полагаю, их сближала работа. Они были любящей парой, хотя, насколько я помню, мне никогда не доводилось видеть их вместе, лишь однажды в компании… Кажется летом после войны Хойер и Монт Рид приехали с визитом в Хай Хэмптон, который был восхитителен. Миссис Холстед, дочь генерала Уэйда Хэмптона, железной рукой управляла альпинистами в своих владениях, в то время как «профессор» посвящал всего себя, главным образом, своей замечательной коллекции георгинов, на которых он специализировался.
Хай Хэмптон был семейным поместьем Кэролайн (она тоже была американской аристократкой в южном стиле) площадью две тысячи акров в Северной Каролине. По окончании каждого учебного года Холстеды уезжали из Балтимора на все лето. Проведя месяц в прохладе расположенного в горах Хай Хэмптона за выращиванием георгинов и изучением неба в собственный телескоп, профессор в одиночестве отправился в Европу, где подолгу останавливался в дорогих отелях, ни с кем не встречаясь. Мы никогда не узнаем, был ли его соседом по комнате морфин, хотя трудно представить себе что-либо иное.
Однако доподлинно известно, что во время своих ежегодных поездок за границу Холстед занимался обновлением своего гардероба в магазинах Лондона и Парижа. Что касается вопроса предпочтений в одежде, он не изменился со времен своей юности. Он по-прежнему носил идеально пошитые костюмы, но качество работы американских портных его не удовлетворило. Джордж Хойер, один из его лечащих хирургов, который позже стал профессором хирургии в Цинциннати и Корнелле, писал, что он всегда «выглядел превосходно». Его черный котелок без единой пылинки казался совсем новым, темно-синий костюм из отличного материала был идеально подогнан по фигуре и безукоризненно выглажен, в любое время суток безупречная сорочка, и завершали совершенный образ неброский дорогой галстук, абсолютно чистые перчатки и начищенные до невероятного блеска ботинки.
В своих заметках Кушинг отмечал, что даже сразу по прибытии в Балтимор, когда Холстед приезжал в больницу на трамвае, «он обычно был одет в сюртук и высокую шляпу, при этом всегда брал с собой трость, перчатки и последний номер немецкой периодики по хирургии».
Кушинг, который сам был щеголем, писал, что Холстед носил костюмы, пошитые в Лондоне, и узкие шевровые туфли во французском стиле «с заостренными, хотя и укороченными мысками». Он лично выбирал часть шкуры, из которой следовало брать кожу, и заказывал своему парижскому сапожнику по шесть пар за раз. Туфли, которыми он был недоволен, тут же выбрасывались. Его рубашки отправлялись в парижскую прачечную, поскольку Холстед утверждал, что невозможно найти ни одного заведения в Америке, где бы знали, как с ними надлежит обращаться. Конечно, я не единственный человек, которому приходил в голову вопрос, не были ли спрятаны в коробках с вернувшимися после стирки рубашками флаконы с наркотиками?
Имиджу истинного джентльмена противоречило поведение Холстеда. В нем не было и намека на беспечность; в этом кажущемся бонвиване было очень мало от весельчака и кутилы. Такие слова, как «активный», «энергичный» и их синонимы были бы неуместны в описании приехавшего в Балтимор Холстеда. Он был неуверенным и очень замкнутым в обычной жизни. Казалось, он окружил себя крепостным рвом, наполненным прохладной смесью отчужденности и тонкого сарказма. Чувствуя себя в безопасности в этом обособленном укрытии, он проводил рабочий день под защитой спасательного жилета отстраненности. В случае необходимости он мог отразить нападение на свою приватность точно направленным в цель дротиком ядовитой иронии.
Склонность Холстеда к сарказму была всем хорошо известна, поэтому студенты-медики зачастую теряли дар речи в его присутствии. Хотя это не имело никакого значения, поскольку Холстеда не очень-то интересовало преподавание. По сути, он практически не занимался обучением. Исключением был лишь его лечащий хирург. Поразительно, что человек, основавший передовую школу хирургии в Америке и воспитавший столько поколений ревностных последователей, не проявлял энтузиазма в передаче знаний тем, кто пришел у него учиться. И все же справедливости ради следует отметить, что он был великим преподавателем, увлекающим студентов своим примером, а не словами. Возможность принимать участие в его филигранно выполняемых лабораторных экспериментах, наблюдать за тем, как он делает обход пациентов в палатах, ассистировать ему на операциях и следить за тем, как он после операции всесторонне изучает под микроскопом извлеченные ткани, давала привилегию быть рядом с человеком, который определил критерии, по которым американские хирурги будут оценивать в будущем себя и друг друга. После общения с таким человеком было просто невозможно не повысить свой профессионализм.
Надо сказать, что его неуверенность проявлялась по-разному. С одной стороны, из-за этой черты характера он казался отшельником, но в то же время она выражалась в исключительной личной скромности, которая совершенно обезоруживала. Комплименты его смущали, и он старался избегать почти всех церемоний, которые устраивались в его честь. Он был одним из тех редких исследователей, кто щедро позволял считать свои достижения в клинической медицине результатом работы группы ученых. Часто он казался скорее застенчивым и нерешительным, чем замкнутым и безучастным.
Несмотря на все это, Холстед каким-то образом сохранил остатки присущей ему до истории с наркотиками жизнерадостности, которую он демонстрировал лишь в редкие моменты и только в кругу некоторых близких друзей. В компании Уэлша или кого-то еще из своих близких приятелей он иногда становился оживленным и общительным, внезапно проявляя незаурядное чувство юмора. Правда заключалась в том, что даже его сарказм был лишь способом защиты от грубости и колкостей, которых опасаются застенчивые люди с богатым воображением. Ирония помогала ему держать людей на расстоянии, и все, кто хоть сколько-нибудь знал его, понимали это. Преднамеренная недоброжелательность была не в его характере.
Гипотетический защитный ров, некоторая скрытность, присущая ему в периоды обострения наркотической зависимости, его внушительный международный авторитет – все это только увеличивало дистанцию между ним и большинством других людей. Тех, кому представлялся случай сблизиться с ним настолько, чтобы неожиданно для себя обнаружить в нем деликатность и сердечность, было немного. Хойер и некоторые другие его коллеги оставили трогательные описания проявлений по отношению к ним огромной доброты и братской привязанности этого одинокого человека, которому, на самом деле, просто не удавалось преодолеть холодность и отстраненность собственной натуры.
Психиатры, как любители, так и профессионалы, на протяжении полувека жонглировали различными теориями в попытках интерпретировать эмоциональную жизнь Холстеда. Вы и сами можете предположить некоторые из вариантов. Достаточно взглянуть на своеобразный брак, отношения с Уэлшем, зависимость от наркотиков, спасение сестры и матери, явное изменение характера между Нью-Йорком и Балтимором и даже выбор профессии хирурга, не говоря уже о его одержимости работой. Список очень длинный и вполне объективный. К счастью для моего авторитета, эта глава подходит к концу. В противном случае, я, подобно многим другим, поддался бы искушению выдвинуть свою версию психоанализа Холстеда и показался смешным. Безопаснее придерживаться уже проверенных фактов.
Я не знаю ни одного примера, более ярко характеризующего разницу между хирургией до и после Холстеда, чем описание Харви Кушинга своего первого рабочего дня в больнице Джонса Хопкинса в качестве его ассистента. После окончания учебы в Йельском университете Кушинг отправился в Гарвардскую медицинскую школу и окончил обучение в 1895 году. В течение года он проходил стажировку в Массачусетской центральной больнице, после чего был принят Холстедом на обучение хирургии. Хотя он приехал в Балтимор из одного из ведущих медицинских центров Америки, поступление в больницу Хопкинса стало для него переходом от кровавой помпезности хирургии девятнадцатого века к чистой физиологии двадцатого. Кушинг вспоминал:
Обстановка в J.H.H. была довольно необычной по сравнению с той, что я наблюдал в Массачусетской центральной больнице. Постоянные обсуждения патологии и бактериологии, о которых я знал очень мало, заставляли меня первые месяцы проводить все ночи в кабинете хирургической патологии в старом здании патологического отделения, изучая образцы с немецким учебником в руках… После хаоса в М.G.H.[26] меня больше всего поразил случай, когда мой новый начальник пришел однажды в палату «Г» и, как бы извиняясь, спросил, может ли он осмотреть конкретную пациентку. Потратив целый час на недавно поступившую больную раком молочной железы, он ушел, сказав, что устал и больше ничего не сможет сделать сегодня. Если бы он пожелал и попросил разрешения оперировать, он мог бы удалить грудь, поручить зашить рану и выполнить трансплантацию кожи кому-нибудь из врачей, а потом забрать ткани для дальнейшего изучения под микроскопом, изготовления бесчисленных образцов и бесконечного осмысления данных.
Позже Кушинг поступил на факультет Хопкинса, где шел от одной победы к другой как хирург, исследователь и педагог. Поскольку Холстед занимался всеми пациентами больницы, страдающими от опухоли головного мозга, на основе произведенных клинических исследований Кушинг разработал основные принципы, которых легли в основу новой специальности – нейрохирургии. Отказавшись от должности профессора в нескольких ведущих университетах, он принял предложение, поступившее из Гарварда, и стал первым руководителем новой больницы Питера Бента Бригэма, где учредил программу обучения и создал атмосферу сотрудничества по образу и подобию медицинского центра Хопкинса. Когда он ушел в отставку в 1933 году, на смену ему пришел Эллиот Катлер. Вот как много лет спустя Кушинг описывал Катлеру свое посвящение в новый мир хирургии в больнице Хопкинса:
В день приезда он не был допущен в операционную, хотя одну пациентку из его палаты надо было прооперировать. Молодой Кушинг с опасением наблюдал, как прошли два, а потом и три часа, а великий мастер [Холстед] продолжал с ювелирной точностью выполнять манипуляции, стараясь не травмировать ни одной лишней клетки больной. Наконец, когда пациентку вернули в палату через четыре с половиной часа в операционной, юный Кушинг был наготове со средством для приведения в сознание и другими лекарствами, которые обычно давали хирургическим пациентам, когда он стажировался в Массачусетской центральной больнице. Он уже собирался использовать медикаменты, которые в M.G.H. предписывали всем больным, чья операция длилась всего несколько минут, а не часов, когда доктор Холстед вошел в палату. Доктор Кушинг произнес: «Я собираюсь выполнить обычную процедуру».
Заметив, что больной находится в положении Тренделенбурга [используется при лечении шока], доктор Холстед спросил: «Моей пациентке плохо? Странно. Давайте посмотрим на нее». Обследование показало нормальную частоту пульса и нормальное дыхание. Затем он увидел шприц и поинтересовался: «Что вы собираетесь ввести?» – «Стрихнин, – ответил Кушинг, – ей это поможет».
Доктор Холстед задал третий вопрос. «Каким образом, вы думаете, стрихнин подействует на пациентку?» Кушинг, получивший образование в институте, где главными достоинствами были хорошая память и исполнительность, не мог ответить. Тогда доктор Холстед порекомендовал ему почитать о стрихнине. «Если то, что вы узнаете, убедит вас, что стрихнин полезен для пациентки, непременно используйте его», – резюмировал Холстед. Молодой Кушинг никогда не давал стрихнин своим пациентам и усвоил важнейший урок: никогда ничего не делай с больным, не понимая, зачем и почему.
Именно эти «зачем» и «почему» связывают Уильяма Стюарта Холстеда с когортой его выдающихся предшественников в научной медицине. Достижения всех поколений медиков, начиная с врачей, исповедовавших принципы Гиппократа и побуждаемых любопытством и прагматической потребностью в знаниях, сделали возможным исцеление многих болезней. Урок, полученный Кушингом в первый день в Балтиморе, это не что иное, как принцип, который Уильям Холстед примером всей своей жизни пропагандировал среди американских хирургов, которые следовали за ним.
Самого Холстеда часто одолевали разнообразные не очень тяжелые заболевания. Конечно, его периодическое отсутствие в больнице иногда было связано с его зависимостью, но время от времени оно было результатом его восприимчивости к респираторным инфекциям и других проблем со здоровьем. В 1919 году он заболел бронхитом и не выходил из дома целых два месяца: в феврале и марте. Однако весной стало очевидно, что он не выздоровел полностью, и даже целого лета, проведенного в любимых холмах Хай Хэмптона, не хватило, чтобы восстановить его силы. Затем, все еще ослабленный осложнением после бронхита, он почувствовал симптомы, характерные для желчнокаменной болезни, и вернулся в Балтимор в конце августа в довольно плохом состоянии. Второго сентября его оперировал один из бывших младших хирургов Ричард Фоллис, который извлек камни и удалил желчный пузырь. Выздоровление шло медленно. Возникли сложности, связанные с дренажом желчи через шов, но дело постепенно пошло на лад, и пациент наконец восстановился.
Холстед вернулся на работу. В 1920 году он опубликовал статью «Оперативное лечение зоба» и продолжил лабораторные эксперименты с кишечными швами. Но через некоторое время у него вновь возобновились приступы, схожие по симптомам с желчнокаменной болезнью, постепенно учащаясь и становясь все тяжелее. Во время отдыха в Хай Хэмптоне в первой половине августа 1922 года он снова почувствовал себя очень плохо: при постоянной лихорадке его мучили боли, и кожа стала желтой. 23 августа он вернулся на поезде в Балтимор, прихватив с собой запас морфина и отчет о ежедневных дозах, которые он принимал летом во время болезни.
Похоже, никому не пришло в голову в то время или позже проверить концентрацию наркотика в растворе, который использовал Холстед. По прибытии в Балтимор он сказал своим помощникам, что он изготовлен в пропорции один кристалл морфина на сто шестьдесят капель воды, чему они поверили, не имея никаких оснований подвергать сомнению его слова, и даже отметили, что их мужественный профессор контролирует боль совсем небольшим количеством лекарства. Вспомнив обстоятельства смерти Томаса Макбрайда и книгу «Вся история больницы Джонса Хопкинса», не кажется нелепым предположить, что концентрация морфина в маленьком флаконе Холстеда была немного выше, чем думали врачи.
Двое его бывших младших хирургов Хойер и Монт Рид, к которым Холстед испытывал большое уважение, были вызваны из Цинциннати, где они с недавних пор возглавляли новое отделение хирургии. Утром 25 августа они обследовали желчный канал своего профессора и удалили единственный камень, перекрывавший его. Зашивая проток, они использовали технику, разработанную их пациентом. В послеоперационном периоде возникли осложнения: 3 сентября во второй половине дня началось кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Несмотря на переливание крови, ситуация ухудшалась, и утром в четверг, 7 сентября 1922 года, Хойер и Рид потеряли своего боготворимого наставника из-за развившейся послеоперационной пневмонии.
После аутопсии кремированные останки самого выдающегося в мире хирурга доставили назад в Нью-Йорк, чтобы захоронить их на кладбище Гринвуд в Бруклине. Уильям Холстед нашел последнее пристанище на этом участке в два квадратных километра, раскинувшемся на пологих зеленых холмах на берегу Нью-Йоркской бухты, откуда открывается потрясающий вид на Нижний Манхэттен, где талантливый врач одержал свои первые победы в хирургии и пережил ужасные мучения. Недалеко от его могилы похоронены такие важные для истории Америки личности, как Гораций Грили, Генри Уорд Бичер, Питер Купер и Сэмюэл Ф. Б. Морзе. Они достойны находиться в одной компании с величайшим хирургом и ученым, когда-либо рожденным в США.
14. Триумф медицины двадцатого века. Хелен Тауссиг и хирургическое лечение врожденного порока сердца
Величайший эксперимент Джонса Хопкинса в области медицинского образования просто не мог потерпеть фиаско. Хотя цели группы идеалистов, обеспечивших прочную финансовую основу этого проекта, были несколько иллюзорны, они не были недостижимы. Сочетание прозорливости и субсидирования, направленных на решение актуальных рациональных целей, обеспечило стремительное развитие событий. Создание медицинского центра Хопкинса в период между 1876 и 1893 годами было, по словам одного журналиста, «благословенным сочетанием денег, личностей и обстоятельств». Результатом стала новая парадигма университета, медицинская школа и больница, генерирующие возможности и профессиональные кадры, благодаря которым вся американская система обучения врачей преобразится из шлака в серебро.
В год инаугурации Университета Хопкинса было немало ярких знамений. Столетие со дня рождения США было отмечено двумя важными событиями в мире медицины, олицетворявшими упрямое нежелание молодой нации принять новую науку, столь отчаянно необходимую для ее дальнейшего развития, одним в Германии и другим в Америке: в Бреслау Роберт Кох впервые доказал существование бактерий, вызывающих конкретные заболевания, а в Филадельфии попытка Джозефа Листера представить научное обоснование антисептики встретила прохладный прием скептически настроенной аудитории выдающихся хирургов. Работа Коха с бациллой сибирской язвы стала эффективным доказательством бактериальной теории заражения, но только для тех, кто был готов услышать известие о том, что наука может прийти на службу спасения человечества. Роль медицинской школы Джонса Хопкинса была очевидна. Во-первых, ей следовало стать для американских врачей и педагогов убедительной иллюстрацией того, что без серьезного развития медицинской науки не может быть никакого прогресса в искусстве исцеления, а во-вторых, источником, от которого это новая отрасль науки должна рассеяться по всем больницам и университетам Северной Америки, способствуя распространению бактериальной теории за пределами Атлантики.
Учредители Университета Хопкинса прекрасно понимали исключительность своей миссии. С самого начала на базе лабораторий были учреждены ассистентура и стипендии, соответствующие по уровню возможностей интернатуре и обеспечению проживания, которые предоставлялись студентам клинических медицинских специальностей – хирургии и педиатрии. Как и другие ученые, прошедшие подготовку в этом университете, выпускники медицинского факультета были широко востребованы во всех образовательных учреждениях страны. По крайней мере, благодаря их особым навыкам и многообещающему исследовательскому потенциалу они вдохнули новые жизненные силы в прозябающие по инерции преподавательские сообщества страны.
Одной из самых фундаментальных из первых инноваций в области образования был запрет местным практикующим врачам преподавать анатомию, физиологию, патологию и фармакологию. Исполнение обязанностей на должности профессора предполагало занятость в течение всего рабочего дня, а это означало, что университет выплачивал зарплату тем, кто тратил все свои силы на преподавание и исследования, не отвлекаясь на оказание медицинской помощи частным пациентам. В течение первых двух десятилетий такая система вознаграждения стала стандартом и для клинических отделений больницы, а все взносы пациентов передавались в университет. Сам факт, что заработная плата преподавателя была намного меньше, чем его доход от практики, оказался преимуществом, поскольку должность привлекала только тех ученых, которые были готовы пожертвовать деньгами ради возможности проводить исследования и обучать молодое поколение врачей.
Но подобная система имела и определенные недостатки. Например, в академические круги попадали только те, кто мог позволить себе финансовые потери, связанные с должностью профессора. Но для своего времени это было эффективным решением вековой проблемы – наилучшим способом воспрепятствовать преподавателям манкировать своими обязанностями в пользу Маммоны. В результате в Университете Хопкинса, как и в каждом учебном заведении, адаптировавшем систему оплаты за полный рабочий день, сформировался коллектив ученых, положивших свои жизни на священный алтарь медицинской науки. Сознательная отстраненность этих людей от обычной жизни и почти религиозная одержимость в стремлении к совершенству позволяла им сосредоточиться исключительно на своих педагогических и исследовательских интересах.
Однако не следует думать, что новый университет вознесся подобно сияющей башне над необитаемым болотом отсталости и застоя американской медицинской науки. Центр Хопкинса был создан Гилманом, Биллингсом и другими как ответ на вопрос, который уже был поставлен, чтобы активировать процесс развития медицины до уровня, превосходящего самые смелые ожидания. Америка действительно значительно отставала от большинства европейских стран как в уровне образования, так и по качеству медицинского обслуживания, но начало изменению ситуации было положено в основном благодаря личной инициативе молодых врачей. Тысячи из них, как Уильям Холстед, стремились получать образование за рубежом, особенно в области лабораторных исследований. Из двадцати восьми членов Американского общества физиологов, основанного в 1887 году, двадцать человек учились в Европе, шестнадцать – в Германии. Многие амбициозные молодые люди, стремящиеся к самосовершенствованию, перед поступлением на медицинский факультет в течение нескольких лет учились в колледже, хотя большинство медицинских институтов требовали лишь свидетельства об окончании средней школы. А многие отказывались и от этого условия под различными, весьма неубедительными предлогами. Некоторые особенно целеустремленные учащиеся получали даже степени бакалавра задолго до того, как Хопкинс сделал их обязательными.
И все же все эти улучшения были результатом усилий лишь отдельных энтузиастов. Только в судьбоносном 1876 году представители двадцати двух медицинских институтов собрались вместе, чтобы учредить Американскую ассоциацию медицинских колледжей. Поначалу организация была бесполезна, но в 1890 году она была реорганизована и изменила название, став Ассоциацией американских медицинских колледжей. С тех пор ситуация начала улучшаться. К 1896 году треть из ста пятидесяти пяти медицинских колледжей страны отвечали более высоким стандартам, установленным ассоциацией. Постепенно организация начала сотрудничать с Американской медицинской ассоциацией в поиске способов решения вопросов, стоящих перед национальными образовательными, исследовательскими и клиническими учреждениями. Инаугурация медицинского института Джонса Хопкинса в 1893 году обеспечила средоточие самых высоких целей реформаторов в одном научном центре.
Для преподавателей медицины только что открывшийся Университет Хопкинса был воплощением их надежд на то, что проблемы американской медицины будут разрешены. Оставалось лишь определить недочеты с помощью компетентных органов, а затем начать изменения. Если же это будет невозможно, переменам как минимум следует всемерно содействовать, чтобы сделать их неизбежными. В случае с Университетом Хопкинса потребуется сочетание прозорливости и субсидирования на протяжении многих лет.
Не хватало только детектива по особым поручениям, который мог бы изучить несовершенства национальной системы медицинского образования и порекомендовать средства для их преодоления. Для такой работы не требовалась комиссия; с этой задачей мог справиться один человек, обладающий достаточной квалификацией, чтобы его выводы не подвергались сомнению, а предложения без колебаний внедрялись. В критический момент появился подходящий человек в лице Абрахама Флекснера.
Неудивительно, что Флекснер получил степень бакалавра в Университете Джонса Хопкинса. Сын немецких евреев-беженцев после репрессий 1848 года, он окончил колледж всего за два года благодаря мощному стимулу в виде хороших мозгов и пустых карманов. Получив образование, в 1886 году он вернулся в свой родной город Луисвилл в штате Кентукки, где преподавал в средней школе и позже, в 1890 году, открыл собственную частную академию. После пятнадцати лет успешной работы он закрыл ее, чтобы продолжить обучение в области психологии и философии в Гарварде. Следующий год он вместе с женой учился в Германии, а в 1908 году опубликовал свою первую книгу «Американский колледж». Его суровая критика педагогических методов, практикуемых в Гарварде и других колледжах, привлекла внимание видного педагога Генри С. Притчетта. Незадолго до этого Притчетт убедил Эндрю Карнеги создать организацию, которая способствовала бы популяризации профессии учителя среди молодежи. После основания Фонда Карнеги по продвижению преподавания в 1906 году, Притчетт оставил свой пост главы Массачусетского технологического института и стал президентом фонда. В качестве одного из своих первых крупных проектов фонд планировал столь необходимое исследование медицинского образования в Соединенных Штатах и Канаде. В 1908 году Притчетт обратился к сорокадвухлетнему Флекснеру с просьбой выполнить эту важную миссию.
В течение следующего года Флекснер посетил сто пятьдесят пять институтов в обеих странах. Для оценки каждого он использовал одни и те же критерии: вступительные требования, численность и подготовку профессорско-преподавательского состава, финансовое положение учреждения, качество лабораторий и взаимосвязь между каждым учебным заведением и больницей, в которой работали студенты и преподаватели. Он пришел в ужас от того, что обнаружил. Даже лучшие из институтов были не слишком хороши. Стандарты приема были низкими, подготовка преподавателей оставляла желать лучшего, бо́льшая часть колледжей были частными предприятиями-кошельками, принадлежащими работающим в них профессорам, лаборатории были неадекватно оборудованными или грязными, или и то и другое вместе, и очень редко можно было найти учреждение, студенты и преподаватели которого имели свободный доступ в хорошую больницу. Единственным исключением был Университет Хопкинса. Как Флекснер писал позже: «Честь и хвала Гилману, Уэлшу, Моллу, Холстеду, их коллегам и студентам, не побоявшимся прицепить свой вагон к звезде!»
Резкое обвинительное заключение Флекснера о состоянии американского медицинского образования было опубликовано в 1910 году в четвертом выпуске Бюллетеня фонда под названием «Медицинское образование в Соединенных Штатах и Канаде». Однако вскоре он стал известен как «отчет Флекснера» и сразу со дня своего появления стал главной новостью на первых полосах газет. В нем автор высказывался уничижительно обо всех институтах и колледжах, кроме пяти, но даже их счел в значительной мере не соответствующими стандартам, установленным Университетом Хопкинса. Но Флекснер не ограничивался критикой, он предлагал программу реформ. Поскольку число медицинских учебных заведений при весьма низком их качестве было явно чрезмерным, он считал необходимой общенациональную реорганизацию, предполагающую закрытие ста двадцати из них. В своей автобиографии 1960 года Флекснер описал отклик, полученный им на его рекомендации:
Сотрудники медицинских учреждений, профессорско-преподавательский состав медицинских образовательных заведений, а также государственные экзаменационные комиссии были совершенно ошеломлены безжалостным разоблачением. Нам угрожали исками, а однажды даже действительно подали в суд за клевету на сумму сто пятьдесят тысяч долларов. Я получал анонимные письма с предупреждением, что меня застрелят, если я покажусь в Чикаго, но я поехал туда, чтобы произнести вступительную речь на собрании Совета [Американской медицинской ассоциации], и вернулся невредимым.
…Такой шумихи в прессе никогда не было в нашей стране ни до этого, ни после. Институты закрывались направо и налево, как правило, без ропота. Некоторые из них объединялись. Семь колледжей в моем родном городе, о которых… я писал с той же откровенностью, что и о других учреждениях, слились в один. Пятнадцать учебных заведений в Чикаго, которые я назвал позорным пятном на медицинском образовании страны, также вскоре консолидировались, и их число сократилось до трех.
В 1913 году Флекснеру предложили стать членом Совета по всеобщему образованию, основанного Джоном Д. Рокфеллером – младшим в 1902 году для повышения образовательных стандартов в Соединенных Штатах. Его уполномочили распределить пятьдесят миллионов долларов, пожертвованных Рокфеллером, среди достойных, по его мнению, финансовой поддержки медицинских образовательных заведений, таким образом, чтобы распространить успешный опыт Университета Хопкинса. С пустой, фигурально выражаясь, чековой книжкой, он вновь отправился в путешествие от одного академического центра к другому, разъясняя деканам и преподавателям меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы поднять в их учреждениях уровень обучения до желаемого. При этом он придерживался первоначальных критериев оценки качества медицинского образования: соответствующее оборудование лабораторий, более высокие требования к студентам и профессорско-преподавательскому составу (полная занятость) и более тесное сотрудничество с больницами, где проходило основное практическое обучение будущих специалистов клиническим навыкам. Ориентиром служили немецкие университеты и центр Джонса Хопкинса. Тем школам, которые согласились на реализацию этих планов, были выделены средства для их осуществления и оказано содействие в привлечении дополнительных средств собственными силами. План был настолько очевидно перспективным, что за первым пожертвованием Рокфеллера последовали значительные взносы из других источников. Общая сумма составила шестьсот миллионов долларов. С помощью этой огромной финансовой поддержки Абрахам Флекснер оказывал всемерное содействие, выражаясь его словами, подъему статуса «американского медицинского образования от самого низкого уровня до самого престижного в цивилизованном мире».
Новая система обучения не ограничивалась профессиональной подготовкой студентов-медиков. Она включала программу повышения квалификации в форме интернатуры, предоставление места жительства, а также поощрение всех стажеров к исследовательской работе, независимо от того, получили они степень доктора медицины или нет. Головной университет должен был стать центром изучения научной медицины; с этой целью между академическим корпусом и клиникой поддерживалось постоянное тесное взаимодействие. Между университетом и учебной больницей также было установлено всестороннее сотрудничество, при этом управляли больничным персоналом руководители различных отделений факультета. Таким образом, профессор хирургии университета, например, назначался директором хирургического отделения больницы. Эта должность позволяла ему контролировать назначение всех штатных хирургов, обеспечивая необходимый уровень компетентности и качества преподавания.
Начиная высокими требованиями к поступающим в университет абитуриентам и заканчивая такими вопросами, как исследования и контроль качества врачебного персонала, пришедший на смену прежнему тип медицинского образовательного учреждения не только гарантировал подготовку прекрасных специалистов, но и способствовал формированию новых умонастроений, которые оказывали влияние на жизнь врача с первых минут учебы в колледже до дня его выхода на пенсию. В такой академической атмосфере молодежь не только изучала самые передовые достижения медицинской науки, но и использовала свои знания в лечении больных. Таким образом складывался современный образ целителя: вечного студента со своими надеждами, стремлениями и идеалами.
Отчет Флекснера и деньги Рокфеллера изменили направление американской благотворительности так же, как и характер системы образования. С этого времени медицинские учреждения стали бенефициарами финансовых средств, которые прежде поступали в другие общественные заведения, в основном в богословские школы. Похоже, что такая ситуация отражала серьезные изменения в приоритетных задачах страны. С тех пор данная установка не менялась, в результате чего вновь реорганизованные и недавно созданные медицинские образовательные заведения и больницы стали основными получателями государственных субсидий вплоть до начала следующего столетия.
Первыми институтами, воспользовавшимися щедростью и рекомендациями Совета по всеобщему образованию, были университеты Чикаго, Колорадо, Айовы, Орегона, Рочестера, Вирджинии и Вашингтона в Сент-Луисе, а также Колумбия, Корнелл, Дьюк, Гарвард, Макгилл, Тулейн, Вандербилт, Вестерн Резерв и Йель. Центру Хопкинса также была выделена значительная сумма. Другие образовательные учреждения ориентировались на балтиморский стандарт и настолько улучшили качество своей работы, что некоторые из них начали привлекать преподавателей, окончивших Университет Хопкинса, тем самым все более укрепляя структуру, которую они создавали.
Долгосрочный результат этих событий в 1970 году хорошо описал медицинский историк Джон Филл из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе: «Работа выдающихся сыновей Университета Хопкинса и их коллег была настолько успешной, что сегодня это учебное заведение является лишь одним из ряда выдающихся медицинских институтов в Соединенных Штатах, – результат, который, несомненно, порадовал бы президента Гилмана и докторов Уэлша, Ослера, Холстеда и Келли».
В то время как другие образовательные учреждения еще только пытались добиться должного уровня, центр Джонса Хопкинса никогда не сдавал своих превосходных позиций. Каждый год большинство преподавателей составляли отчет об основных достижениях факультета в области исследований и ухода за больными. Независимо от успехов других американских институтов, центр Хопкинса по-прежнему оставался в авангарде научного прогресса. Сегодня даже перед лицом обилия превосходных медицинских образовательных учреждений Хопкинс по праву считается лучшим из лучших. В попытках выделить особенно важную фигуру, своими свершениями олицетворяющую достижения двадцатого века в области американской медицины, мысли невольно обращаются к первому из подлинных университетов США и к одному из самых поразительных из когда-либо сделанных достижений – операции по коррекции «врожденного порока сердца», разработанной Хелен Тауссиг и Альфредом Блейлоком.
Но в этой книге мне хотелось бы рассказать именно о жизни Тауссиг. Неразрывная нить, пронизывающая всю историю медицины, берет начало от последователей школы Косса, которые все свое внимание концентрировали на человеке, как на главном объекте для тщательного изучения целителями. Именно в природе человека и всего, что оказывает на него воздействие, врачи-гиппократики искали причины болезней. Их коллеги книдийцы не соглашались с ними, полагая, что исследовать нужно заболевание и внутренний орган, в котором оно возникает, а не в целом пациента, служащего лишь домом для недуга. Благодаря именно этому редукционистскому подходу книдийцев родилась медицина как наука. Пока симптомы не сопоставлялись с органами, где они берут свое происхождение, и далее с клетками и молекулами, классификация болезни и специфическое лечение нарушений жизненных процессов оставались невозможными. Начало достижения огромных успехов в последующем развитии медицины было связано с именем Джованни Морганьи, а последние десятилетия нашего века стали моментом кульминации эволюции сверхнаучной медицины и возникновения новых направлений и специализаций. Достигнув апофеоза, древнее искусство исцеления теперь нуждается в осмыслении.
Время прозрения приближается, и именно Хелен Тауссиг является его глашатаем. Вероятно, неслучайно завоевание равенства женщин-медиков сопровождалось постижением нашей подлинной миссии, суть которой состоит в исцелении людей. В эпоху, когда мы так активно провозглашаем, насколько возросла наша осознанность в том или этом, врачи поднимают свои взгляды, хотя все еще слишком медленно, от электронных микроскопов и камер ультрафильтрования к умоляющим глазам больного. Принципы Гиппократа возвращаются в практическую медицину, и это дает нам надежду на то, что мы, наконец, выполним обязательство, которое взяли на себя еще в древние времена.
Медицина – это не наука, а искусство, с помощью науки исследующее то, что Уильям Гарвей называл тайнами природы, с целью наилучшим образом послужить ее детям. Мы отбросим сумасшедшие теории, пропитанные холизмом, даже в случае, когда мы гуманизируем отстраненное безразличие редукционизма, и станем врачами, которыми мы всегда должны были быть. И это принесет пользу обществу в целом, нашим пациентам и нам самим.
В первой главе этой книги я привел слова преподобного Уильяма Слоуна Коффина, касающиеся психологии пациента. А однажды уже в другом контексте он сказал кое-что поучительное о психологии врачей. Обсуждая женское освободительное движение в Америке, он неожиданно заявил: «Женщина, которая больше всего нуждается в освобождении, – это женщина, живущая внутри каждого мужчины». Я думаю, эта фраза была свидетельством осознания, насколько усилилась роль женщин-врачей. В годы моего обучения в больнице мы, штатные молодые врачи, мнили себя многочисленным отрядом бесстрашных пилотов истребителей «Спитфайр», с ревом взмывающим в небо на наших мощных боевых самолетах, чтобы сразиться с враждебными силами болезни. Заболевание было нашим врагом, излечение – победой, а пациент, хотя мне стыдно признаваться в этом, почти всегда был лишь полем битвы, на котором противники могли продемонстрировать свою мощь. Нас так учили. Необходимо было хорошо вызубрить этот урок, чтобы защититься от переживания чужой боли и преодолеть предательскую тенденцию отождествлять себя со страдающими пациентами. Наши учителя верили, что можно избежать изнуряющего и опасного чувства «эмоциональной вовлеченности». Это не значит, что мы не были добры к нашим пациентам, просто мы держали дистанцию с ними. Мы относились к ним с уважением и даже со своего рода официозным почтением. Мы были настолько деликатны, насколько могли. Но мы были особыми людьми и смотрели на больных свысока, как взрослые на детей.
Теперь же мы становились все более внутренне свободными. Именно об этом говорил Билл Коффин. Нам воочию продемонстрировали, и в значительной степени это был не кто иной, как женщины-медики, что наши учителя ошибались: мы не только не рисковали, позволяя себе сопереживать пациенту, но часто становились более решительными и изобретательными. Жизнь пациента, течение его болезни, трепет его души, опасения его семьи, надежда на выздоровление, все это становилось такой же важной частью его лечения, как и знание уровня натрия в его крови. Теперь мы более заботливы и внимательны. Качество, освободившееся внутри нас, в обществе всегда считалось женским. Но как это ни удивительно, мы гордимся этим.
В наши дни вокруг нас царит совсем другая атмосфера. Женщины-врачи приглушили хвастливые горны, в течение стольких веков возвещавшие о завоеваниях медицины. Благодаря им мы стали похожи не столько на главнокомандующих медицинских войск, сколько на пастырей, оказывающих поддержку тем, кто приходит к ним за помощью. Они показали самым упрямым из нас, что нет никакой необходимости сдерживать свои личные переживания в отношении наших пациентов. Даже ритуал обхода палат стал отличаться от того, к которому мы привыкли; медицинский персонал проявляет больше сочувствия к своим пациентам и друг к другу. Медицина в гораздо большей степени определялась искусством целителя, пока к ней не присоединилась наука. Я не согласен с теми, кто, осуждая представителей моей профессии, утверждает, что наши молодые врачи становятся все более отстраненными технократами. Критики не рыщут по больничным палатам, как я, и не видят изменений, произошедших за последние несколько лет. Наши юноши учатся у наших девушек; а наши опытные врачи учатся у молодежи. Мы больше не боимся холить и лелеять наших пациентов, потому что только так развиваемся и становимся настоящими врачами.
Внимание и забота, естественно, не новость для нас. Так или иначе мы всегда проявляли эти качества. Даже самые неуверенные и бесстрастные доктора иногда давали своим пациентам гораздо больше, чем просто физическую помощь. Однако немногие из нас поступали так постоянно. Но именно в этом постоянстве состоит величие Хелен Тауссиг. Закономерно, что, рассказывая о жизни врача середины двадцатого века, достижения которого являются лучшим образцом книдийского редукционизма, мы описываем человека, чья карьера также была олицетворением холизма Гиппократа. Ведомая силой сочувствия, Хелен Тауссиг использовала возможности чистой науки для решения одной из старейших проблем патологической анатомии. Ее вклад в развитие медицины признан вершиной искусства исцеления.
Только через десять лет после публикации De Sedibus в 1761 году голландский врач Эдуард Сандифорт написал похожую на трактат Морганьи работу под названием «Руководство по патологической анатомии» (Observationes Anatomico-Pathologicae), основанную на данных, полученных им в результате вскрытия трупов пациентов, за лечением которых он внимательно наблюдал до момента смерти. Хотя четырехтомный сборник Сандифорта содержал обзор многих ранее не описанных органов, чаще всего его вспоминают в связи с историей болезни ребенка, который «родился и был на протяжении первого года жизни совершенно нормальным, а затем его кожные покровы стали приобретать более темный оттенок». Постепенно цвет становился все более сизым, особенно в периоды активного бодрствования. У него развилась одышка. После кровопускания, предпринятого в попытке облегчить ему дыхание, кровь оказалась синюшной и очень густой. Сандифорт был известен как прекрасный специалист по выявлению патологии после смерти, и семья мальчика обратилась к нему с просьбой сделать вскрытие тела их сына, когда он умер в возрасте двенадцати лет. Поскольку он родился здоровым, предполагали, что будут найдены свидетельства каких-то изменений, произошедших под влиянием окружающей среды, возможно, дыма домашней печи, топившейся углем. При вскрытии грудной клетки Сандифорт с удивлением обнаружил, что легочная артерия, несущая кровь от правой стороны сердца в легкие, была аномально тонкой и плотной. Кроме этого, он нашел отверстие в мышечной стенке, отделявшей основную правую насосную камеру и правый желудочек от левой части сердца. Это означало, что прохождение крови в легкие было настолько затруднено, что с каждым биением сердца значительная ее часть возвращалась в правый желудочек и, не обогатившись кислородом, попадала через дефект в стенке, другими словами – в перегородке, прямо в левый желудочек, а оттуда в общую систему кровообращения через аорту.
В этом кратком обзоре анатомии, вероятно, все было изложено правильно. Легче всего представить сердце в виде двух разных органов, расположенных на противоположных сторонах общей центральной стенки-перегородки. Каждая из двух частей имеет верхнюю камеру, в которую кровь поступает, и нижнюю, которая выталкивает ее (см. схему на стр. 194). Верхняя камера называется предсердием, а нижняя – желудочком. В правую часть сердца возвращается кровь от периферии тела, затем она через легочный ствол закачивается в легкие, где обогащается кислородом. Далее по легочным венам она поступает в левую часть, откуда закачивается в аорту, чтобы вернуться назад и питать ткани. Таким образом, сердце представляет собой два отдельных насоса, работающих в скоординированном ритме и выполняющих две отдельные функции; правосторонний насос направляет кровь в легкие, а левосторонний – по всему телу. Поскольку левая насосная камера должна качать кровь намного сильнее, чтобы выполнить свою работу, давление внутри нее значительно выше, чем в правой.
В результате врожденной аномалии бо́льшая часть крови мальчика, возвращающаяся с перифирии тела, никогда не достигала легких, чтобы пополниться кислородом. Вместо этого она просачивалась через дефект межжелудочковой перегородки (это центральная разделительная стенка) и снова распространялась по тканям, полностью обходя легкие. Причина синюшности, или цианоза, прояснилась: значительная часть объема циркулирующей крови мальчика была замкнута на малый круг обращения, минуя легкие, и никогда не имела возможности пополнить запас кислорода. Причина, по которой симптомы ухудшались с возрастом, заключалась в том, что крошечный легочный отток недостаточно увеличивался по мере того, как ребенок рос, и дефицит кислорода нарастал. Поэтому пропорционально больший объем «синей» бедной кислородом крови попадал в ткани, и симптомы кислородного голодания проявлялись все сильнее.
В 1888 году марсельский профессор анатомической патологии Этьен-Луи Фалло констатировал, что состояние, описанное Сандифортом, складывается из четырех анатомических компонентов: сужение или стеноз легочного выводного тракта; дефект межжелудочковой перегородки; уплотненность стенки правого желудочка, развивающаяся вследствие чрезмерных усилий для прокачки крови через препятствие; и настолько значительное смещение аорты вправо, что кровь легко проникает в нее прямо из правого желудочка, а также через дефект перегородки. Описанное им врожденное заболевание сердца было названо в его честь тетрадой Фалло.
Врачи довольно увлеченно начали изучать тетраду Фалло и вскоре согласились, что Фалло был прав, указав, что у семидесяти пяти процентов цианозных детей, так называемых «синих» младенцев, при аутопсии обнаруживаются анатомические аномалии, а остальные имеют другие врожденные дефекты, часть из которых и становится причиной летального исхода. Использование различных методов физического осмотра, которые в конце девятнадцатого века стали гораздо более передовыми, постепенно упрощало определение диагноза еще при жизни пациента. На основании историй болезни, сердечных шумов, которые можно было услышать через стетоскоп, а также размера и характеристик биения сердца, определяемых с помощью пальпации и перкуссии, во второй половине столетия был описан ряд подобных случаев. Но чаще всего усилия даже самых опытных врачей, несмотря на набор обнаруживаемых симптомов, были бесполезны для решения диагностических головоломок. Имеющихся знаний было достаточно, чтобы осознать трагическую реальность, но не было никаких средств что-либо изменить.
Изучение тетрады привело к открытию других видов врожденных заболеваний сердца и пониманию проблем, связанных с ними. Прежде чем искать эффективные методы лечения, необходимо было найти способ отличать различные анатомические дефекты друг от друга и классифицировать ряд наиболее распространенных аномалий таким образом, чтобы упростить их диагностику в хаотичной картине физиологических нарушений, которые они составляли. Эту важную задачу выполнила канадская врач по имени Мод Эбботт.
Карьера Мод Эбботт началась в те самые дни, когда женщины только начинали осваивать медицинскую профессию. Она училась на факультете искусств, в третьей по счету группе, в которые принимали женщин, и после окончания Университета Макгилла в Монреале в 1890 году тщетно пыталась поступить в медицинский институт, куда принимали только мужчин. Она начала ожесточенную борьбу за свои права, всеми возможными средствами привлекая друзей, печатные издания и общественное мнение на свою сторону. Несмотря на жаркие дебаты между монреальскими врачами и руководством университета, она в конце концов получила от секретаря уведомление с заявлением о том, что Макгилл «не считает возможным обучение женщин медицине».
На пересечении улиц Онтарио и Манс, в небольшом здании в центре оживленного центра города Монреаля, располагался медицинский колледж Университета Бишопс. Это учебное заведение принимало женщин, и Мод Эбботт была приглашена на первый курс обучения. Конечно, Бишопс был не таким престижным, как Макгилл, но Эбботт с радостью приняла предложение. По окончании она получила главную премию за успехи в области анатомии и премию ректора за академические достижения. Следующим шагом было изучение немецкого языка и путешествие в Цюрих, где в 1894 году она поступила в медицинский университет и прошла там обучение в течение зимнего семестра. Затем она два года провела в Венском университете. В 1897 году она вернулась в Монреаль и открыла свою практику.
Но особых успехов на этом поприще Мод Эбботт не достигла. Как и многие другие врачи, чьи книги посещения заполняются слишком медленно, она вызвалась проводить научные исследования на добровольных началах. Хотя администрация Макгилла не желала видеть ее своей студенткой, молодую способную женщину с удовольствием взяли на неоплачиваемую должность помощника куратора в университетском музее патологии. Постоянно работая над повышением уровня своих знаний, она побывала в различных медицинских центрах, изучая их музейные технологии. В 1898 году в Балтиморе она встретила Уильяма Ослера, который сообщил ей, что в музее Макгилла содержатся еще неиспользуемые сокровища, которые могут быть полезны для классификации болезней и разработки более точных методов диагностики. Она вернулась домой, имея перед собой новую цель. В следующем году она обратилась к Ослеру за консультацией по поводу образца cor triloculare, трехкамерного сердца, и, вдохновленная его похвалой, начала изучать врожденные дефекты сердца. За годы работы она стала самым выдающимся в мире специалистом не только по анатомическим сердечным патологиям, но и по физиологическим нарушениям, которые они вызывают. Венцом работы Эбботт стала публикация в 1936 году «Атласа врожденных пороков сердца»: в этом руководстве она описала тысячу случаев аутопсии, выполненных лично ею. Это пособие стало настоящей библией для всех, кто хотел изучить патологическую анатомию и патофизиологию врожденных пороков сердца.
Путь Хелен Тауссиг к медицинскому образованию был намного проще, чем у Эбботт, но тем не менее так же извилист, поскольку она была женщиной и родилась слишком рано, в 1898 году. Она была дочерью профессора экономики Гарварда и обучалась в колледже Рэдклиффа в течение двух лет, после чего перевелась в Беркли, желая выйти из тени своего отца. Когда в 1921 году после окончания университета она сообщила ему, что собирается заняться медициной, он предложил ей направить свои усилия в общественное здравоохранение. «Это очень хорошее поле деятельности для женщин», – подчеркнул он. Однако декан Гарвардской школы общественного здравоохранения очень вежливо сказал ей, что она, конечно, может записаться на четырехлетний курс, но степень доктора в этом учебном заведении не получит ни одна женщина. Не менее вежливо она отказалась от такого предложения.
Оставив идею об альтернативных вариантах, Тауссиг решила не отчаиваться и готовиться к поступлению в медицинский институт. Гарвардский медицинский колледж не принимал женщин (и не будет до 1945 года), но она получила разрешение на изучение гистологии и анатомии в Бостонском университете. По предложению профессора анатомии Александра Бегга она начала исследование сердечной мышцы. Бегг, который был деканом медицинского факультета университета, порекомендовал ей обратиться в центр Джонса Хопкинса, где она могла бы максимально проявить свои несомненные таланты. В последующие годы в своей краткой автобиографической статье она описала, как решила принять совет Бегга и те возможности, которые ей открылись в Балтиморе. Само название этого сочинения многое говорит о том, почему она стала детским кардиологом: «Ограниченный выбор и благоприятная среда».
Поскольку Хелен Тауссиг много знала о функционировании сердечной мышцы, она была весьма полезным сотрудником для кардиологического отделения в центре Хопкинса, где и проработала в течение четырех лет параллельно с обучением. Хотя в 1923 году из семидесяти учеников ее курса было только десять женщин, медицинская служба университета предложила пройти стажировку по окончании учебы только одной из них, в соответствии с давним обычаем, основанием для которого, вероятно, послужила благонамеренная концепция пропорционального представительства. Это вожделенное назначение досталось ее однокурснице Вивьен Тэппан, которая опередила Тауссиг на две десятых балла. Тем не менее руководитель кардиологии Эдвард Картер предоставил ей стипендию в своем отделении.
В том же году из Йельского университета приехал новый глава педиатрии Эдвардс А. Парк и основал педиатрическую кардиологическую клинику, в которую Тауссиг была назначена одним из врачей. Парк был очень добр ко всем своим ученикам и стал для нее буквально путеводной звездой, столь необходимой молодому кардиологу на этом этапе своей карьеры. Он был не только одним из самых искренних сторонников допуска женщин в медицину, но проявлял нетерпимость к любому виду дискриминации. Позже Тауссиг вспоминала эпизод, когда администрация другого учреждения обратилась к нему с просьбой порекомендовать кандидата на один из академических постов. В списке требований они указали, что претендент не может быть женщиной или евреем. Ответ Парка был кратким: «Я не могу рекомендовать никого туда, куда не допускают женщин и евреев, поскольку евреи и женщины принимают самое активное участие в деятельности больниц Харриет Лэйн и Джонса Хопкинса». Такое заявление, сделанное в то время, когда ханжество в отношении обеих групп было признанным фактом университетской жизни, было свидетельством отваги и решимости отстаивать свои принципы, на которые были не способны многие коллеги Парка. Нетрудно понять, почему Хелен Тауссиг сразу ощутила общность духа с таким человеком.
Таким образом Тауссиг обрела наставника и хорошего друга, что привело ее к решению остаться на стажировку в детской кардиологии на следующие полтора года. По окончании интернатуры в 1930 году она была назначена ассистентом в педиатрическое отделение больницы Джонса Хопкинса. Несмотря на то что она находилась только на первой ступени академической лестницы, Парк верил в способности своей юной протеже и доверил ей должность лечащего врача детского кардиологического клинического отделения в больнице Харриет Лэйн, детского подразделения центра Хопкинса. Благодаря такому старту выиграла и детская кардиология, и карьера Хелен Тауссиг. Ее академическая жизнь начиналась в то время, когда медицина только приблизилась к пониманию, что сердечные заболевания у детей требуют пристального внимания и для их исследования необходимы усилия целой когорты врачей, готовых полностью посвятить себя изучению этой проблемы. Жизнь Тауссиг так тесно переплеталась с ее новой специальностью, что в последующие годы стало невозможным говорить о последней, не упоминая заслуги первой.
Парк был настолько щедрым к своей новорожденной клинике, насколько позволяли его средства, но бюджет кардиологического отделения нуждался и в других дополнительных вливаниях. Каждому из нескольких новых, инициированных Парком проектов требовалось соответствующее финансирование, но денег было меньше, чем хотелось бы. Детской кардиологической клинике он выделил электрокардиограф, новый флюороскоп, секретаря-лаборанта, социального работника, четыре тысячи долларов и Хелен Тауссиг. Четырех тысяч долларов хватило на оплату всех расходов, включая жалованье лечащего врача. К счастью, другие сотрудники получали зарплату от больницы.
Вступая в должность, Тауссиг предполагала все свое рабочее время посвящать лечению пациентов, сердца которых пострадали от ревматической лихорадки, которая в то время была самым грозным убийцей детей младшего возраста. По меньшей мере, у половины из тех, кто пережил острую фазу заболевания, фиксировались серьезные нарушения в работе клапанов сердца. Раньше больных детей направляли в обычную медицинскую клинику для взрослых. Теперь же они в большом количестве поступали в новое педиатрическое отделение, где лечащий врач едва успевала делать все необходимое для их лечения. Но у Парка были свои планы: он считал, что необходимо провести исследования врожденного порока сердца. За исключением патофизиологической классификации, которой продолжала заниматься Эбботт, после описаний Фалло и некоторых других врачей ничего не предпринималось в этом направлении.
Полностью полагаясь на мудрость своего наставника и имея «ограниченный выбор и благоприятную среду», Тауссиг начала изучать группу детей, заболевания которых были малоизвестны и совершенно неизлечимы. Для начала она попрактиковалась в обращении со своим флюороскопом, чтобы научиться пользоваться этим аппаратом. Она применяла устройство, считавшееся тогда большим технологическим достижением, но не представляла, куда это ее заведет. Пронизывая тело рентгеновскими лучами, машина проецировала на флуоресцентный экран прозрачное изображение легких, сердца и крупных сосудов, пульсирующих в грудной клетке. Когда распространился слух о ее работе, у нее не было недостатка в пациентах. Как это часто случается, когда создается учреждение специально для лечения хронических заболеваний, врачи с радостью передавали все свои проблемные случаи в новую клинику в надежде, что там их пациентам чем-нибудь помогут.
Сначала все, что Тауссиг могла сделать, это попытаться уловить тонкие различия в симптоматике у разных детей: некоторые были цианотиными, а другие нет; у большинства цианоточных была тетрада, но у некоторых были другие, совершенно непонятные причины недостаточного притока крови в легкие; у кого-то были проблемы с клапаном, у других – отверстия в перегородке между правой и левой сторонами сердца; у некоторых были сердца, не завершившие эмбриологического развития, а у кого-то настолько недоразвитые, что останавливались вскоре после рождения. Поставить диагноз было возможно только в случаях более распространенных проблем, например, таких как тетрада, но даже тогда при вскрытии нередко обнаруживалась ошибка.
День, проведенный в детской кардиологической клинике, был испытанием даже для самых стойких врачей. Поступало много недостаточно развитых детей, которым было настолько трудно дышать, что они теряли сознание при минимальных физических усилиях. С синими, как чернила, носами, ушами, конечностями, а иногда и полностью телами, они присаживались на пол или неподвижно лежали на столах для осмотра, стараясь не двигаться и не усиливать кислородного голодания. Со временем некоторые дети обращались в клинику все чаще по мере обострения симптомов и нарастающего отчаяния родителей. Связь между Хелен Тауссиг и некоторыми ее пациентами, в том числе и их семьями, становилась все сильнее и сильнее. Молодая незамужняя врач становилась детям еще одной тетей и сестрой их родителям. Она никогда не пыталась контролировать степень своего беспокойства обо всех аспектах жизни каждой семьи. Как Эдвардс Парк милостиво был для нее личным спасательным якорем в море неприятностей, так она стала единственной опорой для многих несчастных пар, которые пытались смириться с реальностью приближающейся катастрофы.
Постепенно, в мерцающем свете флюороскопа, Тауссиг начала распознавать определенные закономерности. Поворачивая своих маленьких пациентов под разными углами к аппарату, в свете пронизывающих и делающих практически прозрачными их тела лучей, она с трепетом наблюдала, как их сердца с нарушениями развития изо всех сил пытаются протолкнуть кровь через препятствие, созданное природой. Она ежедневно видела перед собой картины, которые никто раньше не мог себе даже представить. Она запечатлевала истину, о которой раньше можно было только догадываться или обнаружить ее в кабинете для вскрытия, когда было уже слишком поздно. Сама она вспоминала об этом так: «Вскоре я поняла, что информация об изменениях размера и формы сердца и крупных сосудов у цианоточных детей имеет большую диагностическую ценность. Изучение сердца со всех сторон – спереди, сзади, слева и справа в наклонном положении – позволяло определить, какие камеры были увеличены, а какие слишком малы или отсутствуют вовсе».
Когда она узнала достаточно, чтобы понять, какие вопросы необходимо задать, Тауссиг посетила Мод Эбботт в Макгилле. Это произошло в 1938 году, и к тому времени она провела много часов за диссекцией сердец своих умерших пациентов в Балтиморе. Теперь она хотела увидеть коллекцию всех врожденных пороков, открытых к этому моменту и получить некоторое представление о том, каким образом Эбботт их классифицирует. По возвращении она могла намного точнее сопоставлять образцы патологической анатомии с показаниями флюороскопа, электрокардиографа и результатами ее все более эффективных методов физического обследования.
Одна из граней величайшего таланта Тауссиг проявилась именно в разработке методов физического осмотра. Из-за постоянных приступов надрывного кашля у детей ей не удавалось расслышать шумы в грудной клетке. Вследствие этого она развила свою наблюдательность и чувство осязания до такой остроты, что могла получить бо́льшую часть информации, лишь взглянув на грудную клетку ребенка и положив на нее свою руку, чтобы почувствовать отличительные признаки движения грудной клетки в процессе дыхания. Используя подсказки, полученные с помощью собственных рук и глаз, а также ритмических волн электрокардиограммы, она обычно могла предсказать то, что ее интерны, обладающие нормальным слухом, услышат через свои стетоскопы.
Но диагноз, независимо от того, насколько быстро и точно он поставлен, абсолютно бесполезен, когда дело касается лечения. По части врожденных пороков сердца Тауссиг находилась в точно таком же положении, как и ее коллеги столетия назад по отношению к большинству болезней, которые им встречались: можно было поставить диагноз и облегчить симптомы, но вылечить было невозможно. К тому времени нескольким пациентам, имеющим аномалии, связанные с крупными сосудами за пределами сердца, уже были сделаны успешные операции. Бесстрашные хирурги вырезали коарктации – стенозные участки аорты. Короткий суженный отрезок иссекали, а два широких открытых конца сшивали вместе с использованием недавно разработанной техники наложения швов на кровеносные сосуды. Результаты были превосходными. Но, казалось, не существует никакого способа улучшить состояние детей, проблемы которых локализовались в самом сердце.
Одной из серьезных аномалий сердца, которую научились успешно лечить к тому времени, был открытый артериальный проток. В период эмбрионального развития кровь плода получает кислород от матери, поскольку легкие использоваться не могут. Для того чтобы кровь циркулировала, минуя легкие, природа предусмотрела канал – артериальный проток, – благодаря которому она из легочной артерии попадает непосредственно в аорту. После рождения, с первым вздохом младенца проток, уже ненужный, закрывается. Иногда по причинам, которые еще не ясны, сосуд остается открытым. Когда это происходит, направление кровотока внутри него обычно меняется на противоположное, поскольку давление в аорте новорожденного становится намного выше, чем в легочной артерии. Соответственно, в легкие направляется слишком много крови под очень высоким давлением. Такое состояние называется легочной гипертензией. Операция, во время которой открытый проток перевязывают, должна быть сделана до того, как в легких ребенка произойдут необратимые изменения за годы притока к ним чрезмерного количества крови. К началу 1940-х годов такая операция уже была успешно выполнена нескольким маленьким пациентам.
Поскольку многие врожденные аномалии нередко сопровождаются другими, у некоторых пациентов Тауссиг кроме тетрады Фалло был и открытый артериальный проток. Во время изучения этих пациентов в своей клинике, а некоторых и на столе для вскрытия, она заметила, что дети с обоими дефектами развития чувствовали себя достаточно хорошо, но их состояние начинало ухудшаться, если проток спонтанно закрывался годы спустя. Очевидно, что проток выполнял противоположную функцию той, для которой он был предназначен в эмбриональном периоде: он позволял крови попадать из аорты с высоким давлением в легочную артерию с низким давлением, в обход препятствия. Шунтируя кровоток вокруг прегражденного легочного сосуда, он обеспечивал дополнительный приток крови в легкие. Таким образом, логическим решением для пациентов с тетрадой было создание такого протока хирургическим путем. Хелен Тауссиг выполнение этой задачи казалось простой манипуляцией сантехника: поместить отрезок трубы необходимой длины в нужное место и тем самым провести «синюю» кровь вокруг суженной легочной артерии в легкие, чтобы она могла насыщаться кислородом.
Конечно, детский кардиолог понятия не имела, как это сделать, но она точно знала, к кому обратиться за консультацией. Это были Альфред Блейлок и Вивьен Томас.
К тому времени, когда Хелен Тауссиг придумала свой план операции, сорокачетырехлетний Блейлок руководил хирургическим отделением больницы медицинского центра Хопкинса в течение двух лет. Он родился в Каллодене штата Джорджия в семье успешного торговца, окончил Университет Джорджии и медицинский колледж Джонса Хопкинса. Стажировку он начал в качестве штатного врача в отделение урологии, поскольку попасть в интерны к Уильяму Холстеду ему не удалось. Тем не менее он так хорошо справлялся со своими обязанностями, что Холстед незадолго до своей смерти в 1922 году назначил его помощником в хирургию. В 1925 году, не выдержав напряжения конкурентной борьбы на пути восхождения по административной лестнице, он перешел в Нэшвилл, где стал первым главным хирургом в только что открывшейся больнице при Университете Вандербильта.
За пятнадцать лет, прошедших после обучения, Блейлок зарекомендовал себя как прекрасный специалист в вопросах, связанных с кровообращением. В частности, он провел знаковые исследования в области шока, доказав, что общим знаменателем этого плохо понимаемого осложнения многочисленных заболеваний является уменьшение объема крови в системе сосудов. Благодаря именно этому важному открытию медики пришли к осознанию, насколько важно восполнение крови, потерянной при хирургическом вмешательстве или травме; эффективное применение переливания крови и плазмы во время Второй мировой войны было прямым результатом разработок Блейлока. Будет справедливо также подчеркнуть, что методы лабораторных исследований Альфреда Блейлока и многообещающие результаты его экспериментальных работ стали основой для дальнейшего изучения проблем гемодинамики.
Естественно, что размышления в этом направлении привели Блейлока к изучению функций сердца и крупных сосудов. В 1930-е годы несколько крупных медицинских центров специализировались на исследованиях физиологии сердца и легких, в результате чего были достигнуты большие успехи в быстро развивающейся торакальной хирургии. Как и другие ученые, Блейлок работал над методами наложения швов при сшивании концов кровеносных сосудов друг с другом, чтобы формировался так называемый анастомоз, напоминающий сварной шов, который образуется, когда одна труба вставляется в другую. Кроме этого, он изучал физиологические нарушения легочной гипертензии и основы патологической физиологии открытого артериального протока. Чтобы исследовать изменения, которые легочная гипертензия вызывает в легких, он разработал экспериментальную модель на собаке, создав анастомоз между главным сосудом передней лапы – подключичной артерией – и непосредственно легочной артерией. По этому искусственному протоку кровь под высоким давлением поступала прямо в сосуды легких. Это был шедевр экспериментальной кровеносной системы.
Во всех исследованиях Блейлоку ассистировал великолепный помощник. Хотя «ассистировал» едва ли подходящее слово в данном случае. Дело в том, что практически все техническое обслуживание исследований выполнял Вивьен Томас, который в возрасте девятнадцати лет в 1930 году, отказавшись от учебы в колледже в штате Теннесси из-за отсутствия средств, устроился на работу в лабораторию Университета Вандербильта. Довольно скоро после знакомства с ним Блейлок понял, что высокий стройный чернокожий юноша хорошо разбирается в технике и обладает проницательностью прирожденного исследователя. Скромный, умный и быстро обучаемый Томас вскоре стал больше, чем помощником. За одиннадцать лет работы с Альфредом Блейлоком в Вандербильте именно он решал многие проблемы, связанные с экспериментальными конструкциями, и часто подсказывал следующий шаг в проводимых исследованиях.
Они доказали свою способность решать проблемы, поэтому Хелен Тауссиг пришла к ним со своим планом. Однажды утром осенью 1943 года она договорилась с ними о встрече в их хирургической научной лаборатории. По описанию ее знакомых, Тауссиг была высокой стройной привлекательной женщиной в очках без оправы, а ее волосы, расчесанные на средний пробор и собранные в пучок на затылке, делали ее больше похожей на добросердечную школьную учительницу, каких много в Америке, а не на самого известного в мире детского кардиолога. В своей особой, несколько монотонной манере, присущей слабослышащим, со следами бостонского акцента, она рассказала им о физических проблемах своих цианотичных младенцев и собственной беспомощности перед ними. Неизменно учтивый Блейлок слушал ее с интересом, время от времени прерывая, чтобы уточнить какие-то моменты, и задавая вопросы, привычно растягивая слова, как делал всегда, когда хотел произвести впечатление.
Томас тоже внимательно слушал, но многое из того, что она говорила, было слишком сложным, чтобы разобраться во всем сразу. Хотя к тому времени он знал о шоке и сердечно-сосудистой системе больше всех врачей, за исключением небольшого числа специалистов, из деталей презентации Тауссиг у него сложилось смутное представление о проблемах, которые, как он выразился в своей автобиографии, «трудно описать словами, не употребляя сложных технических терминов». Он несколько раз посетил здание патологии, чтобы изучить собранную Тауссиг коллекцию сердец с патологией, прежде чем осознал масштаб задачи, которую поставили перед ним и Блейлоком.
Хелен Тауссиг бросила своего рода научную перчатку двум мужчинам. Блейлок посмотрел на нее, все обдумал и понял, где искать ответ. Ему было абсолютно ясно, что решение вопроса – это его искусственный артериальный проток, этот «шедевр экспериментальной кровеносной системы», сконструированный им несколько лет назад для изучения легочной гипертензии. Соответствующей длины отрезок трубки обеспечит прилив большего объема крови в легкие цианотичных детей.
Разработка технических деталей предлагаемой операции была поручена Вивьену Томасу. Он ставил один эксперимент за другим, пока не довел до совершенства метод создания анастомоза, который отводил поток крови от подключичной артерии в легочную. Поскольку подключичная артерия является основным питательным сосудом в руке, он должен был убедиться, что в результате такой манипуляции не возникнет никаких нарушений ее функций. Он проверил это в ходе операций почти на двух сотнях собак. Кровь частично шунтировалась в легкие, поступая от аорты в подключичную артерию и по искусственному протоку в легочную артерию. Может ли такое увеличение притока крови к легким в достаточной степени помочь цианотичному ребенку, покажет первое испытание операции на реальном пациенте.
Этот настоящий больной появился незадолго до того, как хирургическая команда было готова. В течение года экспериментов у нескольких юных подопечных Тауссиг наступило устойчивое ухудшение состояния. Одна из них, одиннадцатимесячная Эйлин Саксон, стала такой синей, что не могла бы выжить за пределами кислородной палатки. Тауссиг предложила Блейлоку выбрать ее в качестве первой пациентки. Он дал прямой ответ хирурга, привыкшего к серьезным рискам: «Да, именно на таком ребенке нам и следует попробовать. Вы не подвергаете ее опасности, делая новую операцию, вы делаете пациентке новую операцию, без которой она не выживет». Он попросил Томаса подготовить все специальные лабораторные инструменты и шовные материалы к операции в течение следующих двух недель.
В тот момент Блейлок не провел ни одного эксперимента на собаке. Он ассистировал Томасу несколько раз и планировал провести некоторое количество операций самостоятельно, но в течение следующих нескольких дней состояние Эйлин резко ухудшилось; времени на такую роскошь, как предварительное апробирование в лаборатории для животных, не было. Это ничего бы не изменило. Блейлок знал, что нужно делать, и обладал достаточным хирургическим опытом, чтобы справиться с этим. Если бы операция не удалась и для Эйлин Саксон все сложилось бы неудачно, причиной был бы не недостаток профессионализма у хирурга.
Несколько членов бригады, собравшиеся в операционной утром 29 ноября 1944 года, невольно почувствовали тревогу, впервые увидев истаявший серо-голубоватый сгусток одышки весом чуть больше четырех килограммов, который доктор Тауссиг и ее коллеги осторожно вынули из кроватки и положили на стол. Казалось невозможным, что взрослые люди могут проникнуть в открытую грудную клетку такого крошечного, похожего на птичку существа, разделить хрупкие маленькие кровеносные сосуды и вшить их друг в друга. То, что они могли решиться на такой подвиг и проявить невероятную ловкость рук, было связано с их неограниченной верой в себя и в свою удачу, а также исключительным техническим мастерством. В то утро Блейлоку невероятно повезло с ассистентами – врачами, которые внесли неоценимый вклад в искусство клинической хирургии. Это были четыре самые квалифицированные и быстрые руки, когда-либо действовавшие в американской операционной: первым помощником был старший ординатор Уильям Лонгмайр; вторым – стажер по имени Дентон Кули. С такими ассистентами даже идеальный хирург может превзойти собственные возможности.
Врачи начали предварительный этап индукции анестезии, и Блейлок послал за Вивьеном Томасом. Когда техник вошел, то с невозмутимым видом сел на табурет, стоявший позади профессора, но в некотором удалении от Блейлока. Его попросили переместиться ближе, чтобы, наклонившись над столом, он мог рассмотреть каждую деталь, как вся хирургическая бригада. Для хирурга его присутствие было чем-то вроде амулета, но его роль этим не исчерпывалась. Во время формирования анастомоза Блейлок несколько раз советовался с Томасом, достаточно ли близко он накладывает швы и неоднократно Томасу приходилось указывать ему на неправильное направление шва. Тем утром с помощью талантливых профессионалов Лонгмайра и Кули, а также высококвалифицированного техника Томаса Блейлок создал свой первый проток в человеческом теле, в то время как Хелен Тауссиг наблюдала за процессом с чувством удовлетворения и восторга.
После операции Тауссиг и ее коллега по кардиологии, доктор Рут Уиттмор, остались рядом со своей маленькой пациенткой в палате, постоянно наблюдая за ее состоянием по всем известным тогда показателям. Прилив крови к ее рукам был удовлетворительным, она стала несколько менее синюшной, чем раньше, и, самое главное, она пережила операцию, которая, как многие считали, убьет ее. Первая ночь была очень тяжелой, вторая не намного легче. Рут Уиттмор недавно рассказывала мне: «Я спала на носилках у ее кровати в течение двух ночей. Я не могла позволить этому ребенку умереть!» Снова и снова ей приходилось вставлять иглу в грудь Эйлин, чтобы откачивать постоянно скапливавшийся внутри воздух. В конце концов, она оставила иглу в теле, соединив ее с отсасывающим устройством. В последующие дни девочка постепенно становилось менее синей и начала медленно восстанавливаться. К концу второй недели после операции стало ясно, что она выздоровеет. В 1970 году ее мать в интервью врачу и писателю Юргену Торвальду сказала: «Когда мне впервые разрешили увидеть Эйлин, это было похоже на чудо… Ее кожа никогда не была такого розового цвета, как у других детей. Она по-прежнему начинала синеть, когда активно била ножками, но в остальном выглядела как нормальный ребенок. Я была вне себя от счастья».
Доктор Тауссиг подождала, пока исчезнут последние сомнения в счастливом исходе для Эйлин, и выбрала другого кандидата для представления своей хирургической бригаде. При весе менее пяти килограммов Эйлин была меньше, чем большинство собак, на которых экспериментировал Вивьен Томас, но другие дети были старше, и их общее состояние – лучше. Третьего февраля 1945 года была сделана операция двенадцатилетней Барбаре Розенталь. Через неделю, 10 февраля, провели шунтирование шестилетнему мальчику по имени Марвин Мейсон. Вторая девочка почти сразу и полностью избавилась от цианоза, а у третьего ребенка результаты операции были еще лучше, чем у нее. Достижения группы врачей из центра Хопкинса не могли остаться секретом. Под давлением журналистов газет и радиостанций администрация больницы уступила и разрешила дать интервью своей внезапно ставшей знаменитой команде. Хотя и неохотно, Блейлок и Тауссиг стали сотрудничать со средствами массовой информации. Они как никто другой понимали, насколько важно дать надежду родителям цианотичных детей, страдающих от болезней сердца. Они согласились на интервью и публичность не только ради воодушевления жертв тетрады Фалло, но и для того, чтобы сообщить миру о том, что решение других сердечных проблем, возможно, уже на пороге.
К 1 ноября 1945 года новая операция была сделана пятидесяти пяти пациентам. К 30 декабря 1950 года Блейлок и его соратники установили одну тысячу тридцать семь искусственных протоков. Коэффициент смертности с первоначального значения двадцать процентов снизился до неполных пяти. Как и следовало ожидать, в педиатрическую кардиологическую клинику Хелен Тауссиг устремились родители с больными детьми со всех уголков США и всего мира. В первые несколько лет только около трети детей могли быть кандидатами на операцию, но все остальные получали консультации и поддержку Хелен Тауссиг и ее команды молодых стажеров. Рут Уиттмор, благодаря которой спустя десятилетие в больнице Йель – Нью-Хейвен я понял, как мало мне известно о врожденных заболеваниях сердца, была ее правой рукой. Она рассказывала о тех далеких удивительных днях, когда молодые врачи, глядя на них, понимали, что находятся в присутствии ученого-клинициста и гуру, которая также была последователем Гиппократа, лечившего не только пациента целиком, но и всю его семью:
С 1945 по 1947 год, после того как идея доктора Тауссиг о создании искусственного артериального протока для лечения «синих» малышей получила известность, ее клинику осаждала пресса, и на врачей хлынул поток писем от родителей, направлений от кардиологов и запросов от других специалистов, желавших посетить центр Хопкинса. Многие семьи приезжали без предварительного уведомления. Не хватало ни места, ни персонала. Мы все еще занимались лечением многих детей с ревмокардитом, и нам приходилось быстро адаптироваться ко всем потребностям каждого пациента и семьи. Доктор Тауссиг организовала работу таким образом, что нам как-то удавалось выполнять все требования по мере необходимости. Кроме этого, мы гостеприимно встречали десятки известных врачей, приезжавших со всего мира, многие из которых повсюду сопровождали нас, наблюдая за нашей повседневной деятельностью.
Процесс совершенствования шел интенсивными темпами. Доктор Тауссиг, ученый-кардиолог, и кардиохирурги учились день за днем и применяли полученные знания к следующей группе пациентов… В эти годы стремительно меняющихся событий доктор Тауссиг осознала, что для того, чтобы распространить опыт такой работы и оказать помощь как можно большему числу детей, необходима подготовка педиатров в области кардиологии и взаимодействие с центрами в других частях страны. Она встретилась с руководителями Детского бюро и заручилась их поддержкой в распространении знаний и медицинской помощи в других географических районах.
Доктор Тауссиг любила называть своих пациентов маленькими головоломками. По мере ее быстро развивающейся способности постигать значение каждого загадочного симптома, она тут же делилась своими новыми соображениями со своими товарищами. Они становились такими же виртуозами физического и рентгеноскопического обследования, как и она, и также умели интерпретировать различные лабораторные данные, которые они постоянно добавляли в свой пакет диагностических приемов. Доктор Уиттмор вспоминала потрясающую способность Тауссиг «обдумывать и решать головоломки». Она обучала больше примером, чем наставлениями. Она точно знала, какие вопросы задавать себе и как использовать ответы, чтобы заполнить пустые клеточки в кроссворде. «Она формулировала задачу, размышляла над способами ее решения, обсуждала их с нами и когда была уверена, что права, действовала. Она обращалась ко всем источникам, которые, по ее мнению, могли помочь ей сопоставить все за и против. Затем настойчиво и энергично внедряла свои идеи по совершенствованию медицинской науки и человеческой жизни».
Хелен Тауссиг преподавала своим коллегам не только детскую кардиологию. Она демонстрировала на личном примере, как целитель может утешить семью, столкнувшуюся со страшной болезнью. Все, кто писал воспоминания о ней, отмечали ее теплоту, сострадание и внимание к каждому человеку. Если Рут Уиттмор является воплощением ее жизненной концепции, то всем этим воспоминаниям можно доверять. Ее учитель никогда не считала нужным устанавливать служебную дистанцию между собой и людьми, за чью жизнь она взяла на себя ответственность. Как и доктор Уиттмор. Сидя со мной в своем кабинете в феврале 1987 года, кардиолог Йельского университета описывала случай цианотичного мальчика с тетрадой Фалло, который пережил жестокость японской оккупации Филиппин и был отправлен непосредственно в Хопкинс по прибытии на первом военном корабле «Грипсхольм» с американскими репатриантами. Отец мальчика был убит, но благодаря заботе своей матери он каким-то образом пережил годы лишений и оказался на приеме у доктора Тауссиг. Он был слаб от недоедания и болезни, но отчаянно хотел, чтобы ему сделали операцию. Кардиологи и хирурги сочли, что его состояние не улучшится, пока его кровь не станет лучше обогащаться кислородом, поэтому они решили не медлить, несмотря на большую опасность из-за его истощения. Это было трудное решение, но как только все факторы были взвешены, выбора не было. Мальчик с оптимизмом пошел в операционную, но операция оказалась слишком тяжелой для его изнуренного тела – он умер через несколько дней. В тот тихий зимний день сорок лет спустя, вспоминая подробности его смерти, Рут Уиттмор дала волю своей печали и чувству разочарования: «Может быть, мы ошиблись, возможно, мы должны были подождать, пока он немного окрепнет перед операцией». Ее глаза медленно наполнились слезами, как будто она говорила о событиях, произошедших только вчера.
Достижения Хелен Тауссиг стали маяком не только для пациентов, но и для педиатров, которые хотели изучать детскую кардиологию. Поскольку она была первым врачом, описавшим клиническую картину различных форм врожденных заболеваний сердца, она знала о нюансах ухода за такими пациентами больше, чем кто-либо в мире. На второй год обучения у нее было три стажера, и год от года число желающих пройти у нее подготовку только увеличивалось.
Многим врачам, должно быть, казалось странным, что кто-то хочет ограничить свою практику столь малой и узкоспециализированной областью, как детская кардиология, но для тех, кто был сколько-нибудь знаком с работой ее родоначальницы, эта специальность была чем угодно, только не ограничением. Американские и иностранные врачи стекались в Хопкинс. Так же, как это было в случае с программой Уильяма Холстеда в хирургии, стажеры Тауссиг разъехались по всем Соединенным Штатам и учредили собственные программы подготовки, так что в течение двух десятилетий в стране появилось множество высококвалифицированных специалистов, обученных первым педиатром-кардиологом. Среди них были Рут Уиттмор в Нью-Хейвене, Роберт Циглер в Детройте, Гилберт Блаунт в Колорадо, Эдвард Ламберт в Буффало, Даниэль Макнамара в Хьюстоне, Джеймс Мэннинг в Рочестере и Мэри Аллен Энгл в Нью-Йорке. В 1950 году доктор Тауссиг положила начало длинной серии встреч со своими коллегами. После первой вечеринки на лужайке у ее дома эти собрания проводились раз в два года и стали крупным академическим событием, на которое съезжались ведущие детские кардиологи мира, чтобы отдать дань уважения своему педагогу и поделиться своим опытом.
Я всегда восхищался врачами, которые лечат сердца детей, и не только за их мастерство, но и за их человечность. Я полагаю, что структура педиатрической кардиологии соприкасается с жизнью пациентов больше, чем любая другая из быстро развивающихся специализаций, на которые сегодня разделяется Искусство исцеления; это образец для тех, кто хотели бы быть настоящими врачами, независимо от того, какую область медицины они выбрали для обучения – нефрологию, микрососудистую хирургию, инвазивную радиологию или любую другую из существующих сегодня. В детской кардиологии работают мужчины и женщины, чьи отношения с пациентами и их семьями доказывают то, что, являясь врачом, лечащим, как некоторые думают, лишь определенный орган или одну болезнь, можно быть целителем больного человека в целом.
Не стоит заблуждаться: такие люди, как Хелен Тауссиг и ее ученики, есть в каждой отрасли медицины; все они – высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что в повседневной жизни не должно быть никаких противоречий между технократическими методами современной медицины и заботой о наших больных братьях и сестрах. Конечно, дети с ограниченными возможностями вызывают сочувствие даже у самых отстраненных клиницистов, но не это является главной причиной всеобъемлющей заботы педиатров-кардиологов о своих пациентах. Я уверен, объяснение этому состоит в том, что многих из тех, кто выбрал эту специальность, привлекла в первую очередь атмосфера, царящая в данном сообществе, суть которой заключается во внимании к человеку в целом и ко всем людям без исключения. Хелен Тауссиг не приходилось специально обучать этому своих учеников; большинство из них приходили к ней, как мне кажется, потому что сами были сторонниками именно такого подхода. А благодаря ее опеке их таланты расцветали с неодолимой силой.
В 1947 году доктор Тауссиг опубликовала первый учебник по специальности, которую она создала. Начатый десятью годами ранее проект реализовался в прекрасно иллюстрированной книге, вышедшей в свет в самый благоприятный момент. С увеличением внимания к диагностике и лечению врожденных сердечных заболеваний ее труд «Врожденные пороки развития сердца» стал фундаментом, на основе которого могли проводиться дальнейшие научные исследования в этом направлении. Врачи, желающие изучить тяжелые аномалии, с которыми им приходилось иметь дело, высоко оценили простой описательный стиль книги, облегчающий понимание сложных вопросов, связанных с нарушениями кровообращения в организме. Джордж Саксон, педиатр из Хьюстона, не имевший официальной подготовки в кардиологии, но считавший себя авторитетом в области врожденного порока сердца до приезда Даниэля Макнамары, вспоминал, что «в те дни я ходил по кардиологической клинике со стетоскопом в одной руке и книгой доктора Тауссиг в другой». Основанная ею специальность развивалась так быстро, что уже в 1960 году потребовалось второе издание пособия в двух томах, в каждом из которых было более тысячи страниц.
По мере увеличения числа успешных операций уровень смертности продолжал падать, а долгосрочные результаты подтвердили эффективность процедуры шунтирования Блейлока – Тауссиг. На Хелен Тауссиг, к тому времени ставшую фигурой государственного масштаба, возложили массу всевозможных обязанностей, среди которых была и защита животных от использования в экспериментах. В 1949 году группы противников вивисекции в Балтиморе стали особенно активно нападать на сотрудников лаборатории медицинского центра Хопкинса и Университета штата Мэриленд. Они добились не только запрета на эксперименты на бродячих собаках, пойманных в городе, но и ареста продавцов, доставлявших животных из соседних штатов. Администрация медицинских колледжей обратилась с этой проблемой в городской совет Балтимора, который провел серию слушаний по этому вопросу. Несмотря на то что многие выступающие защищали эксперименты на животных, решающим событием разбирательств стало драматическое представление Хелен Тауссиг. Она привела в зал заседаний команду улыбающихся розовощеких, в прошлом цианотичных детишек, которые были конечными бенефициарами работы Вивьена Томаса. Многих из них сопровождали их собственные собаки. На следующий день все газеты Балтимора опубликовали статьи и трогательные фотографии. Когда законопроект о противодействии вивисекции был представлен для обсуждения на следующих муниципальных выборах, его отклонили большинством в три четверти голосов.
Совместная работа Блейлока и Тауссиг не закончилась на успешном внедрении операции шунтирования. Чтобы справиться с большим наплывом пациентов, они разработали систему разделения обязанностей по этапам, включающим диагностику, интраоперационное и послеоперационное ведение и долгосрочное наблюдение. Эта схема стала эталоном не только для большинства центров кардиологической помощи, но и для других многопрофильных медицинских учреждений. Командный подход, который сегодня так широко используется при лечении многих заболеваний, берет свое начало из детской кардиологической программы в центре Хопкинса.
Сложно ожидать, что отношения между людьми, один из которых выбрал профессию хирурга, а другой – педиатра, будут гладкими, особенно если один из них – это высококвалифицированный решительный мужчина, а другой – высококвалифицированная решительная женщина. На основе свидетельств очевидцев создается впечатление, что Альфред Блейлок и Хелен Тауссиг умели договариваться друг с другом лучше, чем можно было бы ожидать, но в любом случае без конфликтов дело не обходилось. Хотя порой найти общий язык с образцовым изысканным южным джентльменом Блейлоком было нелегко. По словам одного из его коллег Марка Равича: «Он был уверен, что обладает исключительными преимуществами, и многие завидуют ему; он следил за тем, что никто не посягал на его особые права, и это было настолько очевидно, что какие-либо попытки предпринимались редко. Он никогда не забывал и не прощал ни беззлобной насмешки, ни серьезной обиды. Когда он сердился, его месть чаще всего осуществлялась не сразу и выражалась в действиях и в отношении, а не в словах». Естественно, с таким человеком никому не хотелось связываться, и Тауссиг редко шла на это. Несмотря на высокий профессионализм хирурга, в нем парадоксальным образом сочетались требовательность и неуверенность во время операций, при этом он иногда начинал жаловаться, выражая свои сиюминутные страхи любому, кто мог его слышать. Обстановка в операционной на начальных этапах часто была довольно напряженной, и Тауссиг сдерживалась, чтобы не провоцировать Блейлока. В целом они хорошо ладили друг с другом и неоднократно вместе путешествовали, демонстрируя свою процедуру и ее результаты в других городах. В 1947 году они отправились в Англию. Этот визит описал Рассел Брок, хирург из больницы Гая, в написанной в 1965 году статье о Блейлоке, спустя год после его смерти:
Он и Хелен Тауссиг вместе провели лекцию в большом зале Британской медицинской ассоциации; в огромном помещении не было ни одного свободного места. Доктор Тауссиг безукоризненно произнесла свое обращение, вслед за ней выступил доктор Блейлок и, по привычке растягивая слова, представил по-настоящему мощный и острый доклад о своих блестящих, весьма впечатляющих результатах. Безмолвие аудитории выражало напряженное внимание и восхищение. В зале было довольно темно, чтобы были хорошо видны слайды с изображениями пациентов до и после операции. Внезапно длинный луч прожектора пробежал по всей длине зала и остановился точно на площадке, где на стуле сидела медсестра из больницы Гая, одетая в привлекательную униформу голубого цвета, и держала на руках похожую на херувима, маленькую, двух с половиной лет девочку с ореолом белых вьющихся волос, которую Блейлок оперировал неделей ранее. Ребенок был нормального цвета и выглядел здоровым. Эффект был ошеломляющим, как в театре, а аплодисменты аудитории – бурными. Эта живая сцена напоминала картину с изображением Мадонны – идеальный кульминационный момент для потрясающей лекции о событиях, имевших эпохальное значение. После этого лектору добавить было нечего. Увиденное не могло не убедить аудиторию и запечатлелось навсегда в памяти присутствующих.
Эпизоды, подобные этому, в сочетании с впечатляющими результатами операции, вдохновляли других хирургов Соединенных Штатов и Европы внедрять с помощью только что прошедших обучение детских кардиологов шунтирование Блейлока – Тауссиг. Более того, несколько центров начали эксперименты не только с альтернативными методами достижения тех же целей, но и с операциями непосредственно на само́м сердце при различных врожденных и приобретенных патологических состояниях. В процессе углубления понимания сердечной физиологии, которому способствовали исследования в Балтиморе и других специально созданных медицинских учреждениях, стало возможным исцеление других сердечных заболеваний, раньше считавшихся неизлечимыми. В конце 1940-х и начале 1950-х годов шаг за шагом развивались диагностические методы, вспомогательные средства и технические детали операций на сердце. Именно в эти годы произошло рождение специальности хирурга-кардиолога.
В течение 1950-х годов Хелен Тауссиг активно проводила научные исследования, преподавала и лечила своих юных пациентов. Различные национальные и международные комитеты часто приглашали ее к сотрудничеству, федеральные комиссии прибегали к ее помощи в консультировании и в организации новых программ. В 1959 году ее назначили на должность профессора педиатрии в центре Хопкинса. К тому времени она, безусловно, была самой известной и наиболее уважаемой в мире женщиной-врачом.
Тауссиг интересовало все, что так или иначе касалось благополучия детей. Если вопрос требовал этого, она становилась воинственной и бескомпромиссной в своей неослабевающей решимости оказать помощь каждому ребенку, применив новые знания, которые медицинская наука середины двадцатого века стремительно делала все более доступными. Неутомимая борьба за здоровье детей привела Тауссиг ко второму величайшему достижению ее жизни: речь идет о запрещении талидомида на американском фармацевтическом рынке. Как и в случае с цианотичными детьми, для решения проблемы она объединилась с другим врачом, обладающим разнообразными талантами, Фрэнсис Келси.
Во второй половине 1950-х годов западногерманская фирма Chemie Grünenthal поставила на европейский рынок новый седативный препарат под названием «контерган». Лабораторные испытания показали, что препарат настолько безопасен, что его можно отпускать без рецепта врача. Благодаря мягкости действия, отсутствию явных побочных эффектов и скромной цене он стал чрезвычайно популярным, и не только продавался людям через аптеки, но и распространялся по больницам и психиатрическим заведениям. Из-за эффективности препарата в борьбе с тошнотой во время беременности он широко применялся будущими матерями и как антиэметик, и как снотворное. Под разными названиями препарат активно продавался в Канаде, Великобритании, Португалии, Австралии и Новой Зеландии. В сентябре 1960 года компания Уильяма С. Меррелла подала в Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами (УКПЛ) заявку на разрешение на продажу в Соединенных Штатах нового лекарства под названием «талидомид».
Доктор Келси, которая имела и медицинскую степень, и диплом фармаколога, сначала скептически отнеслась к этому обращению. У нее вызвал подозрение характер подтверждающих качество документов, представленных Мерреллом; они больше напоминали рекомендательные письма, чем объективный научный анализ. «Согласно бумагам, свойства препарата были чересчур хороши, чтобы это могло быть правдой», – писала она позже. Заявление на новое лекарство было отклонено до тех пор, пока компания не представит более убедительных свидетельств. При этом было начато клиническое тестирование на ограниченном сегменте американского рынка.
Тем временем в немецких медицинских журналах появились тревожные сообщения о нарушениях ощущений и мышечной слабости у тех, кто употреблял препарат на долгосрочной основе. В апреле 1961 года западногерманские власти приняли решение о том, чтобы контерган продавался исключительно по рецепту; выявление неврологических симптомов вызвало у Келси беспокойство о возможных последствиях для детей беременных женщин. Ее озабоченность оказалась не напрасной: от немецких врачей уже начали поступать тревожные сообщения о необъяснимом увеличении числа новорожденных с ранее редким врожденным дефектом под названием «фокомелия». У большинства таких детей были дефектные или отсутствовали вовсе кости предплечья, и, по крайней мере, половина из них имела аналогичные аномалии в ногах. В самых крайних случаях младенцы рождались с небольшими зачатками рук и ног в виде культей вместо конечностей. Кроме этого, часто возникали такие проблемы, как отсутствие уха или паралич лица. Деформации были ужасающими. Никто не догадывался о причине, пока исследование одного из немецких врачей не показало, что пятьдесят процентов пострадавших детей родились у матерей, употреблявших контерган во время беременности. В ноябре 1961 года Chemie Grünenthal отозвала это лекарство с рынка. Компании, производящие его в Англии, Австралии и Канаде, вскоре последовали ее примеру.
Доктор Тауссиг не знала о причастности УКПЛ к распространению препарата до января 1962 года. О фокомелии и ее возможной связи с использованием контергана ей за воскресным ужином рассказал приехавший к ней из Германии врач, прошедший ранее ее обучающую программу. Верная себе, Тауссиг решила все выяснить сама. Первого февраля 1962 года она приехала в Германию и в течение шести недель объезжала крупные клиники, осматривая младенцев с аномалиями и опрашивая матерей и врачей. Наиболее убедительным доказательством для нее стало то обстоятельство, что среди новорожденных детей американских солдат, дислоцированных в Германии, был только один случай фокомелии: ребенок, мать которого, покинув пост на территории, где препарат был запрещен, купила его в местной аптеке.
Хотя Тауссиг проводила дознание самостоятельно, доктор Келси вскоре узнала, что один из ведущих специалистов США по врожденным заболеваниям занимается детальной проверкой контергана. Она задержала рассмотрение заявки на новое лекарство от Меррелла до возвращения Тауссиг. Второго апреля педиатр представила результаты своего расследования на национальном собрании американского врачебного колледжа. Двадцать четвертого мая она сделала сообщение для комитета Кефаувера, где продемонстрировала ужасающие свидетельства в виде диаграмм и фотографий изувеченных немецких детей. На следующий день в журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science вышла ее краткая статья на эту тему.
Хотя тестирование талидомида в Америке было приостановлено в марте 1961 года, более двухсот женщин уже использовали его. Кроме этого, фармацевтическая компания не смогла представить отчет о том, где находятся две из пяти тонн изготовленных лекарств, поэтому было неизвестно, сколько таблеток все еще оставалось у врачей, которым оно было отправлено для тестирования. Данные, представленные Тауссиг, и ее статью Фрэнсис Келси использовала в качестве обоснования для отказа в разрешении на продажу препарата от Меррелла. Талидомид был отклонен окончательно, а Меррелл подвергся критике со стороны УКПЛ за предоставление ложных свидетельств его безопасности. Результатом успешного сотрудничества двух врачей стал новый свод гораздо более строгих правил тестирования лекарств, вступивший в действие в феврале 1963 года. Президент Кеннеди наградил Келси золотой медалью за выдающиеся заслуги и назначил ее директором нового отдела Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, созданного в соответствии с новыми правилами для наблюдения за клиническими испытаниями новых лекарств. А Тауссиг получила свою награду от Германии: больница Университета Коттингена назвала свою амбулаторную клинику ее именем.
История с талидомидом стала причиной участия доктора Тауссиг в другом, разгоревшемся в то же время споре относительно права женщины на прерывание беременности. Она давно считала, что американские законы об абортах были архаичными и несправедливыми и часто приводили к трагедии не только в жизни женщин, но и в обществе в целом. Как человек, посвятивший всю жизнь делу спасения детей, тяжело страдающих от врожденных заболеваний сердца, она не видела никакого смысла принуждать матерей рожать нежеланного ребенка, да еще заведомо больного, если существует безопасный способ предотвратить это. Она не раз видела, как часто рождение такого ребенка повергало в хаос жизнь его братьев и сестер, родителей и всех родственников. Как никто другой, она знала, какие огромные ресурсы требуются социальным агентствам для решения долгосрочных последствий таких проблем. Ей приходилось держать за руки стольких несчастных детей, чья жизнь никогда больше не будет нормальной.
Внимание общественности к этому вопросу привлекло дело Шерри Финкбайн, американки, которая во время беременности принимала диставил, британский аналог контергана. Поскольку существовала большая вероятность повреждения эмбриона, миссис Финкбайн хотела сделать аборт легально, но получила отказ везде, куда обратилась за помощью.
Тауссиг была возмущена бездушным отношением администрации. Она спорила не с теми, кто не хотел прерывать беременность из-за своих религиозных убеждений, а с теми, кто навязывал свои взгляды всем остальным. Ее не заботила древнейшая философская дилемма, касающаяся момента зарождения жизни; она думала только о страданиях семей. Благодаря собственному опыту она знала, что удаление дефектного эмбриона – это не что иное, как предотвращение потенциальной трагедии.
Она приводила множество свидетельств в пользу либерализации законов об абортах, но на этот раз ее усилия были напрасными. Когда все просьбы Шерри Финкбайн были отклонены, молодая женщина была вынуждена отправиться в Скандинавию, чтобы избавиться от поврежденного плода. После того как в 1981 году Верховный суд США отменил государственные законы, запрещающие прерывание беременности, Тауссиг, потрясенная резкой критикой некоторых противников абортов, высказала в интервью свою точку зрения в своей обычной откровенной манере:
Мы по-прежнему ведем борьбу с группой «Право на жизнь», члены которой абсолютно убеждены в том, что жизнь священна с момента зачатия до рождения. Насколько я вижу, им все равно, что происходит с ребенком после рождения или каким рождается ребенок. Им безразлично, пока человек не умрет, и тогда они отпускают ему грехи.
В июле 1963 года доктор Тауссиг ушла в отставку с поста главного врача детской кардиологической клиники Харриет Лэйн. Ее выход на пенсию ничего не изменил. Она продолжала исследования настолько эффективно, что уже после этой даты она опубликовала сорок одну из ста своих основных научных работ. Когда Национальный фонд помощи детям с врожденными дефектами «Марш десятицентовиков» учредил стипендию для ученых на пенсии, она получила ее первой. Она потратила сорок тысяч долларов на организацию долгосрочного наблюдения за детьми и взрослыми, которые проходили шунтирование Блейлока – Тауссиг в период между 1945 и 1950 годами. Она была необычайно предана своим больным и их семьям: девяносто три процента своих пациентов она наблюдала в течение десяти лет и восемьдесят восемь процентов – в течение пятнадцати лет. Она лично осматривала каждого выжившего пациента, до которого могла добраться физически. В результате собранная информация стоила больше, чем любой обычный свод объективных данных. Она была представлена в виде уникального отчета от уникальной ассоциации выпускников, почти все члены которой были бы мертвы, если бы не Хелен Тауссиг, Альфред Блейлок и Вивьен Томас.
Из 779 пациентов, данные о которых были собраны, 685 человек пережили послеоперационный период, длившийся два месяца, при общей смертности менее двенадцати процентов. В начале пятнадцатого послеоперационного года 441 из этих 685 были еще живы. Статистика операций на ранних этапах показывала восемьдесят один процент отличных или хороших результатов, семь процентов были признаны удовлетворительными, а остальные – неудачными или закончились смертью больного. В ходе дальнейших исследований спустя пять лет было обнаружило, что умерли лишь двадцать четыре пациента. К 1975 году кардиохирургия достигла такого высокого уровня, что двумстам двадцать семи оставшимся в живых была проведена полная коррекция тетрады. Шунт Блейлока – Тауссиг был, по сути, только способом направить больше крови в легкие. Как только стали проводиться операции на открытом сердце, появилась возможность исправлять дефекты непосредственно внутри сердца, открывая узкий легочный проток и закрывая отверстие в перегородке.
Реферат к статье, написанной Тауссиг в 1975 году, вполне правомерно завершался гордой кодой:
Около двухсот пятидесяти пациентов создали семью; сто шестьдесят один из них имеют одного или нескольких детей. Тридцать пять процентов окончили колледж, а 68,7 процента получают приличные зарплаты. Высокий уровень образования многих пациентов убедительно доказывает то, что недостаточное насыщение артериальной крови кислородом не является основной причиной умственной отсталости. Профессии пациентов указывают на чрезвычайно хорошее качество их жизни и на то, что порок сердца в детстве не исключает успеха во взрослой жизни. Примерно шестьдесят девять процентов этих пациентов своими налогами возместили расходы общества на их реабилитацию.
Шунт Блейлока – Тауссиг оправдал все надежды своих создателей. Он не только спас тех пациентов, которые пережили операцию, но и позволил большинству из них иметь практически такое же качество жизни, как у здоровых людей. Многие дети дожили до рассвета следующей эры кардиохирургии, когда начали проводиться операции на открытом сердце, позволяющие полностью скорректировать врожденные пороки сердца.
Хелен Тауссиг, 1975 год. (Предоставлено Юсуфом Каршем, Оттава.)
Несмотря на то что в 1975 году Хелен Тауссиг исполнилось семьдесят семь, этой статьей не закончились ее научные изыскания. Даже после переезда через несколько лет из Балтимора в поселок для пенсионеров Кросслэндс, недалеко от Филадельфии, она не оставила изучение врожденного порока сердца. Теперь все свое внимание она сконцентрировала на попытке обнаружить основные причины появления дефектов у эмбрионов, а для этого она начала исследовать сердца птиц. У нее родилась мысль, что подобные аномалии обусловлены не ошибками, возникающими в процессе формирования эмбриона как такового, а скорее задержкой развития части генов на одной из стадий более раннего периода эволюции человека как вида. Другими словами, она полагала, что каждая аномалия может быть проявлением атавизма более примитивного этапа становления животной жизни. Понимая, что такое предположение будет нелегко доказать, она не отказалась от решения приступить к исследованиям, несмотря на свой весьма преклонный возраст – тогда ей уже было за восемьдесят. К работе над этой теорией она привлекла своего давнего друга, моего профессора анатомии Томаса Форбса, ушедшего в отставку приблизительно в то же время, что и Тауссиг. Показывая мне в конце 1981 года их переписку, Том Форбс заметил, что по-прежнему представляет себе Хелен Тауссиг молодым восторженным педиатром из центра Хопкинса, которая однажды вечером после ужина в доме тогда совсем юного и сильно ограниченного в средствах преподавателя анатомии в начале 1940-х годов попросила у него карандаш и нарисовала схему шунта Блейлока – Тауссиг на единственной хорошей льняной скатерти его жены Хелен. Годы спустя Хелен Форбс сказала мужу, что очень сожалеет о том, что выстирала эту незабываемую диаграмму.
В то время как большинство людей ее возраста ограничивались уединенным чаепитием в мягких тапочках, доктор Тауссиг не только продолжала работать над своей новой теорией, но и принимала активное участие в делах общины Кросслэндс, где у нее появились новые друзья. Она продолжала писать научные статьи и интересоваться общественной жизнью. Двадцать первого мая 1986 года, в день предварительных выборов, она собрала группу своих товарищей из Кросслэндс и отвезла их на выборный участок. Выезжая с подъездной дороги к зданию, где проходило голосование, она врезалась в другой автомобиль. Единственной жертвой столкновения была Хелен Тауссиг, которая мгновенно погибла за три дня до своего восьмидесятивосьмилетия.
Имена Хелен Тауссиг и ее соавтора навсегда останутся связаны с одним из величайших достижений медицины нашего времени. Они были единомышленниками, и каждый из них обладал талантом, позволившим воплотить задуманное в реальность. Каждый из них сделал множество других замечательных вещей за время своей необычайно плодотворной карьеры, особенно в области подготовки молодых врачей. Единственное значительное различие между ними состояло в их отношениях с пациентами, которое они транслировали своим молодым последователям. Нельзя сказать, что Альфред Блейлок был недостаточно внимательным к своим пациентам или не проявлял к ним сострадания, поскольку он, конечно же, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог быть недоброжелательным с теми, кто пришел к нему за помощью. Но он был, как все хирурги того времени. Марк Равич, описывая Блейлока, охарактеризовал и его профессию в целом: «Несмотря на его сердечность и вежливость, он никогда не забывал о своем особом положении». Приоритеты Блейлока и Хелен Тауссиг были разными. «В общем, он, казалось, избегал эмоциональной вовлеченности в дела своих пациентов, при этом создавалось впечатление, что, когда он особенно беспокоился о них и предъявлял повышенные требования к персоналу больницы, то волновался он именно об успехе операции».
Хелен Тауссиг придерживалась совсем иной стратегии. Она рассматривала исцеление, достигнутое благодаря ее лечению, как один из этапов в жизни маленьких пациентов и в восстановлении спокойствия их семей. Эмоциональное сопереживание было для нее частью терапевтического процесса, облегчающего боль пациента и врача на пути к выздоровлению. Беспристрастный анализ симптомов болезни не исключает эмпатии; объективность при выборе рискованного курса лечения не означает, что не должно быть слез, если он не приведет к успеху; Хелен Тауссиг не сдерживала чувств. Своим юным подопечным она отдавала частицу себя самой. Она была их врачом, она была источником надежды, и она не боялась быть им другом. Именно таким было ее представление о настоящем враче.
15. Новые сердца вместо старых. История трансплантации
Пусть Бог хранит в своем царстве душу молодого человека, чье сердце бьется в моей груди. И пусть семью донора утешит мысль о жизни, которую их сын оставил в наследство.
Рэймонд Эдвардс, 9 апреля 1986 года, из письма, написанного сотруднику больницы Йель – Нью-Хейвен спустя месяц после трансплантации сердца
История болезни конца двадцатого века:
В десять часов вечера 20 августа 1975 года сорокадвухлетний метеоролог национальной метеослужбы приехал в приемный покой больницы Милфорда штата Коннектикут, жалуясь на тошноту, потерю аппетита и боли в животе. Симптомы появились два дня назад, начавшись с генерализованной боли вокруг пупка, которая затем постепенно переместилась в правый нижний квадрант. В первый день возникновения симптомов больного вырвало один раз. Когда он шел от регистратуры в приемную, сопровождавшая его медсестра заметила, что он немного прихрамывал, стараясь удерживать вес тела в основном на левой ноге. При осмотре врач, нажимая пальцами на область с выраженной симптоматикой, определил крайнюю ее чувствительность. Расположенные в верхнем слое мышцы были неподатливыми и жесткими, а живот был умеренно вздут. Надев на руку перчатку и введя палец в прямую кишку пациента, доктор выявил значительный дискомфорт в правой верхней ее части. Был диагностирован аппендицит и приглашен хирург для консультации.
Пришедший через полчаса врач отметил, что пациент настолько обезвожен, что его речь немного неразборчива из-за сухости языка. Поскольку каждое движение причиняло ему боль, он неподвижно лежал на правом боку, подтянув колени к животу. К этому времени анализ крови, заказанный медсестрой приемного отделения, был завершен и показал заметное повышение уровня лейкоцитов и увеличение доли полиморфно-ядерных лейкоцитов, что означало наличие сильного воспалительного процесса в организме. Уровень гемоглобина и основные показатели химического состава крови были в норме. Рентген грудной клетки также не показал отклонений. Одна из волн электрокардиограммы свидетельствовала о некоторых неспецифических изменениях, но в остальном не было выявлено ничего угрожающего.
Хирург подтвердил диагноз врача из отделения неотложной помощи. После того как пациенту рассказали о пользе и рисках будущей операции, он подписал то, что юристы называют информированным согласием. Ему побрили живот и увезли в операционный зал.
Операция началась примерно через два часа после прибытия пациента в отделение неотложной помощи. После индукции общей анестезии был сделан короткий разрез в области правого подреберья, разведены в стороны залегающие под кожей мышцы и открыта брюшная полость. Смесь дурно пахнущей жидкости и гноя вырвалась наружу через разрез, точно так же, как у старика из Болоньи, которого вскрывал Джованни Морганьи два с половиной столетия назад. Хирург подтянул основание слепой кишки с воспаленным перфоративным аппендиксом в операционное поле.
Аппендикс удалили, на его место вставили дренаж и закрыли рану. Два часа спустя больного перевели в палату. Кроме курса антибиотиков и нескольких доз демерола в течение первых сорока восьми часов после операции другие лекарства не применялись. После нескольких тяжелых дней началось восстановление без каких-либо осложнений. Через неделю пациента выписали. Вскоре он вернулся к работе – предсказывать погоду, а разорвавшийся аппендикс остался в прошлом. Все расходы на его лечение были оплачены по страховому полису, субсидируемому правительством.
Этим сорокадвухлетним мужчиной был Рэймонд Эдвардс. Поскольку хирург, который оперировал его, был моим другом, мне случилось встретиться с ним через несколько дней после только что описанных событий. Снова я увидел Рэя одиннадцать лет спустя, когда в случайном разговоре со знакомым хирургом узнал, что ему два дня назад сделали еще одну операцию, но на этот раз гораздо более серьезную, чем аппендэктомия. Он лежал в кардиологическом отделении интенсивной терапии в больнице Йель – Нью-Хейвен после успешно проведенной трансплантации сердца.
За два с половиной века, прошедших после того, как Морганьи препарировал гнойный труп старика из Болоньи, научная медицина сделала большой шаг вперед. Во-первых, было установлено, что каждый симптом имеет определенное анатомическое обоснование, и место его происхождения можно отследить. Морганьи считал симптом «криком страдающего органа». Постепенно выяснялось, что он с одинаковой вероятностью может быть криком страдающих тканей, клеток и молекулярных структур. Между тем различные типы симптомов были дифференцированы друг от друга, классифицированы и систематизированы по группам, ассоциирующимся друг с другом и достаточно предсказуемых, чтобы обеспечить диагностирование конкретных заболеваний. Быстрое развитие методов осмотра в начале девятнадцатого века позволило определять у живых пациентов внутренние изменения, которые впоследствии будут подтверждаться результатами аутопсии. К середине столетия врачи научились довольно точно диагностировать разнообразные болезни с помощью своих ощущений и стетоскопов. Вскоре после этого все большее понимание тайн физиологии сделало возможным анализ не только физического расстройства, связанного с болезнью, но и химические флуктуации.
Медицина как наука не смогла бы найти надлежащих способов лечения, если бы не решила проблему определения причин появления недугов. Морганьи положил начало поискам обнаруживаемых последствий, возникающих в процессе болезни. Он старался выяснить те первичные стимулы, которые приводят к этим последствиям и о которых у него не было никакой информации. Почему в легких развивается пневмония, а в печени – цирроз? Откуда берется кальций, который покрывает внутреннюю поверхность стареющих кровеносных сосудов таким толстым слоем, что они становятся практически непроходимыми, в результате чего разрушаются ткани, которым не хватает питания? Почему клапаны сердца утолщаются и теряют эластичность, и почему извилины головного мозга иногда выравниваются? Что провоцирует рост опухоли или сердечную недостаточность? Отчего почка теряет свою способность отфильтровывать примеси? Что повышает уровень сахара в крови при диабете?
В соответствии с редукционистским, узконаправленным подходом к болезни казалось вполне логичным, что должен быть какой-то конкретный редукционистский ответ на вопрос о причине возникновения каждого заболевания. Если болезнь представляет собой определенный патофизиологический субъект, почему не допустить вероятность существования определенного инициирующего этот процесс вещества? Когда Пастер и Кох, с помощью Листера, открыли источник некоторых недугов в реальных патогенных бактериях, казалось, ожидания научной медицины наконец воплотились в жизнь: появилось доказательство того, что каждая болезнь имеет собственную отдельную этиологию. Если появилась возможность найти отдельные унитарные причины для каждой человеческой болезни, значит, рождение специфической терапии уже не за горами. И действительно, бактериологическая концепция стала основой медицинских изысканий на сотни лет. Отныне поиск конкретных причин, инициирующих развитие каждой болезни, был делом исследователей. Современные медицинские исследования в значительной степени опирались на предположение, что источник любого отдельного заболевания унитарен и может быть обнаружен в лаборатории.
Редукционистский подход является по своей сути эмпирическим. Он не предполагает рационального осмысления, избегая соблазна спекулировать данными, не подтвержденными наблюдением и экспериментом. Такой подход отрицает, что болезнь вызывается нарушением общего равновесия между различными внутренними и внешними стабилизирующими механизмами человеческого организма и окружающей среды, а следовательно, не допускает возможности восстановления здоровья путем воссоздания этого гипотетического баланса. При этом диагноз зависел от объективно проверяемых показателей, а терапия опиралась на методы, результаты которых можно измерить. В этом состоит смысл философского постулата, утверждающего, что каждое явление имеет свою отдельную причину; это антитеза холизму Гиппократа; это средство, с помощью которого были сделаны практически все достижения в современной научной медицине; это причина, по которой в отличие от пожилого мужчины из Болоньи Рэймонд Эдвардс, прошедший экспресс-диагностику и оперативную, основанную на патофизиологии терапию, выздоровел без каких-либо осложнений. И именно поэтому тому же Рэймонду Эдвардсу одиннадцать лет спустя заменили его больное сердце здоровым органом семнадцатилетнего юноши. Трансплантация органов – это яркий пример успехов, достигнутых благодаря редукционизму. Однако изменения не заставили себя долго ждать.
Несмотря на то, что трансплантация является вершиной достижений современной лабораторной науки, размышления о ней вновь возвращают нас к вопросам, которые традиционно считались философскими. Сегодня ученые, изучающие характеристики ДНК, должны также найти ответ на вопрос: что это значит – быть человеком? В наши дни специалисты по электронно-микроскопическим исследованиям и типированию тканей анализируют природу человеческой индивидуальности и, возможно, даже самой души – его или ее личности, как сказал бы современный писатель. Когда молекулярные биологи говорят о распознавании организмом собственных клеток, отторжении чужеродных и обретении толерантности, используемые ими слова имеют и морально-философский подтекст, связанный с их работой. Редукционизм волей-неволей приводит их к видению целительства как искусства столь же целостного, сколь и научного. Их работа заставляет нас думать о пациенте в целом, включая окружающий его мир и влияние, которое он оказывает не только на его болезнь, но и на инструменты исцеления.
Трансплантация нового сердца Рэю Эдвардсу свидетельствует о непрерывном развитии медицины, начавшемся в Греции за четыре столетия до Рождества Христова. Дебютировав с серии спекуляций, этот процесс не приводил к значительным успехам до тех пор, пока не были отброшены старые идеи о гуморах и дисбалансе и на службу человечеству не пришла наука. В течение века мы не ставили под сомнение предположение, что все причины любого заболевания и все средства исцеления можно обнаружить в лабораториях наших научно-исследовательских институтов и медицинских колледжей. Мы называем медицину искусством, хотя в действительности нам следовало думать о ней как о науке. Именно в науке мы искали решение каждой проблемы.
Что ж, исцеление – это, безусловно, искусство. В своих суждениях, в своей мудрости и поисках смысла человечности врач является целителем настолько, насколько ему позволяет его научная подготовка. Имея в виду вопросы нравственного, религиозного, социального, правового, экономического и кто еще знает какого характера, такая новая область как трансплантация оказывается на пересечении всех известных с древности направлений медицины, а также служит местом встречи науки с обществом, от которого она ждет поддержки.
Кроме этого, технонаука современных редукционистских исследований меняет кое-что еще. Я имею в виду нашего старого друга – теорию причин возникновения заболеваний. Мы только-только начинаем рассматривать болезнь как результат воздействия не одного конкретного вещества, а группы взаимосвязанных факторов, которые, действуя совместно, приводят к синергизму их этиологии. Почему один человек выкуривает две пачки сигарет ежедневно и не заболевает раком легких, в то время как его сосед делает то же самое и умирает от злокачественной опухоли в свои пятьдесят? Почему в Средние века от чумы погибали не все, кто ею заразился? Почему сердце Рэя Эдвардса не справилось с кардиомиопатией, хотя миллионы людей пережили воздействие вируса, который вызывает это осложнение? Теория причин возникновения заболеваний не дает ответов на эти вопросы. Их следует искать скорее в новых подходах медико-биологической теории, новой парадигмы, как ее некоторые называют.
Существуют явления, которые клиницисты встречают каждый день и все же не могут их объяснить; похоже, они выходят за рамки медицинской модели: одна болезнь – одна причина. Например, пациенты с оптимистическим отношением к жизни часто выздоравливают лучше, чем больные-пессимисты. Все мы знаем об этом, но пока никто не понимает механизм этого феномена. Нам также известно, что не всем пациентам помогает терапия, основанная на теории унитарных причин. Если десять процентов больных не выздоравливают, несмотря на теоретически идеальное лечение, должно быть что-то, чем они не похожи на подавляющее большинство своих собратьев. Характер заболевания может не соответствовать представлениям столетней давности, когда бактериологи доказали давнее предположение о существовании унитарной причины каждого недуга. Пришла пора начать думать в рамках новой парадигмы, в которой психологические и экологические исследования соседствуют с результатами изысканий иммунологии, генетики и бактериологических лабораторий. Именно на базе этой интеграции будет формироваться будущий образ медицины. Когда это произойдет, мы исполним ожидания наших предков, Гиппократа и его мировоззренческих противников – коллег книдийцев. В слиянии двух этих философий лежит будущее целительства.
История пересадки сердца Рэя Эдвардса берет начало в классической древности. На самом деле, она начинается с мифа, который стал для западных языков источником того слова, смысл которого выражает не только то, что представляет собой трансплантация, но и то, чем она не является. В «Илиаде» Гомер рассказывает о Беллерофонте, бесстрашном убийце монстров, которому повелитель Ликии поручил уничтожить сотворенную богом Химеру. Беллерофонт отправился на крылатом коне Пегасе с приказом «убить Химеру, к которой никто не мог приблизиться; бессмертное создание, не похожее на человека: спереди как лев, сзади как змея, в середине как коза, при этом изрыгает огромные клубы яркого пламени».
Слово «химера» имеет в английском языке два значения. Первое из них относится к существу, созданному, как Химера из частей нескольких различных особей или существ разных видов. Второе используется для обозначения идеи, которая так же, как животное Химера, причудлива и абсурдна, в смысле невозможности ее существования. Прилагательное «химерический» в Большом словаре Вебстера означает «воображаемый, причудливый, фантастический, дикий или нереализуемый; то, что может существовать только в воображении».
Разгадав загадку трансплантации, ученые подтвердили понятие химеры в первом ее значении, и опровергли во втором. В конечном счете, химера оказалась не такой уж химерической. В организмы первых, созданных в лабораториях химер были введены ткани или клетки животного-донора, при этом оба партнера по транзакции находились на ранней стадии эмбрионального развития. С того времени, когда проводились эти эксперименты с элементарными зоологическими формами жизни, прогресс не стоял на месте, и сегодня мы являемся свидетелями осуществления пересадки полностью сформированных сложных органов от одного взрослого человека другому. Мы живем в эпоху, когда выполняется трансплантация почек, печени и сердца, а скоро мы услышим об успешных операциях с поджелудочной железой и кишечником, не говоря уже о тканях самого головного мозга. Возможно, наступит день, когда только пересадка мозга целиком будет по-прежнему проблемой для наших медицинских технологов, но существует вероятность, что их изобретательность и проворные пальцы справятся и с этой грандиозной задачей.
Иллюстрация из сделанного Тальякоцци описания реконструкции утраченного носа. Шина удерживает предплечье рядом с головой до тех пор, пока кожный лоскут не включится в кровоснабжение сосудов лица. Фотография Уильяма Б. Картера. (Любезно предоставлено Библиотекой медицинской истории Йеля.)
Процесс, посредством которого «нереализуемая» идея химеры превратилась в повседневную реальность, стал возможен только благодаря Везалию, положившему начало новому этапу развития медицины. Если опустить благочестивые легенды средневековых святых и восточных мудрецов, повествующих об обмене различными частями тела между некоторыми из их пациентов, мы стремительно промчимся через три тысячелетия, от тринадцатого века до нашей эры к шестнадцатому веку нашей эры, где встретимся с Гаспаром Тальякоцци, хирургом и одновременно профессором анатомии и медицины Университета Болоньи. После его смерти в 1599 году отцы города поставили в память о нем статую в университетском анатомическом театре. Чтобы увековечить самое важное достижение почившего, он был изображен с человеческим носом в руке. Именно Тальякоцци разработал методику реконструкции столь важного обонятельного орудия у тех, кто по тем или иным причинам его утратил. В эпоху, когда ампутация носа была распространенной формой наказания, как законной, так и преступной, такой человек действительно был весьма ценным горожанином.
Для нас не важна техника операции Тальякоцци; достаточно сказать, что она была связана с приращением к лицу того, что сегодня мы называем кожным лоскутом на питающей ножке, который остается соединенным с верхней частью руки. В течение двенадцати дней рука фиксировалась специально сконструированной шиной, чтобы закрепить трансплантат в нужном положении. После этого трансплантат отрезался от конечности, и новому носу постепенно придавалась надлежащая форма в процессе серии незначительных процедур. Количество операций с удачным результатом было велико, и метод успешно применялся для реконструкции губ и ушей. По разным причинам, он не прижился в Европе, хотя утверждают, что в восемнадцатом и девятнадцатом веках восстановление носа пользовалось большой популярностью среди некоторых хирургов в Индии.
Самым важным достижением Тальякоцци является не столько его технические инновации, сколько понимание уникальности тканей каждого человека. Он дал толчок к размышлениям об использовании донорской кожи, но, в конце концов, от этой идеи отказались, прежде всего из-за невозможности удерживать двух человек связанными вместе в течение двенадцати или более дней. Но существовала и другая причина, которая в нескольких простых предложениях обнаруживает главную тайну трансплантации:
Особые качества человека не позволяют нам использовать ткани другого человека. Ибо такова сила и мощь индивидуальности, что если кто-то думает, что можно ускорить и улучшить сращивание при реализации даже самой незначительной части работы, он, по-моему, просто фантазер и плохо разбирается в физических науках.
Эти «сила и мощь индивидуальности» стояли на пути предсказуемо успешной трансплантации тканей от одного взрослого человека к другому. Тальякоцци, хотя он не оставил никаких записей об этом, пытался пересаживать кожу, полученную от донора, но каждый раз терпел неудачу. Каким-то образом он пришел к осознанию того, что человеческое тело обладает способностями опознавания собственных тканей и отторжения чужеродных. Формула «кость от кости моей, плоть от плоти моей», в буквальном смысле, справедлива и для трансплантации. Все, что признается чужеродным, отторгается. Только Адам, Ева и однояйцевые близнецы могут быть донорами друг для друга.
Таким образом, рассказ о прошлом трансплантации становится историей развития нашего понимания того, что клетки каждого из нас скрывают внутри себя нечто уникальное, что делает их неизменно неповторимыми. За неимением лучшего термина мы можем использовать слово «самость». Как только наука определила существование самости, стало необходимо исследовать ее составляющие: каковы специфические качества, делающие клетку и всех ее сотоварищей исключительной частью одного человека и чуждой всем остальным? Каков механизм, с помощью которого организм животного узнает клетки другого существа и каким образом он их отторгает, уничтожая как нежеланных захватчиков? И, выяснив природу этих механизмов, как их можно преодолеть? Как добиться, чтобы потенциальный реципиент перестал быть ксенофобом и не разрушал донорскую протоплазму? Иначе говоря, как сделать человека более толерантным к пересаженным тканям другого?
У нас уже имеется длинный список вопросов, и их появится еще больше по мере продолжения повествования. Перечень же тех, кто пытался ответить на них, в тысячу раз длиннее. И даже если называть только имена тех, кто сделал самый значительный вклад в развитие этой области медицины, потребуется слишком много места и нарушится легкость восприятия моего рассказа. Поэтому данная глава посвящена не одному исследователю, а медико-биологической науке конца двадцатого века, усилиям не столько отдельных людей, сколько больших групп талантливых ученых. Сегодняшние и завтрашние исследования проблем трансплантации являются частью международного сотрудничества и соревнования многих ученых, работающих в этом направлении. Речь пойдет о нобелевских лауреатах и никому не известных аспирантах, исследованиях в области фильтрации и прагматических клинических решениях, а также о тайном стремлении каждого из нас к бессмертию, если не тела, то хотя бы имени. Список включает также, и это правильно, ряд нравственных вопросов, стоящих перед нашим обществом. Для врачей, в конечном счете, самым важным аспектом их деятельности являются их пациенты, которые подобно Рэю Эдвардсу приходят к ним в надежде обрести утраченное здоровье, а иногда и продлить годы жизни.
Время от времени врачам удавалось пересадить небольшую часть тканей от одного организма к другому. Похоже, что эти эксперименты были успешными лишь в редких случаях, а в случае с человеком и вовсе единичными. Чтобы проиллюстрировать один из таких уникальных случаев, когда трансплантат якобы прижился, несмотря на все сложности, приведу историю Уинстона Черчилля, рассказанную им в его автобиографической книге «Мои ранние годы». Случилось она во время Суданской войны в 1898 году. Вот подробное описание пожертвования лоскута кожи раненому товарищу по оружию:
Благодаря героизму одного из солдат Молино был спасен из опасного сражения с дервишами. Теперь он направлялся в Англию под присмотром медсестры из госпиталя. Я решил составить ему компанию. Во время нашей с ним беседы пришел доктор, чтобы сделать перевязку. Рука была ужасным образом рассечена, и доктор решил немедленно сделать пересадку кожи. Он что-то тихо сказал сестре, и она обнажила свою руку. Они отошли в уголок, и он начал делать надрез на ее коже, чтобы снять лоскут для пересадки Молино. Бедняжка побледнела как смерть, и доктор повернулся ко мне. Это был высокий тощий ирландец. «Что ж, придется позаимствовать у вас», – заявил он. Выхода не было, и, когда я закатал рукав, он добродушно добавил: «Слыхали, наверное, как шкуру сдирают живьем? Вот сейчас мы примерно этим и займемся». После чего он принялся срезать с внутренней стороны моего предплечья клочок кожи с прилегающим к ней кусочком плоти размером с шиллинг. То, что я испытал, пока он орудовал бритвой, медленно водя ею взад-вперед, вполне можно сравнить с муками ада. Однако я выдержал все, и в руках доктора оказался прелестный лоскутик кожи с тонким слоем подкожных тканей. Эта драгоценная заплатка была пересажена на рану моего приятеля, где и находится по сей день, служа ему верой и правдой. Мне же в качестве сувенира достался шрам.
На этот забавный рассказ можно посмотреть с любой из трех возможных точек зрения: может быть, все это правда, и в таком случае он представляет собой описание одного из чрезвычайно редких примеров успешной пересадки неподготовленному реципиенту; или лоскут, который Черчилль счел успешным трансплантатом, был просто отторгнут и мумифицирован, послужив покрытием на руке счастливчика Молино, пока его кожа не затянула относительно небольшую область раны; и, наконец, всегда есть вероятность, что эта легенда – просто выдумка. Молино никогда не представлял публике собственную версию событий, как и «высокий тощий ирландец», освежевавший предплечье Черчилля. Из уважения к памяти великого человека, терзаясь сомнениями, между рациональной и снисходительной версией я выбираю вторую, поскольку в ней наилучшим образом предстает чудо, создаваемое искусством хирурга.
В результате работы нескольких исследователей девятнадцатого века постепенно выяснилось, что аутотрансплантаты (ткани одного животного), аллотрансплантаты (ткани животных одного вида) и ксенотрансплантаты (ткани животных разных видов) ведут себя совершенно по-разному при пересадке от экспериментального донора к реципиенту. В первые два десятилетия двадцатого века некоторые проницательные исследователи предполагали, что практически стопроцентное отторжение аллотрансплантатов обусловлено какими-то еще неизвестными свойствами иммунитета. Согласно их дальновидной гипотезе, трансплантаты отторгались потому, что тело реципиента было невосприимчиво к ним так же, как к любому другому инородному материалу. Но, кроме этого, невосприимчивость оказалась весьма специфичной в отношении конкретных доноров, становившихся источником чужеродных тканей. В процессе экспериментов были обнаружены некоторые явные указания на то, что каждый организм обладает особым «я», которое особое «я» реципиента воспринимает как чужого, и вызывает направленную против него иммунную реакцию. Как и при других иммунных реакциях, инородное вещество содержит вещества, называемые антигенами, которые являются специфичными только для собственного организма. Когда хозяин обнаруживает чужой антиген, он производит антагониста к нему, подобного антителу, которое борется с бактериями или вирусами. Антигены вируса вызывают у пациента выработку антител для борьбы с микробами, включающимися в процесс, в результате которого они погибнут. Точно так же антигены тканей трансплантата запускают каскад событий, которые приводят к образованию клеток-убийц, атакующих его.
Процесс отторжения трансплантата со временем стали считать подобным реакции «антитело – антиген». Проще говоря, хозяин узнает инородность пересаженной ткани и производит клетки-убийцы, которые помогают ее уничтожить. Из наблюдений нескольких исследователей из разных стран стало понятно, что каждый индивидуум обладает собственным весьма специфичным видом антигенов, таким же уникальным, как его отпечатки пальцев. Теория иммунного ответа на трансплантацию полностью подтвердилась в 1944 году, когда молодой зоолог из Оксфорда Питер Медавар разработал эксперимент, несомненно доказывающий, что повторная трансплантация от одного и того же донора приводит к ускорению реакции отторжения. После этого он провел серию блестяще продуманных опытов, которые легли в основу большей части современных исследований в области трансплантационной биологии и явлений невосприимчивости и толерантности.
Таков механизм одновременного узнавания и отторжения. Жидкости и клетки хозяина узнают антигены донора, поскольку они ему не принадлежат, и создают вещества, которые приводят к разрушению инородного трансплантата. Дальнейшие попытки пересадки только увеличивают свирепость процесса отторжения.
Как только была установлена природа невосприимчивости, начался поиск методов типирования антигенов тканей согласно тому же принципу, что и антигены разных групп крови. Аналогия между кровью и другими тканями очевидна: переливание крови – это, в конце концов, лишь вид трансплантации, но это трансплантация субстанции с большой долей основных антигенов, что делает переливание сравнительно безопасной процедурой. Однако антигены, участвующие в трансплантации органов, гораздо разнообразнее. Тем не менее их, к счастью, тоже можно разделить на те, что являются основными, и те, значение которых не так велико. Поиск основных трансплантационных антигенов начался в конце 1940-х, а к началу 1950-х годов стало возможным примитивное типирование тканей, аналогично тому, как образец крови типируется и сопоставляется с кровью потенциального реципиента.
Спустя три декады успешных исследований типирование тканей достигло такого уровня, что метод стал потенциально полезным инструментом в определении совместимости планируемого для трансплантации органа донора с организмом реципиента. Изменилось даже его название – теперь он называется «тест на гистосовместимость». Сегодня известно, что на шестой хромосоме каждой клетки нашего тела существуют особые зоны, где находятся основные антигены гистосовместимости. Эти методы были разработаны для того, чтобы установить присутствие самого сильного из антигенов гистосовместимости, или антигенов трансплантации. В зависимости от степени сходства антигенов донора и реципиента, результат тестирования классифицируется как A-, B-, C- или D-совпадение. Если бы я мог сказать, что А-совпадение означает идеальную совместимость, то эту сагу можно было бы и закончить, но это, безусловно, не так, поскольку на результат операции влияет множество других, менее сильных антигенов. В настоящее время тестирование на гистосовместимость служит важным критерием для трансплантации. Нет ничего невозможного в том, что в ходе дальнейшего развития научной медицины появится гораздо более надежный метод сопоставления реципиента с донором.
Поскольку типирование тканей представляет собой достаточно непредсказуемый процесс, на него нельзя полагаться как на способ исключения возможности отторжения аллотрансплантата. Остаются два других логических пути: либо сделать иммунную систему реципиента более толерантной к трансплантационным антигенам донора, либо изменить донорскую ткань так, чтобы она стала менее зловещей. Последний подход пока не привел к значительным успехам. Однако первый – достижение приобретенной толерантности – настолько хорошо зарекомендовал себя в лабораторных условиях, что был принят в качестве практической основы для дальнейших исследований. В сущности, на этом принципе разработаны методики трансплантации сегодняшнего дня.
В идеале однажды у нас будут методы, с помощью которых будет возможно оптимальное сопоставление тканей донора и реципиента. Когда мы добьемся этого, то сможем комбинировать его с инъекциями соответствующей сыворотки реципиенту (или каким-то другим специфическим способом управления иммунной системой), чтобы приобретенная толерантность к донорским антигенам, как к основным, так и менее значительным, быстро встраивалась в борьбу с остаточной несовместимостью. Тогда проведение аллотрансплантации будет относительно безопасно. За достижения в исследованиях, прояснивших причину отторжения и основу толерантности, было присуждено уже несколько Нобелевских премий. Макфарлейн Бернет и Питер Медавар, вероятно, самые известные из ученых, проливших свет на мрак, так долго скрывавший природу этих механизмов.
Пока наука не достигла безупречной иммунологической толерантности, будут использоваться менее эффективные методы, чтобы избежать отторжения донорской ткани при трансплантации. Единственная ситуация, когда не возникает никаких иммунологических проблем, это если донор и реципиент – однояйцевые близнецы, поскольку происхождение из одного и того же яйца обеспечивает им одинаковые антигены. Иммунные механизмы одного близнеца не считают антигены другого чужеродными, потому что они точно такие же, как и его собственные. Первая успешная пересадка почки была выполнена между такими близнецами в бостонской больнице Питера Бента Бригэма в 1954 году. С тех пор сделано много таких операций.
Поскольку точные методы пока недоступны, врачи, работающие с трансплантацией, вынуждены полагаться на общие приемы полного подавления иммунного механизма реципиента. Когда тормозится способность реципиента к эффективной иммунной защите, у него меньше шансов побороть антигены донорской ткани. Но беда в том, что не существует методов ограничения ингибирования, чтобы ослабить только те оборонительные силы организма, которые направлены непосредственно против трансплантированной ткани; подавление иммунной системы подрывает способность противостоять любой чужеродной субстанции, в том числе бактериям, вирусам и другим разнообразным агентам-захватчикам. Цена иммуносупрессии – инфекция.
Между Сциллой сепсиса и Харибдой отторжения трансплантологи добились непревзойденного мастерства в достижении баланса. Хрупкое равновесие между двумя угрозами достигается с большим трудом и легко нарушается самым минимальным изменением обстоятельств. Чтобы предотвратить падение пациента в пучину отторжения, в распоряжении врача-клинициста имеется множество подавляющих иммунитет лекарств, а чтобы оградить реципиента от риска попасть в загребущие руки грозной инфекции, существует еще более впечатляющий арсенал антибиотиков и асептических технологий. Хирург-трансплантолог осторожно шагает по туго натянутому канату, с набором лекарств от всех болезней в каждой руке, в то время как пациент пытается удержаться у него на спине. Конечно, хирург не одинок, и его поддерживает консилиум консультантов: иммунологов, генетиков, фармакологов и терапевтов. Неожиданный выкрик или слишком громкий звук, раздавшийся среди аудитории, – и он может сорваться и упасть. Всегда балансирующий на опасной высоте, трансплантолог – один из наиболее решительных врачей в больнице и самая уязвимая химера, наполовину герой, наполовину осел, в какую-то минуту кажущийся первым, а спустя мгновение – уже вторым.
Когда иммуносупрессия достигла такой стадии развития, что стало возможным ее практическое применение, началась эпоха клинической трансплантации органов. Хирурги задолго до ученых работали в лабораториях с пересадкой различных структур между разными видами и особями, хотя технические навыки – не единственное, что имело значение. Так было в самом начале двадцатого века. Между 1904 и 1910 годами новатор-исследователь Алексис Каррель, сам трансплантировавшийся из Франции в Чикаго, провел со своим коллегой Чарльзом Гатри серию экспериментов по пересадке почек, сердца и других органов. Именно в этот период он разработал метод анастомоза кровеносных сосудов, который стал основой стандартной технологии, применяемой хирургами с тех пор. За это достижение в 1912 году он был удостоен Нобелевской премии. Хотя его конечной целью была разработка операции для лечения пациентов с почечной недостаточностью, он вскоре понял, что такое решение для клинических случаев невозможно, пока основная биологическая проблема отторжения не будет решена. В 1914 году он писал швейцарскому хирургу Теодору Кочеру:
Относительно гомопластической трансплантации [аллотрансплантатов] органов, таких как почка, положительных результатов, которые стоило бы отметить, я никогда не встречал… тогда как при аутопластической трансплантации [аутотрансплантатов] результат всегда был позитивным. Биологическая сторона вопроса должна быть исследована гораздо больше, и необходимо выяснить, как предотвратить реакцию организма на новый орган.
На самом деле, помощник Карреля, Гатри, нашел ключ к разгадке «биологической стороны вопроса» двумя годами ранее, когда написал:
Никто, несмотря на большое количество экспериментов, пока не смог сохранить животному жизнь на протяжении сколько-нибудь продолжительного периода времени, пересадив ему почку или почки другого животного после удаления его собственных… В любом случае прогноз неутешительный, и свойства иммунитета, которые дают такие блестящие результаты во многих других областях, по-видимому, стоит протестировать и в этом случае.
Поскольку стал понятен биологический источник отторжения, попытки трансплантировать ткани и органы между донором и реципиентом, не являющихся родственниками, продолжились. Несмотря на то что одна неудача следовала за другой, в результате этих экспериментов были разработаны более совершенные методы преодоления чисто технических проблем, связанных с включением органов одного человека в систему кровообращения другого. Почти все операции проводились в лаборатории, но в течение долгого времени дерзкие эксперименты по пересадке человеческой почки отчаявшимся пациентам были неудачными.
Да, практически всегда. В 1947 году три предприимчивых молодых хирурга из Гарварда – Чарльз Хуфнагель, Дэвид Хьюм и Эрнест Ландштейнер (последние два прошли курсы подготовки ординаторов) – имплантировали почку из свежего трупа в верхнюю часть предплечья умирающей от острой почечной недостаточности молодой женщины. Поскольку пациентка была едва жива, было решено не отправлять ее в операционную. При строгом соблюдении методов асепсии почка от мертвого донора была доставлена в маленькую комнатку в больнице Питера Бента Бригэма и трансплантирована при свете двух небольших настольных ламп. Она немедленно вступила в действие и начала выделять капли прозрачной мочи, постепенно наполняющие расположенную под ее выводным протоком – мочеточником – чашу. Орган просуществовал всего несколько дней до отторжения, но в течение этого недолгого периода он функционировал достаточно хорошо, чтобы очистить кровь пациентки в конечной стадии уремии от примесей настолько, что она вышла из состояния, близкого к коме, и становилась более активной по мере реабилитации организма. К счастью, ее собственные нерабочие почки все еще сохраняли способность к восстановлению, и короткого периода, в течение которого донорский орган замещал их, оказалось вполне достаточно. Через два дня после удаления отторгнутого трансплантата у нее начала самостоятельно выделяться моча, угроза смерти отступила, пациентка пошла на поправку и выздоровела без каких-либо осложнений.
Тем временем Питер Медавар и другие добились значительного прогресса в изучении теоретических основ трансплантационной иммунологии. В выпуске журнала «Природа» от 3 октября 1953 года Медавар в соавторстве с двумя коллегами опубликовал статью о серии экспериментов, направленных на развитие так называемой «активной приобретаемой толерантности», которой они пытались добиться путем прививки одной мыши клеток другой, когда она находилась внутри утробы материнского организма и еще не имела развитого механизма иммунологической защиты. Клетки выживали, и их антигены стали опознаваться созревающим животным как свои собственные. Соответственно, в течение жизни реципиента кожу от той же донорской мыши можно было трансплантировать другому животному без каких-либо негативных последствий. Принцип, лежащий в основе этих экспериментов, был выражен во втором предложении этой знаменательной статьи: «У млекопитающих и птиц в течение жизни не развивается вообще или развивается лишь до ограниченной степени иммунологическая реакция против клеток чужой гомологичной ткани, которые прививаются им на достаточно ранней стадии формирования плода».
Большое значение работы Медавара заключалось в том, что, хотя и в лабораторных условиях, не предполагая никаких клинических последствий, ему удалось преодолеть доселе непроницаемый барьер, мешавший успешной трансплантации донорских тканей или органов. Статья была интересной не только в чисто научном смысле, она давала другим исследователям мощнейший импульс для дальнейшей работы, а это имело огромное значение. Не только ученые в лабораториях, но и врачи в больницах поверили, что решение проблемы отторжения трансплантата может быть найдено в обозримом будущем, если действовать в рамках концепции самой Природы. Вскоре после этого в Бостоне произошло событие, которое способствовало повышению градуса воодушевления в еще большей степени: другая группа хирургов в больнице Питера Бента Бригэма успешно пересадила почку от одного однояйцевого близнеца другому.
Но положительный результат не распространялся на проблему иммунологической толерантности, поскольку все однояйцевые близнецы имеют одинаковую генетическую структуру и, как следствие, одни и те же трансплантационные антигены. Тем не менее это было клиническое достижение огромного масштаба, доказавшее совершенство существующих хирургических методов, и что требуется лишь приемлемое решение задачи, связанной с отторжением аллотрансплантата.
Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что первая клиническая попытка разобраться с этой проблемой была больше похожа на стрельбу из огнемета, чем на точно запущенную стрелу. Вместо того чтобы попасть в яблочко, была почти уничтожена сама мишень. Нескольких пациентов в Бостоне и в Париже целиком подвергли рентгеновскому облучению, полагаясь на данные предварительной опытной демонстрации в лаборатории, которые свидетельствовали о том, что такое грубое вмешательство в жизнедеятельность организма вызывает угнетение иммунной системы. Результаты оказались слишком непредсказуемыми и опасными, поэтому эксперименты в этом направлении прекратили. У некоторых из пациентов иммунитет настолько ослаб, что им потребовалась пересадка костного мозга, чтобы помочь организму бороться с бесконечными инфекциями, к которым проведенная процедура сделала их восприимчивыми. Только одному из оставшихся в живых среди двенадцати облученных пациентов сделали трансплантацию почки в больнице Питера Бента Бригэма в период между 1958 и 1962 годами.
Во время проведения клинических испытаний облучения всего тела научные лаборатории фундаментальных исследований активно трудились над разработкой препарата, который достигал бы той же цели, но более безопасными средствами. Поскольку было очевидно, что задолго до того, как концепция Медавара об активной приобретенной толерантности могла принести какую-то пользу пациентам, вполне логичный метод фармакологического подавления иммунной системы был всегда к услугам трансплантологов. И опять в статье, появившейся в научно-популярном издании «Природа», сообщалось о том, что этот план может быть практически осуществлен: 13 июня 1959 года Роберт Шварц и Уильям Дамашек из медицинского университета Тафтса объявили, что им удалось ослабить процесс отторжения у кроликов с помощью ежедневных инъекций антиметаболического агента под названием «6-меркаптопурин». Данный препарат хотя и модифицировал иммунный ответ пациента, но не подавлял его так мощно и всеобъемлюще, как облучение. Авторы подчеркивали, что их сообщение с поразительным энтузиазмом встретили все исследователи, имеющие даже самое отдаленное отношение к трансплантации: «Очевидно, что хотя производство антител у животных, получавших препарат, полностью и не блокируется, но возникает дисфункция механизма хранения информации в целом». Другими словами, лекарство нарушало процесс опознавания чужеродных клеток. В заключение статьи была проведена аналогия между исследованиями Медавара и Шварца с Дамашеком: «В любом случае эти эксперименты показали, что термин «приобретенная иммунологическая толерантность», ранее применявшийся только для названия ответной реакции нерожденных животных, следует распространить на медикаментозно индуцированную толерантность».
Работа кипела: и в лабораториях, и в клиниках разрабатывались соответствующие препараты для иммуносупрессии и надлежащие критерии для их использования. Молодой английский хирург Рой Кальн начал экспериментировать с «6-меркаптопурином» на собаках, и его опыты прошли удачно.
В июле 1960 года его наградили стипендией, чтобы он мог продолжить свою работу в Гарвардском медицинском университете и создать мастерскую в лабораториях больницы Питера Бента Бригэма под общим руководством заведующего хирургическим отделением, вдохновителя всех исследований по трансплантации в Бригэме доктора Фрэнсиса Д. Мура, преемника Харви Кушинга и Эллиота Катлера. Работая с одним из хирургов, сделавшим первую трансплантацию близнецам, Джозефом Мюрреем, Кальн подготовил протоколы для первых операций по пересадке почки пациентам, с использованием медикаментозной иммуносупрессии. Применяя сначала «6-меркаптопурин», а затем близкородственное соединение под названием азатиоприн, команда Бригэма добилась успеха. Вскоре во многих американских и европейских центрах были разработаны безопасные и эффективные методы трансплантации почки, и число реципиентов стало увеличиваться. Использование искусственной почки, очищающей кровь от примесей, позволяло пациентам дожидаться подходящего донора, чтобы пройти процедуру пересадки.
Как и следовало ожидать, результаты трансплантации между однояйцевыми близнецами всегда были превосходными, за ними следовали близкие родственники, у которых тесты на гистосовместимость показали наименьшие различия между их антигенами. Но для большинства реципиентов донором становился молодой человек, объявленный мертвым незадолго до операции. При правильном подборе и аккуратном применении иммуносупрессии так называемая трупная почка представляет собой отличную возможность для успешной имплантации. Крупные современные центры трансплантации сообщают сегодня о девяноста пяти – ста процентах удачных операций по пересадке почек между однояйцевыми близнецами, а показатели за два года по органам, полученным от родственников и трупов, составляют более восьмидесяти процентов. Хотя некоторые улучшения статистики связаны с постоянно повышающимся качеством тестирования гистосовместимости, в основном высокие показатели объясняются более умелым регулированием иммуносупрессией. Общий подход предполагает снижение ее интенсивности до минимума, необходимого каждому пациенту. В результате сокращается количество случаев инфицирования, естественно, без какого-либо увеличения частоты отторжений.
В сегодняшнем оптимистическом прогнозе для большинства пациентов, перенесших трансплантацию, важную роль играют два других серьезных фактора: использование стероидов и изобретение циклоспорина – вещества, получаемого из гриба, который был найден совершенно случайно, когда его первооткрыватель выкопал один экземпляр из земли в турпоходе по Норвегии. Известно, что стероиды, соединения кортизона, вырабатываются наружной частью или корой надпочечников и обладают иммуносупрессивным действием. Сами по себе они не являются достаточно эффективными для предотвращения отторжения. Однако при сочетании стероидов с азатиоприном иммунодепрессивный эффект каждого из них усиливается. Более того, при внезапном возникновении угрозы отторжения органа в течение недель или месяцев после операции кратковременное увеличение дозы стероидов часто может предотвратить катастрофу.
О том, что циклоспорин обладает иммунодепрессивными качествами, впервые стало известно в 1974 году. А с 1983 года он быстро становится основным лекарственным средством, используемым при трансплантации. В отличие от азатиоприна, он не снижает активность костного мозга и, следовательно, опасность развития сепсиса у пациентов значительно снижается. Более того, он, по-видимому, меньше подавляет иммунную реакцию, что очень важно для профилактики бактериальных и вирусных инфекций. Благодаря этому дару грибного царства снизился уровень заболеваемости сепсисом и увеличился процент выживших при всех типах трансплантации. На самом деле, не будет преувеличением сказать, что введение циклоспорина стало революцией в области безопасной иммуносупрессии, и сегодня отторгается только 10 процентов трансплантируемых почек.
Сегодня ни одно промышленно производящееся действующее вещество не имеет серьезных побочных эффектов, но циклоспорин оказался более предсказуемым, чем другие. Но дело не только в этом. Его использование позволяет снизить требуемую дозу стероидов, что, естественно, приводит к уменьшению вызываемых ими побочных эффектов. В дополнение к другим достоинствам, циклоспорин делает проверку гистосовместимости не столь важным определяющим фактором успеха.
Существуют и другие способы иммуносупрессии, такие как моноклональные антитела, антилимфоцитарный и антитимоцитарный глобулины, которые в настоящее время имеют ограничения в клиническом использовании, но обещают светлые перспективы в будущем, прежде всего потому, что они основаны на многообещающих теоретических изысканиях в различных областях науки. Вполне логично, что переливание крови подавляет иммунитет к аллотрансплантатам, хотя основной механизм по-прежнему остается загадкой. Поскольку донорская кровь сама является аллотрансплантатом и в незначительной степени обладает несовместимостью с реципиентом, возможно, что предоперационные переливания крови каким-то образом подготавливают иммунный механизм хозяина для возможного «большого трансплантата» путем увеличения количества определенных ингредиентов крови, подавляющих отторжение. Все это звучит сегодня слишком непривычно и немного трудно для понимания, поэтому вполне достаточно простого упоминания.
Трансплантация почек стала прототипом для трансплантации всех остальных органов. Доктор Томас Старзл из Университета Колорадо так верил в возможность успешной аллотрансплантации печени, что не поддался чувству разочарования, даже несмотря на смерть первых пяти пациентов в течение трех недель после операции в 1963 году. Наконец, в 1967 году была проведена успешная операция полуторагодовалой девочке со злокачественной опухолью печени. Она прожила тринадцать месяцев и умерла не из-за отторжения или сепсиса, а от рецидивирующего рака. Все восемь следующих пациентов Старзла прожили от двух до тридцати месяцев. Таким образом было доказано, что операция выполнима. Хотя ряд других центров позже начали выполнять пересадку печени, доктор Старзл, сегодня работающий в Университете Питтсбурга, продолжает оставаться мировым лидером в этой области. Печень – гораздо более сложный орган, чем почка или сердце, однако показатель выживаемости при аллотрансплантации печени составляет семьдесят пять процентов в год для детей и шестьдесят для взрослых. Тестирование на гистосовместимость не играет ключевой роли при трансплантации печени. Подходящий труп для донорства настолько трудно получить, что используют почти любую печень, которая более или менее подходит по размеру.
«Почти любую печень, которая более или менее подходит по размеру». Вдумайтесь в эти слова на мгновение. Это утверждение противоречит всему сказанному выше и любым заумным рассуждениям специалистов по трансплантации. Какая польза от экстраординарных достижений в исследованиях Медавара и Бернета? Какое значение имеет кавалькада глав этой книги, описывающих постепенное слияние науки с медициной? После всего сказанного и сделанного мы трансплантируем печень и сердца, спасая жизни в первую очередь с помощью лекарства, по счастливой случайности обнаруженного (выкопанного, выражаясь буквально) в неизвестном скандинавском грибе, лекарства, реальное воздействие которого все еще настолько неуловимо, что до сих пор не поддается нашему пониманию. Мы используем циклоспорин, потому что это работает, – возможно, позже мы сможем объяснить и это. Это одна из тех многочисленных ситуаций, когда мальчики и девочки из лаборатории должны просто поговорить со своими коллегами-клиницистами из больничных палат, вместо того чтобы указывать им в напыщенной научной манере, как выполнять их работу. Их объяснения могут на многое пролить свет в будущем, но врачи-клиницисты еще на какое-то время останутся впереди.
Из всех неуклюжих конструкций, являющихся частью витиеватых формулировок, используемых в юридических документах, кандидатом на наименее удачную является болезненная фраза «претендует на звание и представляется как», когда она используется против ремесленника или специалиста, которому предъявляется иск за неудачный результат его труда. Этими грубыми словами получателю повестки в суд сообщается, что вопреки его многолетнему профессиональному опыту он на самом деле не квалифицированный член своей гильдии, а лишь некто, претендующий на это почетное звание. Я видел, как самые уверенные в себе хирурги, образно говоря, съеживаются, говоря о своих ощущениях, когда подобная терминология выпрыгивает на них из тесно напечатанных строчек гиперболизированной прозы, сочиненной каким-то ревностным адвокатом. Тогда почему, несмотря на то, что мне так неприятно думать об этом, я поднимаю эту тему и представляю раздел этой книги, посвященный одному из величайших триумфов искусства врачевания?
Моя цель – напомнить всем нам, врачам и непосвященным, что даже сегодня, в эпоху самого глубокого и всестороннего внедрения науки в медицину в реальности всегда присутствует некоторая степень заблуждения, даже если обманывают доктора, прежде всего, самих себя. Как медики, мы, безусловно, претендуем на звание целителей и стремимся использовать в нашем деле самые современные методы, предлагаемые медицинской наукой. В большинстве случаев мы являемся именно теми, кем представляемся, но не всегда. Иногда предъявляемые в повестке обвинения абсолютно справедливы. Мы считаем себя теми, кем на самом деле не являемся. В сущности, мы не совсем ученые. Мы обнаружили эмпирическим путем, как в подобных случаях делали наши предки, знатоки гомеопатии, что лекарственное средство, названное циклоспорином, влияет на иммунную систему таким образом, что пересаженный орган от одного человека другому не отторгается. Путем проб и ошибок, почти случайно, мы наткнулись на чудо-гриб, реальные свойства которого никому не известны. Хотя исследования наших лабораторий ежедневно приближают нас к некоторому пониманию его биологии, необходимость лечить пациентов уже сегодня потребовала его использования в клинических целях до выяснения всех основных механизмов. Становятся ненужными тестирование на гистосовместимость, приобретенная толерантность и все истинно научные подходы, разработанные к этому моменту в истории медицины. Никому не пришло бы в голову ставить под сомнение, что открытие циклоспорина – это наука в действии. Но это не так. Применение этого лекарства является проявлением искусства медицины. Если препарат работает и не нарушает условия «Главное – не навреди», мы непременно должны его использовать, а позже по мере возможности представить научное обоснование. Здесь мы имеем дело с вечным конфликтом между ученым и целителем. Пока медицина остается искусством, а именно так всегда и должно быть, их спор всегда будет решаться в пользу целителя.
Я отношусь к тем людям, кто считает, что сам термин «медицинская наука» представляет собой оксюморон. В шестнадцатом и семнадцатом веках наука начала овладевать сознанием целителей. Только гипотетически ее достижения можно было соотнести с диагностикой болезней до начала девятнадцатого века, а с лечебным процессом – еще на пятьдесят лет позже. С тех пор наука о биологии человека превратилась из служанки в самого главного партнера медицины на все времена. Но не следует путать этих союзников друг с другом. Исцеление больных остается искусством и требует целого арсенала навыков и огромного спектра знаний, где важно все – от строения клетки до особенностей психики. Иногда для достижения благих намерений в ход идут даже уловки. До тех пор, пока врачебное мнение, клиническая интуиция и постановка диагноза являются основными компонентами лечения больных людей, да здравствует искусство медицины! И да здравствуют оба самых ненаучных ресурса врача: жалобы пациента и беспокойство о нем.
Врачебное мнение, клиническая интуиция и постановка диагноза – вкус и запах, если хотите, пациента, его нужды, сопутствующие болезни обстоятельства и патофизиология процесса, который привел его к врачу, – это сущностные ингредиенты искусства кардиологической трансплантации. Наука привела нас к тому, что мы осмелились на эту химерическую фантазию, и она же дала нам технические средства для ее претворения в жизнь. Решающим фактором, определившим успех этого предприятия, было удачное, в клиническом смысле, стечение обстоятельств, то есть появился подходящий пациент с подходящей стадией болезни в подходящее время. К тому же его состояние не оставляло места для сомнений в том, что случится, если ему не сделать операцию.
Этим подходящим пациентом, о котором я хочу рассказать, был Рэй Эдвардс, а подходящее время – 10 марта 1986 года. Он был бенефициаром восьми десятилетий лабораторных изысканий и почти двадцати лет клинических исследований, которые привели к совершенствованию хирургических методов, а также быстрого прогресса в разработке средств для предотвращения отторжения. Алексис Каррель и Чарльз Гатри начали свои эксперименты в 1905 году, пересадив сердце щенка в шею большой взрослой собаки, и наблюдали за его нормальной пульсацией в течение двух часов. В последующие годы несколько исследователей провели длинную серию подобных опытов, но никогда не пытались применить свои достижения в клинических условиях.
Ситуация кардинально изменилась в 1953 году, после изобретения аппарата «искуственное сердце – легкие», поскольку он позволял заменить оба этих органа в течение времени, необходимого для устранения аномалий основных сосудов, а также предсердных и желудочковых камер. Таким образом, новое оборудование сделало возможным искусственное кровообращение и кардиальную трансплантацию. При использовании такого аппарата Ричард Лоуер и Норман Шумвей из Стэнфордского университета в начале 1960-х годов сообщили о серии успешных попыток пересадки сердца у собак. Хотя у всех выживших животных произошло отторжение нового сердца в течение нескольких недель после операции, эксперименты позволили установить, что сердце может нормально функционировать, даже когда нервные окончания, ведущие к сердцу, перерезаны. По мере решения технических и физиологических проблем Лоуер и Шумвей продолжили работу по разработке предотвращающих отторжение механизмов: в первую очередь исследования теста на гистосовместимость, а также эксперименты с азатиоприном и стероидами.
Третьего декабря 1967 года мир поразило и восхитило сообщение доктора Кристиана Барнарда о первой трансплантации человеческого сердца пациенту по имени Луи Вашканский в больнице Groote Schuur в Кейптауне в Южной Африке. С бо́льшим изумлением, чем кто бы то ни было, и гораздо менее радостно, новость встретили Шумвей, Лоуер и другие несколько исследователей, которые не покладая рук трудились над решением проблемы отторжения. Они знали, что методы тестирования на совместимость тканей по-прежнему оставались неудовлетворительны, и они опасались, что хирурги по всему миру поспешат повторить несвоевременный подвиг Барнарда. Их самые страшные опасения оправдались. Три дня спустя хирург из Бруклина пересадил сердце мальчику семнадцати дней от роду, который умер через несколько часов. Луис Вашканский скончался 21 декабря, за день до того, как Барнард отправился в шестидневный тур по Соединенным Штатам, во время которого его чествовали как героя. По прибытии в Нью-Йорк его приветствовал мэр Джон Линдсей, а президент Линдон Джонсон подготовил для него такую программу развлечений, какую можно себе представить только на ранчо техасского миллионера.
Барнард, узнавший о трансплантации от Шумвея, завладел воображением американцев и европейцев, подобно Линдбергу[27] сегодня. Он мгновенно стал звездой СМИ. Уже наметив второго пациента, он улетел назад в Кейптаун тридцатого декабря, о чем лондонские газеты сообщили драматическим заголовком «Барнард летит на следующую пересадку сердца». Второго января Филипп Блейберг получил новое сердце. Он был еще жив 10 января, когда хирург из Бруклина снова произвел трансплантацию, через восемь часов после которой его пациент умер. Блейберг прожил девятнадцать месяцев, достаточно долго, чтобы его хирург вошел в круг знаменитостей – сам Либераче[28] приезжал к нему в больницу с визитом.
Давление нарастало, и даже осторожный Шумвей не мог дольше сопротивляться. Шестого января 1968 года он трансплантировал сердце своему первому пациенту, который прожил пятнадцать дней после операции. Когда к первым кардиохирургам присоединился многоуважаемый профессор Стэнфорда, трансплантационная феерия приобрела определенную легитимность; все больше и больше хирургов торопились вступить в гонку. Отчеты о подобных операциях поступали из Англии, Бразилии, Аргентины, Франции, Канады и нескольких медицинских центров в Соединенных Штатах. В конце концов, даже Ричард Лоуер, работавший тогда в медицинском колледже штата Вирджиния, поддался пересадочной лихорадке. Он по-прежнему беспокоился, как и Шумвей, о нерешенной иммунной головоломке, но прооперировал своего первого пациента 25 мая. Только в предыдущем месяце тринадцать человек прошли трансплантацию сердца в больницах по всему миру. Больной Лоуера умер на шестой день. За пятнадцать месяцев после операции Луи Вашканского было сделано сто восемнадцать операций в восемнадцати странах. Подавляющее большинство пациентов умерли в течение нескольких недель или месяцев.
Наконец, безрассудно ринувшиеся в бой хирурги, полные неоправданных надежд, столкнулись с грустной реальностью и осознали, что поторопились. С девяносто девяти трансплантаций в 1968 году количество операций снизилось до сорока восьми в 1969-м, семнадцати в 1970-м и девяти в 1971-м. Пятьдесят шесть из пятидесяти восьми трансплантирующих сердце бригад, существующих на тот момент в мире, прикрыли лавочку и вернулись к стандартным операциям на сердце. Но Барнард и Шумвей не сдавались. Программа Шумвея в Стэнфорде стала единственной в Америке, поскольку исследования в его научной лаборатории велись на таком высоком уровне, что могли обеспечить весьма неплохие клинические результаты. В августе 1970 года, все еще преисполненный веры в то, что когда-нибудь добьется успеха, он с осторожным оптимизмом отметил в статье, опубликованной в журнале «Медицина Калифорнии»: «На данный момент мы полагаем, что трансплантация сердца пока остается в рамках клинических исследований».
Без лишнего шума группа ученых из Стэнфорда продолжала свою работу. По мере совершенствования их методов улучшались и их клинические результаты. Воодушевленные сообщениями Шумвея, другие коллективы постепенно, образно говоря, тоже собрались с духом. Длительный мораторий на сердечную трансплантацию шаг за шагом приближался к концу. В 1984 году двадцать девять центров в Соединенных Штатах Америки провели около трехсот пересадок. На момент написания этой книги функционирует около ста практикующих американских бригад. Уровень выживаемости сейчас не просто удовлетворительный, а совершенно поразительный. Семьдесят пять процентов пациентов, которые погибли бы без трансплантатов, прожили год после операции, шестьдесят пять – три года и почти шестьдесят – пять лет. При этом есть все основания полагать, что эти цифры, как бы замечательны они ни были, далеко не предел.
Для того чтобы стать кандидатом на сердечную трансплантацию, ожидаемая продолжительность жизни пациента без пересадки сердца не должна превышать несколько месяцев. Такое состояние обозначается как класс IV по классификации, учрежденной Нью-Йоркской ассоциацией кардиологов несколько лет назад; оно означает терминальную стадию сердечной недостаточности. Большинство таких пациентов страдают от тяжелой атеросклеротической болезни и значительной потери функциональности желудочков, развивающейся в результате непроходимости многочисленных сосудов. В другую большую группу входят пациенты, у которых наблюдается прогрессирующая деградация сердечной мышцы по неопределенным причинам. Такое состояние называется идиопатической кардиомиопатией. Несмотря на то что оно часто является осложнением после вирусной инфекции, основная причина кардиомиопатии обычно определяется с трудом.
Именно кардиомиопатия, имевшая, по-видимому, вирусное происхождение, впервые привела Рэя Эдвардса к кардиологу. Без каких-либо видимых причин осенью 1975 года он начал задыхаться и ощущать непроходящую усталость. В январе 1976 года его состояние ухудшилось настолько, что он отправился в отделение неотложной помощи больницы Милфорд, где дежурный врач диагностировал у него «классический случай гипогликемии». К счастью, ему посоветовали обратиться за рекомендациями к терапевту Анри Коппису. Когда на следующий день Рэй пришел к нему на прием, он дышал с таким трудом, что едва смог добраться от автостоянки до офиса. Доктор Коппис сразу признал у нового пациента сильную сердечную недостаточность, госпитализировал его и с помощью кардиолога вывел его из опасного состояния.
Программа лечения окончилась неудачей. Поначалу доктору Коппису удавалось поддерживать удовлетворительное самочувствие своего пациента, но в 1983 году ситуация начала быстро ухудшаться. В поисках решения проблемы Коппис предложил Рэю обратиться за консультацией к Лоуренсу Коэну, доктору, за скромность и чувство юмора прозванному коллегами Эбенезером К. Хантом, именем одного из профессоров медицины Йельского университета. Благодаря тщательному титрованию микстур Коэн смог добиться некоторого улучшения, но недостаточного для оптимистичного прогноза. Состояние Рэя осложнилось микроинсультом, перенесенным им в июне 1985 года и диагностированным по ставшей невнятной речи. Его сердечный ритм снизился с соответствующих нормальному уровню семидесяти двух ударов в минуту до двадцати восьми. Ему поставили кардиостимулятор, чтобы вернуть его в норму и улучшить производительность желудочков.
Уже в середине 1984 года доктор Коэн впервые начал рассматривать в качестве лечения Рэя трансплантацию сердца. По мере ухудшения его состояния, эта возможность казалась все более приемлемой. В октябре 1985 года были проведены катетеризация сердца и ядерное сканирование, показавшие настолько обезнадеживающие результаты, что другого выхода, похоже, не оставалось. С каждым ударом сильно увеличившийся левый желудочек Рэя выбрасывал только пятнадцать процентов поступавшей в него крови. Отказ такого неэффективного насоса был вопросом всего нескольких месяцев. К моменту зондирования Рэй принимал такое количество лекарств, что дальнейшее фармакологическое наступление на болезнь могло только ускорить неизбежный исход.
Девятого января 1986 года Рэй встретился с бригадой трансплантологов, медсестер и ординаторов из больницы Йель – Нью-Хейвен. Директор команды, доктор Александр Геха, описал ему последовательность мероприятий, которые необходимо провести до предлагаемой операции, и то, что должно последовать за ними. Даже если бы Рэй Эдвардс был менее стойким экземпляром янки из Коннектикута, его решение было бы таким же. Вздохнув на всю глубину своих переполненных кровью легких, он сообщил доктору Гехе о своем согласии.
Следующие недели для Моники и Рэя Эдвардсов были трудными. Даже тщательная медикаментозная коррекция доктора Коэна не остановила коварной деградации сердечной мышцы Рэя. Каждый день долгого тоскливого ожидания подходящего донора ему грозил внезапным полным коллапсом сердца. Наконец после двух месяцев беспокойной тревоги раздался звонок. Вечером 9 марта 1986 года Моника собрала для Рэя небольшую сумку, помогла ему дойти до их доджа и отправилась за сорок километров в Нью-Хейвен.
В другом городе Новой Англии вторая пара также переживала трагедию, но совершенно иного рода. В отличие от Рэя Эдвардса, у них не было надежды на чудо, которое могло бы их спасти. В ночь на 6 марта их семнадцатилетнего сына со смертельными ранами после автомобильной аварии привезли в местную больницу. Его грудь была раздавлена при столкновении, но его крепкое, здоровое сердце осталось не повреждено. Оно по-прежнему билось с юношеским задором в бессильном желании помочь умирающему телу. Со всей возможной деликатностью лечащие врачи сообщили родителям мальчика, что его мозг погиб.
Каковы должны были быть смелость, альтруизм и любовь этой скорбящей пары, чтобы принять такое решение! Лишившись надежды, они сохранили веру и милосердие. Они попросили, чтобы сердце и почки их сына анонимно пересадили в тела трех нуждающихся в этих органах людей.
Ранним утром 10 марта доктор Джон Элефтериадис в сопровождении одного из хирургов Йельского университета отправился на вертолете из Нью-Хейвена в этот маленький городок Новой Англии, где их ждал донор, жизнь которого, в глазах закона, закончилась в момент удара автомобиля за четыре дня до этого, но его сильное молодое сердце все еще билось, как будто в надежде на отсрочку. Мальчика со всеми механическими системами жизнеобеспечения отвезли в операционную больницы. Доктор Элефтериадис со своим помощником сделали разрез посередине грудины и заготовили живое сердце.
Здесь я не могу не приостановить свой рассказ: обратите внимание на это слово «заготовили». Трансплантаторы используют его так естественно, но всем остальным следует сделать паузу и подумать об этом. Возможно, вам никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то использовал его в таком смысле. Это слово подразумевает, что земля дарит свои сокровища, чтобы накормить человечество; оно означает обряд поклонения, получение благословения плодородной почвы; оно означает Божий дар изобилия; оно означает пищу и жизнь. Сердце неизвестного молодого человека стало золотой нивой для Рэймонда Эдвардса.
Элефтериадис (еще одна пауза – само это имя вызывает в мыслях образ рощи оливковых деревьев или эвкалиптов на острове Кос и целителя-философа, врачующего раны своего пациента чудесным бальзамом), осторожно неся контейнер с успокоившимся сердцем в ванне с замороженным солевым раствором, быстро вернулся к вертолету и приземлился на посадочной площадке рядом с широко раскинувшимся кампусом больницы Йель – Нью-Хейвен. Оставшуюся короткую часть пути он проделал позади полицейской патрульной машины с ревущей сиреной.
Рэй Эдвардс был к тому времени анестезирован и подключен к машине искусственной вентиляции легких. Как только доктор Геха был уведомлен о том, что вертолет приземлился в Нью-Хейвене, он запустил систему искусственного кровообращения и начал иссекать ослабленную сумку больной сердечной мышцы из груди пациента. Когда жалкое подобие сердца Рэя было извлечено, его место занял донорский орган, а затем были быстро восстановлены необходимые сосудистые связи. Как только все швы были надежно закреплены, а зажимы, которые все еще отделяли Рэя от его донорского органа, были удалены, мгновенно началась идеальная спонтанная пульсация. Однако радость операционной бригады была несколько преждевременной, поскольку неритмичные фибриллирующие движения вскоре превратили сердечную мышцу в дрожащую массу распухшей плоти. Хирург немедленно индуцировал импульс электрической стимуляции от дефибриллятора, и трансплантат возобновил свою размеренную, упругую пульсацию, быстро превращаясь в динамичную часть еще не очнувшегося пациента, чье спящее тело готовилось стать для него новым гостеприимным домом. Этот одиночный удар вернул Рэя Эдвардса к жизни. Через час он был в кардиореанимационном блоке, постепенно приходя в себя и осознавая, что он и сердце его молодого благодетеля начали свое совместное путешествие в новую жизнь.
Когда я навестил Рэя через два дня после пересадки, он выглядел лучше, чем спустя пару суток после аппендэктомии. Мы недолго побеседовали, больной был в прекрасном настроении. За несколько дней до этого другой пациент прошел ту же процедуру, и он тоже чувствовал себя отлично. Оба мужчины принимали азатиоприн, циклоспорин, стероиды и антибиотики. Выздоровление обоих проходило без единого осложнения. Говоря словами, которые часто используют врачи: «Они даже глазом не моргнули!» С тех пор я пристально следил за Рэем. Несколько раз у него возникала угроза отторжения, которая определялась только при биопсии сердечной мышцы. Эта процедура не так ужасна, как кажется. Под местной анестезией длинный, гибкий, похожий на провод зонд, называемый биоптомом, вводится в шейную вену и затем опускается в правый желудочек.
На его кончике находятся два крошечных зажима, которые операционный хирург может замкнуть таким образом, чтобы срезать маленький кусочек сердечной мышцы для микроскопического исследования. Угрозы отторжения у Рэя были настолько незначительными, что они остались бы не обнаруженными, если бы не биопсия, которая проводилась с регулярными интервалами. В каждом случае после назначения увеличенной дозы стероидов повторные исследования показывали норму.
Два пациента, отправляющиеся домой, и некоторые члены бригады по пересадке сердца в больнице Йель – Нью-Хейвен. Рэймонд Эдвардс – в центре фотографии. Крайний справа – доктор Лоуренс Коэн. Доктор Александр Геха стоит между ними. (Любезно предоставлено Рэймондом Эдвардсом.)
Между тем Рэй нашел не только новое сердце, но и другую профессию. Его любовь к метеорологии омрачало бремя административных обязанностей, связанных с его должностью начальника местной метеостанции. Теперь он вернулся в колледж. Он изучал медицинские технологии с таким же любопытством и решимостью, как и свой прежний предмет: от метеорологии он обратился к литературе по трансплантации сердца.
Пока Рэй чувствовал себя удовлетворительно, он увлеченно занимался альпинизмом, покоряя покрытые деревьями вершины горных хребтов Новой Англии. Среди его любимых маршрутов была гора Монаднок на юго-западе Нью-Гэмпшира, крутые извилистые тропы которой представляют собой серьезную проблему для самых выносливых сердец и ног. Четвертого октября 1986 года с легким ранцем на плечах Рэй вернулся туда и поднялся по склону на высоту девятьсот шестьдесят метров уже через шесть месяцев после того, как получил залог новой жизни от молодого человека, которого никогда не забывает в своих молитвах.
Рэй Эдвардс был одним из примерно тысячи американцев, перенесших кардиальную трансплантацию в 1986 году. Хотя, согласно оценкам, для трансплантации потенциально доступно ежегодно более двадцати тысяч сердец и кандидатами могут быть тысяча девятьсот пациентов, на государственном уровне предпринимается еще недостаточно усилий, чтобы гарантировать использование каждого возможного донорского органа. По крайней мере, треть пациентов с последней стадией заболевания умирают, ожидая подходящего сердца. Через Североамериканскую организацию координаторов трансплантатов и региональные программы поиска были созданы механизмы для скорейшей идентификации и транспортировки органов из одной части страны в другую, но основная трудность касается личного аспекта проблемы. Слишком немногие американские семьи считают трансплантацию чем-то большим, чем пример медицинских инноваций, заслуживающий освещения в печати в самых драматических тонах. То, что необходимо для будущего, – это личная вовлеченность каждого, осознание своего рода неминуемой возможности, что однажды любому из нас придется решить, что последняя милость кого-то, кого мы любим, может подарить жизнь другому.
Кроме этого, необходимо оказать сопротивление собственной смерти, чтобы многие стали добровольными донорами в случае внезапной гибели. В 1985 году, несмотря на принятие на национальном уровне Закона об унитарном анатомическом даре, донорскую карточку имели менее четырех процентов тех людей, чьи органы были пересажены после смерти. Если добавить к этому факт, что менее тридцати процентов сердец, трансплантированных в 1986 году, стали доступны в результате оформленного предложения семьи, становится ясно, что многим из нас нужно долго и серьезно думать о последнем даре жизни. Было подсчитано, что в нынешних условиях в Соединенных Штатах будет доступно не более полутора тысяч сердец ежегодно. До того дня, когда концепция имплантируемого постоянного искусственного сердца станет реальностью, трансплантация останется единственным средством спасения.
Дискуссия о пожертвовании органов раскрывает совершенно новую область будущего медицины. Исцеление все меньше и меньше становится транзакцией между врачом и его пациентом; теперь оно все больше и больше является отражением всего общества и его ценностей. Медицинские технологии слишком дороги и затрагивают слишком много областей, вызывающих озабоченность у каждого гражданина, чтобы они могли и дальше существовать независимо от всего происходящего в окружающем их мире. Стоит какому-нибудь диктатору третьего мира выкрикнуть несколько антиамериканских проклятий, и наше правительство тратит на перемещение военных кораблей столько денег, что хватило бы заплатить годовую арендную плату за все федеративные детские кардиологические клиники в стране. Или, если говорить более конкретно о Рэях Эдвардсах из Америки: департамент здравоохранения и социальных служб подсчитал, что расходы на процедуры, связанные с трансплантацией сердца, составят как минимум сто пятьдесят миллионов долларов в год, даже если будет доступно минимальное количество доноров; если же подходящее сердце будет найдено для каждого пациента, которому оно необходимо, затраты могут возрасти до 4,4 миллиарда долларов. Как бы нам ни хотелось, чтобы было иначе, финансирование ограничено. Из многих медицинских неологизмов, появившихся в последнее время в социально-экономическом лексиконе каждого доктора, одним из наиболее неприятных и в то же время самых императивных, является термин «рентабельный». Хорошо известная необходимость оптимизации расходов в настоящее время учитывается при принятии решений у постели каждого пациента в западном мире. Если мы потратим 4,4 миллиарда долларов на старшую возрастную группу пациентов с больными сердцами, мы не сможем заплатить арендную плату за все эти кардиологические клиники и не сможем финансировать все необходимые исследования для лечения рака у детей. Такие вопросы решает не врач, а общество.
Общество должно также определиться со значением слова «смерть». Сердцебиение уже не является окончательным клиническим показателем. Когда целителям потребовались в большем количестве сердца и печень для трансплантации, они разработали новый критерий – прекращение деятельности головного мозга. Они обратились за ратификацией к обществу, и согласия долго ждать не пришлось. Священники и ответственные чиновники подумали и сошлись во мнении, что этично и правомерно использовать органы тех, кто не может восстановиться из безнадежного состояния. Таким образом, был установлен принцип: у живых есть моральное право на применение органов мертвых.
Диагностические исследования, которые до недавнего времени считались фундаментом для надлежащего изучения каждого болезненного процесса, в настоящее время пересматриваются на индивидуальной основе и очень часто исключаются из клинического арсенала. В 1960-х годах медицинское обслуживание считалось плохим, если каждому пациенту с желчными камнями не проводили рентгеновского обследования желудочно-кишечного тракта; но с тех пор как такие исследования сочли нерентабельными, тратить на них деньги не рекомендуется. В библиографический раздел, хранящий биографические материалы некоторых из наших самых выдающихся клиницистов, начали попадать недавно написанные статьи об экономических и социальных аспектах исцеления. Наши ведущие журналы изобилуют редакционными статьями по таким вопросам как эффективное использование мест в стационаре и неэффективное использование ресурсов.
И в раю бывает все не так гладко, как хотелось бы. Чрезмерно старательное отношение врача к учебе два или три десятилетия назад делает его во время работы в клинике доктором, которого постоянно обвиняют в пренебрежении к издержкам и неуверенности в суждениях. Те немногие дополнительные лабораторные анализы и еще один день в больнице «просто для того, чтобы убедиться» – это недопустимая роскошь. И ладно бы, мы могли таким образом сохранить какие-то деньги, но любая экономия глубоко зарыта в расходах на ошеломляюще сложные новые диагностические и терапевтические методы, эффективность которых, кажется, вовсе не очевидна, кроме того факта, что мы можем исцелять больше людей, чем когда-либо прежде. Единственное, что не вызывает сомнений – это общественное участие. Идет ли речь о финансах, об этике или законах, голос людей будет, должен быть услышан.
К примеру, кто скажет, следует ли убеждать некоего человека пожертвовать почку для трансплантации своему уремическому брату? Принцип «Главное – не навреди» относится к уходу за больными, но этот потенциальный донор не является пациентом. Ему наносится серьезный вред: во-первых, он подвергается сложной операции, а во-вторых, он остается с одной почкой. Хотя все это, возможно, не оказывает долгосрочного воздействия на его здоровье, но тем не менее это вред. Теологи, этики и юристы решили, что это допустимо в интересах большего блага. Они формулируют ценности общества.
На примере с донором почки общество функционирует как консультант врача, скорее – даже как его адвокат. Но бывают ситуации, когда он должен действовать как противник. Для врача, исповедующего принципы Гиппократа, нет ничего и никого важнее его пациента; в этом всегда заключался руководящий принцип клинической медицины. Другие больные, будущие пациенты и остальная часть человечества отходят на второй план, когда врач принимает решение у постели страждущего. Это время также осталось позади. Ограниченность в ресурсах является причиной изменения отношения лишь отчасти. На клинической арене постоянно появляются все новые методы лечения, и их нужно оценивать, особенно, когда речь идет о раке и инфекционных заболеваниях. Необходимо проводить статистические исследования большой выборки пациентов, когда одни методы лечения сравниваются с другими, а также с плацебо. Это так называемые рандомизированные проспективные исследования, для которых пациенты выбираются для испытания того или другого предлагаемого лечения без учета каких-либо критериев, за исключением порядкового номера, под которым они попадают в выборку. Если тестируемое лечение является лекарственным средством, протокол исследования должен быть двойным слепым, в том смысле, что ни исследователи, ни субъекты не знают, какие из различных лекарств любой конкретный пациент получает.
Для того чтобы проспективное рандомизированное двойное слепое исследование имело ценность, необходимо, чтобы каждый привлеченный доктор не был заинтересован в результате. И все же любой врач практически не может не иметь предвзятого мнения о том, чем закончится исследование. Сам характер такой исследовательской работы означает, следовательно, что участвующие в испытаниях врачи отказываются от отдельных пациентов, и терапевтический выбор делается случайно, где есть только 50, 331/3, 25 или меньше процентов возможности, что больной получит лекарство или операцию, которые врач считает наилучшим средством для лечения данного болезненного процесса.
Это новая морщина старой дилеммы, с которой люди сталкиваются все чаще, с тех пор, как некоторым из нас впервые доверили заботу о здоровье других: иногда возникает конфликт между тем, что лучше для отдельного пациента, которого я вижу сегодня в своем кабинете, и что является самым лучшим в долгосрочной перспективе для наибольшего числа людей. В прошлом конфликт всегда разрешался в пользу индивидуальности и сиюминутности; но все чаще наука и общество заставляют делать выбор в пользу большего блага для человечества. Теперь, когда дилемма признана и провозглашена, мы будем всегда иметь ее в виду в процессе принятия решения для каждого из наших пациентов.
Эта дилемма может вскоре проявиться в форме, которая станет серьезным испытанием для все еще слабой структуры, которую мучительно стараются выстроить биомедицина, этика, право и финансы. Когда (не если, но когда) организованные усилия по борьбе со СПИДом приведут к созданию эффективной вакцины или неоспоримо перспективных методов лечения, что будет делать общество и чего потребуют его наиболее заинтересованные элементы? Будут ли члены групп высокого риска, их семьи и все мы сидеть спокойно, проводя рандомизированные проспективные двойные слепые исследования, в то время как жертвы будут продолжать страдать и умирать? Неминуемый выход из столь затруднительного положения будет приветствоваться с радостью и благодарностью теми самыми исследователями, чьи долговременные усилия будут больше всего нарушены, даже если этот выход может привести к явлениям, угрожающим научной методологии и, возможно, даже здоровью еще нерожденных пациентов, которые будут страдать от еще неизвестных болезней. Разрыв между лабораторными учеными и клиницистами будет нарастать до предела, и когда-нибудь непременно станет окончательным. Так и должно быть. Это подтвердит наши ценности как общества людей; и подтвердит значение концепции Гиппократа для медицины.
Философы и конгрессмены, этики и бухгалтеры, руководители корпораций и администраторы больниц, богословы и актуарии, защитники прав пациентов и юристы – у всех найдется, что сказать о пользе Искусства и Науки, и они скажут. Задача доставки богатых плодов медицинского прогресса гражданам мира не может быть целиком выполнена одними целителями. Хотя врачи сначала скептически относились к вторжению социальных, экономических и политических институтов на арену, которую мы всегда считали своей, мы признаём, что старая парадигма осталась в прошлом. Нам нужна вся помощь, которую общество может нам предоставить.
Тем не менее, если говорить о трансформациях, совершенных в современной медицине новыми мощными двигателями прогресса и недавно разработанными многочисленными видами топлива, существует один особый ингредиент исцеления, которому нельзя позволить исчезнуть. Этим ингредиентом, простым и неизменным, является участие; оно рассеяно в тишине палат и в кабинете врача. Здесь, в чертогах безопасности, заключается сделка, которая в своем фундаментальном смысле является актом дарения и касается элементарных отношений, возникающих между двумя людьми, когда они слушают, прикасаются и разговаривают. Достигает ли она кульминационной точки при трансплантации органа или в нескольких словах ободрения, единственное, что я ощущаю в это мгновение, – благоговение, потому что процесс исцеления – это единение врача и пациента, в котором один человек имеет привилегию помочь другому. Эта привилегия стала благословением всей моей жизни.
Библиография
Adams, F. The Genuine Works of Hippocrates. London: New Sydenham Society, 1849. (Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1985.)
Ader, R., ed. Psychoneuroimmunology. New York: Academic Press, 1981.
Amundsen, D. W. “History of Medical Ethics: Ancient Greece and Rome”. In W. T. Reich, Encyclopedia of Bioethics, vol. 3. New York: Free Press, 1978.
Carrick, P. Medical Ethics in Antiquity. Dordrecht, Netherlands: D. Reidel, 1985.
Chance, B. “On Hippocrates and the Aphorisms.” Ann. Med. Hist. 2 (N.S.): 31–46 (1930).
Coar, T. The Aphorisms of Hippocrates. London: Valpy, 1822. (Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1982.)
Drabkin, M. “A Select Bibliography of Greek and Roman Medicine.” Bull. Hist. Med. 1I: 399–408 (1942).
Edelstein, L. Ancient Medicine. Baltimore: johns Hopkins Univ. Press, 1967.
Gahhos, F. N., and Ariyan, S. “Hippocrates, the True Father of Hand Surgery.” Surg. Gyn. Obst. 160: 178–184 (1985).
Galdston, I. “The Decline and Resurgence of Hippocratic Medicine.” Bull. N.Y. Acad. Med. 44: 1237–1256 (1968).
Hudson, R. P. Disease and Its Control: The Shaping of Modern Thought. Westport, Conn.: Greenwood Praeger, 1987.
Jones, W. H. S. The Works of Hippocrates. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1957.
Littre, P. E. Oeuvres Completes d’Hippocrate. 10 vols. Paris: J. B. Bailliere, 1861.
Lund, F. B. “The Life and Writings of Hippocrates.” Bost. Med. Surg. J. 191: 1009–1014 (1924).
Michler, M. “Medical Ethics in Hippocratic Bone Surgery.” Bull. Hist. Med. 42: 297–311 (1968).
Miller, G. “‘Airs, Waters and Places’ in History.” J. Hist. Med. 17: 129–140 (1962).
Moon, R. O. Hippocrates and His Successors in Relation to the Philosophy of Their Time. London: Longmans, Green, 1923.
Richards, D. W. “Hippocrates of Ostia.” J.A.M.A. 204: 1049–1056 (1968).
Sigerist, H. E. “On Hippocrates.” Bull. Johns Hopkins Inst. Hist. Med. 2: 190–214 (1934).
–-. “Hippocrates and the Collection of Hippocratic Writings”, A History of Medicine, vol. 2. New York: Oxford Univ. Press, 1961.
Singer, C. “The Father of Medicine”. Times Lit. Supp., April 3, 1924, 197–198.
Temkin, O. “Greek Medicine as Science and Craft,” The Double Face of Janus. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1977.
Thomas, L. “Your Very Good Health,” in The Lives of a Cell. New York: Viking Press, 1984, pp. 81–86.
Veatch, R. M. A Theory of Medical Ethics. New York: Basic Books, 1981.
Brain, P. “Galen on the Ideal of the Physician.” S. Afr. Med. J. 25 (11): 936–938 (1977).
–-. Galen on Bloodletting: A Study of the Origins, Development and Validity of His Opinions, with a Translation of the Three Works. New York: Cambridge Univ. Press, 1986.
King, L. S. Medical Thinking. Princeton: Princeton Univ. Press, 1982.
Kudlein, F. “The Third Century A.D.-A Blank Spot in the History of Medicine?” In L. G. Stevenson and R. F. Multhauf, Medicine, Science, and Culture. Baltimore: johns Hopkins Press, 1968.
Leiber, E. “Galen: Physician as Philosopher; Maimonides: Philosopher as Physician.” Bull. Hist. Med. 53: 268–285 (1979).
May, M. T. Galen on the Usefulness of the Parts of the Body. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1968.
Moon, R. O. “The Relation of Galen to the Philosophy of His Time.” Brit. Med. J 4: 1449–1451 (1908).
Nutton, V. Karl Gottlob Kuhn and His Edition of the Works of Galen. Oxford: Oxford Microform Pub., 1976.
–-.”Galen in the Eyes of His Contemporaries.” Bull. Hist. Med. 58: 315–324 (1984).
Payne, J. F. Harvey and Galen. London: Henry Frowde, 1897.
Prendergast, J. S. “Galen’s View of the Vascular System in Relation to That of Harvey.” Proc. Roy. Soc. Med. 23: 1839–1847 (1928).
–-. “The Background of Galen’s Life and Activities and Its Influence on His Achievements.” Proc. Roy. Soc. Med. 21: 1131–1148 (1930).
Price, D. de S. “The Development and Structure of the Biomedical Literature.” In K. S. Warren, ed., Coping With the Biomedical Literature. New York: Praeger, 1981.
Riese, W. “The Structure of Galen’s Diagnostic Reasoning.” Bull. N 1’: Acad. Med. 44: 778–791 (1968).
Sarton, G. Galen of Pergamon. Lawrence: Univ. of Kansas Press, 1954.
Siegal, R. E. Galen’s System of Physiology and Medicine. Basel: S. Karger, 1968.
Singer, C. Greek Biology and Greek Medicine. Oxford: Clarendon Press, 1922.
–-. The Evolution of Anatomy. New York: Knopf, 1925.
–-. Galen and Anatomical Procedures. London: Geoffrey Cumberlege, 1956.
Slater, P. E. Letter to the editor. N Eng. J. Med. 313: 455 (1985).
Smith, W. O. The Hippocratic Tradition. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1979.
Temkin, O. Galenism: Rise and Decline of a Medical Philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Press, 1973.
–-. “On Galen’s Pneumatology,” The Double Face of Janus. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1977.
Toledo-Pereyra, L. H. “Galen’s Contribution to Surgery.” J. Hist. Med. 28: 357–375 (1973).
Walsh, J. “Galen’s Discovery and Promulgation of the Function of the Recurrent Laryngeal Nerves.” Ann. Med. Hist. 8: 176–184 (1926).
–-.”Galen Clashes with the Medical Sects at Rome.” Med. Life 35: 408–443 (1928).
–-. “Galen’s Writings and Influences Inspiring Them.” Ann. Med. Hist. 6 (N.S.): 1–30, 143–149 (1934); 7(N.S.): 428–437, 570–589 (1935); 8 (N.S.): 65–90 (1936); 9 (N.S.): 34–51 (1937).
Walzer, R. Galen on Jews and Christians. London: Oxford Univ. Press, 1949.
Wilson, L. G. “Erasistratus, Galen, and the Pneuma.” Bull. Rist. Med. 33: 293–314 (1959).
Castiglione, A. “Three Pathfinders of Science in the Renaissance.” Bull. Med. Lib. Ass. 31: 203–207 (1943).
Chastel, A. “Treatise on Painting.” In L. Reti, The Unknown Leonardo. New York: McGraw-Hill, 1974.
Cushing, H. A Biobibliography of Andreas Vesalius. and ed. London: Archon, 1962.
Edelstein, L. “Andreas Vesalius, the Humanist.” Bull. Hist. Med. 14: 547–561 (1943).
Fisch, M. H. “Vesalius and His Book.” Bull. Med. Lib. Ass. 31: 208–221 (1943).
Garrison, F. H. “In Defense of Vesalius.” Bull. Soc. Med. Hist. Chicago 4: 47–65 (1916).
Hoolihan, C. “The Transmission of Greek Medical Literature from Antiquity to the Renaissance.” Med. Heritaqe 2: 430–442 (1985).
Jones, T. “The Artists of Vesalius’ Fabrica.” Bull. Med. Lib. Ass. 31: 222–227 (1943).
Keele, K. D. “Leonardo da Vinci’s Influence on Renaissance Anatomy.” Med. Hist. 8: 360–370 (1964).
Klebs, A. C. “Leonardo da Vinci and His Anatomical Studies.” Bull. Soc. Hist. Med. Chicago 4: 66–83 (1916).
Lambert, S. W., Wiegand, W., and Ivins, W. M. Three Vesalian Essays. New York: Macmillan, 1952.
O’Malley, C. D. Andreas Vesalius of Brussels. Berkeley: Univ. of Cal. Press, 1964.
–-. “Andreas Vesalius (1514–1564), In Memoriam.” Med. Hist. 8: 299–308 (1964) and Saunders, J. B. de C. M. Leonardo da Vinci on the Human Body. New York: Henry Schuman, 1952.
Petrucelli, R. J. “Giorgio Vasari’s Attribution of the Vesalian Illustrations to Jan Stephan of Calcar: A Further Examination.” Bull. Hist. Med. 45: 29–37 (1971).
Roth, M. Andreas Vesalius Bruxellensis. Berlin: Georg Reimer, 1892.
Saunders, J. B. de C. M., and O’Malley, C. D. The Illustrations from the Works of Andreas Vesalius of Brussels. Cleveland: World, 1950.
Schultz, B. Art and Anatomy in Renaissance Italy. Ann Arbor: UMI Research Press, 1982.
Sigerist, H. E. “Commemorating Andreas Vesalius.” Bull. Hist. Med. 14: 541–546 (1943).
Singer, C. The Evolution of Anatomy. New York: Knopf, 1925.
Streeter, E. C. “Vesalius at Paris.” Yale J Biol. Med. 16: 121–128 (1943).
Vesalius, A. The Epitome of His Book on the Fabric of the Human Body. Trans. by L. R. Lind. New York: Macmillian, 1949.
Washburn, W. H. “Galen, Vesalius, Da Vinci-Anatomists.” Bull. Soc. Med. Hist. Chicago 4: 1–17 (1916).
Zilboorg, G. “Psychological Sidelights on Andreas Vesalius.” Bull. Hist. Med. 14: 562–575 (1943).
Anson, B. J. “The Ear and the Eye in the Collected Works of Ambroise Pare, Renaissance Surgeon to Four Kings of France.” Trans. Am. Acad. Ophthal. Otol. 74: 249–277 (1970).
Doe, J. A Bibliography of the Works of Ambroise Pare. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1937.
Garrison, F. H. An Introduction to the History of Medicine. 4th ed. Philadelphia: Saunders, 1929.
Gibson, T. “The Prostheses of Ambroise Pare.” Brit. J. Plast. Surge 8: 3~ (1955).
Hamby, W. B., ed. The Case Reports and Autopsy Records of Ambroise Pare. Springfield: Charles C. Thomas, 1960.
–-. Ambroise Pare, Surgeon of the Renaissance. St. Louis: Warren H. Green, 1967.
Hill, B. H. “Ambroise Pare: Sawbones or Scientist.” J. Hist. Med. 15: 45–58 (1960).
Malgaigne, J. F. Surgery and Ambroise Pare. Trans. by W. B. Hamby. Norman: Univ. of Oklahoma Press, 1965.
Packard, F. R. Life and Times of Ambroise Pare. New York: Paul B. Hoeber, 1921.
Pare, A. The Workes of That Famous Chirurgeon Ambrose Parey. Trans. by T. Johnson. London: Cotes and Young, 1634.
–-. The Apologie and Treatise. Trans. by G. Keynes. London: Falcon Educational Books, 1951. (Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1984.)
–-. Ten Books of Surgery with the Magazine of Instruments Necessary for It. Trans. by R. W. Linker and N. Womack. Athens: Univ. of Georgia Press, 1969.
Sigerist, H. E. “Ambroise Pare’s Onion Treatment of Burns.” Bull. Hist. Med. 15: 143–149 (1944).
Singer, D. W. Selectionsfrom the Works of Ambroise Pare. London: John Bale Sons and Danielsson, 1924.
Wangensteen, O. H., Wangensteen, S. D., and Klinger, C. F. “Wound Management of Ambroise Pare and Dominique Larrey, Great French Military Surgeons of the 16th and 19th Centuries.” Bull. Hist. Med. 46: 207–234 (1972).
Bylebyl, J. “The Growth of Harvey’s De Motu Cordis.” Bull. Hist. Med. 47: 427–470 (1973).
–-. “William Harvey, a Conventional Medical Revolutionary.” J.A.M.A. 239: 1295–1298 (1978).
–-. William Harvey and His Age: The Professional and Social Context of the Discovery of the Circulation. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1979.
Cohen, B. “The Germ of an Idea, or, What Put Harvey on the Scent?” J. Hist. Med. 12: 102–105 (1957).
Comroe, J. H. “Harvey’s 1651 Perfusion of the Pulmonary Circulation of Man.” Circulation 65: 1–3 (1982).
Franklin, K. J. “On Translating Harvey.” J. Hist. Med. 12: 114–119 (1957).
–-. William Harvey, Englishman. London: MacGibbon and Kee, 1961.
Fulton, J. F. Michael Servetus, Humanist and Martyr. New York: Herbert Reichner, 1953.
Graham, P. W. “Harvey’s De Motu Cordis: The Rhetoric of Science.” J. Hist. Med. 33: 469–476 (1977).
Harvey, W. Anatomical Studies on the Motion of the Heart and Blood. Trans. by Chauncey D. Leake. Springfield: Charles C. Thomas, 1931.
–-. Anatomical Studies on the Motion of the Heart and Blood. Trans. G. Keynes. Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1978.
Herringham, W. Circumstances in the Life and Times of William Harvey. Oxford Univ. Press, 1929.
Jones, A. M. “Dogma and Experiment in Harvey’s Time.” Brit. Ht. J. 19: 448–456 (1957).
Keele, K. D. “William Harvey: The Man and the College of Physicians.” Med. Hist. 1:265–278 (1957).
–-. William Harvey, the Man, the Physician, and the Scientist. London: Thos. Nelson & Sons, 1965.
Keynes, G. L. The Personality of William Harvey. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1949.
–-. The Life of William Harvey. Oxford: Oxford Univ. Press, 1966.
O’Malley, C. D. Michael Servetus. Philadelphia: Am. Phil. Soc., 1953.
Osler, W. The Growth of Truth as Illustrated in the Discovery of the Circulation of the Blood. Harveian Oration, 1906. London: Henry Frowde, 1906.
Pagel, W. “The Philosophy of Circles-Cesalpino-Harvey.” J. Hist. Med. 12: 140–157 (1957).
–. William Harvey’s Biological Ideas: Selected Aspects and Historical Background. New York: Hafner, 1967.
Payne, L. M. “Sir Charles Scarburgh’s Harveian Oration, 1662.” J. Hist. Med. 12: 158–164 (1957).
Pickering, G. “William Harvey, Physician and Scientist.” Brit. Med. J. 2: 1615–1619 (1964).
Power, D. William Harvey. New York: Longmans, Green, 1897.
Sigerist, H. E. “Wilham Harvey’s Position in the History of European Thought.” In F. Marti-Ibanez, ed., Henry E. Sigerist on the History of Medicine. MD Publications, 1960.
Whitteridge, G. William Harvey and the Circulation of the Blood. London: MacDonald, 1971.
Zeman, F. D. “The Old Age of William Harvey.” Arch. Int. Med. III: 829–834 (1963).
Bell, W. J. john Morgan, Continental Doctor. Philadelphia: Univ. of Pa. Press, 1965.
Castiglioni, A. “G. B. Morgagni and the Anatomico-Pathological Conception of the Clinic.” Proc. Roy. Soc. Med. 28: 375–378 (1934).
Gairdner, W. T. “The Progress of Pathology.” Brit. Med. J. 2: 515–517 (1874).
Jarcho, S. “Giovanni Battista Morgagni: His Interests, Ideas, and Achievements.” Bull. Rist. Med. 22: 503–527 (1948).
–-. “Morgagni and Auenbrugger in the Retrospect of Two Hundred Years.” Bull. Hist. Med. 35: 489–496 (1961).
–-. The Clinical Consultations of Giambattista Morgagni. Boston: Francis A. Countway Lib. of Med., 1984.
Klemperer, P. “Pathologic Anatomy at the End of the Eighteenth Century.” J. Mt. Sinai Hosp. 24: 589–603 (1957).
–-. “The Pathology of Morgagni and Virchow.” Bull. Hist. Med. 32: 24–38 (1958).
–-. “Morbid Anatomy Before and After Morgagni.” Bull. N. Y Acad. Med. 37: 741–760 (1961).
Morgagni, G. B. The Seats and Causes of Diseases Investigated by Anatomy. Trans. by B. Alexander. London: Millar and Cadell, 1769. (Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1983.)
Morgan, J. The journal of Dr. john Morgan. Philadelphia: Lippincott, 1907.
Nuland, S. B. Giovanni Morgagni and the New Medicine. Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1983.
Pottle, F. A. James Boswell, The Earlier Years: 1740–1769. New York: McGraw-Hill, 1966.
Steven, J. L. Morgagni to Virchow: An Epoch in the History of Medicine. Glasgow: Alexander MacDougall, 1905.
Tedeschi, C. G. “Giovarmi Battista Morgagni, the Founder of Pathologic Anatomy.” Boston Med. Quart. 12: 112–125 (1961).
–-. The Pathology of Bonet and Morgagni: A Historical Introduction to the Autopsy.” Hum. Path. 5: 601–603 (1974).
Virchow, R. “Morgagni and the Anatomic Concept.” Translation. Bull. Hist. Med. 7: 975–990 (1939).
Yonace, A. H. “Morgagni’s Letters.” J. Roy. Soc. Med. 73: 145–149 (1980).
Adams, J. Memoirs of the Life and Doctrines of the Late John Hunter, Esq. London: J. Callow & J. Hunter, 1818.
Austin, F., and Jones, B. “William Clift: The Surgeon’s Apprentice.” Ann. Roy. Coil. Surge 60: 261–265 (1978).
Beekman, F. “The Self-Education of Young John Hunter.” J. Hist. Med. 6: 506–515 (1951).
Brain, R. “The Neurology of John Hunter’s Last Illness.” Brit. Med. J. 2: 1371–1373 (1952).
Cushing, H. W., and others. “Exercises in Celebration of the Bicentenary of the Birth of John Hunter.” New Eng. J Med. 200: 810–823 (1929).
Dempster, W. J. “Towards a New Understanding of John Hunter.” Lancet 1: 316–318 (1978).
Dobson, J. William Clift. London: Heinemann, 1954.
–-. “John Hunter’s Artists.” Med. Bioi. Illustr. 9: 138–143 (1959).
–-. “John Hunter’s Views on Cancer.” Ann. Roy. Coll. Surge 25: 176–181 (1959).
–-. “The Training of a Surgeon.” Ann. Roy. Coll. Surge 34: 1–36 (1964).
–-. John Hunter. Edinburgh: E. & S. Livingstone, 1969.
Foot, J. The Life of John Hunter. London: T. Becket, 1794.
Forbes, T. R. “Testis Transplantations Performed by John Hunter.” Endocrinology 41: 329–331 (1947).
–-. “John Hunter as Expert Witness.” Trans. and Stud. Coll. Phys. Phila. (Ser. V) 2: 75–80 (1980).
Gask, G. E. “John Hunter in the Campaign in Portugal.” Brit. J. Surge 24: 640–668 (1937).
Gloyne, S. R. John Hunter. London: E. & S. Livingstone, 1950.
Gross, S. D. John Hunter and His Pupils. Philadelphia: Presley Blakiston, 1881.
Hamilton, H. W. “William Combe and John Hunter’s Essay on the Teeth.” J. Hist. Med. 14: 169–178 (1959).
Holmes, T. Introductory Address, Centenary of John Hunter’s Death. London: Adlard & Son, 1893.
Hunter, I. “Syphilis in the Illness of John Hunter.” J. Hist. Med. 8: 249–262 (1953).
Hunter, J. A Treatise on the Blood, Inflammation and Gunshot Wounds. London: George Nicol, 1794. (Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1982.)
Jarcho, S. “John Hunter on Inflammation.” Am. J. Cardiol. 26: 615–618 (1970).
Jones, F. W. “John Hunter and the Medical Student.” St. George’s Hosp. Gaz. 37: 1–8 (1951).
–-. “John Hunter as a Geologist.” Ann. Roy. Coil. Surg. 12: 219–245 (1953).
Keith, A. “The Portraits and Personality of John Hunter.” Brit. Med. J. 1: 205–209 (1928).
Le Fanu, W. R. “John Hunter’s Letters.” Bull. Med. Lib. Ass. 33: 449–454 (1945).
Lewis, G. P. “Inflammation with Emphasis on its Mediation.” Ann. Roy. Coll. Surg. 60: 192–201 (1978).
Livesley, B. “The Spasms of John Hunter: A New Interpretation.” Med. Hist. 17: 70–75 (1973).
Makins, G. H. “Influence Exerted by the Military Experience of John Hunter on Himself and the Military Surgeon of Today.” Lancet 1: 249–254 (1917).
Mather, G. R. Two Great Scotsmen: The Brothers William and john Hunter. Glasgow: James Maclehose & Sons, 1893.
Nuland, S. B. Nature’s High Priest, john Hunter. Birmingham: Classics of Surgery Lib., 1985.
Oppenheimer, J. L. “Everard Home and the Destruction of the John Hunter Manuscripts,” New Aspects of John and William Hunter. New York: Henry Schuman, 1946.
Ottley, D. The Life of john Hunter, F.R.S. Philadelphia: Haswell, Barrington & Haswell, 184I.
Paget, S. john Hunter, Man of Science and Surgeon. London: T. Fisher Unwin, 1897.
Poynter, F. N. L. “Hunter, Spallanzani, and the History of Artificial Insemination.”
In L. G. Stevenson and R. P. Multhauf, Medicine, Science, & Culture. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1968.
Qvist, G. “John Hunter’s Alleged Syphilis.” Ann. Roy. Coll. Surg. 59: 205–209 (1977).
–-. John Hunter, 1728–1793. London: Heinemann, 1981.
Schwartz, L. L. “John Hunter and the Physiological Basis of Dental Practice.” J. Am. Coli. Dent. 20: 160–170 (1953).
Stevenson, L. G. “The Elder Spence, William Combe, and John Hunter: Sidelights on Eighteenth Century Dentistry and Hunter’s Natural History of the Human Teeth.” J. Hist. Med. 10: 182–196 (1955).
Taylor, T. Leicester Square, Its Associations and Its Worthies. London: Bickers & Son, 1874.
Viets, H. “A Note on John Hunter at Oxford.” Bost. Med. Surg. J. 182: 545–547 (1920).
Weimerskirch, P. J., and Richter, G. W. “Hunter a.io Venereal Disease.” Lancet 1: 503–504 (1979).
Ackerknecht, E. H. “Elisha Bartlett and the Philosophy of the Paris Clinical School.” Bull. Hist. Med. 24: 43–60 (1950).
–-. Medicine at the Paris Hospital, 1794–1848. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1967.
Alcock, J. R. Medical Guide to Paris-A Description of the Principal Hospitals of Paris. London: Burgess & Hill, 1828.
Bedford, E. “Cardiology in the Days of Laennec.” Brit. Ht. J. 34: 1193–1198 (1972).
Bishop, P. J. “Evolution of the Stethoscope.” J. Roy. Soc. Med. 73: 448–456 (1980).
–-. “Reception of the Stethoscope and Laennec’s Book.” Thorax 36: 487–492 (1981).
Cawadias, A. P. “Corvisart and His Role in the History of Clinical Science and of the Art of Medicine.” In E. A, Underwood, ed., Science Medicine and History, vol. 2. London: Oxford Univ. Press, 1953.
Corvisart, J. N. An Essay on the Organic Diseases and Lesions of the Heart and Great Vessels. Trans. by J. Gates. Boston, 1812. (Includes Auenbrugger’s On Percussion of the Chest, 1761.)
Coues, W. P. “Laermec, the Man-1781–1826.” Boston Med. Surg. J. 195: 208–217 (1926).
Fessel, W. J. “The Nature of Illness and Diagnosis.” Am. J Med. 75: 555–560 (1983).
Hale-White, W. Selected Passages from De l’Auscultation Mediate, with a Biography. London: John Bale, Sons & Danielsson, 1923.
Hooke, R. “The Method of Improving Natural Philosophy,” The Posthumous Works of Robert Hooke, ed. by Richard Waller. London: Samuel Smith and Richard Walford, 1705. (Sources of Science Series, No. 73, London, Johnson Reprint Co.)
Jarcho, S. “Auenbrugger, Laennec, and John Keats.” Med. Hist. 5: 167–172 (1961).
–-. “An Early Review of Laennec’s Treatise.” Am. J Cardiol. 9: 962–969 (1961).
Jones, R. M. The Parisian Education of an American Surgeon. Philadelphia: Am. Phil. Soc., 1978.
Keele, K. D. The Evolution of Clinical Methods in Medicine. Springfield: Charles C. Thomas, 1963.
Kervran, R. Laennec, His Life and Times. Oxford: Pergamon, 1960.
Laennec, R. T. H. A Treatise on Diseases of the Chest. Trans. by J. Forbes. London: Underwood, 1821. (Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1979)
Lee, E. Observations on the Principal Medical Institutions and Practice of France, Italy and Germany. Philadelphia: Haswell, Barrington, & Haswell, 1837.
Le Fanu, W. R. “Laennec and Matthew Baillie.” Ann. Roy. Coll. Surg. 36: 67–68 (1965).
Mann, R. J., and Mann, F. D. “Laennec as a Critical Pathologist.” J Hist. Med. 36: 446–454 (1981).
Maulitz, R. C. “Channel Crossing: The Lure of French Pathology for English Medical Students, 1816–1836.” Bull. Hist. Med. 55: 475–496 (1981–1).
–-. Morbid Appearances, The Anatomy of Pathology in the Early Nineteenth Century. New York: Cambridge Univ. Press, 1987.
Norwood, W. F. “Medical Education and the Rise of Hospitals.” J.A.M.A. 186: 1008–1012 (1963).
Osler, W. “The Young Laennec.” Can. Med. Ass. J. 3: 137–141 (1913).
Reiser, S. J. Medicine and the Reign of Technology. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978.
Sakula, A. “Laennec’s Influence on Some British Physicians in the Nineteenth Century.” J. Roy. Soc. Med. 74: 759–767 (1981).
Segall, H. N. “Cardiovascular Sounds and the Stethoscope, 1816–2016.” Canad. Med. Ass. J. 88: 308–318 (1963).
Stewart, F. C. The Hospitals and Surgeons of Paris. New York: J. & H. G. Langley, 1843.
Thayer, W. S. “On Some Unpublished Letters of Laennec.” Johns Hopkins Hosp. Bull. 31: 425–435 (1920).
Webb, G. B. “Rene Theophile Hyacinthe Laennec.” Ann. Med. Hist. 9: 27–59 (1927).
–-. Rene Theophile Hyacinthe Laennec: A Memoir. New York: Paul B. Hoeber, 1928.
Benedek, I. Ignaz Philipp Semmelweis, IBIB-IB6S. Vienna: Bohlau, 1983.
Billroth, T. The Medical Sciences in the German Universities. New York: Macmillan, 1924.
Carter, K. C., ed. Ignac Semmelweis: The Etiology, Concept, and Prophylaxis of Childbed Fever. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1983.
Gortvay, G., and Zoltan, I. Semmelweis, His Life and Work. Budapest: Hungarian Acad. Sci., 1968.
Gyorgyey, F. A. “Puerperal Fever 1847–1861.” M.S. thesis. Yale Univ., 1968.
Haranghy, L., Nyiro, G., Regoly-Merei, G., and Huttel, T. Die Krankheit von Semmelweis. Budapest: Medicina Verlag, 1965.
Holmes, O. W. “The Contagiousness of Puerperal Fever,” Medical Essays. Boston: Houghton, Mifflin, 1895.
Klemperer, P. “Notes on Carl von Rokitansky’s Autobiography and Inaugural Address.” Bull. Hist. Med. 35: 374–380 (1961).
Lesky, E. The Vienna Medical School of the 19th Century. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1976.
Menne, F. R. “Carl Rokitansky the Pathologist.” Ann. Med. Hist. 7: 379–386 (1925).
Nuland, S. B. “The Enigma of Semmelweis: An Interpretation.” J Hist. Med. 34: 255–272 (1979).
Semmelweiss, I. P. The Etiology, the Concept and the Prophylaxis of Childbed Fever. Trans. by F. P. Murphy. Birmingham: Classics of Medicine Lib., IgBl. (Includes The Open Letters, trans. by S. B. Nuland and F. A. Gyorgyey.)
Silló-Seidl, G. Die Affaire Semmelweis. Vienna: Herold Verlag, 1985.
Sinclair, W. Semmelweis-His Life and His Doctrine. Manchester, 1909.
Slaughter, F. G. Immortal Magyar. New York: Schuman, 1950.
Bigelow, H. J. “Insensibility During Surgical Operations Produced by Inhalation.” Boston Med. Surge J. 35: 309–317 (1846).
Carmichael, E. B. “Crawford Williamson Long-Discoverer of Surgical Anesthesia.” J. Med. Ass. Ala. 36: 843–857 (1967).
Cartwright, F. F. “Humphry Davy’s Contribution to Anesthesia.” Proc. Roy. Soc. Med. 43: 571–578 (1950).
–-. The English Pioneers of Anesthesia (Beddoes, Davy and Hickman). Bristol: Wright, 1952.
Cole, F. Milestones in Anesthesia: Readings in the Development of Surgical Anesthesia, 1661–1940. Lincoln: Univ. of Nebraska, 1965.
Duncum, B. M. The Development of Inhalation Anesthesia. London: Oxford Univ. Press, 1947.
Elliotson, J. Numerous Cases of Surgical Operations Without Pain in the Mesmeric State. London: H. Bailliere, 1843.
Ellis, E. S. Ancient Anodynes. London: Heinemann, 1946.
Ellis, R. H. “The Introduction of Ether Anaesthesia to Great Britain. I: How the News Was Carried from Boston, Massachusetts, to Gower Street, London.” Anaesthesia 31: 766–777 (1976).
–-. “The Introduction of Ether Anaesthesia to Great Britain. 2: A Biographical Sketch of Dr. Francis Boott.” Anaesthesia 32: 197–208 (1977).
Esdaile, J. Mesmerism in India. London: Longman, Brown, Green &Longmans, 1846.
Faulconer, A., and Keys, E. Foundations of Anesthesiology. Springfield: Charles C. Thomas, 1965.
Greene, N. M. “A Consideration of Factors in the Discovery of Anesthesia and Their Effects on Its Development.” Anesthesiology 35: 515–522 (1971).
–-. “Anesthesia and the Development of Surgery.” Anesth. Analg. 58: 5–12 (1979).
Hickman, H. H. A Letter on Suspended Animation Addressed to T. A. Knight, Esq. Ironbridge: W. Smith, 1824.
Jackson, C. T. “Etherization of Animals and of Man.” Trans. Am. Inst. City of N ~ for 1851, Albany, 167–173, 1852.
Keys, T. E. The History of Surgical Anesthesia. New York: Henry Schuman, 1945.
–-.”The Early Pneumatic Chemists and Physicians-Their Influence on the Development of Surgical Anesthesia.” Anesthesiology 30: 447–462 (1969).
Long, C. W. “An Account of the First Use of Sulphuric Ether by Inhalation as an Anesthetic in Surgical Operations.” South. Med. Surg. 15: 705–713 (1849).
Miller, A. H. “The Origin of the Word ‘Anesthesia.’” Boston Med. Surg. I 197: 1218–1222 (1927).
Morton, W. T. G. Remarks on the Proper Mode of Administering Sulfuric Ether by Inhalation. Boston: Dutton & Wentworth, 1847.
Nuland, S. B. The Origins of Anesthesia. Birmingham: Classics of Medicine Lib., 1983.
Raper, H. R. “A Review of the Crawford W. Long Centennial Anniversary Celebration.” I Am. Coll. Dent. 10: 137–154 (1943).
–-. Man Against Pain. New York: Prentice-Hall, 1945.
Robinson, V. Victory Over Pain: A History of Anesthesia. New York: Henry Schuman, 1946.
Rosen, G. “Mesmerism and Surgery.” I Hist. Med. 1: 527–550 (1946).
Singer, C. Greek Biology and Greek Medicine. London: Oxford Univ. Press, 1922.
Smith, W. D. “A History of Nitrous Oxide and Oxygen Anaesthesia: The Discovery of Nitrous Oxide and Oxygen.” Brit. J Anaesth. 44: 297–304 (1972).
–-. “A History of Nitrous Oxide and Oxygen Anaesthesia: Henry Hill Hickman in His Time.” Brit. J Anaesth. 50: 51g–530, 623–627, 853–861 (1978).
Stevenson, L. G. “Suspended Animation in the History of Anesthesia.” Bull. Hist. Med. 49: 482–511 (1975).
Tallmadge, G. K. “Some Anesthetics of Antiquity.” J Hist. Med. 1: 515–520 (1946).
Taylor, F. L. C. W. Long and Ether Anesthesia. New York: Paul B. Hoeber, 1928.
Viets, H. R. “The Earliest Printed References in Newspapers and Journals to the First Public Demonstration of Ether Anesthesia in 1846.” J. Hist. Med. 4: 14g–169 (1949).
Warren, J. C. “Inhalation of Ethereal Vapor for the Prevention of Pain in Surgical Operations.” Boston Med. Surg. J. 35: 375–379 (1846).
–-. “The Influence of Anesthesia on the Surgery of the Nineteenth Century.” Trans. Am. Surg. Ass. 15: 1–25 (1897). (Boston: Merrymount Press, 1906.)
Welch, W. H. “The Influence of Anesthesia Upon Medical Science.” Boston Med. Surg. J. 135: 401–403 (1896).
–-. “A Consideration of the Introduction of Surgical Anesthesia.” Boston Med. Surg. J 159: 599–604 (1908).
Wells, H. A History of the Discovery of the Application of Nitrous Oxide Gas, Ether and Other Vapors to Surgical Operations. Hartford: J. Gaylord Wells, 1847.
Young, H. H. “Crawford W. Long: The Pioneer in Ether Anesthesia.” Bull. Hist. Med. 12: 191–225 (1942).
Youngson, A. J. The Scientific Revolution in Victorian Medicine. New York: Holmes & Meier, 1979.
Ackerknecht, E. H. Rudolf Virchow-Doctor, Statesman, Anthropologist. Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1953.
Bamforth, J., and Osborn, G. R. “Diagnosis from Cells.” J. Clin. Path. 11: 473–482 (1958).
Craig, G. A. Germany, 1866–1945. New York: Oxford Univ. Press, 1978.
Gardner, L. J. “Doctors Afield-Rudolf Virchow.” New Eng. J Med. 252: 587–589 (1955).
Goldman, L. “War and Science-Rudolf Virchow.” Ann. Med. Hist. (N.S.) 8: 558–561 (1936).
Holmes, F. L. “The Milieu Interieur and the Cell Theory.” Bull. Hist. Med. 37: 315–335 (1963).
Krumbhaar, E. B. “The Centenary of the Cell Doctrine.” Ann. Med. Hist. (3S) 1: 427–437 (1939).
Long, E. R. A History of Pathology. New York: Dover, 1965.
Mann, G. The History of Germany Since 1789. New York: Praeger, 1968.
McFarland, J. “Personal Reminiscences of Virchow.” Phila. Med. J Sept. 13, 1902, 361–362.
Mendelsohn, E. “Cell Theory and the Development of General Physiology.” Archives Internationales d’Histoire des Sciences 16: 419–429 (1963).
Osler, W. “Rudolf Virchow: The Man and the Student.” Boston Med. Surge J 125: 425–427 (1891).
Pagel, W. “The Speculative Basis of Modern Pathology.” Bull. Hist. Med. 18: 1–43 (1945).
Plaut, A. “Rudolf Virchow and Today’s Physicians and Scientists.” Bull. Hist. Med., 27: 236–251, 1953.
Pridan, D. “Rudolf Virchow and Social Medicine in Historical Perspective.” Med. Hist. 8: 274–278 (1964).
Rather, L. J. “Rudolf Virchow and Scientific Medicine.” Arch. Int. Med. 100: 1007–1014 (1957)·
–-. “Harvey, Virchow, Bernard, and the Methodology of Science.” In R. Virchow, Disease, Life, and Man. Trans. by L. J. Rather. Palo Alto: Stanford Univ. Press, 1958.
–-. “Rudolf Virchow’s Views on Pathology, Pathological Anatomy, and Cellular Pathology.” Arch. Path. 82: 197–204 (1966).
–-. The Genesis of Cancer: A Study in the History of Ideas. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1978.
Rosen, G., and Caspari-Rosen, B. 400 Years of a Doctor’s Life. New York: Henry Schuman, 1947.
Schleich, C. L. Those Were Good Days! London: Allen & Unwin, 1935.
Schlumberger, H. G. “Rudolf Virchow, Revolutionist.” Ann. Med. Hist. (3S) 4: 147–153 (1942).
–. “Rudolf Virchow and the Franco-Prussian War.” Ann. Med. Hist. (3S) 4: 253–267 (1942).
Semon, F. “The Celebration of Rudolf Virchow’s Both Birthday: A Personal Impression.” Brit. Med. J, Oct. 19, 1901.
–. “Some Personal Reminiscences of Rudolf Virchow.” Brit. Med. J, Sept. 13, 192, 800–802.
Virchow, R. Cellular Pathology. Trans. from znd ed. by F. Chance. London: John Churchill, 1860.
–-. Collected Essays on Public Health and Epidemiology. Trans. By L. J. Rather from 1879 edition (Berlin: August Hirschwald). Canton, Mass.: Science Hist. Pub., 1985.
Welch, W. H. “Rudolf Virchow, Pathologist.” Boston Med. Surge J. 125: 453–457 (1991).
Wilson, J. W. “Virchow’s Contribution to the Cell Theory.” J Hist. Med. 2: 163–178 (1947).
Brinton, H. H. Friends for 300 Years. Philadelphia: Pendle Hill Publications, 1965.
Bullock, W. “Lister as a Pathologist and Bacteriologist.” Brit. Med J 2: 654–656 (1927).
Cameron, H. C. Reminiscences of Lister and of His Work in the Wards of the Glasgow Royal Infirmary, 1860–1861. Glasgow: Jackson, Wylie, 1927.
Churchill, E. D. “Healing by First Intention and with Suppuration: Studies in the History of Wound Healing.” J Hist. Med. 19: 193–214 (1964).
Edgar, I. I. “Modern Surgery and Lord Lister.” J Hist. Med. 16: 145–160 (1961).
Fisher, R. B. Joseph Lister. New York: Stein & Day, 1977.
Ford, W. W. “The Bacteriological Work of Joseph Lister.” Scientific Monthly 26: 7<>-75 (1927).
Garrison, F. H. “Lister in Relation to the Victorian Background.” Bull. N ~ Acad. Med. 4: 167–172 (1928).
Glenn, W. W. L. “Some Evidence of the Influence of the Development of Aseptic Techniques on Surgical Practice.” Surgery 43: 688–698 (1958).
Godlee, R. J. Lord Lister. Oxford: Clarendon, 1924.
Greene, N. M. “Anesthesia and the Development of Surgery (1846–1896).” Anesth. Analg. 58: 5–12 (1979).
Howie, W. B., and Black, S. A. B. “A Patient’s Account of Lister’s Care.” J. Hist. Med. 32: 239–251 (1977).
Judd, C. C. W. “The Life and Work of Lister.” Lister Prize Essay. Bull. Johns Hopkins Hosp. 21: 293–304 (1910).
Keen, W. W. “Before and After Lister,” Papers and Addresses. Philadelphia: Geo. W. Jacobs, 1923.
Kelly, H. A. “Reminiscences in the Development of Gynecology.” J. Conn. State Med. Soc. 1: 459–467 (1937).
King, L. S. “Germ Theory and Its Influence.” JA.MA. 249: 794–798 (1983).
Leeson, J. R. Lister As I Knew Him. London: Bailliere, Tindall & Cox, 1927.
Linder, F., and Forrest, H. “The Propagation of Lister’s Ideas.” Surg. Gyn. Obst. 127: 1081–1086 (1968).
Lister, J. Introductory Lecture Delivered in the University of Edinburgh, Nov. 8, 1869. Edinburgh: Edmonstone Douglas, 1869.
–-. The Collected Papers of Joseph, Baron Lister. 2 vols. London: Clarendon, 1909.
Little, J. L. “Two Lectures on Lister’s Antiseptic Method of Treating Surgical Injuries.” In E. C. Seguin, ed., A Series of American Clinical Lectures. New York: Putnam, 1878.
Morton, J. J. “The Struggle Against Sepsis.” Yale J Biol. Med. 31: 397–417 (1959).
Rains, A. H. J. joseph Lister and Antisepsis. Hove: Priory Press, 1977.
Ravitch, M., and McAuley, C. E. “Airborne Contamination of the Operative Wound.” Surg. Gyn. Obst. 159: 177–188 (1984).
Richmond, P. A. “Variants to the Germ Theory of Disease.” J Hist. Med. 9: 290–303 (1954).
–-. “American Attitudes Toward the Germ Theory of Disease (1860–1880).” J Hist. Med. 9: 428–454 (1954).
Stewart, G. D. “Lister the Surgeon.” Bull. N. Y.: Acad. Med. 4: 159–167 (1928).
Tait, J. “Lister as Physiologist.” Bull. N. Y: Acad. Med. 4: 148–159 (1928).
Tait, L. “The Germ Theory and Advances in Abdominal Surgery.” N.Y: Med. J. July 2, 1887, 1–7.
Thomson, St. C. “A House-Surgeon’s Memories of Joseph Lister.” Ann. Med. Hist. 2: 93–108 (1919).
Toledo-Pereyra, L. H., and Toledo, M. M. “A Critical Study of Lister’s Work on Antiseptic Surgery.” Am. J Surg. 131: 736–744 (1976).
Treves, F. “The Old Receiving Room,” The Elephant Man and Other Reminiscences. London: Cassell, 1923.
Turner, A. L. joseph, Baron Lister-Centenary Volume, 1827–1927. Edinburgh, 1927.
Wangensteen, O. H. “Nineteenth Century Wound Management of the Parturient Uterus and Compound Fracture: The Semmelweis-Lister Priority Controversy.” Bull. N. Y: Acad. Med. 46: 565–592 (1970).
–-,and Wangensteen, S. D. “Lister, His Books, and Evolvement of His Antiseptic Wound Practices.” Bull. Hist. Med. 48: 100–128 (1974).
Watson Cheyne, W. Lister and His Achievement. First Lister Oration.London: Longmans, Green, 1925.
Youngson, A. J. The Scientific Revolution in Victorian Medicine. New-York: Holmes & Meier, 1979.
Also see: Boston Med. Surg. J 95: 327–330 and 366–368 (1876) for account of Centennial Medical Congress. Boston Evening Transcript, March 13, 1912, for interview of J. Collins Warren.
Times of London, Thursday, April 7, 1927, Health and Hygiene Number, WeekIy IIIustrated Edition.
Barnes, A. C. “A Comment on Historical ‘Truth.’” Persp. Biol. Med. 21: 131–138 (1977).
Becker, W. F. “Pioneers in Thyroid Surgery.” Ann. Surge 185: 493–504 (1977).
Bloodgood, J. C. “Halsted Thirty-six Years Ago.” Am. J Surge 14: 89–148 (1931).
Chesney, A. M. The johns Hopkins Hospital and the johns Hopkins University School of Medicine. 2 vols. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1943.
Colp, R. “Notes on Dr. William S. Halsted.” Bull. N Y Acad. Med. 60: 876–887 (1974).
Crowe, S. J. Halsted of johns Hopkins. New York: Charles C. Thomas, 1957.
Cushing, H. W. “William Stewart Halsted, 1852–1922.” Science 56: 1452–1460 (1922).
–-. The Life of Sir William Osler. 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1925.
Dumont, A. E. “Halsted at Bellevue – 1883–1887.” Ann. Surge 172: 929–935 (1970).
Finney, J. M. T. “A Personal Appreciation of Dr. Halsted.” johns Hopkins Hosp. Bull. 36: 28–33 (1925).
–-. “The Halsted Surgical Clinic.” Bull. johns Hopkins Hosp. 52: 106–113 (1933).
Flexner, S., and Flexner, J. T. William H. Welch and the Heroic Age of American Medicine. New York: Viking, 1941.
Fulton, J. F. llarvey Cushing-a Biography. Springfield: Charles C. Thomas, 1946.
Halsted, W. S. “Practical Comments on the Use and Abuse of Cocaine.” N Y Med. J 42: 294–295 (1885).
–-. Surqical Papers. 2 vols. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1924.
Harvey, A. M. Adventures in Medical Research: A Century of Discovery at johns Hopkins. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1974.
–-. Research and Discovery in Medicine: Contributions from Johns Hopkins. Baltimore: Johns Hopkins Press. Harvey, S. C. “The Story of Harvey Cushing’s Appendix.” Surgery 32: 501–514 (1952).
Henderson, W. O. “The Revival of Football at Yale.” Yale Alumni Weekly, J. an II, 1924, 451.
Heuer, G. J. „Dr. Halsted.“ Bull. johns Hopkins Hosp. 90: 1–105 (1952).
Holman, E. “William Stewart Halsted as Revealed in His Letters.” Stanford Med. Bull. 10:137–151 (1952).
–-, and others. “William Stewart Halsted Centenary.” Surge 32: 443–550 (1952).
Hughes, E. F. X. “Halsted and American Surgery.” Surge 75: 169–177 (1974).
Lesky, E. The Vienna Medical School of the 19th Century. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1976.
Lewison, E. F. “The Surgical Treatment of Breast Cancer: An Historical and Collective Review.” Surge 34: 904–953 (1953).
Ludmerer, K. M. Learning to Heal: The Development of American Medical Education. New York: Basic Books, 1985.
MacCallum, W. G. William Stewart Halsted, Surgeon. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1930.
McClure, R. D., and Szilagyi, E. “Halsted, Teacher of Surgeons.” Am. J. Surge 82: 122–131 (1951).
Miller, J. M. “William Stewart Halsted and the Use of the Surgical Rubber Glove.” Surgery 92: 541–543 (1982).
Mitchell, J. F. “The Introduction of Rubber Gloves for Use in Surgical Operations.” Ann. Surge 122: 902–904 (1945).
Olch, P. D. “William S. Halsted’s New York Period, 1874–1886.” Bull. Hist. Med. 40: 495–510 (1966).
–-. “William S. Halsted and Local Anesthesia.” Anesth. 42: 479–486 (1975).
Penfield, W. “Halsted of Johns Hopkins.” J.A.M.A. 210: 2214–2218 (1969).
Proskauer, C. “Development and Use of the Rubber Glove in Surgery and Gynecology.” J. Hist. Med. 13: 373–381 (1958).
Ravitch, M. “The Place of the Halsted Radical Mastectomy.” Johns Hopkins Med. J. 129: 202–211 (1974).
–-,and Hitzroth, J. M. “The Operations for Inguinal Hernia.” Surgery 48: 439–466, 615–636 (1960).
Reid, M. R. “Dr. Halsted’s Friday Clinics.” Johns Hopkins Hosp. Bull., 50–59, 1925.
Roosa, D. B. S. “Thomas Alexander McBride-An Account of His Last Illness.” N. Y. Med. 1 44: 365–366 (1886).
Shryock, R. H. “Women in American Medicine.” 1 Am. Women’s Med. Ass. 5: 371–379 (1950).
Smith, S. “The Comparative Results of Operations in Bellevue Hospital.” Med. Record 28: 427–431 (1885). In G. H. Brieger, Medical America in the Nineteenth Century. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1972.
Welch, W. H. “In Memoriam-William Stewart Halsted.” Bull. Johns Hopkins Hosp. 36: 34–39 (1925).
Abbott, M. E., and Weiss, E. “The Diagnosis of Congenital Cardiac Disease.” In G. Blumer, Bedside Diagnosis. Philadelphia: W. B. Saunders, 1928.
Allen, J. G. “Alfred Blalock and Our Heritage.” Arch. Surge 89: 929–931 (1964).
Blalock, A., and Taussig, H. B. “The Surgical Treatment of Malformations of the Heart in Which There Is Pulmonary Stenosis or Pulmonary Atresia.” J.A.M.A. 128: 189–202 (1945).
Dietrich, H. J. „Helen Brooke Taussig, 1898–1986.“ Trans. and Stud. Coli. Phys. Phila. 8: 265–271 (1986).
Engle, M. E. “Dr. Helen B. Taussig, the Tetralogy of Fallot, and the Growth of Pediatric Cardiac Services in the United States.” johns Hopkins Med. J 140: 147–150 (1977).
Field, J. “Medical Education in the United States: Late Nineteenth and Twentieth Centuries.” In C. D. O’Malley, The History of Medical Education. Berkeley: Univ. of Cal. Press, 1970.
Flexner, A. An Autobiography. New York: Simon & Schuster, 1960.
Francis, W. W. “Maude Abbott (1869–1940).” Bull. Hist. Med. 10: 305–308 (1941).
Goodman, G. “Helen Taussig.” M.D. thesis. Yale Univ., 1983.
Harvey, A. M. Adventures in Medical Research: A Century of Discovery at johns Hopkins. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1974.
–-. “The First Full-Time Academic Department of Pediatrics: The Story of the Harriet Lane Home.” johns Hopkins Med. J 137: 27–42 (1975)·
–-. “Helen Brooke Taussig.” johns Hopkins Med. J 140: 137–141 (1977).
–-. “A Conversation with Helen Taussig.” Med. Times 106: 28–44 (1978).
Hudson, R. P. “Abraham Flexner in Perspective: American Medical Education 1865–1910.” Bull. Hist. Med. 46: 545–561 (1972).
King, L. American Medicine Comes of Age-1840–1920. Chicago: J.A.M.A., 1984.
MacDermott, H. E. Maude Abbott: A Memoir. Toronto: Macmillan, 1941.
Munger, D. B. “Robert Brookings and the Flexner Report.” J Hist. Med. 23: 356–371 (1968).
Ravitch, M. M. “Alfred Blalock, 189g-1964.” In M. M. Ravitch, ed., The Papers of Alfred Blalock. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1966.
–-. “The Contributions of Alfred Blalock to the Science and Practice of Surgery.” johns Hopkins Med. J 140: 57–67 (1977).
Taussig, H. B. Congenital Malformations of the Heart. New York: Commonwealth Fund, 1947.
–-. “Little Choice and a Stimulating Environment.” J Am. Med. Women’s Ass. 36: 43–44 (lgBI).
–-, and others. “Long-Time Observations on the Blalock-Taussig Operation.” Johns Hopkins Med. J 129: 243–257 (1971).
–-. “Long-Time Observations on the Blalock-Taussig Operation VIII. 20 to 28 Year Follow-up on Patients with a Tetralogy of Fallot.” Johns Hopkins Med. J 137: 13–19 (1975).
Thomas, V. Pioneering Research in Surgical Shock and Cardiovascular Surgery. Philadelphia: Univ. of Pa. Press, 1985.
Thorwald, J. The Patients. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971.
Wangensteen, O. H. “Reflections on the Blalock Papers.” Bull. Hist. Med. 42: 357–361 (1968).
Amos, D. B. “Transplantation Antigens and Immune Mechanisms.” In D. C. Sabiston, Textbook of Surgery, 13th ed. Philadelphia: Saunders, 1986.
Bahnson, H. T. “Substitute Hearts.” Bull. Am. Coil. Surg. 72: 4–10 (1987).
Baldwin, J. C., and Shumway, N. “Cardiac and Cardiopulmonary Homotransplants.” In D. C. Sabiston, Textbook of Surgery, 13th ed. Philadelphia: Saunders, 1986.
Barker, C. F., Naj, A., and Perloff, L. J. “Renal Transplantation.” In D. C.
Sabiston, Textbook of Surgery, 13th ed. Philadelphia: Saunders, 1986.
Billingham, R. E., Brent, L., and Medawar, P. B. “Actively Acquired Tolerance of Foreign Cells.” Nature 172: 603–606 (1953).
Bollinger, R. R., and Stickel, D. L. “Historical Aspects of Transplantation.” In D. C. Sabiston, Textbook of Surgery, 13th ed. Philadelphia: Saunders, 1986.
Bow, L. M., and Schweizer, R. T. “Clinically Relevant Factors in Transplantation Immunology.” Conn. Med. 50: 497–500 (1986).
Burnet, F. M. The Integrity of the Body: A Discussion of Modern Immunological Ideas. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1962.
CaIne, R. Y. “The Rejection of Renal Homografts: Inhibition in Dogs by 6-Mercaptopurine.” Lancet 1: 417–418 (1960).
–-. A Gift of Life: Observations on Organ Transplantation. New York: Basic Books, 1970.
–-. Liver Transplantation. London: Grune & Stratton, 1983.
Carrel, A. “Results of the Transplantation of Blood Vessels, Organs and Limbs.” J.A.M.A. 51: 1662–1667 (1908).
–-, and Guthrie, C. C. “Functions of a Transplanted Kidney.” Science 22: 473–475 (1905).
–-. “Successful Transplantation of Both Kidneys from a Dog into a Bitch with Removal of Both Normal Kidneys from the Latter.” Science 23: 394–395 (1906).
Converse, J. M., and Casson, P. R. “The Historical Background of Transplantation.” In F. T. Rapaport and J. Dausset, eds., Human Transplantation. New York: Grune & Stratton, 1968.
Dornfeld, L. “Tissue Typing or Histocompatibility Testing Simplified.” Urology (supp.) 9: 49–51 (1977).
Dougherty and others. “Cardiac Transplantation.” Conn. Med. 50: 429–440 (1986).
Evans, R. “The Heart Transplant Dilemma.” Issues in Science and Technology, Spring 1986, 91–101.
Evans, R. W., and others. “Donor Availability as the Primary Determinant of the Future of Heart Transplantation.” J.A.M.A. 255: 1892–1898 (1986).
Gibson, T., and Medawar, P. B. “The Fate of Skin Homografts in Man.” J.A.M.A. 77: 299–310 (1942–1943).
Hamburger, J. “Medical Ethics and Organ Transplantation.” I. Am. Med. Women’s Ass. 23: 981–984 (1968).
Lower, R. R., Stofer, R. C., and Shumway, N. “Homovital Transplantation of the Heart.” J. Thor. Cardiovasc. Surg. 41: 196–200 (1961).
–-, Dong, E., and Shumway, N. “Long-Term Survival of Cardiac Homografts.” Surgery 58: 110–119 (1965).
McCormick, R. A. “Organ Transplantation-Ethical Principles.” In W. T. Reich, ed., Encyc. Bioethics. New York: Free Press, 1978.
Medawar, P. B. “Tests by Tissue Culture Methods on the Nature of Immunity to Transplanted Skin.” Quart. J Mic. Sci. 89: 239–252 (1948).
–-. Memoir of a Thinking Radish: An Autobiography. New York: Oxford Univ. Press, 1986.
Moody, F. D. “Clinical Research in the Era of Cost Containment.” Am. J. Surg. 153: 337–340 (1987).
Moore, F. D. Transplant: The Give and Take of Tissue Transplantation. New York: Simon & Schuster, 1972.
–-. “Transplantation: A Perspective.” Transplant. Proc. 12: 539–550 (1980).
Morrison, K. E. “Brain Transplantation-Still Fantasy?” J Roy. Soc. Med. 80: 441–444 (1987).
Schwartz, R., and Damashek, W. “Drug-Induced Immunological Tolerance.” Nature 183: 1682–1683 (1959).
Smith, H. L. “Heart Transplantation.” In W. T. Reich, ed., Encyc. Bioethics. New York: Free Press, 1978.
Starzl, T. E. “The Succession from Kidney to Liver Transplantation.” Transplant. Proc. 13: 50–54 (1981).
Thorwald, J. The Patients. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971.